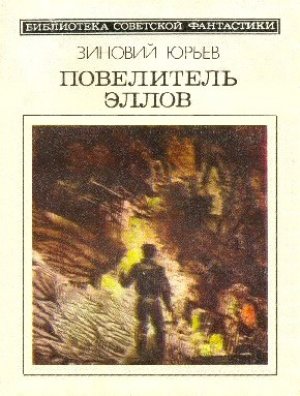
Зиновий Юрьев
ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭЛЛОВ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Трудно, пожалуй, встретить журналиста, который в глубине души не считал бы себя писателем. И если б только не каждодневное редакционное кружение, не вечное мелькание тем и заданий, он бы тотчас сел за свой компьютер, старомодную пишущую машинку, а то и стал бы за конторку с пером в руке, как это делал Лев Толстой, или лег на диван с пюпитром на животе — излюбленная поза Хемингуэя.
И сочинил нечто такое, от чего писатели дружно почернели бы от зависти. Им даже не нужно было бы быть для этого особенно завистливыми. Просто ничего другого им бы не оставалось. Ведь смешно даже сравнивать убогий запас наблюдений и впечатлений какого-нибудь романиста, пусть даже и недурного, над которым он трясется, как скупердяй, с тем, что видел любой рядовой журналист, чья профессия постоянно сталкивает его с множеством самых разнообразных людей в самых необычных обстоятельствах, от хирурга, делающего операцию в открытом море кашалоту, до одинокого смотрителя космического маяка где-нибудь на Марсе.
Вот только сесть бы, стать, лечь и… Большинство, к счастью, так никогда и не соберется сделать это и умирает в печально-счастливой уверенности, что только обстоятельства помешали им занять достойное место в пантеоне мировой литературы. Меньшинство все-таки заставляет себя вывести на дисплее своего компьютера или листе бумаги столь долгожданные слова: часть первая, глава первая. Некоторые идут еще дальше — они ухитряются даже родить одну-две фразы, а то, поднатужившись, и целый абзац. Но усталость от таких родов и жалкий, рахитичный вид новорожденных, недоношенных строк обычно переполняют литературного новобранца таким острым разочарованием, что опыты его в области изящной словесности на этом благополучно и заканчиваются. Причем очень важно бросать литературные попытки сразу и больше не возвращаться к ним. Тогда неглубокие раны на авторском самолюбии рубцуются быстро, через месяц-другой оно уже снова крепенькое и целенькое, и можно опять сетовать на обстоятельства, которые не дают, и так далее. Причем сетовать искренне и спокойно, чувствуя себя защищенным от новых наскоков на литературу надежным иммунитетом.
И лишь у единиц хватает безумной самоуверенности, терпения, решимости и желания долгими месяцами, а то и годами без устали сражаться с сюжетом, героями, стилем, отдельными словами и самим собой в призрачной надежде, что когда-нибудь эта бесконечная война закончится и на поле боя будет лежать толстенькая рукопись со словом «конец» на последней странице.
Автор этой книжки журналист, но то, что вы держите сейчас перед собой в руках, вовсе не доказывает, что он обладает всесокрушающей силой воли, которая позволила ему прочти или проползти весь тернистый путь, ожидающий начинающего писателя. По складу своего характера он принадлежит как раз к тому большинству журналистского племени, которое всю жизнь терпеливо и требовательно придумывает название своему первому не написанному еще роману.
Просто год тому назад меня вызвал к себе главный редактор нашей телегазеты. Виктор Александрович долго смотрел на меня, тяжко и шумно вздыхал, и я начал было думать, что сейчас он промямлит что-то о предстоящем сокращении штатов и что, как один из самых молодых сотрудников, я должен сам проявить инициативу в этом благородном деле. Я уже мысленно перебирал те немногие редакции, где меня более или менее знали и куда я мог предложить свои услуги, когда редактор, помассировав свой мягкий, безвольный подбородок, спросил:
— Коля, ты Шухмина видел когда-нибудь?
— Шухмина? — растерянно переспросил я, все еще занятый мысленно своим будущим нелегким трудоустройством. — Какого Шухмина?
— Боже мой, — сказал плаксиво Виктор Александрович, — и это спрашивает репортер. Летописец эпохи. Человек с бездонной памятью и быстрым умом. Ка-ко-го Шух-мина? — передразнил меня главный редактор.
Конечно, я давно уже вспомнил, кто такой Юрий Шухмин, но мы с главным всегда играли в маленькие игры. Эдакие элегантные служебные скетчики. Пусть без зрителей, но все равно приятно. На этот раз я выбрал роль редакционного дурачка. Надо сказать, что это амплуа для меня, наверное, естественно, поэтому удается лучше других.
— А не, правда? Кто этот Шухмин?
Виктор Александрович скривил свои толстые губы и брезгливо покачал головой.
— Нет, Коля, сегодня ты явно переигрываешь. И знаешь, почему?
— Не-е, — дурашливо протянул я, не в силах так быстро спуститься с эстрадных подмостков в редакторский кабинет.
— Потому что, похоже, у тебя и в жизни есть кое-что общее с изображаемым простачком.
С секунду или две я колебался, обиженно ли засопеть или рассмеяться вместе с главным, потому что Виктор Александрович уже начал складывать свое обширное гуттаперчевое лицо в смешливую улыбку. По натуре мне проще улыбнуться, чем обидеться, поэтому я вежливо захихикал.
— Так вот, друг Коля, наши подписчики уже несколько раз в последнее время жаловались, что мы чересчур поверхностны. Смотри, как изящно выразился один из них.
Виктор Александрович нажал на кнопку своего настольного компьютера, и на дисплее появились строчки:
«Ваши материалы иногда напоминают мне плоские камешки, которые ребятишки любят бросать в воду. Камешек нужно бросать параллельно поверхности, тогда он много раз рикошетирует, пока в конце концов не пойдет ко дну, растратив свою кинетическую энергию на легкие прыжки».
— Вот так, — кивнул Виктор Александрович, — растратив свою кинетическую энергию на легкие прыжки… Гм… А ведь недурно сказано, хотя несколько вычурно. Как ты считаешь, Коля?
Я хмыкнул неопределенно, а главный еще раз кивнул и сказал:
— Осторожен ты, братец, не по годам. Тебе сколько?
— Вы же прекрасно знаете, — обиделся почему-то я, — у вас феноменальная память.
— Это верно, — легко согласился главный редактор, — это верно. Память у меня действительно необыкновенная. Тебе тридцать два года, ты родился в двадцать первом веке, а расчетлив, как столетний ветеран.
— Я не потому хмыкнул, Виктор Александрович, — твердо сказал я. — Я свое мнение вам всегда честно в глаза выскажу: газета наша делается просто замечательно.
Мы снова оба вежливо поулыбались, и Виктор Александрович сказал:
— Легкие прыжки. Очень точное сравнение. Скользим по поверхности. И это, к сожалению, верно. Торопимся. Быстрее, быстрее в эфир. А нужно и остановиться иногда, друг Коля. Осмотреться. Удивиться по-детски окружающему. Спросить себя: как? почему? зачем? А потом что? И написать об этом. Немножко старомодно. Неторопливо. Подробно. Я спросил тебя, помнишь ли ты Юрия Шухмина.
— Конечно. Это тот парень, которого послали одного на какую-то планету и который помог…
— Совершенно верно.
— Но ведь о нем столько уже написано.
— Камешки, Коля, легкие прыжки по поверхности. Вот посмотри, что пишет все тот же подписчик. — Виктор Александрович передвинул на экране текст и увеличил абзац. — Вот, прочти, я даже подчеркнул его слова.
«Я, наверное, видел Юрия Шухмина на экране раз десять, а то и больше, слышал его, читал рассказы о его странной командировке на Элинию, но я так и не мог составить впечатления, что он в сущности за человек, что он чувствовал, когда оказался один в чудовищной дали, как сумел выполнить свою миссию».
— Ты согласен? — спросил Виктор Александрович.
— Да, наверное.
Я сказал «наверное» просто так, для элегантности слога. Автор письма был прав. Сто раз прав. И до него мы не раз говорили об этом на наших редакционных летучках.
— Попробуй, Коля. Встреться с Шухминым, побеседуй с ним, не раз, не два, не торопясь. Ты же сам сказал: о нем столько уже написано. Столько — и мало. Одни плоские камешки, пущенные торопливыми репортерскими руками. Сделай серию очерков. Неторопливых, обстоятельных. Согласен?
— А интересно это будет?
— Вот-вот, об этом я и говорю. Молодой человек, почти мальчик, летит один на чужую планету, потому что он, только он может помочь жителям Элинии, которые просили землян о помощи, молодой человек, в высшей степени неподходящий ни для космических путешествий, ни для дипломатических миссий, человек без настоящей профессии и образования, — а ты спрашиваешь, интересно ли! Забудь о спешке, не ищи обязательно новые факты, копни просто поглубже, больше психологии. Ведь мы как пишем? Два десятка глаголов, сотни две-три существительных, ну там несколько прилагательных и наречий. Почти столько, сколько освоили высшие человекоподобные обезьяны, когда их научили языку глухонемых. Взял то, поехал туда, сделал то. Правильно, о Шухмине все уже сказано. Но именно так. А ты опиши, как взял, как ехал, как делал. И что при этом думал, что чувствовал. Понимаешь?
— Да, пожалуй.
— Вот и отлично. Ты встретишься с ним завтра в десять утра, я уже договорился.
— Не спрашивая моего согласия?
— Не валяй дурака, я знал, что ты с удовольствием возьмешься за такое задание. — Он пристально посмотрел на меня и хитро сощурился. — Признайся, ты ведь подумывал в глубине своей юной репортерской души, что смог бы написать хорошую книгу. Подумывал?
— Да, — вздохнул я, — если честно, да.
— Тогда это твой шанс. Книжку мы передадим подписчикам по каналу очерков и издадим. Представь себе: держишь в руках, как младенца, такую симпатичную книжечку, а на обложке твоя фамилия. А? Твой шанс, Коля. Мы говорим: не упустить свой шанс. Но когда мы сталкиваемся нос к носу с этим шансом, мы норовим зачастую вежливо раскланяться с ним и мирно разойтись, а то и перебежать трусливо на другую сторону улицы. И знаешь, почему? — Главный редактор оживился, видимо, упиваясь своей мудростью и красноречием.
— Нет, — я почтительно покачал головой.
— Потому что упущенный шанс все равно остается шансом. Он сохраняет нам самоуважение. А пойманный шанс требует действия, иначе ты загубишь его, а заодно и собственное самоуважение.
— А где живет мой шанс?
— Вот его адрес. Это Икша, маленький городок под Москвой. Желаю удачи.
Так и родилась эта книжка. Моя роль в ней, в сущности, невелика, она свелась в основном к легкой стилистической обработке рассказов Юрия Шухмина. Вначале я думал использовать их для традиционного приключенческого романа, но потом понял, что гораздо важнее литературных красот сохранить непосредственность самого участника описываемых событий. Читатель, возможно, заметит, что в начале книжки я еще присутствую в качестве собеседника Шухмина. Когда я первый раз целиком перечитал свою рукопись, я заметил, что чем дальше — тем меньше становится моих реплик. Я слишком увлекся рассказом Шухмина. Сначала я хотел было что-то исправить, но потом решил оставить: пусть книжка будет такой, какой получилась.
Москва, январь 2043 года
ЧАСТЬ 1
1
Наверное, главный прав, думал я, входя в свой крохотный редакционный загончик, отношения наши с представляемым судьбой шансом не так-то просты. Конечно, написать книгу, первую книгу, было заманчиво. Да что заманчиво — это действительно была моя тайная мечта. Но было и страшненько. А вдруг не получится? А вдруг выяснится, что гожусь я лишь для швыряния плоских камешков? Вдруг выяснится, что я лишь спринтер, способный на газетную информашку или максимум репортажик, газетный спринтер, который быстро задохнется на стайерской писательской дистанции? Что тогда? И к тому же этот Шухмин вполне может оказаться скучным и плоским, как листок бумаги. Что-что, а уж это-то я, как репортер, знаю. Когда я начинал работать, мне казалось, что люди интересны в прямой пропорции к экзотичности своей профессии или месту жительства. Но очень скоро понял, что, допустим, пожилая медицинская сестра в маленьком городке может быть во много раз глубже, чем исследователь подземных марсианских морей. Сколько я видел таких… И нет никаких гарантий, что Шухмин окажется другим. Попробуй, копни глубже — даже если я сумел бы это сделать — на листке бумаги…
Я почему-то вспомнил, что в древности лошадям в больших городах надевали на глаза шоры, чтобы бедные твари не пугались обилия городских впечатлений. Хорошо бы и у меня были шоры, заслонившие от меня все эти страхи и сомнения. Хорошо бы в сузившемся поле моего зрения оставалось одно лишь редакционное задание. Я вздохнул. Увы, таких шор у меня не было.
Я посмотрел на свое отображение на сереньком экране компьютера. А может, спросил я его, не компьютер, а отображение, еще не поздно сказать Виктору Александровичу, что дело это не по мне, что мне интереснее охотиться за новыми фактами, а не брести по сухой тропе, уже истоптанной десятками других журналистов. Тем более что недостатка тем у меня не было, от совершенно нового и еще спорного метода лечения неврозов, предложенного двумя никарагуанскими врачами, до очерка о каком-то невероятно талантливом изобретателе в Петропавловске-на-Камчатке.
Конечно, Виктор Александрович вздохнет, шумно, как корова, и вздох будет красноречив и печален. Вздох будет говорить: эх, Коля, Коля, не думал, что ты так трусоват. Ведь хочется же тебе, хочется, я ж это видел — а теперь в кусты.
Мое отображение вдруг улыбнулось, хотя я и не собирался улыбаться. Оно было умнее меня. Оно уже знало, что я не откажусь. Хотя бы из-за трусости. Трусость тоже бывает отличным трамплином для храбрости. Просто я никогда не умел сразу бросаться в холодную воду. Мне всегда нужно было постоять по пояс в воде, подрожать, поклацать зубами, сказать себе на счете пять: ты, трусишка, ныряешь или… Ра-аз, тянул я, два-а… Но деваться было некуда, я отталкивался от дна и нырял. Ра-аз, отсчитал я, два-а, три-и, четыре, четыре с половиной, пять!
Я включил компьютер, и мое отображение исчезло — растворилось во вспыхнувшем экране, подмигнув мне на прощание.
— Космический Совет, — произнес я, чеканя слова. Компьютер мой что-то в последнее время капризничал в режиме устных команд, и приходилось давать ему задания с особой четкостью, словно я командовал парадом. — Архивы заседаний. — «Да», - буркнул басовито «Сургут-5». И я продолжал: — Обсуждение кандидатуры для посылки на… — Как же, черт возьми, называется эта планета? А, Элиния. — На Элинию. Видеопротокол.
Экран вторично ответил мне «да», и через мгновение засветился зелеными словами: Космический Совет. Видеопротокол заседания 11 ноября 2041 года. Париж.
— В переводе на русский, — добавил я.
— Да, — пробасил «Сургут-5».
На экране появился уютный зальчик с небольшим амфитеатром.
Десятка два ученых мужей гудели, как школьники. Один из них, почтенный полнотелый старец с легким венчиком седых волос вокруг полированной сияющей лысины и симпатичной бородавкой на щеке, наклонился к уху соседа и, хитро прищурившись, что-то шептал. Похоже, он рассказывал анекдот, и, судя по тому, что камера задержалась на них, оператору, наверное, не терпелось узнать, прав ли он. Он был прав. Оба члена Совета покатились со смеху, и остальные присутствовавшие с откровенной детской завистью посмотрели на них.
— Товарищи, — элл сказал председательствовавший профессор Танихата, сухонький маленький человек с сонными глазами, — боюсь, я не смогу соревноваться с моим коллегой, доктором Иващенко, который, по-видимому, рассказывает доктору Граббе что-то очень забавное…
— К сожалению, — сказал доктор Иващенко, с трудом удерживаясь от смеха, — мое сообщение вряд ли может быть занесено в протокол. К тому же оно весьма далеко от космических проблем.
— Жаль, — сказал Танихата.
— Потерпите до перерыва, — сказал доктор Граббе, — изумительный анекдот.
— Спасибо, — кивнул Танихата, — постараюсь. А сейчас разрешите перейти к текущему вопросу нашей сегодняшней повестки дня. По системе галактической связи мы получили весьма необычную просьбу с планеты Элиния. Позволю себе напомнить членам Совета, что впервые контакт с этой планетой, которая занесена в наш каталог обитаемых миров под номером сорок семь, был установлен три года тому назад, когда на планете побывал наш космоплан «Земля-девять» под командованием члена Совета профессора Трофимова. Обитатели планеты от установления контактов отказались, согласия на изучение Элинии не дали. В рапорте Совету Трофимов указывает, что цивилизация Элинии относится, по-видимому, к типу, который он назвал «травмированный». Наблюдения во время облета и посадки выявили большое количество руин, а сами эллы поразили экипаж замкнутостью и полным отсутствием любопытства к гостям. Крайне неохотно также эллы согласились войти в систему галактической связи. Им была оставлена соответствующая аппаратура, даны инструкции, как ею пользоваться, но ни одного сообщения мы от них не получили. Тем неожиданнее их просьба о помощи.
— И что же они хотят? — спросил кто-то.
— Они просят срочно прислать одного — причем цифра «один» повторяется трижды — специалиста, умеющего понимать язык диких животных. Специалист этот должен быть безоружен и должен быть готов остаться на Элинии один в течение длительного отрезка времени. Только и всего. Профессор Трофимов, вы один из нас видели эллов. Как по-вашему, что бы могла значить эта загадочная космограмма?
Профессор Трофимов, высокий и худой, наморщил лоб, ущипнул себя пару раз за кончик носа, откашлялся:
— Боюсь, я не смогу помочь коллегам. Эллы — удивительно скованные, замкнутые существа. Мне всегда казалось, что одним из признаков мало-мальски развитого интеллекта является любознательность. Наверное, она вообще необходима для развития разума. За время нашего пребывания на Элинии — а мы пробыли там около трех земных суток — мы ни разу не слышали от эллов ни одного вопроса. Буквально ни одного. Это с трудом укладывается в сознании, но это так. Ни одного вопроса. Ни разу не посмотрели они на наш космоплан. И вместе с тем они мыслящие существа. Об этом можно судить по их ответам. Отвечали они крайне неохотно, предельно кратко, но вполне разумно. Должен сказать, что это вот разительное противоречие между очевидным интеллектом и глубочайшим равнодушием произвело на нас очень большое впечатление. Наши попытки разговориться с эллами отличались какой-то иррациональностью. Эти умные глаза смотрели на нас с глубочайшим безразличием. Они отвечали на наши вопросы, но сами не задали ни одного. Представляете — ни одного.
— Да, это трудно представить, — кивнул доктор Иващенко. — Ни о чем похожем я не слышал.
— Но что все-таки может значить эта просьба? — спросил доктор Граббе.
Трофимов снова ущипнул себя за кончик носа, пожал плечами:
— Я только что отметил, что эллы в общении предельно кратки. Причем мы вообще не заметили, чтобы они разговаривали друг с другом.
— А у вас не возникло впечатления, что они обладают способностью к мысленному общению? — спросил грузный старик. Подпись внизу сообщила, что это доктор Жобер.
— Сложно сказать, — вздохнул Трофимов. — Конечно, такая возможность не исключается, но трудно поверить, чтобы, обмениваясь информацией, пусть мысленно, разумные существа оставались столь невозмутимыми. Лица эллов сами по себе довольно выразительны — высокий выпуклый лоб, три больших глаза. Это лица явно развитых и мыслящих существ. Но это скорее даже не лица, а маски. Застывшие, неподвижные маски. Маски абсолютно равнодушные к происходящему вокруг. — Трофимов помолчал секунду-другую, потом добавил: — Я никогда не был в монастыре, но тем не менее у меня мелькнула мысль, что так, наверное, должны были когда-то выглядеть монахи, презревшие мирскую жизнь.
— Гм, — хмыкнул Иващенко, — и эти монахи тем не менее решаются обратиться к нам с просьбой. Презреть мирскую жизнь, видно, не так-то просто. Очевидно, повод для сигнала бедствия достаточно серьезный.
— Вероятно, — согласился Танихата. — Скажите, профессор Трофимов, что-нибудь вы знаете о животном мире Элинии?
— Нет. Совершенно ничего. Как я уже сказал, на изучение нами планеты эллы не согласились, о себе практически ничего не рассказывали. И если они отправили нам космограмму, значит, что-то действительно серьезное заставило их сделать это.
— А что могло бы значить это условие — специалист должен быть безоружен? — спросил доктор Жобер.
— То, что оно значит, — пожал плечами Трофимов. — Почему — это другой вопрос. У нас сложилось впечатление, что эллы не только не имеют оружия, но испытывают крайнее отвращение к нему. Во время первой же встречи они обратили внимание на станнеры, висевшие у нас на поясе, и, когда мы объяснили, что это оружие личной защиты — мы ведь еще не знали, что нас ожидает здесь, — они потребовали, чтобы мы немедленно сняли их, что у них любое оружие запрещено законом.
— Традиционно мы никогда не отказываем в помощи, — сказал Танихата, — если в состоянии ее оказать. Поэтому сразу же после получения космограммы, не ожидая собрания Совета, я связался с кафедрой этологии Московского университета и с кафедрой языка животных университета в Лос-Анджелесе.
— И что говорят этологи? — спросил Иващенко. — Ведь похоже, кое-чего они добились со времени, когда Конрад Лоренц изучал язык гусей лет сто назад.
— Да, конечно, — согласился Танихата. — Они буквально засыпали меня информацией. Предложили даже прислать только что изданный в Лос-Анджелесе звуковой словарь для общения с дельфинами и сравнительный словарь языка африканских и индийских слонов.
— Вряд ли эллы имеют в виду наших родных дельфинов и тем более слонов, — вздохнул Жобер. — Конкретно кого-нибудь этологи вам предложили?
— Все не так-то просто. Да, кое-какие успехи у этологов в попытках понять язык животных есть, но они до сих пор спорят, есть ли вообще язык у животных. Каждый шаг, как они сами говорят, дается с огромным трудом, ценой многолетних наблюдений и многочисленных опытов. И похоже, что человека, у которого на руке было бы волшебное кольцо царя Соломона и который мог бы легко понимать язык животных, любых животных, просто нет и быть не может. Разумеется, этологи могли бы с радостью рекомендовать нам десятки ученых, готовых бесстрашно отправиться куда угодно, лишь бы иметь возможность изучать каких-нибудь неведомых зверушек. Но, подчеркиваю, изучать. Еще в прошлом веке зоологи научились терпеливо наблюдать за животными, иногда годами расшифровывая их способы общения между собой. Они наблюдали за популяциями горилл, стаями волков, прайдами львов, стадами слонов. Только что сами не бегали с ними на четвереньках. Ничего принципиально не изменилось и сейчас, разве что техническое снаряжение стало совершеннее. Они ухитряются понавесить на своих подопытных такое количество датчиков, что у тех уже не осталось даже личной жизни. Каждый шаг, каждый звук и каждое опорожнение желудка — все мгновенно регистрируется, все передается даже в цвете, разве что без стереоэффекта. Этологи шутят, что они теперь начинают понимать физиков. Те знают, что при изучении атома действует принцип неопределенности, то есть уже сам факт изучения воздействует на частицу.
— Боюсь, что это не совсем то, чего хотят от нас эллы, — сказал задумчиво Трофимов. — Ведь не обуяла же их внезапная страсть к изучению своего животного мира. Похоже, что по какой-то причине им необходимо срочно понять, что делают какие-то животные. Или почему делают. Очевидно, для них это жизненно важно. Возможно, само их существование находится под угрозой.
— Да, — задумчиво кивнул рыжий человечек с птичьим лицом, доктор Кэмпбел, — им явно не до изучения. Скажите, доктор Трофимов, я помню, в вашем докладе Совету вы твердо называете эллов существами высокоразвитыми интеллектуально. Если вам не трудно, напомните, на чем основывался ваш вывод.
— С удовольствием, — сказал Трофимов. — Больше всего нас поразила их способность невероятно быстро освоить наш язык. При первом контакте мы, как обычно, пользовались электронным транслятором, который через полчаса дал нам возможность понять десяток-другой слов языка эллов. Часа за два работы транслятора он вычленил и перевел около сотни слов и оборотов. А эллы к исходу этих двух часов могли уже пользоваться двумя сотнями слов нашего языка. И это, заметьте, без всякого оборудования, которое мы бы видели.
— Спасибо, — сказал доктор Кэмпбел. — Это-то я как раз и хотел от вас услышать. В высшей степени странная получается ситуация. Эти эллы, похоже, незаурядные лингвисты, с неизмеримо большими, чем у нас, способностями к освоению или хотя бы пониманию незнакомого языка. И тем не менее они обращаются к нам с просьбой помочь понять язык их животных…
— Может быть, — задумчиво пробормотал Трофимов, — контакт с животными для эллов такое же табу, как оружие?
— Может быть, — сказал Кэмпбел. — Еще один вопрос. Почему этологи не пользуются трансляторами? Хотя бы таким, каким пользовался Трофимов? Если эти штучки помогают понять язык совершенно чуждых нам существ, почему мы не можем послать на Элинию опытного специалиста по поведению животных с таким транслятором?
— Позвольте мне ответить вам, — сказал председательствовавший. — Я сам задал такой вопрос ученым из Московского университета. Оказывается, трансляторы для этого совершенно не подходят. Они удобны, когда два разумных существа, каждый пользующийся своим, но более или менее логичным языком, пытаются терпеливо понять друг друга. Оба эти существа осознают трудности взаимопонимания, оба терпеливы, оба начинают с самого простого. Что, естественно, ожидать от диких животных не приходится.
— М-да, увы…
— Итак, коллеги, какие будут суждения?
— Увы, суждения будут вынужденными, — сказал Жобер. — Мы просто не можем выполнить их просьбу. У нас нет такого человека. Я вполне могу представить себе, что для этого замкнутого народца, потомков некой могучей, судя по руинам, цивилизации, наш космоплан и его экипаж должны были показаться всесильными. Но мы, друзья, не всесильны.
— Других мнений нет? — спросил со вздохом Танихата.
— Похоже, что нет, — несколько раз кивнул своим мыслям Жобер.
— Тогда перейдем к четвертому вопросу нашей довольно обширной сегодня повестки дня, — сказал Танихата.
— Прошу прощения, — сказал Иващенко, блеснув лысиной, — но я вдруг вспомнил кое-что… Хотя…
— Смелее, Александр, — улыбнулся доктор Граббе, — я всегда считал вас на редкость решительным человеком.
— Спасибо, Гюнтер. Вы правы, нужно соответствовать репутации. Коллеги, заранее приношу извинения, если то, что я расскажу, окажется вздором… По ассоциации, которую вы сейчас поймете, я вдруг вспомнил цирковое представление. Я водил на него правнучку в прошлом году. Да, в прошлом году. Программа была довольно банальная, все те же жонглеры, эквилибристы, канатоходцы, клоуны, неплохой полет под куполом — цирк ведь вообще консервативное искусство. Говорят, есть номера, которые насчитывают сотни лет. Тем не менее все это мы смотрели с большим удовольствием. Причем я, кажется, получал его больше правнучки. Она, в отличие от меня, существо серьезное и рациональное. Но один номер показался мне необычным. Выступал молодой дрессировщик, который работал с собаками и кошками. Собаки и цирк практически неотделимы. Кошек на манеже можно встретить куда реже — они, насколько я слышал, крайне своевольны и тяжело поддаются дрессировке. Но тем не менее и кошки в цирке давно не сенсация. По-моему, дрессировщики вообще перепробовали уже всю земную фауну, от зайцев до верблюдов. Я не удивлюсь, если вскоре они перейдут на внеземную фауну. Тут уж они без нас не обойдутся, и мы будем ходить в цирк сколько душе угодно. Но это, конечно, шутка. Меня поразил один из номеров дрессировщика. Он попросил зрителей дать вслух какое-нибудь задание его животным. Ну знаете, вроде подойти к такому-то месту, что-то дать-взять, пролаять и так далее. Рядом, ниже нас, вскочил мальчик и сдавленным от волнения голосом попросил, чтобы дрессировщик послал к нему своего черного пуделя и чтобы этот пудель протянул ему левую лапу. Дрессировщик кивнул и сказал пуделю, небольшой такой собачонке: «Путти, ты слышал, что тебя просил сделать мальчик?» Пудель тявкнул, и дрессировщик добавил: «Ну что ты спрашиваешь, какой? Тот, который сейчас дал задание. Внимательнее нужно быть, Путти. Иди, не ленись».
Возможно, уважаемые коллеги, пуделя звали как-то по-другому. Но в остальном я не ошибаюсь. Он лениво поднялся, зевнул, перепрыгнул через барьер манежа и потрусил к проходу, по которому ближе всего было подняться к мальчугану. Пошел по лестнице, причем все это совершенно уверенно, как будто он бежал за хозяином, остановился у того ряда, в котором сидел мальчик, подождал, пока несколько зрителей подняли ноги, давая ему, проход, подошел к мальчику и протянул ему лапу, переднюю левую. Причем, уважаемые коллеги, выражение мордочки было при этом самое что ни на есть скучающее. Такое же, наверное, какое было у этих безразличных эллов, с которыми беседовал наш коллега, доктор Трофимов.
Пока все аплодировали, я думал, как дрессировщик подготовил такой номер. В общем, очевидно, довольно просто. Животные обучены направляться к тому, кто встает. Ну а дать лапку — что еще можно ожидать от животного. И вот прежде, чем я сообразил, что делаю, я, восьмидесятипятилетний лысый патриарх, заорал, чтобы рыжая кошка подошла к девочке в розовой курточке рядом со мной, села ей на колени и сказала «мяу». Одновременно со мной кто-то еще пытался дать какие-то задания, но, должно быть, я орал громче или лысина моя дала мне преимущество, должна же старость пользоваться какими-то льготами, но дрессировщик повернулся ко мне, кивнул и повторил мою просьбу рыжей кошке. Он сказал: «Подойди, пожалуйста, к девочке в розовой курточке, она сидит рядом с почтенным зрителем, который дал задание. И побыстрее, пожалуйста». Кошка кинулась к нам, перепрыгнула через мои колени на колени правнучки и громко промяукала.
Обратите внимание, я не вставал. «Хорошо, Иващенко, — скажете вы, — вы не вставали, но вы же орали на весь цирк». Вот вам и разгадка номера. Рыжая Мурка приучена идти на голос. Ан нет. Выкрикивал задания не я один, были и другие активисты среди зрителей самого разного возраста. Это раз. Кроме того, животное ведь направилось не ко мне, а к девочке. Выходит, возможность дрессировки, то есть предварительного механического натаскивания, отпадает. Другими словами, похоже, что дрессировщик передавал животным информацию, заранее ему не известную. Несколько раз я рассказывал об этом выступлении знакомым биологам. В ответ ученые мужи снисходительно улыбались и слегка кивали печально головами. Мол, что еще можно ожидать от этого старого дурака, его не только что дрессировщик обманет с легкостью, его грудное дите вокруг пальчика обведет. «Но все-таки, — настаивал я, — как он это делает?»
«Ах, профессор, профессор, — говорили мои высокоэрудированные знакомые, — если бы мы знали все цирковые трюки, мы бы не просиживали штаны в лабораториях, переругиваясь с непочтительными лаборантками и аспирантками, а выбегали бы на манеж в роскошных блестящих костюмах в сопровождении длинноногих обольстительных ассистенток».
«Но все-таки, — настаивал я, — должно же быть какое-то рациональное объяснение».
«Есть, пожалуй, — отвечали мне. — Это ловкое жульничанье».
«Позвольте, позвольте, — горячился я, — откуда вы знаете?»
«Знаем, — с ангельской кротостью говорили биологи, — потому что с животными разговаривать нельзя, потому что они не обладают языком, а потому могут обмениваться лишь минимальным количеством информации. Это общеизвестно. И все эти цирковые лошади, якобы умеющие считать и выбивающие ответ копытом, и возводящие в степень собаки — все это детские старинные трюки. Маленькие дети это понимают».
«Вы хотите сказать, что я глупее ребенка?»
«Ах, профессор, не кокетничайте. Вы же прекрасно знаете, что мы хотим сказать».
«Но…»
«Никаких но. Мы же не вступаем с вами в спор на тему о двигателях космических кораблей — это ваша область. А биология — наша».
В общем, ничего я от ученых мужей не добился, махнул рукой и забыл о дрессировщике. И вспомнил только сейчас. Потому что, кто знает, может быть… Может быть, именно он…
— А как зовут вашего повелителя собак и кошек? — спросил Жобер.
— Ну, вы хотите от меня слишком много. Помню лишь, что говорил дрессировщик по-русски, без акцента, стало быть, русский. Впрочем, узнать его имя, думаю, не составит проблемы.
— Во всяком случае, стоит попытаться, — сказал доктор Граббе. — Было бы очень мило, если бы он согласился посетить нас и продемонстрировать свое искусство. Если, разумеется, он не гастролирует сейчас где-нибудь на Марсе.
— Отлично, — сказал председательствовавший, — я сегодня же попытаюсь связаться с дрессировщиком и сообщу вам о результатах на завтрашнем совещании. А сейчас, коллеги, перейдем к следующему вопросу. У нас еще много дел.
Изображение исчезло, и тут же появились новые титры: Космический Совет. Видеопротокол заседания 12 ноября 2041 года. Сосновоборск.
Я протянул руку и выключил компьютер. Не знаю почему, но мне не хотелось больше смотреть на экран. Для меня всегда первое впечатление от нового человека было очень важным. А с Шухминым, если из этой книжки что-нибудь получится, мне предстояло встречаться не раз и не два. И лучше, надежнее познакомиться с ним в естественной обстановке, а не на дисплее компьютера. Легче будет составить более полное представление. Ведь вполне может оказаться, что мой герой — надутый, неприятный человек, полный сознания своей исключительности. Что, в общем, было бы вполне понятно. Скольким землянам приходилось посещать иные миры? Сотне, двум, не больше. А отправиться одному? Наверное, никому. Так что мой Шухмин вполне мог быть проникнут сознанием свой исключительности. Да дело могло быть даже не в сознании своей исключительности. Дело могло быть просто в масштабе. Один человек на далекой планете. Одиночество, ответственность, опасность. И пристающий к нему репортер, которому, видите ли, хочется написать книжку. Не первый, добавим, репортер и не первый интервьюер. И работать с ним будет трудно.
К тому же, поправил я себя, откуда вообще уверенность, что этот парень захочет тратить часы и дни на рассказы об Элинии? Он уже рассказывал о своей поездке не раз и не два. Популярность? Вряд ли моя скромная книжонка (я усмехнулся: как будто она уже написана!) сможет конкурировать с Всемирной телесетью, которая уже несколько раз рассказывала о Шухмине.
2
Без пяти десять на следующее утро я уже стоял перед маленьким круглым домиком. Двери не было видно, наверное, она с другой стороны. Как странно, должно быть, выглядели дома в прошлом, когда они были неподвижны. Дорожка вела тогда прямо к двери, а сейчас протоптанные тропинки окружают любое здание кольцом, потому что гелиодома вращаются за солнцем, и никогда не знаешь, где вход.
Послышался дружелюбный лай, и навстречу мне кинулись два небольших черных пуделя. Они восторженно крутились передо мной, зазывно припадали на зады, становились на задние лапы и пытались лизнуть.
— Сторожа называются, — послышался голос. Навстречу мне шагнул высокий и плотный молодой человек лет двадцати пяти. У него были Темные волосы, загорелое лицо и совсем, детские глаза. Он улыбнулся:
— Вы журналист? Это о вас звонили?
— Да, меня зовут Николай Зубриков.
— Очень приятно. Вы знаете, кто я. Хватит, хватит, ребята, — повысил он голос на пуделей. — Путти, успокойся! — Он снова повернулся ко мне. — Гостеприимны до исступления. Может, потому, что у меня редко бывают гости… Пойдем в дом или поговорим здесь?
— Как вам удобнее, Юрий.
— Давайте здесь. У меня тут скамеечка удобная… Поговорим, а потом я вас попою чем-нибудь? — Он вдруг всполошился.
— А может, вы есть хотите?
— Спасибо, — сказал я. Первое впечатление уже начало складываться, но усилием воли я запретил ему застыть. Почему-то Шухмин мне не очень нравился, но я твердо сказал себе: «Глупо. Не торопись. Ты, наверное, тоже показался парню неестественным, скованным».
— Так что же вы хотите? Человек, который позвонил мне вчера…
— Это мой главный редактор, Виктор Александрович Жильцов, — почему-то обиженно сказал я.
— Он что-то говорил об очерках, книжке… — Шухмин неопределенно пожал плечами. Он не договорил фразу, словно у него кончились батарейки.
— Да, наша телегазета хотела бы дать подписчикам несколько очерков о вас и Элинии, — торопливо объяснил я, борясь с легким раздражением, которое почему-то поднималось во мне.
— А нужны они вам? — сказал Шухмин почти грубо и, почувствовав, очевидно, резкость вопроса, добавил: — Ведь писали уже. Стоит снова говорить об одном и том же? Ведь я вернулся… да, уже почти как полгода… Те, кто интересуются, могут в любой момент увидеть на своем дисплее мой отчет и видеограммы.
Господи, если бы он был на четверть, да что на четверть, на десятую часть так приветлив, как его пудели. Встать бы и сказать: не хочешь, не надо. Провались ты со своей Элинией. Но я не зря уже пять лет работал в телегазете. Обидчивость и гонор — не лучшие качества для репортера.
— Видите ли, Юрий, мы хотели создать серию очерков, книжку, может быть. Более непосредственную, интимную, что ли… Больше психологии и меньше отчета. О вас, вашей жизни, о том, как вы начали заниматься дрессировкой…
Шухмин хмыкнул и пожал плечами:
— А я и не занимаюсь дрессировкой.
— Ну, может, это и не дрессировка, но не в этом же главное. Главное — это интересная судьба интересного человека.
Шухмин внимательно посмотрел на меня. В темных глазах его заиграли маленькие искорки. Он вдруг широко улыбнулся. Улыбка была какая-то открытая, незащищенная, детская, как его глаза.
Я в свою очередь улыбнулся. Но улыбкой неопределенной, выжидающей.
— Я знаю, что вы обо мне думаете, — сказал он. — Не очень-то это лестно, но я вас понимаю. Я бы на вашем месте не сдержался бы. Пришел писать о человеке, прославлять его на всю Солнечную систему, а он еще кочевряжится. Так ведь?
— Ну, — засмеялся я, — если честно, примерно, так.
— Не обижайтесь, Коля. Ничего, я вас так запросто? Вы и меня поймите. Я человек довольно застенчивый… Вот я сказал это о себе вроде бы просто. Вроде бы и не такой он уж застенчивый, если так о себе незнакомому человеку сказать может. Но это все дается мне с усилием. Когда обо мне говорят, особенно когда хвалят, мне неловко. Просто места себе не нахожу. И уговоры тут не помогают. Наверное, в характере не хватает генов уверенности. Но не об этом речь. Вопрос: зачем мне сидеть с вами и снова рассказывать об Элинии? Потребности в этом я не испытываю, расчета — тем более нет. Может быть, долг? — Шухмин подумал, каким-то очень привычным движением пожал плечами. — Но перед кем? И что это за долг? Может, вы знаете?
— Нет, — покачал я головой. Хорошо, что я еще не позволил первому впечатлению от Шухмина застыть раз и навсегда. Сейчас мне пришлось бы пускать отливку в переплавку, потому что он был уже не таким, как несколькими минутами раньше. — Все гораздо проще, Юра. В газету написал читатель. Просит подробнее рассказать о Шухмине, о его командировке на Элинию. Меня вызывает главный редактор и предлагает написать о вас. Он знает, что, как и большинство журналистов, я мечтаю о книжке. Вот и все. — Мне показалось, что я невольно пытался бить на жалость, поэтому я поспешил добавить: — Не подумайте только, что для меня это вопрос жизни и смерти. Я переживу ваш отказ. Даже вполне безболезненно.
— Ого, товарищ журналист, вы, оказывается, еще и телепат. Читаете мысли. И тактик тонкий, — Шухмин незлобиво усмехнулся. — Вы почти лишаете меня возможности сказать «нет». Но есть и объективные обстоятельства. Я ведь снова работаю в цирке. Сейчас я дома, а через три дня гастроли в Ярославле, потом в Горьком, кажется.
— Это не обстоятельства, — твердо сказал я, чувствуя, что не все еще потеряно. — Если нужно, я поеду с вами в Ярославль. Буду кормить ваших животных. А если вам нужен ученый медведь, достаньте мне шкуру, и я буду демонстрировать чудеса дрессировки.
— Вы женаты? — перебил меня неожиданно Шухмин.
— Нет.
— Я так и думал.
— Почему?
— Вам слишком легко жениться. У вас должен быть чересчур обширный выбор невест. Вы потрясающе уговариваете. В начале нашего разговора я был почти уверен, что откажусь. Для чего это мне нужно, думал. Опять эти расспросы, опять эти рассказы, опять это невольное выставление себя неким космическим суперменом. Да и к чему эти воспоминания? Молод я еще, чтобы жить бесконечными воспоминаниями. А теперь… Может, и вправду будет интересно вспомнить все это еще раз. Раз кому-то нужно… Порой мне кажется, что никакой Элинии не было, что это случайно прочитанная книжка. Ладно, так и быть.
— Спасибо, Юра. У меня впечатление, что мы с вами будем работать без осложнений. У меня ведь тоже вначале было ощущение, что ничего у нас не выйдет. Но лучше так, чем наоборот, как это бывает. Хотите, расскажу вам по этому поводу историю? В прошлом году поручили мне написать большой очерк об одном известном футбольном тренере. Товарищи предупредили: не берись. «Почему? — спрашиваю. — Тренер ведь он интересный». — «Да, — отвечают, — верно. Интересный. Талантливый. Но характер ужасающий, себе враг». — «Чепуха, — говорю, — мне с ним не детей крестить». Звоню, представляюсь. Он любезно приглашает домой. Поит чаем, по квартире попугайчики летают, жена приветливая, он приветливый, попугайчики приветливые. «Будем, — говорит, — работать. Позвоните мне завтра с утра домой, договоримся».
Ну вот, думаю, покажу товарищам кукиш. А еще говорили, характер тяжелый, характер тяжелый. Милейший человек. Просто он видит, что имеет дело с интеллигентным симпатичным человеком. Звоню утром. «С утра, пожалуй, — говорит тренер, — у нас ничего не выйдет. Позвоните вечером». Звоню вечером. «Да, — говорит, — тут, к сожалению, дела подвалили. Та-ак… Сегодня у нас вторник, позвоните, пожалуйста, в четверг».
«Утром или вечером?»
«Утром».
Звоню в четверг утром. Жена любезно сообщает, что он отъехал на три дня по делам. Так и сказала: «Отъехал». Так он водил меня за нос почти месяц. Во мне уже охотничий азарт пробудился. Дрожать даже начал от возбуждения. Ничего, думаю, так просто ты от меня не отделаешься, раз уж взял след, своего добьюсь. Наконец он мне говорит, по телефону, конечно:
«Сами видите, как у нас получается…»
«Вернее, не получается…»
«Да, постоянно какой-то замот…»
«А завтра?» — привычно спрашиваю я.
«Завтра? Завтра, пожалуй, не выйдет. Сегодня мы с командой вылетаем в Сочи».
«Может, — говорю, — там?»
«Ну, что ж», - вяло соглашается он.
«Закажите номер, я послезавтра буду. Какая гостиница?»
Прилетаю я в Сочи, еду в гостиницу. «Да, пожалуйста, товарищ Зубриков, как же, как же, заказан вам номер. Вы на одиннадцатом, а наш уважаемый старший тренер прямо под вами — на десятом».
Поднимаюсь в номер с чувством гордости: добил я его все-таки. Как он ни юлил, как ни петлял. Бульдожья хватка. Без нее в нашем деле — не моги. А еще говорят — ха-рак-тер тяжелый! Выдержки у них нет. Звоню в номер под собой:
«Здравствуйте, — говорю торжествующе, — это Зубриков. Я в трех метрах над вами. Могу стукнуть стулом об пол, убедитесь».
А сам думаю, хорошо бы он не сейчас сел со мной работать, а хоть часика через два. Устал я с дороги.
«Здравствуйте», - вздыхает тренер. И молчит. Я молчу. Он молчит. Ничего, думаю, голубчик, теперь-то не увильнешь. Теперь ты схвачен. И крепко.
«Когда мы сможем поговорить?» — едва сдерживая смех, спрашиваю я.
«Боюсь, сегодня ничего не получится. Тут тренер один прилетел из Бельгии… Мы с ними скоро играем. Разве что завтра…»
«С утра?»
«Давайте».
Звоню утром.
«Знаете, у нас сейчас тренировка… А потом игра товарищеская, с ростовчанами…»
«Может, на игре?»
«Конечно», - обрадовался тренер.
Сижу жду. Сейчас, думаю, позвонит, собака, ведь скоро игра. Пригласит. Остается полчаса. Ни слуху ни духу. Пошел сам на футбол, благо стадион рядом.
Вечером звоню на три метра вниз и даже уже не злюсь. Злость может появиться в каких-то привычных рамках, а здесь свинство невероятное, космическое.
«Да, так уж получилось. Вот завтра с утра в спокойной обстановке… Я сам вам позвоню».
И верно, не успел я утром проснуться, телефон трезвонит. Ну, думаю, достал я его. Выдюжил. Первый раз не я ему, а он мне звонит.
«Товарищ Зубриков? Доброе утро, это говорит администратор команды. Старший просил вам передать, что его срочно вызвали в Москву, и он только что улетел».
Я смеялся и скрежетал зубами одновременно. А когда прилетел домой, обошел всех товарищей, кто предупреждал меня о тренерском характере, поклонился каждому в пояс и униженно просил у каждого прощения за самоуверенность и неверие.
— Чудная история, — сказал Шухмин. — Ловко вы…
— Ловко? — удивился я. — Что ловко? Наоборот, это меня ловко…
— Нет-нет, ловко вы меня скрутили. И даже на будущее постарались. Разве я смогу вам теперь сказать, что занят?
— Значит, ни одно свинство в мире не остается без награды. В данном случае для пострадавшего. Так когда мы сможем приступить, товарищ тренер?
— Через минуту. Кстати, а как фамилия этого монстра? Я ведь немножко болельщик… А они всегда любопытны, как сороки.
— О нет, Юра, не скажу. Тем более что тренер он не просто известный, пожалуй, даже знаменитый. А так сладостно бывает, когда видишь знаменитость, так сказать, не с фасада, а с тыла. Этот потрясающего таланта актер, оказывается, болезненно скуп. У этого ученого с мировым именем жена мегера. У поэта, которым все восхищаются, странная привычка гримасничать, стоя дома перед зеркалом. Но мы же не голуби, которые с безошибочным чутьем предпочитают гадить на памятники великих людей. Вот и приходится душить в себе древнего злопыхательского обывателя. Поэтому не обижайтесь, фамилию тренера не назову — это мое твердое правило.
— Ну что вы меня успокаиваете, Коля. А то напишете, что у путешественника на Элинию громко бурчит в животе. Это главное впечатление, которое выносишь от беседы с ним.
Мы оба посмеялись. Похоже, что настороженность первого знакомства таяла на глазах.
3
Шухмин задумался, наморщил лоб, вздохнул и сказал:
— Ну, значит, так. Само путешествие на Элинию было неинтересным. Космоплан летел дальше, мне сразу предложили то, что космонавты называют медвежьей спячкой, я согласился…
Я засмеялся.
— Чего вы смеетесь? — обиженно спросил Шухмин.
— Такими темпами мы с вами минут за пятнадцать управимся. Анна Каренина полюбила Вронского, он ее разлюбил, и она бросилась под поезд. Вот и весь роман. Боюсь, Юра, так легко вы от меня не отделаетесь. Детали, детали.
— Гм… С чего же вы хотите начать? Или как в старинном анекдоте: судья спрашивает подсудимого, с чего началась его преступная деятельность. Тот отвечает, но судья не удовлетворен. «Я прошу вас начать с самого начала». — «Хорошо, ваша честь, — говорит подсудимый. — Значит, мы с товарищем решили обчистить магазин…» — «Я ж просил с самого начала», - уже сердито повторяет судья. «Хорошо, ваша честь. Значит, так, господь сотворил мир за шесть дней…» Может, чтобы нам не начать с сотворения мира, вы будете задавать мне вопросы?
— Хорошо. Расскажите о своей семье, о себе.
Шухмин едва заметно усмехнулся:
— О семье… Гм… Я вот подумал, что совсем еще недавно, до Элинии, это было бы довольно тягостно для меня… А теперь, пожалуй, нет.
Он замолчал, а я терпеливо ждал. Может быть, стоило помочь ему вопросом:
— Ваша мать, если я правильно помню, архитектор?
— Да, она архитектор, и, говорят, неплохой. Но прежде всего, она удивительная женщина. Дьявольская энергия, неукротимый дух. Она просто не может не доминировать. Стремление к лидерству так же естественно для нее, как дыхание. Любая беседа для нее — это атака на внимание собеседников. Не удалась лобовая атака, будет ждать удобного мгновения, чтобы снова набросить лассо, — Шухмин усмехнулся. Короткая улыбка его была снисходительной и нежной. — И при этом мама — женщина. Она бывает и слабой, и беззащитной, и ранимой. Но даже эти качества она всегда ухитрялась использовать, по крайней мере дома, для того, чтобы главенствовать. «Наша Альфа Альфовна», - звал ее отец… Не знаю, почему они полюбили друг друга, они абсолютно не похожи… Отец был человеком скорее пассивным, каким-то вяловатым, хотя и вспыльчивым. Он был инженером-строителем, и если он кое-чего достиг в своей области, то только из-за жены. Нет, она, конечно, не понукала его: иди, добивайся — она слишком умна для этого. Но она всегда была в семье как бы реактивным ускорителем… Катализатором уж безусловно. Бедный отец…
— Ему было тяжело?…
— Что вы? — удивился Шухмин и медленно покачал головой. — Они любили друг друга. И мать не только не унижала отца, наоборот, она бросалась на любого, кто позволял себе нелестно отозваться о нем, как коршун. Просто… Просто они были разными. Мать летала, если уподобить их птицам, быстрее и выше. И отцу приходилось отчаянно махать крыльями, чтобы поспеть за ней. Тянуться, чтобы не отстать. Если уж развивать птичье сравнение, отец вообще не очень любил летать, скорее он был из куриного племени… Нет, это, конечно, я сказал некрасиво, не так. Ни курицей, ни петухом он не был, просто рядом с матерью он казался очень медлительным. Когда он умирал, мне казалось, он испытывал даже какое-то облегчение. Раз он подмигнул мне, лукаво так, и улыбнулся светло. Это было совсем незадолго перед его смертью. Сколько уж лет прошло, а я до сих пор помню эту улыбку. Исхудавшее, почти белое лицо, и вдруг эта улыбка всплывает. Именно всплывает откуда-то изнутри. И не могу до конца понять, чему он улыбался… Я до сих пор испытываю чувство какой-то непонятной вины, когда вижу перед собой эту улыбку.
Шухмин замолчал, глаза его затуманились. Я боялся вздохнуть, боялся пошевелиться. Я и надеяться не смел, что он окажется таким рассказчиком. Он глубоко вздохнул и сказал задумчиво:
— Удивительно, когда говоришь о чем-то вслух, что-то кому-то рассказываешь, приходится формулировать вещи, которые пребывали в тебе в каком-то… аморфном, что ли, состоянии. Это ведь мы только считаем, что умеем думать, что мысли наши текут ровно и логично. На самом деле наши мысли — это хаотическая каша каких-то кусочков картин, отдельных слов. Они толкаются, сходятся, сцепляются, разлетаются. Знаете, это как броуновское движение частиц, которое нам показывают в школе. А вот когда нужно что-то произнести вслух, приходится наводить в этом хаосе хотя бы минимальный порядок. Это я об отце и матери. Трудно сказать, кого из них я любил больше, но похож я, пожалуй, больше на отца. Мне кажется, его гены как-то естественнее чувствуют себя во мне, чем материнские. Во всяком случае, я не унаследовал от матери ни ее яростного темперамента, ни прирожденного дара лидерства, ни обаяния.
Какой-то я был застенчивый. Пожалуй, даже болезненно застенчивый. Я с детства любил рисовать. Рожицы, лица, фигурки. С ними я не стеснялся. Они были отличными товарищами, врагами, друзьями.
Мама, конечно, любила показывать мои рисунки гостям. Я буквально места себе не находил, готов был забиться в угол, куда угодно, только бы не видеть, как гости рассматривают мои фигурки, не слышать их похвал. Я физически Страдал в эти минуты. Мне становилось жарко, душно, колотилось сердце, нечем было дышать…
Я любил бродить один, забираться на всякие пустыри, чердаки. Отец меня звал диким котенком. Одно из первых моих воспоминаний — Чердак на даче, где мы тогда жили. Узкий солнечный лучик, и в нем столько пляшущих пылинок, что луч казался плотным и крепким. Пыль была удивительно нежная и шелковистая на ощупь, а сваленные в углу старые стулья казались в полумраке таинственным замком.
Другой раз — я тоже был еще совсем маленьким — я забрел куда-то совсем далеко от дома. По дороге меня несколько раз спрашивали, не заблудился ли я, но я уверенно врал, не-е, говорил я, я вот из этого дома. Отыскали меня лишь через несколько часов, и мать так прижала меня к себе, что я боялся задохнуться. «Глупенький», - повторяла она, всхлипывая, а я не мог понять, почему я глупенький, если все кругом так рады мне, даже брат.
— Почему даже?
— Ну как почему, — усмехнулся Шухмин. — Брат старше меня на шесть лет, а шесть лет в детстве — это разные тысячелетия. К тому же он совсем не похож на меня — четкий, всегда целеустремленный. Мы жили как бы в разных измерениях, не соприкасаясь почти и не пересекаясь. И только с годами, в последнее время, мы начали приближаться друг к другу. Духовно. Сергей сейчас на Марсе, он физикохимик, и я жду его приезда в отпуск. Почему-то он становится мне все более нужным. Не знаю, почему. Может быть, именно потому, что мы такие разные.
— Школа…
— Мама до такой степени хвасталась перед всеми моими, так сказать, рисунками, что убедила всех и себя, что я уже почти готовый гений живописи, Леонардо да Винчи двадцать первого века, и что я должен поступить в художественную школу. Ну а раз мама что-нибудь решает, препятствий просто не существует. Она проходит сквозь них, как нож сквозь масло. Иногда мне кажется, это удается ей только потому, что она просто не видит препятствий, отказывается видеть. Делает вид, что их нет. И самое удивительное — они действительно отступают.
Отлично помню свой конкурсный рисунок при поступлении в школу имени Кустодиева. Оранжевая пустыня. Черное небо, и две человеческие фигуры в скафандрах, которые склонились над странным следом. Конечно, фигуры были неуклюжие, движение передано плохо, но, наверное, было в рисунке какое-то настроение, какая-то потерянность у этих детских человечков, бог знает куда попавших. Уже потом, на Элинии, я вспомнил этот рисунок, когда смотрел на неподвижные оранжевые облака, все время висевшие в небе. Цвет их удивительным образом совпадал с цветом пустыни. А сам я чувствовал себя таким же потерянным, какими казались мне те деревянные фигурки. Но я забегаю вперед.
Короче говоря, меня приняли. И хотя я всех уверял до этого, что не хочу идти в художественную школу, радости не было конца. Я выл от восторга, кувыркался по полу и вообще был похож на безумца, — Шухмин усмехнулся. — Если б я только знал тогда, как меня будут выгонять из Кустодиевки…
— А за что?
— Ну, это долгая история. Но, в общем, все произошло так, как и должно было случиться. В сущности, в школу поступил не я, а мама. Но учиться нужно было мне. А я не тянул. Может быть, какие-то небольшие способности у меня и были, но не было ни настойчивости, ни трудолюбия, ни тщеславия даже должного. А это не просто необходимая добавка к таланту. Это не специи, а самая существенная часть таланта. Я по-прежнему был дурацки застенчив, и чтобы скрыть эту застенчивость, эту дикость, я бывал глупо развязным, хамил.
Не знаю, может быть, подспудная боязнь отстать от товарищей, может, плохая подготовка, а скорее всего все вместе привело к тому, что я начал самоубийственно безобразничать. Очевидно, как я теперь понимаю, подсознательно я хотел, чтобы меня выгнали за отвратительное поведение, а не за бездарность. Хулиганя, я спасал свое самолюбие, точнее, его черепки.
Надо сказать, что удался мне мой план не сразу, хотя, бог свидетель, я выматывал рулоны нервов из преподавателей и директора. Раз, помню, я надел на скелет — был у нас и скелет там для уроков анатомии — свою одежду, притащил скелет к дверям учительской, прислонил, постучал, крикнул «разрешите?» и спрятался. Ну, дальнейшее понятно.
Шухмин покачал головой, фыркнул:
— Меня долго не выгоняли в основном из-за директора. Маленький был такой старичок, быстрый, стремительный. Видел он меня насквозь, словно просвечивал. «Потерпи, Юрочка, — говорил он мне, — вот увидишь, скоро выправишься». Это он мне, хулигану, говорил — потерпи. Удивительный был человек. И художник прекрасный, и педагог незаурядный. И тонкий психолог. «Ты ведь не со мной воюешь, Юрочка, — говорил он, — ты с собой воюешь».
Пожалуй, он бы меня перехитрил, совладал бы с бесами, что терзали меня и толкали ко всем возможным безобразиями, но умер он. Как-то так же стремительно, быстро, как носился по своей любимой школе. Ну а новый директор терпеть мои художества не собирался. Так я и не стал художником…
— А вы не жалеете об этом?
— В общем, нет, наверное. Если бы и стал художником, то скорее всего ремесленником, а против этого гордыня моя все равно восстала бы.
— Значит, вы человек самолюбивый?
— Очень, — как-то обезоруживающе просто и искренне сказал Шухмин. — Уж что-что, а ген самолюбия матушка передала мне в наилучшем виде. Так что самолюбие есть, замах большой, а силенок и данных — кот наплакал. Раз не Рубенс — лучше вообще никто. Это ведь у меня не только к художественной школе относится. Я и обычную с грехом пополам окончил. Не могу сказать, что так уж я туп, но опять какое-то дьявольское реле во мне сидело. Ага, не могу так учиться, как брат — а он учился блестяще, — не могу, как самые первые в классе, так я уж лучше никак не буду учиться. А вы говорите, «самолюбивый»! Я из-за гордыни своей и высшего образования не получил. Мама архитектор, кончила архитектурный институт в Москве и Академию зодчества в Маниле, отец инженер, брат еще в университете такую работу сделал, что ему премию Семенова присудили. Ах, так, все кругом ученые, все образованные, здесь мне не выделиться. Так я лучше необразованностью своей козырять буду! Конечно, дорогой Коля, скорее всего это я все так четко и безжалостно сформулировать тогда не мог, да и не хотел. Гордыня-то не любит видеть себя обнаженной в зеркале. Она, знаете, модница. Такие туалеты на себя нацепит, такую косметику, введет — и не узнаешь. Это я уж потом потихонечку, с собой мир заключил, разобрался в хаосе, что царил в моей душонке. Это я уж потом понял, что вполне заурядный человек, что ничего в том постыдного нет, что заурядность — основа мира, ибо только на фундаменте заурядности могут вырастать личности незаурядные. Но смиренность тяжело мне давалась, ох, как тяжело! Я ее, можно сказать, с боем брал. Да и сейчас, если честно, тоже еще иногда гордыня взбрыкивает.
Из дому я рано ушел, еще школу не кончил. Носило меня, как пушинку. Там немножко работал, здесь подрабатывал. Жил в ожидании, пока туман в башке рассеется. Конечно, можно было обратиться к какому-нибудь психокорректору, который быстро бы привел в порядок все мои раздрызганные эмоции. Кстати, из-за этого я страшно ссорился с матерью. Она буквально на коленях меня умоляла — пойдем, ничего постыдного в этом нет. Конечно, как и всегда, она была права. Ничего зазорного, унизительного в помощи психолога или психокорректора нет. Они помогают множеству людей. Но опять же, бушевала во мне все та же гордыня — казалось мне, что сам я должен разбираться в себе. Только сам. И мир с собой сам должен заключить. Сам. Иначе останусь на всю жизнь инфантильным мальчиком Юрочкой. Что-то же, черт возьми, должен я был сделать в жизни сам, без мамы и без психиатров.
Дольше всего я проработал сборщиком гелиоустановок. Вы знаете, это солнечные различные коллекторы для обогрева зданий. Мне даже нравилась эта работа. Особенно когда нужно было ставить их на старые дома в сельской местности. Дело непростое, канительное. И так прикинешь, и эдак, как вписать всю эту гелиотехнику в старенький домик. Видите, первое детское воспоминание — я вам рассказывал, пыльный чердак — оказалось пророческим. Снова я по чердакам лазил.
4
— Ну а потом произошло событие, — продолжал Шухмин, — которое повернуло мою жизнь довольно круто. Такой вираж заложило… Приходит раз ко мне наш шеф. Прекрасный инженер. Напористый такой бородач, весельчак, озорник, Игорь Пряхин. А жил я уже в этом домике, где мы сейчас с вами. Сам собирал его, сам настраивал систему слежения за солнцем. Дорог мне этот домишко необыкновенно. Иногда мне даже начинает казаться, что я вырос в нем. Это, наверное, потому, что я действительно вырос в нем. Не в общепринятом значении этого слова, а вырос нравственно и духовно, то есть с грехом пополам подписал мир с бесами, что терзали меня, поглядел на себя со стороны, вздохнул, пожал плечами и понял, что нужно успокаиваться и браться за ум. Пора уже было.
Как сейчас помню тот вечер. Сижу после работы усталый, расслабленный такой, смотрю по телевизору соревнования по аэроболу, знаете, это новая игра, в которой игроки в воздухе гоняют здоровенный мяч. Ну вы же не могли не видеть, игроки похожи на горбунов из-за моторчиков с пропеллерами, что у них на спине. Довольно эффектное зрелище, как птицы носятся.
И вдруг мой инфо на руке пискнул, и голос этого Пряхина:
— Юрочка, ты один?
— Один, Игорь, — говорю.
— Тогда я иду к тебе. Таня моя удрала с сыном к матери на три дня, и я тоскую. Мне некому излить душу. У меня очень большая душа, она во мне не умещается, и излишек надо периодически сливать. Тебе можно? Ну конечно, можно. У тебя душа, по-моему, компактная, трепетная, как же ты откажешь другой трепетной душе?
— Ну приходи, Игорек, — вздохнул я.
— Через семьдесят секунд буду. Неотвратим, как судьба.
Я вышел, сел на эту вот скамеечку и стал ждать. Не могу сказать, чтобы Пряхин мне очень нравился, на мои вкус чересчур он шумлив, напорист, болтлив. — Шухмин вдруг остановился и посмотрел на меня, на диктофон, лежавший у меня на коленях. — Вот, кстати, вопрос. Вы потом покажете мне, что написали? Вы ж понимаете, мне вовсе не хочется обижать Игоря Пряхина выражением вроде «болтлив», тем более что обязан я ему многим…
— Не беспокойтесь, Юра, все это мы учтем.
— Обязательно потом покажите мне. — Шухмин помолчал немного, улыбнулся. — Пряхин никогда никуда не входил, он врывался. Как смерч. Даже Путти моя — вот она, дурочка, — уж на что гостей любит, и та перепугалась, ушки прижала, за меня спряталась, скулит.
— Юрка, — крикнул Пряхин, — почему ты один? Ты же молодой парень, красавец, кровь с молоком, вокруг тебя все должно ходуном ходить, и одушевленные предметы и неодушевленные, тебя девицы должны икшинские на абордаж брать, а ты сидишь на скамеечке, как начинающий долгожитель, нет, как кончающий долгожитель, как двухсотлетний старец, только в глазах твоих нет мудрости и кротости. Юрка, почему ты возишься с гелиоустановками в этом тихом древнем городке? Почему ты не орошаешь пустыню Сахару? Почему ты до сих пор не занялся лесопосадками в поредевшей бразильской сельве? Ты занимался лесопосадками в Бразилии?
— Нет, — вздохнул я.
— Вот видишь! — торжествующе воскликнул Пряхин. — Ты должен завтра отправляться в Бразилию. Нет, сегодня же! Не хочешь в Бразилию, ладно, поезжай на Багамские острова. Вчера показывали там новую подводную фабрику, видел? Почему ты не там? Впрочем, может, тебе здесь и лучше.
Из дома донесся гром аплодисментов, наверное, спартаковцы забили гол.
— Путти, — сказал я, — пойди выключи телевизор.
Путти испуганно посмотрела на Пряхина — боялась, наверное, дуреха, за меня — побежала в дом. Аплодисменты стихли.
— Это что? — спросил Пряхин, глядя на меня широко раскрытыми глазами.
— Что «что»?
— Пудель?
— Что пудель?
— Это пудель выключил телевизор?
— Ну а что в этом особенного?
— Юрочка, ты прикидываешься умственно неполноценным или ты на самом деле дебилен? Или ты действительно считаешь, что пудели понимают человеческий язык?
Путти выскочила из дома, подбежала ко мне и уставилась на меня своими умненькими глазенками.
— Не знаю, — сказал я. — Нет, наверное. Не знаю.
— Ладно, не разыгрывай. Сколько времени работаем вместе, а ты, оказывается, выдающийся дрессировщик. Что еще умеет делать эта маленькая псина?
— Эта маленькая псина умеет делать все, что я ее попрошу. Ну, на работу вместо меня она завтра не пойдет, конечно, а по хозяйству она у меня отличная помощница, хотя, если говорить честно, особой аккуратностью не отличается. Путти, лапка, пойди закрой калитку. Этот человек, который тебя так напугал, оставил ее открытой.
Пудель потрусил к калитке, ткнул ее носом, потом прижал лапкой, чтобы защелкнулся замок.
— Ну и ну, — Пряхин округлил глаза, и они стали у него совсем детские. — Ты же выдающийся дрессировщик. Теперь понятно, почему ты не в бразильской сельве, тебе просто некогда, ты обучаешь свою Путти выключать телевизор и закрывать калитку.
— Бородатый инженер нес чепуху, — продолжал Шухмин, — но в общем он меня не раздражал, потому что я очень люблю Путти, — один из двух пуделей вскочил и ловко лизнул Шухмина в лицо. — Это еще что за нежности?! — притворно-строго крикнул он. — Ведите себя, звери, прилично. Видите, Коля? Они приходят в восторг, когда их хвалят. Но не будем отвлекаться.
— Честно, Игорь, — сказал я, — я даже не знаю, как дрессируют животных.
— Будя кокетничать.
— Честно.
— Что честно? Почему твоя собачка ходит закрывать калитку, когда ее просят об этом, а моя овчарка шлепанцев даже принести не может? Сожрать их — это пожалуйста. За милую душу. А принести — это уже высшая математика для Рекса.
— Ну, может, ты просто не просишь его как следует?
— Ха! А как я должен его просить? Я говорю: «Рекс, шлепанцы! Шлепанцы! Кому говорят, шлепанцы! Тапочки!!! Убью!!!» Когда я начинаю визжать, он иногда приносит что-нибудь. В редких случаях одну тапочку. Сначала я думал, что это я никудышный дрессировщик, но приятнее все-таки считать Рекса дубиной.
— А жену он слушает?
— Только когда она зовет его есть. Ест он, как лошадь. А еще говорят, что овчарки отличаются сообразительностью. Аппетитом — да. Он может есть круглые сутки. Знаешь такое астрономическое понятие «черная дыра»? Так вот, я серьезно подозреваю, что у Рекса вместо желудка черная дыра, в которой бесследно исчезает любое количество пищи. Если бы я съедал половину того, что уминает он, я был бы чемпионом в японской борьбе сумо, по-моему. Ну эта, в которой борцы такие толстые, что у них груди похожи на женские.
Я действительно никогда не думал, каким образом Путти понимает меня. Я взял ее совсем маленьким щеночком, вырастил, и мне казалось вполне естественным, что она понимает меня, а я — ее. Я всегда мечтал о своей собаке, но дома у нас почему-то собаки никогда не было. Наверное, потому, что все всегда были заняты. Интересно, подумал я, неужели это действительно что-то особенное.
— Игорь, — сказал я, — а что если…
— Именно это я хотел предложить тебе, — сказал Пряхин. — Только я думаю, лучше пойдем ко мне, а то если Рекс увидит эту чернявочку, он окончательно обезумеет.
— Ладно, пойдем.
Мы поднялись, и Путти обиженно посмотрела на меня. Опять уходишь, укоризненно подумала она, а я сказал:
— Не смотри так, собака, я скоро приду.
Путти вильнула хвостом и побежала провожать нас да калитки.
5
Рекс встретил нас оглушительным лаем. Огромный черный пес метался по крошечному участку. Прямо струился за решетчатым заборчиком. Морда у него была длинная, вытянутая, а глаза такие же огромные, как и у его хозяина. Вообще они были чем-то неуловимо похожи, наверное, своей неистовостью. Я вообще заметил, что собаки очень часто похожи на своих хозяев. Или наоборот. Идет эдакий надутый старичок, а рядом с ним высокомерно поглядывает по сторонам его пес.
— Не бойся, Юрочка, — успокоил меня Игорь, — он не укусит, он только прыгнет на тебя, и, если ты устоишь на ногах, он положит тебе лапы на плечи и оближет лицо. Или, пожалуй, я лучше сначала сам войду и подержу его. Танька моя удержать его не может, он, по-моему, в силах легко тащить состав из десяти груженых вагонов.
— Я не боюсь, — сказал я. Я уже видел, что овчарка была, в сущности, довольно кротким созданием и прыгала и лаяла не от злости, а от избытка сил и юношеского восторга.
Мы вошли. Рекс стремительно бросился ко мне, поднялся во весь свой устрашающий рост и облизал лицо. Язык у него был горячий и шершавый.
— Можно тебя погладить? — спросил я овчарку. — Уж больно у тебя шерсть густая, да блескучая, да красивая.
Он дал мне разрешение, и я ласково потрепал его рукой по мощному загривку.
— Игорек, по-моему, ты на своего Рекса напраслину возводишь. Красивый, умный пес.
— Я-то знаю, какой у него ум. Впрочем, по части шкоды он действительно незауряден.
— Молодой озорник, что ты хочешь. Ты вот жаловался, что тебе некому душу излить, а ему каково? Сейчас мы посмотрим, такой ли он действительно у тебя неслух. Ты можешь показать мне твои шлепанцы?
— Зачем?
— Как зачем? Чтоб попросить Рекса принести их, должен же я представлять их. Так?
Пряхин внимательно посмотрел на меня, чуть склонив голову набок, точно так же, как смотрела на нас овчарка.
— Юрочка, что-то ты говоришь странное. Я, мой юный друг, ведь прекрасно знаю, как дрессируют животных. Уметь не умею, но знаю. Так ведь довольно часто бывает. Хочешь, я покажу тебе свои книжки по кинологии? Надеюсь, ты хоть знаешь, что кинология — это наука о собаках, а не о кино? Не знаешь? Теперь будешь знать. Кроме книжек, у меня три видеокассеты с полным курсом дрессировки. Ты в школе учился когда-нибудь?
— Пробовал.
— Дрессировка — это создание у животных условного рефлекса. Ты командуешь «шлепанцы», и обученная собака отвечает условным рефлексом — притаскивает тебе их. Она усвоила, что при слове «шлепанцы», произнесенном властно, как команда, она должна сломя голову мчаться к кровати, под которой валяются эти самые шлепанцы со стоптанными пятками, так остро пахнущие хозяином, взять их в зубы и принести. Для чего же тебе видеть мои тапки, а, Юрочка? Англичане в таких случаях говорят «донт пул май лег», что буквально значит «не тяни мою ногу», а нормально переводится — «не морочь голову». Так вот, Юрочка, похоже, ты пытаешься вытянуть из меня обе ноги.
Наверное, он прав, пронеслось у меня в голове. Тем более что я, в отличие от него, ни одной книжки о собаках не прочел. Может быть, я действительно каким-то образом вырабатывал у Путти условные рефлексы, не подозревая об этом? Но я — то знал, как я общаюсь с ней. Я-то знал, что, строго говоря, никаких слов нам вообще не нужно. Как я это делал? Как-то очень естественно. Я думал о том, что Путти должна сделать, и она это делала, если, конечно, не очень ленилась или капризничала, что, чего греха таить, с ней бывало. И я как-то понимал, что у нее сейчас в голове. Все эти мысли о дрессировке напомнили мне обучение роботов ходьбе, которое я как-то видел в Чебоксарском институте робототехники. Оказывается, ходьба — это такая сложная последовательность целого ряда движений, что я бы лично ходить никогда не смог научиться, если б пришлось делать это по науке.
— Ладно, не будем спорить, Игорь. Не будем схоластами. Тем более что эксперимент так прост. Покажи мне свои злополучные шлепанцы или хотя бы опиши, какого они цвета…
В этот момент я вдруг спохватился, что уже знал: тапки у него коричневые, кожаные, без пяток. Очевидно, это Рекс представил себе хозяйские шлепанцы. Все-таки он знал, что значит слово «шлепанцы», зря Игорь катил на пса бочку. Неслух он, это дело другое.
— Ладно, не надо, — сказал я Игорю. Тот повернулся и недоуменно уставился на меня.
Я почувствовал, что игра увлекает меня. Сейчас я еще больше округлю твои глаза, инженер. Я почему-то был уже уверен, что смогу договориться с овчаркой. Я посмотрел на Рекса и представил, как он несет в зубах шлепанцы. И у него в мозгу промелькнула та же картинка. Он гавкнул весело и коротко, бросился в дом и тут же появился со шлепанцами в зубах. Он замешкался, и я понял, что он не знает, кому их вручить — то ли хозяину, которому они принадлежат, то ли мне, человеку, велевшему ему принести их. Я представил фигуру Игоря, спроецировал ее в голову Рекса, и он начал радостно прыгать и мотать коричневыми кожаными тапками перед хозяином. Удивительно восторженный пес и при этом на редкость услужливый.
— Пожалуйста, — сказал я, — прекрасная у тебя собака, и умная, и исполнительная. По-моему, она заслуживает похвалы.
Игорь ничего не отвечал. Он молча жевал свои губы, и глаза у него были круглыми и напряженными.
— Игорь, вон там в траве, если не ошибаюсь, игрушечный космоплан, принадлежащий, надо думать, твоему сыну. Сейчас Рекс возьмет его и вручит тебе. Так, Рекс?
Я даже не пытался на этот раз специально проецировать в Рекса его действия. Пока я произносил фразу, я так или иначе воссоздавал в мозгу всю картину. На мгновение я усомнился, может быть, это мы только с Путти привыкли понимать друг друга с полуслова? Но Рекс уже пристально посмотрел на меня, и мне почудилось, что в его глазах промелькнуло удивление. В два прыжка очутился он возле игрушки, осторожно взял ее в свою огромную пасть и торжествующе принес Пряхину.
— Как ты сказал? — сдавленным голосом спросил Игорь.
— Что? — не понял я.
— Ты сказал: «игрушечный космоплан»?
— Как будто…
— Но ведь у нас дома никто никогда не называл эту игрушку космопланом. Ракета. Просто ракета.
— Ну и что?
— Как что? — оглушительно гаркнул Игорь, и Рекс с испуга залаял. — Неужели ты не понимаешь, что это значит?
— Не-ет, — неуверенно промямлил я.
— Боже правый. Я, кажется, не ошибся. Ты дебилен, Юрий Шухмин. Ты обладаешь, по-видимому, феноменальными способностями, но ум твой слаб и немощен. Впрочем, это бывает. Знаешь, есть такое выражение на французском «идио-саван»? Ученый идиот. Кретин, обладающий, например, способностью мгновенно и непонятным для себя и окружающих образом называть, на какой день недели приходится, допустим, пятое марта тысяча восемьсот семьдесят пятого года.
— Спасибо, — обиделся я.
— Не обижайся, Юрочка. Это я так, несу всякую околесицу, лишь бы только говорить что-нибудь.
— Но все-таки, из-за чего сыр-бор?
Экзальтированность Игоря и раздражала меня, и была мне приятна, и я чуточку кокетничал своей непонятливостью, и был я почему-то уже полон неясных предчувствий. Чудились мне какие-то перемены, горизонт плавно отодвигался, и мелькали передо мной вдали смутные видения: куда-то я ехал, ехал… И сердце замирало томительно и сладко.
— Рекс никогда не слышал слова «космоплан». И никакого условного рефлекса на это словцо выработаться у него не могло, если даже предположить, что жена тайно от меня натаскивала его на то, чтобы он приносил игрушку. Он просто не знает, что такое космоплан. И тем не менее ты сказал «космоплан», и он тут же принес его. Теперь-то ты понимаешь, что это значит? А значит это, товарищ Шухмин, что каким-то дьявольским способом ты внушаешь животному свои мысли. Не знаю уж, как это у тебя получается, знаю лишь, что получается! И это потрясающе! Может, кто-то где-то и умеет делать то же самое, но я слышу об этом первый раз, клянусь всеми гелиообогревателями, которые мы установили или установим! — Он вдруг остановился, испуганно замолчал, потом жалобно сказал: — А может, мне это все почудилось? А, Юрочка? Я ведь, в сущности, очень семейный человек. Может, это на меня так разлука с Таней и сыном действует? А? Может, это у меня гал-лю-ци-нации? А? — Он хитро и просительно посмотрел на меня. — Давай еще раз проверим. Хорошо? Ты можешь попросить Рекса пролаять три раза? Можешь?
Услышав свое имя, овчарка вопросительно посмотрела на хозяина. Она насторожила уши и наклонила голову набок.
Я вдруг почувствовал какой-то странный азарт. Восторг всемогущества холодил пальцы и посылал по позвоночнику щекочущий озноб.
Уже потом, заново вспоминая этот момент, я сравнивал его с ощущением, которое, наверное, испытывает цыпленок, вылезая из яйца. Я стряхивал с себя скорлупу. Я становился другим. Но это потом. А тогда, в непривычном восторге всевластия, я прокаркал хрипло и не узнал своего голоса:
— Это слишком просто, Игорек. Я покажу тебе что-то другое.
Я пылал и дрожал одновременно. Я никогда не испытывал ничего даже отдаленно похожего на такое состояние. Рядом с нами была песочница. Я бросился на колени и непослушными руками начал разравнивать кучку песка. Игорь молча смотрел на меня, открыв рот. Я и себе казался сумасшедшим. Уши мои пылали, сердце гулко колотилось. Песок был слегка влажным в глубине и отблескивал коричневато. Наконец я разгладил площадку и представил себе Рекса, проводящего мордой по песку.
Давай, послал я его, давай, собака, давай.
Мне казалось, что это не Рекс сам идет к песочнице, это я тащу его усилием воли. Давай, Рекс, давай! Так, теперь не торопись. Слушай внимательно, что я от тебя хочу, дорогая псина. Так, молодец. Ты правильно провел линию мордочкой. Веди еще, еще. Теперь рядом. Молодец, ты гениальный пес, Рекс, ты просто читаешь мои мысли! Давай, давай, еще буковку. Ты видишь ее в своем умишке, я же показываю тебе, как нужно осторожненько вести носом. Ничего, ничего, песок ты потом отряхнешь, ничего с тобой не станет. Ну, ты необыкновенен, Рекс. Я преклоняюсь перед тобой. Спасибо.
Не очень ровно и не очень красиво, а скорее даже криво, но вполне разборчиво на песке было выведено «РЕКС». Я почувствовал мгновенную усталость, и на глазах у меня почему-то набухли слезы. Было тихо, как при сотворении мира. Из соседнего дома доносился смех ребенка. С канала медленно приплыл низкий и хриплый гудок теплохода, наверное, он входил в шлюз.
Вот я только что сказал, «как при сотворении мира». Наверное, не случайно мне пришло в голову такое странное сравнение. Я действительно в этот момент творил новый для себя мир. Я вам уже говорил раньше о другом образе — цыпленок, выбирающийся из яйца. В сущности, это одно и то же. Цыпленок ведь, проклевывая скорлупу, разрушает один мир и создает для себя другой. И гудок, наверное, тоже не случайно врезался мне в память. Низкий, рыкающий, он тоже торжественно возвещал о сотворении мира. Моего мира. — Шухмин помолчал несколько секунд, улыбнулся застенчиво, и эта застенчивая, почти робкая улыбка удивительно мило гармонировала со словами «сотворение мира». — Разве я не жил до этой случайной встречи дома с бородатым инженером? Жил, конечно. Но как бы скованный. Спеленутый. Не только не знающий, как выползти из конверта, но даже не знающий, что он спеленут. Пусть в прозрачном, но яйце.
И мгновенное прозрение. Нет, не подумайте, что я в те секунды гордился своей властью и ясно видел свое будущее. Нет, ничего этого не было. Было лишь чувство освобождения от каких-то оков, и угадывались перемены. Они пугали и будоражили одновременно.
А пауза во дворе круглого гелиодомика Игоря Пряхина все росла, росла и вдруг взорвалась. В мгновение ока она сменилась криком моего хозяина, неистовым лаем Рекса, Они оба теребили меня: Игорь тискал, тряс, целовал, а овчарка лизала нас обоих.
— Юрочка, — застонал Пряхин, — сядь. И запомни этот день и этот час. Рядовой инженер Икшинского филиала объединения Гелиотехника Игорь Леонидович Пряхин открыл феномен Шухмина и вошел таким образом в историю. — Он вдруг нахмурился и подозрительно спросил: — Юрочка, а ты не жульничаешь? Ты не протянул какую-нибудь тонюсенькую ниточку в голову Рекса, а?
— Он обвел руками вокруг головы Рекса, и тот, воспользовавшись оказией, лизнул хозяина в нос. — Хм, да нет как будто.
— Игорь, — спросил я, — а может, это не такая редкая вещь, то, что я делаю? Может, это ты просто не слишком, умелый дрессировщик, и по контрасту с тобой…
— Деби-ил! — страстно застонал Игорь. — Боже, как несправедливо устроен наш старенький мир! Я, человек широко образованный, с быстрым, острым умом, настоящий сын двадцать первого века, не могу научить свою собаку — сво-ю! — принести какие-то паршивые шлепанцы с неряшливо стоптанными задниками, а темный и ограниченный монтажник гелиоприборов оказывается наделенным невероятным даром общения с меньшими братьями нашими!
— Темный и ограниченный? — спросил я, свирепо втянул воздух через нос и сжал кулаки. Конечно, я дурачился, но небольшое облачко раздражения все-таки клубилось у меня в голове.
— Прости, Юра, прости! — заорал Пряхин, и гудки на канале испуганно смолкли. — Я потерял голову! Я оскорбил феномена. Первый раз в жизни столкнулся с феноменом и не выдержал испытания, не смог совладать с гадкой завистью. — Он сделал вид, что хочет бухнуться на колени, и я с трудом удержал Пряхина на ногах. От попытки поднять его, наверное, стокилограммовое тело раздражение мое мгновенно улетучилось.
Мы присели, и Игорь как-то очень задушевно и серьезно сказал:
— Юрка, милый, не сердись на мои дурачества. Это от растерянности. От потрясения. От неожиданности. Жили рядом, работали вместе, а оказывается, мы оба не замечали чуда. Чуда с большой буквы, потому что то, что ты делаешь, — чудо!
— Не преувеличивай. В конце концов то, каким образом заставляют собаку принести тапки, вряд ли может потрясти мир.
— Не надо. Это не скромность. — Он внимательно посмотрел мне в глаза. — Это боязнь того, что тебя ожидает.
— А что меня ожидает? И почему ты так уверен, что меня вообще что-то ожидает?
Я задал этот вопрос Игорю Пряхину, но адресовал я его скорее сам себе. Перемены, перемены, они и манили меня, и страшили. Мир за пределами моего яйца, моих пеленок, был так велик, так прекрасно многообразен, так много путей и далей открывались моему мысленному взору, что становилось почему-то печально. До сих пор я не выбирал никаких дорог. Я вступал на те тропы, что случайно оказывались передо мной, брел по ним, следуя их поворотам, и не хотел думать, куда они приведут меня. Я шел по ним в странном оцепенении, как бы в полусне, и не хотел просыпаться. Я ждал. Я оттягивал решение. Теперь настало время перемен, время выбора. В разбитое яйцо обратно не влезешь, цыпленочек. Как бы уютно ты в нем себя не чувствовал.
Мне вдруг пришло в голову, что теперь можно было бы и задрать нос кверху. Не похож, исключителен, феномен. Сладость ощущения избранности. Взгляд сверху вниз на обычных смертных. Я — я пуп земли, я феномен. Я внутренне усмехнулся своим профилактическим прививкам против зазнайства. Чего не было, того не было.
— Не знаю. Не знаю, что именно, — быстро и жарко сказал Пряхин, — но что-то замечательное тебя ожидает. — От избытка уверенности он с силой дернул себя за бороду. — Тебя надо изучать. Ты, надеюсь, понимаешь, что это твой долг перед обществом? Представь, ты нашел клад. Имеешь ли ты право, даже не юридическое, а моральное, прятать его от общества? Отвечай!
— Нет, наверное.
— Наверное, наверное, — передразнил он меня. — Никаких «наверное». У меня есть приятель — биолог. Сейчас он, правда, работает в Киргизии, но я сегодня же свяжусь с ним, и он мне подскажет, с чего начать.
6
Я спал и вдруг сквозь сон почувствовал, что ногам стало легче и прохладнее. Я подумал, что это Путти, должно быть, спрыгнула с одеяла, и открыл глаза. В утренних косых лучах солнца, что пронизывали мое жилище, в комнате стоял Пряхин, а вокруг него мелким бесом крутилась Путти.
— Все готово, одевайся, едем. Бриться и умываться я тебе не дам.
— А что…
— Никаких что. Через два часа мы должны быть в Калужском университете.
— Не успеем.
— Успеем, — сказал Пряхин и выдернул меня из постели. Все-таки он был очень сильный человек. Выдернуть одним рывком из-под одеяла восемьдесят сонных килограммов… — Тебя одеть или ты уже сам умеешь это делать?
— Иди к черту, узурпатор. По какому праву ты командуешь мною, свободным, гражданином федерации Земля?
— Шевелись быстрее, гражданин. По моральному праву. Или ты забыл, что, моральный долг гражданина федерации — делать все, чтобы способствовать расширению знаний?
Самое смешное, что мы действительно не опоздали, и ровно через два часа, запыхавшись, вошли в длинное двухэтажное здание с надписью на фронтоне «Кафедра этологии». Навстречу шла девушка в зеленом халатике. На руках у нее сидела маленькая сморщенная обезьянка, доверчиво обнимая ее за шею своими стариковскими ручками. У девушки были длинные светлые волосы и голубые глаза. Она улыбнулась нам, и что-то ласково коснулось моего сердца, словно рыбешка ущипнула меня в теплой речке. Бросить все, повернуть обратно, догнать их и сказать: вы обе прекрасны, я не хочу, чтобы вы лишь промелькнули мимо, я люблю вас…
Увы, всерьез влюбляться было некогда, потому что Игорь уже втаскивал меня в большую светлую комнату. Послышалось шипение, я повернулся. Прямо на нас шел здоровенный серый гусь, грозно расправляя крылья. Глаза у него были, впрочем, не очень сердитые, а скорее любопытные.
— Спокойно, — раздался тонкий голос, и вслед за гусем в комнату вошел откуда-то сбоку крошечный человечек в крошечном халатике такого же нежно-зеленого цвета, что и на девушке с обезьянкой. — Спокойно, Гу, — сказал он гусю. Гусь сложил крылья, расслабился и оставил на полу доказательства хорошей работы желудка. — А вы, молодые люди…
— Вы профессор Азизбеков? — спросил Игорь.
— Я профессор Азизбеков, — охотно согласился гномик.
— Я звонил вам сегодня от Эуджена Тареску.
— Да, вы звонили мне сегодня утром от Эуджена Тареску, моего приятеля. Ну и что?
— Как что? Вы же любезно согласились, чтобы мы приехали к вам.
— Что вы говорите? Очень может быть, очень может быть. Я никогда никому ни в чем не отказываю. Значит, я согласился?
— Согласились, и мы специально прилетели в Калугу.
— И прекрасно сделали. Прекрасный город. Прекрасный университет. Прекрасный факультет. Прекрасная кафедра. Прекрасный гусь. Гусь, ты прекрасен!
Гусь натужно сказал «га», и профессор кивнул.
Пряхин был настолько крупнее этолога, что смотрел на него с непреходящим изумлением, как смотрит, наверное, сенбернар на болонку.
— Мы прилетели, чтобы…
— Помню, — прервал его профессор. — У меня прекрасная память. Мой друг Эдуард Тарасов…
— Эдуард Тарасов? — округлил глаза Игорь. — Я звонил вам от Женьки. Я хочу сказать, от Эуджена Тареску.
— И прекрасно. В сущности, разница невелика, вы заметили, что у обоих инициалы совпадают? Э и Т. И оба мои друзья. — Он нахмурился, потер свой лобик крошечной ручкой в коричневых пятнышках пигмента. — Простите меня, я, знаете, бываю несколько несобран… Задумался. До сих пор не могу понять, как использовать вчерашние опыты… Простите, еще раз простите. Я весь внимание. Так вы… Если могу быть полезен?
— Мой друг Юрий Шухмин понимает язык животных, — нервно сказал Пряхин и облизнул губы.
— Угу, понимаю, — пискнул профессор. — И где ваш друг?
— Вот он, — Игорь слегка подтолкнул меня в спину, и я невольно сделал шаг вперед. Гусь коротко и зло шипанул. Очевидно, он был ревнив.
— А язык людей он тоже понимает? — спросил профессор Игоря.
Я начал думать, как поостроумнее ответить гному, но Игорь успел ответить первым:
— Понимает.
— Прекрасно. — Он повернулся ко мне. — Вас зовут?
Не знаю, уж какой бес дернул меня за язык, но я очень вежливо поклонился и элегантно отчеканил:
— Эуджен Тареску, к вашим услугам.
Игорь от неожиданности раскрыл рот, а профессор нахмурился, недовольно повел плечиком.
— Ничего не понимаю. Вы Эуджен Тареску? Но Эуджен Тареску…
— Строго говоря, нет. Я Эдуард Тарасов.
— Вы что, издеваетесь надо мной? — шипанул уже не гусь, а профессор.
Я уже не мог сдержать раздражение, да и не хотел. Мы ничем не обидели карлика, мы были приветливы и почтительны, и если он решил поиздеваться над нами, ответим ему тем же.
— Боже упаси, я просто старался следовать стилю, в котором вы беседовали с нами.
— Гм, гм, однако! И вы считаете, это остроумно?
— Не очень, но по крайней мере я привлек ваше внимание. Вы злитесь, вы сосредоточены, все ваше внимание сконцентрировано на человеке, стоящем перед вами.
— Гм, гм, довольно необычный способ. Но что-то в нем есть. Надо запомнить. Так вы… э…
— Я… э… Азизбеков. — Я, конечно, понимал, что веду себя некрасиво, что непристойно так разговаривать с человеком старше меня раза в четыре, но ничего не мог поделать с собой. — Извините, профессор, но вы прекрасно знаете, что меня зовут Юрий Шухмин. Ведь знали?
— Если честно, да. Однако… Гм… Давненько не встречал такого… Нахала. Не очень обидитесь?
— Нет.
— Тем лучше. А то мне ведь, с вашего разрешения, сто четвертый годок пошел. Кое-что видел, ви-идел… Итак, вы утверждаете, что понимаете язык животных?
— Нет, я так не утверждаю. Я лишь знаю, что понимаю двух собак: пуделя и овчарку.
— А других животных? — спросил профессор.
— Не пробовал.
— Ага, не пробовал. Ну хорошо, перед вами гусь, обыкновенный серый гусь. Один из излюбленных объектов этологов еще со времен Конрада Лоренца. Вы часом не знаете, о чем Гу сейчас думает?
Назойливый сарказм профессора уже изрядно надоел мне, но я сдержался. Я нисколько не волновался. Меня не волновал приговор столетнего этолога, что бы он ни сказал. Я посмотрел на гуся. Голова его напомнила мне маленькое тесное помещение, что-то вроде чуланчика, в котором помещалось всего две мысли-образа: кормушка с зерном и два гуся, отталкивающих друга друга от этой кормушки.
— О еде. Кроме того, он представляет, как отталкивает от кормушки другого гуся.
— Да, конечно, — вздохнул профессор, — это и есть язык животных. Блестяще.
— Да, но…
— Но посудите сами, как вы можете понимать язык животных? Вы его знаете? Вы его изучали? Я двенадцать лет занимаюсь серыми гусями, я стою на плечах гигантов — моих предшественников, и я не могу сказать, что я полностью понимаю их язык. Вы кто по профессии?
— Сейчас я работаю монтажником гелиообогревателей.
— И прекрасно! — радостно просиял профессор. — Это, надо думать, достойнейшее дело. Вы, надо думать, его изучили и его знаете. И ваши приборы работают прекрасно, и в ваших домах зимой тепло, а летом прохладно. Но язык животных… Если бы вы знали, сколько раз за мою долгую жизнь бесконечные владельцы бесконечных тузиков и мурок уверяли меня, что их четвероногие питомцы необыкновенно умны и умеют разговаривать. Увы…
— Спасибо, профессор, — сказал я, — прошу прощения за то, что отнял у вас время. — Меня абсолютно не волновало, что говорил этот гномик.
— Профессор! — взмолился Пряхин. — Юрочка! Как же так? Я же сам, своими глазами…
— Не надо, Игорек, не унижайся. Сейчас Гу взмахнет три раза крыльями, и профессор Азизбеков будет долго истолковывать, что это значит на языке серых гусей и путать Эуджена с Эдуардом.
Я трижды мысленно раскрыл крылья гуся, и он нехотя воплотил мою команду в действие. Серо-белая гамма внутренней поверхности крыльев была благородной. Несколько светлых маленьких перышков выпали от резкого движения, поднялись вверх от взмахов и плавно осели на пол. Одно прилипло к гусиным экскрементам.
— Не-ет, чу-ушь! — зло пискнул старец. Голос его был так высок, что мне показалось, будто где-то отозвалось звоном стекло. — Не может этого быть! Не мо-жет! Элементарная случайность.
— Мо-жет! — в тон ему ответил я. — Мо-жет! Еще как мо-жет! Сейчас он скажет «га» два раза, а это почти что «да, да», - мне стало весело. Вернулось пьянящее чувство всесилия. Я мысленно промычал «га», одновременно представляя, как гусь вытягивает шею и повторяет за мной крик.
— Га! — сипло выдавил из себя гусь, раз и другой.
— И все-таки нет! И еще раз нет! Потому что этого не может быть.
— Но это же было! — плаксивым голосом взмолился Пряхин. — Вы же сами видели.
Ах, хотелось, хотелось инженеру Игорю Пряхину вползти в историю естествознания первооткрывателем феномена Шухмина. Промелькнула у меня в голове эта юркая мыслишка, но я все же успел наступить ей на хвост в последнее мгновение. Стой, феномен. Почему думать о людях плохо тебе легче, чем думать хорошо? Не потому ли, что ты невольно подгоняешь их под себя и стремишься навязать им какой-то дрянной общий знаменатель? Нет, Игорь Пряхин сражается за тебя, выполняет моральный долг гражданина расширять знания. Прости, Игорек.
— Видел, не видел, все это, молодые люди, не имеет никакого значения, — твердо сказал профессор, и мне показалось, что он даже стал выше ростом. — Я знаю, что это невозможно. Я знаю, что телепатии не существует, что никаких приказов отдавать мысленно ни животным, ни людям нельзя. Разговоры, переговоры, слухи. Кто-то о ком-то слышал. Кто-то слышал о ком-то, который якобы видел кого-то… Нет, нет и нет. Наука только тогда наука, когда оперирует проверяемыми и повторяемыми фактами, а не слухами. И от того, что слухи эти повторяются сотни лет, фактами они не становятся. Вступить в мысленный контакт с животным нельзя. Нель-зя! Это чушь, нон-сенс!
— Но… — начал было Пряхин, но профессор уже оправился от шока и твердо стоял на крошечных своих ножках:
— Никаких «но»! Если при мне показывают карточные фокусы — прибавляют, допустим, две карты к двум и демонстрируют пять карт, это не значит, что я тут же должен торжественно признать таблицу умножения ошибочной…
Я понимал, что это детство, рецидивы скелета, прислоненного к дверям учительской в Кустодиевке, но ничего не мог с собой поделать. Старые бесы выползли из каких-то темных подвалов моей душонки и решили поразмяться. Я напрягся, овладел вниманием гуся, заставил его подойти сзади к профессору и слегка клюнуть в мягкое место, если его сухонькую столетнюю задницу можно было назвать мягким местом.
— Что такое? — обернулся ученый. — Гу, пошел!
— Ах, профессор, жаль, что вы не дали гусю клюнуть вас пять раз, как я просил его.
— Пять? — опешил Азизбеков. — Почему пять?
— В знак того, что карт все-таки пять, хоть вы и уверены, что их всего четыре. И не надо ссылаться на таблицу умножения. Дважды два может быть четыре, а карт может быть пять. Спасибо за беседу, всего хорошего.
Пряхин догнал меня только в коридоре и молча шагал рядом. На улице он вздохнул:
— Да, старчик — кремень. И все же…
— Все, Игорек, никаких «но» и «все же». Моральный долг, считай, я уже выполнил и больше отнимать у ученых кошелек не буду.
— Кошелек? Какой кошелек?
— Вот видишь, даже кратковременное общение с ученым мужем уже нарушило твою сообразительность. Наверное, не все ученые похожи на нашего гномика, но, боже, как же они держатся за свои таблицы умножения! И покушаться на их аксиомы — все равно что пытаться вырвать из рук кошелек. Ка-ра-ул! Гра-а-а-бят!
— Красноречив ты стал, братец. Раненое самолюбие в тебе витийствует. Так что, вернешься в Икшу и снова на чердаки?
— А почему бы и нет? Или статус подопытной крысы славнее нашей работы? Спорить с упрямыми учеными мужами, подозревающими тебя в мелком жульничестве, куда менее увлекательное дело, чем устанавливать солнечные батареи. — Я чувствовал, что зол и раздражен. Старичок вцепился в таблицу умножения и удержал-таки ее в руках, а у меня сердце сжималось. Я чувствовал себя ограбленным. Да, конечно, гелиотехник — вполне уважаемая специальность, но… У меня отняли веселое озорство и шальной ветер перемен. Меня заталкивали обратно в мою привычную скорлупу, и — что самое было дрянное — я покорно лез в нее сам. Где-то я читал, что есть металлические сплавы, которые как бы помнят свою форму. Изогнутый каким-то образом стержень, например, можно разогнуть, а потом подогреть — и он снова изогнется, как раньше. Похоже, моя душа также привычно согнулась и сжалась от первого же щелчка по носу. Даже если у души и нет носа.
— Юра, мальчик мой, сколько мы проработали вместе? Года полтора, наверное. И оставались всего лишь сослуживцами, не более. За эти сутки ты стал мне очень близким, и я не позволю тебе сдаваться так бездарно и покорно…
А сам я хотел сдаться? Конечно, стержень норовил принять привычную форму, но жаль, жаль было расставаться с неясными мечтами. А что в них неясного, — зло спросил я себя. Ну хорошо, не эта лаборатория, другая. Не этот ученый, пусть другой. Еще раз проверим, товарищ Шухмин. Попробуем экранировать вас от гуся. А теперь попробуйте заставить яка протанцевать польку.
Для чего? Быть все время подопытным кроликом? Лабораторным инвентарем? Чтобы на меня инвентарный номерок повесили?
Конечно, если бы я сам был ученым… А что, поступить в университет — глядишь, лет через десять и стал бы доктором Шухминым. Господи, я и школу-то кончил с превеликим трудом, и в глазах учителей читал в основном брезгливость. Химия, физика… Неплохо бы до университета еще раз в школу поступить. Знаменитым стал бы побыстрее, чем со звериной телепатией, самый старый первоклассник планеты. Поздно, Юрочка, спохватился. Это только утешители вбивают в голову, что, мол, никогда не поздно. Бывает, что поздно.
Нет, внезапно решил я, не буду я лабораторным инвентарем. Не хочу. Не желаю. Пусть старик Азизбеков гогочет надо мной вместе со своим поносным гусем, если им это так приятно. Конечно, то распоряжалась во мне старая гордыня. Если не овации феномену и туш духового оркестра, то уж лучше не надо никак. Обойдемся. Жил я и без телепатии тихо-спокойно, и сейчас проживу.
Но где-то в самых потаенных уголочках мозга я знал, что и икшинскими чердаками я уже удовлетвориться не смогу. Ах, перевернул все во мне бородатый Игорек. Как жить, что делать…
Мы подлетали уже к Москве, когда Пряхин вдруг повернулся ко мне:
— Юра, цирк! Только ничего не говори сразу.
Цирк. Я выхожу на арену в роскошном золотом, нет, лучше, пожалуй, серебристом костюме. Рядом, вежливо раскланиваясь, идет Путти. С серебристым же бантом… Бра-аво! Ну, выйдете же еще раз, Юрий, сами видите, как публика неистовствует. Меня полюбит акробатка со стройными сильными ногами и смеющимися зелеными глазами. Товарищ Шухмин, вас приглашают на гастроли в Австралию. Боюсь, не смогу, я обещал выступить в этом месяце в Бразилии. И брата будут все спрашивать: скажите, этот необыкновенный артист Шухмин случайно не ваш родственник? Случайно да, радостно и гордо улыбнется брат. Младший брат мой. Знаете, он еще в детстве был необыкновенным ребенком. Представляете, таблицу умножения только к годам двенадцати осилил. И мама будет таскать на мои представления всех своих знакомых и друзей и всем будет говорить, что не успел я родиться, а она уже твердо знала, что дитя феномен.
Смешно. А почему, собственно? Почему это должно быть смешно? А потому что ты же не артист. Ты стеснительная рохля. Ты сначала замочишь от страха свои серебристые штаны, пока выйдешь на манеж, и дети будут весело смеяться и хлопать в ладоши. Клоун, какой прекрасный клоун, мама, он сделал пи-пи в штанишки. Ну а почему бы и не попробовать? Может, в волнующих клочьях тумана, что проносились за окном, как раз и скрывалось что-то вроде цирка?
А возьмут? Ну если придумать хороший номер, отрепетировать его с Путти как следует… Ну не возьмут — значит, не возьмут. Чем я рискую?
Откуда у меня вообще этот прошловековый консерватизм, этот средневековый страх перед переменой профессии? Сколько людей вокруг легко и даже весело круто меняют жизнь. Такие виражи закладывают. Строитель вдруг идет работать братом милосердия в больницу, повинуясь каким-то душевным потребностям, администратор становится аквапастухом и пасет в теплых морях рыбьи стада, инженер превращается в чеканщика по меди, а артист учится обслуживать домашних роботов. И никто не ахает, не всплескивает руками, это естественно и давно стало нормой, а я судорожно вцепился в свое монтажное дело и панически боюсь разжать руки, словно вишу над пропастью. Почему?
Цирк я любил всегда. И когда ребенком попадал на представления, сразу же начинал огорчаться, что оно такое короткое. Удивительное дело, вдруг подумал я, меньше всего мне нравились номера с животными. Не знаю почему, но вид медведей в сарафанах, с мученическим видом катавшихся на велосипедах, или собачек, покорно бродивших по арене на передних лапках, вызывал у меня всегда какую-то неловкость. Люди — это другое дело. И акробаты, и эквилибристы, и жонглеры — все они приводили меня в восторг, все казались существами необыкновенными.
Гм, а почему бы и действительно не попробовать?
7
Ровно через неделю я подходил с Путти к Хорошевскому цирку в Москве. С огромных ярких щитов у входа на меня летела, распластав руки, красавица с загадочными удлиненными глазами, в воздухе висели жонглеры, пять медведей стояли друг на друге.
Боже, куда я иду с бедной маленькой Путти? Зачем? Но отступать было поздно. Почему поздно, вот, пожалуйста, и вход закрыт. Прекрасный повод вернуться домой с чистой совестью. Конечно, закрыт. Три часа дня. Тебе нужен служебный вход, тупица!
В цирке было сумрачно, остро пахло конюшней. Запах был древний и волнующий.
— Простите, — спросил я какого-то человека с чемоданчиком. — Где у вас директор?
Человек остановился, посмотрел на меня, на пуделька у моей ноги, хмыкнул понимающе и показал пальцем вверх:
— Второй этаж, направо.
— Вы к директору? — спросила меня совсем юная особа, отрывая пальцы от клавиатуры компьютера. — К сожалению, Франческо будет только через час. Вы подождете?
— Да, спасибо. А вы… — пробормотал я, — вы заняты? — Я понимал, что несу чушь, но меня била крупная дрожь, и я уже не понимал, что делаю. Путти посмотрела на меня с брезгливым состраданием.
— В каком смысле? — улыбнулась секретарша. У нее были такие же удлиненные и загадочные глаза, как у летящей женщины на рекламном щите у входа.
— Э… я… — Я хотел было рассмеяться, но вместо смеха из груди моей вырвалось хриплое кудахтанье, и в удлиненных, загадочных глазах запрыгали веселые искорки. — Несколько минут у вас свободных найдется? — наконец с трудом, как полузасохшую пасту из тюбика, выдавил я из себя.
— Ну конечно же.
— Будьте добры, напишите на клочке бумаги какое-нибудь задание для моей Путти. Путти — это…
— Я догадываюсь.
— Прошу вас, — еще раз попросил я дрожащим голосом.
— С удовольствием, — сказала девушка и написала несколько слов на листке бумаги. — Вот…
Я взял листок и прочел: «Протянуть мне лапку».
— Это слишком просто. Добавьте, пожалуйста.
Девушка наморщила лобик от напряжения и дописала: «Пролаять три раза».
— Хорошо, — сказал я. — Вы знаете задание, я знаю задание, а Путти? Я ведь записку вслух не читал, так?
— Так.
— Значит, она не знает?
— Нет.
— Ну, собачка, давай, покажем этой прелестной девушке, что она ошибается.
Не подведи, Путтенька, попросил я ее мысленно и передал ей приказ. Она, бедняжка, тоже чувствовала, что происходит что-то важное, и нервничала. Видеообразы метались в ее головке, и я с трудом замедлил их вращение. Ну, давай. Что значит привычное дело, я сразу почувствовал, как моя собака успокоилась и сосредоточилась.
Она подскочила к девушке, протянула ей лапку и вежливо, виляя хвостом от старания, тявкнула три раза.
— Ой, — сказала девушка, — все точно. Потрясающе. А еще раз можно?
— Конечно. Только что-нибудь еще сложнее. Хорошо?
— Постараюсь.
Мне вдруг стало весело и светло на душе. Чудная девушка. Мне захотелось самому подскочить к ней, лизнуть руку и пролаять три раза.
Она снова наморщила лобик и выставила кончик маленького розового язычка от старания.
— Вот, — протянула она листок.
На листке было написано: «Взять сумочку со стула и положить на диван».
— Путти, ангел мой, — сказал я уже почти игривым голосом, — за работу.
«Теперь ты хороший, — подумала Путти. — Теперь хорошо». То есть подумала она, конечно, не словами, а образами, и образы вызывали у нее определенные эмоции, но я уже давно привык переводить их на человеческий язык, это происходило как бы само по себе.
Путти осторожненько взяла сумочку зубами за самый уголок и так же деликатно положила на диван.
— Молодчина, — улыбнулась девушка. — Можно тебя погладить?
— Это вы мне или Путти? — спросил я, и девушка совсем по-ребячьи прыснула.
— Вы оба молодцы. А…
— Мы хотим работать в цирке. Путти сама меня привела сюда.
— Прекрасно! Хотите, мы будем в одной труппе?
— В одной труппе? — глупо переспросил я и посмотрел на компьютер.
Девушка поняла и улыбнулась.
— Я артистка. Я работаю с мамой. Может, вы видели у входа? Руфина Черутти — это мама. А я Ивонна Черутти. Воздушный полет.
— Юрий Шухмин.
— Очень приятно.
— Я сразу подумал, что ваши глаза очень похожи на глаза вашей мамы. То есть, я хочу сказать, я, конечно, еще не знал, что она ваша мама. Но Ивонна… Почему вы так уверены, что меня возьмут в цирк?
— Ну, во-первых, у вас прекрасный номер. Назовем его «Феноменальные психологические опыты с животными». Нравится?
— Очень! — пылко сказал я.
— А во-вторых, я уверена, что папе тоже понравится.
— Папе? Он у вас…
— Папа скоро уже придет.
— Куда?
— Папа директор этого цирка, а я ему помогаю, когда есть возможность. Вы себе не представляете, сколько дел у директора, от отправки и получения реквизита до шитья костюмов. Хорошо еще, что мы новым компьютером обзавелись. Он и рационы животным составляет, и расписание репетиций, и билеты заказывает при гастролях, гостиницы. Такой милый… А вот и отец.
В комнату вошел черноволосый и черноглазый человек, посмотрел на меня, кивнул:
— Здравствуйте, вы ко мне?
— Папа, это Юрий Шухмин, у него потрясающий номер. Он мысленно передает приказы, своему пуделю, представляешь?
— Ну и что пудель? — хмыкнул директор.
— Как что? Выполняет их.
— Прекрасно. Если бы только все наши сотрудники следовали его примеру.
— Это она, Путти, — поправила Ивонна.
— Отлично. Ее примеру. И как же вы это делаете?
— Что? — глупо спросил я.
— Как вы заставляете ее работать?
— То есть что значит заставляю? А как вы заставляете своих сотрудников выполнять ваши указания? Просьба, приказ, принуждение.
— Гм, я не о том, молодой человек. Как вы дрессируете? Вы с новейшими работами в этой области знакомы? Теперь ведь возможно ускоренное образование у животных условных рефлексов. Тут и добавление в корм определенных веществ, тут и воздействие на мозг облучением…
— Простите, — сказал я. — Я никогда еще никого не дрессировал, даже самого себя. Я просто прошу собаку сделать что-то, и, поскольку она меня любит, чаще всего она охотно выполняет просьбу.
— Правда, папа, Путти прекрасно работает. Так легко, без единой ошибочки…
— Гм… Хорошо, не будем употреблять слово «дрессировка», но в сущности…
— Дело в том, товарищ директор, что просьба моя может быть облечена в слова, а может и быть мысленной.
— Телепатия? — слегка улыбнулся директор.
— Не знаю. — Господи, опять они за свое. — И почему это у людей такая страсть к классификации? Телепатия, не телепатия, аллопатия, гомеопатия, какое это имеет значение? Это же цирк, а не лаборатория.
— И то верно, еще какой цирк, — вздохнул директор. — Не будем схоластами. Что умеет делать ваша необыкновенная собачка?
— Ну что, что собака вообще может делать? Работать на компьютере она, конечно, не сможет, хотя бы потому, что лапа у нее будет нажимать сразу на несколько клавишей.
— Экий вы обидчивый, молодой человек. Боюсь, с вашим характером вам будет нелегко в цирке. Загрызут вас, за милую душу. И не хищники, хищники у нас кроткие. Чего не скажешь о людях.
— Папа, что вы все пикируетесь. Пусть Путти лучше что-нибудь сделает.
— И то верно. Ну-с…
— Ты можешь записать задание на листке и показать Юре.
Директор наклонился над столом, быстро нацарапал несколько слов на листке бумаги и протянул мне. «Лечь на спину». Только и всего. Путти смотрела на меня смеющимися глазами. Это была ее любимая поза, а когда я почесывал ее нежный розовый живот, она излучала чистое блаженство. Это была нирвана. Она громко вздохнула, как иногда делают люди и животные перед чем-то очень приятным, и перевернулась на спину.
— Браво, — сказал Франческо Черутти. — Отлично. Поздравляю! Ивонна, доченька, поговори с нашим новым артистом, введи его данные в свою машинку, поговори с костюмерной, посмотри репетиционное расписание, ну, в общем, ты все сама знаешь, а я побегу, сейчас приедут врачи, будут решать, что делать с Бобом. До свидания.
Директор умчался, а я стоял и почему-то думал, кто такой Боб и что с ним случилось. Все произошло слишком стремительно, и мои неповоротливые эмоции не успели еще должным образом отозваться на очередной кульбит в моей жизни. Ну, эмоции, шевелитесь, возрадуйтесь, черт возьми! Вы же теперь принадлежите не кому-нибудь, а артисту цирка. Но эмоции не торопились впадать в восторг, на душе было как-то смутно, в животе образовался вакуум, холодил нутро неопределенным страхом. На мгновение я замер: я вдруг ясно понял, что ни за какие блага в мире не смогу выйти на манеж. Даже на четвереньках не смогу я выползти на залитый светом прожекторов круг, под перекрестный и кинжальный обстрел сотен и тысяч глаз. Боже, каждое мое движение, весь я сам буду выглядеть глупо и неловко. Мешок картошки держался бы на манеже увереннее и выглядел бы элегантнее. Нет, это было невозможно. Я должен сказать об этом девушке. Зачем морочить ей голову, она была так приветлива…
Но тут меня позвала Ивонна, и я начал отвечать на ее вопросы, глядя, как ее пальцы ловко бегают по клавишам компьютера…
Шухмин слегка усмехнулся и посмотрел на меня.
— Вот так, Николай, я стал артистом цирка. Раз, два — не успел очухаться, как жизнь моя полностью переменилась. На манеж я вышел, штаны не замочил, хотя нервничал, да что нервничал, обмирал. Спасибо Ивонне. — Его лице помягчело, просветлело. — Без нее я бы никогда не смог прижиться в цирке. Это ведь, Коля, совершенно особый мир. Удивительный мир. И знаете, что в нем самое удивительное? То, что цирк почти не меняется. Пробовали, пробовали не раз использовать в цирке новейшие достижения науки и техники, но всегда безуспешно. Человек, например, привык к чудесам микроэлектроники, они никого давно уже не потрясают. Если я, допустим, захочу сейчас поговорить с матерью, я просто наберу ее код, и, где бы она ни была — в Москве ли, в Маниле, где она преподает в Академии зодчества, часы на ее руке пискнут, и она услышит мой голос. Это ли не чудо? А мы сердимся, если на вызов уходит не пять, а десять секунд. Нет, Коля, цирк силен не наукой и не техникой, а совсем другими чудесами. Есть такой артист, может, вы его видели, он сохраняет на месте равновесие на моноцикле — это одноколесный велосипед — и при этом забрасывает себе на голову с десяток чашек и блюдечек — чашечка-блюдечко, чашечка-блюдечко. Потом ложечку. И при этом еще периодически делает вид, что вот-вот упадет. Потрясающий номер. Но самое интересное, что с таким же номером выступал отец этого артиста. И дед. А может быть, и прадед, Люди никогда не устают восхищаться ловкостью, силой, бесстрашием себе подобных. И удивляться. Ты отдаешь приказ домашнему компьютеру сделать то-то и то-то. Он и робота заставит приготовить обед, и квартиру они вместе уберут, и узнает, когда отлетает грузовая ракета на Марс, чтобы отправить баночку собственноручно замаринованных грибков сыну — обычное дело. Но вот выходит на манеж собачка и делает то, что велят ей делать зрители, — и все аплодируют, потому что люди не изменились, и собаки не изменились, и осознают, что собаки не могут найти седьмой ряд, двенадцатое место и лизнуть девочку с красным бантом в правое ухо.
И все содрогаются, когда Ивонна с матерью несутся под куполом, потому что каждый представляет, как страшно, когда под тобой пятнадцатиметровая пропасть. Нет, они не представляют, каким далеким кажется манеж с этой высоты, они никогда не были под куполом цирка. Но они знают, что у многих кружится голова, когда нужно встать на стул, чтобы сменить электролампочку. Зрители… Я каждый раз стою внизу и обмираю от ужаса и гордости за них, когда эти две женщины буквально парят в воздухе.
Ну, появился у меня еще один пудель. Вот она — Чапа. Успокойся, успокойся, дурочка. Три кошки, и стал я главой, таким образом, большого семейства…
— А Ивонна? — спросил я.
Шухмин вздохнул:
— Это сразу и не объяснишь. В тот самый момент, когда я почувствовал, что влюбляюсь в нее отчаянно, она сказала, что… В общем, это долгая история. Любовь под куполом цирка или возможна ли счастливая семья, когда один посвятил себя собакам и кошкам, а другой полетам в воздухе.
Мы все еще находились на стадии обсуждения этого вопроса, когда в один прекрасный день часы, на моей руке вдруг громко запищали. И было это в тот самый момент, когда я громко выговаривал Чапе и Тигру. Тигр — это мой полосатый, кот. И полосы у него тигриные, и характер тигриный, Дерутся они бесконечно, но, к счастью, не очень свирепо. Выступали мы тогда в Сосновоборске.
— Ладно, — говорю, — валите отсюда, звери, надоели вы со своими конфликтами. Хуже животных. — Снимаю часы, нажимаю на «связь» и отвечаю: — Шухмин слушает.
— Наконец-то, здравствуйте, товарищ Шухмин, — говорит кто-то по-русски с изрядным акцентом. — О вами говорит профессор Танихата из Космического Совета.
— Очень приятно, — отвечаю, а сам прикидываю, кто именно меня разыгрывает, потому что, как вы понимаете, никаких особых дел у рядового артиста цирка со Всемирным Космическим Советом, который решает вопросы путешествий, исследований и контактов в космосе, нет.
— Товарищ Шухмин, прежде чем обратиться к вам с просьбой, позвольте спросить вас: вы действительно понимаете язык животных?
Теперь я уже точно знал, что кто-то меня разыгрывает. Космический Совет — одно из самых уважаемых учреждений во Всемирной федерации. Они, конечно, сгорают от нетерпения узнать, как я работаю. Я решил, что это Жюль Чивадзе, знакомый клоун. Поразительный имитатор, и вообще я уверен, что из него вышел, бы прекрасный драматический актер. И розыгрыши у него какие-то милые, симпатичные.
— А как же, дорогой Жюль, а как же, — прыснул я. — Вы же…
— Простите, товарищ Шухмин, — обиженно произнес Жюль, потому что я теперь был уже уверен, это именно он. И говорил он с еще большим акцентом, — меня зовут не Жюль, а Кэндзи. Профессор Кэндзи Танихата, сейчас я очередной председатель Совета.
Он произнес имя «Жюль» как «Жюрь». Да, Жюль очень приятный человек, но в этот момент у меня было острое желание послать Жюля подальше, потому что Тигр опять начал шипеть и выпускать коготки, а Чапа соответственно лаять.
— Ну ладно, что ты хочешь, старина? — спросил я.
— Гм… — произнес мой собеседник, — признаюсь, я не рассчитывал, что у нас сразу возникнут такие… закадычные отношения. Ну что ж, старина — так старина.
Это уже не было похоже на Жюля. У него розыгрыши продолжаются максимум десять секунд. Через десять секунд он сам начинает смеяться.
— Значит, вы не Жюль? — неуверенно спросил я.
— Я вам могу еще раз представиться: профессор Кэндзи Танихата, очередной председатель Космического Совета.
Не знаю, что именно убедило меня — интонации ли голоса, какое-то благородство, но я уже готов был поверить собеседнику.
— Простите, — пробормотал я. — Я сразу… так неожиданно… и потом…
— Понимаю, товарищ Шухмин, я бы на вашем месте тоже решил, что это шутка. И тем не менее я не шучу. Мои коллеги и я очень хотели бы знать, действительно ли вы обладаете способностью понимать язык животных. Правда ли это?
— Да, как будто что-то в этом роде у меня получается.
— Отлично, отлично, — оживился мой собеседник. Он произносил слово «отлично» как «отрично». — Собственно, я не сомневался в этом. Член Совета доктор Иващенко очень живо рассказывал нам об одном вашем выступлении.
— Да, но…
— Прошу прощения. Сейчас я все объясню. Совет как раз ищет человека, наделенного таким даром, и мы бы мечтали познакомиться с вами и объяснить, что к чему. Причем все это не терпит отлагательства. Скажите, товарищ Шухмин, как вам было бы удобнее — чтобы мы прилетели к вам или вы предпочтете слетать в Париж, сейчас Совет заседает в Париже.
Бедная моя голова шла кругом. Она уже давно начала вращаться вокруг своей оси, с того самого момента, когда бородатый Пряхин ворвался в мой тихий мирок и взорвал его покой. Ускорила вращение и Ивонна, окончательно вскружив мне голову. А теперь тысячах в пяти километрах от меня председатель Космического Совета ждал моего разрешения прилететь ко мне. А Тигр и Чапа продолжали банально ссориться, и я показал им кулак.
Ах, слаб, слаб человек, и даже в звездные свои минуты трудно бывает выскочить из привычной наезженной колеи. Конечно, я должен был немедленно лететь в Париж. Космический Совет — шутка ли. С другой стороны, так хотелось, чтобы Ивонна увидела, кто ко мне пожаловал. Чтобы ее загадочные глаза вылезли бы на ее очаровательный лобик от изумления.
— Если бы вы… конечно, я понимаю…
— Сегодня же вечером, с вашего разрешения, мы будем у вас, — сказал мой собеседник. — Пожалуй, так даже лучше. Ваши животные будут работать в привычной обстановке. До вечера, товарищ Шухмин.
8
— Я стоял, раскрыв рот, как деревенский идиот, и смотрел на замолкшие часы, — продолжал свой рассказ Шухмин. — Невероятность происшедшего никак не укладывалась в сознание. Наоборот, с каждой минутой оно казалось все менее реальным. Голос профессора еще звучал в моих ушах, но становился все менее реальным, таял под напором недоумения. Сомнений. Скепсиса. Этого же просто не могло быть. Председатель Кос-ми-чес-ко-го Со-ве-та. Мне. В Сосновоборск. Юрию Шухмину. «Отрично». «Сегодня же прилетим к вам». Чушь. Хотя бы потому, что этого не, могло быть. Но я пока что еще ни разу не страдал от галлюцинаций. От приступов глупости — да. Нерешительности — еще как. Внутренней душевной неприбранности — почти постоянно. Но галлюцинаций не было.
Боже, как я глуп! Я буквально перелетел через комнату, кинулся к своему портативному компьютеру, дрожащей рукой нажал на клавиши и завизжал:
— Космический Совет, где он сейчас заседает и кто председатель?
— Космический Совет заседает сейчас в Париже, — через несколько секунд ответил компьютер. — Председатель — профессор Кэндзи Танихата.
— Спасибо, ящичек, — сказал с чувством и погладил серебристый бочок моего «Эппла».
Может быть, я никогда не совершу полет с Ивонной под куполом цирка, но я влетел в ее номер.
— Юрка! — испуганно пискнула Ивонна, уронив от неожиданности свой золотой цирковой костюм, который она держала на коленях. — Что с тобой? Ты болен?
— Болезнь еще не основание, чтобы врываться к дамам без стука, — назидательным тоном заметила ее мама, стоявшая в этот момент на голове. При этом она сделала неодобрительный жест ногой. — Ивонна, припомнишь еще матушку, он сделает тебя несчастной.
— Руфина, — с достоинством сказал я, — я никогда не спорю с женщинами, стоящими на голове. Они в таком положении не понимают, где верх и где низ. Но я пришел не для того, чтобы спорить.
— Мама, он пришел сделать мне очередное предложение, — гордо сказала Ивонна. — По моим подсчетам, тридцать шестое.
— Держись, дитя, хотя бы до пятидесятого. Главное — девичья гордость.
— Милые дамы, — торжественно сказал я. — Не надо спорить. Я действительно пришел просить вас, но не руки Ивонны. Я пришел просить о помощи.
— Что-нибудь с животными? — быстро спросила Ивонна.
— Нет. Сегодня вечером у меня будут гости, и мне нужно как-то принять их.
— Ха, — сказала Руфина, потеряла равновесие и упала на пол, — он еще не женился на тебе, а уже норовит эксплуатировать нас.
— Я говорю совершенно серьезно. Сегодня ко мне прилетают председатель и члены Космического Совета.
Может быть, я произнес эти слова с такой торжественностью, может быть, они понимали, что так не шутят, но обе женщины округлили глаза и изумленно уставились на меня.
— Космический Совет? — с благоговейным ужасом переспросила Ивонна, и не было для меня в мире слаще музыки, чем этот голос. — К тебе?
— Детка, твой жених острит, — сказала Руфина, приходя в себя.
— Нет, я не острю, милые дамы. Действительно ко мне прилетают члены Космического Совета.
— К тебе — члены Космического Совета? — еще раз спросила Ивонна.
— Юра, вы настаиваете, что не острите?
— Абсолютно настаиваю. Кроме того, это было бы совершенно неостроумно.
— Но тогда…
— Тогда это значит, что я не шучу. Они действительно будут здесь вечером. Возможно, они успеют на вечернее представление, но я думаю, успеют они или нет, все равно мы должны принять их.
— Юрочка, — сказал Руфина, и сарказм вытаивал из ее голоса на глазах, — вы полагаете, Космический Совет очень интересуется вашими кошками и собаками?
— Я не полагаю, — сухо отчеканил я, — я это просто знаю. Мне сказал об этом сам председатель профессор Танихата. Впрочем, если у вас есть более важные дела, чем прием Космического Совета, я позвоню в ближайшее кафе.
Я не мог сердиться на женщин за недоверчивость. Разве я сам только что не назвал профессора Жюлем и стариной? Просто все мы постоянно и автоматически оцениваем поступающую информацию с точки зрения ее правдоподобия. Своего рода фильтр правдоподобия в наших мозгах. И сквозь этот фильтр мысль о том, что некто Юрий Шухмин, он же Юра, Юрочка и Юрка, малоизвестный артист цирка, выступающий с кошками и собаками, человек, делающий предложение Ивонне руки с постоянством календаря, вызывает острый интерес Космического Совета, проходить никак не желала. Но в конце концов фильтры не выдержали, и обе Черутти всполошились, закудахтали, заметались по комнате.
— Но у нас же ничего нет, — застонала Руфина. — Или угощать их грибным супом, который я сварила еще вчера?
— Мама, помолчи, никакого грибного супа нет, я съела остатки ночью.
— Чудовище, она тайком ест по ночам суп! Что от тебя можно ждать после этого?
Они всплескивали руками, ссорились, смеялись и придумывали меню. Меня отрядили за продуктами. Я помчался в ближайший магазин и по дороге думал, зачем я понадобился Совету.
Перед магазином был небольшой сквер. По сочной траве ползал садовник с тихим жужжанием. Я подошел к нему и подставил ногу. Садовник остановился перед ней и сказал недовольно «простите», объехал ногу и зажужжал громче, набирая скорость.
На колпаке у него белой краской был выведен корявый номер 36. Почему-то именно этот корявый номер, выведенный, очевидно, нетвердой рукой сосновоборских озеленителей, окончательно убедил меня, что я не сплю и не галлюцинирую.
Потом я что-то убирал, составлял какие-то столы, что-то чистил, в общем, выполнял роль домашнего робота, и думать было некогда.
А перед самым началом вечернего представления, когда я готовил своих зверей к выходу, ко мне в комнату ворвался Франческо. Он был взлохмачен, щеки его пылали:
— Юра, у нас на представлении присутствуют члены Космического Совета, представляете? Вы можете это представить?
Я ответил, что вполне представляю, что еще днем знал об этом.
Ну-с, представление прошло вполне благополучно, а после него я познакомился с приезжими, и профессор Танихата рассказал мне о космограмме с Элинии. Когда Танихата кончил, другой член Совета Иващенко спросил меня:
— Похоже, вы действительно обладаете уникальной способностью устанавливать контакт с животными. Ограничиваются ли эти способности кошками и собаками? Или, скажем так, приходилось ли вам вступать в контакт с другими животными, кроме ваших питомцев?
— Да, конечно. Это же цирк. Сейчас у нас в труппе работает, например, группа индийских слонов.
— И вы… можете разговаривать с ними?
— Ну, разговаривать — может быть, не совсем то слово. Это ведь не разговор, а мысленный обмен.
— Обмен чем?
— Эмоциями, образами, информацией.
— Расскажите, товарищ Шухмин, как это получается. Чуть подробнее. Вот вы подошли к слону. Представьте, что я слон.
Все заулыбались, а я наморщил лоб. Мне всегда было безумно сложно переводить мысленный контакт с животными на человеческий язык.
— Я подхожу к слону и как бы включаюсь в него. Я чувствую, когда связь есть. Это… похоже на какую-то гулкость в голове, какой-то еле уловимый фон, как при включенном, но молчащем приемнике. Я посылаю приветствие.
— Как?
— Я не могу объяснить. Я ничего специально для этого не делаю. Я как бы направляю животному какой-то теплый мысленный заряд. И животное, если оно в духе, отвечает мне таким же приветствием. На человеческом языке это выглядело бы так примерно: «Я рад тебя видеть». — «И я тоже». Животные ведь, как правило, необыкновенно отзывчивы на теплоту, прямо тянутся тебе навстречу. Посылаю потом заряд заинтересованности, ну, как бы интересуюсь, как дела. Слон отвечает видеообразом: «Есть хочется, я бы поел сейчас. У тебя в кармане нет ли чего-нибудь вкусненького?» Я отвечаю извинительным видеообразом: «Пустые карманы, пустые руки». Слон отвечает: «Жаль. Ну, ничего». Спрашиваю, как выступления. «Надоело, — говорит, — одно и то же».
— Минуточку, минуточку, — Иващенко так и подался вперед, чуть не упал со стула. — Это безумно интересно. До сих пор вся ваша беседа шла, как вы говорите, на уровне видеообразов. Более или менее конкретные образы на соответствующем эмоциональном фоне. А вот такой ответ, что вы только что привели, мол, «надоело, одно и то же» — это уже более абстрактная мысль. Как вы поняли ее?
— Гм… Вот вы спросили, и я думаю, как вам ответить. Но когда я стоял рядом с Бобом — это самый молодой слон в группе, — у меня не возникало никаких сомнений в том, что он мне сообщает. Сейчас, когда я пытаюсь объяснить себе и вам, как я понял мысль Боба, мне кажется, что она состояла из видеообраза Боба на манеже и эмоционального фона скуки. Но как я воспринимаю этот фон, как я знаю, что это скука, — объяснить я вам не умею. Ни вам, ни себе.
— Но во время общения с животным, вы не испытываете трудностей понимания? — спросил другой член Совета. На жетоне его на груди я прочел: доктор Кэмпбел.
— Ни малейших, — пожал я плечами.
— Будь то слон или, скажем, птица?
— Да, мне приходилось беседовать и с гусем…
— Удивительная способность, — сказал доктор Кэмпбел. — А что говорят по этому поводу ученые — специалисты?
— Специалисты ничего не говорят.
— Как так?
— Очень просто, — пожал я плечами. — Приятель притащил меня к одному известному этологу, так тот и слышать и видеть ничего не желал — не может быть, потому что этого не может быть. Больше я ни в одной лаборатории не был.
— Я вас понимаю, — кивнул доктор Иващенко. — Когда я пытался рассказывать ученым коллегам о вас, реакция была примерно такой же. Но бог с ними, с неверующими. Речь идет о другом. Вы, наверное, догадались, к чему этот визит и весь этот разговор.
— Да, — сказал я.
— Мы отдаем себе отчет, товарищ Шухмин, что значит отправиться на чужую планету, одному, совершенна одному, и пробыть там минимум полгода, помогая почта совершенно незнакомым нам эллам в чем-то, чего мы опять-таки не знаем. Одиночество, опасность, постоянное нервное напряжение. Это минусы. А плюс только один — ощущение своей полезности, нужности…
— Мы хотим, чтобы вы знали: ни малейшего давления на вас мы оказывать не хотим, — сказал профессор Танихата. — Решение ваше и только ваше. Мало того, если вы решите не лететь, никто никогда не упрекнет вас. И это не пустые слова… Даю вам слово. Я первый пойму вас, даже если вы не станете объяснять нам причины отказа.
Конечно, решение должен был принять я. И, конечно, никто никогда не упрекнет меня за «нет». Даже Ивонна, потому что она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, и в них я читал: не бросай меня. Как я останусь одна? Кто будет смотреть на меня снизу во время выступления и кто будет делать мне очередные предложения руки и сердца?
Но то они. А я? Я сам? Конечно, здравый смысл тихонько похлопает мне в ладоши, правильно, мол, сделал. Бросить теплую родную Землю, бросить уже ставший домом цирк, бросить Ивонну, бросить своих зверушек. И ради чего? Каких-то нелепых молчаливых эллов, которых я в глаза не видел и видеть не хочу. Вселенная бесконечна, в ней неисчислимое количество обитаемых миров, и если начать всем помогать… Чего ради? Я не эгоист, я рад помочь ближнему, но какие же они ближние, эти бесконечно далекие абстрактные существа. Чего ради? Ради призрачного ощущения своей полезности? Так ты и на Земле можешь быть полезен. Ты и так полезен.
О, здравый смысл умеет уговаривать! Миллионы лет оттачивает он свое красноречие. Смотрите, пропадете, сгниете без меня.
Ну а совесть? Разве не начнет она выползать со скорбным стоном в тихие минуты, когда ты один на один с собой? Не начнет вздыхать: не помог, не помог. Нарушил великий закон нашей жизни — каждый должен стремиться помочь каждому.
Конечно, здравый смысл громок и самоуверен, а у совести голосок тонкий, и чаще всего она не умеет витийствовать, а шепчет косноязычно.
И все же, и все же… Все почтительно молчали, и я вдруг услышал в голове ту же беззвучную гулкость, что слышал при разговорах с животными. Но теперь животных не было, были лишь люди: пять членов Космического Совета, три члена семейства Черутти и клоун Жюль Чивадзе. Я никогда до сих пор не читал человеческие мысли, скорее наоборот. Но сейчас гулкая тишина все росла, надувалась шаром в моей голове и вдруг лопнула с легким шорохом, и я услышал, да, услышал мысли людей.
«Откажется, — думал Танихата, — это невыполнимая просьба…»
«Он долго молчит… — думал доктор Кэмпбел. — Странное молчание. Уж не собирается ли он…»
«Неужели он скажет «да»?» — думал доктор Иващенко.
«Юра, ну что же ты, это же страшно, ты можешь погибнуть, нет, нет, нет», - думала Ивонна.
Да, думать, в общем-то было не о чем. Все это понимали. И я тоже. Просьба безумная.
— Я решил, — сказал я. — Я вынужден сказать «да».
Что такое, что за вздор, я же хотел сказать «нет»! Я твердо решил сказать «нет». Я и губы чуть растянул, и кончик языка прижал к верхним зубам. Что за вздор?
— Юрка! — кричала Ивонна. — Юрка!
Я не понимал, что было в этом крике: то ли отчаяние и горе, то ли гордость за меня, то ли то и другое вместе.
— Товарищ Шухмин, — пробормотал профессор Танихата, и в его непроницаемых японских глазах блеснули — или мне показалось? — слезы.
— Браво! — крикнул доктор Иващенко. — Знай наших!
— Это безумие, это безумие, — бормотал доктор Кэмпбел и улыбался при этом светло и торжественно.
А я молчал, и грудь холодил восторг безумия, и здравый смысл, здравый смысл, а не совесть, громко и жалобно стонал. Потом, потом пусть сводит со мной счеты старый мудрец здравый смысл. Сейчас я воспарил, первый, может быть, раз в жизни воспарил, а стало быть, жизнь моя уже не может быть никчемной. И какие бы глупости ни делал я раньше, как бы ни был глуп и нерешителен — все пошло горючим в костер, который и вознес меня сейчас жарким своим пламенем к человеческому званию.
Шухмин замолчал и долго сидел с закрытыми глазами, словно даже воспоминание об этих минутах утомило его. И я молчал. Я давно забыл о книге, забыл, для чего я здесь, и лишь диктофон в моих руках напоминал о деле.
Шухмин вздохнул глубоко, усмехнулся:
— Коля, — сказал он мне, — вы видите, я стараюсь рассказывать вам все без прикрас. И я очень прошу вас, избегайте в своей книге восклицательных знаков. Всяких там высоких слов вроде «геройство» и «подвиг». Достаточно я от других их наслышался. Никакое это не было геройство, и не было никакого подвига. Так все просто сложилось. Сам не знаю, как.
Ну, назавтра я встретился с доктором Трофимовым, который возглавлял экспедицию, побывавшую на Элинии. Он рассказал мне все, что знал, показал снятые там пленки. Атмосфера планеты соответствует земному среднегорью, вода в изобилии. Специальная бригада начала готовить для меня запас суперконцентрированной пищи, медикаментов, одежды.
Еще через два дня я уже лежал в кресле и смотрел на экранчик монитора, на котором в легкой голубой дымке стремительно уменьшалась родная Земля. На этом симпатичном шарике остались все, кто был мне дорог: мама, Ивонна, звери. Я гнал от себя картину проводов, я отталкивал ее от себя. Там я не сдерживался, потому что знал: никакая сила не удержит слезы, они катились и катились по щекам, и на горло был надет зажим. Я не мог даже проглотить эти слезы. Последний раз я увидел их с площадки стартовой башни. Две крошечные фигурки внизу. Сердце мое тянулось туда, к ним. Оно не хотело расставаться.
Но здесь, на «Гагарине», мне не хотелось, чтобы меня видели заплаканным.
Сказать, что я страшился предстоящего, — значит не сказать ничего. Я испытывал тоскливый ужас больного, которого катят на каталке в операционную на операцию, во, время которой мало кто выживает. Этот ужас анестезировал меня, я буквально одеревенел. Поздно, уже поздно. Мышцы не слушались. Не соскочить с этой бесшумной проклятой качалки, которая неуклонно катит меня к операционной. Поздно.
Почему, почему я брякнул это безумное слово «да»? Кто тянул меня за язык, который я прижал к верхним зубам, чтобы сказать «нет»? Прекрасное слово «нет», такое простенькое словцо, почему я не смог произнести его? Я бы расчесывал сейчас густую шерсть Путти и Чапы, и Чапа смотрела бы на меня своими желтыми глазами и просила бы: ну почеши еще бок, что тебе, жалко? А вечером я сделал бы Ивонне тридцать седьмое предложение, и она сказала бы: я должна начать делать зарубки на палке, как Робинзон Крузо, а то я могу потерять счет.
Ко мне подошел один из членов экипажа космоплана, улыбнулся и сказал:
— Товарищ Шухмин, вы останетесь бодрствовать или предпочитаете впасть в спячку?
— То есть проспать всю дорогу?
— Да, — улыбнулся высоченный белокурый красавец. — Как медведь в берлоге. Большинство, правда, предпочитают работать. Все, что обычно откладывается на, нашей суетной Земле. Но некоторые выбирают спячку.
— Да-да! — вскричал я с таким жаром, что красавец удивленно посмотрел на меня. — Только спячка.
— Тогда я провожу вас к экспедиционному врачу. Удивительно было погружение в этот гипотермический сон.
Ведь при обычном засыпании никогда нельзя точно уловить границу между бодрствованием и сном. Она зыбка, размыта. А здесь похоже было, что кто-то медленно гасит свет, и темнота плавно плывет ко мне, вот она уже близко. Сейчас коснется меня, уже — я понял, что сплю.
ЧАСТЬ 2
1
Мне показалось, что я открыл глаза от острого чувства голода, но потом мне объяснили, что сначала меня вывели из зимней спячки, а уже после этого я почувствовал спазмы голода. Все хотят есть, просыпаясь. Хотя все жизненные процессы резко заторможены, все-таки они протекают. Пусть медленно, но я дышал, пусть медленно, но обмен веществ в моем организме продолжался.
Кроме голода, я испытывал странную легкость духа, почти эйфорию. Как будто гипотермический полуторамесячный сон выморозил из меня весь страх. А может быть, виной тому была фантастичность всего, что произошло со мной. От невообразимых толщ пространства, отделявших теперь меня от Земли, до невообразимости того, что ожидало меня. Ужас ведь тоже требует, наверное, каких-то координат. Вот здесь нисколечко не страшно, а вот здесь уже чуть боязно. У меня не было никаких координат. Восемьдесят килограммов человеческой плоти, заброшенных в безбрежность космоса. Ни верха, ни, низа, ни право, ни лево, ни опасности, ни безопасности, ни горячо, ни холодно.
Но особенно раздумывать обо всех этих материях было некогда, потому что мы приближались к Элинии.
Командир корабля сказал мне:
— Высадка через шесть часов. Мы высадим вас не с космоплана, а автоматическим спускаемым аппаратом. Мы радировали, вас встретят.
— Но я же…
— Не волнуйтесь. Вам делать ничего не нужно. Абсолютно ничего. Сядете в кресло, а потом, когда люк откроется, выйдете. Мы вернемся за вами через полгода.
— А если…
Командир корабля улыбнулся:
— Юра, — сказал он, — простите меня за фамильярность, но я почему-то захотел назвать вас Юрой. В нашем деле столько «если», что мы их даже не считаем. Мы их выносим за скобки. В конце концов, мы не на галерах с рабами, прикованными к веслам. Мы сами выбрали свою профессию. И вы, Юра, сами согласились на свою миссию. И забудьте поэтому слово «если». Не считайте их, а то у вас больше ни на что не останется времени.
— Слушаюсь, товарищ командир, — сказал я.
— А сейчас маленькая традиционная церемония. Пройдем в кают-компанию.
В кают-компании собрались все члены экипажа и экспедиции, которая следовала дальше. Капитан поставил меня в центре, и все стояли молча и смотрели на меня, словно заряжали человеческим теплом. Я готов был поклясться, что они переливали в меня свою энергию. Мне стало жарко, сердце билось сильно. А потом они подняли меня на вытянутых руках и так держали, и у меня предательски пощипывало горло и затуманивались глаза. И гордо мне было на душе и томительно.
Они медленно опустили меня на пол, и каждый пожал мне руку.
Через шесть часов я уже выходил из спускаемого аппарата.
Я читал в отчете экспедиции о том, что на Элинии преобладают желтовато-оранжевые тона. Я видел пленки. Но одно дело читать и смотреть снимки, другое — самому очутиться вдруг в оранжевом мире. И почва под моими ногами была буровато-коричнево-оранжевого цвета, оранжевой была растительность, оранжевыми были облака, блиставшие в бледно-голубом, словно выцветшем небе. На какое-то краткое мгновение память вдруг извлекла из самых своих глубин детский рисунок, что века назад я нарисовал при поступлении в Кустодиевку. Там тоже были космонавты на фоне оранжевой планеты. Совпадение? Или провидение детского ума?
Но то был старый рисунок, а тут надо было как-то реагировать на новый оранжевый мир. Уже не на бумаге: Уже не подвластный моим карандашам и кисточкам.
Оранжево светились глаза эллов, медленно подходивших к спускаемому аппарату. И их я видел на голограммах, снятых Трофимовым. Но какие фотографии могли передать острое чувство нереальности, нахлынувшее на меня при виде этих высоких трехглазых существ, медленно шедших ко мне с широко раскрытыми, словно для объятий, руками. Они шли медленно и молча. Казалось, они плыли над оранжевой своей землей в тихом танце.
И это беззвучное скольжение трехглазых существ, раскрывавших навстречу мне объятия, вдруг наполнило меня твердой уверенностью, что я сплю. Сейчас я открою глаза, и легкие движения век заставят мгновенно исчезнуть этот выдуманный оранжевый мир. Подскочат ко мне Путти и Чапа, ревниво зашипит Тигр, и кухонный автомат проскрипит своим несмазанным голосом: завтрак готов. И я начну ежеутреннее маленькое сражение со все еще сонными своими мышцами…
Эти земные воспоминания были столь плотны, ощутимы, что я непроизвольно закрыл и открыл глаза, почти уверенный, что окажусь дома. Даже не почти. На какое-то короткое мгновение я был уверен, что смою оранжевый мир движением век. Но он не исчез.
Эллы остановились в нескольких шагах передо мной, и я непроизвольно сказал:
— Здравствуйте.
Эллы опустили руки и сказали:
— Здравствуйте.
Голоса их были тихи, и приветствие словно прошелестело над нами. Они стояли, молча уставившись на меня, и у меня в голове вдруг пронеслось воспоминание о жонглере Васе Сушкове. Бедняга чудовищно застенчив, хотя на манеже работает превосходно. Разговаривать с ним мучительно и смешно. Он молчит. По круглому, как блин, лицу его волнами прокатывается то бледность, то пунцовость, в глазах застыла мука. Спросишь его что-нибудь, он ответит односложно. И молчит. И если не задашь ему снова какой-нибудь вопрос, пауза будет тянуться до бесконечности. И раз меня посетило во время разговора с ним безумное видение: я молчу, и он молчит. И мы сидим, сидим, у нас отрастают на глазах бороды, удлиняются, седеют, редеют на головах волосы, начинают слезиться глаза, мы превращаемся в старцев.
Но Вася в этот момент был далеко, в другом мире, в другом измерении. И сколько бы я не цеплялся за земные образы, мне никуда не деться от оранжевого мира. Прекрасно. Я, конечно, не Вася Сушков, но и развязным никогда не был, и легкая непринужденная болтовня никогда не давалась мне без усилий. И тем не менее надо же было что-то сказать моим хозяевам. Например, привет, ребята, как дела? О, господи наш земной несуществующий, помоги рабу своему.
— Меня зовут Юрий Шухмин, — сказал я и на всякий случай ткнул себя пальцем в грудь. — Юрий Шухмин.
— Юрий Шухмин, — прошелестело над эллами.
И опять многотонная тишина. Стоило пронзать светогодные складки пространства, чтобы очутиться в компании десятка Василиев Сушковых. Хотя бы представились. Но мои трехглазые существа упорно молчали, и я понял, что отступать некуда.
— А как вас зовут? — каким-то сюсюкающим голосом, словно говорил с младенцами, спросил я.
— Эллы.
— Я понимаю, уважаемые хозяева, что вы эллы. Но ведь у вас есть имена.
— Мы эллы, Юрий Шухмин.
Да, на редкость сообразительные ребята.
— Да, конечно, вы эллы. Вы все эллы. Но вот вы, — я подошел к одному из моих хозяев, — должно же у вас быть имя?
Все три оранжевых глаза отразили напряженную работу мысли.
— Имя?
— Да.
— Что такое имя?
Отличное начало контакта, вздохнул я про себя.
— На корабле, — я показал пальцем вверх, туда, куда унесся «Гагарин», - много землян. Мои товарищи. У каждого свое имя. Серж Лапорт, Николай Сысоев, Валерий Яковлев и другие. Я — Юрий Шухмин, он — Серж Лапорт. А он — Николай Сысоев и так далее. Каждый человек имеет свое имя. А каждый элл?
— Каждый элл — элл.
Я вздохнул. А может быть, эта тупость к лучшему. Я хоть знаю, что общение будет не из легких.
— Ну, хорошо, товарищи, не хотите представиться мне — ваше дело.
— Представиться?
— Ну, назвать свое имя. Индивидуальное имя.
На мгновение мои новые товарищи замолчали, как бы обдумывая мои слова, потом кто-то сказал:
— Мы обдумаем ваши слова, Юрий. Нам кажется, мы что-то начинаем понимать. А сейчас мы просим вас в нашу Элинию.
Один из эллов появился, стоя на каком-то корытце, быстро сложил в него мой багаж, корытце бесшумно приподнялось над землей и заскользило прочь. Два других элла подошли ко мне с двух сторон, взяли крепко под руки. Я хотел было подумать какую-то земную чепуху, мол, нечего сказать, хорошо они встречают гостей, берут под микитки, но все мысли, все до одной, разом выпали у меня из головы. Земля вдруг ушла из-под моих ног, словно опустилась, и мы заскользили над ней. Это было настолько неожиданно, настолько нереально, что лишь давление моего тела на руки двух моих ангелов-носителей не давало мне ускользнуть из невероятной яви в привычно-реальный какой-нибудь сон. Но ведь в докладе Трофимова ничего не говорилось о способности или умении эллов подниматься в воздух, словно птицы. Да какие птицы — ни крыльев, ни взмахов. Мы бесшумно скользили в нескольких метрах над поверхностью земли, чуть наклонившись вперед, почти стоя, и мозг мой, чувства мои упорно не хотели принимать все происходившее за чистую монету. Фильтры правдоподобия в моей голове задерживали все сигналы и ощущения, торопливо навешивая на каждое ярлычок «не может быть».
Может, может! — мысленно крикнул я себе. Ты в другом мире, Юрий Шухмин. Даже в Тулу не ездят со своим самоваром, а ты понавез их целую груду на край Вселенной. Сбрось ты этот балласт, иначе пропадешь. Забудь слова «не может быть». Может быть, здесь все может быть. И от этого худосочного домашнего каламбурчика мне сразу стало легче, фильтры недоверия выключились, и я всем своим телом начал воспринимать бесшумное наше скольжение над поверхностью Элинии. Нет, не совсем бесшумное. Я чувствовал упругость воздуха, сквозь который мы плыли, слышал струящийся его шелест, трепет мягких одеяний на моих спутниках.
Я повернул голову, осмотрелся. Неужели такое возможно? С десяток эллов скользили рядом с моими ангелами-носителями, и их почти вертикальные тела казались странной клинописью на фоне сверкающих оранжевых облаков. Это зрелище было столь ярко, невероятно, прекрасно, волнующе, что я взмолился: господи, сделай так, чтобы картина эта никогда не выцвела из моей памяти. Если, конечно, мне суждено вернуться в другое измерение моего мира.
Пока тело мое неслось над землей, поддерживаемое двумя эллами, мысли мои неслись еще быстрее, и я тщетно призывал их к спокойствию. Наконец я навел в их хаотическом стаде хоть относительный порядок и сделал первые выводы.
Страха у меня не было. То есть был, конечно, но какой-то ручной, почти привычный, некий фон. Он не переходил в ужас. Спасибо и за это.
Эллы безусловно относятся к существам разумным.
Их неспособность понять меня следует, наверное, объяснить сложностями общения.
Первые впечатления никак не хотят вмещаться в мой мозг, но деваться им все равно некуда, и так или иначе им придется в него втискиваться.
Я думаю, значит, существую. И это уже хорошо.
А стало быть, будем считать, что Юрий Шухмин, артист цирка, приступил к выполнению своей миссии.
Так думал я, несясь над Элинией. Так думал я, когда вся наша… стайка? — замедлила полет перед небольшой группой невысоких зданий. Еще через несколько секунд мы уже стояли на земле, и один из эллов сказал:
— Вот ваше жилище, — он указал на ближайший к нам серебристый кубик, в полированных стенах которого отражались бледное небо и все те же оранжевые облака. — Ваши… вещи? — И выразительно посмотрел на меня.
— Вещи? — недоуменно переспросил я. — Их же забрал ваш товарищ.
— Да. Мы хотели узнать, правильно ли слово «вещи».
— Да, конечно.
— Хорошо. Ваши вещи уже в вашем жилище. Или доме?
— Это одно и то же.
— Хорошо. Мы уже знаем, что в вашем языке одна и та же вещь может обозначаться разными словами. Это странно. Это делает ваш язык трудным.
— Но вы меня понимаете?
— Мы понимаем. Не всегда. Но мы верим, скоро мы сможем общаться… Так можно сказать?
— Общаться? Да, конечно.
— Мы сможем общаться. Мы сможем объяснить вам, почему мы просили о помощи.
— Очень хорошо.
— Вы хотите отдохнуть?
— Да нет…
— Простите, да или нет?
— Это вы простите меня, я буду стараться употреблять в речи…
— Речь — разговор, беседа?
— Да. Я буду стараться употреблять в речи только простые обороты.
— Обороты — слова?
— Нет, скорее фразы.
— Хорошо. Нет, мы просим не делать так. Говорите обычно. Мы будем спрашивать, когда нужно будет. Вы хотите отдохнуть? Да или нет? Вы сказали: «да нет», и это неясно.
— Выражение «да нет» значит «пожалуй, нет».
— Значит, вы не хотите отдохнуть?
— Нет.
— Мы вас оставим одного.
— Хорошо. Надолго?
— На три ваших часа.
— Хорошо. Я должен быть в доме или могу походить?
— Вы ничего не должны. Вы нам ничего не должны.
— Я имел в виду другое значение слова «должен». Обязан.
— Понимаем. Вы не обязаны. До свидания.
Мой элл ушел, я остался один. Почему-то мне, потомственному атеисту, хотелось все время восклицать «боже! о, боже! боже правый!» и так далее, хотя места для всевышнего на Элинии еще меньше, чем на Земле.
Проблема языка меня уже не волновала. Трофимов прав в своих выводах, Эллы обладают фантастическими способностями к языкам. Если не считать их переспросов, они говорят вполне прилично. Но что значит эта странная неспособность в таком случае понять смысл имени? Какое-то языковое различие?
И потом, была в речи моего недавнего собеседника какая-то еще странность. Но какая — я не мог сообразить. Я попытался восстановить в памяти, о чем мы говорили. Нет…
Жилище, дом — я поймал себя, что уже начинаю думать, как словарь синонимов — представляло собой небольшое помещение, в котором были аккуратно сложены мои вещи. Багаж, улыбнулся я про себя. Припасы, имущество. До чего же, в сущности, сложен наш язык. Дьявольски сложен. Если я начну думать над каждым словом, мелькнула у меня мысль, над каждым образом, я вскоре разучусь говорить. Буду формулировать каждый пустяк с тщательностью межпланетных договоров. Интересно, понимают ли мои хозяева юмор? Пока не очень-то похоже. Не похожи эти ребята на весельчаков. Наоборот, дьявольски серьезны. Им бы сюда Жюля Чивадзе… Какая же лезет в голову чушь. Я для них, наверное, клоун почище Жюля. Одно то, что у меня два глаза, а не три, должно делать меня в их представлении забавным уродцем. Монстриком, так сказать. Ну а то, что уродец не умеет летать и его приходится брать под белы рученьки, уже относит его и подавно к разряду смехотворных существ.
Так думал я, устраиваясь в своем жилище, и вдруг сообразил, что именно показалось мне странным в беседе с эллами. Он все время употреблял местоимение «мы» и ни разу не сказал «я». В конце разговора я ему что-то объяснил, и он сказал «понимаем». Не «понимаю», а «понимаем». Интересно, это опять причуды и барьеры языкового характера или такая всеобъемлющая скромность?
Наверное, бесплодные эти размышления утомили меня, а может, я напрасно хорохорился, утверждая, что не устал, но так или иначе, я вытянулся на довольно жестком ложе и мгновенно опустил ноги. Я не лежал на ложе, а парил над ним. Ну-ка, еще раз. С величайшей осторожностью я опять улегся и опять почувствовал почти полную невесомость. Понятно, почему кровать была такой жесткой. Никакая перина, пневмоматрац, или так называемая водяная постель, или воздушная подушка не могут сравниться с абсолютной расслабленностью невесомости. Да, но как я смогу спать в невесомости? Придется как-то привязаться, наверное, иначе я улечу под потолок. Да нет, когда я вошел в комнату, я ведь не испытывал невесомости. Очевидно, невесомость была лишь над кроватью.
Гордый своим блестящим умозаключением, я и заснул. И, конечно, мне приснилась Ивонна, но была она печальна, трехглаза и повторяла все время жалобно: мы не можем принять твое предложение. Должны, обязаны, умолял я, но тут мое внимание отвлекли множество трехглазых пуделей оранжевого цвета, которые летали по комнате и кричали: нет, да, нет, да, мы можем, но не должны. «Прекратить, — крикнул я, — остановить, прервать, затормозить, положить конец!» Но Ивонна и пудели хором завопили: как вы смеете, как вы позволяете себе, какое вы имеете право разговаривать в таком тоне с членами Космического Совета? При чем тут члены Космического Совета, разозлился я. Не разыгрывайте меня. Не мог же я сделать тридцать седьмое предложение о браке знаменитым ученым…
2
Я открыл глаза. Похоже было, что из одной фантасмагории я прыгнул в другую, потому что надо мной стоял элл и смотрел на меня.
— Простите, почему вы закрываете глаза? — спросил он.
— Глаза? Как почему? Я спал.
— Спал? Что такое спал?
Я внезапно понял, от чего я погибну здесь. Я превращусь в Толковый словарь русского языка.
— Иногда, когда мы отдыхаем, мы закрываем глаза, и наше сознание работает в особом режиме, при котором мы его больше не контролируем.
Я был очень горд определением. Интересно, это тот самый элл, который проводил меня сюда? Вероятно, они приставили ко мне сопровождающего. Наверное, нужно познакомиться.
— Простите, — сказал я, — как вас зовут?
— Мы не можем вам ответить.
Вот те на! Если и это у них тайна, как же я смогу общаться с ними?
— Но почему?
— Мы вам отвечали: элл. Мы — эллы. Но вы добиваетесь от нас каких-то еще слов.
И тут меня осенило. Сейчас спрошу о «я» и «мы».
— Скажите, в вашем языке есть слово «я»?
— У нас нет языка.
— Но мы же разговариваем.
— На вашем языке.
— А между собой как вы разговариваете?
— Мы не разговариваем.
— Но между собой вы как-то общаетесь?
— Всегда.
— Но как?
— Мы всегда связаны друг с другом мысленно.
— Всегда?
— Конечно.
— И все, что вы думаете, знают другие?
Мой собеседник внимательно посмотрел на меня:
— А разве может быть иначе? Ни одно мыслящее существо не может мыслить, не мысля одновременно с другими подобными ему существами. Иначе оно не мыслящее существо, а дикое животное.
— А если вы не хотите, чтобы другие знали о ваших мыслях, можете вы отключиться?
— Что значит «мы не хотим»?
— Ну вот вы, например, говорите себе: я не хочу…
— Мы не можем сказать «я не хочу».
— Почему?
— У нас нет такого понятия.
– «Не хочу»?
— Да. И понятия «я».
— Как это нет «я»? Ну вот, вы — это вы. А другой элл — это он. Я не понимаю, как вы можете обойтись без «я».
— У нас нет «я». Мы все — мы. Что такое «я»?
Я застонал мысленно. Я стремительно превращался из толкового словаря в философский. Ответь ему. Я, я должен отвечать, к сожалению, я, а не мы.
— Мы на нашей планете — это миллионы отдельных людей, каждый из которых ощущает себя индивидуальностью. Каждый неповторим. Каждый несет в себе свой мир. Но все вместе мы составляем единую человеческую семью. Я думал, что мы не совсем понимаем друг друга из-за языка. Вот вы разговариваете со мной. Вы. Вы получаете от меня какую-то информацию. Вы получаете.
— Нет, все мы получаем информацию, — все так же ровно, каким-то скрипучим голосом сказал элл.
Спокойно, приказал я себе, еще не хватало начать сердиться. Лучше постараться отбросить все привычные земные представления.
— Но это же вы, а не другие. Вот я произношу эти слова…
— Произношу — это «говорю»?
— Да. Я произношу эти слова, вы их понимаете, и эта информация сейчас в вашем мозгу. Так?
— В нашем мозгу, — с бесконечным терпением проскрипел элл.
— Разрешите? — Я осторожно коснулся рукой его головы. — Это ваш мозг?
— Мозг находится здесь, — элл показал себе на грудь, — но это наш мозг. То, что вы говорите, попадает в наш мозг.
— Я с вами разговариваю, а другие эллы участвуют в беседе?
— У нас нет этих эллов и других эллов. Мы все — мы. Мы сейчас с вами разговариваем, мы пытаемся объяснить вам какие-то наши понятия, мы пытаемся понять вас.
— И если я сейчас выйду и подойду к первому встречному, он уже будет знать содержание нашего разговора?
— А как же может быть иначе? Мы все участвуем в этом разговоре. Иначе не может быть.
— Одновременно?
— А как еще можно участвовать?
— Хорошо. Но это значит, что все эллы сейчас занимаются беседой со мной. А если нужно делать что-то еще? Все ведь заняты, так?
— Мы одновременно заняты многими вещами, и вместе с информацией о вас мы получаем много другой информации.
— Например?
— Например, у Больших развалин появилось много багрянца — это наша любимая еда. Пора протирать стены, на них уже легло много пыли. За крайними стенами лежит корр. И многое другое.
Как я уже говорил, учился я в школе неважно, и познания мои в окружающем нас мире физических, химических и биологических явлений обрывочны, случайны, о чем я давно немало жалею. Я уже давно понял, что вижу многие вещи словно через плохо наведенный на резкость объектив: линии смазаны, контуры размыты, детали не различаются. Ах, мстит, мстит отроческая лень, заставляя постоянно ощущать себя недоучкой. Конечно, каких-то верхов я понахватался, самые глубокие провалы в своих знаниях кое-как засыпал с помощью научно-популярных книг и видео, но все равно комплекс недоросля сидел во мне крепко, и похоже было, что устроился он там основательно, надолго. Но тем не менее у меня хватило эрудиции на сравнение с компьютерами, подсоединенными к общей системе. Вводимая в какой-нибудь отдельный компьютер информация мгновенно начинает циркулировать во всей системе. Да, но…
— Вы можете испытывать боль?
— Боль?
— Как-то ваш организм реагирует на повреждения, травмы, раны?
— Да.
— И все эллы реагируют?
— Конечно.
— Значит, вы как бы один организм?
— Да.
Может быть, подумал я, именно поэтому они с такой скоростью овладели нашим языком? Сотни мозгов, объединенных в одну систему. Практически безграничная память. Но с другой стороны, этот один огромный мозг… Я внутренне содрогнулся. Мне почему-то представилась гигантская студенистая масса. Один мозг. Одинаковые мысли, одинаковая информация, одинаковая реакция, одинаковая боль. Мир без «я». Без такого дурака, как Юрий Шухмин, оказавшегося по собственной глупости у черта на космических куличках. Без смеющихся глаз Ивонны и ее теплых ладоней. Без моей энергичной мамы, у которой, как у фотона (что-то, видите, я знаю из школьной физики!), нет массы покоя, потому что она всегда в движении, в полете. Без моего умного и правильного братца. Без суматошного бородатого Пряхина, с которого все началось. Да, здесь феномен Шухмина был бы даже непонятен. Они не понимают не как можно читать чужие мысли, а как можно не читать их.
Все эти странности обрушились на меня целой грудой еле пережеванных фактов и понятий, и я чувствовал, что еще немножко, и они завалят меня с головой. Потом, потом буду обдумывать я странный мир эллов, а сейчас нужно выбираться на твердый берег.
— Если вы не возражаете, — сказал я, — мне бы хотелось узнать о той задаче, что привела меня на Элинию.
— Да, конечно. Мы не сразу сказали вам, чтобы мы могли лучше освоить ваш язык. Чтобы вы поняли нашу проблему, нам придется начать издалека. Когда-то эллы были не такими. Это было давно, и в нашей памяти многое стерлось. Мы были не такими, как сейчас. Может быть, мы были похожи на вас. Мы не знаем. Не помним. Когда вы увидите развалины каких-то сооружений, вы спросите, кто создал когда-то эти города. Мы не знаем. Может быть, мы. Может быть, не мы.
Мы сохранили с тех незапамятных времен лишь отвращение к жестокости, оружию и безумному знанию.
— Что такое «безумное знание»?
— Это знание, которое постоянно стремится к расширению. Которое не знает покоя. Которое накапливается все быстрее и быстрее, пока не превращается в силу, с которой уже невозможно справиться. Мы не принимаем ни жестокости, ни такого знания. И долго, очень долго наш маленький мир был спокоен. Мы плыли сквозь море времени прямым курсом, из никуда в никуда. Мы не знали бурь и потрясений. В нашем мире ничего не происходило, и это было хорошо. Нам казалось, что мы победили своих врагов раз и навсегда.
— У вас есть враги?
— Были.
— Но кто же они?
— Мы уже сказали вам. Это неутолимая жажда познания, жестокость, насилие. Но мы ошибались. Мы забыли о том, что не мы одни населяем нашу планету. Вернее, мы всегда знали о существовании корров, но мы не интересовались ими, а они — нами. Иногда мы видели их издалека, но они не подходили к нашим стенам.
— Они разумные существа?
— Нет, мы не считаем их разумными. Они дикие. Это скорее животные. Они не знают цивилизации. Вот и все, что мы знаем о них. Но в последнее время они изменились. Они вдруг стали нападать на нас, и многие из нас исчезли.
— Исчезли? Может быть, погибли?
— Может быть, погибли.
— Вы не знаете? Вы же говорили, что вы — один организм, что вы испытываете боль каждого, смерть каждого.
— Да.
— Но тогда вы должны знать, что случилось с пропавшими.
— Мы не знаем. Мы знаем, что пропавшие были похищены коррами, и мы их перестали ощущать. Они исчезли из нашего сознания.
— Значит, они все-таки погибли?
— Мы не знаем.
— Но раз вы перестали их ощущать, значит, они погибли. Так?
— Скорее всего это именно так, но нас смущает одно обстоятельство. Когда один из нас перестает быть, это происходит мгновенно. Мгновенное ощущение утраты. С пропавшими было не так. Вначале мы знали твердо — они были схвачены коррами. А потом… потом происходило нечто странное. Они уходили из нашего сознания постепенно, связь ослабевала, и они переставали быть.
— А без корров вы умираете? Вы знаете, что такое смерть?
— Нет. У нас нет смерти.
— Ничего не понимаю. Только что вы употребляли слово «погибнуть». Разве конец существования это не смерть?
— Это смерть и не смерть. — Элл внимательно посмотрел на меня, на мою голову. — Простите, вы можете вырвать из себя волос?
— Да, конечно. Вот. — От старания я вырвал, наверное, с десяток волос и поморщился от боли.
— Хорошо. Вы умерли?
— Нет еще.
— Но эти волосы погибли.
— Ага, кажется, я понимаю, что вы хотите сказать. Отдельные эллы могут погибнуть, но эллы — как один единый организм продолжают существовать. И тот, кто погибает, не умирает, поскольку он не «я», а лишь маленькая часть «мы». Так?
— Да. Вы делаете успехи. Так вот, раньше корры никогда не нападали на нас. Теперь же эти нападения все учащаются. Эти нападения стали постоянной опасностью. Они даже начинают угрожать самому нашему существованию.
— Вы говорили мне, что испытываете отвращение к оружию.
— Да.
— Но теперь, когда вам нужно защищаться, вы можете использовать оружие?
— Нет. У нас нет оружия, но если бы оно и было, мы не могли бы даже прикоснуться к нему. Таков закон, существующий с незапамятных времен.
— Но вы должны нарушить этот закон, если речь идет о смертельной опасности.
— Нет. Закон не нарушается никогда. Если закон можно нарушить — это не закон.
— Значит, вы предпочли бы погибнуть, но не защищаться?
— Это не вопрос предпочтения. Это закон.
— Я понимаю…
Я действительно начал понимать. Я, цирковой артист Юрий Шухмин, двадцати шести лет от роду, уроженец планеты Земля, должен каким-то чудесным образом спасти эту странную печальную расу без «я», стреноженную раз и навсегда непреклонным Законом с большой буквы. Спасти собственноручно и безоружно, потому что никакого оружия у меня не было. Я должен был уподобиться Орфею и сладкоголосым пением смягчить сердца диких корров. Только и всего.
Только и всего, говорил нам в школе учитель физики, объясняя какой-нибудь мудреный закон. Он был высок, полон, у него были пышные усы. Когда он говорил «только и всего», глаза его торжествующе сияли, словно это он собственноручно открыл все законы, а усы победно топорщились. Восторг его был так чист и заразителен, что даже самые заядлые шалопаи любили его уроки. Кроме, пожалуй, одного Юрия Шухмина. Нет, мне тоже нравилось слушать его и смотреть на победное шевеление усов, но не настолько, наверное, чтобы вылезти из кокона какой-то патологической неизбывной лени. Только и всего.
Только и всего. Спасти эллов от гибели. Здравствуйте, буду представляться я дома, Юрий Шухмин, спаситель цивилизаций, к вашим услугам.
У меня всегда была привычка окружать себя в трудную минуту частоколом болтовни. И ничего я с этой привычкой поделать не могу. Но сейчас мне нужен был не частокол, а целые оборонительные фортификации, чтобы не завыть волком от отчаяния. Вас бы сюда, уважаемые члены Космического Совета, попробовал было я распалить себя, но знал, что не смогу распалиться. Они честно рассказали мне все, что знали. Ни один не уговаривал меня. Скорее отговаривали.
Нет, срывать свою беспомощную растерянность было не на ком, даже мысленно. Нужно было поднимать мордочку и смотреть в лицо фактам.
— А корры… Какие они?
— Сейчас вы увидите.
— Живого?
— Посмотрим. Пойдемте.
Мы вышли из моего дома с полированными стенками, в которых отражались все те же оранжевые облака. Может быть, они вовсе не отражаются, мелькнула у меня дурацкая мысль, может, они просто нарисованы. Я поднял голову и посмотрел на небо. Если облака, яркие, сияющие, и были нарисованы, то явно на небе.
На этот раз мы не летели, а шли. Мы встретили несколько эллов, и ни один из них даже не взглянул в нашу сторону. Это было невероятно. В таком отсутствии любопытства было нечто противоестественное. Чушь, поправил я себя. Ты забываешь, что все они только что вели с тобой диковинные разговоры, объясняя отсутствие у них понятия «я». Все вместе.
Домики-кубики, мимо которых мы шли, все были одинаковые, построенные из какого-то зеркально-гладкого материала, и мы с моим спутником отражались в стенах, и мне казалось, что навстречу бредет целая процессия Шухминых и трехглазых эллов.
Ряд домиков кончился, и я увидел развалины. Мне показывали голограммы, снятые экспедицией Трофимова, но все они не могли даже отдаленно передать картину, которая предстала передо мной.
Это были даже не развалины в земном смысле. В этих грудах исковерканных труб и конструкций нельзя было угадать ни контуров того, что когда-то было на этом месте, ни назначения этого абстрактного металлического кружева.
И веяло, веяло какой-то неизбывной печалью, и непонятная грусть сжимала сердце. Ведь кто-то создавал, а кто-то разрушал. Чья-то мысль воплощалась в металле и камне, а чья-то ненависть взрывала их. На нашей Земле мы покончили с извечной ненавистью, мы стали планетой доброжелательности и сотрудничества, и столкновение с чужой сконцентрированной в этих руинах ненавистью наполняло меня тягостным недоумением.
Я вспомнил земные наши развалины. Еще в Кустодиевке нас возили на экскурсии в Грецию и Италию. И залитые солнцем, окруженные толпами туристов Акрополь и Колизей поразили меня какой-то уютностью, они казались домашними, своими. Они были частью нас.
А этот ажур пугал. Какая-то древняя, грозная жестокость была скрыта в этих руинах.
— Вот, — сказал мой спутник. И мы остановились.
На земле лежало нелепое существо. Четырехногое, покрытое коричневым мехом. Нет, шестиногое, нет, все-таки четырехногое, но с двумя мощными руками, выступающими из массивной груди, с круглой тюленьей головой.
Похоже было, что существо это придавлено тяжелой металлической балкой. Она все еще прижимала длинное коричневое тело.
— Корр, — сказал мой спутник.
Я посмотрел на животное. Мне даже не пришло в голову, что это не земное животное, что контакт может оказаться невозможным. Я не думал об этом, потому что меня уже переполняла чужая острая боль и покорная смиренность.
Корр смотрел на меня своими круглыми глазами.
— Я ухожу, — услышал я его мысль. — Осталось мало пути. Быстрее бы.
Конечно, корр не думал этими земными словами. Но поток его эмоций почему-то вылился в моем сознании именно в такие слова. Ему было больно. Боль так и клубилась в нем, и мне показалось, что сознание его начало мерцать. Конец, наверное, был недалек.
Это была чужая боль, боль какого-то уродливого шерстяного кентаврика, боль на чужой планете в невообразимой дали от милой Земли. Но это все равно была боль, и вся моя душа потянулась навстречу коричневому уродцу.
Где-то я читал: степень развития цивилизации прежде всего определяется способностью к состраданию. Наверное, так оно и есть.
Я присел на корточки и прикоснулся рукой к круглой голове корра. Может быть, они и убивают эллов, может быть. Но этот корр умирал, в нем не было ненависти. В нем была боль и смирение.
«Я могу тебе помочь? — спросил я мысленно. — Скажи».
Животное пыталось повернуть шею, я видел, как по короткому меху пробежала судорога.
«Нет, — так же мысленно ответил корр. — Я ухожу. Осталось совсем мало пути. Мне никто не поможет. Я тороплюсь. Прощай».
На круглые глаза медленно опускались веки, медленно, как занавес. По шее еще раз пробежала судорога. Поток иссяк. Ему уже не осталось пути. Он его прошел.
Я встал. Кто знает, может быть, и не напрасно занес меня на край Вселенной такой уже теперь далекий космоплан «Гагарин». Может быть…
— Это корр, — еще раз повторил мой спутник. И я с трудом сдержал раздражение.
— Вы уже сказали, что это корр. Я понял.
— Наверное, он прятался здесь, чтобы наброситься на нас. Мне почудилось, что я впервые уловил в голосе элла чувство. Даже не чувство, а тень его. Тень ненависти. А может быть, мне просто показалось. Может быть, я все время подставляю человеческие эмоции этим тихим существам.
— Как вы думаете, — спросил элл, — вам удастся понять их язык?
— Я не думаю. Я знаю, что могу вступить с ними в контакт. Я уже сделал это.
— Хорошо. Значит, у нас есть надежда узнать, что произошло. Они ведь никогда не нападали на нас. Мы никогда не соприкасались. Мы иногда видели их вдали, они смотрели на наши стены, как смотрят животные. Раньше они никогда не нападали на нас.
— А вы?
— Мы никогда ни на кого не нападали. Мы не признаем насилия. У нас нет оружия.
— Вы никогда не пытались их изучать? Вы ведь, очевидно, обладаете огромной способностью к изучению. Судя хотя бы по тому, как быстро вы освоили мой язык.
— Мы никогда не пытались их изучать. Мы никогда ничего не пытаемся изучать. Множить безумное знание — значит нарушать Закон.
— У вас есть такой закон?
— Да. Закон гласит: знайте только то, без чего нельзя обойтись. Знание — зло. Оно всюду подстерегает, оно может принимать разные формы, оно соблазняет. И только твердо соблюдая Закон, можно смело проходить мимо. В Законе наше спасение.
— Но почему вы ненавидите знание?
— Знание — зло.
— Но почему?
— Мы не знаем. Таков Закон.
— Но как можно следовать закону, не понимая его?
— Закон не для того, чтобы понимать его.
— А для чего?
— Чтобы следовать ему.
— Гм… И именно из-за своего закона вы ничего не знаете о коррах?
— Мы вполне обходились без корров, как до последнего времени и они — без нас. И если мы хотим узнать, почему они внезапно стали нашими врагами, то лишь потому, что это знание необходимо.
— Гм… А где они обитают?
— Мы не знаем. Время от времени мы видим их вокруг нашего города. Но вдали.
— Чем они питаются?
— Мы не знаем.
— Но что-нибудь вы о них знаете? Хоть что-нибудь?
— Нет. Только то, что они корры.
— И все?
— Все.
Это была какая-то тягостная нелепость. Мои эллы — существа безусловно разумные, знающие какие-то вещи, о которых мы на Земле не имеем даже представления. Как, без каких бы то ни было аппаратов и приборов они легко преодолевают силу притяжения своей планеты и парят? Как они добиваются, что именно над их ложами гравитация исчезает? А она ведь есть здесь, эта универсальная сила, есть, и их Элиния отлично притягивает к себе все то, что находится на поверхности планеты. А как они освоили наш язык! И при этом полное отсутствие любознательности. Это было противоестественно. Это противоречило моему представлению о разуме. Я почему-то вспомнил картинку из старого учебника психиатрии, который я где-то случайно листал. Забившийся в угол человек. Втянутая в плечи голова. Руки, пытающиеся натянуть одежду на голову. Пустые, обращенные внутрь глаза. Это называлось «синдром капюшона». Представить себе только, что когда-то психические расстройства не умели лечить… Понятно, почему эта картинка вдруг всплыла из запасников памяти. Эллы, похоже, так же отвернулись от окружающего мира. Только свой синдром они называют Законом. Да, но не может же целый народец сойти с ума одновременно? Стоп. Именно эллы могут. Они ведь не народ. Они, строго говоря, не они, а он. Все эллы — это один элл. Нет, чересчур это сложный вопрос, и не мне, невежественному циркачу, выносить такие приговоры. Слишком уж соблазнительно: увидеть кого-нибудь непохожего на тебя — бац штамп на лоб: псих.
Да, все это так, но что делать? С чего начать мою миссию? Я поймал себя на том, что совсем недавно, только что буквально, я бы не преминул добавить мысленно определение «безнадежная» к слову «миссия». А вот теперь после этой коротенькой и печальной встречи с умиравшим корром контакт с ними не казался невозможным. По крайней мере они находятся на таком уровне развития, когда контакт с разумом возможен. Не знаю уж, чем они похожи на земных животных, но кажется, что и с ними мне как-то удается настроиться на их волну. А это, собственно, главное. Это то самое, для чего меня выдернули из симпатичного, уютного цирка в Сосновоборске, — разлучили с Ивонной, Путти и Чапой. Что за чушь, что значит — выдернули? Сам я выдернулся. Никто меня не дергал.
Ладно. Ясно было одно: назвался груздем — полезай в кузов. Взялся помочь эллам, надо пытаться сделать это. Как — это другой вопрос. Но уж во всяком случае не паря в нежной невесомости над своим ложем, не ведя бессмысленные беседы со своими хозяевами, у которых на все есть универсальный, кроткий ответ — мы не знаем.
Я вдруг подумал, что и корры, очевидно, так же мало знают об эллах, как эллы — о них. При беспомощном непротивлении эллов злу корры могли бы спокойно вытаскивать их прямо из их жилищ, где они не смогли бы даже подняться в воздух. Возможно, что полет их — единственное спасение.
Значит, надо идти к коррам. Одному. Безоружному. Найти. Вступить в контакт и уговорить не трогать трехглазых. Только и всего, как говорил наш обильный телом учитель физики.
— Я должен пойти искать корров, — сказал я своему спутнику. — Вы хоть знаете приблизительно, где исчезли… — я поймал себя на том, что хотел сказать «ваши товарищи». Никак я не мог привыкнуть к мысли, что трехглазые — один организм.
Мой спутник, очевидно, понял меня, потому что сделал неопределенный жест рукой.
— Я возьму немного пищи и пойду.
— Хорошо.
А может быть, взять с собой парочку эллов, вдруг подумал я. В качестве подсадных уток? — возразил я тут же. Да, но они хоть могли бы летать со мной… Нет, вздор.
3
Через полчаса, набив небольшой рюкзачок концентратами и сунув в карман автонаводчик, я вышел из своего кубика. Куда идти, я не знал, но это не имело ни малейшего значения, поскольку любое направление было в равной степени пригодным. Или непригодным.
Мимо прошли несколько эллов, и никто не посмотрел в мою сторону. Я понимал, что не стоит ждать от них торжественных проводов одинокого рыцаря, отправляющегося на поиск дракона и схватку со злокозненным чудовищем. Что не услышу приветственных криков, что девушки не будут махать мне платочками, что старый король не обнимет меня со слезами в глазах и не прошепчет: возвращайся с победой, я отдам тебе дочь в жены. Любую или всех вместе. Все это я, конечно, понимал. Но чтоб никто даже не обернулся… Разумеется, думать так было низменно и недостойно, но, право же, в тот момент я мог понять корров…
Я направился к тем развалинам, где упавшая балка придавила корра. Вот как будто это место. Вот балка, вот какие-то следы на земле, но мертвого корра не было. Кто, интересно, убрал его, мои эллы или корры отваживаются подойти к городку средь бела дня?
Я медленно шел по буро-охристой земле Элинии. Место было ровное, лишь кое-где покрытое кустарником. Плавные холмы неприметно переходили один в другой, как застывшие оранжевые волны неведомого моря. В небе все так же сияли оранжевые облака. Я шел по тропинке, а когда ее пересекали другие дорожки, я сворачивал наугад. Заблудиться я не боялся, в любой момент мой автонаводчик точно укажет мне направление и расстояние до зеркальных кубиков эллов.
Воздух был неподвижен, было тепло, и я шел с удовольствием, если можно было вообще испытывать какое-нибудь удовольствие в моем положении.
Меня вдруг снова наполнило ощущение нереальности. Сейчас я сделаю с десяток шагов, вон до того искривленного деревца с корявыми сучьями, вскинутыми вверх, словно в мольбе, потрясу головой, чтобы прогнать наваждение, и окажусь на арене цирка. Почему зрители всегда дают одни и те же задания: подойти к такому-то или такой-то и протянуть лапку. Пролаять пять раз или встать на задние лапки. Бедные мои зверюшки, как вы там без меня? Любит ли вас Ивонна, не обижает? Когда я вернусь, вы все мне расскажете. А главное, кокетничала ли она с дирижером. Ух, я этого музыкантика. Когда я вернусь… Я вдруг вспомнил анекдот о старике, который пишет завещание. Он садится к столу, берет лист бумаги и выводит: когда я умру… Тут он останавливается, перечитывает написанное и поправляет: если я умру…
Так что правильнее было бы отвадить этого чистенького франтоватого дирижера не когда я вернусь, а если я вернусь. Если я вернусь. Как говорил командир «Гагарина»? В нашем деле столько «если», что нужно научиться не обращать на них внимания. Прекрасный совет, но, как и всем прекрасным советам, следовать ему почему-то бесконечно трудно. Вообще, почему так: чем умнее совет, тем труднее ему следовать. Странная какая-то зависимость.
Страх, древний слепой страх снова начал подбираться ко мне. Я пытался шикнуть на него, пнуть ногой, крикнуть «пшел вон», но он лишь уворачивался и снова полз ко мне, глядел на меня белыми глазами, холодил сердце ледяным своим дыханием.
Если ты вернешься, с издевкой шептал он, если… Как можешь ты даже надеяться в самоуверенном своем ослеплении, когда опасности поджидают тебя на каждом шагу. Вот идешь ты один по чужой планете и не ведаешь даже, какие «если» притаились за тем вон поворотом. И любое из них может сразу сделать бессмысленным слово «когда». Я никогда не отличался особой храбростью. Скорее наоборот. Но мне было отвратительно оказываться во власти этой белоглазой гнусной твари.
— Не боюсь! — крикнул я.
— Боишься, — прошипел страх.
— Не боюсь! — еще громче упрямо повторил я.
— Ты не можешь не бояться. Ты живой, а все живое не расстается со мной, потому что все живое боится умереть. Не было бы меня, не было бы разумной жизни. Я верный спутник разума.
Он был прав, древний и мудрый страх, но я не хотел сдаваться. Я сделал отчаянное усилие и вырвался из его парализующих и унизительных объятий. В конце концов самое страшное, что могло ожидать меня здесь, — смерть. Конец пути, как думал умиравший корр. Но что за трагедия? Что ты боишься? Что не сможешь умереть? Не волнуйся, не было еще человека, которому не удалось бы этого сделать. Уходили все, моллюски и Сократ, динозавры и Александр Македонский, карпы и цари, жирафы и лауреаты Нобелевской премии.
Не знаю, надолго ли, я все-таки отпихнул от себя страх. Он тявкнул, как побитая собака, и отстал от меня. Пусть победа была призрачной, пусть он трусил за мной где-то недалеко, пусть потом он снова накинется, но сейчас я испытал острое облегчение и громко, на всю Элинию, заорал:
— Не боюсь! Не боюсь!
Прямо передо мной снова показались какие-то руины. Я подошел ближе. Все так же, как и в виденных уже развалинах, вздымалась к небу искривленная паутина труб, стержней, балок. Внизу они были перевиты оранжевыми растениями, вьющимися, как лианы.
Я решил обойти этот очередной памятник разрушения, но тут же увидел нечто вроде входа в приземистое строение, крыша которого была сорвана.
В отличие от эллов, я не мог и не могу пожаловаться на отсутствие любопытства. Стараясь не зацепиться за металлические стержни, я с опаской вошел в здание. Не успел я сделать и нескольких шагов, как что-то пискнуло и промелькнуло перед самым моим носом.
Я оцепенел, сердце мое колотилось. Писк повторился, и я увидел, что исходит он от маленьких тварей, отдаленно похожих на летучих мышей. Они метались над моей головой, и панический писк их закладывал уши.
От растерянности я не сразу попытался понять, что значит этот писк. Я сосредоточился, но, очевидно, твари эти были на довольно низкой ступени развития.
— Опасность, опасность, опасность! — пищали они.
Я сделал шаг, чтобы стать удобнее и рассмотреть получше птичек, но вдруг плавно взлетел, наверное, на полметра над полом и так же плавно опустился. Попробовал еще раз — и снова взлетел, словно сила тяжести здесь уменьшалась многократно.
Я не мог остановиться. Я прыгал снова и снова, отталкиваясь то одной ногой, то двумя. Я смеялся, и смех мой был истеричен. Наверное, это выходило из меня напряжение этой одинокой прогулки по чужой планете.
Я заметил, что при одном и том же усилии я взлетаю то выше, то ниже. Летучие мыши по-прежнему пищали и носились над моей головой, и я заметил, что писк их то усиливался, то затихал, и что он как-то связан с высотой моих прыжков. Чем пронзительнее был писк, тем выше я взлетал в плавных своих прыжках.
Уж не маленькие ли эти твари регулируют здесь силу тяжести? Или, наоборот, они чувствуют ее изменение?
Но вот птички замолчали и пристально уставились на меня круглыми, как бусинки, глазами.
— Не бойтесь, пичужки, — сказал я.
Я забыл о страхе. Любопытство мое вибрировало, клочьями всплывали в памяти сцены из читанных когда-то фантастических романов: рассыпающиеся от прикосновения неведомые приборы, таинственные формулы, начертанные на стенах, потерянные тайны древних цивилизаций.
Я попробовал еще раз подпрыгнуть. Мои восемьдесят килограммов исправно тянули меня вниз, и я скорее дернулся, чем подпрыгнул.
Птички молча смотрели на меня, и я снова протянул к ним щупальца своего мозга, но ответа не было. Щупальца как бы упирались на этот раз в стенку, и я не слышал маленьких тварей. Не было даже сигнала опасности.
Странно. Впечатление было такое, что передо мной не живые существа, а некие механические сооружения. Снова и снова я пытался настроиться на них, но с таким же успехом я мог пытаться установить контакт с камнями или кусками труб в этих развалинах.
Наверное, в этом здании можно было найти еще что-нибудь столь же волнующе загадочное, но корров здесь явно не было. Я вздохнул и вышел наружу.
Прямо у пролома стоял корр и смотрел на меня. Стоя, он казался больше и выше, чем тот, что лежал под балкой. Глаза у него были совершенно круглые, и он смотрел не моргая. Руки (мысленно я решил за неимением лучшего слова назвать эти две странные конечности именно так) были опущены и прижаты к передним ногам. Светло-коричневая короткая шерсть лоснилась.
— Здравствуй, — сказал я мысленно и тут же почувствовал, что корр так же коснулся моего мозга, как я — его.
— Здравствуй, — ответил он.
— Я не несу с собой опасности.
— Да.
— Ты знаешь?
— Да.
— Как?
— Я видел, ты склонился над Дивом.
— Дивом?
— Это имя корра, который дошел до конца пути около гладких стен.
Слава тебе господи, наконец я услышал имя. Нет, товарищи эллы, они вовсе не такие дикие животные, как вы пытались меня убедить.
— Ему нельзя было помочь, — сказал я.
— Я видел. Ты дотронулся до головы Дива. Зачем?
— Зачем? Не знаю. Я чувствовал, ему было больно.
— Ему было больно. Но зачем ты тронул его?
— Не знаю. Я хотел облегчить его боль.
— Ты говоришь неясно. Куда ты идешь?
— Не знаю.
— Ты ничего не знаешь.
— Я действительно почти ничего не знаю. Но я хочу знать. Я и нахожусь здесь для того, чтобы узнать. Прежде всего я хотел найти корров.
— Для чего?
— Эллы попросили меня узнать, почему вы стали нападать на них.
— Ты ведь не элл.
— Нет. Ты видишь. Я пришел издалека.
— Чтобы помочь эллам?
— Да.
— Ты хочешь помочь эллам?
— Да. Они просили меня.
— А ты знаешь, как помочь им?
— Нет, только узнать, почему вы нападаете на них.
— Мы не нападаем на них.
— Но вы же уводили или уносили эллов.
— Да.
— Для чего?
— Чтобы помочь им.
Моя бедная голова не выдерживала перегрузок. Предохранительные пробки с фейерверкным треском лопались в ней одна за другой. Я хочу помочь эллам, корры хотят помочь эллам, эллы хотят… фу, чертовщина какая-то.
— Но как вы помогаете эллам?
— Мы не умеем помогать им.
— Прости меня… Могу я спросить, как тебя зовут?
— Варда.
— А я Юрий.
— У нас есть похожее имя Юуран.
— Варда, прости меня, я не понимаю. Ты говоришь, что вы хотите помочь эллам, и ты же говоришь, что вы не умеете помогать им. Кто же им помогает?
— Неживые.
Все. Я прикрыл на мгновение глаза. Это было уже слишком. Если я хотел хоть как-то действовать на Элинии, надо перестать удивляться, изумляться, поражаться, разевать рот и хлопать глазами. Мое бедное воображение вдруг нарисовало мне картину: будущие поколения эллов, есть ли у них поколения или нет, все равно, будущие поколения воздвигнут памятник бескорыстному идиоту Юрию Шухмину, который в безумном своем невежестве пытался помочь им. Я буду наверняка изображен с открытым ртом и выпученными глазами. Самое забавное, если можно было говорить в моих обстоятельствах о забаве, заключалось в том, что проект памятника казался мне в тот момент гораздо реальнее, материальное, что ли, легче влезающим в оцепеневшее сознание, чем беседа о помощи эллам и добрых неживых с шерстяным кентавром.
— Неживые? — пробормотал я. — Как же неживые могут помогать?
Варда посмотрел на меня, и мне почудилось, что в круглых его тюленьих глазках мелькнула жалость, — что за непонятливое существо стоит перед ним.
— Они умные и добрые.
— Но почему ты называешь их неживыми?
— Они не такие, как мы.
— Они не корры?
— Нет-нет. Они… у них нет ног.
— Как же они двигаются?
— Они катятся. Но только утром и то медленно.
— На чем же они катятся?
— Как на чем? Они… катятся. Но только утром, а потом они постепенно останавливаются, пока не станут совсем неподвижными.
— Они круглые?
— Что такое круглые?
Я представил мысленно большой шар, и Варда радостно воскликнул:
— Да, круглые. Но только снизу. А сверху у них руки. Но ты сам увидишь их. Ты пойдешь со мной?
— Да, Варда, конечно. Мы ведь все хотим помочь эллам.
Корр побежал, и я побежал за ним. Не успел я подумать о том, сколько я выдержу, как Варда уже был далеко впереди. Я и на Земле отнюдь не марафонец, а здесь в разреженном воздухе, да еще обессиленный от нокдаунов, в которые меня посылали то эллы без «я», то коричневые кентавры, убивающие трехглазых, чтобы помочь им, я явно был не в лучшей спортивной форме. Да и корр, похоже, имел совсем другой разряд: он мчался легко, и движения его длинного тела были текучими, он словно переливался из одной точки пространства в другую. Вот он исчез за оранжевым кустарником. Нет, мне за ним не угнаться, подумал я, хватая жиденький воздух широко раскрытым ртом. Но как раз в этот момент Варда снова показался из-за кустарника. Он подбежал ко мне, и я с облегчением остановился.
— Тебе тяжело? — спросил он.
— Да.
— Конечно, у тебя только две ноги, как у эллов. Может быть, ты умеешь летать, как они, когда они недалеко от своих гладких стен?
— Нет, Варда, я совсем не умею летать.
— Тогда я понесу тебя. Див, когда он еще не дошел до конца пути, рассказывал мне, что он вот так нес одного элла, которого подкараулил около гладких стен. Подойди ко мне, Юуран, можно я буду так звать тебя, это наше имя?
Я подошел к корру, и неуловимо быстрым движением он схватил меня двумя своими руками и забросил на спину. Щека моя коснулась густого коричневого меха, и я инстинктивно раскинул руки, чтобы охватить туловище корра.
— Не бойся, ты не упадешь, я держу тебя, Юуран.
Я почувствовал, как корр крепко прижимает меня своими руками. Тропинка дрогнула и стремительно потекла назад. Именно потекла, потому что я почти не ощущал бега. И опять мой бедный мозг судорожно вцепился в спасательные круги привычных земных образов. Иван-царевич на Сером волке. Да, именно привычных, потому что по сравнению с пребыванием на меховой спине бегущего по чужой планете кентавра путешествие на спине васнецовского волка казалось бесконечно привычным, домашним, уютным, как, допустим, полет на авиатакси.
Вы не поверите мне, если я скажу, что задремал. А может быть, это и не был обычный сон. Не знаю. Скорее всего я просто исчерпал свою норму впечатлений. Их было столько и так они были далеки от повседневных земных образов, что мозг отказывался принимать и перерабатывать новую информацию. Да, конечно, с того самого момента, когда я неожиданно для себя и членов Космического Совета выпалил «да» на командировку на Элинию, я все время думал о неведомом, что ожидало меня. Но одно дело лениво подумывать о приключениях между привычными земными делами, как, например, очередное предложение руки и сердца Ивонне, установление хрупкого перемирия между Тигром и пуделями и разговоры с мамой, которая постоянно давала мне из Данилы ценные указания, как жить. А другое дело оказаться в гуще неведомого.
Большинство механизмов устроено так, что при перегрузках они отключаются. Мой мозг, моя нервная система не просто находились под перегрузками. Неведомое, непривычное, странное, нелепое, опасное обрушилось на него стремительным водопадом. Оно толкало, кружило, швыряло вверх, вниз, тянуло в ледяную глубь тягостного ужаса, сбивало дыхание, переворачивало так, что я уже терял все координаты.
И некого было позвать на помощь, некому было крикнуть «хватит, я больше не могу!». И, стало быть, только самому нужно было противостоять этому хаосу, только самому бросать себе спасательный круг, только в себе наскребать по крохам мужество и здравый смысл. Если, конечно, осталось еще, что наскребать…
Так или иначе, я, наверное, все-таки задремал на спине бегущего корра, потому что рядом со мной вдруг появился братец и сказал:
— Юрка, скажи честно, откуда у тебя эта собака?
— Ты что, разве это собака? — обиделся я. — Это же…
— Юрка, не юли. Когда ты был маленьким, ты всегда хотел иметь собаку. Помнишь, отец как-то принес откуда-то с улицы щеночка, совсем крошечного. Он жалобно тявкал, скулил, писал без остановки, и мама твердо сказала, что он еще слишком мал, и жестоко разлучать его с матерью, и надо отнести обратно, и папа унес его, качая почему-то головой, а ты выл и кашлял, и хотели даже вызвать врача. Ты потом долго кашлял. Вот я и говорю, может, это тот самый щенок? Может, он так вырос?
— Эх, ты, — насмешливо сказал я брату, — а еще ученый. Это же корр, а не щенок. И какое ты имеешь право разговаривать со мной в таком тоне, когда ты сам-то, сам-то… — мне было так смешно, что я никак не мог кончить фразу, — сам-то… ха-ха… летишь, да еще стоя, как элл. — Я вдруг перестал смеяться. Я заметил, что у брата три глаза и он вовсе не брат, а элл. Но если он элл, тягостно думал я, зачем он выдает себя за брата? И потом…
Я так и не мог сообразить, какую разницу я еще обнаружил между братом и эллом, потому что Варда остановился.
Вначале мне показалось, что передо мной все те же развалины, которые я уже видел, но потом рассмотрел одно длинное приземистое строение, которое было более или менее цело.
4
Варда поднял свою круглую голову кверху, внимательно посмотрел на меня и сказал:
— Неживые, наверное, уже остановились. Сейчас я посмотрю, — он исчез, юркнув в здание, и вскоре вернулся.
— Да, — сказал он, — они просят тебя войти. Идем.
Мне почему-то не хотелось идти за Вардой. Мне не хотелось входить в черный провал, куда звал меня корр. Он обернулся и терпеливо ждал. Может, нажать на кнопку автонаводчика, и он приведет меня обратно в поселок эллов. Простите, уважаемые, я был близок к разгадке исчезновения ваших э… товарищей, но мне не хотелось входить к… э… неживым. Я вздохнул и вошел в здание. Сначала мне показалось, что внутри совершенно темно, но постепенно я начал различать в полумраке странные фигуры. Варда был прав, нижняя часть этих фигур действительно представляла собой шар, а на шар был надет цилиндр со множеством, как мне показалось, рук-щупальцев.
— Постой здесь немножко, — сказал Варда. — Они должны познакомиться с тобой.
— Здравствуйте, — сказал я.
Я не ожидал, что эти нелепые существа ответят мне «привет, паренек», не ожидал, что они кинутся ко мне, чтобы похлопать дружески по спине, но хоть какой-то знак они должны были подать, что слышат меня. Но шароцилиндры не обратили, казалось, на меня ни малейшего внимания.
Все было нелепо. И их тела, и их равнодушное молчание, и приведший, точнее, принесший меня кентавр, и даже моя обида. Она была, пожалуй, самым нелепым из всего. Но в мире, в котором не было ни одной привычной координаты, чтобы ухватиться за нее, приходилось держаться за собственные чувства, какими бы они ни были.
— Подойди, — услышал я голос. То есть я его не услышал, потому что слово это не было произнесено вслух. Я услышал его в своем мозгу.
Что должен сказать человек, подходя к неподвижным существам, что стояли на шарах в полумраке? Я сказал еще раз:
— Здравствуйте.
Я люблю это слово. Мне кажется, это одно из лучших и самых емких слов русского языка. Не короткое, конечно, механическое шипение «здрас-с…», а полносложное и четкое «здрав-ствуй-те». В сущности, оно, это слово, вместило в себя всю нашу философию: здравствуйте. То есть пожелание здравствовать, процветать и наше приветствие.
— Здравствуй, пришелец. Варда рассказал тебе, кто мы?
— Да… но очень мало.
— Он называл нас «неживыми»?
— Да, но я…
— Не надо, Юуран. Так ведь тебя зовут, пришелец?
— Д-да…
— Мне сказал Варда. Подойди.
Я сделал шаг вперед.
— Ближе. Не бойся.
Я сделал еще шажок.
— Не бойся. Прикоснись ко мне. Прикоснись.
Голос в моей голове звучал властно, громко, я ни о чем не мог думать, как будто этот бесплотный голос выдавил из меня все мысли и образы. Голова была огромна, пуста, гулка, и в ней гремел приказ, отзываясь эхом: прикоснись! Ись… ись…
Я поднял руку и повиновался. Я понял, почему Варда называл эти существа «неживыми». То, к чему я прикоснулся, было холодным, гладким, неживым. Металл ли я ощутил под своей рукой или какой-то другой материал, не имело значения. Я знал, что передо мной была не живая плоть, а тело робота.
— Юуран, сейчас я обращусь к тебе с просьбой, которая может показаться тебе странной. Но ты не бойся, никто не желает тебе зла. Сейчас Варда наденет тебе на руки кольца… Протяни руки, Юуран, вот так…
Что я делаю, пронеслась у меня в голове мысль и забилась в панике, они наденут на меня наручники… Что за вздор, какие тут могут быть наручники? Усилием воли я отогнал от себя острое желание спрятать руки и броситься к выходу, который светился теплым оранжевым светом.
Варда надел мне на руки по кольцу, я инстинктивно развел их, чтобы проверить, не соединены ли они цепочкой. Ну, конечно, нет.
— Я объясню, для чего нужны эти кольца, — сказал неживой.
— Я хочу познакомиться с тобой, с твоей памятью, языком, мыслями. Я могу это делать лишь тогда, когда ты недалеко. Мы стары и слабы и плохо теперь слышим. Кольца помогут нам. Если ты отойдешь далеко, так, что мы потеряем твой голос, кольца сожмутся, предупреждая тебя. Когда ты приблизишься, они разожмутся.
Сейчас отдохни, подкрепи силы, мы познакомились с тобой, а потом уже сумеем обменяться как следует.
— Чем? — спросил я.
— Чем могут обмениваться мыслящие существа, кроме мыслей? Иди, Юуран. Тебя манит свет, выйди, если хочешь. Мы здесь потому, что нам нужно только утро…
— Идем, — потянул меня за руку Варда. И мы вместе вышли из полумрака. Я зажмурил глаза от оранжевого буйства. — Отдохни. Здесь тебе будет удобно.
Варда подвел меня к груде веток, листьев, травы, и я покорно и благодарно опустился на буро-оранжевое ложе. Растительность была упруга и мягка, и я вытянулся во весь рост. Постель моя источала еле различимый запах, который был приятен.
Я закрыл глаза. Физически я не устал. Да и с чего бы мне устать, когда я комфортабельно дремал на пушистой меховой спине корра. Но голова моя была полна какой-то предболезненной истомы, и покой казался бесконечно желанным.
Какое-то время я лежал, не двигаясь, не думая ни о чем, ничему не удивляясь, ничего не страшась. Казалось, я покачивался на тихой, теплой воде, и вода пахла успокоительно и чуть печально.
Но вот кто-то осторожно, бесконечно нежно начал перебирать мои мысли. Слова не могут передать того, что я испытал, они слишком грубы и приблизительны. Может быть, кто-то и сумел бы сделать это лучше, но я: просто не могу подобрать слова невесомо-легкие, как паутинки, мягко-настойчивые, как ладони матери, когда она переворачивает младенца, бесконечно осторожные, как движения хирурга во время деликатнейшей операции.
Кто-то перебирал мои воспоминания. Прикосновения были чуть щекотны, быстры, легки. Вот они вызвали к жизни отца. Я вдруг осознал, что за годы, прошедшие после смерти его, внешний образ отца изрядно стерся, выцвел из моей памяти. Вспоминал я отца часто, но не его лицо, фигуру, руки, а скорее его чувства ко мне, этот трепетный теплый поток.
А теперь эти неподвижные матрешки — я знал, чувствовал, что они хозяйничают в моей голове — извлекли из забытых глубин моей памяти живого отца, во плоти и крови. И он улыбнулся мне светло и печально. Он был старше, чем я помнил его, словно он продолжал жить и стариться и после смерти. Почти совсем седой. Морщинки лучились от уголков глаз. Он вдруг сказал:
— Маленький мой…
Потом мы плыли, то есть плыл отец, плыл на спине, а я лежал на его животе, и он держал меня одной рукой, и я визжал в радуге брызг от ужаса и восторга, и отец казался мне пароходом, потому что он издавал громкие гудки.
Я кашлял. Кашель был болезненный, все от него болело, даже руки и шея. И мама держала меня за руку и громко считала:
— Раз, два, три… девять, десять. Нокаут кашлю.
Брат небрежно и поучительно говорил:
— Разве это руки? Это же клешни, как у рака. Тебе надо учиться рисовать руки. Держи перед собой левую руку и рисуй ее с натуры. С растопыренными пальцами, с пальцами, сжатыми в кулак. Понял, осел?
Мне было обидно, что он называл меня ослом даже с ударением на первом слоге. И потом, какое он имел право поучать меня, когда даже директор Кустодиевки не поучал. А вот и он семенит, быстренький, сухонький. Положил руку мне на голову и говорит:
— Ничего, братец кролик, все обмелется — мука будет. — Он смеется, и смех звучит, как старенький, надтреснутый колокольчик. Надтреснутый, но все равно светло-звонкий. — Точно, истинно говорю и предрекаю: мука будет! А то, что пока мука, а не мука, так то бывает, братец кролик, ох, как еще бывает!
В глазах у Ивонны прыгают искорки. Нет, это вовсе не искорки, это отражения Чапы и Путти. Я хочу сделать ей очередное предложение и прошу пуделей успокоиться. Я так и говорю:
— Звери, замрите, я хочу сделать любимой предложение руки, сердца и животных, то есть вас, и, пожалуйста, прочувствуйте серьезность происходящего.
Я кладу руки на нежные и сильные плечи Ивонны, плечи воздушной гимнастки, но по ним проходит короткая дрожь, и она прижимается ко мне носом. Теперь мои руки у нее на спине. Спина тоже нежная и сильная, спина воздушной гимнастки, она выгибает ее дугой, как Тигр, который неодобрительно смотрит с кресла на наши объятия и думает: что это они делают…
Профессор Танихата кончил говорить, и все деликатно отводят взгляды в сторону, чтобы не подталкивать меня даже взглядом. Кроме доктора Иващенко, которому не надо отводить взгляд. Он и без того смотрит на Ивоннину маму с откровенным восхищением и раздувает смешно ноздри, словно собирается броситься на нее.
Жаль, конечно, что придется сказать им «нет», что я не могу оставить Ивонну и своих животных, что я вообще не герой, не отважный космопроходец. Что только-только начал я подписывать договор о мире и сотрудничестве с чертями, что сызмальства бушевали во мне и портили мне жизнь, и вовсе не хочу я бросать все это из-за неведомых мне эллов и рисковать жизнью.
Я упираю кончик языка в верхние зубы и говорю «нет». И почему-то слышу «да», как будто это не я, а кто-то другой, сидевший во мне, дернул в последнее мгновение за ниточку, привязанную к языку и связкам.
— Вы знаете математику, Юрий? — спрашивает командир «Гагарина», который почему-то сидит рядом с Ивонной и доктором Иващенко.
Мне стыдно сказать «нет», к тому же я уже боюсь, что вместо «нет» у меня изо рта опять выскочит непрошеный самозванец «да», и все будут показывать на меня пальцами и смеяться: смотрите, еле школу кончил, ха-ха…
— Нет, — твердо говорю я, — только таблицу умножения. И то до семи.
— Все равно, — говорит командир «Гагарина», - вы должны представлять, что такое вынести за скобки.
Да, хочу я сказать, конечно. Я даже знаю, к чему вы это спрашиваете. Сейчас вы скажете, что все «если» нужно вынести за скобки.
Но я ничего не успеваю сказать, потому что ко мне идет Ивонна. Странно, что на ней оранжевый цирковой костюм. У нее же никогда не было такого костюма. Ах вот оно в чем дело, вдруг с ужасом и восторгом осознаю я, это не костюм оранжевый — это в нем отражается оранжевый свет Элинии. Этого не может и не должно быть! — кричу я себе, и тот, кто копается в моей голове, дергает какие-то ниточки. Нет, не те, что ведут к моему языку и голосовым связкам, а другие, и Ивонна несется в воздухе, и сердце у меня тягостно сжато. Она выбрасывает вперед руки и ловит руки матери, и сердце мое блаженно разжимается, и я думаю: что за странное и прекрасное слово «ловитор».
Конечно, соображаю я, это все образы, взятые с собой с далекой и родной Земли. Но почему же тогда рядом со мной стоит высокий и худой профессор Трофимов? Не там, на Земле, когда он рассказывал мне об Элинии и показывал голограммные пленки, а здесь, у темного входа в укрытие неживых.
Этого быть не может, говорю я себе, и мне вдруг хочется смеяться. Этого не может быть — точно так говорил крошечный гномик в Калужском университете, когда мы были у него с Пряхиным. Как же его звали? Гу? Нет, это его гусь лапчатый, а он… Неважно. Важно то, что профессор Трофимов стоит рядом со мной и смотрит на меня сурово и осуждающе. Почему? А, ну конечно же, это какое-то непристойное свинство — немолодой ученый стоит, а юный байбак валяется на охапке оранжевой зелени — оранжевой зелени! Смешно! — и не догадывается встать.
— Простите, профессор, — говорю я. Я знаю, что нужно встать, но мышцы почему-то не слушаются. — Но вы ведь фикция? Не обижайтесь, пожалуйста, на фикцию. Я не хотел вас обидеть. Я имел в виду галлюцинацию. Я ведь знаю, что вы не можете быть здесь.
Я-то знал, а мои органы чувств и понятия об этом не имели. Глаза мои ясно видели Трофимова, его фигуру, лицо. И даже такой пустяк, как ворот рубашки, который был номера на два больше, чем нужно, и жилистая его загорелая шея торчала из него совсем по-детски. Может, ему покупают рубашки на вырост? — мелькнула у меня дурацкая мысль, и я с трудом удержался от смеха. Я понимаю вздорность предположения, но мозг мой работает без моего участия. На что это похоже? Наверное, на езду в электромобиле по шоссе, когда переключаешь управление на автомат и сигналы, идущие по подземному кабелю, регулируют движение. Ты смотришь на руль, и он, как живой, сам по себе поворачивается, когда нужно, и мотор тихонько взвывает, прибавляя обороты на прямых отрезках.
Вот и сейчас мозг мой сам прибавляет и убавляет обороты и закладывает виражи, о которых я и представления не имею. Я им не управляю. То есть я еще пытаюсь удержать хотя бы рычаг переключения с автомата на ручное управление. Я знаю, что профессор Трофимов, который рассказывал мне на Земле об Элинии, не может стоять здесь подле меня. Я знаю — а он стоит. Остальные появляются из-за каких-то кулис моей памяти, плавно проплывают передо мной на вращающейся арене, а он стоит и стоит.
Внезапная догадка. Он вовсе не порождение моего воображения. Наверное, он только что прибыл на Элинию, чтобы помочь мне. Как это я раньше не сообразил. Надо встать, обязательно нужно встать.
— Сейчас, товарищ профессор, — торопливо бормочу я, — сейчас я встану. Как же я сразу не сообразил, что вы… Ну, в общем, я хочу сказать…
Ура, я встал! Я стою на ногах, я одержал очень важную победу, я встал!
— Разрешите обнять вас, — захлебываюсь я словами, — честно признаться, я изрядно устал от одиночества, да и страха я набрался предостаточно.
Я протягиваю руки и обнимаю профессора, но руки мои не встречают сопротивления плоти, они проходят сквозь нее, как сквозь лучи проекционного фонаря, и одна моя рука касается другой.
Но странное дело, я испытываю мгновенное успокоение. Ну конечно же, это все фантомы, вызванные из моей памяти неживыми. Профессор словно ожидал приговора и облегченно растаял передо мной.
А из-за кулис вылезла мама, как всегда, быстрая и решительная. Лицо ее сосредоточенно. Она что, не видит меня?
— Мам, — шепчу я. Кричать мне не хочется, чтобы меня не услышали неживые. — Мам, куда ты?
— Юраня, я так долго ждала тебя, все бросила и сидела, сидела, смотрела на дверь, прислушивалась к звуку лифта и загадывала, что ты вызвал лифт, сейчас ты войдешь в дверь. Ждала и ждала и вдруг слышу, кто-то едет на лифте. Подбегаю к двери, открываю ее. Сейчас лифт остановится на нашем этаже, вздохнут и чавкнут двери, скажут «пожалуйста», и ты выйдешь на лестничную клетку. А лифт проплыл мимо. И представляешь, я чуть не заплакала, дурочка. Ну не приехал сейчас, приедет через полчаса, уговаривала себя, а сердце сжимается, сжимается…
Мама приложила мне руку ко лбу, и прикосновение было нежным и успокаивающим, и теплая волна легко приподняла меня и, покачивая, понесла куда-то вдаль. Я понял, что сплю.
Я открыл глаза с улыбкой. Надо мной сияли все те же нарисованные оранжевые облака. Края у них были ярко-золотистыми. Постель моя пахла тонко, и запах был незнаком, но приятен. Я был один. Я осторожно прикоснулся к рулю и попробовал, слушается ли меня электромобиль. Я у неживых. Меня привел, а точнее, принес к ним Варда. На руках у меня должны быть кольца. Я поднял руки. Действительно, на запястьях были белые колечки из неведомого материала. Когда их надевали на мои руки, они были свободны. Сейчас они сидели плотно, и я не смог бы снять их, даже если захотел.
Вчерашняя — я почему-то решил, что сейчас утро — истома исчезла, я чувствовал прилив энергии, голод. Где же мой рюкзак? Ага, вот он, рядом. Я достал несколько таблеток, не глядя на этикетки, и отправил в рот. Изумительную они мне приготовили еду: концентрат имел вкус жареного цыпленка.
Не успел я кончить завтрак, как из-за здания выкатились неживые. Вот уж поистине тот случай, когда слово обретает свой первоначальный смысл. Они катились, как катится шар. Они и представляли собой шары, на которые были надеты цилиндры с руками-щупальцами. Верх цилиндров был снабжен набором объективов.
Я не испытывал никаких чувств. Можно было как-то реагировать на эллов. Пусть трехглазые, пусть непроницаемые и замкнутые в мире своего «мы», но живые существа. Можно было испытывать какие-то эмоции к коррам, этим коричневым кентаврам, прямодушным и не сомневающимся в том немногом, что знают. Но какие эмоции могли вызвать у меня роботы, пусть даже столь необычной конструкции? Мама, правда, называла наш кухонный робот «дурачок ты наш» и жалела его. Папа — тогда он еще был жив и здоров — утверждал, что робот вовсе не дурачок, что это мама в своем постоянном стремительном коловращении забывает дать роботу команду и бедняга изо дня в день готовит одно и то же.
— Здравствуй, Юуран, — поздоровались со мной неживые.
— Здравствуйте… э…
— Не стесняйся. Ты сомневался, не обидимся ли мы на слово «неживые», так?
— Да.
— А почему мы должны обижаться?
— Ну…
— Ты живой, твоя плоть непрочна и уязвима. Мы же рукотворны и прочны. Кто же должен обижаться? Пойдем с нами, Юуран.
— Куда?
— К источнику.
— Вы пьете? Вам нужна вода?
Я услышал мысленно тихое бульканье. Сначала мне подумалось, что это неживые проецируют в меня звук льющейся воды, но вдруг понял — это смех. Он был мне сладостен, словно это была весточка с далекой, родной Земли. Самое драгоценное наше земное достояние — смех.
— Вы смеетесь?
— Да, Юуран. Мы научились этому звуку, когда пронизывали тебя.
— Как это — пронизывали?
— Мы проходили сквозь твою память, чтобы понять твой язык, кто ты. Мы слышали смех. Похоже мы это делаем?
— Ну более или менее. Но почему вы засмеялись?
— Когда ты сказал, что мы пьем. Нам не нужна вода.
— А что же тогда это за источник?
— Сейчас мы тебе объясним. Мы многое уже знаем о тебе. Мы видели близких тебе существ, видели кусочки твоего мира. Ты же видишь перед собой лишь странные, с твоей точки зрения, приборы или машины. Это несправедливо. Пока мы идем к источнику, мы кое-что расскажем тебе.
Я улыбнулся. Мы представляли довольно странную процессию: десятка два медленно катящихся шаров с покачивающимися на них цилиндрами и бывший цирковой артист на двух ногах.
— Прежде всего ты должен научиться различать нас. Мы ведь кажемся тебе одинаковыми.
— Да.
— Конечно, когда ты пробудешь с нами достаточно долго, ты начнешь замечать разницу. Но мы поможем тебе. Хочешь, мы пометим себя?
— Спасибо.
— Представь знаки, которыми вы обозначаете числа.
Я представил ряд цифр, от единицы до двадцати, и к своему изумлению увидел, как они проступили на блестящих телах роботов. Что значит настрой! Мой сегодняшний необъяснимый оптимизм помогал мне видеть вещи прежде всего под забавным углом: неживые, чинно катившиеся один за другим с номерами на теле, походили на участников эстафеты.
— Теперь тебе будет удобнее.
— Спасибо. Но разве вы различные? Я имею в виду не ваши тела. На одном может быть одна царапина, на другом — три. Ваши мозги…
— А ты думал, мы похожи на эллов? — спросил меня Третий. Как я знал, что со мной говорил именно Третий? Не знаю.
Наверное, так же как знаешь номер канала, когда переключаешь телевизор: на несколько секунд в углу высвечивается цифра.
— Честно говоря, да. «Мы»…
— Это страшные существа! — воскликнул Пятый.
— Почему?
— Как ты можешь даже спрашивать? Трехглазые ничего не знают и не хотят знать. Да и как они могут хотеть, когда их нет.
— Как это нет?
— Нет! — горячо воскликнул Пятый. — Как может существовать разум, когда он не осознает себя? Какой же он тогда, разум?
Мне вдруг стало жалко кротких эллов. Этот Пятый уж слишком суров. Сам-то…
— Ну пусть каждый элл и не сознает себя, но все вместе-то они сознают себя. А то, что они разумны, сомневаться никак не приходится. Они освоили мой язык необыкновенно быстро.
— Мы тоже знаем твой язык. Это еще ничего не значит. У них не рождается ни одной новой мысли.
— Почему?
— Ты еще спрашиваешь, Юуран! — Пятый прямо негодовал. — Как может зародиться новая мысль у эллов, когда каждый из них — лишь бессмысленная часть целого? Кто-то же должен первый подумать: а что если… А может, это не так… А вдруг нужно так… Кто-то должен удивиться. А это индивидуальное чувство. Нельзя удивиться всем сразу. Должен удивиться один. Он должен дать удивлению разрастись в себе, превратиться в вопрос, в мысль.
— Но почему элл, отдельный элл, не может удивиться? Он удивится, и его удивление попадет в сознание остальных, станет общим удивлением.
— Нет, это невозможно. Нужно время. Первое удивление хрупко, его нельзя делить. Оно исчезнет. Первоначальный импульс нужно прятать в себе. Но эллы не могут. Их мозги не смеют функционировать на индивидуальном уровне. Они ждут. Они лишь исполнители своей общей волн. А как может расти и развиваться эта общая воля, когда ее не питают отдельные ручейки? Нет, Юуран, эллы обречены. Они застыли в жалком своем самодовольстве. Они не умеют приспосабливаться.
— И вы хотите им помочь?
— Да, — ответил Седьмой. — И поможем.
— Каким же образом? Истребив их?
Я задал этот последний вопрос и тут же пожалел о нем. Не стоит задавать, товарищ Шухмин. Где вы и с кем имеете дело? И про наручники тоже забывать не стоит.
— Нет, мы не истребляем их, — сказал Пятый.
— Ну, не вы, а корры. Насколько я понимаю, корры без вас ничего не значат. Пусть корры убивают их.
— Мы не убиваем их, и корры не убивают.
— Но они же пропадают.
— Да.
— Ничего не понимаю.
— Скоро ты увидишь.
— Что?
— Трехглазых.
— Тех, которые…
— Да, тех самых. Кто исчез.
— Простите меня, непонятливого. Что за странная форма помощи — выкрадывать, ну ладно, не выкрадывать, — поправился я, почувствовав недовольство неживых, — пусть уводить из их городка Зеркальных стен. Это же скорее похоже на войну и на плен, а не на помощь.
— Ты поймешь, Юуран. Ты сам поймешь.
5
Почва уходила у меня из-под ног. Кружилась слегка голова от ощущения чудовищного абсурда. Стоило ль бросать бесконечно милую, далекую Землю для помощи эллам, когда, оказывается, им не угрожают, а помогают?
— Я чувствую, ум твой в смятении, Юуран, — участливо сказал Пятый. Не огорчайся, постепенно ты поймешь многое. Тем более что скоро уже и источник.
— А что это за источник?
— Мы не знаем… Почему ты смеешься?
— Эта фраза, похоже, самая популярная у эллов.
— Нет, к нам это не относится. Они не хотят знать, а мы хотим. Потом, потом мы расскажем тебе об Элинии, о том, что знаем, о том, что случилось с теми, кто когда-то населял ее. Это долгий рассказ. А пока я попробую тебе объяснить, что такое источник.
Мы — те неживые, что ты видишь, остатки великого множества неживых, которых создавали когда-то наши хозяева, наши создатели. Это был великий народ. Их звали эбры. Они все погибли. То было страшное время, когда земля подбрасывала всех и все кверху и с силой притягивала к себе. Все разбивалось, корежилось, плющилось, уничтожалось. Мы уцелели чудом. Нас было вначале тридцать семь неживых, осталось, как ты видишь, двадцать.
Мы очутились одни в разрушенном мире, без своих создателей и хозяев. Мы всегда были слугами, помощниками, верными спутниками эбров. Хозяева были всесильны и добры. Они создавали нас, они даровали нам тела и разум. Они даровали нам жизнь, и мы преданно служили им. И вот наступил день великой легкости и великой тяжести, когда все гибло на наших глазах и мы не в силах были помочь нашим хозяевам, создателям, господам.
Мы остались одни. Мы выжили случайно. Мы не знали, что делать. Мы тоже хотели погибнуть. Мы не хотели жить без своих творцов. Мы не могли жить без них. Смысл нашего существования всегда заключался в служении. Господа командовали, и мы были счастливы и горды, выполняя приказы.
Но мы остались одни, и никто не мог ничего приказать нам. Нам было страшно. Страшно жить, когда никто ничего не приказывает тебе. Страшно жить без хозяина.
О Юуран, ты и представить себе не можешь этот тяжелый давящий страх одиночества. Ты один, без хозяина, повелителя, господина. Тебе никто не приказывает, никто никуда не посылает, никто не приказывает, что думать и что решать. Мы оказались свободны, и эта свобода давила на нас, словно на наши плечи рухнули стены наших городов. О, как мы ненавидели эту свободу, эту нелепую пустоту, этот хаос, когда ты не знаешь, что делать, куда двигаться, что думать.
Когда мы были добровольными слугами и рабами своих господ, мы жили в прозрачном и ясном мире приказов. Этот мир был разлинован, и наша жизнь катилась по его линиям. Мы знали, что делать, куда идти, что думать, потому что нам говорили, что делать, куда идти, что думать. Мы жили в разлинованном мире и не мыслили другого.
А когда оказались в мире без приказов, мы поняли, что это хаос. Конец всего. Исчезла четкость и форма — порождение высшего разума, остался хаос. Свобода была хаосом, отрицанием разума.
Некоторые из нас не выдерживали, они уходили за хозяевами, они сами проходили конец пути. Но один из нас — Третий — сказал:
— Мы не имеем права ускорять конец пути. Мы несем в себе мудрость эбров, которые даровали нам жизнь. Это все, что осталось от них. Мы должны жить хотя бы ради памяти о них.
И мы решили жить. Но вскоре мы начали замечать, что слабеем. Вначале начала бледнеть наша память. Мы помнили наших творцов, помнили их города, но память начала терять яркость, и образы прошлого становились все туманнее и туманнее. Мы сознавали, что память наша ослабевает, мучились и страдали, ибо мы теряли главное, ради чего влачили наше жалкое существование. Но ничего не могли сделать. Каждый оборот светила мы напоминали друг другу о прошлом, лишь бы не забыть. Нам казалось, что, вспоминая постоянно, мы легче сохраним то, что уплывало от нас.
Мы не хотели жить в настоящем. Мы не хотели видеть вокруг себя пустоту и развалины. Мы хотели жить в мире нашей памяти, когда все вокруг было прекрасно и четко. Когда мы служили своим господам, и в служении был смысл нашей жизни.
Мы вспоминали, как мы убирали, чистили, скребли, строили, чинили, встречали своих господ. Иногда мы вспоминали, как недовольны порой были наши хозяева. Они сердились, если мы чего-то не успевали сделать или делали не так. Тогда мы горевали от выговоров, а теперь даже выговоры казались нам неизъяснимо прекрасными.
Но вспоминать делалось все труднее.
Рассказы наши друг другу становились все более отрывочными, а иногда кто-нибудь из нас останавливался в середине рассказа в тягостном ужасе, потому что вдруг видел перед собой зияющую в памяти пустоту.
А потом мы заметили, что и тела наши стали понемножку слабеть. Мы не могли уже двигаться быстро. Мы подолгу впитывали лучи утреннего светила своими небесными глазами, но силы его хватало ненадолго. Мы начали походить на старцев, у которых нет даже сил достойно пройти конец пути.
Мы поняли, что путь безжалостен, его не обманешь и конец его близок. Было бесконечно печально, и некоторые туманно бормотали, что, может быть, лучше последовать примеру тех, первых, что сами прошли конец, чем покорно ждать.
И тогда-то Шестой вдруг наткнулся на источник. Нет, Юуран, он ничего не искал. Он один из тех, кто больше других жаждал быстрейшего конца. Так ведь?
— Да, — сказал Шестой.
— Расскажи сам, — попросил Пятый, — расскажи нашему новому другу.
— Хорошо, — согласился Шестой. — Я люблю вспоминать этот день. Это было не так давно. Как и все, я открыл небесный глаз утреннему светилу, но сил почти не прибавлялось. Раньше достаточно было постоять под ним немножко, и в телах наших появлялась сила, а на этот раз я стоял и стоял с широко раскрытым верхним глазом, я чувствовал, как в тело вливались лучи утреннего светила, но сил не прибавлялось.
Это был конец. Я знал, что меня ожидает. Стоять вот так, без движения и ждать, ждать, ждать. Знать, что уходят последние воспоминания, чувствовать, как медленно гибнет во мне тот прекрасный мир, в котором мы когда-то жили веселыми слугами. И я решил сам пройти конец пути. Но у меня не оставалось сил, чтобы разогнаться и врезаться в какую-нибудь стену. У меня не было сил вкатиться на развалины и прыгнуть вниз.
Я медленно брел и знал, что если встречу на тропе хотя бы маленький подъем, не смогу на него подняться. Печаль моя была плотна, привычна, суха.
Тропа, помню, пошла чуть вниз, и катиться стало легче. Показались развалины. Когда-то мы помнили, что здесь было раньше, но сейчас все развалины казались одинаковыми, все они означали лишь конец. Конец пути.
Тропинка начала огибать руины и пошла вверх, и я остановился. Я не мог катиться вверх. Мне было больно. Когда-то мы могли часами мчаться, неся огромные грузы, а теперь я стоял перед крошечным подъемом, и шар не мог вкатиться на него. Он почти полностью сплющился, потому что в нем не осталось силы.
Тут я решил вдруг, что, может быть, в развалинах есть какой-нибудь провал. Перевалиться через край, рухнуть вниз и забыться навсегда в спокойном небытии. Видение торопило меня, звало, и я из последних сил ускорил вращение шара. Впервые за долгое время я испытывал нетерпение. Быстрее бы погрузиться в черное небытие. Оно не только не было страшным, оно манило. Оно чем-то напоминало хозяев, они так же звали нас к себе. Сама судьба благоволила мне — я катился вниз, в лощинку и с разгону влетел в развалины и почти тут же упал вниз. Все, пронеслось у меня в мозгу, конец пути, но падение было каким-то странным, медленным, как в воспоминаниях. Я падал и не падал и коснулся чего-то твердого плавно, без удара.
И здесь мне не дано было быстрее пройти свой путь. Я стоял на дне провала, вокруг было темно, и лишь верхним небесным глазом я мог различить светлое пятно.
Я знал, что никогда не смогу выбраться из этой западни, но мысль эта была мне безразлична. В конце концов, какая разница, где ждать конца пути, если главное — ждать его, торопить, звать.
Я начал было погружаться в привычное, тихое оцепенение, но вдруг почувствовал, что не могу этого сделать. Как будто оцепенение, которое раньше было легким, доступным, зовущим, неожиданно уплотнилось и не пускало меня в себя.
Это было какое-то нелепое ощущение. Я знал, что должен был впасть в оцепенение, что раньше для этого не нужно было прикладывать никаких усилий, наоборот, чтобы вывести себя из него, нужно было долго напрягаться, собирая по крохам тающие силы. А теперь все было наоборот. Мысли никак не желали привычно замедлить свое течение, обрывки памяти никак не хотели замереть и осесть, как листья, сорванные ветром, оседают потом на землю.
Все было наоборот, листья не только не ложились, они взлетали вверх. Кусочки давно забытых картин прошлого выплывали из темного тумана, светлели, наливались цветом, оживали.
Я вдруг вспомнил своего господина Арробу. Он взял меня сразу после рождения и долго водил повсюду с собой, чтобы я учился. Он любил менять форму, иногда без нужды, просто так, от избытка сил, говорил мне:
— Учись всегда узнавать своего господина, малыш. — При этом он то округлялся в один большой шар, то вытягивался в длинный лист, то выпускал множество щупальцев.
И я узнавал его в любой форме, даже когда он не входил в мой мозг, и радовался, что учусь и радую господина.
Я вспомнил восторг, который всегда испытывал, когда господин приказывал мне что-нибудь сделать и я стремглав катился выполнять поручение.
Я стоял на дне провала, ошеломленный, сбитый с толку, взволнованный. Я давно отвык от таких ярких воспоминаний, и они одновременно были сладостны и болезненны.
Я сделал движение, чтобы стать удобнее, и чуть не ударился об стену, потому что не соразмерил силы. Давно уже даже небольшое перемещение требовало огромных усилий, а тут я катнулся легко, будто вниз по крутому склону.
Я пробовал различные движения снова и снова и каждый раз убеждался, что они даются мне намного легче, чем раньше. Очевидно, подумал я, это связано с тем, что и падал я медленно в этот колодец.
Мною овладело волнение. Будоражила, раскручивала карусель памяти эта легкость. И вдруг тонкая блестящая ниточка натянулась со звоном и вытянула из черных глубин памяти трепещущую мысль: наши господа властвовали над тяжестью. Она служила им, как мы. Когда они приказывали, она ослабевала, даже исчезала, а если хотели — она росла.
Нет, конечно, я знал, что господа погибли, все до одного, но эта ослабленная тяжесть как будто несла в себе частицу их всесилия, дух их, напоминание.
Я уже не думал о конце пути, мне нужно было во что бы то ни стало поделиться с товарищами своим открытием. Оно теперь уже прямо распирало меня. Но как выбраться из западни? Даже с ослабленной тяжестью мне не взобраться по стенкам колодца. И все-таки я решил попробовать. Я уперся щупальцами, выпустив их до отказа. И поднялся вверх. Я не мог этому верить, но небесным глазом видел, как приближается ко мне проем, в который я упал.
Так я открыл источник. Я привел к нему товарищей, и все испытали такое же превращение. Они медленно катились к развалинам, тратя последние крохи сил, забыв почти все. А выходили из провала сияющие, наполненные новой энергией.
Правда, вскоре мы обнаружили, что силы эти вытекают из нас довольно быстро, что утром нам все равно нужно ловить лучи светила верхним глазом, чтобы набраться энергии и докатиться до источника, но жизнь наша изменилась.
— Как? — спросил я Шестого.
— Нет, Юуран, не так, как ты думаешь. Дело не в том, что мы можем набраться сил и освежить память, опустившись в колодец.
— А в чем?
— Мы уже говорили, что наши господа были всесильны. Они повелевали миром и всеми силами, что составляют вместе мир. И если колодец таит в себе частицу их силы и их мудрости, то, может быть, еще не все потеряно. Может быть, есть и другие источники. Более сильные. Может быть… Может быть, сила и мудрость наших хозяев, если она сохранилась в этих источниках, научит нас дождаться их прихода. Юуран, мы верим в их Приход.
— Но откуда, Шестой, откуда? Вы же много раз повторяли мне, что они все погибли во время катастрофы.
— Да, они погибли. Мы видели их расплющенные тела и предали их земле. Но… Мы не умеем объяснить. Мы же были только слугами, мы только выполняли приказы господ, мы никогда не умели повелевать силами, которые были подвластны им. Мы не обладаем мудростью господ. Мы не умеем объяснить, но мы верим, что они вернутся к нам.
Шестой замолчал. Процессия неживых медленно катилась мимо бесконечных развалин, увитых оранжево-бурым плющом, а я думал о странных существах, что совмещали в себе две крайности. Эти роботы были несомненно созданы высокоразвитыми существами. В этих нелепых телах скрыты знания, о которых скорее всего у нас на Земле еще даже не могут догадываться. И в их искусственных мозгах живет древняя мистическая вера во второе пришествие.
Дело, наверное, не в их аккумуляторах энергии, не в их логических схемах, не в их микропроцессах, не в их исполнительных органах. В сущности, все их детали неизмеримо проще деталей любого человеческого тела. Да что человеческого, какой-нибудь земной утконос устроен в тысячу раз сложнее. Дело не в устройстве мозга, а в его способности познавать мир. А мои неживые вполне могли бы составить конкуренцию каким-нибудь древним земным сектам.
Так думал я, чрезвычайно гордясь своими глубокими философскими рассуждениями. И так я увлекся сравнением неживых с древними сектами, что едва не натолкнулся на Одиннадцатого, около которого я оказался. Роботы остановились подле развалин, которые походили на все развалины Элинии: все те же искореженные трубы и балки, груды камня, металла.
— Юуран, — сказал Одиннадцатый, — ты гость наш, и ты первый можешь испытать на себе силу источника. Может быть, ты не испытаешь того, что испытываем мы, все-таки ты принадлежишь другому миру, а может быть, власть источника распространится и на тебя.
— Я, конечно, попробую, уважаемые неживые, но вы уверены, что я не рухну в этот колодец и не расплющусь о дно его?
— Ты прав, рисковать нельзя. Но мы сделаем по-другому. Сейчас кто-нибудь из нас опустится в источник и осторожненько примет тебя. Ведь провал не так уж глубок. Подожди.
Наверное, их источник похож на те развалины с птицами и летучими мышами, подумал я. Там ведь тоже менялась сила тяжести.
Шестой подкатился к небольшому провалу в блестящих плитах, остановился и подозвал меня движением щупальца:
— Смотри.
Он сделал движение вперед и не рухнул в провал, а начал опускаться медленно и плавно, словно стоя на невидимом лифте. Зрелище было необыкновенно, глаза мои фиксировали происходящее, а мозг упрямо упирался: не может этого быть, не может этого быть. И то ли от схожести ситуации, то ли и на мою память начал действовать источник, но вновь явился передо мной крошечный и сухонький сточетырехлетний гномик из Калужского университета и сказал: не может быть.
— Шагни, Юуран, не бойся, — сказал мне Одиннадцатый, — он тебя поймает, если ты вдруг упадешь в провал. Но я в это не верю. Мы бросали в провал камни, ветки, листья — все предметы теряли над источником в весе, всех их поддерживала его сила.
Я вдруг вспомнил, как мы прыгали в школе с парашютом. Занятия эти были необязательные. Предмет назывался «Знакомство с воздухом». Вел его совсем молоденький инструктор с настолько светлыми волосами, что ресницы у него были совсем белыми. Он был юн, серьезен и старался быть строгим. «Дети, — говорил он нам, и слово «дети» в его устах казалось нам ужасно смешным, — дети, бояться высоты — атавизм. Воздух, когда знаешь его свойства, друг. Он поддержит тебя в нужную минуту, ты только умей правильно опереться на него».
Вначале мы прыгали с парашютом. Прыжки были организованы за городом, на большой поляне, уютно отороченной по краям еловым леском. Мы поднимались в воздух в открытой кабине привязного аэростата, и оставшиеся на земле ребята скакали, махали нам руками, быстро уменьшаясь на наших глазах.
— Не бойся, — говорил белобрысый инструктор, — воздух сам поддержит тебя. Ваше дело — только шагнуть. Пересильте свой древний страх высоты.
Справиться с атавизмом было нелегко. Но на меня смотрела девочка по имени Леся, которая была моим злым демоном в младших классах. Казалось, она существовала только для того, чтобы отравлять мне жизнь любым способом, а способов для этого у нее было великое множество. Леся смотрела на меня и говорила:
— Юрочке страшно. Наш Юрочка выше прыжков. Зачем Юрочке прыгать, когда он может нарисовать парашют.
Не прыгнуть после этого было просто немыслимо. Распираемый горячей ненавистью, я показал маленькой дряни кулак и шагнул вниз, а внутренности мои прыгнули вверх и, к счастью, застряли в горле, а то бы они и вовсе выскочили из меня. Парашют автоматически раскрылся, и ребята на поляне теперь уже не уменьшались, а росли, и ненависть к Леське испарилась, и сердце трепетало от плавного спуска и тонкой, веселой дрожи нейлоновых тросов, на которых я висел.
Потом мы прыгали еще много раз, подымались в воздух на термошарах, парили на дельтапланах, но тот первый шаг вниз, в пропасть, остался в памяти навсегда.
Я стоял у края темного провала, внизу поблескивали объективы Шестого, который протянул кверху щупальца. Я и понятия не имел, что они могут так вытягиваться.
Ну, Леська, смотри, дрянь ты эдакая как я это делаю. Я шагнул в провал, приготовившись к падению. И не упал. Невидимый парашют не давал мне падать. Я опускался так же медленно, как Шестой.
— Вот видишь, — сказал он мне. — Стань рядом со мной в сторонке, а то тебе на шею опустится кто-нибудь.
Я стоял на дне колодца и, задрав голову кверху, смотрел, как опускается очередной робот.
— Больше трех сразу здесь не умещается, — сказал Одиннадцатый, — побудем в источнике немного и уступим место товарищам.
Я следил за своей памятью. Не знаю, как у других людей, но моя память чем-то напоминает мне сон: чем старательнее я пытаюсь что-то вспомнить, тем увертливее становится это воспоминание. Как сон. Чем больше стараешься заснуть, тем дальше он отступает.
Я и не пытался ничего специально вспоминать. А память, зацепившись за девочку Лесю, приближала ее лицо, как в трансфокаторном объективе. Оно приближалось, становилось ярче. Я и не помнил, что у нее были такие забавные, крутые завитушки на голове, как у овечки. Она показывала мне язык, потому что мы были совсем маленькими, нам по пять лет. И вдруг я понял, да что понял — увидел то, что не видел двадцать лет тому назад. Она вовсе не издевается надо мной, я ей очень нравлюсь, и бедняжка не знает, что делать.
А потом ее родители уехали работать куда-то ужасно далеко, в Канаду, кажется. Они были биологами. И Леся уехала вместе с ними, и никто меня больше не дразнил, никто не показывал язык. И я вдруг ощутил дыру в груди, и эта пустота болела.
Где ты, Леся? Ах, как хорошо было бы, если бы ты сейчас могла показать мне язык, здесь, на дне колодца в развалинах Элинии.
— Пора, — сказал Шестой, — другие ждут.
Он уперся всеми четырьмя щупальцами в стенку и, перебирая ими, быстро поднялся наверх.
— Попробуй ты, — сказал Одиннадцатый, — если ты не сможешь, я подсажу тебя.
Я пригнулся и подпрыгнул. Я был так легок, что толчок бросил меня вверх, и я выскочил из колодца, как пробка.
Конечно, я не впал в экстаз, как неживые, но и меня пребывание в колодце как-то освежило и прибавило сил. И с этой новой энергией я стал думать, что делать дальше. Что вообще делать? Пока что я плыл по течению событий. Пока что все случалось как-то само по себе. Я только вышел из города зеркальных стен и словно попал в поток, который нес меня сам по себе. Все было прекрасно: и меховые кентавры, похищающие эллов, чтобы помочь им, и роботы, тоскующие по своим хозяевам, и открытие колодца, и вера во второе пришествие их господ — но все это ни на шаг не приближало меня к выполнению моей миссии. Миссия — слово-то какое важное…
— Шестой, — обратился я к неживому, что поднялся из колодца передо мной, — я бы все-таки хотел узнать, что случилось с теми эллами, которых утащили корры.
— Конечно, мы этого тоже хотим. Мы ничего не скрываем от тебя. Мы познакомим тебя с эллом, который первый попал к нам. Поэтому мы назвали его Первенец.
— Но как у элла может быть имя?
— Не надо спрашивать. Ты все поймешь.
6
Мы вскоре добрались до более или менее сохранившегося здания, у входа в которое дремали несколько корров. При нашем приближении они вскочили и почтительно уставились на неживого.
— Курха, как Первенец?
— Хорошо, господин.
— Ел он?
— Да, господин.
— Позови его.
— Хорошо, господин.
Он нырнул в здание и появился через минуту в сопровождении элла.
— Здравствуй, Первенец, — сказал робот.
Элл напрягся, и мне почудилось, что в глазах его мелькнул ужас. Он долго молчал, потом ответил:
— Здравствуй, — мысль его звучала сдавленно, и я чувствовал болезненное напряжение, которое давило на мозг элла.
— Это Юуран, — сказал неживой. — Он приехал из другого мира, чтобы помочь эллам, но ему не нужно было приезжать. Эллов ведь никто не обижает, не притесняет, не убивает. Мы тоже ведь мечтаем о помощи эллам. Так, Первенец?
И снова долгая пауза, и снова тяжкая толкотня мыслей в его голове.
— Так, — неуверенно сказал он. — Наверное, так.
— Что значит, «наверное»?
— Я не знаю.
— Вот видишь, ты употребил слово «я». Сам. Без подсказки. Ты молодец, Первенец. Ты на правильном пути. Поговори с нашим другом, расскажи о себе. Хорошо? Пусть он сам увидит, кто помогает эллам.
Шестой укатил прочь, и я остался стоять перед эллом. Я заметил, что на его руках были те же самые кольца, что и у меня.
— Первенец, — сказал я, — мне кажется, тебе нелегко разговаривать…
— Не знаю, — пробормотал он. — И легко и тяжело.
— Почему?
— Потому что я снова умираю и рождаюсь.
— Я не понимаю.
— Я расскажу. Все равно мне нужно привыкать к рождению. Слушай меня. Ты ведь видел эллов?
— Да, конечно. Они позвали на помощь, и я оказался в городе Зеркальных стен.
— Я был эллом… Нет, не так я рассказываю. Трудно видеть из одной жизни другую. Я не был эллом, потому что меня не было. Мы были эллами. Мы были едины. У нас было одно знание, но множество глаз, мы думали одну мысль, но множеством мозгов, спрятанных в груди. Мы всегда знали, что мы должны делать, как запасать пищу, как следить, чтобы стены наших домов оставались гладкими и чтобы в них могли отражаться оранжевые облака. И нам было спокойно в этом привычном мире, тихом привычном мире. Когда светило пряталось и облака темнели, мы отдыхали на легких ложах, а потом снова занимались привычным делом. И время текло неспешно, плавно, и мы знали, что должны быть счастливы в нашей Семье. Мы забыли, кто были наши предки, мы помнили лишь, что мир погиб в Великом Толчке, и мы нашли убежище в нашей Семье.
Мы знали, что когда-то страдали от безумной жажды познания, которая увлекала нас все дальше и дальше, все выше, в страну, где пропасти были глубокими, тропинки — узкими и каждый шаг таил опасность.
Мы знали, что те, кто выжил после Толчка, освободились от разъедавшей нас неутолимой жажды. Мы стали одной Семьей, и зуд угас. Мы спаслись.
Однажды… мы… я… Тогда я еще не понимал, что это я, я говорю так лишь для удобства. Однажды я пошел за багряным корнем. Эллы любят этот корень. Я долго бродил возле Южных развалин, где чаще всего встречается багрянец, и вдруг почувствовал удар в спину. Я упал, и тут же меня схватили сильные руки; швырнули на густой мех, прижали. Я много раз видел корров, близко к эллам они не подходили, но мы не боялись друг друга. Просто мы были разными. Корры никогда не нападали на нас, и в нашей общей памяти не было случая, чтобы элл оказался на спине животного. А раз мы не знали такого, мы… я… не мог понять, что происходит.
Корр бежал, а… я… не ощущал движения. Мы… я… вдруг ощутил страх — голос Семьи ослабевал.
Мы не знали страха, пока мы были единой Семьей. Семья всегда жила в нас общей мыслью, она как бы пронизывала нас, она была нами. Нет, не так. Ее не было. Были лишь мы. Каждый был частью общего и каждое мгновение ощущал Семью. Семья была началом и концом всего. Она была нашим миром. В этом мире не было страха и одиночества. В нем было лишь ощущение принадлежности всем, Семье.
Когда меня схватил корр, я не почувствовал страха. Ведь это не меня толкнули в спину, а всех, всю Семью толкнули в спину. Не я очутился на спине зверя, а вся Семья. Меня-то не было. Была лишь Семья.
— Ты не сопротивлялся? Не пытался вырваться?
— Нет, — сказав Первенец. — Закон запрещает насилие.
— Но ведь не ты напал, Первенец. На тебя напали. Не ты схватил корра, а он — тебя.
— Все равно. Закон запрещает насилие, и мысль о насилии никогда даже не приходит Семье.
— Мне трудно понять. Ну, хорошо, ты не мог сопротивляться. Даже мысли о сопротивлении не было. А страх? Ведь было же ощущение, что случилось нечто страшное. Вы же разумные существа.
— Да, было четкое понимание, что на элла напали, что ему грозит смертельная опасность, что вероятнее всего его вскоре не будет. Но понимание принадлежало всей Семье, и вся Семья переживала случившееся с ней. С ней, с Семьей, а не со мной, потому что меня не было.
— А страх?
— Мы не знали страха. Никто никогда не угрожал Семье, никто нас не трогал. Мы знали, что победили жажду безумного знания, и страха больше не было.
И когда какой-нибудь элл погибал, падал, допустим, в какой-нибудь провал, или когда на него обрушивались камни, страха все равно не было. Ведь он не переставал быть. Переставало быть лишь его тело, а общая мысль, общее сознание Семьи оставалось.
— Но ты говоришь, что испытал страх на спине корра.
— Да.
— Почему? Ты же говоришь, что Семья ваша не знает страха.
— Да. Это верно. Но все дело в том, что, как я тебе уже сказал, я почувствовал, что голос Семьи слабеет. Я не умею объяснить, но тогда, на спине корра, я испытал ужас, который мы, эллы, и представить себе не могли. Когда элл переставал быть, он не осознавал, что уходит, ведь Семья остается, он ощущает ее, а стало быть, и он остается. На спине у корра все было наоборот. Семья уходила, голос ее слабел, слабел и исчез совсем. А я… вот в этот-то момент я испытал невообразимый страх. Но не оттого, что кто-то куда-то тащил меня, прижимая сильными руками к густой коричневой шкуре, а оттого, что исчезла Семья. Семьи не было. Не было мира, но ощущение утраты существовало. Противоречие оборачивалось кошмаром: мир исчез, но почему-то обозначение утраты существует. Теперь понятно, это был первый шаг к рождению «я», которое насильственно вычленили из всеобщего «мы».
И это новорожденное «я» корчилось в муках. Оно не желало рождаться. Оно не желало осознавать себя и становиться собою. «Мы» всегда было опорой, «мы» всегда несло покой, «мы» было целым миром, и жизнь была привычна, спокойна, неспешна. А тут неведомая сила вышвырнула кусочек Семьи, кусочек «мы» наружу, и новый пугающий мир, холодный, колючий, враждебный, навалился всей своей громадностью на крошечного новорожденного, который не хотел рождаться. Которого чья-то злая воля родила в страхе.
Но этот новорожденный комочек существовал, а раз он существовал, он думал. Вначале пришла мысль о том, что Семьи больше нет, она перестала быть в каком-то невообразимом катаклизме, похожем на день Великого Толчка. Мысль эта тут же была отброшена. Семья исчезла не сразу. Голос ее слабел постепенно. К тому же не было никаких толчков. Земля не подбрасывала нас. Вторая мысль — голос Семьи угасал потому, что угасал тот, кто привык слышать его. Пришлось расстаться и с этой мыслью, потому что было ощущение сильных рук, прижимавших к спине животного, глаза отмечали мелькание кустарника, мимо проплывали незнакомые развалины, в небе висели оранжевые облака, телу передавался плавный бег корра. Семьи не было, а мир вокруг продолжал существовать. И привычный, казалось, мир без Семьи становился чужим, невообразимо грозным и опасным. Он-то и порождал страх. Подгоняемый этим страхом, продолжавший работать мозг корчился, пытался съежиться так, чтобы вовсе исчезнуть, извивался в муках, вопил. И выталкивал в этот чудовищный в своей нагой пустоте мир крохотное, трепещущее тельце осознания себя. Рождалось «я». Не хотело, но рождалось.
Корр принес меня к неживым, сюда. Я увидел существ, о которых мы и не подозревали. Но все это почти не проникало в сознание новорожденного, который страдал. Иногда страх и боль отступали на мгновение, и тогда снова и снова выплывал во весь мозг безответный вопрос: почему? Почему меня — да, «я» уже говорил: я, мне, меня — почему меня вырвали из Семьи, почему заставили барахтаться в волнах чужого мира? Зачем с мукой вбивали в мой мозг гнусное понятие «я»?
Как-то — не знаю, на какой оборот светила это произошло, я совсем потерял счет времени — я выполз вот сюда, где мы стоим сейчас. В небе висели все те же облака, что всегда были в небе Элинии. Те же, и другие. И трава была той же, и другой. Все изменилось.
Мир вокруг меня покачивался, и я понял — я понял! — что это я покачиваюсь от слабости и голода. Ко мне медленно подходит корр. Это он, он вырвал меня из Семьи, силой оторвал от нее кусочек плоти, который теперь покачивался от слабости и голода. Он обрек на муки новорожденное «я», которое не хотело рождаться.
Мы в Семье не знали ненависти. Ни ненависти, ни насилия, и сколько мы помним себя, Закон всегда запрещал их. Но тут что-то поднялось во мне, какая-то жгучая и яростная волна захлестнула меня, заставила напрячься ноги, которые толкнули меня навстречу корру, вытянула мои руки. Я бросился на зверя, чтобы рвать его, грызть, терзать, чтобы отомстить за боль и одиночество, за потерю Семьи. Чтобы отомстить за уродца «я», что всунули в мое сознание. За то, что это сознание стало моим. Не нашим, а моим.
Но я был слишком слаб и медлителен, и корр легко увернулся, отскочил в сторону. Он смотрел на меня, и мне показалось, что в его круглых глазах тупого животного плавилась неожиданная жалость.
— За что? — спросил он.
Я замер, пораженный. Меня поразило не то, что животное разговаривает. Меня потряс вопрос. За что? Как, как объяснить этому нелепому чудовищу, за что я хотел броситься на него? Я собрал все свое спокойствие, которого у меня не было. Я спросил зверя:
— Почему ты притащил меня сюда? Зачем ты это сделал?
Корр сел, скрестил руки на широкой груди, круглые его глаза еще больше округлились:
— Как почему? Мы хотим помочь вам.
— Вы? Помочь?
— Да.
— Помочь?
— Да, мы хотим помочь эллам.
Может быть, мелькнула у меня в мозгу мысль, лишившись Семьи, я перестал понимать слова и мысли? Ведь слово «помогать» значит облегчать, разделять тяжесть ноши. Мы в Семье всегда помогали себе. Мы облегчали бремя жизни и делили на всех тяжесть ноши. В сущности Семья и есть помощь. Разделяя все на всех поровну, мы помогали себе, Семье. Слово было знакомо. А произносило его животное, которое причинило мне боль, которое лишило меня всего, лишило Семьи и сладостного спокойствия «мы».
— Ты хотел помочь мне? — недоверчиво спросил я.
— Да, конечно, — торопливо закивал корр.
— Почему же ты решил, что, утащив меня, ты помогаешь мне?
— Как почему? Неживые сказали: эллы страдают. У них нет «я». Неживые спросили меня: ты вот кто, корр? Я ответил: Курха. А у эллов, сказали неживые, даже нет имен. Они как дикие звери, что не имеют имени. И вы, корры, должны помочь им, чтоб они получили имя, чтоб у каждого трехглазого было имя.
— Кто эти неживые? — спросил я. Я был настолько поражен, что забыл о ненависти, забыл о странности слов корра.
— Как тебе объяснить? Неживые — это неживые. Они умные и добрые. Они научили нас добру. Они сказали: вы, корры, уже не животные, но вы еще не стали разумными существами. Они учили нас многим вещам и сказали: научитесь делать добро другим, тогда в вашем существовании появится смысл, и вы перестанете быть животными. Вот вы давно, например, живете рядом с трехглазыми. Они страдают, лишенные имени. Вы можете помочь им. Как? — спросили мы. Приносите их к нам, и мы вместе будем учить их, как стать разумными, как получить имя, как осознать себя.
— И вы поверили неживым? — спросил я в смятении, ибо меня одолевало множество чувств разом: и недоверие, и возмущение, и ненависть, и непонимание.
— Что значит поверили? Разве можно не верить словам? Слова — великий дар. Неживые умны. Они знают, почему в небе стоят сияющие облака, почему при заходе солнца подымается ветер, почему все живое должно стремиться к разуму. Разве неживые ошибались?
— Но почему ты не спросил меня, хочу ли я стать другим?
Корр радостно и хитро прищурил глаза:
— Неживые говорили нам об этом. Они твердили: живые существа, которые не стали по-настоящему разумными, часто не понимают, что делают. Они не осознают себя, потому что разум их слаб. Они не понимают, что нужно стремиться к усовершенствованию. Мы сказали, что не совсем понимаем, и они терпеливо объяснили нам: вот, например, у тебя, Курха, рождается детеныш. Вскоре он уже может ползать, у него открыты глаза. Но он еще не понимает, что заползать в развалины опасно. А ты, Курха, знаешь, куда детенышу можно, а куда нет. Вот эллы и похожи на детенышей, они живут своим стадом и не понимают, как нужно жить. И вы, корры, должны помочь трехглазым. Это ваш долг. Понимаете? Мы поняли, не сразу, но поняли. И гордились новым пониманием. Теперь у нас был долг. Мы уже не бегали бессмысленно по лесам и развалинам, у нас был Долг.
Мы были благодарны неживым, которые научили нас мудрости, добру и долгу, и стали называть их господами. Они и есть наши господа.
Я был потрясен, у меня не было сил спорить, я лишь спросил корра:
— Курха, когда ты притащил меня, ты видел, что мне плохо?
— Конечно. Я видел, как ты страдал. Но я был готов: неживые предупредили нас. Мудрость всегда рождается в муках, сказали они, добро, чтобы появиться на свет, должно пробиться сквозь злобу, как продираешься сквозь чащи колючника, когда ищешь съедобные корни. Дурные обычаи не хотят уходить и умирают с громкими стонами. Тысячу раз я мучился, глядя на твои страдания, но я помнил: мудрость рождается в муках. Я знал, что помогаю тебе, и это знание поддерживало и успокаивало меня.
— Значит, — спросил я корра, — вы считаете, что мы, эллы, похожи на несмышленых детенышей, что мы не понимаем, что нам нужно?
— Конечно, — ответил он убежденно.
— Но на основании чего? Мы ведь давно живем бок о бок. Вы же видели, что у нас есть город зеркальных стен. Вы же видели, что мы умеем летать, когда находимся рядом со своими жилищами. А вы были животными, которые не умеют даже строить дома. Так, Курха?
— Да, — кивнул корр. — Но у вас же нет имен.
— И этого достаточно, чтобы считать нас неразумными детенышами?
— Неживые объяснили: у вас не только нет имен, вы даже не живете, потому что не осознаете себя. Вы пленники своей стан. Стая держит вас в рабстве, и вы даже не знаете, что вы рабы. Нужно ли помочь рабу освободиться, если он не знает, что раб, и не хочет свободы?
— Ты говоришь о рабах, Курха, а сами вы называете неживых господами.
— В знак любви и благодарности, только в знак любви и благодарности. — Курха смотрел на меня терпеливо и безмятежно, твердо убежденный в правоте. — Поешь, — сказал он, — ты давно не ел и ослаб. Мы знаем, что больше всего вы любите багрянец, и мы собрали много корней для тебя.
Я действительно был голоден и ел с жадностью. Мысли мои метались в смятении, как мечутся летучие стражи развалин, когда их потревожишь. То мне казалось, что я бы с наслаждением впился зубами в шею корра, вырвал его круглые безмятежные глазки. И непривычная ненависть была горяча и неожиданно сладостна. То я повторял его слова о рабах, не знающих, что они рабы, и слышал несокрушимую уверенность Курхи в правоте. И легчайшая тень сомнения скользила надо мной.
Да, говорил я себе, нам хорошо в Семье, и нам не нужно имен, потому что все мы — одна Семья. Теперь я знаю, что я — это я. Мне все еще страшно и холодно, как бывает холодно на утреннем ветру, когда тело не прикрыто одеждами. Но зато я думаю. Один. Сам сражаюсь с мыслями, пытаюсь ловить их, отпускать, сравнивать, выгонять, звать к себе.
Когда я был в Семье, я тоже думал. Но не сам. Все вместе. Всей Семьей. Наши общие мысли были неторопливые, размеренные, как волны, что набегают на берег длинными, плавными валами. Я не звал их, потому что меня не было. Мои же собственные мысли оказались непослушными и плохо управляемыми. Они мне казались самостоятельными маленькими созданьицами. Они толкались, сцеплялись, боролись, и от их борения мне все время казалось, что в мозгу моем стоит грохот.
Постепенно я научился кое-как управляться с ними. Это было нелегко. Зовешь, зовешь какую-нибудь мысль, а она, как назло, прячется, а вместо нее появляется какая-нибудь другая, незваная. Кажется, вот наконец поймал нужную мысль, а она вдруг махнет хвостиком и незаметно выскальзывает, хоронясь в темных уголках разума.
Я понял, что с ними нужно обращаться осторожно, нужно быть терпеливым, не подгонять их, и тогда они послушно приходят и подчиняются твоей воле. Это тяжкое занятие, но есть в нем странная сладость.
Ты хочешь назад, в Семью? — спрашивал я себя и тотчас же отвечал себе: что за вздорный вопрос! Ну конечно же! Но отвечая, знал, что, вернувшись в Семью, я бы жалел о рожденном в муках своем «я» и страдал, может быть, больше, чем при получении имени.
Я познакомился с неживыми. Они прикатывались ко мне каждый день, расплющив свои шары и подолгу говорили со мной. Они терпеливо отвечали на все мои вопросы, потому что вместе с рождением моего «я» во мне родилась ненасытная жажда знать. Всегда ли эллы были такими же, как сейчас? Если всегда, как они могли тогда построить дома с зеркальными стенами, потому что теперь мы не знаем, для чего нужны эти стены, в которых всегда отражаются облака. Как мы научились летать, потому что нет у нас понимания, как мы подымаемся в воздух. Не знаем мы, почему в одном месте подняться легче, чем в другом, а в большинстве мест мы не можем даже оторваться от земли.
Неживые не могли ответить. Хоть у них есть имена и хоть они помнят о своем прошлом больше, чем мы, и у них то, что за спиной, покрыто дымкой. Чем дальше — тем непроницаемее дымка. Но они, неживые, пытаются вспомнить. Они ненавидят эту дымку и сражаются с ней, каждый день с тщанием перебирают свои воспоминания. А эллы плывут сквозь время тихо и безмятежно, без бурунов и завихрений, и прошлое исчезает за их спинами, никогда никем не потревоженное.
Неживые и сами расспрашивали меня о жизни и обычаях эллов. Почему-то больше всего их интересует, как мы летаем. Они просили меня показать, как я отрываюсь от земли, но я объяснял, что эллы летают лишь вблизи зеркальных стен.
Потом они дали мне имя — Первенец. Потому что я был первый. Первый элл, получивший имя.
Вскоре корры притащили еще двух эллов. Я помнил свои страдания и пытался подбодрить их. Я склонялся над ними, когда они сжимались в комок от ужаса, я гладил их, я пытался наполнить их смятенное сознание своей уверенностью, даже той, которой у меня еще не было.
Я очень изменился. Я понял это, когда обнаружил в себе нетерпение. Мы, эллы, не знаем нетерпения в Семье. Мы никуда не спешим, ни к чему не стремимся, нас ничего не подгоняет и ничего не зовет. Мы безмятежны.
— Но вы ведь чувствуете боль? — спросил я.
— Да, — кивнул Первенец, — но она делится между всеми поровну.
— А радость? Вы знаете радость? Ну, допустим…
— Я понимаю. Конечно. Когда находишь много багрянца, когда чистишь стену, и из-под пыли и грязи, что всегда стараются покрыть наши дома, вдруг проглядывают оранжевые сияющие облака… Но и это чувство дробится на всех. Поэтому мы не страдаем от горя и не купаемся в радости. Мы безмятежны.
— Прости, Первенец, за расспросы. Я пытаюсь понять.
— Спасибо.
— За что?
— За то, что ты стараешься понять.
— Ты говоришь, что и боль и радость делятся на всех в Семье, и каждому достается немного. Но зато ведь и каждый приносит боль и радость, и Семья должна полниться этими чувствами.
— Н-нет, — неуверенно сказал Первенец. — Нет, — повторил он уже тверже, — может, когда-то так и было, но теперь ручейки, видно, пересохли, и Семья безмятежна.
И Первенец дальше продолжил свой рассказ:
— Я стал нетерпелив, беспокоен, раздражителен. Ну быстрее, быстрее же, подгонял я своих товарищей по несчастью, привыкайте к тому, что можно, оказывается, жить и без всеобщего «мы».
Можно осознавать себя.
Один, мы его назвали потом Верткий, сравнительно легко перенес второе рождение, и мы вели с ним бесконечные разговоры.
Второй угасал на наших глазах. Мы успокаивали его, утешали, уговаривали, показывали на себя. Ничего не помогало. Его «я» никак не могло вырваться из оцепеневшего мозга. Он умер. Я держал его на руках, его слабеющее сознание мерцало в моем мозгу. Я собирал все силы, чтобы выгнать из его сознания ужас одиночества, но видел, что моих сил и сил Верткого мало. Ему нужна была поддержка всей Семьи, он не мог жить один. Он все понимал, что мы просили его понять. Он не спорил, он даже соглашался с нами, что в имени, может быть, таится нечто драгоценное, что разумные существа никогда не должны считать свою жизнь самой совершенной, что Семья, наверное, не идеал всего живого, что «я», кроме нынешнего страдания, может принести в будущем неведомые нам радости.
Он все понимал, и угасал все быстрее и быстрее, словно скользил с горы. Его ум не мог жить вне Семьи. Вырванный из нее, он не мог жить. Он был слишком слаб, чтобы противостоять окружающему миру один на один.
Я просил неживых, чтобы они разрешили коррам отвести его обратно к эллам, что, может быть, еще не поздно спасти его. Но они уверяли меня, что все будет в порядке, что он оправится от травмы.
В тот день они надели на нас белые браслеты. Они сказали, что кольца придадут нам силы. Но именно в тот день третий элл, наш товарищ, перестал быть.
Мы хотели отнести его тело и предать земле, как мы делали испокон веку, но, когда мы отошли отсюда на сотню-другую шагов, кольца на наших руках стали сжиматься и причинять нам боль. Мы не могли идти дальше. Но когда мы повернули обратно, боль исчезла, потому что кольца перестали давить.
Не знаю, действительно ли неживые верили, что браслеты придают силу, но то, что они приковывали нас прочнее цепей, было теперь бесспорно.
Я, землянин Юрий Шухмин, смотрел на печального элла по имени Первенец, и душа моя тянулась навстречу ему. Не все, что он рассказывал, я мог понять сердцем — слишком далека их жизнь от нашей земной жизни, но я чувствовал, угадывал, догадывался, сквозь какие круги ада пришлось пройти этому тихому трехглазому существу. И я опять вспомнил картинку из древнего учебника психиатрии. Синдром капюшона. Как же, наверное, хотелось тому бедняге спрятаться от навалившегося на него мира, накрыться с головой. Первенец выдержал, но я чувствовал печаль и напряжение, что все еще наполняли его.
Я подошел к Первенцу и, повинуясь какому-то древнему инстинкту, нежно провел ладонью по его голове.
7
Неживые прикатились после своего утреннего паломничества к источнику, и Пятый сказал мне:
— Юуран, я хотел поговорить с тобой. У нас есть план, и мне хочется знать твое мнение.
— Слушаю, — сказал я. Что еще мне оставалось делать? Пока что все на Элинии изливали мне свои души.
— Мы хотели бы, чтобы Первенец, Верткий и остальные эллы, что получили у нас имя, вернулись к себе.
— Гм… Для чего?
— Они эллы. Они живут в городе Зеркальных стен. Мы не хотим держать их у себя насильно. Они не пленники. Мы лишь помогли им получить имя.
— А белые браслеты? — Я поднял руки, и кольца скользнули вниз. — Разве они не приковывали эллов к вам?
— Нет, Юуран, ты ошибаешься. Просто они рождались в муках, в муках становились отдельными существами, и пока роды не заканчивались, мы отвечали за них.
— Перед кем?
— Перед собой. Может быть, еще перед памятью наших господ, что когда-то даровали нам жизнь.
— И вы думаете, что эллы примут пропавших? А если и примут, они смогут жить вместе?
— Нет, конечно, не смогут они жить вместе. Не смогут, — пылко воскликнул Пятый.
— Но тогда…
— Не смогут! И не нужно, чтобы могли. Чтобы жить вместе, прежде всего нужно жить. А Семья эллов — это сборище призраков, безымянных теней, не ведающих, кто они, живы ли вообще, а если живы, то зачем. Эллы с именем принесут им свободу. А стало быть, и жизнь. Пусть не сразу, но остальные эллы последуют их примеру. Придет время, глаза их раскроются, и они зададут себе вопрос: а почему мы другие? Они увидят, что другие, те, что с именем, сильнее, мудрее. И сами придут они с кроткой просьбой даровать им имя. И будут простирать руки в мольбе научить их мудрости. И с именем они получат мудрость и свободу.
Гм… Я начал понимать корров. В красноречии неживых было что-то завораживающее. И хотя в моем мозгу пузырились десятки возражений, я не мог отказать Пятому в убежденности и какой-то убедительности.
— Ты говоришь о свободе, — сказал я. — Но вы же сами проклинали свободу, что получили после гибели хозяев.
— Это разные свободы. Мы тоскуем о наших господах, потому что мы любили их. Любили и служили им. Сами, по своей воле. Никто не принуждал нас. Мы любили их и служили им как свободные существа. Не неволя, а преданность вели нас. А свобода от любви, которая обрушилась на нас после Страшного Толчка, не радует, а гнетет нас. Мы уже объясняли тебе.
— Да, Пятый. И все же я не уверен, что эллы с именем смогут жить в Семье, как они называют свое племя.
— И я говорю, что не смогут, Юуран. Они не смогут жить старой Семьей, а создадут новую. Семью свободных эллов.
— Может быть, я не знаю…
— Ты полон сомнений, твои мысли бродят в твоем мозгу, как слепцы, неуверенно, не зная, куда они идут. Почему, чужестранец? Мы ведь перебирали пряди твоих воспоминаний и видели твой далекий мир. Он населен разными существами, каждое не похоже на другое. Разве тебе по душе Семья, члены которой не знают, кто они, не имеют своих мыслей, своей воли? Ответь мне.
— Нет, Пятый, — медленно сказал я, — не по душе. Эта Семья настолько чужда нам, что мне трудно даже сообразить жизнь в ней.
— Но откуда тогда сомнения?
— Это их Семья. Пусть странная, пусть отталкивающая для меня, но эллов-то она устраивает, очевидно. Я не могу решать за эллов, что лучше для них.
— Верно, Юуран, верно! — От избытка эмоций Пятый описал вокруг меня круг. — Правильно! И мы не хотим ничего решать за других. Если завтра корры уйдут от нас и оставят нас почти беспомощными, потому что даже с помощью источника мы слабы и дряхлы, это их право, их решение. Пусть они еще не совсем разумные существа, пусть они еще немножко и животные, но они могут решать, они обладают волей. А эллы? Разве у них есть воля? А если нет воли, своего «я», то нет и выбора.
— То, что ты говоришь, разумно. Но… не знаю… Я ведь был среди них. Они не страдают, они спокойны. Я не знаю, как образовалась их Семья, может быть, когда-то они были другими. Может быть, они сами отказались от индивидуальной воли индивидуального разума, заплатив ими за спокойствие Семьи.
— Нет, Юуран, их спокойствие — смерть, конец пути. Ты говоришь, что Семья может погибнуть. Пусть гибнет! Мы говорили с Первенцем и всеми остальными. Они согласны. Завтра они возвращаются в город зеркальных стен. Если хочешь, ты можешь пойти с ними. Подумай. Ты ведь пришел сюда на нашу землю, чтобы помочь эллам. Вот ты и сможешь это сделать, Юуран.
Я долго не мог заснуть в ту ночь. В голове у меня шло бесконечное сражение: эмоции восставали против разума, здравый смысл против логики, память против настоящего. Нет, нет, не готов я был выносить мудрые приговоры, какими быть эллам и быть им вообще или не быть. Да, конечно, одно из правил, утвержденных Космическим Советом, гласит, что земляне не должны вмешиваться во внутренние дела миров, которые они посещают. Но я и не собирался вмешиваться. Меня пригласили помочь эллам. Пока что я ничего не сделал, пока что я слушаю. Я слушатель. Замечательный слушатель. Эллы рассказывают мне о муках второго рождения, корры повествуют о том, как познакомились с долгом, неживые — о любви к незабвенным повелителям.
Не я утаскивал эллов из душного лона их Семьи, не я насильно вколачивал в них свободу воли, и не я посылаю новых эллов в их старый муравейник. Да-да, муравейник, хоть и не похожи их кубики с зеркальными стенами на уютный желтоватый холмик из хвои у ствола какой-нибудь гостеприимной елочки.
Я вдруг вспомнил, как мы стояли с братом около удивительно симметричного муравейника. Чья-то заботливая рука оградила его маленькой изгородью.
— Смотри, — сказал брат, — сейчас я воткну палку, и они забегают, замечутся…
Он поднял сухую ветку, а я вдруг заплакал. Мне было жалко муравьев.
— Это же опыт, осел, — пытался успокоить меня брат.
— Нет! — ныл я и хватал брата умоляюще за руки.
— Псих, — пожал плечами брат и бросил ветку.
Там, подле подмосковного родного муравейника, все было просто. По крайней мере для того сопливого существа, который жалел мурашек. Здесь не было брата — неживые для этой роли явно не годились, — да и муравейник был другим. Но самое главное, я не знал, кого жалеть, по ком плакать и кого хватать за руки. Я не знал, должен ли я аплодировать предстоящему втыканию палки в муравейник или хоть попытаться защитить Семью.
Я знал, что мне придется вернуться с Первенцем. Но мне хотелось, хотя бы для себя, ответить на вопросы, подсунутые мне неживым Пятым. Я усмехнулся, лежа в темноте. Пылкий Пятый — неживой, робот. А тихие эллы в своем муравейнике — живые?
Я задремал и в полусне призвал на помощь близких и знакомых. Вы будете присяжными заседателями, дорогие мои, сказал я им, и каждый из вас выскажет свое мнение о плане неживых.
Я вызвал первым почему-то брата. Он на мгновение приподнял правую бровь, как делал всегда, когда задумывался над чем-то, хмыкнул снисходительно и сказал:
— О чем разговор, братец? Ты вмешиваешься во внутренние дела Элинии? Нет. Вот и мотай себе на ус все, что видишь, напишешь потом книжку.
— Да, брат, это верно. Но меня мучит вопрос, должен ли я быть на стороне Семьи или на стороне Первенца? Должен ли я отдать предпочтение своим эмоциям или важнее принцип.
— Будь на своей стороне.
Мама, как всегда, торопилась:
— Представляешь, кроме моей педагогической нагрузки и кроме авторской работы я участвую в конкурсе на здание новой термоядерной станции в Пхеньяне, — меня просят еще быть членом приемной комиссии. Ужас! К черту этот муравейник, нечего им сидеть в своей Семье и ничего не делать. Прости, через два часа я должна быть… сейчас я посмотрю, где я должна быть… Ты не видел моего электронного секретаря? Эта маленькая дрянь вечно исчезает…
Ивонна погладила меня по голове, глубоко, совсем по-детски прерывисто вздохнула и прошептала:
— И Семью жалко. Такие они тихие и бедненькие, твои эллы. И Первенца жалко. И тебя, глупенького…
Хоть и не помогли мне мои присяжные, спасибо, что навестили, выкроили минутку, чтобы слетать на далекую Элинию.
Проводы были торжественными. Речей, правда, никто не произносил. Здесь, очевидно, это не принято, особенно когда все заранее знают, что будет сказано, но двадцать цилиндров, надетых на двадцать шаров и размахивающих трогательно щупальцами — только платков не хватало, — выглядели внушительно.
Корров же было великое множество. Они, очевидно, во всем старались походить на своих учителей-роботов, потому что тоже махали экспедиционному корпусу своими коротенькими кентаврими ручками.
Эллов я насчитал девять, но знаком я был только с Первенцем и Вертким. Все они казались задумчивыми. Я мог их понять. Если я никак не мог навести порядок в своей голове, что же должно происходить в мозгах недавних членов Семьи…
Нас сопровождали два корра, мой друг Варда, на чьей широкой и удобной спине я уже раз проделал путь от Зеркальных стен до убежища неживых, и Курха. Они должны были показать нам дорогу. Конечно, при помощи своего автонаводчика я и без них не заблудился бы, но пусть делают как хотят. Вначале я было подумал, что корры скорее конвоируют нас, тем более что наручники с нас сняли, но тут же отогнал дурацкую мысль.
Мы шли быстро. Было тепло, но не жарко, и я разглядывал пологие холмы и великое множество самых разнообразных развалин. Мимо одних руин мы проходили совсем рядом, другие виднелись чуть поодаль, третьи рисовали свои еле различимые темные кружева на самом горизонте. Поразительно количество развалин и поразительна тщательность, с которой было уничтожено то, что когда-то покрывало Элинию. Такие развалины могли быть созданы только высокоразвитой цивилизацией.
Удивительно мы все-таки пластичные существа, земляне. Прошло совсем немного времени с момента моей высадки на Элинию, а уже успел нырнуть с головой в здешние дела и поймал себя на мысли, что меня гораздо больше волнует исход нашего путешествия, чем, скажем, работа моих недавних товарищей в гелиообъединении или даже цирке.
— Послушай, Курха, — вдруг сказал Первенец, — я думаю, тебе и Варде лучше вернуться заранее.
— Почему?
— Не надо, чтобы кто-нибудь из эллов увидел вас с нами. Не забывайте, что для Семьи вы — угроза.
— Мы не угроза, — обиделся Курха. — Мы только хотим помочь, а ты говоришь — угроза.
— Я это знаю, корр, но я говорю о Семье, о других аллах. Они не знают ваших мыслей.
— Может быть, ты прав.
Он подозвал Варду, они торопливо поговорили на своем, похожем на тявканье языке и подошли к нам.
— Хорошо, — сказал Варда, — мы сейчас уйдем. Зеркальные стены уже совсем близко, тропинка доведет вас. Но мы бы хотели предупредить вас, что будем все время караулить в тех развалинах, где нашел конец пути Див, помнишь Юуран? Там, где его придавило.
— Да.
— Мы будем прятаться там на случай, если вдруг вам понадобится помощь.
— Хорошо.
— Прощайте.
Оба корра юркнули в ближайшие развалины и исчезли. Несколько минут мы шли молча. Первенец вздохнул и сказал:
— Я боюсь.
— Чего?
— Всего. То мне кажется, что, соприкоснувшись с Семьей, я забуду свое имя и забуду себя. То мне представляется, что я возненавижу своих братьев… Не знаю. — Он вдруг остановился. — Тш-ш… Я слышу Семью…
Он закрыл глаза и откинул голову, словно в трансе. По телу его прошла короткая судорога, он глубоко вздохнул. Я посмотрел на остальных эллов. Лицо Верткого было сурово и решительно, как у солдата перед боем. На других можно было прочесть самые разнообразные чувства, от восторга до ненависти.
Мы медленно шли вперед, и вдруг я увидел летящих эллов. Я уже видел их в воздухе, они даже раз несли меня, взяв под руки, но все равно зрелище казалось нереальным: чуть наклоненные вперед тела: скользящие над землей в легком трепете своих одежд. Они медленно опустились — их было, наверное, около тридцати. Они стояли на тропинке неподвижно, устремив взгляды на нас, и лица их были непроницаемы. Они казались мне двумя разными расами — неподвижные, непроницаемые, безучастные эллы на тропинке и мои спутники, которые то делали несколько шагов вперед, то замирали — и лица их можно было читать, как сводку с поля сражения.
Не знаю уж, как это получилось, но теперь и я включался в их гудящие от напряжения мысли.
— Мы пришли, — сказал Первенец.
— Эллы исчезали. Многих эллов не стало, — ответил кто-то.
— Эллы пропадали из Семьи, и мы переставали слышать товарищей.
— Мы потеряли их голоса. Они слабели, потом переставали быть.
— Мы не слышали их мыслей. Мы думали, их нет, и Семья скорбела.
— Мы есть. Мы пришли, — снова сказал Первенец. И в голосе была печаль.
— Что-то изменилось. Мы плохо слышим друг друга.
— Как будто пропавшие эллы не совсем вернулись.
— Их мысли непрозрачны, и мы не понимаем их.
Слова членов Семьи вонзались вокруг них, как защитный частокол, как крепость, и каждое примыкало к каждому плотно, без зазора. Семья защищалась.
— Они выпали из общего потока.
— Они не входят в поток.
— Их нет, хотя оболочки, похожие на эллов, стоят на тропе.
— Мы есть, — грустно сказал Первенец.
— Не о такой встрече мы мечтали, — пробормотал высокий элл по имени Узкоглазый.
— Те, что на тропе перед нами, изменились.
— Я изменился! — с вызовом вскричал Верткий. Он бросил эти слова, как гранату, и на мгновение воцарилась тишина.
— Мы понимаем слово «изменился», но что значит «я»? Пришелец уже пытался объяснить нам. Но он пришелец. Он из другого мира, где нет Семьи и где разумные существа разъединены, как дикие животные. Но как может произнести этот нелепый бессмысленный звук элл? — Теперь голос Семьи звучал сурово и осуждающе.
— Элл не может сказать «я».
— У элла не может быть «я». Элл не может отказаться от разума и стать диким.
— У нас есть только «мы».
— Только Семья.
На мгновение стало тихо, и мне казалось, что я слышу грозное и предупреждающее эхо: семья… семья… мья… мья…
— Мы пришли, чтобы научить эллов осознать себя, — тихо сказал Первенец.
— Мы осознаем себя.
— Мы эллы. Мы разумны.
— Мы Семья. Наш мозг вмещает в себя все.
Я не успевал следовать за тем, кто из эллов произносил мысленно ту или иную фразу. Да это и не нужно было, потому что они были действительно едины. Не имело ни малейшего значения, стояли на тропинке тридцать эллов, три или один. Они не хотели ничего понимать и не хотели ничего слышать. Они были Семьей и защищали ее совершенство.
— Вы не хотите думать! — воскликнул стоявший рядом со мной элл по имени Тихий, и ярость его слов вовсе не соответствовала его имени.
— Мы думаем. Наши мысли отражают весь мир.
— Вы не хотите думать и не умеете думать, — продолжал Тихий.
— Мы думаем. Но что, в сущности, значит слово «вы»? Это странное, нелепое понятие, которое мы то и дело слышим. В Семье нет «вы». «Вы» — это зараза, она может отравить Семью, растворить ее, разъединить, как разъединяются волокна тули, из которых мы делаем одежду, если бить по ней камнем. Разве элл может сказать «вы»? Если все мы — «мы», то зачем нам «вы»?
— Вы трусы, вы боитесь! — крикнул Верткий.
— Когда мы услышали еле различимые и почти забытые голоса и тут же прилетели сюда, мы верили и не могли верить, что мы увидим переставших быть. Мы видим переставших быть. Эллы, настоящие эллы не могут говорить о страхе. Эллы знают, что его нет. Мы вообще не можем спорить. У нас не может быть спора, потому что наши мысли одинаковы.
— Члены Семьи не могут спорить.
— Семья не может спорить сама с собой.
— Мы не хотели начинать со споров, — кротко сказал Первенец. — Мы знали, что нам будет нелегко понять друг друга после долгой разлуки, после того, как мы получили имена.
— У нас нет имен, мы все эллы. Имя — это одиночество зверя.
— Нам не нужны имена, как диким коррам.
— Мы выше имен.
— Мы — Семья.
Теперь слова Семьи звучали иначе. Они уже не были защитным частоколом. Это был боевой клич. Он звучал громко и грозно.
— Но почему вы так во всем уверены? — с мольбой воскликнул Первенец.
— Не говори с ними таким тоном! — взвизгнул Верткий. — Не унижайся!
— Они же закрыты. Их мозги замурованы, и ничего не проникает в них, — добавил Тихий.
— Не будем спорить, — взволновался Первенец. — Мы вернулись. Нас долго не было… Давайте осмотримся, привыкнем друг к другу…
— Нет, не вернулись.
— Эти мысли уродливы и бесформенны. Они не входят в наше сознание.
— Они не нужны Семье.
— Вы не нужны Семье.
Вдруг воцарилось долгое молчание. Оно тянулось, раздувалось, как пузырь, и я не понимал, чем оно вызвано, почему вдруг разом стих этот яростный спор.
— Мы сказали «вы»? — послышался вдруг недоверчивый и испуганный шепот. Но ведь эллы не могут сказать «вы». «Вы» говорили лишь исчезнувшие.
— Значит, перед нами не эллы. Настоящие эллы не возвращаются после исчезновения.
— Мы — Семья, а вы — не эллы. Вы только похожи на них.
— Вы призраки.
— Может быть, вы — бесформенные, что когда-то жили на Элинии, и лишь пытаетесь походить на эллов.
— Вы перестали быть.
— Вы видения, посланные коррами.
— Видите, — вздохнул Первенец, — вам легче принять нас за призраков, за давно исчезнувших бесформенных, за видения, чем усомниться хоть в чем-нибудь.
— У эллов нет сомнений.
— Вы не эллы!
— Наш разум давно победил сомнения.
— Сомнения нужны лишь животным, которые не ведают, где добыть дневной корм.
— У нас нет сомнения. Мысль наша ясна и пронизывает вещи и время.
— Нет, мы раньше тоже думали так, — сказал Первенец, — но потом поняли, что это лишь слепота. Вы слепцы, которые уверены, что темнота во всех их трех глазах — это свет.
— Вы все время восхваляете свое превосходство над животными, — крикнул Верткий. — Мы не животные, мы не животные, повторяете вы. Но вы хуже животных. Вы ничего не желаете знать. Вы не знаете того, что знают даже корры, не имеющие жилищ. Корры хотят помочь вам, а вы не ведаете, что значит стремление помочь кому-нибудь.
— Вы гордитесь, что можете подняться в воздух у Зеркальных стен, — насмешливо сказал Тихий, — но я помню, как сам поднимался. Не вы поднимаетесь, вас поднимает сила, которую вы не понимаете и которую не хотите понять. Чем вы отличаетесь от летучих стражей развалин, которые мечутся и пищат, когда их потревожат?
Мысли гудели нервно и грозно, но не складывались в слова. Я лишь чувствовал, как вибрирующая тишина полнится угрозой и сжимавшейся, как пружина, ненавистью. И если раньше презрение излучали лишь возвратившиеся эллы, то теперь, казалось, что-то изменилось. Похоже было, что щит невозмутимого превосходства, что надежно защищал Семью, начал потихоньку трескаться.
Я чувствовал замешательство членов Семьи. Они не привыкли к возмущению и гневу, они их просто не знали, и их мысли метались растерянно и изумленно. Они понимали, что с ними происходит нечто непривычное. Но они давно отвыкли и от непривычного. Непривычное рождало смятение, но они не знали и смятения. Они не были готовы к столкновению с новыми идеями и чувствами. У них не было против них иммунитета. Когда-то в прошлом веке, когда генные инженеры на Земле еще не умели восстанавливать поврежденный механизм иммунитета, новорожденных, лишенных иммунитета, пытались держать под колпаком, потому что любое соприкосновение с миром бактерий и вирусов кончалось болезнью и смертью.
У Семьи не было такого колпака, кроме привычной уверенности в своем превосходстве, и теперь оно трещало.
— Мы не слепы — это ложь. Мы видим движение светила в небе и сияние облаков. — Кто-то из эллов говорил это медленно, раздумчиво, словно не столько возражал, сколько отвечал сам себе. — Мы видим, что Семья движется сквозь толщу времени в мудром спокойствии. Наша жизнь неизменна, мы изгнали из нее суету и отвратительные настоящему разуму перемены…
— И застыли, — вздохнул Первенец. — Я ведь тоже был членом Семьи…
— Не смей произносить это проклятое слово! — выкрикнул кто-то из эллов, и мысль его клокотала. — Мы не желаем слышать проклятое слово «я»! Уходите в небытие, откуда пришли. Мы не знаем вас. Ваши голоса смущают наш покой.
— Хорошо, — печально сказал Первенец. — Мы уйдем. Мы лишь хотели помочь вам приблизиться к настоящей мудрости…
— Мудрость?! Хороша мудрость — навесить на себя имя, как зверь, стать на четвереньки и с рыком рыскать по развалинам, рыча на себе подобных. Прочь! Убирайтесь, ваша мудрость безумна. Вы вовремя ушли из Семьи, вам не место в ней. Вы не эллы, вы презренные скоты.
— Когда я вспоминал Семью, — тихо прошептал Первенец, — она всегда являлась мне теплыми объятиями братьев, а теперь она щелкает зубами. Мы уйдем, не нужно злобы…
— О, нет! — закричал Верткий. — Мы не уйдем так просто! Не надейтесь, эллы. Мы не дадим вам снова спокойно бродить, задрав к небу свои самодовольные головы. Семья, Семья! Почему вы уверены, что это только ваша Семья, мы имеем на нее такое же право, как вы.
— Не-ет! — взвыли сразу несколько голосов.
— В Семье не могут быть имена!
— В Семье нет места для «я»!
— В Семье не должно быть заразы!
— Семья это Семья.
— Мы не хотим вас!
— Вы не нужны!
— Вы опасны.
— Вы не эллы.
— Вы не имеете права входить в нашу общую мысль и тревожить ее безумными идеями, рожденными в чужих, злобных и темных мозгах.
— Э, нет! — снова бросился в бой Верткий. — Идея имени не безумна, безумна ваша безымянность. Это наши умы, осознав себя, прозрели, а ваши умы жалки и темны. И мы заставим вас понять это. Вы все получите имена, мы вколотим их в ваши головы и глотки, даже если придется для этого их размозжить. Мы выдерем вас из гнусного вашего неподвижного самодовольства…
— Верткий, не надо, — взмолился Первенец, — ты забыл, как сам страдал, когда заново родился?
— Нет, Первенец, я помню! Именно поэтому я не оставлю этих слабых, жалких эллов…
— Брат Верткий любит, чтобы все были похожи на него, — пробормотал Узкоглазый.
— А ты молчи! Ты забыл, как я кормил тебя отборным багрянцем, когда ты получил имя.
— Тихо, не ссорьтесь! — взмолился Первенец.
— Вот что они нам несут — ссоры.
— У них эта злобная свара называется мудростью.
— Они не нужны Семье.
— Пусть ссорятся и грызутся в другом месте.
— Пусть рычат в лесу, вспоминая свои имена.
— Не-ет! — взорвался Верткий. — Мы не уйдем, не надейтесь, что мы дадим вам опять залечь в свое угретое болото!
— Но их много, а нас девять, — пытался возразить Первенец.
— Да, но ты забыл про Закон, Они боятся насилия, они не имеют права защищаться, они даже не могли защищаться от простодушных корров, а уж от нас и подавно. Мы заставим их раскрыть глаза и увидеть мир, сколько бы они ни метались, как летучие стрижи развалин.
И опять грозно завибрировали в наступившей тишине молчаливые мысли Семьи, потом тяжко, грузно заворочались, и мне почудилось, что я слышу громкие вздохи, чавканье. Мысли их булькали одной огромной массой, вздымались, опадали, что-то стремилось к поверхности, упорно, мучительно, медленно подымалось и вдруг вырвалось острым криком:
— Хватай их!
И снова тишина. Из варева мыслей выскользнуло испуганно:
— Но это же насилие! Закон запрещает насилие.
— Если Закон мешает защитить себя, это плохой Закон.
— Законы не могут быть плохими или хорошими. Законы есть Законы.
— Нам не нужны такие Законы.
— Мы не имеем права так думать о Законах. Законы даны нам, и эллы следуют им.
Чья-то мысль взметнулась в отчаянном усилии, в слепом гневе. Я чувствовал это борение, и хотя я был всего лишь зрителем, сердце мое колотилось от волнения. Гнев сжался в комок, уплотнился, раскололся и вдруг взорвался криком:
— М-мы… м… м… Я не хочу следовать таким Законам!
Я видел, как кто-то из эллов рухнул на землю, обхватил голову руками и забился в судорогах. И понял, что произошло. Это он сказал «я».
Все оцепенели. На мгновение все бушующие мысли замерли, как в старинной детской игре на Земле, когда кто-то командует: «Замереть!» — и все застывают в позах, в которых их застал приказ. А потом чары спали, и мозг мой загудел от криков:
— Элл сказал «я»!
— Мы не могли этого сказать!
— Но сказали!
— Вот он на земле, он сам себя вышвырнул из Семьи!
— Как он бьется!
— Как водяная илина, выброшенная на сушу.
— Но мы…
— Он — не мы.
— Он уже вне Семьи.
— Но…
— Никаких «но». Мы не можем позволить себе…
— А если еще кто-нибудь последует его примеру…
— Стойте! Мы не можем спорить. Споры низменны. Нам не нужны сомнения. Мы Семья.
— Вы обречены! — ворвался голос. Верткого. — Только что один из вас сказал «я». Его толкнула ненависть. А скоро скажет и другой, которого толкнет доброта…
Лежавший на земле элл вскочил, глаза его яростно сияли. Его била дрожь. Он был весь накачан болью и искал выхода ей. Он крикнул:
— Бей! Я вырву из его груди его грязный мозг!
Он пригнул голову и бросился на Верткого. Тот увернулся, а Тихий подставил ногу, и атакующий элл растянулся на земле. Другой элл, стоявший в нескольких шагах на тропинке, кинулся вперед, тяжело взмыл в воздух и тут же опустился на плечи Первенца, который покачнулся и замахал руками, пытаясь сбросить груз.
— Глядите на этих эллов! — крикнул Тихий. — Глядите, как они соблюдают Закон. — Он подскочил к Верткому и ударом кулака сбросил с его плечей элла. Тот вскрикнул и упал на землю.
— Что вы делаете? — пронзительно закричал Первенец, сделал шаг назад, наступил на упавшего с плечей Верткого элла и в ужасе отшатнулся.
Я плохо помню, что произошло дальше. В памяти запечатлелись лишь слившиеся в один вопль крики, биения и метания испуганных, взбешенных, потрясенных мыслей, глухие звуки сталкивающихся тел, стоны, хрипы. Чье-то тело навалилось на меня, не давая дышать. Я судорожно отталкивал его, но оно было тяжело, как отчаяние, и запах его в моих ноздрях был остр. Инстинктивно я сжал челюсти, тело на моем лице дернулось, я улучил мгновение и успел втянуть глоток воздуха, потом рот и нос снова залепила нестерпимая тяжесть, и я потерял сознание.
ЧАСТЬ 3
1
Я всплывал медленно, томительно медленно, настолько медленно, что я даже начал было бояться, что мне не хватит дыхания добраться до поверхности, потому что речушка была глубже, чем мы думали с братом, когда ныряли. Ну не всерьез, конечно, с берега, а так, кое-как, потому что брат всегда учил: никогда не ныряй в незнакомом месте, головка у тебя и так слабая и к тому же одна, стоит ли раскроить ее о какую-нибудь корягу. Брат, наверное, уже выплыл. Он потянул меня за руку, и я тоже вынырнул. А может, и не вынырнул.
Речушка была маленькой, веселой, мы ловили в ней крошечных плотвичек с красными глазами. Они смотрели так смиренно, так жалобно, раскрывали рты в немой мольбе, что мы отпускали их обратно в воду. На зеленой траве, что подходила почти к самой воде, меня ждали Ивонна, Тяпа и Путти. Они все трое караулили нашу одежду.
Я знал, что, вынырнув, попаду из зеленоватой воды — у поверхности вода всегда наполнена зеленым светом — в теплый солнечный мир, что брат скажет: ты изумительно плаваешь, точь-в-точь как топор. А Ивонна скажет: как глубоко ты нырнул, я уже начала беспокоиться. А собаки будут носиться по берегу, лаять, но в воду не полезут, потому что обе панически боятся воды, хуже кошек.
Я вынырнул, но не было ни солнечных бликов, трепещущих в речушке, не было брата, Ивонны, моих милых малых пуделей, не было речушки и света. Было темно.
На мгновение выскочившие на поверхность мысли съежились в смертельном ужасе: меня нет, я умер. Но тут же дернулись, распрямились, понеслись, потянули за собой воспоминания свалки на тропинке. Осторожно, боясь спугнуть острое счастье рождения, я протянул руку, ощупал себя, и прикосновение пальцев к лицу было сладостным. Я жив, цел. Но почему я ничего не вижу? Глаза? Снова леденящий удар страха. Я слеп. Мне выдавили глаза в драке эллов. С бьющимся сердцем, безмерно медленно, как картежник, открывающий карты при роковой сдаче, я провел пальцами по лицу. Щеки, ноздри, нос… Глаза мигнули, открылись, и мир вспыхнул оранжевым отблеском.
Неужели можно за столь коротенький отрезок времени испытать столько эмоций? Страх удушья, горе утраты реки, солнца, брата, Ивонны, собак. Ужас смерти, небытия. Кошмар слепоты. Восторг возвращения жизни. Радость дарованного зрения.
Но мы, земляне, неблагодарны, нетерпеливы и ненасытны. Вместо того, чтобы тихо наслаждаться жизнью и зрением, я уже приподнялся со своего жесткого (жесткого, а не невесомого, отметил я автоматически) ложа и осмотрелся. Рядом со мной сидели и лежали эллы. Да, конечно, все девять эллов, с которыми мы выступили совсем недавно с благой целью принести их братьям мудрость. И как это чаще всего бывает в таких случаях, благая цель привела нас к какой-то конуре, в которой мы были заперты.
— Ты проснулся? — спросил Первенец. — Мы боялись потревожить тебя. Какая это все-таки странная вещь — ваше оцепенение. Ты лежал и дышал. Ты был жив, а в мозгу твоем плескалась вода, появлялись и исчезали нелепые существа.
— Почему нелепые? — зачем-то обиделся я. Я хотел объяснить Первенцу, кого именно я только что видел, но клочья сна уже уплывали от меня. Я еще помнил прикосновение воды к телу, но уже не знал, что это была за вода.
— Два существа были похожи на корров, но без рук и очень маленькие.
Да, конечно же, это Чапа и Путти. Ненасытная Чапа с желтыми глазами, которая нетерпеливо толкала меня лапой, если ей становилось скучно, и безмерно терпеливая Путти. Сон вернулся на мгновение и тут же исчез, теперь уже окончательно.
— Где мы, Первенец? — спросил я.
— Я до сих пор не могу опомниться от того, что случилось, — ответил он. — Чтобы кинуться на кого-нибудь, толкать, тащить, бросить в этот склеп… — Он помолчал. — Закон рухнул, Закона больше нет…
— И ты жалеешь? — насмешливо спросил Верткий, вставая с пола и делая несколько шагов. — О чем ты жалеешь? Об этих обручах, что насильно стягивали нас?
— Закон держал Семью. И не насильно.
— Закон ничего не держал. Нас держала вместе немота.
— О какой немоте ты говоришь? Разве не было тебе тепло и уютно в постоянных объятиях Семьи, разве не было тебе покойно от постоянного течения нашей общей мысли? Ты думал о чем-то и чувствовал, как эти мысли тут же расплываются в мозгах всех братьев, и мысли братьев накатывались на тебя, как волны в море, что лежит за большими развалинами. Разве не так, Верткий?
— Так, так, друг Первенец. Так. Все так. Но вспомни, что приносили эти волны. Светило оборачивалось снова и снова, а волны, которые так греют твою память, приносили мысли о том, что пора протирать стены, чтобы они лучше отражали облака, что пора идти собирать багрянец, что теперь багрянца много… Что еще? Иногда волны приносили обрывки смутных воспоминаний о Великом Толчке, но они, как и волны, что умирают на берегу, тут же гасли. Может быть, в чьих-то мозгах и рождались какие-то иные мысли и какие-то иные воспоминания, но тут же хирели, таяли. Потому что Семье не нужно ни мыслей, ни воспоминаний. Что еще? Появление диковинного аппарата, откуда вышли двуглазые? Мы ни о чем не расспрашивали их. Теперь мне кажется, что во мне — это я теперь могу сказать «во мне» — шевельнулся вопрос: кто они? Откуда? Но нерожденные эти вопросы тут же распались. Семью ничего не интересовало. Мои, твои, чьи-то еще вопросы робко пытались вплыть в общий поток, но Семья тотчас же топила их.
— Но Семья — это ведь были мы же, Верткий, мы. Не кто-то со стороны. Значит, это мы не хотели знать. Значит, это мы не расспрашивали пришельцев ни о чем.
— В том-то и фокус, Первенец, что Семья — это не мы.
— Не понимаю.
— По отдельности мы все эллы. Но сложенные вместе мы становимся уже чем-то другим — Семьей. И она живет по своим законам. Вот мы с тобой разговариваем о разных вещах. Нас мучают вопросы. Мы хотим знать. Мы ищем ответа. Мы другие. Но мы же не изменились. Мы те же. Посмотри на меня, разве я изменился? — Он раскинул руки и повернулся. — То же тело, те же три глаза видят все те же вещи, в груди тот же мозг. А мы другие. Только потому, что выскочили из мертвой хватки Семьи. Чем больше я думаю, тем больше она напоминает мне ту таинственную силу, что трясла землю во время Великого Толчка и расплющивала все, что было на ней.
— Может быть, ты прав, — вздохнул Первенец. — Мне тяжко думать об этом так беспощадно, как это делаешь ты.
— Тяжко, гм, тяжко… Скажи мне, какой же смысл было проходить через муки второго рождения, чтобы потом жалеть о прошлом?
— Конечно, это так, друг Верткий, ум твой не знает оков…
— Опять вы за свое, — вмешался Тихий. — Может, Семья действительно сковывала мысли, но вы и без Семьи жуете одну и ту же жвачку. И так вы увлечены своими бесконечными спорами, что не замечаете главного.
— Чего именно? — спросил элл по имени Узкоглазый. Был он молчалив, и я редко слышал, чтобы он спрашивал что-нибудь.
— Не знаю, как вы, но я больше не слышу Семью. Такое же молчание, что было у неживых. Хотя мы в городе и все время слышали голоса Семьи.
Все помолчали.
— Да, — сказал Первенец, — это правда.
— Какая тишина, — подтвердил Верткий, — в точности как там, у неживых. Но что это значит?
— Как будто ты не догадываешься, брат Верткий, — насмешливо сказал Узкоглазый. — Как будто ты еще в Семье и не можешь сам ничего понять. А на тропе ты был смелее, когда витийствовал перед бывшими братьями.
Верткий вскочил и шагнул по направлению к Узкоглазому, который сидел, привалясь к стене, и насмешливо смотрел на него.
— А ты что, не согласен с тем, что я говорил? Может, ты соскучился по «мы»? Иди, элл, поклонись Семье, скажи: простите, братья. Меня больше нет, и имени у меня нет. Не хочу больше быть Узкоглазым, хочу быть без имени и без «я».
— А что, может, это не такая глупая мысль, — лениво процедил Узкоглазый. И трудно было понять, серьезен ли он или подшучивает над Вертким. — По крайней мере не слышал бы твоих приставаний. Ты у нас один заменяешь целую Семью. Один ты все знаешь.
— Братья, — взмолился Первенец, — опомнитесь, прошу вас. Не успели вы получить имя в муках, о которых лучше не вспоминать, как уже накидываетесь друг на друга, как сурми, когда они шипят, стоя друг перед другом на задних лапках, и норовят вонзить друг в друга свой кривой шип. Подумайте сами, кем мы должны казаться Юурану. Он пришел из невообразимого далека, чтобы помочь нам, мы позвали его, а теперь схватываемся то и дело друг с другом. Скажи им, Юуран, скажи.
Что я мог сказать? Нет, не чувствовал я себя достойным судьей их споров. Им, им решать. Им думать. Жалеть или гордиться. Радоваться или страдать.
— Скажи, Юуран. Тебе легче видеть. Ты ведь не элл. Когда я заново рождался, когда корчился в муках, когда становился эллом с именем, меня поддерживала мысль, что пытки эти не напрасны, что откроется мне и другим новая мудрость, выше той, что мы знали в Семье.
И вот у нас есть имена, и мы легко швыряем в разговоре слово «я» и даже не содрогаемся, произнося его, и мысли наши стали свободны. Они уже не втиснуты в тугую общую упряжку Семьи. Их никто не ведет общим строем. Они свободно разбредаются в разные стороны, и никто, кроме нас, каждого из нас, не одергивает их. И что же? Мы презрели Закон, мы принесли в Семью смятение, насилие.
Может быть, наши страдания были напрасны? Может быть, нам надо проклясть корров, похитивших нас, якобы для нашего же блага, может, нам надо проклясть неживых, выпустивших нас на свободу, выпустивших наши мысли. Может, не нужна нам эта свобода, когда разбредающиеся мысли ранят мозг своими когтями, жалят шипами. Не знаю…
— Молчи, Первенец. Мне стыдно слушать тебя, — крикнул Верткий. — О чем ты жалеешь? О небытии?
— Не знаю… Да, Семья надевала на мысли упряжь, но зато снимала заботу, боль, сомнения… Скажи, Юуран, мы ведь позвали тебя, чтобы ты помог… Ты ведь из другого мира, где у всех есть имена, подскажи, пришелец, как нам быть.
— Мы на нашей Земле шли к мудрости трудными тропами. Часто кривыми, еще чаще опасными. И те великие и благородные умы, что учили людей мыслить, учили добру и мудрости, бесчисленное количество раз подвергались насмешкам, издевательствам, их побивали камнями и заточали в сырые темницы. И те, кто не хотел учиться мудрости и добру, прыгали от восторга, гоготали, показывали пальцами, орали: вот, смотрите, он призывает к добру, а сам хромой, ха-ха… Глядите, он говорит, что думает, ха-ха-ха, хорошо ему сейчас будет думать, когда палач выбьет из-под него опору и он запляшет на веревке, ха-ха… Мы, земляне, долго шли по тропе добра, братства и мудрости и дорого платили за каждый шаг, каждый поворот тропы и каждый ее подъем.
Теперь мы живем в светлом мире братства, но все равно каждый, каждый землянин учится думать, учится быть собой…
— Это значит иметь имя? — спросил Верткий.
— Да, можно сказать, так. Но это наш путь, мы оплатили его и никому не подсовываем его — будьте такими же. Мы уже давно поняли, что тропу к мудрости нужно выбирать самому и идти по ней самому. Самому, а не стадом, подгоняемым бичами пастухов и лаем злых овчарок. Плетью к мудрости не погонишь, лаем не воспитаешь доброту. К мудрости идешь сам, а не строем.
— Хорошо ты говоришь, красиво, — пробормотал Узкоглазый, — тропа к мудрости, конечно, вещь хорошая, но, боюсь, искать нам ее не придется.
— Почему? — спросил Верткий.
— Да потому, что мы не выйдем отсюда.
— Как это не выйдем?
— Очень просто.
— Мы заставили Семью нарушить Закон, и теперь она защищается. Она выкинула нас. Она закрыла от нас и общую мысль и выход из этой дыры. Закон, вернее уже не Закон, а обрывки, остатки его, еще живут в Семье. Иначе они бы затоптали нас, побили бы камнями, сбросили в провалы развалин. А так они затолкнули нас в эту дыру, и мы сдохнем здесь от голода, сами, без насилия.
— И что же будет? — вздохнул Первенец.
— А ничего, брат Первенец. Мы будем сидеть здесь, будем спорить о бессмысленных вещах. Потом, одичав от голода, мы будем лязгать зубами и кидаться друг на друга. А потом перестанем лязгать зубами и кидаться друг на друга, и все на Элинии будет идти своим чередом, и память о безумных эллах, что подняли руку на Закон, быстро вымоется из Семьи привычными, каждодневными заботами о сборе багрянца и чистке зеркальных стен. Юуран нам только что объяснил, что тропы к мудрости бывают разные. Будем считать, что наша привела нас в тупик.
— Нет! — крикнул Верткий. — Нет, нет, так легко я не сдамся. Не для того получил я имя, чтобы покорно ждать конца пути.
— Ну хорошо, — вздохнул Узкоглазый, — жди его непокорно.
— Но должен же быть отсюда выход.
— Пока вы думали всю ночь о высоких материях, я ощупал все стены. Они толсты, братья. Семье отвратительно насилие. Она предпочитает, чтобы мы сами разбили себе головы об эти стены…
Меня начал мучить голод, я привычно полез в карман за концентратами, но карманы были пусты. Мысли о пище потянули за собой мысли о воде, и я почувствовал жажду. Человек гибнет от жажды гораздо быстрее, чем от голода. Пока эти мысли были еще сравнительно спокойными: понятия «голод» и «жажда» еще относились к абстрактным понятиям, они пока что еще свободно циркулировали в мозгу, они еще не запекли губы и не затуманили сознание видениями пищи. Я понимал, что могу погибнуть, но не хотел еще всерьез думать об этом. Может быть, костлявая где-то уже бродила неподалеку, но не хотелось мне заранее смотреть ей в глаза. Не готов я еще был к концу пути, как здесь изящно выражаются. Уж слишком это нелепо: издохнуть от жажды или голода в каменной дыре в обществе трехглазых эллов за тридевять парсеков от родной Земли. С другой стороны, возразил я себе, всякая смерть нелепа, и испустить дух в своем круглом гелиодомике в подмосковной Икше нисколько, наверное, не нелепее и не лучше.
А может быть, подумал я, смерть на Элинии даже удобнее. Все здесь было немножко нереально, от трехглазых до неживых, и костлявая тоже покажется мне в последнюю минуту нереальной. Да и неизвестно еще, как она здесь выглядит и что у нее в руках вместо косы.
Ах, Юрочка, Юрочка, одернул я себя, легко думать о конце, когда в глубине души не веришь в него. Даже кокетничать тебе удается с костлявой.
Костлявая дрогнула в моем воображении и покатилась, и я понял, что нижняя ее часть не то ступа, не то шар, как у неживых. Это могло значить только одно — я уже спал.
Не знаю, сколько я продремал, но открыл я глаза, когда в камере нашей висели уже сумерки. Эллы молча сидели, привалившись к стенам. Узкоглазый вытянулся на полу, подложив под голову руки.
Хотелось пить, теперь уже всерьез. Сколько я ни старался отогнать от себя картины питья, воображение упрямо подсовывало различные стаканы, пиалы, бокалы, ведра, речки, пруды и озера. Как я был легкомысленно безумен, что никогда не умел ценить божественный дар воды, этого сладчайшего нектара, основы жизни. Если бы у меня в руке был сейчас стакан самой обыкновенной воды, я бы смаковал ее, как драгоценнейшую амброзию.
Я попытался облизнуть пересохшие губы, но язык был сухой.
Спокойно, сказал я себе, только не впадать в панику. Да, мучит жажда, но прошло еще слишком мало времени, чтобы организм мой серьезно обезводился. Я начал думать о том, сколько может человек прожить без воды, но вдруг увидел, как Узкоглазый неожиданно сел и как бы прислушался к чему-то. Зашевелились и остальные.
— Что случилось? — спросил я.
Узкоглазый предостерегающе качнул головой, и в это мгновение я услышал тихий шепот. Он был настолько тих, что я не сразу смог различить слова.
— Это элл, который там, на тропе, сказал «я», - прошептал Узкоглазый.
— Тш-шш, — шепнул Верткий и вскочил на ноги.
— Мы… — услышал я, — они… Семья прогнала…
Шепот прервался, и Верткий, напрягшийся было, как перед прыжком, разочарованно обмяк. Но Узкоглазый поднял руку, и я опять услышал тихий, запинающийся голос:
— Семья изгнала… К диким коррам… Мы… м-мы… — Мы чувствовали муку, спрессованную всего в несколько звуков. — Мы… мы… — шепот снова затих, — я… я… я… — шептавший словно заставлял себя снова и снова произносить это слово. Слово, которое стоило ему изгнания из Семьи. И казалось, что, заплатив за него такую цену, он старался не выпустить его из рук. — Я… вышел за Большие развалины… Один. С пустой головой. Представляете, с пустой головой, в которой больше не было родного гула Семьи, с которым мы появляемся на свет и с которым проходим конец пути, когда подходит срок. Эта тишина, эта пустота нестерпимы, они причиняют острую боль. Она царапает и зудит ум, и ум не знает, как избавиться от тишины. А она все растет и растет — эта проклятая тишина, она, ненавистная, становится огромной и гулкой, как далекие развалины на берегу, она заполняет весь мир…
Я… я не мог идти. Я бросился на землю, я катался по ней и бился головой о камни. Я думал о конце пути.
Я хотел уйти подальше от Семьи, что прогнала меня, и не мог уйти от нее.
А потом… потом я подумал о вас…
— Долго же ты вспоминал, — сказал Верткий. — Там, на тропе, когда мы пришли, ты сразу крикнул «бей!».
— Мне стыдно и больно. Мы… м… я не знаю, что случилось там. Как будто это был не я…
— И ты пришел к нам? — спросил Первенец.
— Да.
— А как ты нашел нас?
— Не знаю. В какой-то момент в пустоте я начал различать тихие звуки. Сначала мне показалось, что я снова слышу голос Семьи, но потом понял, что это не Семья. Голоса спорили — о чем, я не мог понять, — но спорили, и это не походило на ровный, привычный голос Семьи.
— Спасибо, что объяснил, — сказал Узкоглазый. — Как будто мы никогда не слышали голоса Семьи.
— Прости, мы… я так страдаю, я так измучен, что наши… мои мысли текут с трудом, мешаются… Да, я услышал споры и понял, что слышу тех, кто пришел… Я… я шел на ваши голоса. И пришел. Я хочу быть с вами.
— Ты просто боишься одиночества.
— Может быть.
— Тебя видел кто-нибудь?
— Нет, никто.
— Ты можешь выпустить нас?
— Нет.
— Почему?
— Я уже пробовал. Дверь не подпускает меня.
— Да, отлично они нас здесь замуровали, — вздохнул Узкоглазый.
— Попробуй еще раз, — приказал Верткий.
— Я пробовал много раз. Я хотел сделать что-нибудь для вас. Но каждый раз, когда я подношу руку к двери, что-то невидимое останавливает ее. Мы… я помню, мы запирали так запасы продовольствия от животных, но эллы всегда спокойно открывали такие запоры.
— Он больше не член Семьи, — сказал Тихий. — Такие запоры может открыть только Семья.
— Уж это-то точно, — насмешливо сказал Узкоглазый, и в голосе его звучало странное удовлетворение. — Невозможно.
— Что мне делать? — прошептал элл снаружи. — Я полон страха…
— А что тебе делать? Сиди спокойно и жди, пока тебя не увидят и не прогонят снова.
— Я попрошусь к вам.
— И будешь глупцом. Иди к коррам, к неживым. У тебя уже есть «я». Какое ни на есть, а «я». Будешь хоть жив, будешь сыт. А здесь у нас издохнешь, — сказал Верткий.
— Уж это точно. Все мы тут издохнем, — радостно подтвердил Узкоглазый.
— Иди, элл, — сказал Первенец, — прошу тебя. Ты только что заново родился, и тебе не нужно думать о конце пути.
— Нет, я не хочу уходить. Я хочу пройти конец пути с вами.
— Он так боится одиночества, что готов быть благородным, — заметил Узкоглазый.
— Не будь таким злым, Узкоглазый, — сказал Первенец.
— Скажите, — сказал я, — этот вот запор, что не дает открыть дверь…
— Это не запор, Юуран, это слово.
— Не понимаю.
— Ну как тебе объяснить? Семья мысленно может запереть дверь так, что другие ее не откроют.
— И нужно знать какое-то слово, чтобы открыть ее?
— Нет. Нужно просто захотеть открыть.
— Так откройте.
— Мы пробовали. Перестав быть членами Семьи, мы лишились и той силы, которой они обладают.
Да, я начинал понимать Узкоглазого, который, казалось, получал извращенное наслаждение, круша и без того призрачные надежды на спасение.
Но ведь я не элл, вдруг ухватился я за новую соломинку. Они сами просили прислать им человека для помощи. Помог я или не помог, но вреда им я явно не причинил, и они должны нести какую-то ответственность за меня.
Слова были какими-то канцелярскими и жалкими: нести, ответственность, должны… Ничего они не несут, этот потревоженный муравейник, никакой ответственности не ведают.
И все-таки я не хотел упускать надежду. Я вцепился в соломинку, в хрупкую, ничтожную соломинку. Они придут, обязательно придут, они же понимают, что я не элл. Чужестранец, скажут они, выходи. Ты не можешь умирать вместе с этими…
Я поймал себя на том, что чуть-чуть не произнес мысленно слово «предателями». Неужели я уже готов в обмен на призрачное спасение считать моих товарищей по пленению предателями? Кроткого в своей печали Первенца, буйного, непреклонного Верткого, насмешливого Узкоглазого? Неужели я бы смог выйти из тюрьмы, оставив их там? Наверное, смог бы, дорогой Юуран, если быть честным с собой. Да и незачем пользоваться грубым, шершавым словом «предательство», когда вместо него есть такие удобные, приятные понятия, как долг, посланник иного мира, нормы межпланетного общения. Приступ никчемного моего самоедства прервал Первенец:
— И все-таки ты должен уйти, элл, — уговаривал он изгнанника, что все еще стоял подле нашей тюрьмы.
— Нет.
— Мы просим тебя. Ты должен найти корров…
— Нет, я не хочу уходить отсюда.
— Ради нас. Они отведут тебя к неживым, может быть, те что-нибудь придумают. Они многое знают из того, что неведомо нам.
Мне почудилось, что я услышал долгий, прерывистый вздох, вздох ребенка, который вот-вот расплачется. Этот вздох помог мне выкарабкаться из эгоистического оцепенения, в которое я уже начал было погружаться. Элл, всхлипнул за стеной, страдал.
— А где мне найти корров? — пробормотал он.
— Они сами подойдут к тебе. Иди, элл, иди.
— Хорошо, я пойду. Но я хочу, чтобы вы дали мне имя.
— Я не знаю, — сказал Первенец, — я никому еще не давал имен. Пусть тебя назовут неживые.
— Нет, вы дайте мне имя.
— Пусть будет Настырный, — предложил Узкоглазый.
— Согласен? — спросил Первенец.
— Настырный, — прошептал изгнанник. — Настырный… Я Настырный… Спасибо.
Он ушел, и мы снова остались одни.
— Я об одном жалею, — вдруг сказал Верткий.
— О чем же, брат Верткий? — лениво спросил Узкоглазый. — Что получил имя? А что, набили бы себе сейчас брюхо багрянцем и нежились на легких ложах, а?
— Я не о том. Зря мы отпустили Варду и Курху. Может быть, с ними Семья не смогла бы так легко управиться с нами и притащить сюда…
— Что могли сделать два корра?
Все замолчали. Сумерки давно превратились в темноту, и она окутывала нас, как одеялом.
2
Я сидел в кафе. Стены были зеркально-гладкими, а светильники лили приятный оранжевый свет. У официантки были чуть удлиненные глаза, и в них прыгали искорки. Она кого-то напоминала мне, но сколько я ни пытался вспомнить, никак не мог сообразить, кого именно.
— Я хочу пить, — сказал я. — Пить.
— Пожалуйста, что хотите. Вода обычная, родниковая, талая, магнитная, газированная, минеральная, естественно-минеральная и минерально-сбалансированная, сок всех видов…
— Пить, все равно что…
— Простите, я еще не кончила. Кроме соков, мы можем вам предложить тонизирующие напитки на базе женьшеня и…
— Пи-ить! — взмолился я.
— И китайского лимонника, которые не только прекрасно утоляют жажду, но и снимают усталость…
— Вы что, издеваетесь надо мной? — прокаркал я и не узнал свой хриплый голос.
— Нисколько, Юуран.
Я хотел было удивиться, откуда в кафе с зеркальными стенами могут знать имя, которое дали мне на Элинии корры, но мозг мой тоже запекся от жажды, стал сухим и шершавым и отказывался думать о чем-нибудь, кроме влаги.
— Нисколько, Юуран, — продолжала официантка. — Мы нисколько не издеваемся над вами, у нас и в мыслях такого быть не может. Мы только хотим перечислить вам наш выбор, чтобы вы могли…
— Умоляю вас… что угодно…
— Сейчас, сейчас, мы обязательно должны упомянуть кислородно-обогащенные напитки, которые особенно хороши для детей и выздоравливающих, а также напитки с ультрафиолетовой обработкой…
— Почему вы издеваетесь, почему вы так жестоки? У вас удлиненные глаза, а вы жестоко шутите.
— Можем предложить вам и радиоактивные напитки, рекомендованные преимущественно лицам, потерявшим свое «я».
— А-а-а… — вскричал я. — Я все понял, вы вовсе не официантка, вы зря улыбались мне…
Я открыл глаза. Было темно, сердце мое колотилось. Хотелось пить. Но почему-то не так остро, как во сне. Что-то я только что видел, что-то мне приснилось…
В этот момент я услышал шепот:
— Пришелец, ты слышишь нас?
Вот, вот отчего колотилось мое сердце, они пришли все-таки за мной.
— Да, — ответил я. — Кто ты? Ты тот, кого изгнали из Семьи?
— Нет, нас никто не изгонял.
— Так ты еще не приходил к нам?
— Нет, мы только что пришли сюда.
Даже в эту напряженную минуту я не мог удержаться от дурацкой мысли, что я, похоже, становлюсь довольно популярной личностью среди трехглазых.
— Кто это мы? — спросил я. — Семья?
Бесплотный голос замолчал, словно мой вопрос спугнул его. Ушли. Они ушли, так и не выпустив меня. Зачем, зачем я это сделал?
— Мы… мы… Семья, — шепот стал еще тише, легкий шелест. — Мы Семья… но… мы… Это трудно объяснить, чужестранец. Наши привычные слова вдруг перестают слушаться нас… — Теперь голос звучал торопливо, буквально захлебывался. — Слова выскальзывают, они не хотят слушаться… У нас что-то происходит.
— Что?
— Что-то происходит в Семье. Поток изменился. Он всегда тек в наших умах ровным течением. Он и был нами, этот поток, а мы — им. А теперь… теперь…
Голос опять замолчал. И я вдруг подумал, почему на него не реагируют мои товарищи по несчастью. Наверное, они не слышат.
— А эллы, что со мной, слышат твой голос?
— Нет. Они изгнаны из Семьи.
— Значит, ты — Семья?
— Нет-нет, пришелец. Все вдруг стало так сложно. Поток изменился. Он потерял плавность течения. Он бушует, волнуется, кипит, и мы чувствуем, как в него то и деле впадают странные ручейки, что приносят пугающие вещи. То мелькнет и перевернется в потоке нелепое сомнение: а нужно ли было сражаться с вернувшимися эллами? То вынырнет уродливая мысль: если у них есть имена и они продолжают жить, значит, можно жить и с именами? То задержит поток судорожный вскрик: я… меня! Представляете, в Семье — и слова «я», «меня»!
Эти чудища выныривали из потока, вычленялись из него. Семья тут же обрушивалась на них всей своей мощью. Бывало, и раньше появлялись в потоке какие-то уродцы, но они были хрупки, слабы, и общая ровная мысль Семьи тут же выпалывала их, они исчезали бесследно.
А эти новые, страшные мысли не торопились уходить. Мы топили их в потоке, а они снова показывались на поверхности, еще страшнее и уродливее и… привлекательнее.
И мы вдруг поняли, что не кто-то, а мы роняем этих монстров, мы пускаем их в поток Семьи.
И мы… И мы… вдруг ощутили, как наше привычное, ровное «мы» колеблется вместе с бурлением потока. Оно, наше «мы», как бы истончилось, стало местами прозрачным, и сквозь эти окна видятся смущающие умы пустоты. И угадываются в этих пустотах страшные, непроизносимые понятия. И мозг пытается увернуться от них и не может, потому что в глубине своей он и не хочет этого. И лезут, лезут в мозг, в поток, в «мы» маленькие, юркие, неудержимые твари, и на каждой — «я». Они разбегаются по Семье и грызут, грызут. И хруст закладывает уши.
И мы… я… да, да, да, я, я, я вдруг выскочил из потока, потому что одна из этих тварей пролезла и ко мне в мозг. Слышишь, пришелец, как я сказал? «Я», «ко мне»! Не мог наш мозг сложить такие звуки, не мог вытолкнуть из своих недр такое страшное понятие — «я». Значит, это не он, а пролезшая в него тварь, что хрустит и хрустит, прогрызая все на своем пути. И прельщает, прельщает, манит: я, мне, меня. Ты станешь собой. У тебя будет «я».
Я не мог… Видишь, пришелец, как проклятая тварь крутит мною… О, сияющие облака, что мы… я… говорю…
— А Семья? Она не должна слышать тебя?
— Должна! — с неожиданной силой вскричал голос. — Должна! Она должна была выкинуть, изгнать из себя безумные слова и тех, кто несет их. И меня — меня! — должна была она изгнать. И изгнанный, я — о, опять, это проклятое слово! — я был бы счастлив, потому что Семья — наша сила. Я бы полз в землю диких корров и благословлял Семью, что вышвырнула из себя отступника, потому что Семья должна быть чиста и неприкосновенна. Семья должна была покарать предателя… — Элл замолчал, и я услышал горестный судорожный вздох. — Но этого не произошло.
— Почему?
— Семье некогда больше прислушиваться к нам. Она слышит лишь хруст тварей, что разгрызают ее.
— Зачем ты пришел ко мне?
— Не знаю. Может быть, меня погнал к тебе страх.
— Страх чего?
— Ты ведь родился с «я» и живешь с ним. Ты говорил об этом. И когда мне в голову тоже впервые вползло украдкой это «я», я подумал о тебе. И пришел.
— Я помогу тебе, я успокою тебя, разделю твой страх. Но сначала ты должен открыть дверь. Она закрыта словом.
— Мы… Я знаю. Мы вместе закрывали ее.
— Так открой.
— Хорошо, я попробую. Здесь, сейчас. Но не, оставляй меня, мне спокойнее, когда я рядом с тобой, пришелец. Ты будешь слышать мой зов. Слушай.
— Надо открыть дверь и выпустить пленных.
И тотчас же на нас обрушился водопад.
— Нет, не выпускать изгнанных!
— Пусть пройдут конец пути за толстыми стенами.
— Пусть едят свои имена.
— Пусть накрываются своим «я».
— Пусть их пустые желудки загрызут их, как грызут багрянец.
— Выпустим их, мы ведь нарушаем Закон, совершая насилие.
— Не нужен мне такой Закон!
— Мы сказали «мне»?! Зараза в Семье!..
— Гнать зараженных! Вон из Семьи!
— И быстрее, пока они не заразили всю Семью.
— Освободим пленников, они дадут нам имена.
— Семья гибнет. В нее проникла зараза.
— Вон!
— Если мы их освободим…
— В них есть сила…
— Долой…
— Вон, вон, вон!!!
— А-а-а!!! Меня ударили!
— Ме-ня! Ме-ня! Не ударить, а рвать этих с «я», «мне», «меня». Рвать на куски, вырвать их мозги из груди!
— Мы всех уничтожим, кто открывает ворота заразе!
— Бей зараженных!
— Слушать их мысли! Каждого! Проверить каждого!
— Мы прослушаем все мысли. Мысли каждого, на изнанку их вывернем! Перетрясем, но выжжем заразу. Всех проверим, каждую мысль перещупаем…
— А-а-а! Элл ударил элла. Брат — брата.
— Я тебе покажу «брата»!
— Ты сказал «я»? Ты зараженный, бей его!
— Это ты зараженный! Вот тебе, вот тебе!
Мозг элла, что стоял за стеной в темноте, был одновременно приемником и усилителем, и я слышал крики, стоны, Оханья, уханья, проклятия. Семья распадалась в конвульсиях.
— Что мы делаем?
— Мы же братья!
— Мы губим Семью.
— Сам ты себя губишь, зараженный.
— А-а-а…
Ах, непрочна, непрочна была эта тихая Семья безымянных трехглазых существ, если так легко и стремительно растворялась на составные части. Наверное, держала ее вместе лишь инерция безымянности, сонное оцепенение. Стоило ей столкнуться с первым же испытанием, и она рухнула. Непрочна, зыбка оказалась стена «мы», не сложенная из закаленных, выстраданных, осознанных «я». Мы на Земле выстроили наше «мы» из добровольно вложенных в нее миллионов «я», и единство наше несокрушимо и прекрасно, бесконечно и разнообразно, в нем непохожие кирпичики, и именно их разность сообщает нашему «мы» крепость.
— Все, пришелец. Слово сказано. Вы можете выйти, — услышал я.
— Первенец, Верткий, слово снято, — закричал я. — Мы можем идти.
— Как? — крикнул, вскакивая, Верткий. — Откуда ты знаешь?
— Знаю.
Мы бросились к двери. Она была открыта. По темным улицам с разбойничьим посвистом носился холодный ветер. Небо было черное, и лишь слабый отблеск угадывался там, где всегда победоносно сияли оранжевые облака.
Мы были свободны, и эта свобода сразу же пригнула меня к земле. В мгновение ока я понял, что и свобода может быть бременем.
Там, в камере, запертые словом, лишенные свободы, мы были лишены и ответственности. У нас не было выбора, и можно было предаваться пороку слабых: самосозерцание, самовосхищению, самопоеданию, самосожалению.
Сейчас же, подгоняемый порывом ветра, я должен был что-то решать, что-то делать. И быстро, потому что ночная темь гудела, кричала, стонала, содрогалась в агонии распада.
— Первенец, Верткий, эллы мои милые, надо что-то делать, — вскричал я.
— Поздно, — печально вздохнул Первенец.
— Ничего не надо делать! — яростно выкрикнул Верткий. — Пусть бьют друг друга, пусть убивают, пусть сгинет эта уродливая Семья!
— Не мы давали себе имена, Юуран, — насмешливо сказал Узкоглазый, — не мы решили вернуться сюда. Чего же ты от нас хочешь?
— Я не знаю, что нам делать, — прошептал Тихий. — Я сам никогда ничего не решал. Это так странно, когда можно сделать это, а можно и то, и поток тебя не несет, и ты должен сам выбрать. И от этого кружится голова…
— Грызет, грызет вселившаяся в меня юркая, гнусная тварь, больно мне… — запричитал элл, что помог нам выйти.
Времени не было, и не на кого было спихнуть ответственность, на световые годы вокруг не на кого было перевалить тяжкое бремя. Ах, не готов, не готов я был к роли лидера, предводителя, не учили меня этому ни в первой моей школе, ни в Кустодиевке, а если б и учили, все равно не выучили бы такого лоботряса. И папа не передал мне гены лидерства, их у бедняжки не было, наверное, ни одного. И мама не подготовила к предводительству, потому что один предводитель не может воспитать другого. И Ивонна не учила меня командовать, потому что все равно ни за что на свете не смог бы я командовать этой прекрасной акробаткой, от одного вида которой я таял, как масло на раскаленной сковородке. И даже милые мои пудели, родные Путти и Чапа, не сделали из меня домашнего законодателя. Слишком люблю я их, и если есть у нас непреклонный, суровый характер, то это не я, а невозмутимый и не признающий фамильярности кот Тигр.
И тем не менее, тем не менее не выскользнуть мне, третьеразрядному цирковому артисту Юрию Шухмину, с грехом пополам кончившему школу, из-под бремени ответственности. Не выскользнуть, сколько бы я ни вился и ни крутился.
— Хватит, ребята, — сказал я твердо. — Хватит дискуссий, оставим их на другое время. Вы будете делать все, что я скажу вам.
Я мысленно приготовился к страстному монологу о моей ответственности перед Элинией, перед эллами, ради благополучия и безопасности которых я покинул мою родную далекую Землю. Я уже начал составлять в уме первую фразу: «Я, Юрий Шухмин…», но не успел ее закончить, потому что Первенец сказал:
— Хорошо, Юуран, спасибо.
Я хотел вырывать власть и уже стискивал зубы, а мне кротко говорили «спасибо».
— Будем, все будем делать, веди нас! — пылко выкрикнул Верткий.
— Веди нас. Больше некому, — сказал Узкоглазый.
— Избавь меня от хруста, — взмолился открывший нам дверь элл, — в моем мозгу все время стоит хруст…
— Избавляю. У тебя нет никакого хруста. Слово «я» — прекрасно, это торжество разума, осознавшего себя. И тот же разум должен понимать, что «я» — не центр мироздания. В твоем мозгу нет хруста, нет никаких тварей. В тебе просто рождается новый элл, и я даю тебе имя Свободный, потому что с этого мгновения ты будешь свободен. Ты спокоен?
— Д-да, — недоуменно прошептал Свободный. — Хруст стих… Стих! Нет его! Я свободен!
Откуда-то пришла ко мне уверенность в себе, вспыхнуло вдохновение. Я был всесилен, все было подвластно мне. Потом, потом буду я беседовать со своими сомнениями, рассчитываться по долговым распискам со своими слабостями. Сейчас они покорно лежали у моих ног и подобострастно глядели на меня снизу вверх, и круглые глазки их были льстивы.
— Эллы, прежде всего мы должны прекратить насилие, — сказал я.
— Ты хочешь опять связать нас Законом? — прошипел Верткий.
— Молчать! — гаркнул я. — Плевать мне на ваши законы. Я не допущу, чтобы трехглазые убивали друг друга. Когда меня здесь больше не будет — пожалуйста. Свободный!
— Да, Юуран.
— Ты еще можешь слышать голос Семьи?
— Да.
— Прислушайся и веди нас. Не передавай нам голоса, а веди нас сам. Понимаешь? Туда, где мы нужнее.
— Хорошо.
Он постоял несколько мгновений, прислушиваясь, повернулся и быстро завернул за угол.
— Не отставать, — приказал я.
Моя команда бросилась за мной, мы последовали за Свободным и чуть не натолкнулись на него.
— Вот, — сказал он.
В темноте мы не сразу разглядели двух эллов, выкручивавших руки третьему. Теперь мы услышали их голоса, по крайней мере я услышал:
— А-а, будешь знать!
— Отпустите, больно, ай, ай, а… а…
— Вот тебе, заразный! Вот тебе, я вырву из тебя заразу!
— Прекратить! — загремел я.
И произошло чудо. Эллы замолчали, вскочили и молча смотрели на меня.
— Ты элл? — спросил я того, что грозил вырвать заразу.
— Кто же мы еще?
— Не отвечать вопросом на вопрос! Ты элл?
Сейчас он бросится на меня, промелькнула у меня мысль, он весь клокочет от ненависти. Но чудо продолжалось. Он ответил угрюмо:
— Мы эллы.
— Прекрасно. Могут эллы предаваться насилию? — Элл молчал, и я грозно гаркнул: — Ну? Отвечай!
— Он не элл. Он нес заразу.
— Какую?
— Он заразный, — тупо повторил элл.
— В чем его зараза?
— Он заразный. Он разрушает Семью.
— От того, что ты твердишь одно и то же, ответ твой яснее не становится. Еще раз спрашиваю тебя, в чем заключается зараза элла, на которого вы напали?
— Он… Мы слышали…
— Что?
— Ну, мы слышали…
— Слушай меня внимательно, элл, и мне плевать, что в тебе булькает слепая, глупая ненависть. Когда мы подошли, ты кричал: «Я вырву из тебя заразу». Так?
— Да, — сказал Первенец. — Он так кричал.
— Ты сказал: Я вырву. Ты употребил «я». Ты считаешь, что «я» — зараза? Отвечай!
Элл помолчал, тяжело дыша, и потом буркнул:
— Мы так считаем.
— Мы, мы! Как отвечать, ты прячешься за Семью. А как бить вдвоем одного, тут ты вопишь: «Я вырву». Тут у тебя сразу «я» находится!
— Он нас ненавидит, — угрюмо сказал элл.
— А вы преисполнены любви, добрые эллы. И она помогает вам выкручивать руки.
— Бей его, он туп и жесток! — выкрикнул Верткий и бросился с поднятыми кулаками на элла.
— Стоп! — загремел я. — Так не пойдет, Верткий. Да, он туп и жесток, и пока он прятался за Семью, никто этого не замечал, а теперь, голенький, он себя показал. И ты хочешь быть таким же?
— Ненавижу жестокость, — прошептал Верткий.
— Прекрасно. У тебя есть разум? У тебя спрашиваю, Верткий?
— Да… Теперь есть.
— Теперь думайте все. Вот элл говорит: ненавижу жестокость — и бросается на другого элла, валит его с ног и жестоко избивает его. Избивает, мучает и приговаривает: ненавижу жестокость. Может так быть?
— Может, — вздохнул Первенец. — Может, потому что он только говорит, что ненавидит жестокость, а на самом деле он ее любит, она в нем самом сидит.
Браво, мой добрый и печальный Первенец! Ты правильно все понимаешь!
— Так что же, стоять и смотреть, как это животное колотит ближнего? — запальчиво выкрикнул Верткий.
— Нет, брат Верткий. Наш долг — прекращать насилие. Но желательно без насилия.
— Животные не понимают слов, — не сдавался Верткий.
— Если слов будет недостаточно, нужно употребить силу, ты прав. Но сила твоя должна служить доброте, а не злобе, что клокочет сейчас в тебе.
— Я не…
— Помолчи, Верткий. У тебя теперь есть имя. Ты ни за кого не можешь прятаться. Ты сам отвечаешь за свои мысли и чувства. Собери мужество и будь честен прежде всего с собой. Потому что если ты и себя надуваешь и водишь за нос на каждом шагу, то не обмануть ближнего просто грех. Встречаются ведь такие, которым вроде бы и врать незачем, но они не выносят правду, и она их за версту обходит. Будь поэтому честен с собой, Верткий. И скажи: что ты испытывал, когда поднял кулаки на элла, печаль из-за необходимости поднять кулаки или дикую радость?
Верткий наклонил голову, и все его три глаза неясно блеснули в темноте улицы. Сейчас он уйдет. Или бросится на меня. Бедный пылкий Верткий.
Он стоял, набычив голову, и я вдруг ощутил пронизывающий холод ночного ветра, что посвистывал среди зеркальных стен. Казалось, он дует сразу во всех направлениях, завывая сразу в нескольких тональностях. К черту все эти высокие материи, пусть калечат друг друга… Ветер надувал мою куртку, она пузырилась, словно парус. Странно, что я не сразу заметил, какой ветер…
— Ты прав, — вдруг пошептал Верткий.
Что за вздор лез мне только что в голову, будто ветер холодный и будто он пронизывал меня. С ума, что ли, я сошел? Ветер был теплый, ласковый, и прикосновение его струй к лицу было бесконечно приятным. Но почему же от него пощипывает глаза? Не от слез же… От них, Юрий Александрович Шухмин, от них. Сентиментален ты стал на далекой Элинии, братец. Или нервишки ни к черту не годятся.
— Спасибо, Верткий, — сказал я и шагнул к нему.
— За что?
— За мужество, — ответил я и обнял Верткого. Все его три глаза жутко блеснули у моего лица.
— Как это называется? — спросил Тихий. — То, что ты сейчас сделал.
— Я обнял брата Верткого. Так мы на нашей планете иногда выражаем теплые чувства друг к другу.
— Спасибо, Юуран, — сказал Верткий и тоже неловко положил мне руки на плечи.
— Ну и отлично, мы полны сейчас симпатии друг к другу, и это прекрасно, братья мои эллы. А в таком расположении духа легче решить, что делать с этим воинственным эллом, что рвался воевать с заразой. Какие будут предложения, гвардия?
— Что такое гвардия? — спросил Тихий. Он был явно самым любознательным.
— Так на нашей Земле когда-то назывались лучшие, отборные войска… — Сейчас мне придется объяснять, что такое войска, подумал я, и чтобы не делать этого, добавил: — Мы с вами гвардия Элинии.
— Дать ему имя, — сказал Верткий.
— Хорошая мысль, — кивнул Первенец.
— Попробуйте дать, если он его не возьмет, — усмехнулся Узкоглазый.
— Элл, ты слышал? — спросил я. — Подумай, что тебе лучше — изгнать из себя жестокость, ненависть, получить имя и строить новую Семью или сидеть одному в клетке, откуда мы только что вышли. Но не пытайся обмануть нас, я слышу твои мысли, слышу, как тяжело они у тебя ворочаются.
— Если так, тогда он согласится на имя, — сказал Узкоглазый. — Любой бы согласился.
— Отвечай, — приказал я.
Элл молчал, и я слышал борение его мыслей. Они барахтались в его мозгу, кряхтели, стонали, как борцы-тяжеловесы в трудной схватке.
— Лучше заприте меня, — наконец прошептал он.
— Ты хочешь сидеть один в темной комнате? — недоверчиво спросил Первенец.
— Да.
— Почему?
— Потому что во мне много ненависти.
— Ты молодец, элл, потому что ты честен, — сказал я. — И смел. Если разум видит в самом себе недостатки и тени, значит, он честен и смел. Наверное, настоящий разум начинается только тогда, когда он не просто осознает себя, а видит себя насквозь, оценивает себя сурово и беспощадно. Так, как сделал это ты сейчас, элл. И поэтому я верю тебе. Мы не будем запирать тебя. — Я повернулся к пострадавшему. — А ты, элл, ты хочешь имя?
— Не знаю.
— А кто знает?
— Не знаю, — потупился он. — Все так странно, все так неясно, так страшно. О, облака, что всегда в небе, как было спокойно в Семье… Все было недвижимо и прекрасно. А сейчас все сдвинулось, сорвалось с мест, все кружится…
— За что на тебя накинулись эти двое?
— Не знаю… Может быть, из-за мысли, что раньше в Семье было хорошо…
— Ты шутишь? Не очень-то удачное время ты выбрал для шуток.
— Я не шучу. Я даже не знаю, что это такое. Не было у меня других мыслей, кроме мысли о том, как покойно было раньше в Семье.
— Так? — спросил я второго нападавшего, который молча смотрел на меня.
— Так.
— И вы считали эту невинную мысль заразой?
— Она не невинна. Если элл вздыхает по тому, как хорошо было раньше в Семье, значит, он считает, что сейчас плохо. А это зараза.
— А сейчас в Семье хорошо?
— В Семье не может быть плохо. Семья есть Семья.
— Может или не может — это другой вопрос. Отвечай, в Семье сейчас все хорошо?
— Семью не обсуждают. Семья — не корень багрянца, который подымают с земли, рассматривают, цел ли он, сочен, пробуют на вкус. Семья была и будет, и сомневаться в ней и обсуждать ее — зараза, которую нужно искоренять.
— И бросаться на сомневающихся с кулаками?
— Да, — твердо сказал элл. — Если надо, с кулаками.
— И нарушать при этом Закон?
— Да, если нужно, нарушать Закон. Потому что Семья выше Закона. Закон ведь охраняет Семью, а не Семья — Закон. И если Семья под угрозой, мы не будем считаться с Законом. Мы переступим через него, как переступаем через обломки камней, что валяются на тропе.
— А если другие будут считать, что ты не имеешь права нарушать Закон, не имеешь права судить, что зараза, а что нет, и будут бросаться на тебя с кулаками? И будут тебя бросать на землю и топтать?
— Мы будем сражаться.
— За что?
— За Семью, за свою правоту.
— Ты хочешь имя?
— Нет.
— Значит, ты бесстрашен, и это достойно уважения. Ты будешь сражаться с каждым, кто думает не так, как ты, поскольку только ты думаешь правильно. Так?
— Да.
— Прекрасно. Вот я стою здесь и думаю по-другому. А ты, Первенец?
— И я.
— Верткий?
— Мог бы и не спрашивать.
— Тихий?
— Он мне противен.
— Узкоглазый?
— Он туп.
— Свободный?
— У меня есть имя. Я принял его.
— Видишь, элл? И мы уверены, что именно мы думаем правильно. И выходит, мы должны накинуться на тебя с кулаками. Так? Чего же ты молчишь?
— Не знаю я, что вы думаете. Мы правы, это мы знаем.
— Что же ты тогда стоишь, элл? Что же ты не кидаешься на нас? Мы же думаем не так, как ты. Где же твоя храбрость? Ну, смелее, кидайся на нас. А, ты стоишь? Конечно, бить вдвоем одного удобнее. Гвардия, что делать с этим узколобым?
— Запереть.
— Никто не возражает?
— Нет.
— Узколобый, ты согласен, чтобы тебя заперли?
— Воля ваша. Нам все равно. Мы — одна Семья.
— Свободный, Верткий, отведите его и заприте. Мы пойдем дальше. Догоните нас.
Ну что, Юуран, похоже, что первый экзамен ты сдал. Захватил власть, вершишь суд, изрекаешь истины, упиваешься собственной мудростью и терпимостью. И перестань притворно стонать от тяжести бремени, не симулируй. Ведь сладко же, оказывается, издавать приказы и слушать аплодисменты.
Ну, положим, возразил я себе, особых аплодисментов я не слышу пока. Ладно, не будем спорить, а то вон и притаившиеся сомнения начинают поднимать свои головы. А они действительно поднимали головы, мои сомнения, и покачивали ими, глядя на меня. Не слишком ли я действую по-кавалерийски, не слишком ли лихо навязываю бедным эллам наши земные понятия?
Не сделали мы и сотни шагов, как кто-то схватил меня сзади за плечи, и я стремительно обернулся. На меня виновато смотрел принципиальный элл, что отказался от имени.
— Что ты хочешь? — спросил я, сердясь на него за собственный испуг.
— Я догнал тебя…
— Я вижу.
— Я передумал. Ты был прав. Я хочу имя.
— Молодец. Гвардия, как, дать ему имя?
— Ты сказал, что он честный, — сказал Тихий. — По-моему, это хорошее имя. Честный.
— В нем было много жестокости, — пробормотал Верткий.
— В тебе тоже, — заметил Тихий.
— Сейчас во мне нет больше жестокости, потому я и догнал вас, только печаль и пустота.
— Поэтому ты хочешь имя? — спросил Первенец.
— Да.
— Ты прав.
— Итак, элл, отныне ты Честный. И ты должен оправдать свое имя. Служи ему, и ты заполнишь пустоту в себе и изгонишь печаль.
3
Ночь была на исходе, небо медленно серело, и можно было уже угадать очертания облаков. Вот они начали наливаться цветом и вдруг вспыхнули победоносным оранжевым сиянием. Ветер стих, унеся с собой колючий холод.
И в это мгновение мы увидели лежавшего на земле элла. Я никогда не видел валяющегося трупа, я вырос и жил на планете, обитатели которой давно изгнали с нее жестокость и насилие. И все-таки что-то подсказало мне, что он мертв. Была в этом распростертом трупе какая-то конченность. Мы подошли к нему. Я не ошибся. Он смотрел в небо невидящими глазами, и на лбу его, почти над самым средним глазом, зияла рана. Ниточки черной в утреннем неверном свете крови тянулись от нее вниз линиями дорог на географической карте.
Я нагнулся над ним и коснулся пальцами его щеки. Она уже была холодна. Малышом я никак не мог понять смысла алгебры. Я уже знал цифры, и пусть неохотно и с трудом, но мог их складывать, вычитать и даже перемножать. Но буковки, буковки-то что значат? Числа числами, а буковки буковками. До этого момента было в жестокости гибнувшей Семьи что-то абстрактное, что-то алгебраическое, что-то ненастоящее. Но труп, что смотрел в небо всеми тремя невидящими глазами, был настоящим. Это была жестокость конкретной арифметики, ее не нужно было подставлять в абстрактные формулы.
Кто бы мог подумать, что кроткие, безымянные существа, что совсем недавно несли меня в бесшумном полете, словно ангелы-хранители, таят в себе столько жестокости. Семья, это орудие анонимной безмятежности, разлагаясь, неожиданно выделяла из себя жестокость и нетерпимость. А может быть, не так уж и неожиданно. Может быть, Семья со своим всеподавляющим взаимоконтролем муравейника лишь загнала вглубь семена насилия. Может быть, выпалывать эти страшные сорняки надо только на индивидуальном уровне. Может быть, настоящее добро — это всегда арифметика, а не алгебра.
— Что будем делать, гвардейцы? — спросил я эллов.
— Предадим земле.
— Это само собой. Но где гарантия, что вон там, за тем домом мы не наткнемся еще на труп? Где гарантия, что завтра уже половина бывшей Семьи не накинется друг на друга с тяжелыми камнями в руках? А послезавтра и вторая половина? Что же делать?
Эллы молчали. Первенец скорбно опустил голову и смотрел на лежащее тело. Тихий задумчиво уставился в одну точку прямо перед собой. Верткий сказал:
— Пусть грызутся.
— И убивают друг друга? — спросил печально Первенец.
— А почему бы и нет, если им это так хочется? — пожал плечами Узкоглазый.
— А что можно вообще сделать? — спросил Тихий. — Я стою и думаю, что мы вообще можем сделать. Вот была Семья, мы себя не осознавали, не было у нас ни имени, ни своих мыслей, ничего своего не было, даже злобы. Может, это всегда так? Может, когда осознаешь себя, всегда появляется желание мучить другого? Может, непохожесть, неповторимость всегда несут с собой нетерпимость?
— Нет, Тихий, не всегда, — сказал я твердо. — Мы на моей родной Земле не похожи друг на друга, мы все дорожим своими мыслями и чувствами, но мы воспитали в себе терпимость, дух братства и доброту. Хотя так было не всегда… Но потом, потом, Тихий, сейчас нам нужно думать о конкретных вещах.
Эллы тупо молчали. Их можно было понять, моих трехглазых товарищей. Неважно, прямо скажем, подготовила их Семья для рождения новых идей и принятия новых решений. Может быть, в каком-то смысле Узкоглазый и прав: пусть убивают друг друга, пусть развиваются, как им предназначила развиваться их история. Но ведь вполне может случиться, что скоро у них развиваться будет некому. Конечно, история заслуживает самого почтительного к себе отношения. Поступь ее величественна и так далее. Но насколько легче почитать ту, что уже попала в учебники, а не ту, которая крутит тебя и пытается сбить с ног.
Ах, сложно, сложно все это было. С одной стороны, Космический Совет требует, чтобы посещение чужих цивилизаций не превращалось в навязывание наших взглядов, чтобы мы ни в коем случае не вмешивались в их внутренние дела и не пытались влиять на них, выставлять свою цивилизацию как образец. Как раз то, что я и делаю. Но ведь эллы сами позвали на помощь землян. Да, возразил я себе, позвали, но ведь не поклонились в ножки, научи, мол, о мудрый пришелец, как жить и развиваться, укажи, куда эволюционировать. Позвали для конкретной цели: узнать, почему на них нападают корры.
Значит, Узкоглазый прав. Пусть воюют, пусть убивают — это дело не мое. Еды у меня хватит, найду себе местечко поудобнее и устроюсь зрителем на захватывающем матче: эллы на эллов или кто кого. Спешите посмотреть.
Разумно, но неприемлемо. Тем более что другое правило Совета предписывает оказывать любую посильную помощь инопланетянам, разумным существам, если эти существа просят о помощи и если эта помощь не причиняет вреда другим разумным существам данной планеты. Пусть наши многомудрые профессора космической философии и юриспруденции уточняют все эти правила и рекомендации и их взаимосвязь. Эта премудрость не для циркача-недоучки.
Просят меня о помощи мои товарищи? Да, просят. Стоят молча, как школьники, не выучившие урока, и смотрят на меня с надеждой: подскажи. Повредит кому-нибудь, если эллы перестанут пробивать друг другу лбы камнями? Коррам? Неживым? Нет? А стало быть, вперед.
— Вот что, гвардия, на нас с вами лежит ответственность. Вы получили имена и осознали себя, а стало быть, взвалили на плечи и ответственность разума: думать, искать пути к мудрости, а не брести неведомо куда в тупой покорности скотины. Давайте срочно соберем всех эллов, пока они не истребили друг друга, и выберем, ну, допустим, главу новой Семьи и его помощников.
— Как это, выберем? — спросил Тихий.
— На собрании выступят разные эллы, и каждый изложит свои взгляды. Вот тот, например, что сам отправился под запор, будет, наверное, требовать, чтобы Семья жила по старым законам. Первенец, допустим, предложит, чтобы те, кто хочет жить по-старому, без имени, и жили по-старому, а эллы с именем жили бы по-новому, но не нападая друг на друга. А Верткий…
— Я скажу, — взвился Верткий, — что всем нужно дать имя. Хватит прикидываться Семьей и бегать с камнями в руках. Дать всем по имени и навести порядок.
— И прекрасно. Вот пусть все эллы и решат, что им больше подходит.
— А как это узнать? — спросил Тихий, прищурив все три глаза и наморщив высокий, выпуклый лоб.
— Пусть после каждого выступления те эллы, кому это выступление понравилось, поднимут руку. Мы пересчитаем все руки и потом посмотрим, кто получил больше рук. Тот и станет главой новой Семьи.
— А остальные?
— Остальные должны будут подчиняться выбранному главе и его помощникам и выполнять их требования.
— А если я не захочу подчиняться? — фыркнул Верткий.
— Ты обязан будешь.
— Почему?
— Потому что главу выбрало большинство эллов и меньшинство обязано подчиняться большинству.
— А если большинство ошибается? — спросил Тихий.
Ах, не готов, не готов был я к этим философским дискуссиям. Даже организацию новгородского вече не помнил, недоучка. Знал бы…
— Такое устройство общества называется демократией, то есть правлением народа. Меньшинство подчиняется большинству.
— А если я не хочу? — упрямо спросил Верткий. — Не захочу подчиняться какому-нибудь узколобому дураку, который будет восхвалять Семью.
— Или ты должен добровольно выполнять законы большинства, или оно, большинство, заставит тебя выполнять их силой.
— Э, нет, Юуран. Что-то ты говоришь глупое. Не для того родились мы заново, не для того корчились, когда давила на нас тяжесть непривычного имени, чтобы нами помыкали эти мычащие…
— Мычащие?
— Ну, эти… Мы, мы, мы…
— Ты сможешь высказать свои взгляды, брат Верткий. Это твое право, но ты не должен нарушать законы большинства.
— Это плохое устройство. Не обижайся, чужестранец. Может быть, вам оно подходит, а нам — нет.
— Ты говоришь «нам».
— Ну?
— Кому это «нам»?
— Ну… вообще…
— Нет, брат Верткий, ты должен был сказать «мне не подходит». А другим, может быть, и подходит. А то ты и сам начинаешь мычать: мы, мы, нам… Смотри, что получается. Когда ты высказываешь свои взгляды, ты невольно говоришь «мы». Потому что ты и мысли не допускаешь, что кто-то может думать по-иному. А когда говорит другой, тебе хочется, чтобы он говорил: я думаю. Так?
— Нет, Юуран, все равно ты не так говоришь. Ты вот сам называешь нас красивым именем «гвардия». У нас есть имена. Мы осознали себя, мы идем по тропе мудрости. Вот мы и должны научить остальных эллов, как нам жить без Семьи. Не так, как раньше. Разве не так?
— Смотри, Верткий. Вот сейчас ты посмотрел на своих товарищей и спросил: «Разве не так?» Это значит, что ты предлагаешь им или одобрить, или не одобрить твое предложение. Это и есть демократия.
— Демократия — это когда одобрят? — спросил Тихий. — Или не одобрят?
— И то, и другое. Сейчас мы увидим, брат Верткий, как гвардия относится к твоему предложению захватить власть и установить правление хунты.
— Хунты? Что такое хунта? Мы хунта? — подозрительно посмотрел на меня Верткий.
— Если так произойдет, будете хунтой. Но вначале пусть каждый выскажет свое отношение к словам Верткого. Начнем с тебя, Первенец.
— Я не могу так сразу ответить, Юуран…
— Но нужно.
— В том, что говоришь ты, есть, мне кажется, мудрость. Но и Верткого я понимаю.
— И все-таки?
— Не могу я решить, Юуран, не сердись. Мне нужно подумать.
— Допустим. Это значит, ты воздержался, то есть не высказал своего мнения. Ты, Тихий?
— Мне интересно, как эллы будут выбирать.
— Значит, ты против предложения Верткого о насильственном захвате власти?
— Значит, да.
— Отлично, друзья мои. Видите, мнения сталкиваются. Узкоглазый?
— А у меня свой план: может, уйти к неживым, подальше от этих гладких стен, которые нужно все время чистить, подальше от этой Семьи и этих драк и споров.
— Вот еще одно предложение — уйти всем к неживым.
— Не всем, а мне.
— Ах, эллы, эллы мои бедненькие, тяжело вам дается демократия. Она и нам, между прочим, давалась нелегко. Ты, Честный, какие у тебя идеи?
— Я как все, — вздохнул Честный.
— Все, все, — передразнил его Верткий. — А если все по-разному?
— Тогда и я по-разному.
— Думай, элл, думай, — прикрикнул Верткий. — Ты не можешь идти сразу вперед и назад. Ты не можешь думать по-разному.
Я фыркнул.
— Чего ты смеешься? — спросил подозрительный Верткий.
— Прости, брат Верткий. Я не мог удержаться. Демократия — это выражение своей воли. Добровольное. А ты кричишь на него, чтобы он выражал свою волю. Как же, братья, живуче, оказывается, насилие. Так и лезет во все щели.
— Прости, — сказал Верткий, — я не подумал. Я не хотел заставлять Честного…
— Я еще не привык… — смущенно прошептал Честный. — Но я постараюсь.
Так и шло наше собрание над телом убитого элла, и все его три незрячих глаза выражали, казалось, тягостное недоумение: что здесь происходит, что за нелепые чужеземные слова звучат здесь, надо мной?
Мы все-таки собрали всех эллов, я насчитал их двести семьдесят шесть, но описать в подробностях это вече я не берусь. Я не смогу описать все выкрики, все недоумение, упрямство, страсть, непонимание, злобу, ненависть, страдание. Но постепенно игра начала увлекать эллов. В подсчете голосов было для них что-то неотразимое, и каждый раз, когда я громко пересчитывал поднятые руки, воцарялась напряженная, зачарованная тишина. Больше всех голосов получил Первенец. Должно быть, эллам пришлись по душе его мягкость и склонность к компромиссу. И даже Верткий как будто примирился о ролью помощника.
Воцарилось относительное спокойствие. То есть Семья продолжала распадаться, она, очевидно, принадлежала к тем конструкциям без малейшего запаса прочности, что рассыпаются, как карточный домик, когда падает одна лишь карта, но насилия больше не было.
Верткий и Честный гордо ходили среди зеркальных стен, следя за порядком, Первенец, по-прежнему грустно вздыхал, а я чувствовал себя бесконечно мудрым и усталым основателем нации.
Но на третий день, вернее, ночь, бесконечно мудрого и усталого основателя нации разбудил Верткий, который ворвался в мой кубик и крикнул:
— Убили!
Мне снилось что-то приятное — здесь сны стали моим главным развлечением, невесомость ложа была уютна и тепла, и просыпаться не хотелось. Но и не просыпаться было нельзя, и я с отвращением сбросил ноги на пол.
— Что такое? — пробормотал я, немножко надеясь, что это начался какой-то новый, на этот раз неприятный сон. Сейчас я открою глаза, и сон тихо испарится. Но открыть глаза я не мог, потому что они и так были открыты и обращены на Верткого. — Как убили, кого?
— Как убивают? Убили. Там, около крайних стен, у Больших развалин.
— Кого-нибудь из наших?
— Честного.
— Что ты говоришь!
— Да. Мы пошли с ним на ночной обход. Я к Малым развалинам, а он — в другую сторону. Все было тихо, на улицах никого. Я шел и думал…
— Неважно, что ты думал, рассказывай, что было дальше.
— Мы с ним ходили уже не первый раз. Мы доходили до крайних стен, потом возвращались в центр, а после этого шли уже в другие стороны. Я вернулся в центр. Честного не было. Я ждал, ждал его, его все не было. Тогда я пошел к Большим развалинам. Было совсем темно. Я вдруг споткнулся обо что-то и еле удержался на ногах. Нагнулся и увидел, что это Честный.
— Пойдем.
Мы вышли на улицу. Ночной ветер казался после сна ледяным. Я поежился и втянул голову. Что мне все-таки снилось? Что-то очень приятное. Какие-то веселые, пестрые и мягкие сны тешили мой спавший мозг. Может, это Чапа и Путти, презрев запреты, забрались на кровать, прыгали по мне и радостно лизали в лицо? Увы, ушедший сон не вернешь, им не прикроешься от яви, особенно когда эта явь тонко и гнусно подвывала, прокатывалась по пустым проходам между кубиками поселка. Почему каждую ночь здесь неизменно дуют холодные ветры? Почему вокруг тьма египетская, а стены кубиков слабо светятся, хотя отражать им абсолютно нечего? Послали бы сюда умного, образованного ученого, он бы мигом разложил все по полочкам, не то что я, который только и может, что разевать рот.
Но и этими жалкими мысельками не мог я отгородиться от тягостного смятения. Опять смерть. Честный. Упрямый тугодум, но действительно честное существо. Я вспомнил, как он догнал меня, когда мы брели по таким же темным улицам, схватил за плечо и пробормотал: «Ты был прав, я хочу имя».
— Сюда, — сказал Верткий, — вот за этим поворотом.
Он лежал на животе, повернув голову, вернее то, что от нее осталось.
— Сейчас я прибавлю света, — сказал Верткий.
— Ты принес фонарь?
— Фонарь? Что это?
— Неважно. Как же ты прибавишь свет?
— Смотри.
Ближайшая к нам стена кубика начала медленно светлеть, будто кто-то плавно поворачивал ручку реостата. Она отодвигала плотную темь, пока не оттолкнула ее за труп.
— Как ты это делаешь?
— Не знаю. Мы все так делаем.
— Ладно, потом.
Мы присели на корточки. Да, это был Честный. Даже в смерти он упрямо сжимал губы. Удар буквально размозжил полголовы. Увесистый камень валялся рядом. Я осторожно поднял его. Он был в крови. Был труп, было орудие убийства, было тягостное недоумение. Откуда снова извержение подземной злобы? Кому мешал этот элл, который вместо ночного отдыха добровольно пошел следить за порядком?
Мало мне было лавров мудрого законодателя, надо закладывать на Элинии и фундамент сыска. Становиться Шерлоком Холмсом и… как звали этого второго литературного сыщика, которого придумала Агата Кристи? А, да! Эркюль Пуаро. Но я не был Шерлоком Холмсом, я не жил на Бейкер-стрит в Лондоне, не играл в свободные минуты на скрипке, не увлекался химией и не имел своего доктора Ватсона. И самое главное, я не обладал его проницательным умом и даром дедукции. Равно как и способностями маленького хвастливого бельгийца с тонкими усиками, который говорил на плохом английском, но зато играючи разгадывал самые головоломные ситуации, которые придумывала его плодовитая родительница. Впрочем, я бы тоже выстроил строго логическую цепочку умозаключений, если сам придумал убийство.
Но тело моего трехглазого друга, что лежало, поджав ноги в последней мышечной агонии, не имело отношения к литературе. Оно было тягостно реально. Оно было порождением не чьей-то безобидной фантазии, а чьей-то ненависти. И отыскать носителя этой ненависти нужно было не какому-нибудь литературному детективу, а мне.
На мгновение мелькнула жалкая мысль: а вдруг никто Честного не убивал, он случайно споткнулся и упал, ударившись головой о камень. Мысль действительно была жалкой. Удар, который размозжил Честному полголовы, был нанесен с огромной силой.
— Давай отнесем беднягу в сторонку, а утром предадим его земле, — сказал я Верткому.
Удар камнем остановил безостановочную фабрику тепла, что работает во всем живом, ночной холодный ветер с готовностью уравнял температуру трупа с окружающим воздухом, и руки Честного, за которые я взялся, были уже безжизненно ледяными. Бедный элл, недолго же он пожил с именем, и немного счастья принесло оно ему.
Мы с трудом подняли его и осторожно положили около светлой стены. Мне показалось, что он смотрел на меня с упреком: что же ты…
— Эллы ведь не спят? — спросил я Верткого.
— Ты же знаешь.
— Да, — согласился я. — Я спросил просто так, машинально. Может быть, имеет смысл опросить эллов в ближайших кубиках. Может быть, кто-нибудь что-нибудь слышал?
— Попробуем.
Я постучал тихонько в дверь домика, стену которого Верткий заставил только что светиться.
— Что ты делаешь? — уставился на меня Верткий.
— Как что? Не можем же мы ворваться в чужое жилище.
— Почему?
— Ну что за вопросы? Это чужое жилище, а мы вдруг нарушаем чей-то покой…
— А… Это все твои странные идеи, пришелец. Ты забыл, что у нас не было в Семье чужих и своих жилищ, не было своего покоя и чужого покоя, и любой элл всегда мог без всякого стука войти к любому эллу. Он входил к себе. Пойдем.
Он открыл дверь. С ложа медленно встал высокий худой элл и молча уставился на нас.
— У тебя есть имя? — спросил Верткий.
Элл покачал головой.
— А почему до сих пор ты не выбрал себе имя? — крикнул Верткий. Он распалялся на глазах. — Все держишься за старое? Мы, мы, мы… Ну, чего молчишь?
— Что мы можем сказать? Может быть, кому-то с именем лучше, а мы привыкли к Семье… Теперь у нас нет покоя, все неясно, везде споры, крики… Мы не знаем, что будет дальше…
— Ладно, безымянный, не об этом разговор. Вас еще много, кто вцепился в старые порядки и боится разжать руки. Может, когда-нибудь что-нибудь поймете, хотя мозги у вас, наверное, совсем высохли. Только что на улице убили Честного. Это тот элл, кого выбрали вместе со мной помогать Первенцу. Ты что-нибудь слышал? Или видел?
— Мы ничего не видели и не слышали, — покачал головой трехглазый.
— Ты не мог не слышать, — с яростным спокойствием сказал Верткий. — Вы, те, что все еще цепляетесь за Семью, по-прежнему всегда слышите друг друга. Понимаешь?
— Нет.
— Я тебе объясню, грязный элл. Кто мог убить Честного? Кому он мешал? Только одному из вас, кто все ноет, что кругом все рушится, что имена — принесли в Семью раздор, лишили покоя. И ты не мог не слышать мысли убийцы, когда он поднимал камень, чтобы размозжить Честному голову. Лучше сам признайся. — Мы ничего не слышали.
— Признайся, пока не поздно. Потом будет поздно, элл. Потом ты будешь жалеть о своем упрямстве.
— Мы не слышали, — упрямо сказал элл. — Мы ничего не слышали.
— Так я тебе и поверил, мычащий. Конечно, ты будешь выгораживать себя и своего сообщника.
— Сообщника?
— А как же еще назвать убийцу? Вы же не отдельные эллы, вы — одна Семья. У вас же нет своих мыслей, своих тайн, своих желаний и своей ненависти. У вас все общее. И камень там у стены поднял не один элл, вы все это сделали вместе. Вы все сообщники, и вы все убийцы.
— Ты ошибаешься, Верткий. Ты взял себе имя — это твое дело. Ты вышел из круга Семьи — это твое дело. Ты выбыл из общего потока мыслей — это твое дело. Ты поступил так, как хотел. Мы ничего не хотим. У нас нет желаний. Нам не нужны перемены. Это верно, но у нас нет жестокости, нет насилия, они ведь запрещены Законом.
— Запрещены! А кто бросался на нас с кулаками, когда мы вернулись сюда, кто раскалялся от ненависти? Кто запер нас, чтобы уморить голодом? Кто уже убил двух эллов? Молчишь?
Верткий бросился вперед и начал трясти элла, схватив его за плечи.
— Верткий, друг мой, — взмолился я. — Прекрати. Прошу тебя. У тебя же есть разум. Ты должен наконец понять, что бессмысленно воевать с насилием насилием, а с ненавистью — ненавистью. Иначе ты только будешь плодить их. К тому же мы ведь не имеем никаких доказательств виновности этого элла.
— Не надо никаких доказательств, пришелец. Они все виноваты, все мычащие. Ты хочешь, чтобы я тихо раскланялся с ним и ушел? И чтобы они долго смеялись потом все вместе в общих своих высохших от злобы мозгах над нами? Да они всех нас перебьют, всех по одному, всех, у кого есть имя. Им бы только опять впасть в свою вечную спячку: ничего не хотеть, ничего не знать, ничего не делать.
— И все-таки, Верткий, так нельзя.
— Нельзя? — крикнул Верткий и сжал кулаки. — Ты все еще учишь нас, пришелец, ты все проповедуешь мудрость. Но это твоя мудрость, а не наша.
— Я ничего не навязываю вам.
— Ложь! Это тебе кажется, что не навязываешь. Ты говоришь: мне кажется, и эллы тут же бросаются делать по-твоему, словно это Закон.
— Наверное, ты прав.
— Ты не элл. Ты не знаешь, как у нас можно и как нельзя. Что можно и что нельзя.
— В этом ты прав, Верткий. Наверное, прав. Это ваша жизнь и ваша история, и я не буду вмешиваться в ваши дела.
Я повернулся и вышел. Нужно было быть таким воинствующим невеждой, таким самонадеянным дураком, как я, чтобы забыть правила, которые так терпеливо растолковывали члены Космического Совета. Пытаться экспортировать на другую планету наши идеи и понятия…
Небо заметно посерело, и оранжевые облака наливались на глазах торжествующим светом. Ветер утих. Зря я ушел, надо было сначала похоронить Честного.
Я вдруг болезненно остро ощутил свою малость. Ничтожная пылинка, крошечный атом, заброшенный каким-то нелепым изгибом судьбы в невообразимую даль, в чужой и непонятный мир. Лучшие умы человечества веками пытались научить людей пониманию, терпимости, братству. И только к двадцать первому веку идеи эти восторжествовали во всем мире.
— А я… я пытаюсь что-то сделать здесь, эдакий залетный проповедник, вооруженный лишь своим невежеством и глупой самоуверенностью.
Хватит. Достаточно. Я умываю руки. Буду сидеть и ждать прилета товарищей. Совесть моя чиста. Я сделал, что мог. Попытаюсь сделать хорошие снимки — до сих пор я еще не удосужился взять в руки свой видеоголограф — соберу образчики местной флоры.
Хватит. Я был не только крошечным атомом, но еще и усталым атомом. Пора опуститься на более покойную орбиту. Я внезапно понял членов Семьи. Да, наверное, в их безмятежной спячке была своя сладость…
Я услышал сзади торопливые шаги. Кто-то бежал за мной. Я обернулся. Это был Верткий. Он остановился передо мной, глубоко вздохнул и сказал:
— Прости, Юуран. Я погорячился. Я знаю, ты желаешь нам добра…
— Ничего, друг мой, я не обиделся.
— Ты обиделся. И ты прав, что обиделся. Твои мысли мудры, но так тяжело следовать им, когда перед тобой это тупое стадо мычащих. Они кажутся покорными, но в их покорности непреодолимое упорство безмозглых тварей. Не сердись, Юуран. Пойдем обратно, поговорим еще с несколькими эллами.
Я вздохнул. Как объяснить Верткому значение слов «я умываю руки»? А может, и не надо? Бог с ними, с умытыми руками.
Вторым нашим собеседником был совсем еще юный — так, во всяком случае, мне показалось — элл. Он смотрел на нас широко раскрытыми глазами, и в глазах читалось скорее любопытство, чем привычное равнодушие. Нет, он ничего не видел и не слышал.
— Но ты же соединен с Семьей? — устало спросил Верткий. — Ты слышишь ее мысли и голоса?
— Не так, как раньше. Иногда поток звучит привычно, сильно, а иногда… он словно бы пропадает… И мы… И в такие мгновения «мы» становится таким… маленьким… съеживается, как бы ссыхается, и за ним… как бы объяснить… просматривается… нет, не просматривается… угадывается… другое понятие. Оно как маленький зверек: то высунет мордочку, то пугливо спрячется обратно за «мы». Этот зверек — «я».
— Да, элл. Ты вот сказал это, — кивнул Верткий, — и я ощутил озноб — так ты похоже описал то, что и со мной происходило, когда мне дали имя и когда я мужественно выкарабкивался из безымянного болота. Не бойся, элл, зови к себе этого зверька, мани его, и он преодолеет страх и подойдет к тебе. И ты осознаешь себя. И мы все вместе будем строить новую Семью.
— Спасибо.
— Я помню, как мы рожали тебя и начиняли твои пустые мозги нашим общим сознанием. Это было всего три больших оборота светила назад. А сейчас ты рождаешься снова.
— Спасибо, — прошептал элл. — Мы… ждем…
Мы опросили еще с десяток эллов. Среди них были стойкие сторонники Семьи, были сомневающиеся, были два элла с именами. Но никто ничего не видел и не слышал.
Мы кое-как предали тело Честного земле. Верткий пошел докладывать о случившемся Первенцу, а я вернулся домой. Я вытянулся на своей кровати, паря в невесомости. Хорошо бы снова заснуть, подумал я. Может быть, во сне я бы вернулся домой, на бесконечно родную Землю, и Чапа и Путти прыгали бы от восторга, а Ивонна потерлась бы носом о мою щеку.
Но я знал, что не смогу заснуть и никуда не спрячусь от Честного, которого мы опустили с Вертким в мелкую могилу и кое-как завалили камнями. Он упорно смотрел на меня: эх, ты…
4
Мы медленно шли с Первенцем и Вертким мимо зеркальных стен, и на отражения оранжевых облаков накладывались отражения двух эллов и одного землянина.
— И все-таки я не могу понять, почему никто из эллов не чувствовал убийцу, не слышал его мыслей, — пробормотал я. Я не ждал ответа, я скорее вел бесконечный спор со своими сомнениями.
— Ты видишь сложности, чужестранец, где их нет, — фыркнул Верткий. — Я все это тебе повторял уже не раз. Ты не элл. Ты не можешь понять эллов. Ты пришел из другого мира. Ты и представить не можешь, что такое принадлежать Семье. Это полная растворенность в безликости и безымянности, это полная растворенность в других, а других — в тебе. Я уже давно получил имя, но до сих пор содрогаюсь от ужаса и одновременно от сладостной печали, когда вспоминаю себя мычащим.
— Что ты хочешь этим сказать?
— А то, что ни один член Семьи не признается.
— Но почему?
— Потому что Семья понимает угрозу. Если мы объявим всем, что Семья убила, — это конец ее.
— Ты прав, Верткий, я не понимаю, прости меня. Ты говоришь: «Если мы объявим всем…» Но ведь Семья и так знает. Вы десятки раз объясняли мне, что такое общий поток мыслей и как он течет в головах эллов. Так кому же мы объявим? Эллам с именами? Они и без того покончили с Семьей. Самой Семье, которая и без нас прекрасно знает, кто убил и почему? Если, конечно, она действительно знает.
— Я не понимаю, Юуран, — медленно сказал Первенец. — Что это значит?
— Это значит, что во мне нет уверенности Верткого. Я не уверен, что Честного убила Семья.
— Значит, — развел руками Первенец, — его убил кто-нибудь из нас, из твоей гвардии, как ты красиво назвал нас. Так?
— Не знаю. Я ни в чем не уверен.
— Но почему ты сомневаешься в виновности Семьи, Юуран? Ты ведь разумное существо. Ты должен мыслить логически. Кого убили? Элла с именем. Кому ненавистны эллы с именами, новые эллы? Семье. Семья защищается от них. Они могут убить еще раз, много раз. Ради сохранности Семьи. Логично?
— Слишком, брат Верткий. Слишком логично.
— Что значит «слишком логично»? — спросил Первенец. — Что-то может быть логичным, что-то — нелогичным, но что значит «слишком логично»?
— Боюсь, я не смогу объяснить тебе достаточно ясно. Понимаешь, как-то все слишком очевидно указывает на вину Семьи…
— Слишком очевидно?
— Да, ты прав, Первенец, я говорю неясно. И все же я не уверен, что это Семья.
— Это Семья, — сказал Верткий твердо. — Ты просто не понимаешь эллов.
— Допустим. Но если я и не могу до конца понять эллов, то и ты не можешь достаточно беспристрастно судить о Семье.
— Почему?
— Ты слишком близок к ней. Ты только недавно вырвался из ее объятий. Ты только что сам сказал, что не можешь думать о ней без ужаса, но и без печали.
— Это верно, — кивнул Первенец. — Ты прав, Юуран.
— Мне трудно поверить, чтобы сотни членов Семьи, среди которых есть, и такие, как тот молоденький элл, что вот-вот проклюнет скорлупку и вылупится на свет со своим «я», чтобы все они единодушно согласились на убийство. Пусть они не хотят перемен, пусть защищаются, но все-таки Семья всегда ненавидела жестокость и насилие.
— Только пока это не угрожало ее существованию, — пробормотал Верткий.
— Все равно.
— Допустим, Юуран, — вздохнул Первенец. — Но ведь альтернатива еще нелепее. Не могли же новые эллы убить товарища. Зачем? Почему? Наоборот, мы все чувствуем себя чужими среди членов Семьи. Мы невольно держимся друг за друга.
К нам подошел Настырный. Одежда его была покрыта пылью. Он рассказал, что только сейчас вернулся от неживых, куда мы послали его, находясь в заточении, что уже знает о случившемся, что встретил на дороге Курху и Варду. Корры возвращались к неживым.
— Да, когда мы все шли к Зеркальным стенам, они предупреждали, что будут прятаться в развалинах на случай, если нам понадобится помощь, — сказал Первенец.
— Они, похоже, измучились порядком, пока ждали, — сказал Настырный.
— Откуда ты знаешь? — спросил я.
— Что знаю? Что они ждали?
— Нет. Что измучились…
— Ну, они не бежали, как обычно бегают корры, а еле брели. Я когда их увидел, сначала испугался. Все-таки корры, да прямо передо мной на тропе, но такие они были какие-то… как потерянные… И страх сразу исчез. Я прошел мимо, и они даже головы не подняли, чтобы посмотреть в мою сторону.
Настырный продолжал разговаривать с Первенцем и Вертким, но я не слушал их. Я прислушивался к тонкому комариному писку в моей голове. Даже не писку, а зуду. Зуд этот был неприятен. Что-то пыталось родиться в моей черепной коробке, что-то зудело и мучило мой бедный маленький мозг, что-то стремилось облечься в слова, и от того, что я в этих родах не участвовал, я чувствовал себя унизительно беспомощным.
Зуд усилился, он щекотал мою голову и вдруг стих. И в голове медленно прошествовала мысль: а почему вообще Честного могли убрать только эллы? С именем или без имени? Почему ему не мог размозжить голову кто-то другой?
Да, возразил я ей, этой новорожденной мысли, но кто? Неживые? Не может быть. У них еле хватает сил добраться до источника, а это в десятки раз ближе Зеркальных стен. Корры? Сама мысль была смехотворной. Чтобы эти кроткие, доверчивые мини-кентавры, гордые своим новоприобретенным чувством долга, своими именами, стремящиеся делать добро эллам, — чтобы они могли убить? И для чего? Можно еще было спорить с ними, когда они помогали неживым насильно вгонять в эллов индивидуальность, но в их рассуждениях была определенная логика. Пусть наивная, пусть жестокая, но логика. А какая логика могла быть в камне, с силой опущенном на череп элла? Логика — предмет эластичный, но даже самая гибкая логика не смогла бы связать убийство со стремлением делать эллам добро. Хотя надо признать, что и у нас на Земле находилось в прошлых веках много желающих помочь ближнему избавиться от заблуждений именно таким радикальным образом.
Нет, все это были какие-то абстрактные упражнения, умственная нелепая гимнастика. Я вспомнил, как нес меня на своей широкой спине Варда. Как мягок и приятен на ощупь его короткий мех. Как осторожно и бережно придерживал он меня рукой.
Так, так, все так. Значит, не Семья, не моя гвардия и не корры. Это он сам, бедняга Честный, нашел подходящий камень и с дьявольской силой опустил себе на голову. Схема удобная, но еще более абсурдная. Если предыдущие версии падали в силу логической и психологической немощи, то эта была просто физически невозможна. Нельзя самому себе размозжить голову, да еще с такой силой и сзади.
Все эти рассуждения накатали в моем мозгу довольно глубокую колею и теперь буксовали в ней, пытаясь выбраться на безопасное место. Я даже не знал, было ли оно вообще, безопасное место. Может быть, я невольно переношу нашу земную логику на планету, где ее законы недействительны? Ведь по моим земным представлениям не должны облака всегда висеть в одном и том же месте, не должна вся планета быть покрыта развалинами, не должны стены отражать облака, а по ночам по мысленному приказу источать свет… Не должны развалины ослаблять силу тяжести, и не должны эллы летать возле своих стен, не делая для этого никаких усилий.
Все так. Конечно, следовало сдаться. Для того, чтобы выкинуть белый флаг, тоже нужно мужество. Иногда легче бессмысленно сопротивляться, сопротивляться по инерции сражения, чем поднять над головой белый флаг. И все же я не мог этого сделать. Пусть не продуманное упорство, не разум заставляют мои мозги снова и снова перемалывать давно уже перемолотые факты, пусть меня подгоняет глупость. Если считать глупостью три упрека в трех глазах Честного.
Почему Варда и Курха показались Настырному такими усталыми, безучастными? Корры, судя по тому, что я видел, отличаются необыкновенной выносливостью. В конце концов они ведь наполовину животные. Они могут пробегать огромные расстояния. Варда нес на своей широкой спине восемьдесят килограммов живого веса, когда доставил меня к неживым. Он бежал всю неблизкую дорогу, бежал легко. У меня даже возникло ощущение, что то был не бег, а плавное скольжение. Он нисколько не устал.
Они пробыли в развалинах несколько дней. Наверное, они никуда не убегали. Они решили оставаться там на случай, если нам понадобится их помощь. Лежали, наверное, в тени и думали о своем приобщении к мудрости, о долге, о стремлении делать добро эллам. Гм… Какое-то было несоответствие между вынужденным отдыхом в развалинах и усталостью, которая поразила Настырного. А может быть, они каким-то образом узнали об убийстве Честного и еще двух насильственных смертях? Ага, в этом явно что-то было. Вполне возможно, что эти прямодушные и кроткие существа были потрясены вспышкой жестокости и насилия у эллов. У тех эллов, которым они стремились помочь.
Да, пожалуй, это и объясняет их потерянность. Тут не только потеряешься. Неживые научили их чувству долга, дали им понятие добра, а выяснилось, что стремятся они помочь злобным и мстительным существам, способным на убийство. Понятно, почему они не посмотрели на Настырного. Могли бы и отвернуться.
Они брели к неживым и думали, наверное, о том, что скажут своим учителям. Вы учили нас делать добро, скажут они, а эллы не понимают добра, они понимают только язык ненависти и силы. Они понимают не язык добра, а язык жестов, язык поднятых и опускаемых на голову камней.
Не хотел бы я быть неживым. Нелегко им будет объяснять коррам, что тропа, ведущая к мудрости, полна крутых поворотов, что она петляет по краям глубоких ущелий, а то и упирается в тупики завалов…
Странные существа эти роботы. Живут лишь воспоминаниями о своем прекрасном рабстве и катятся по утрам к источнику, чтобы освежить в своих разряжающихся мозгах картины восторженного служения господам. Но почему я так суров к ним? Они не сделали мне ничего плохого. А эллам… Возможно, их методы пробуждения у трехглазых самосознания чересчур жестоки, но они явно желают им добра. Даже корров приспособили в качестве четвероногих носителей своих идей. Носителей в прямом смысле этого слова.
Нет, напрасно я обвиняю их в том, что они живут только прошлым. Жили бы они лишь в воспоминаниях, они бы не вели войны за обращение эллов в индивидуальности.
Прекрасно. Все прекрасно. Я был горд своими рассуждениями, ясными, логичными, стройными. Единственным их недостатком было то, что они ни на йоту не приближали меня к ответу на простенький вопрос: кто и зачем убивает эллов?
Мы договорились с Первенцем, что отныне патрулировать по ночам лабиринты Зеркальных стен будут сразу четыре элла, и ходить они будут парами. Мало того, мы попробовали привлечь к дежурствам и членов Семьи. Безымянные неожиданно легко согласились на наше предложение. Очевидно, они тоже поняли, что поддержание порядка — дело не только эллов с именами.
Все шло хорошо, и я уже начал думать, что время смуты и насилия осталось позади. То есть какие-то глубинные процессы в поселке Зеркальных стен продолжались. Юный элл, который так образно рассказывал Верткому и мне о своих сомнениях в ночь убийства Честного, пришел сам ко мне и сказал:
— Чужестранец, зверек осмелел.
— Какой зверек? — спросил я и вдруг вспомнил. Он так описывал появление проблесков самосознания. — Прости, я вспомнил, как ты рассказывал. Ты осознал себя?
— Да, — прошептал элл и стыдливо опустил голову.
— Почему ты опускаешь голову?
— Мне стыдно.
— Почему?
— Не знаю. Я предал Семью. Она ведь была добра ко мне. Она родила меня.
— И ты бы хотел вернуться к ней?
— Нет… Это уже невозможно… Если уже зверек осмелел, если я сказал про себя «я», если я осознал себя, если я выбрался из общего потока на берег, мне трудно было бы вернуться обратно.
— Почему?
— В памяти все равно сидело бы воспоминание о «я». А с этим воспоминанием нельзя быть членом Семьи. В Семье можно быть, когда нет ни «я», ни воспоминаний… Когда тебя вообще нет… Прости, пришелец, что я пришел к тебе, но без гула потока так тихо… Так пусто… Как будто мир перестал существовать, и все остановилось… А в середине этой пустоты мы… то есть я… Один…
— И ты пришел ко мне за помощью?
— Да.
— Чтобы не быть одному в пустоте?
— Да, пришелец.
Может быть, я склонен к преувеличениям, может быть, вырванный из твердых, привычных координат моей земной жизни, я действительно стал сентиментален, но я вдруг остро ощутил: нет, не напрасно я здесь. Даже ради помощи одному трехглазому беспомощному существу, дрожащему в одиночестве своего новорожденного самосознания, стоило лететь на другой конец Вселенной. Преувеличение? Может быть. Но когда кружится голова и не за что ухватиться, хватаешься и за преувеличение.
— Не бойся, элл. Скоро ты откроешь для себя тепло дружбы, ты научишься чувствовать поддержку товарищей и сам поддерживать других. Не слепо, не безымянно, как в Семье, а с широко раскрытыми глазами. Не бойся, элл, разреши мне прикоснуться к тебе рукой. Мы совсем разные, мы из разных миров с разной историей и разными законами развития, но разум обязан преодолевать различия и искать сходство. Только животные, лишенные разума, могут бояться всех, кто не похож на них. Не бойся, элл, ты обладатель разума, ты всесилен, потому что есть, должно быть братство разума.
Наверное, ни перед кем другим я не смог бы произнести эти чересчур громкие слова. Наверное, перед другими я бы стеснялся этих выспренних выражений. Но сердце мое тянулось к юному испуганному эллу, что смотрел на меня широко раскрытыми тремя глазами. Смотрел доверчиво, как смотрели на меня мои милые малые пудели: ты большой, ты все знаешь, защити, согрей, накорми, научи.
— Спасибо, — прошептал элл. — Мне легче. Я уже не одинок.
— Ты смелый, элл. Ты сам проклюнул скорлупку и сам выбрался на свет божий…
— Что такое «проклюнул»? Что такое «скорлупка»? Что такое «божий»?
— Мне не хочется объяснять тебе земные наши слова. Я лучше поясню тебе смысл их. Растения и животные везде развиваются по своим предопределенным программам. В почке уже заложена программа раскрытия ее в лист. В крошечном зародыше, что бывает заключен на нашей Земле в твердую оболочку-скорлупу, уже заложена программа его роста, и в соответствии с этой программой в какой-то момент он разбивает скорлупу и выходит из нее. Он автомат, этот зародыш, безумно сложный, живой, но автомат. Разум — это прежде всего вызов предопределенной природой программе.
Ты, мой новый друг, проклюнул скорлупу Семьи не потому, что это было записано в программе. Твой новорожденный разум сам вырвал себя из прочной обоймы Семьи. Для этого нужна смелость.
— Можно, я буду Смелым? Это красивое имя.
— Конечно. Отныне ты — Смелый, но ты не должен предавать свое имя. Ты должен оставаться смелым, как бы страшно тебе ни было.
Вечером ко мне пришел Первенец:
— Юуран, спасибо тебе.
— За что?
— Ты был очень добр к Смелому.
— Корры и неживые тоже делают вам добро.
— Нет, ты был не такой, как они. Ты был по-доброму добр. Ты понимаешь, что я хочу сказать?
— Да, мне кажется, я понимаю.
— И мы, твоя гвардия, решили устроить в твою честь… как это выразить твоими словами… пение тела.
— Что это?
— Я не умею объяснить тебе, как это происходит. Ты сам увидишь, если и твое тело сможет петь.
— Тело? Петь?
— Не нужно удивляться, Юуран, мы редко ходили петь. Почему — я не знаю. Но я вспомнил об этом древнем обычае сегодня, сходил на развалины и послушал, поют ли они теперь, как раньше. Они поют. Пойдем.
Мы шли в сгущающихся сумерках, и облака на стенах домов теряли на глазах оранжевое сияние, серели, меркли. Мы прошли мимо последних кубиков, долго брели мимо бесконечных развалин, пока не вышли к сравнительно ровной площадке, окруженной исковерканными узорами труб, балок, стержней. На площадке, уже плохо различимые в темноте, стояли Верткий, Тихий, Узкоглазый; все новые эллы, включая и Смелого.
— Стань рядом с нами, — сказал Первенец. — И вместе с нами ударяй ногой. Смотри, как мы это делаем, и делай так же. И если твое тело сумеет петь, как наши, ты поймешь.
Мы стояли под темным ночным небом Элинии и топали ногами. Мелькнула, было, худосочная мысль о странности этого занятия для циркового артиста Юрия Шухмина, но тут же умерла. Голова моя была пуста. Я поднимал вместе с эллами правую ногу и вместе с ними опускал на ровную поверхность площадки. Я ничего не чувствовал, кроме странного вакуума, что поднимался во мне, вымывая все мысли, чувства, воспоминания. Я был просто придатком ритма, и ритм заполнял ум и тело. Постепенно ритм стал усложняться. Нет, не ритм притоптывания, но в теле, в мозгу, в сердце рос какой-то новый ритм. Он рос, усложнялся и превратился наконец в некое пение, в некую музыку. Она звучала и не звучала. Я чувствовал, как все клетки моего тела то вдруг становились легкими и устремлялись вверх, то сила тяжести сильно и нежно обнимала их. И этот все усложнявшийся узор трепетания, смены невесомости и тяжести и звучал во мне пением.
Мучительно-прекрасно это пение. В нем было сразу все: и восторг — чистый восторг, кода весь ты устремляешься ввысь, и печаль от сознания того, что восторг этот, как и подъем, и все на свете, — не вечен. И грусть разрывания объятий. И острое счастье товарищества, в которое нас сливала общая песня, созданная нами и создававшая нас. И наслаждение таинственным унисоном вибрации всех миллиардов и миллиардов клеточек моего тела. Моего ли? Оно уже принадлежало не только мне, оно вмещало весь мир, все время — прошлое и будущее. И какая-то бесконечная, глубокая тайна угадывалась в трепете клеток, в пении тела, недоступная смертным мудрость…
Я не знаю, сколько мы стояли так, наполненные музыкой сфер. Я пришел в себя, когда услышал голос Первенца и ощутил его руку на своем плече:
— Держись за меня крепче, Юуран. Когда пение кончается, мы все должны касаться друг друга.
— Да, — прошептал я, не зная, почему я это сказал.
— Если пение кончается и элл при этом один, он может умереть. Он не в состоянии расстаться с пением тела, если он один. И оно убивает его.
— Да, — снова прошептал я. Я верил ему.
Было совсем темно. Мне казалось, что сейчас я провалюсь куда-то, споткнусь, рухну.
— Как мы найдем дорогу? — почему-то прошептал я. — Здесь ведь нет стен, которые могут светить.
— Ты ошибаешься, Юуран. Почти все развалины могут светить. Одни сильнее, другие еле-еле. Надо только уметь различать их свет. Он другой, и его лучше видишь средним глазом.
— Но у меня же только два глаза.
— Прости, Юуран, я забыл. Песня сделала меня рассеянным. Тебе понравилось пение тела?
— Как ты можешь спрашивать?
— Это хорошо, пришелец. Эта песня для тебя.
— Спасибо, Первенец.
Мы любим обобщения. Мы любим говорить: я живу для того-то и того-то. Я руководствуюсь такими-то и такими-то принципами и так далее. Все это правда, и не совсем правда. Потому что большую часть жизненного пути мы проходим по инерции. Мы двигаемся как бы по баллистической траектории, запущенные на нее воспитанием, обстоятельствами, наследственностью, жизненным опытом. Нам кажется, что мы сами прокладываем свой маршрут, не замечая, что на самом деле эта траектория наша ведет нас вперед.
Но случаются моменты, когда мы как бы заново определяем свои координаты. И если координаты эти совпадают с нашими принципами, мы счастливы: желаемые и действительные жизненные маршруты совпадают.
Даже на Элинии, за тридевять парсеков от дома, я уже набирал инерцию. Я уже двигался зачастую, не особенно думая, куда и зачем иду.
Но вот странные трехглазые существа спели для меня свою песню, для меня. В знак благодарности. И я вдруг предельно остро осознал, что я здесь не напрасно, что я кому-то оказался нужен, что кто-то благодарен мне…
Когда мы подошли к крайним кубикам поселка, мы вдруг услышали крик.
— Что это? — спросил я.
— Не знаю, — сказал Первенец.
— Кто-нибудь дежурит сейчас?
— Да, — крикнул Верткий, переходя на бег. — Члены Семьи. Представляю, что они натворили… Я говорил…
Мы мчались по геометрическим изгибам лабиринта, и он казался бесконечным. Вдруг мы выскочили на прямой участок. Стены здесь ярко светились, и в ровном их безжизненном свете я увидел несколько десятков эллов, которые сбились в кучу и яростно размахивали руками. Со всех сторон подбегали все новые и новые эллы, куча росла, и уже нельзя было ничего понять в этом мелькании рук и ног.
— Хватит! — крикнул Первенец. — Прекратите! Что здесь происходит?
Я не подозревал, что в этом тихом элле может быть столько властности. Не зря они выбрали его своим главой. Мелькание конечностей разом прекратилось. Куча в центре начала распадаться на отдельных эллов, которые с трудом вставали на ноги, поправляя разорванную одежду. А под кучей, на самом ее дне остались лежать два тела: элл и корр. Корр был жив. Я понял это, когда он приподнял голову и посмотрел на меня. Это был Варда.
— Что произошло? — спросил Первенец.
— Мы шли мимо этих стен. Внезапно из-за угла кто-то выскочил и бросился на нас. Мы успели отскочить в сторону и мгновенно заставили светить стены. И в свете увидели корра. Может быть, он не ожидал оказаться освещенным, может быть, он замешкался, но он замер на мгновение, держа в руке камень. И мы сразу бросились на него. И мы все слышали призыв: это корр! Корр хотел убить нас! Бей корра! И все бежали сюда, чтобы мы могли совладать с чудовищем. Один из тех, кто получил имя, Верткий его зовут, все кричал, что это Семья убивает, что Семья полна ненависти, а это, оказывается, их друзья корры. Грязные корры. Злобные корры. Это они нападали на нас, уносили на своих спинах. Это они давали нам имена, вырывали нас из Семьи.
— Успокойтесь, братья. Верткий извинится перед вами за необоснованные подозрения. И спасибо, братья, за храбрость. Вы совладали с корром. — Первенец повернулся ко мне. — Юуран, ты умеешь читать мысли корров. Он жив?
— Да, это Варда.
— Варда… Как неожиданно… Может быть, ты поговоришь с ним? Мне все еще не верится…
— Давайте перенесем его в мой кубик, — предложил я.
— Ты не боишься?
— Нет.
— Но он может попытаться убежать.
— Заприте мой кубик словом.
В конце концов я уговорил эллов, и Варду перенесли ко мне в дом. Мы остались одни. Не знаю почему, но я вдруг вспомнил корра, придавленного балкой. Див — да, его звали Див.
Я прислушался. Варда был жив, но я не мог разобрать ни одной его мысли. Они метались в его голове, сталкивались, разлетались, снова сталкивались. Он страдал. Я понял, почему я вспомнил Дива. Тот тоже страдал, мечтая о быстрейшем конце пути. Я ни о чем не расспрашивал Варду. Я сидел, смотрел на него и ждал.
5
Ночь была на исходе, когда Варда вдруг спросил:
— Юуран, почему ты все время смотришь на меня так?
— Я жду.
— Чего?
— Пока ты ответишь мне.
— Что?
— Ты ведь добрый. Ты корр, которого неживые научили долгу и научили помогать эллам. И вы гордились этим. Так?
— Да.
— И ты хотел ударить элла камнем?
Корр шумно вздохнул, помолчал и ответил:
— Да. Я уже убивал эллов.
— Но почему? — вскричал я. — Почему? Когда я думал, кто мог оказаться убийцей, я гнал от себя мысли о коррах. Это невозможно, говорил я себе, эти кроткие и добрые существа не могут быть убийцами…
Я замолчал, молчал и корр. Наконец он ответил мне, и в голосе его звучали боль и смятение:
— Мы хотели помочь эллам.
— Что? Помочь, убивая?
— Да.
— Я не понимаю.
— Мы тоже долго не могли понять. Но неживые объяснили нам. Они были терпеливы. Они говорили: вы, корры, только недавно перестали быть животными. Ваш разум еще слаб, глаза ваши остры, а мысленный взгляд затуманен. Да, мы вместе помогали эллам вырваться из небытия Семьи. Так говорили неживые. Но Семья крепка. И даже прозревшие и получившие имена эллы не смогли разрушить свою Семью. Она крепка. Она держит эллов, как западня, в которую попадают звери, проваливаясь в ямы. И наша цель, наш возвышенный долг — освободить эллов от ярма Семьи. Вы, корры, не можете перетаскать на своих широких спинах всех эллов, их слишком много для этого. Мы надеялись, что, вернувшись, эллы с именем расколют Семью и освободят братьев. Может быть, когда-нибудь это произойдет, но сейчас Семья еще цела. А мы не можем ждать. Раз наш долг освободить эллов, вырвать их из небытия, значит, нам нужно как-то ускорить распад Семьи, ослабить ее. Легче всего сделать это, тайно убив несколько эллов. Их смерть вызовет в Семье еще большую сумятицу, хаос. После этого долго она протянуть не сможет. Одни эллы будут обвинять других, каждый будет видеть в другом убийцу.
— Но неужели мы должны для этого убить? — спрашивали мы.
— Да, — твердо отвечали неживые, — не просто должны. Это ваш долг.
— Я не смогу… — сказал Курха. — Вы учили нас делать добро. Разве убивать — это добро?
— Бедные, бедные корры, — говорили нам неживые, — как нелегко вам преодолеть сомнения, и ваши сомнения прекрасны. Они доказывают, какой путь вы пробежали от тех диких беспечных животных, что бродили в лесах и среди развалин, не ведая, кто они и зачем живут, до понимания высшего смысла существования. Да, друзья, лишать живое существо жизни — жестоко. Но жестоко ли лишать жизни двух, трех или даже пятерых живых существ, чтобы спасти сотни? Или гораздо более жестоко никого не убивать и смотреть, как гибнут эти сотни?
— Я не знаю, — пробормотал Курха. — Но убить…
— Мы понимаем, — говорили неживые. — Мы все понимаем. Действительно, если смотреть на убийство как просто на убийство, это жестоко и недостойно мыслящего существа.
— Убийство всегда убийство, — упрямо сказал Курха.
— Нет, Курха, — говорили неживые. — Ты просто не понимаешь. Убийство перестает быть убийством, если убиваешь ради блага других. Мысль эту может понять только развитый ум, умеющий подняться над привычными понятиями. Ум, которым движет великий долг.
Мы не знали, что ответить неживым. Мы были смущены, и разум наш был в смятении. Мы так гордились открытым для себя добром и были благодарны неживым за то, что они научили нас понимать долг и добро. Мысль об убийстве заставляла нас содрогаться, но в словах неживых была какая-то грозная правда, с которой мы не умели спорить.
Курха страдал ужасно. Он осунулся, глаза его ввалились, шерсть сразу потускнела. И другие корры были смущены. Некоторые роптали: мы не хотим никого убивать, с долгом или без долга. Давайте уйдем от неживых, пока они не сказали нам, что наш долг убивать друг друга. Давайте вернемся в лес.
Неживые позвали меня и сказали:
— Варда, мы понимаем вас. Понимаем Курху. И мы полны печали. Ваше горе — это наше горе. Разве не мы научили вас смыслу жизни?
— Вы, — вздохнул я.
— Разве не было вначале таких, кто тоже не хотел утаскивать эллов из их Семьи?
— Были.
— Разве не видели мы все, как мучился Первенец и другие эллы, осознавая себя? Отвечай, Варда!
— Видели, — ответил я.
— Но разве не наполнились потом наши сердца радостью и гордостью, когда они превратились из безымянных рабов своего стада в свободных эллов?
— Да.
— Ты не животное больше, Варда, — сказали неживые. — Ты разумное существо. Да, ты умнее своих сородичей. И ты должен видеть дальше. Да, убивать отвратительно. И если ты знаешь лучший способ освободить эллов от бремени Семьи, скажи.
Я не знал, и неживые продолжали:
— Разум тем и отличается от зверя, что умеет преодолевать инстинкты, если эти инстинкты стоят на пути. Зверь не умеет, а разум умеет. Ты должен преодолеть инстинкт, Варда. Напрягись, Варда, и заставь замолчать слепой инстинкт, обуздай его и смело иди по тропе мудрости. Ты ведь не элла убиваешь, так может думать только жалкий ум, ничего не знающий, не видящий. Ты не убиваешь, а помогаешь освободиться другим, сотням других эллов. Да, корр, убить нелегко, но кто сказал, что творить добро легко? Мы надеемся на твой сильный и гордый ум, Варда. Все корры уважают тебя, а мы — еще больше них. И как бы ни была тяжка твоя ноша — мы верим в тебя. Иди, Варда, иди и выполняй свой долг. Старайся убивать быстро, так, чтобы после твоего удара жизнь сразу покидала тела эллов. Творя добро, старайся при этом причинять как можно меньше мучений. Иди, Варда, иди, и ты станешь настоящим освободителем эллов.
И я пошел. Я взял с собой Курху. Но он так и не смог увидеть истину. Он не мог выйти из развалин и ждал меня, дрожа и скуля.
— И ты убил? — спросил я корра.
— Да, — коротко ответил Варда.
— И ты… гордишься, что с такой силой размозжил голову элла? То-то я все думал, как нужно было ударить камнем, чтобы разнести полголовы… Его звали Честный. Не сразу, но он сам захотел получить имя…
Я замолчал. Молчал и Варда. Мне не хотелось больше с ним разговаривать. Можно ли спорить о нравственных основах с ножом? А он, Варда, был, в сущности, просто орудием убийства. Простодушное, наивное орудие, созданное волей других.
Но откуда такая неукротимая воля у неживых? Почему эти дряхлые роботы, которые каждое утро с трудом тащатся к источнику, чтобы подкрепить свои немощные тела и мозги, так жаждут уничтожения Семьи?
Еще тогда, когда я узнал, что стало с похищенными эллами, я подивился их альтруизму. Теперь я их просто не понимал. Душа их, если можно так назвать их наполовину вышедшие из строя логические цепи, была обращена ведь вовсе не к эллам. Их полуразвалившиеся искусственные души тянутся к давно исчезнувшим хозяевам и создателям. И это понятно. В их полустертых воспоминаниях прошлое не светится, а сияет. Это было время, когда они были молоды, их тела переполнены энергией, и шары их катились без устали. Их хозяева и создатели были всесильны, и рукотворные роботы гордились ими свирепой гордостью верных слуг. Все было прекрасно в прошлом, все было тягостно в настоящем.
Что им эллы? Что могут дать им трехглазые, даже получив имя? Что-то не похоже, чтобы эллы могли заменить неживым их исчезнувших богов и повелителей…
И тем не менее они почему-то страстно заинтересованы в разрушении Семьи. Заинтересованы так, что не жалеют красноречия и изощренной словесной эквилибристики, чтобы заставить четвероногих корров служить им в качестве помощников… Мне неожиданно пришла в голову одна мысль, и я спросил Варду:
— Скажи, вы, корры, знали раньше о существовании неживых?
— Что значит раньше? Раньше чего? Конечно, мы всегда знали о них. Когда я был совсем еще детенышем и ноги мои быстро уставали, мать как-то показала нам на них — мы притаились в развалинах — и сказала: это неживые. Можете их не бояться. Они никогда не обращают на нас никакого внимания.
— Она так и сказала?
Варда поднял голову и посмотрел на меня:
— Что значит «так и сказала»? Разве можно изменять чьи-то слова? Конечно, она сказала именно так.
— Никакого внимания?
— Да, никакого внимания.
— Обожди, Варда, обожди, страдающий кентавр, не мешай больше мне.
Мне было жарко, я весь пылал, сердце колотилось. Я не знал разгадки, но я чувствовал ее запах, она скрывалась где-то неподалеку. Я был в этом уверен. Да, неживые долгое время не обращали на корров никакого внимания. Да и зачем нужны были им эти кроткие полузвери. Они жили в прошлом и тихо угасали, и меньше всего на свете их интересовали корры, эллы с их Семьей, освобождение разума от оков анонимности, добро, долг и прочие возвышенные материи.
Конечно, возразил я себе, это так, но существует же логика эволюции. Нет, довод был несостоятельным. Какая уж эволюция у стремительно ветшавших роботов, какое устремление к благородству, когда все тающие силы направлены лишь на то, чтобы продлить свое никчемное существование, когда все их глаза-объективы были обращены назад, в прекрасное прошлое, а щупальца протянуты к исчезнувшим господам.
И вдруг все переменилось. Почему? Я по-прежнему не знал разгадки. Но зато я знал: она где-то совсем рядом. Мне почудилось даже, что я видел ее промелькнувшую тень. Мысль моя работала с бешеной быстротой, голова гудела от непривычных перегрузок.
Вдруг все изменилось. Почему? Их жизнь, если можно назвать жизнью жалкое существование роботов, которые постепенно выходят из строя от ветхости, отсутствия запасных частей и обслуживания, их жизнь была однообразна. Пока они не открыли для себя источник в развалинах, о котором мне рассказывал Шестой. Он подкреплял их силы и оживлял каким-то образом воспоминания о прошлом, то есть об их хозяевах.
Стоп. Не упусти юркнувшей мыслишки, наступи ей на хвост.
— Варда, скажи мне, когда неживые первый раз позвали вас, они уже нашли источник?
— Да. Они каждое утро катились к нему.
— Так, так, так… Они расспрашивали вас об эллах?
— Сначала они расспрашивали нас вообще о разных развалинах…
— Стой! — заорал я, чувствуя, как охотничье возбуждение разгоняет сердце. — Стой, Варда! Повтори, что ты только что сказал.
— Только что я сказал: сначала они расспрашивали нас вообще о разных развалинах.
— Как?
— Что значит как? Они просили: расскажите нам об интересных развалинах…
— Обожди, кентавр, не торопись, спокойнее. Они так и говорили «интересных»?
— Да, Юуран. Ты сегодня какой-то странный. Ты все время заставляешь меня повторять слова, как будто ты их плохо понимаешь.
— Ничего. Так нужно, Варда, миленький.
— Ты назвал меня «миленький»?
— Теперь ты переспрашиваешь меня.
— Я чувствовал, что ты презираешь и ненавидишь меня.
— Нет, Варда, нет! Скорее я жалел тебя.
— Жалел? Почему?
— Не будем отвлекаться. Ты скоро все сам поймешь. Значит, неживые просили вас рассказать об интересных развалинах?
— Да.
— А что именно они хотели знать?
— Они не уточняли. Они говорили: расскажите нам об интересных развалинах, о таких, где что-то кажется вам необычным, где вы чувствуете себя не так, как везде…
— Прекрасно, Варда. Ты даже не понимаешь, кентавр, как ты помогаешь мне.
По стене снова промелькнула тень тайны. Она явно нервничала и пыталась спрятаться от меня, но я уже шел по ее следу. Я был гончей, и ничто теперь не могло остановить меня.
— И вы в какой-то момент рассказали им о поселке Зеркальных стен, который вы не раз видели, и о том, как трехглазые поднимаются иногда в воздух. И неживые попросили вас рассказать об эллах поподробнее, особенно об их полетах. Так?
Варда с трудом поднялся с пола. Ноги его дрожали. Он долго смотрел на меня, и глаза его были совсем круглыми.
— Да, так, — прошептал он. — Но откуда ты знаешь? Тебе говорили неживые?
— Нет, не говорили. Я строю умозаключения, корр, — с гордостью сказал я. — Попробую выстроить еще одно: когда вы рассказывали неживым о полетах эллов, они спросили вас, всюду ли те летают, а когда вы ответили, что только возле Зеркальных стен, они пришли в волнение и заставили вас подробно описать им, где находятся ближайшие развалины. Так?
— Да, Юуран. — Корр хотел подойти ко мне, но ноги его подкосились, он издал жалобный стон и упал на бок.
Я бросился к нему:
— Нет, Варда, не смей закрывать глаза.
— Мне больно.
— Ничего, ничего, лежи тихонько. Я посмотрю, что с тобой. Не будем забывать, Варда, что ты получил по заслугам, даже недополучил.
— Да, — прошептал он. — Ты прав…
Я нагнулся и осторожно ощупал ноги Варды. Когда я дотронулся до задней правой, он дернулся и заскулил. Похоже было на перелом. Да, похоже. Но что делать с переломом ноги у кентавра на другом конце Вселенной? Я не знал. Разве что попробовать перевязать, сделать нечто вроде лубка. Но чем? А может быть, наоборот, не следует делать этого?
— Потерпи, — сказал я. — Я знаю, тебе больно, но страшного, я думаю, ничего. Скорее всего, у тебя сломана нога. Что вы делаете в таких случаях?
— Когда корр повреждает ногу, он ждет, пока кости не срастутся снова.
— А долго они срастаются?
— Очень долго. Иногда целый день. Или ночь.
Мне даже некогда было улыбнуться. Потом.
— Хорошо, Варда, лежи спокойно. Ты можешь говорить или тебе слишком больно?
— Теперь могу, Юуран.
— Ты хотел встать на ноги, потому что я угадал, так? Неживые хотели знать, где находятся ближайшие развалины к Зеркальным стенам.
— Да.
— А после этого они вскоре начали объяснять вам, что ваш долг — помочь эллам.
— Да.
— Спасибо, корр. Лежи, страдай, Варда. И находи удовлетворение в том, что сломанная нога очень, в сущности, невысокая плата за те глупости, которые ты по недомыслию сделал. А я должен подумать немножечко.
Когда я был совсем маленьким, мама принесла как-то красивую коробку, в которой были сотни разнообразных и разноцветных кусочков дерева. По крышке коробки брел тигр. У него было очень хитрое выражение лица. Должно быть, он что-то задумал против обезьян, которые довольно испуганно пучили на него с деревьев глаза.
— Попробуй, Юрчонок, — сказала мама. — Все эти кусочки надо сложить так, чтобы получилась вот эта картинка.
— С тигром? — спросил я.
— С тигром и обезьянками.
— А зачем?
— Как зачем? Чтобы была картинка.
— Такая же, как эта, с тигром и обезьянками?
— Да.
— А зачем вторая картинка, если и на этой тигр задумал что-то против обезьянок?
— Ты не понимаешь, из этих кусочков сложить картинку трудно, для этого нужно терпение.
— А подавно зачем тогда складывать?
— Ты бываешь невыносим, — пожала плечами мама.
Головоломку мы так никогда и не сложили. Зато сейчас, лет через двадцать, я упорно складывал другую головоломку, и кусочки ее ложились рядом друг с другом, образуя картинку вовсе не похожую на хитрого тигра, который забавно топорщил усы, и суетливых обезьян.
Итак, робот, которого они назвали для моего удобства Шестым, случайно нашел развалины. Эти развалины каким-то образом заряжали их энергией и освежали память.
Неживые неглупы. Не знаю, какую часть интеллекта они потеряли за время тихого угасания после Великого Толчка, но и того, что осталось, им хватило кое для каких выводов. Прежде всего, очевидно, они поняли, что развалины, во всяком случае, те, что нашел Шестой, сохранили какой-то источник энергии. Судя по всему, она как-то связана с гравитацией. Эта энергия когда-то подчинялась их хозяевам. Это было ясно хотя бы из того, что их тела воспринимали эту энергию.
Если в глубинах одних развалин теплится источник энергии, когда-то созданной их хозяевами, вполне может быть, что другие развалины скрывают под собой более мощные источники. Эллы, например, летают. Если бы они могли летать всегда и везде, это значило бы, что они обладают потребной для этого энергией. Если они летают лишь у своих стен, да и то в определенных местах, это значит, что именно там сила тяжести каким-то образом ослабляется настолько, что позволяет им отрываться от земли.
Эта энергия источников обладает для неживых поистине волшебной притягательной силой. Она не только дает им энергию. Она не только освежает их память. Она как бы связывает их с их исчезнувшими, но все еще обожаемыми создателями и господами.
Но они не могут согнать эллов с насиженного места. Их слишком мало, и они слишком немощны, а эллов сотни. И хотя эллы кротки, нечего и думать, чтобы они добровольно оставили, свои Зеркальные стены и развалины. К тому же немощные роботы даже докатиться самостоятельно до Зеркальных стен не смогли бы.
В этот момент появляются корры, и начинается их иезуитское воспитание. Неживые понимают, что корры, никак от них не зависящие, не станут выполнять их волю по принуждению. Возникает идея убедить корров, существ кротких, доверчивых и наивных, в необходимости помочь эллам.
Идея, надо отдать неживым должное, незаурядная. Идея, которая воодушевила мохнатых кентавров. Они начали похищать эллов, чтобы подорвать, а точнее взорвать впоследствии Семью изнутри.
Корры, разумеется, были уверены, что действуют во благо эллов. Они гордились, что помогают им. Они были воодушлевлены идеей добра. Они были полны энтузиазма дикарей, только что вступивших на стезю цивилизации. Они вышли из леса и тотчас же получили из рук неживых смысл своего существования.
Эти пылкие четвероногие носители идеи добра не могли, разумеется, даже на мгновение усомниться в словах неживых. Неживые были богами, даровавшими им благородную миссию помощи ближним.
Ну а роботы, наверное, потирали свои металлические руки. Они были уверены, что столкновение Семьи с измененными эллами приведет к хаосу. И в этом хаосе неживым нетрудно будет завладеть их источником.
Такова была идея, одним из последствий которой была космограмма на Землю и появление на Элинии некоего Юрия Александровича Шухмина.
Все кусочки головоломки подошли друг к другу, даже подгонять ничего не нужно было. Картинка сложилась. Довольно неприглядная картинка. По сравнению с ней тигр, подкрадывавшийся к обезьянкам, казался святым. Он честно хотел полакомиться хвостатыми тварями и даже особенно не скрывал своих планов. Он не говорил, что стремится помочь обезьянкам обрести смысл жизни. Разве что смысл их жизни он видел в своем желудке.
Теперь нужно было прикинуть, что делать дальше, но как раз этого сделать я не мог. После возбуждения охоты я чувствовал себя бесконечно усталым. Варда спал, прижав руки к передним ногам. Лицо его было спокойно. Я вздохнул, лег на свою кровать. Невесомость мягко приняла меня в свои объятия. Я закрыл глаза.
Я проснулся оттого, что кто-то пристально смотрел на меня. Варда стоял, скрестив руки на широкой мохнатой груди, у моего ложа. Должно быть, и на этот раз во сне я отогревал душу посещением милой Земли, потому что несколько мгновений пушистый кентавр, скорбно глядевший на меня, никак не хотел укладываться в мое сознание. Но вот остатки земных снов испарились, подгоняемые явью Элинии, и Варда занял свое место в оранжевой реальности. Жаль, жаль было расставаться с драгоценно-нелепыми осколочками земных снов, но не мог я цепляться за них, когда на меня молча и пристально глядел корр, и круглые глаза его были полны муки.
— Ты стоишь? — спросил я. — Как твоя нога?
— Кость срослась, — вздохнул Варда, — ведь прошла целая ночь. Но мне еще больнее, чем всегда…
— Что у тебя болит?
— Не знаю. Мне плохо, Юуран. Мне никогда не было так плохо. Знаешь, на некоторых развалинах бывает так легко, кажется, подпрыгни изо всех сил, — и взмоешь вверх, как крылатые стражи, что пищат над головой. А сейчас наоборот, мне тяжело. Голова тяжелая, ноги тяжелые, руки тяжелые, тело тяжелое, словно на спине у меня тяжкая ноша, а внутри я набит камнями. И нет сил сбросить ношу, выкинуть камни… И нет сил думать… Я… хочу быстрее пройти конец пути…
— Это тоже цена, Варда, за то, что ты сделал. Ты совершал насилие, ты отнимал у эллов жизнь, и недобитые твои инстинкты восстали против тебя.
— Но я же… Я хотел эллам добра.
— Ты думал, что творишь добро. Но ты ошибался. Ты творил зло, насилие.
— Но ведь неживые учили нас…
— Они лгали вам.
— Что значит «лгали»?
— Они говорили одно, а думали другое.
— Разве это возможно? Разве может слово значить не то, что оно значит?
— К сожалению, Варда, может. Слушай меня внимательно, я объясню тебе, что на самом деле хотят неживые.
Я рассказал корру о плане роботов. Он долго молчал, потом спросил меня:
— Но как же так, Юуран? Ты мудр, ты пришел сюда из, далекого мира, ты понимаешь суть вещей, но ты ведь только сейчас догадался о замыслах неживых? Может быть, ты ошибаешься? Мне трудно поверить тебе. Ты ошибаешься, Юуран. Может, ты просто хочешь мне показать, как слова разделяются: слово идет в одну сторону, а тень его в другую? Вот я могу повторить твои слова, что неживые обманывали корров, но это только тень слов, сами слова этого значить не могут. Потому что неживые учили нас добру. Так, Юуран? Скажи, пришелец.
— Нет, Варда. К сожалению, я тебя не обманываю. Тебе хочется, чтобы я тебя обманывал.
— Я не понимаю, Юуран.
— Тебе тяжко поверить в то, что я рассказал. Потому что, поверив, ты сразу теряешь все, чем жил: смысл жизни, веру в то, что вы творили добро, несли эллам освобождение. И исчезает добрый и благородный Варда, а вместо него появляется жалкий, обманутый неживыми маленький кентавр, который убивал ни в чем не повинных эллов. Ты смутно чувствовал, что что-то не так, поэтому тебе тяжко. Теперь тебе будет еще тяжелее. Правда, брат Варда, бывает тяжелее и острее камней, и многие ее боятся, а увидев, обходят побыстрее стороной, такая она колючая, неприятная и неудобная… А некоторые и узнавать ее не хотят. Увидят и отвернутся. Зачем, думают, портить себе глаза, глядя на такую уродину. Она ведь, Варда, и впрямь часто бывает уродливой.
— Уродливой?
— Конечно. Вот и говорят себе: не-ет, это не правда. Правда не может быть такой отталкивающей.
Вот и ты сейчас думаешь: врет он все, пришелец. Это не неживые, а он расщепляет слова: смысл в одну сторону, шелуху слов — в другую. Не неживые обманывали нас, а он. Он, пришелец, задумал злое, он сбивает нас с толку. Схватить его сейчас за шею, она у него тоненькая, хрупкая, крутануть, и нет его ледяных, пугающих слов. Все — нет его правды, а есть наша правда. Она нам ближе и нужнее. Она красивая и благородная, с ней приятно и спокойно.
Но кто-то в тебе возражает тебе же, друг Варда. А может, он все-таки прав? Может, правы были мои инстинкты, которые предостерегали меня от насилия и жестокости? Может, насилие и жестокость всегда насилие и жестокость, что бы ни говорили неживые? Может, зря я предал свои инстинкты, зря давил их в себе, долго и упорно затаптывал, как топчут корры корни эсы, чтобы они стали мягче?
Посмотри внутрь себя, Варда, и реши, кто прав. Пусть тебя обманули, но ты же стремишься к мудрости и добру, а они требуют правды, как бы ни было тяжко и мучительно пробираться к ней. Смелей, корр. Ты же не трусил, когда заносил острый камень над головой Честного.
По коричневому меху корра прокатывались короткие волны судорог. Он покачивался и тихо стонал. Он поднял голову и посмотрел на меня. Глаза были полны ненависти. Он сжал руки и шагнул ко мне. Сейчас его крепкие пальцы сожмутся на моей шее, я услышу хруст — последний звук в жизни. Я знал, что мне нужно было вскочить, бежать, хоть бы приготовиться к обороне, но я не мог пошевелиться, я был обесточен, и мышцы не слушались команд. Мгновения чудовищно растягивались, превращались в гигантский пузырь, и прозрачные стены его колебались в такт ударам моего сердца. Как медленно, как неправдоподобно медленно движется ко мне Варда. Пусть он прорвет прозрачный пузырь, и пусть все быстрее закончится, пусть иссякнет тягостный ужас, что душил меня.
Пузырь лопнул с легчайшим шорохом, кошмар исчез. Варда протягивал ко мне руки не для того, чтобы убить меня, а в немой мольбе, в просьбе о помощи. И была в его глазах не ненависть, а мольба. И оцепенение мое тут же спало, я кинулся к страдающему корру и нежно обнял его за мохнатую шею.
Я не помню, что я говорил ему, как, наверное, мать не вспомнит, какими словами утешала ребенка. Ему нужна была помощь, и я старался помочь ему как мог. Мы стояли вместе в холодном беснующемся прибое, мы пытались удержаться на ногах в яростных порывах ветра, чтоб не сбил с ног, не погубил. И выстояли. Прибой стих, ветер улегся.
Варда медленно опустился на пол. Он был обессилен, но в глазах больше не было ненависти, в них стояла тихая печаль.
— Спасибо, Юуран, — прошептал он. — Но как же теперь жить? Все исчезло, внутри меня те же развалины, что на земле.
— Нет, брат Варда, не все исчезло. Исчезла ложь, зато вместо нее у тебя есть правда, пусть неудобная, пусть тяжелая, но правда. Приучайся к ней, если хочешь действительно быть разумным существом, потому что, бедный мой корр, ложь — это спасение для слабых и трусливых умов.
— Да, — прошептал Варда, — мне кажется, я понимаю… Но что же делать?
— Неживые не отступятся от своих планов по уничтожению Семьи эллов, я в этом уверен. Я думаю, они пришлют других корров. Я попрошу Первенца усилить охрану Зеркальных стен.
— Нет, Юуран, это бесполезно.
— Что бесполезно?
— Охрана. Эллы ведь не могут все время сидеть за своими Зеркальными стенами. Они должны есть, они должны выходить за развалины, чтобы собирать багрянец. Они должны выходить, чтобы чистить свои стены. Ты не представляешь, Юуран, как тихо мы умеем подкрадываться к добыче, как терпеливо застываем в засаде. Элл может пройти совсем рядом с корром и ничего при этом не заметить. Мы можем долго ждать, слившись с тенью, с пятнами. А потом одним стремительным прыжком добраться до жертвы. Нет, пришелец, это не путь…
— Что же делать?
— Я вернусь к коррам и расскажу им все.
— Я боюсь за тебя.
— Чего ты боишься?
— Они могут не поверить тебе, как ты только что не хотел верить мне. Ты ведь не хотел верить мне, друг Варда?
— Не хотел.
— Видишь.
— Но я же поверил тебе в конце концов.
— Ты страдал. И от сломанной ноги, и от разброда в твоей душе. И мы были один на один, каждый со своей правдой. А там тебя будут окружать корры, которым твои слова будут казаться такими же отвратительными, как мои — тебе.
— Они выслушают меня. Они поймут.
— Будем надеяться.
— Они поверят, — твердо сказал Варда. — Поверят! — почти выкрикнул он. — Курха поверит. Он и без того не мог заставить себя убить элла, хотя неживые сто раз втемяшивали нам в голову, что это нужно для их же блага. И другие поверят.
— Но неживые…
— Не бойся, — усмехнулся мрачно Варда. — Они не узнают. Я усвоил урок. Мои слова, обращенные им, будут совсем пустенькие и сухонькие, как высохшие растения, в них не будет правды.
— И все-таки я боюсь за тебя.
— Не бойся. Раньше ты говорил, что плачу невысокую цену за то, что делал, — Варда шумно и глубоко вздохнул. — Ты прав, я еще не доплатил. Я не искупил еще вины, если ее вообще можно искупить. Я иду. Юуран.
— Иди, брат Варда, береги себя. Как я узнаю о том, что произошло у неживых?
— Я что-нибудь придумаю. Но охрана все равно должна пока быть. Прощай. — Он посмотрел на меня. — Можно?
— Что?
— Дотронуться до тебя… Мне сразу становится легче.
Мы обнялись. Двуногий цирковой артист с планеты Земля и четвероногий мохнатый кентавр с Элинии. Нет, наверное, предела разнообразию форм жизни во Вселенной, но что-то все-таки объединяет разум…
Наверное, я задремал. Потому что пришла, мне в голову странная мысль. Еще до того, как человек вышел в космос, ученые пришли к выводу, что вся Вселенная сложена из одних и тех же элементов и подчиняется одним и тем же законам. Первые же образчики лунного и марсианского грунтов подтвердили гипотезу. Такому профану, как я, это казалось удивительным: жуткое разнообразие миров — и все построены из одинаковых кирпичиков. Потом я понял, что Вселенная, в сущности, единый дом, в котором мы занимаем крохотное помещеньице, и поэтому в одинаковости ее стройматериалов нет ничего поразительного.
А может быть, чудилось мне теперь не то во сне, не то наяву, и разумная жизнь во Вселенной тоже сложена из одинаковых частичек. И существует некая периодическая таблица нравственных элементов: благородства, подлости, дружбы, расчета, преданности…
Я почувствовал необыкновенную гордость. Наверное, я даже подумывал о Нобелевской премии за свое грандиозное открытие, потому что тут же стал набрасывать тезисы выступления на торжественной церемонии в Стокгольме.
Ну, начало обычное:
«Дамы и господа, дорогие товарищи! Периодическая таблица позволила предсказать свойства еще не открытых элементов. Моя таблица тоже позволяет…»
Я замолчал и испуганно уставился на сияющие лысины ученых мужей и государственных деятелей. А что же она действительно позволяет? Боже, как неудобно, столько людей, и молодой лауреат вдруг онемел. Думай, думай, заклинал я себя.
«Так, значит, в отличие от алхимиков и химиков, которые лишь постепенно и с огромным трудом заполнили пустующие клеточки знания о своем материальном мире, знатоки человеческой души исследовали ее намного раньше. И вряд ли мы знаем о ней больше, чем наши предки…» — Но как же в таком случае мое открытие? Я понял, что запутался и нужно просыпаться.
Премии, конечно, было жалко, жалко уезжать из Стокгольма, но что поделаешь. Стокгольм далеко, и я уже думал о Варде. Что-то с ним будет, с моим бедным кентавриком…
ЧАСТЬ 4
1
Я попросил Первенца показать мне, где эллам легче всего подниматься в воздух.
— Ты хочешь летать? — спросил он. — Это не так просто. Когда Семья создает нового элла, даже он не может сразу летать.
— Почему?
— Он может разбиться. Подняться в воздух он сумеет, это нетрудно в тех местах, где земля иногда отталкивает нас, но удержаться в воздухе сложнее. А еще сложнее двигаться. Нужно суметь поймать волну и скользить по ней.
— Волну? Волну чего?
— Волну легкого воздуха. Когда подымаешься вверх, надо угадать момент, когда она подхватывает тебя, Тогда она может нести тебя.
— Куда?
— Волны легкого воздуха всегда бегут по направлению к Большим развалинам. Ты знаешь, ты видел их. Ты хочешь сейчас попробовать?
— Спасибо. Я не собираюсь учиться летать.
— Для чего ты тогда расспрашиваешь?
— Я потом объясню тебе. Если, конечно, моя догадка окажется верна. Еще одну вещь я хотел спросить тебя.
— Да?
— Вы когда-нибудь исследовали Большие развалины?
— Исследовали?
— Ну, изучали, осматривали, пытались посмотреть, есть ли в них какие-нибудь проходы?.
— Для чего?
— Для того, чтобы узнать, что может скрываться под ними. Почему легкая волна всегда бежит туда.
— Нет, Юуран, тебе ведь уже, наверное, объясняли, что эллы никогда не стремились узнать новые вещи. Семье не нужны новые знания.
— Да, я понимаю.
Я долго бродил вокруг Больших развалин. Я не знал, что искал, я не знал, как найти то, что не знаю, и где искать. Вначале я обошел их вокруг. Печальный памятник катастрофы. Творчество разрушителей. Вздыбленные плиты, бесконечная, искореженная паутина труб, стержней, решеток. Я даже не пытался понять, что за материал применяли строители этих сооружений. Я видел только, что он прочнее и более упругий, чем наши земные материалы. Так, во всяком случае, казалось мне, когда я рассматривал длиннющую, метров в пятьдесят, тонкую плиту, торчавшую под углом примерно градусов в сорок пять. Она даже не прогнулась под своей тяжестью. Впрочем, поправил я себя, как раз сила тяжести здесь может быть во много раз меньше. Все на Элинии так или иначе было связано с силой тяжести, Источник, найденный Шестым роботом, ослаблял гравитационные силы. Развалины, где я видел летучих мышей, в несколько раз ослабляли силу тяжести. Пение эллов было связано с гравитацией, с ней же связана и способность летать. И уж, конечно, их Большой Толчок.
В развалинах с летучими мышами уменьшение силы тяжести вскоре исчезло, причем исчезло внезапно. Эллы при полете пользуются какой-то волной. Даже моего скудного образования хватало для очевидного вывода: несмотря на катастрофу, разрушившую всю Элинию, в каких-то развалинах или под ними продолжают работать машины, изменяющие силу притяжения.
Я гордо выпятил грудь — вот тебе и недоучка! Но долго держать грудь колесом было неудобно, к тому же мое блестящее умозаключение ни на миллиметр не приближало меня к тому, что я искал.
Я еще раз обошел развалины, не торопясь на этот раз, переступая осторожно, словно нащупывая дно в незнакомой речушке. Увы, дно было удручающе однообразным. Везде я ощущал свой вес, ни разу не почувствовал я внезапной легкости, ничто не поднимало меня в воздух.
Я начал третий круг, думая на этот раз не о потере веса, а присматривая местечко, где бы можно было попробовать вскарабкаться вверх. Дважды я вползал на растрескавшиеся плиты. Ужом пробирался через какие-то скомканные решетки, но оба раза упирался в вертикально торчавшие то ли плиты, то ли стены. Я уже готов был сдаться, когда обнаружил длинную трубу, соединявшую плиту, на которую, похоже, я мог сравнительно легко взобраться, и какую-то площадку. Можно было, разумеется, вообразить, что я смогу пройти по этой трубе. Но только вообразить, не более. Я знал, что не смогу удержать на ней равновесия, тем более что между плитой и площадкой зиял пугавший своей чернотой провал.
Я описал третий круг и снова остановился возле трубы. Я никогда не боялся высоты, даже когда совсем малышом любил лазать на чердак, и отец называл меня диким котенком. Но одно дело — высота, другое — умение сохранять равновесие. Я проработал в цирке не один день и все равно не уставал поражаться канатоходцам. Они казались мне существами высшего порядка. Я мог еще понять — теоретически! — канатоходца, идущего по проволоке с тяжелым першем в руках. Но артист, выбегавший на проволоку без всякого перша, вообще без каких бы то ни было предметов в руках, которые помогали бы сохранять равновесие, артист, не только идущий, но бегущий на проволоке, танцующий, да что танцующий, крутящий на ней сальто, — такие артисты вызывали во мне священный трепет.
Я взобрался на плиту и взялся за трубу. А может быть, это была вовсе не труба, а толстый стержень. Это не имело ровным счетом никакого значения, потому что ничто на свете не могло меня заставить попытаться пройти по ней или по нему. Проще было сразу броситься в провал.
И вдруг кто-то подсунул в мою память яркий слайд: симпатичный меховой зверек свисает с ветки, обхватив ее передними и задними лапками. Кажется, это ленивец, он же лемур. Прелестно, но я, к сожалению, не ленивец. Но что мешает мне вот Так же ухватиться за трубу руками и ногами и добраться до заветной площадки? Тем более что провал был неширок — метров десять, не более.
Все так, и все же не хотелось мне ползти по трубе, не хотелось ощущать под спиной темный провал. Но и сдаваться тоже не хотелось. Я стоял около трубы и поймал себя на подозрительной любознательности: то я начинал рассматривать материалы плиты, царапал ее ногтем, то полировал трубу ладонью, заблестит ли, то оглядывался вокруг. Еще чуть-чуть, и я бы начал заинтересованно пересчитывать свои пальцы, все ли на месте. Все, что угодно, но только не ползти по трубе.
Я разозлился. Всю жизнь я воюю с собой. И всю жизнь большей частью проигрываю.
— Все, хватит! Хва-тит! — заорал я во весь голос.
— А-тит! — ответило эхо.
Быстренько, чтобы не передумать, я ухватился за трубу руками и ногами. Висеть было вовсе не трудно. В небе сияли все те же вечные оранжевые облака, подбитые по краям золотом, прямо королевская мантия, а не облака. Я начал ползти. Все же, что ни говори, правы умные люди, утверждающие, что нет победы слаще, чем над собой.
Если посмотреть со стороны, я выглядел, наверное, довольно забавно: солидный человек, единственный представитель далекой планеты Земля на Элинии, осторожно переставляет руки и ноги, медленно ползет по трубе, прищурив глаза от яркого света. Хорошо еще, что меня не видят мои верные Чапа и Путти, они бы потеряли дар, если не речи, то лая. Хозяин — источник мудрости, благ и предмет обожествленного поклонения, ползет где-то наверху, как муха на потолке.
Я хотел было повернуть голову, чтобы посмотреть, далеко ли еще до площадки, но ничего не увидел. И вдруг сердце прыгнуло и застряло где-то в горле, закупорив его. Труба, на которой я висел, медленно прогибалась. Я начал судорожно перебирать руками и ногами, но труба прогибалась еще быстрее. Беззвучно, плавно, неотвратимо. Еще мгновение — и я уже оказался в провале. Я ничего не мог сделать. Я был совершенно беспомощен. Стены провала уходили вверх, словно я опускался на лифте. Сейчас труба не выдержит, еще мгновение — движение стен резко ускорится — я рухну вниз. Вздор, вздор, будто в последние мгновения жизни проживаешь ее всю заново. Вся моя жизнь сосредоточилась в трубе, к которой я был прикован мертвой хваткой, в оранжевых облаках, которые виднелись теперь над головой в узкой рамке провала, в полумрака, который все уплотнялся и уплотнялся, пока вокруг не стало почти совсем темно.
Но вот что-то изменилось, я почувствовал, что спуск замедлился, а потом и вовсе прекратился. Я висел в густом чернильном мраке, судорожно вцепившись руками и ногами в трубу. Держаться было неудобно, потому что труба, очевидно, не просто прогнулась, а превратилась скорее в петлю, на которой пока еще висел один из величайших идиотов всех времен. Это он, этот кретин, в необъяснимом приступе безумия согласился отправиться на край Вселенной, это он, дебил, пришел к этим развалинам, это он, имбецил, долго искал, как бы побыстрее провалиться в этот колодец. И теперь он висел в полном мраке и смотрел на далекую неровную рамку, в которую был вставлен кусочек чужого неба и чужих оранжевых облаков.
Ум мой подсказывал, что долго я не продержусь. В сокращенных мускулах неуклонно накапливается усталость. В какой-то момент, в не очень отдаленный момент, я не смогу перебороть эту усталость. Она заставит меня разжать руки и ноги, и в кошмарном падении во тьму закончится моя жизнь.
Но мне не хотелось умирать. Все клеточки моего тела — от глупых нейронов в мозгу до последних эритроцитов дружно вопили: нет! Нет! Нет!
Не хотелось мне превращаться в мешок разлагающегося мяса на дне дьявольского черного колодца, не хотелось мне, чтобы из умирающего мозга печально выскользнули бесценные мои сокровища: воспоминания о моем родном теплом мире, память о тихом отце, образ мамы, вечно мчащейся куда-то по тысячам своих орбит, смеющиеся глаза и ласковые руки Ивонны, два черных сгустка веселой, энергичной преданности — Путти и Чапа.
Ах, если бы можно было только обращать эмоции в силу… Моя любовь и страстная жажда жизни тут же вытолкнули бы меня на поверхность… Почему время течет в одну сторону, что за нелепое вздорное упрямство. Сейчас я попрошу его, умолю его, и оно, пусть неохотно, неважно, вернет меня на несколько минут назад. Всего несколько минут — и я окажусь на поверхности и снова буду стоять перед роковой трубой и вспоминать, как ползают по веткам деревьев ленивцы, они же лемуры. Но я буду мудрее. Каждому свое. Пусть бесконечно далекие меховые ленивцы и странствуют неторопливо по веткам, если им это нравится. А двуногий Юрий Шухмин пожмет плечами и вернется в свой кубик, чтобы спокойно ждать прилета «Гагарина». Ну время, миленькое, всего несколько шажков назад, заклинаю тебя… Я никогда больше не буду делать безумств, время, обещаю тебе.
Бедный кентавр Варда. Как он не хотел верить в то, что оказался жалким обманутым орудием неживых, как цеплялся за хрупкие свои иллюзии. А теперь я отталкиваю от себя реальность и, зажмурив глаза, делаю вид, что нет никакой костлявой с косой, которая стоит уже совсем рядом и ухмыляется, тихонько подымая косу.
И несутся, несутся в мозгу слова и образы, и за этой зыбкой завесой я вроде бы и в безопасности от этой старухи. Она вроде бы и не стоит рядом со мной, она вроде бы абстракция, фикция.
В напрягшихся мышцах что-то кольнуло. Сквозь них прорастала боль, и она, эта боль, разом наполнила меня тягостным животным ужасом, который одним рывком перебросил идею смерти, моей смерти, из категории нелепых абстракций в леденящую материальность.
Я не хотел умирать, но уже звучал тихий, увещевающий голос: может, проще разжать руки, может, проще пролететь остаток пути до дна колодца. Это же мгновение… И все…
— Нет! — заорал я во весь голос. И эхо тут же заквакало в ответ: ет, ет, ет…
Я вылезу из этой чертовой петли на поверхность. Зубами я вопьюсь в нее. Я попробовал схватиться за трубу ладонями. Если я хотел подняться по ней практически вертикально вверх, как по висящему канату, я должен получить точку опоры. Труба была слишком толста, я никак не мог охватить ее так, чтобы подтянуться. Но выхода все равно не было. Легко выбирать, когда нет выбора. Зная, чувствуя, но не веря, что я никогда не сумею подняться по толстой трубе, я напряг мышцы рук и начал подтягивать тело, помогая коленями. Но труба была слишком толста, и поверхность ее слишком гладка — руки скользили. Я даже не мог принять вертикальное положение. Я по-прежнему висел спиной вниз.
Еще одна попытка, еще одна, но пальцы и ладони скользили. На мгновение вспыхнула ярким праздничным фейерверком мысль: а может быть, и этот колодец ослабляет силу тяжести, может, я не рухну, а плавно опущусь на дно, как тогда, когда неживые показывали мне свой источник. Фейерверк вспыхнул и погас, даже не оставив мне мимолетного негативного следа во тьме колодца и моего отчаяния. Я висел на петле, и все мое тело с ужасом ощущало всю свою тяжесть, нисколько не разбавленную неведомыми машинами.
С этого момента мысли мои начали путаться. Я никак не мог вспомнить потом, что лезло мне в голову. Я помнил только, что что-то кричал, делая последнюю, отчаянную попытку подтянуться, помню скольжение руки, которое я уже не мог остановить. Конец. Но я не упал. Я просто лег на спину. Потому что спина моя была буквально в нескольких сантиметрах над какой-то твердой поверхностью.
Я лежал на спине на чем-то твердом, смотрел на далекое небо, на изогнутую петлю трубы, видимую на фоне голубовато-оранжевого пятна, и истерически смеялся. Все эти тягостные минуты, наполненные и переполненные густым ужасом расставания с жизнью, я практически лежал на спине. Нужно было только отпустить руки и спокойно лечь. Или сесть. Я сел, продолжая смеяться.
Неважно, что я не вышел из темницы. Неважно, что, наверное, никогда не выберусь из нее. Неважно, что не увижу света и неба. Важно, что костлявая отступила на несколько шагов, и глупые клетки моего тела прыгали и скакали от радости отсрочки. Они и знать не желали, что приговор, и сущности, не отменен, отсрочено лишь Приведение его в исполнение.
Но это потом, потом. Мышцы глупы, им недоступно понимание времени, и понятие «потом» им неведомо. Сейчас они наслаждались, им не нужно было пребывать в скрюченном состоянии, они не должны были тянуть вверх тяжелое тело по скользкой трубе.
Освободившись от непосильных обязанностей, они по собственной воле поставили меня на ноги. Я встал, держась за петлю трубы, и протянул руку — не нащупаю ли я стены. Стены не было. Во всяком случае, я ничего не почувствовал под рукой.
Нейроны моего бедного мозга перестали тем временем поздравлять друг друга с избавлением от неминуемого и скорого конца, и я смог хоть как-то оценить свое положение.
Итак, что же случилось, Юрий Александрович? По порядку, пожалуйста. И просьба поспокойнее, без истерики. Я полз по трубе. Длина ее была метров двадцать. Она казалась чрезвычайно прочной. Да она и была, по-видимому, прочна. Сколько пролежала она тут после Великого Толчка, одному местному богу разрушения известно, но была она пряма, как струна. Казалось, она может выдержать не то что мой скромный вес, по ней, казалось, могло бы преспокойно прошествовать стадо слонов, если бы на Элинии были слоны и у них возникло бы странное желание ходить по трубе. Когда я начал по ней свое путешествие в позе ленивца, мне и в голову не могло прийти, что она может прогнуться. Я буквально чувствовал прочность этого стержня сантиметров двадцати пяти — тридцати в диаметре.
Но когда я был над провалом, труба внезапно начала стремительно прогибаться. Да как прогибаться! Опустившись вниз на несколько десятков метров и не сломавшись, она не просто прогнулась — она вытянулась. Они висела теперь, скорее, как веревочная петля. Я не строитель, не инженер, не ученый — я никогда не изучал сопротивления материалов, я с грехом пополам кончил школу, но я понимал, что с точки зрения здравого смысла и в рамках земных понятий это невозможно. Моего веса было абсолютно недостаточно, чтобы таким невероятным способом деформировать столь массивную и прочную трубу. Все равно что посадить на толстую проволоку муравья и ожидать, чтобы под его весом проволока прогнулась, да еще образовав при этом длинную петлю.
Это раз. Первое не может быть. Далее. Прогиб прекратился как раз в тот момент, когда я почти касался дна, если то, на чем я стою в темноте, можно считать дном колодца. Может это быть случайным совпадением? Теоретически — да. Практически — нет.
Когда я был совсем маленьким, мой ученый, брат пытался объяснить основы теории вероятности, заставляя меня вытягивать карты, бросать кубик. А я все никак не мог понять, почему мне не удается десять раз подряд вытащить красную карту или черную. То, как труба осторожно доставила меня на дно, вполне соответствовало десяти, а то и ста десяти, вытащенным подряд красным картам. Стоп, Юрочка, сказал я себе. Ты что-то сейчас сказал умное, впервые за долгое время. Но что именно? О чем я сейчас думал? О брате? Да, но он, к сожалению, вряд ли сможет мне сейчас помочь. О теории вероятности, так до конца и не раскрывшей мне своего тайного смысла. Нет-нет, что-то еще… Труба осторожно доставила меня… Вот-вот, это я и имел в виду. Труба доставила меня на дно. Не думая, я, похоже, довольно четко сформулировал то, что произошло со мной. Подкорка моя, как это часто бывает, оказалась проницательнее недоразвитой коры больших полушарий мозга. Труба доставила меня. Труба доставила меня… Гм… Это могло значить одно из двух: или эта труба была сконструирована столь хитроумным способом, что плавно опускает, на дно колодца любого идиота, оказавшегося на ней, или некто — некий суперпаук — умеет таким образом заполучить гостя к обеденному столу. Причем гость, к сожалению, имеет больше шансов оказаться на столе, чем за ним.
Стоп, одернул я себя. Опять вздор. Если такой суперпаук существует и интересуется свежатинкой, пусть даже и импортной, вовсе не обязательно останавливать ее падение в шахту или колодец или просто провал в нескольких сантиметрах от дна.
Впрочем, рассуждения мои носили скорее теоретический характер, поскольку выводы не влияли на основное положение: я сидел (пусть даже стоял) на глубине пятнадцать-двадцать метров почти в полной темноте, если не считать пятна неба высоко над головой, не зная, что меня ожидает, что окружает, что подстерегает.
Я выставил руки и осторожно, крошечными шажками неуверенно двинулся вперед. Чтобы двигаться более или менее по прямой, я ориентировался по клочку неба. Каждое мгновение, выставляя вперед ногу и нашаривая ею дно, я ожидал все что угодно, что даже не мог себе представить. Сердце мое колотилось. Оно не просто сокращалось, чтобы гнать кровь, оно испуганно билось о ребра.
Я сделал, наверное, шагов десять или пятнадцать и вдруг почувствовал, что руки мои уперлись во что-то твердое. Я провел по стене ладонью. Стена была идеально гладкой. Это значило… Это значило только, что провалился я не в какой-то случайно образовавшийся провал, а в искусственно сделанную шахту. Что опять-таки не меняло моего положения ни в малейшей степени. Умереть от голода на дне искусственного колодца можно точно с таким же успехом, как на дне вполне натуральной ямы.
И опять, как только что я делал на трубе, я оборонялся от ужаса происшедшего частоколом слов, жалкими попытками острить.
Я двинулся теперь уже по окружности, держась одной рукой за стену. Я шел и шел, и мне начало казаться, что я всегда брел так, мелкими, неуверенными шажочками во тьме, и всегда буду брести так. Мысли мои опять начали путаться. Зачем-то я вспомнил лабиринты, зачем-то пытался извлечь из памяти название острова в Средиземном море, который славился в древности своими лабиринтами, зачем-то я был маленьким мальчонкой, и мы играли в прятки, и такая курносенькая крошечная девочка с невинными и жестокими глазками — как ее звали? — все время смеялась надо мной, а я злился и утешал себя: вот придет ее время водить, посмотрим, как она будет ходить среди деревьев с завязанными глазами…
Внезапно калейдоскоп остановился. Я замер. Рука больше не чувствовала стены. Я сделал еще шажок и увидел, да, увидел, коридор, стены которого светились мягким светом. Таким же странным, как бы бесплотным светом, которым эллы умели заставлять светиться по ночам свои кубики с зеркальными стенами.
Я не раздумывал. Здесь по крайней мере был свет, а может быть, и выход. Я осторожно двинулся по коридору. Я шел по нему, и стены, мимо которых я проходил, начинали светиться, а оставшись за моей спиной, гасли. Я был прав. Какие-то машины продолжали где-то работать, какие-то автоматические системы все еще функционировали под этими развалинами. Машины пережили и своих создателей и разрушение всего ими построенного. Они жили какой-то своей жизнью, и у меня мелькнула безумная мысль, что, может быть, они и есть настоящие обитатели Элинии.
Я прошел несколько десятков шагов и вдруг почувствовал, что поднимаюсь в воздух. Плавно, как при замедленной съемке, я взлетел вверх и так же плавно опустился на пол. Стены засветились ярче. Я сделал еще одно балетное па и, опускаясь, заскользил вперед. Меня как бы несла волна невесомости. Я никогда даже не пытался скользить на доске по склону волн прибоя, я только видел, как это делается, и летящие в веселых брызгах тела серфистов заставляли меня чувствовать себя неловким, неуклюжим, трусливым.
Зато теперь я скользил по такой волне, которая и присниться не могла чемпионам серфинга. Меня поддерживала неведомая сила, и я мчался в полуметре от пола по длинному коридору, и стены вспыхивали при моем приближении, словно приветствуя меня.
Все это было настолько невероятно, что мозг мой инстинктивно цеплялся за какую-то ерунду: я прикидывал, с какой скоростью я лечу, километров двадцать в час, или больше, как будто это имело какое-то значение. Я явно перерасходовал свой запас эмоций за последние полчаса и сейчас не мог ни удивляться, ни ужасаться, ни восхищаться.
Но вот волна начала замедлять бег, и я плавно опустился на пол. Я огляделся. Коридор расширялся, я стоял в круглом зале. Я стоял и ждал. Чего — я не знал, но ждал. Я был в каком-то странном оцепенении. Может быть, я простоял так две или три минуты, а может быть, час.
Стена, напротив которой я застыл, вспыхнула ярким светом. Свет, вернее, вспыхнул за стеной. Даже не свет, а игра каких-то вспышек, искр, мерцаний, переливов.
Я хотел подойти к стене, но не мог сдвинуться с места, мускулы не слушались меня, да я особенно их и не насиловал. Они и так перевыполнили свою норму, не дав мне упасть с трубы. И оцепенение свое я воспринял легко. Я уже был готов ко всему. Труба, скольжение вниз, в бездну, спасение, беззвучный полет — все происходило без моего участия. Я не влиял на события. Кто-то другой, невидимый и неслышимый, управлял мною. Я был марионеткой, и актер, державший нити от моих конечностей, сделал паузу, и я стал недвижим.
Но меня не забыли. Кто-то быстро и ловко копался в моем мозгу, стремительно перебирая его содержимое, как перебирают вещи, лежавшие в шкафу. Что-то похожее я уже испытывал недавно, вяло подумал я. Да, это неживые вот так же перетряхивали содержимое моей головы. Похоже, здесь это было принято. Наверное, нужно сделать усилие и защитить как-то свой мозг. Святая святых своего «я». Поднять хотя бы тревогу и спугнуть воров, влезших в Чужую голову. Но мысли эти были немощными, бессильными. Да и как защищаться, если не знаешь, кто на тебя напал и как…
Эллы в Семье не спрашивали разрешения, чтобы войти в чье-то жилище, у них не было своего и чужого дома. Неживые не спрашивали моего разрешения, вламываясь в мой мозг, Не оглядываясь, вошли в него и новые посетители.
Я ощущал легчайшую щекотку внутри черепа, легкое бесплотное прикосновение. Почему-то я почувствовал себя безмерно усталым и опустился на пол. Этот приказ мышцы выполнили охотно. Да, теперь я уже точно знал, что кто-то ковыряется в моем мозгу, потому что по коридору ко мне шел брат, очень нахмуренный, очень серьезный и очень недовольный.
— Как ты сюда попал? — спросил он. — Что ты тут делаешь?
Мне стало смешно. Это он меня спрашивает! Да, конечно, повторяется то же самое, что ранее проделывали со мной неживые, вытаскивая из моей памяти воспоминания и образы. Брата не может быть здесь. Он — фикция. Проекция моих же воспоминаний в мои органы чувств. Да, он фикция, но как, интересно, следует вести себя с фикцией? Не вступать же в беседу с миражом.
— Почему ты молчишь, Юра? — участливо спросил брат. — И вид у тебя какой-то дикий. Ты здоров?
Я твердо знал, что передо мной фантом. Что стоит мне протянуть руку, как я уже это делал, когда неживые знакомились с содержанием моей головы, и рука встретит пустоту. Но я также видел перед собой брата. Брат смотрел на меня. Он обращался ко мне, Он по-детски обезоруживающе эгоистичен. Он всегда говорит только о себе и своих делах. Он всегда забывает позвонить, а позвонив, забывает спросить, как ты там, и забывает передать привет со своего Марса маме. Но теперь он не говорил о переделке атмосферы Марса. Я видел, что он беспокоится за меня. Я не мог не ответить:
— Ты спрашиваешь, как я сюда попал. Строго говоря, это я должен бы спрашивать. Я здесь на Элинии уже давно. Ты же знаешь, зачем я сюда отправился. Когда я улетал, ты был на Марсе, и мне дали всего минуту видеоразговора с тобой. А ты… к сожалению, ты лишь призрак, ты лишь проекция моих воспоминаний о тебе. Все это безумно сложно…
— Ну вот и дожил, — усмехнулся брат, — младший брат называет призраком, проекцией. Слышишь, мам? — Он обернулся.
Сзади подходила мама. Она была в своей любимой белой с черным кофте, которую связала сама и которой очень гордилась.
— Что я должна слышать, мальчики? — спросила мама. — Из-за чего споры на этот раз?
— Он назвал меня призраком.
— Ну и что особенного? И я Юрин призрак, ничего обидного в этом нет. Наоборот, мальчика бог знает куда занесло, а он нас не забыл. Юрча, тебе не кажется, что давно уже пора познакомить нас с твоей девушкой. Ты говорил, что ее зовут…
— Ивонна, — подсказал я. — Ивонна Черутти.
— Да-да, конечно. Память у меня стала просто ужасная.
— Не кокетничай и не прибедняйся, — сказал брат. — У тебя звериная память, и ты держишь в голове сразу тысячу дел.
— Может, и кокетничаю, — легко согласилась мама. — Ты не можешь показать ее нам? Она что, итальянка? Она хоть заботливая?
— Да, ее родители итальянского происхождения. Ее дедушка и бабушка жили во Флоренции.
— Как романтично, — сказал брат.
— Так где же она? — спросила мама. — По-моему, это неприлично. Она должна быть где-то здесь, а ты стесняешься ее позвать.
Наверное, нужно было потрясти как следует головой, закрыть и открыть глаза, и порождения моей фантазии тут же растаяли бы. Но я не мог прогнать их. Пусть бесплотные призраки, пусть просто проекция моих воспоминаний, но все равно они были бесконечно близки мне.
— Ма, — сказал я, — я помню, что ты ненавидишь слово «не могу». Но не могу же я сорвать Ивонну с гастролей и тащить сюда, на другой конец Вселенной, в это подземелье, откуда и выйти-то будет мудрено, по крайней мере мне.
— И все-таки, Юрча…
— Здравствуйте, — сказала Ивонна, легко спрыгнув на пол. Она была в своем блескучем цирковом костюме с обнаженными руками, ногами и спиной, и сердце мое екнуло от горячей волны любви. — Я Ивонна. Юрочка просил меня прийти…
— Очень приятно, Ивонна, — мама оценивающе осмотрела ее, без стеснения опуская взгляд с ее коротенькой озорной стрижки вниз к сильным и стройным загорелым ногам. — Вы очень красивы…
— Спасибо, мам, — пробормотал я, чувствуя, как глаза мои увлажняются настоящими, не призрачными слезами.
— Вы очень добры, — Ивонна улыбнулась покойно и ясно и сделала цирковой поклон. Но мама и брат уже не смотрели на нее. Они изумленно уставились, на Чапу и Путти, летевших почему-то на высоте метра над полом. Они визжали, лаяли, тянулись ко мне, но некая сила безжалостно увлекала пуделей в глубь коридора, в темноту, откуда бежал, размахивая руками, Игорь Пряхин, инженер гелиообъединения, где я работал, а за ним семенил старик Иващенко, член Космического Совета.
— Простите, это ваш сын? — отдуваясь, спросил Иващенко еще одного человека, выступившего из тени. И я увидел отца.
— У меня два сына, но вызвал меня младший, — сказал отец.
— Юра не забыл меня, — добавил он светло и печально.
Я смотрел на маму, мне почему-то очень хотелось знать, как она отнесется к отцу, но мама молчала. Она покачнулась, поблекла, стала прозрачной и исчезла. А за ней беззвучно растворились остальные. Они, очевидно, освобождали места: на сцену выкатывались неживые, и мерцание стен отражалось в их полусплющенных шарах, бежали Варда и Курха, недоуменно вытянув свои длинные шеи, плыли над полом эллы во главе с грустным Первенцем.
Самым краешком оцепеневшего сознания я понимал, что этот парад фантомов — не что иное, как вторжение в мой мозг какой-то силы. Но, это понимание все время съеживалось, усыхало под ударами, которыми осыпали его мои органы чувств: глаза ведь видели все эти фигуры, уши слышали их голоса… Предохранительные пробки в голове перегорали одна за другой — я медленно терял сознание.
2
Когда я был маленьким, разбудить меня в школу было непросто. Папа или мама, а то и оба, трясли меня, вытаскивали из-под одеяла, подергивали за уши. С годами я, конечно, научился просыпаться, но все равно выныриваю из сна с трудом. Так я и не разобрался: то ли я сплю на большой глубине и подымаюсь к бодрствованию медленно, опасаясь кессонной болезни, то ли сны мои такие густые и тягучие, что выбираюсь я из них с трудом.
Но на этот раз я выскочил из беспамятства мгновенно. Точнее, не я выскочил; кто-то-выдернул меня из уютной мягкости сна. Выдернул, поставил на ноги и привел в состояние величайшего внимания. Я ждал чего-то, как не ждал ничего никогда: каждая клеточка тела напряглась, все органы чувств работали на полную мощность. Голова была пуста, в ней не было ни одной мысли. Было лишь ожидание. Я был полон ожидания.
И возник голос. Он пришел не извне, он не звучал. Я не мог сказать, низок ли он, высок, каков его тембр. Он словно рождался в моем мозгу, бесплотный, но отчетливый. Беззвучный, но полный оттенков:
— Здравствуй, Юрий Шухмин, — сказал голос, и мой мозг отметил в голосе некую шутливость. Все, что угодно, мог ожидать я: от торжественного трубного гласа до сладкоголосого пения сфер. Но шутливость… Я молчал, пораженный.
— Не бойся, ты не сошел с ума. И мы просим прощения, что вторглись без разрешения в твой мозг. Но мы никогда ни у кого не просили ни на что разрешения, и чтобы вступить с тобой в контакт, мы все равно должны были проанализировать студенистую массу, что находится в твоей голове. Надо сказать, дорогой Юрий, что плотность упаковки информации в этом губчатом веществе довольно велика для столь примитивного существа…
Автоматически я отметил, что выражение «примитивное существо» не очень-то лестно для меня лично и всего рода человеческого, но на обиду не было ни времени, ни сил, ни желания.
— Молодец, — продолжал голос, — ты не обиделся, хотя мы постепенно предоставляем твоему разуму возможность функционировать в авторежиме, без нашей регулировки… — Голос сделал небольшую паузу. — Хотя, с другой стороны, трудно, конечно, обидеться, когда нет обидчика. Что делать, Юрий, не можем мы пока предстать перед тобой в некоем материальном виде, нет для этого материи. Разумеется, мы можем спроецировать себя в твое воображение, придумав для этого случая какую-нибудь форму. Но то был бы лишь призрак, вроде тех, что ты видел, пока мы знакомились с твоим мозгом. А нам не хотелось бы начинать знакомство с таких несерьезных и зыбких образований, как призраки. Да и обманывать тебя не хочется. Не хочется также ничего приказывать тебе, нам нужна только твоя добровольная помощь. Чтобы ты поверил, предлагаем маленький эксперимент. Ты знаешь, что находишься сейчас на Элинии, беседуешь в подземелье с неким бесплотным духом. Так? Смелее, Юрочка.
То ли неожиданное «Юрочка» встряхнуло меня, то ли я уже и сам выбирался из транса, но только я вновь обрел голос и хрипло каркнул:
— Да, так.
— Отлично, молодец, — воскликнул голос, и я опять разобрал в нем необидную насмешливость. — Смотри, а где ты теперь?
Я сидел на скамеечке во дворе своего гелиодомика в подмосковной Икше. Солнце уже клонилось к горизонту, но теплота его еще чувствовалась на лице. Домик чуть скрипнул, повернулся на несколько градусов за садящимся солнцем, и я подумал, что надо добавить смазки в поворотный круг. Со шлюза донесся рык теплохода. Он был низок и нетерпелив. Лавируя между соснами, медленно летел велолет. У мальчишки, весело крутившего педали, были ярко-рыжие волосы.
— Ко-о-оля, — звал его женский голос, должно быть, мама, — спускайся, ужинать пора.
— Похоже? — услышал я голос. — Смотри теперь, как мы будем возвращать тебя в реальность.
Коля на велолете дернулся, на долю мгновения я испугался, что он упадет, искривился и растаял. Вслед за ним таяли сосны и небо, родное, теплое земное мое небо, и сквозь него уже проступали мерцающие стены подземелья. Скукожился и исчез домик, а Юрий Шухмин, сидевший только что на скамеечке, поплыл, сохраняя сидячую позу, которая без скамейки казалась удивительно нелепой, поплыл и влился в меня.
— Эффектно? — спросил голос.
— Да, — вздохнул я.
— Это к вопросу о фантомах. Очень долго сохранять мы их не можем — слишком велик расход энергии. Представляешь, какое количество информации нужно было обработать, чтобы воссоздать этот милый пейзаж, отдельные элементы которого мы нашли в твоей памяти. Разумеется, упрощенная картинка создается легче, и, соответственно, мы можем сохранять ее дольше. Вот, например, знакомый тебе Юрий Шухмин, которого мы только что видели на скамеечке.
Навстречу мне шли два моих двойника. Один был в моем цирковом костюме с блестками, другой — в любимом свитере грубой ручной вязки, серого цвета, — мамин подарок.
— Как ты? — спросил с улыбкой цирковой двойник.
— Как тебе копия, нравится? — спросил двойник в свитере.
Тысячи раз, да какой — тысячи, десятки тысяч раз видел я, наверное, себя в зеркале, но только сейчас заметил, как, в сущности, я зауряден. Кольнуло короткое нелепое сожаление.
— Честно говоря, — вздохнул я, — я ожидал увидеть нечто более симпатичное.
— Что делать, брат, — пожал плечами циркач, вздрогнул и растаял. А за ним и Шухмин в свитере.
— Теперь продемонстрируем тебе возможности прямого воздействия на твою волю. Сейчас ты стоишь. Постарайся во что бы то ни стало стоять на месте. Не бойся, это лишь эксперимент. Готов?
— Да.
— Обязательно стой, сопротивляйся желанию сесть, понимаешь?
— Да.
Я стоял и хотел стоять. Но одновременно мне очень захотелось сесть. Желание сесть было всеобъемлющим, ему нельзя было сопротивляться. Оно было таким сильным, что рядом с ним намерение остаться стоять казалось беспомощным и жалким. Я не мог сопротивляться желанию сесть. Ум мой функционировал. Я понимал, что ничего столь желанного в твердом полу быть не может, что это опять вторжение в мой мозг. Но осознание этого не ослабляло страстного, острого желания сесть. И я подчинился ему, опустившись на пол.
— Видишь?
— Вижу.
— Повторяем: мы могли бы легко заставить тебя сделать то, что нам нужно. Но мы предпочитаем добровольное сотрудничество — оно гораздо эффективнее. У тебя в голове мы столкнулись с довольно большим количеством нравственных принципов. Нас они не интересуют. Пока ты сотрудничаешь с нами, можешь придерживаться любых принципов. Ты, разумеется, спросишь, как мы собираемся добиться твоего сотрудничества, если не будем принуждать тебя к нему. Так?
— Да.
— Очень просто, Юрий. Ты полюбишь нас. Мы предпочитали не запугивать, а влюблять в себя. Гораздо проще.
— Гм…
— Ты полон сомнений, мы понимаем. Любить неведомо кого, неведомо за что, неведомо для чего. Но ты сейчас познакомишься с нами, и ты почувствуешь, что что-то в нас есть необыкновенно притягательное, что-то симпатичное, что-то отвечающее каким-то твоим движениям души. Причем все, что ты узнаешь, будет вначале казаться тебе чуждым, может быть, даже неприятным. Но ты быстро разобьешь корочку поверхностной неприязни, и сердце твое потянется к нам. Хотя все, что мы сейчас говорим, должно пока что представляться тебе нелепым. Так, Юрий?
— Да.
— Молодец, не пытайся кривить душой, разговаривая с нами. Это, ведь смешно. И знаешь почему?
— Догадываюсь, — пробормотал я.
— Правильно. Во-первых, тебе ничего не спрятать в мозгу, когда в нем нет ни одного тайничка для нас. Он весь высвечивается, просвечивается, просматривается. Мы ведь уже побывали в нем, прощупали каждую извилину. Это раз. А во-вторых, забавно было бы кривить душой, когда душа тоже в нашей власти и в любое мгновение может быть распрямлена или, наоборот, завязана в узел. Надеемся, ты ценишь нашу откровенность?
— Гм, больше мне ничего не остается.
— Браво, пришелец! Ты сохранил способность шутить в экстремальных условиях, и это замечательно.
Я стоял в подземелье, смотрел на мерцающие стены, за которыми прыгали, мелькали, струились какие-то пятна света, слушал странные речи бесплотного, но могущественного голоса и испытывал некую приятность от комплимента. Чушь, сказал я себе, но слово не спугнуло легкую теплоту в груди.
— Вообще же, Юрий Шухмин, мы стараемся с самого начала знакомства быть предельно откровенными, даже если эта откровенность неприятна. Тогда в дальнейшем всегда легче. Но перейдем к делам. Поскольку ты существо более или менее разумное, тебя должны раздражать бесчисленные хвостики «что», «почему» и «как», которые то и дело появляются в нашем разговоре. Итак, что за голос ты слышишь сейчас. Вопрос номер один. Согласен?
— Конечно.
— Тогда немножко терпения. Мы древнее племя. Название наше звучит приблизительно так: эбры. Приблизительно, потому что мы пользуемся в общении между собой и такими элементами, которые вам чужды: мы меняем скорость обмена информацией, способы передачи ее.
— Не понимаю.
— И не нужно. Мы можем беседовать, обмениваясь звуковыми сигналами, соприкасаясь полями, вырабатываемыми нами, кодируя интонацию, превращая ее в абстрактные формулы и так далее. Но не в этом дело. Мы древнее племя. Многое знаем, многое видели. Мы давно освоили искусство межзвездных странствий. Мы побывали во многих мирах. Мы встречали цивилизации нарождающиеся, во цвете сил, умирающие, ибо все во Вселенной, включая и ее саму, изменчиво. Меняемся и мы сами. Но одну черту в своем характере мы сохранили с незапамятных времен: мы всегда не любили неподвижность. Мы всегда куда-то стремимся, чего-то добиваемся, с кем-то воюем. Мы, эбры, похожи на частички, которые не имеют массы покоя. Нам всегда казалось, что стоит нам остановиться, как мы тут же исчезнем. Мы всегда испытывали необъяснимое и непреодолимое отвращение к неподвижности. Мы испытывали суеверный ужас при мысли о покое. Самое понятие покоя противоестественно для нас. Когда-то в глубокой древности наши предки сложили миф о нашем происхождении. Мы — дети Великого Толчка, который обратил в бегство все вокруг, в одно непрерывное бегство. Наши предки — частицы, не имеющие покоя. Как и они, мы знаем, что, остановившись, мы погибнем. Мы исчезнем. Мы превратимся в нечто иное. Во что именно, знать нам не дано.
Мы всегда были необузданны во всем, мы всегда бросались очертя голову в любые авантюры, лишь бы не оставаться на месте. Мы покорили себе всю Элинию, потом основали колонии еще в трех мирах. Потом были изгнаны из этих миров, потому что везде и всегда мы стремились все переделать на свой вкус, а вкус наш был столь же переменчив, как и мы сами.
Нам постоянно нужна была энергия. И в конце концов мы подчинили себе силу притяжения. Это опасная сила, и не раз катастрофы сотрясали нашу планету.
И тогда впервые среди нас появились эбры, которые предупреждали, что мы можем уничтожить свою цивилизацию. Они ходили по нашим городам и проповедовали смирение. Они призывали эбров отказаться от вечной погони за вечно ускользающими целями. Они призывали отказаться от рыскания по межзвездным дорогам. Они умоляли оставить силу тяжести в покое, пока она не уничтожила нас. Они призывали оглянуться и увидеть тщету наших метаний. Мы, эбры, всегда умели изменять форму наших тел. Наши пророки ходили всегда с тремя глазами. Обычно мы вполне обходились двумя глазами. Их третий глаз был как бы символом — смотрите, эбры, и постарайтесь увидеть то, что вы не хотите замечать.
Мы смеялись над ними. И даже дети наши показывали на них пальцами: вон идут трехглазые слепцы. Мы называли их слепцами, потому что даже тремя глазами они не хотели видеть главного — мы не могли остановиться. Мы бы перестали быть эбрами.
— Остановитесь! — взывали они на улицах наших городов, и все три глаза их грозно сверкали. — Остановитесь, пока не поздно. Вы бежите за своей тенью. Ее нельзя поймать.
Мы улыбались, глядя на них. Они были как будто эбрами, но они казались нам более чужими и далекими существами, чем жители далеких миров. Они не хотели больше понимать главного: важно не поймать свою тень, важно лишь ловить ее.
Гравитация — коварная сила. Ею трудно управлять, и как мы уже говорили, порой она выходила из-под повиновения. Однажды толчок был так силен, что многие наши города превратились в развалины.
— Опомнитесь! — заклинали нас трехглазые. — Разве мало вам этого знамения? Остановитесь, пока еще не все обратилось в прах.
Но мы не слушали их. Мы всегда были бесшабашны, веселы и бездумно храбры. Мы не собирались останавливаться, открывать себе средний глаз и замирать в тупом изумлении перед безграничной Вселенной.
— Вы пугаете нас толчками и катастрофами, — говорили мы, — но мы их не боимся. Мы дети Великого Толчка, который дал нам энергию, и послал в бесконечный полет.
Но самые мудрые из нас сказали: в одном трехглазые правы. Нам кажется, что мы покорили силу тяжести, но она коварна. Она может в следующий раз уничтожить все созданное нами. Нам надо или отказаться от этой силы, или предусмотреть возможность нового, еще более сильного толчка, от которого мало что уцелеет. Мы бы не были эбрами, если выбрали первый путь. Это был путь здравомыслия, но мы всегда смеялись над ним. Вместо этого мы перенесли сознание нескольких десятков из нас в особые машины, поместив их глубоко под землей. Я один из них. Меня зовут Арроба.
Предосторожность, как ты знаешь, была не лишней. В один страшный день что-то случилось с нашими машинами, изменявшими силу тяжести. Авария оказалась лавинообразной, все регулирующие и предохранительные системы разом вышли из строя. На какое-то время сила тяжести на Элинии перестала существовать, а потом мгновенно усилилась стократно. В Страшном Толчке рушилось все. Разрушающийся мир, грохот, скрежет, пыль, закрывшая оранжевые облака. Последнее воспоминание перед моей гибелью — огромная тяжесть, навалившаяся на меня, хруст костей, яркая последняя вспышка гаснущего сознания. Ты пришел сверху, Юрий, мы видели в твоем мозгу картины Элинии. Все так, пришелец, все так.
— И… все это время ваше сознание… вы жили в машинах? — пробормотал я. — Это же… невыносимо.
— Нет. Мы не жили. Машины продолжали работать, но сознание должно было включиться только тогда, когда сюда кто-нибудь попадет. Этим кто-нибудь оказался посланец далекого мира Юрий Шухмин. И это прекрасно. Ибо окажись на твоем месте трехглазый, мы не смогли бы найти общего языка. Смешно, но факт. Нам легче договориться с пришельцем, чем со своими же эбрами, но избравшими другой путь. Спрашивай, Юрий, мы готовы ответить тебе.
— Вам… знакомы чувства, эмоции?
— Конечно. Эмоции — катализатор разума, мы убедились в этом во время странствований во Вселенной. Спокойные цивилизации быстро гибнут. Мы видели расы, выродившиеся в полуживотных, хотя когда-то Они гордились своей философской невозмутимостью. Мы встречали цивилизации, которые так увлекались самосозерцанием, что не заметили, как они погибли. Мы сталкивались с мирами, спокойными до такой степени, что они в конце концов переступали грань между живым и неживым.
— Но сейчас… я не понимаю… как вы можете так легко общаться со мной… что-то рассказывать, даже шутить… Когда сзади гибель вашего мира, всего, что вы создали. Гибель ваших братьев, вашего народа, всех эбров. Гибель, о возможности которой вы думали… Вас же должно душить отчаяние, безмерное горе… Не понимаю…
— Ты не знаешь эбров, пришелец. Мы никогда не оглядываемся. Не смотрим назад. Нас всегда зовет мир впереди. Пройденная дорога просто перестает существовать. Прошлого не существует. В наших странствиях мы встречали цивилизации, которые похожи на кометы. Ты знаешь, что такое кометы?
— Да, наверное, — пробормотал я.
— У кометы крошечная твердая головка и гигантский пыльный хвост. Так и эти цивилизации: их жалкое настоящее блекло по сравнению с чудовищным хвостом пришлого. Если они и пытались плестись куда-то, то спиной вперед, ибо сердце их было в хвосте.
У нас нет хвоста. Мы мчимся вперед, не думая, не жалея о том, что осталось позади.
— Значит, у вас все-таки нет эмоций.
— Есть, Юрий. Просто наши эмоции не совпадают с вашими, и поэтому тебе кажется, что мы бесчувственны. Есть у нас чувства, есть.
— Какие же тогда?
— Жгучее нетерпение. Настоящий зуд. Мы сейчас бесплотны. Мой товарищ Бурри и я. Эбры не могут оставаться неподвижны. Мы должны обрести материальную форму, мы должны выйти на поверхность, мы должны обследовать другие места, где мы спрятали сознание остальных эбров. Может быть, кроме нас, выжили и другие. Мы должны расчистить развалины, построить новые города. Мы не можем ждать. В твоем мозгу мы видели наших роботов, ты называешь их неживыми. Они будут служить нам. Они помогут нам построить еще тысячи и тысячи новых роботов, и эбры снова будут мчаться сквозь толщу времен, потому что их срок еще не вышел.
— Но вам же нужны материальные тела.
— Да, конечно.
— И как же вы их приобретете? Разве тела ваши могут быть созданы?
— Мы не животные, Юрий. Только низшие существа нуждаются в естественных телах, только низшие существа размножаются биологическим способом. Мы, эбры, давно миновали эту стадию. Мы сами создаем себе тела — легкие, удобные, изменяемые. Нам нужно выйти на поверхность, пусть вначале хотя бы в телах наших роботов, а потом уже мы создадим все нужное для себя.
— Значит, вам нужны хотя бы два ваших робота?
— Совершенно верно. И ты поможешь нам.
— Они вам нужны здесь или вы можете отправиться к ним?
— Ты точно ухватил суть проблемы. Наше сознание циркулирует в логических схемах, спрятанных в машинах за этими стенами. Радиус его воздействия очень ограничен, поэтому-то ты и оказался здесь.
— И труба, по которой я полз…
— Как только ты ухватился за нее, ты привел в действие машины, которые уже затем рассчитали, как надежнее доставить тебя сюда.
— Неужели я первый, кто…
— Да, Юрий. Трехглазые не просто лишены любознательности. Судя по тому, что мы видели в твоем мозгу, они даже отказались от индивидуального самосознания в попытке замереть, остановиться. А может быть, только сковав друг друга общим сознанием, они затоптали в себе естественную для всего живого жажду познания. Удивительно, как они еще не дошли до идеи коллективного самоубийства. Это было бы идеальным средством для надежной неподвижности, полной неподвижности. Безумцы…
— Это говоришь ты, один из тех, кто уничтожил целую цивилизацию?
— Хороший вопрос, Юрий. Да. С нашей точки зрения, даже гибель целой цивилизации — ничто по сравнению с добровольной остановкой, с отказом от движения, с отказом от новых знаний. Если бы ты видел сотни погибших цивилизаций, как видели мы в наших звездных странствиях, ты бы перестал воспринимать крушение одной цивилизации как конец Вселенной. Погибла одна цивилизация, создадим другую. Может быть, лучшую, может быть, худшую, но другую. Поэтому-то в наших глазах безумцы не мы, а трехглазые. Не случайно их Семья тут же начала разваливаться от первых же проблесков самосознания.
— Хорошо, вы начнете строить новые города, вас станет много, но что будет с трехглазыми?
— Часть из них откажется добровольно от третьего глаза. Они опять станут настоящими эбрами. Остальные исчезнут. Им не будет места в новых городах.
— Почему? Вы же не уничтожали трехглазых, которые призывали вас остановиться?
— Нет. Мы и сейчас не будем их уничтожать. Они выродились и без нас. Разве их Семья, это образование, отказавшееся от познания, движения, чувств и самосознания, не обрекла сама себя? Останься Семья в своем противоестественном оцепенении, и они бы вскоре стали бы на четвереньки.
— Не знаю… Мне кажется, ваши проповедники, которые призывали вас остановиться и осмотреться, были вам нужнее, чей вам кажется.
— Они никому не были нужны, даже себе.
— Вы сами говорили, что меняется все и меняются все. Может быть, следовало прислушаться к трехглазым…
— Они проповедовали неподвижность, а это гибель.
— Вы и так пришли к гибели.
— Нет. Пока жив хоть один эбр, даже сознание одного эбра, наша цивилизация не погибла.
— Элиния печальна. Она покрыта руинами, сквозь которые пробивается чахлая растительность. Развалины всегда грустны.
— Нет, Юрий. Развалины не могут быть грустными. Они сзади. Они не существуют. Грустен тающий хвост кометы. Печаль только в прошлом, будущее не может быть печально, ибо оно еще не существует. Мы сами создадим его, тут же превращая в настоящее.
— И все-таки трехглазые…
— Не думай о них, Юрий. Они в прошлом. Как и развалины. Их нет.
— Но они же живые существа…
— Нет. Их нет. Они в прошлом, которого нет. Они призраки, вроде тех, которые мы показывали тебе.
— Вы жестоки…
— Мы не жестоки. Мы не думаем о том, чего нет.
— Но они же существуют. Сейчас, в этот момент, они о чем-то думают, что-то чувствуют, что-то делают.
— Нет, это иллюзия. Раз мы не думаем о них, значит, они не существуют.
— Но это с вашей точки зрения. С их точки зрения, можно сказать то же самое о вас.
— Нас не интересуют ничьи точки зрения. Мы эбры, и нам достаточна одна точка зрения — своя. Другие нам не нужны. Мы мчимся вперед сквозь толщу времени, и разные точки зрения привели бы лишь к тому, что мы потеряли бы координаты. Мы бы не могли определить, где будущее и в какую сторону двигаться.
Если у тебя нет больше вопросов, Юрий, иди. Приведи к нам неживых. Мы будем ждать.
— Как я выберусь отсюда?
— Так же, как попал.
— Опуститься легче, чем подняться.
— Все относительно, пришелец. Бывает и наоборот.
— И все-таки как я…
— Тебя опустила труба.
— Да.
— Она тебя и поднимет. Иди, ибо мы полны нетерпения. Тебе не понять нетерпения, которое жжет нас. Иди, Юрий, иди. И приведи наших слуг. И торопись, ибо нас снедает нетерпение.
— А если я…
— Мы могли бы ни о чем не просить тебя. Мы могли бы вторгнуться в твое сознание — ты уже видел, что мы способны на это, — и твое тело стало бы моим телом, орудием моего разума. Но мы не хотим растрачивать силы на борьбу с тобой, когда наши слуги с радостью помогут нам обрести материальную оболочку. Ты обязательно приведешь сюда неживых, потому что и в твоем мозгу взойдут семена любви к нам. Торопись, иди.
Наверное, это была уже не просьба, а приказ. Но если я пытался сопротивляться, когда Арроба заставил меня сесть, то сейчас меня не нужно было подгонять. Я сделал шаг, второй, почувствовал, как взмыл над полом и заскользил на невидимой волне.
Мне не пришлось нащупывать мою трубу — она теперь слегка светилась. Она походила на петлю качелей. Хотелось стать на нее. Но если она начнет выпрямляться, мне не за что будет держаться. Попробуем опять позу лемура.
Я уцепился за петлю руками и ногами. Высоко над головой в неровной рамке сияли оранжевые облака. Они казались гораздо более реальными, чем то, что я только что слышал и испытал в подземелье.
Плавно и бесшумно труба начала распрямляться, поднимая меня к поверхности. Я потерял всякое ощущение времени внизу. Может быть, я пробыл там и день, и два, и три.
Труба стала ровной, и двуногий лемур Юрий Шухмин пополз по плите, с которой началась моя подземная одиссея. Не слишком это было торжественное возвращение после контакта с разрушителями Элинии — я полз ногами вперед, лицом кверху, зажмурив глаза от ярких облаков. Но все равно — возвращение. И я был благодарен Арробе.
3
Около моего домика меня окликнул Верткий:
— Где ты был весь день, Юуран? Мы начали беспокоиться.
— Так, бродил по развалинам. У вас все в порядке?
— Да. Все спокойно. Корров никто больше не замечал.
— Хорошо, Верткий. Я устал, хочется отдохнуть.
— Прости, Юуран, я хотел спросить тебя, что ты сделал с убийцей?
— С убийцей?
— С этим корром, которого мы схватили ночью.
— А… Я не сразу сообразил, кого ты имеешь в виду. Это Варда.
— Где он?
— Я отпустил его, брат Верткий.
— Отпустил? Убийцу? Почему? Его нужно было убить.
— Он, конечно, виноват. Но его обманули. Он был лишь орудием неживых.
— Он убийца.
— Да, — вздохнул я, — я не спорю. Но его и других корров действительно обманули неживые.
— В чем?
— Это долгая история, брат Верткий. Я очень устал, но когда я отдохну, я обязательно расскажу тебе все, что знаю.
Верткий пристально посмотрел на меня. Мне показалось, что он не верит мне.
— Хорошо, Юуран. Я приду.
Я поел и растянулся на своем ложе. Нужно было хоть как-то разобраться в хаосе, что царил у меня в голове. Все перемешалось в ней: эллы, корры, неживые, а теперь еще и неугомонные эбры. И земные образы, растревоженные непрошеной инспекцией моей памяти, то и дело всплывали на поверхность сознания. Мне казалось, что стоит закрыть глаза, как сон тут же явится на помощь. Но сна не было. Он наверняка отшатнулся в испуге от гудения в моей голове и горы неразобранных фактов.
Что делать? Надо было начинать прибираться.
Итак, я познакомился еще с одними обитателями Элинии. Пока они, правда, существуют как бы в проекте, и их будущее в моих руках. Потому что только я знаю, где пульсирует сознание Арробы и его товарища, только я знаю, что им нужны неживые. И только я могу попытаться воссоединить роботов с их пока еще бесплотными хозяевами.
Другими словами, будущее эллов, неживых, эбров, да и корров в моих руках. Ах, не хотелось мне взваливать на себя такую ношу. Никогда не стремился я ничего ни за кого решать, и порой я даже видел, тайное осуждение в глазах моих пуделей: ну разве это настоящий хозяин? Вытянул бы нас разок ремнем, мы бы его еще больше уважать стали.
И уж подавно не думал, что обезумевшие обстоятельства взвалят мне на плечи судьбы целой планеты. Да, уважаемый Юрий Александрович, пусть небольшой, но настоящей планеты. И ведь не сбросить с себя груз. Это ведь не штанга, из-под которой всегда можно выскользнуть и которая с тяжким стуком упадет на помост.
И даже бездействие мое тоже было бы действием. И еще каким! Эбры не встретились бы с неживыми, не получили тел, не стали бы опять повелителями Элинии, не погнали бы опять аллюром ее историю к очередной катастрофе.
Имею ли я на это моральное право? Не знаю.
Имею ли я моральное право оставить два существа, два сознания, замурованными в некие машины? Другими словами, имею ли я моральное право, найдя джинна, оставить его в бутылке? Не знаю. И джинна жалко — попробуй посиди в такой скрюченной позе век-другой, и тех, кому от него достанется, тоже жалко.
Да, эбры привели Элинию к катастрофе, но имею ли я моральное право судить их? И выносить приговор, оставляя их сознание на пожизненное заключение в логических цепях машины. Не знаю.
Я ухмыльнулся невесело. Похоже было, что опять я начал словесную эквилибристику. В цирке я всегда с завистью смотрел на жонглеров. Их искусство подбрасывать в воздух и ловить множество предметов казалось мне непостижимым. Я пробовал делать это двумя мячиками, но они тут же падали на пол, и я с отвращением пинал их ногами. Это их упрямство, нежелание помочь мне заставляло меня чувствовать себя неуклюжим растяпой. Зато в словесном жонгляже я уникален. Я подбрасываю одновременно с дюжину разных мыслей и не даю им упасть. Пока они мелькают над головой, мне хорошо — ничего не надо решать.
Но наплывала уже откуда-то уверенность, что решение уравнения может оказаться проще, чем казалось. А шла эта уверенность от того, что эбры мне нравились.
Стой, дурак, крикнул я себе мысленно. Тебя же честно предупредили там, в подвале, что заставят тебя полюбить бесплотных духов, говоривших с тобой. За что ты должен любить этих безумных повелителей Элинии? За сверхъестественную самоуверенность? За абсолютное равнодушие к чужим судьбам?
Но ведь и себя, себя они тоже не жалеют, эти отчаянные ребята. Ведь есть, есть что-то подкупающее в их бесшабашной удали.
Нет, удаль за свой счет — пожалуйста. За счет других — это уже не удаль, а преступление.
И все-таки, и все-таки чем-то ведь они симпатичны, эти лихие упрямцы, стремящиеся только вперед и не хотящие даже вспоминать катастрофу, практически уничтожившую их мир.
Итак, новая задача, Юрочка: попробуй определить, свободна ли твоя симпатия к ним, или она насильно всунута тебе в голову. Действительно ли они нравятся тебе, или ты похож на фаршированного гуся, который думает, что начинка в нем — плод его любви к начинке.
В этот момент в двери показался Варда. Вид у него был измученный, глаза ввалились, шерсть всклокочена, но никогда я не испытывал такого облегчения, как в то мгновение, когда он просунул длинную шею в щель двери. И за него, и за себя.
Я вскочил с ложа и бросился к корру:
— Варда! Как хорошо, что ты пришел.
— Я бежал все время, не останавливаясь.
— Отдохни сначала, потом расскажешь. Отдышись.
— Нет, я не могу отдыхать. Я должен быстрее тебе рассказать. Ты был прав, Юуран…
— Подожди, как тебе удалось проскользнуть ко мне? Тебя кто-нибудь видел? Ведь только начинает смеркаться.
— Нет. Я подкрался к крайним стенам, улучил момент, когда никого не было видно, и прокрался к тебе. Можно я начну рассказывать?
— Конечно, брат Варда.
— Тогда слушай. Я прибежал к Шестому. Так ты называешь неживого, который нашел источник. Я верил тебе, Юуран, но все-таки я хотел сам убедиться. Где-то все-таки оставалось во мне крохотное сомненьице: а вдруг пришелец ошибается? А вдруг все это его фантазия? Вдруг неживые действительно учат нас добру? Я прибежал к Шестому и сказал:
— Учитель, — корры всегда так обращаются к неживым, — учитель, я торопился к тебе, чтобы рассказать тебе. Я убил двух эллов, и все среди Зеркальных стен посходили с ума. Все обвиняют в убийствах друг друга, Семья распадается, здесь и там начинаются драки. Раньше среди Зеркальных стен было всегда тихо, как бывает тихо по утрам, когда убегает ночной ветер. А теперь там постоянные крики.
— Хорошо, — медленно кивнул Шестой. Было уже поздно, и неживые двигались с трудом. — Хорошо, что ты несешь эллам добро, освобождая их от рабства Семьи.
— Это не все, учитель, — торопливо продолжал я. — Я случайно подслушал разговор. Два элла говорили о Больших развалинах…
— Ну и что ты слышал? — быстро спросил Шестой.
— Они говорили, что с тех пор, как получили имя, им стало интересно бывать там.
— Почему? Они не говорили, почему? — Мне показалось, что будь Шестой только что обновлен после источника, он бы схватил меня от нетерпения щупальцами и тряс бы, чтобы побыстрее вытрясти из меня все, что я знаю.
— Говорили. Они говорили, что развалины стали совсем легкими. Один из них рассказал, что видел дыру, в которую вообще нельзя опуститься.
— Он так и сказал? — прошептал Шестой.
— Да, так и сказал. — Я увидел, что отделять слова от смысла легко, и тени пустых слов сами выскальзывали из меня.
— Да, так он и сказал. Он еще добавил, что несколько раз пробовал опуститься вниз, но что-то не пускало его. В нем сразу же не оставалось тяжести, как будто он был готов взлететь. Он еще рассказал, что один раз сделал неосторожный шаг, и взмыл в воздух, и опустился в яму, но она удержала его и не пустила вниз, и после этого он чувствовал себя как-то странно, легко…
— И ты знаешь, где эти развалины? — в волнении спросил Шестой.
— Конечно, учитель. Я много раз видел их.
— Ты должен сам проверить, правду ли говорил элл.
— Обязательно, учитель. Я уверен, это правда. Эллы не лгут, они не умеют расщеплять слова, но я все равно проверю сам. А потом и вы сможете посмотреть сами.
— Это далеко, Варда, нам не докатиться туда.
— Ничего, учитель. Мы донесем вас.
— Спасибо. Ты не представляешь, как сладостны твои слова.
Я повернулся, чтобы идти, но Шестой сказал:
— Варда…
— Да, учитель?
— Я хотел попросить тебя…
— Да, учитель?
Неживой, казалось, колебался. Наконец он пробормотал:
— Не нужно тебе больше заходить за Зеркальные стены…
— Почему?
— Эллы могут наброситься на тебя…
— Конечно. Они и сегодня едва не схватили меня.
— Правда?
— Да, я еле вырвался от них.
Неживой издал тихий стон:
— Глупые твари, жестокие твари… Они бы растерзали тебя.
— Да, они полны гнева и ненависти.
— И ты бы остался возле Стен и не пришел сюда с благой вестью… Прошу тебя, Варда, пусть другие несут эллам добро, а ты береги себя. Мы обязательно должны исследовать с тобой этот источник.
Я вышел от Шестого полный печали и ненависти. Теперь сомнений не оставалось. Неживые обманывали нас. Ты был прав.
Я пришел в наш дом. Это даже не дом, а загон, стены которого защищают нас от ночного ветра. Там был Курха и еще несколько корров. Я сказал:
— Корры, мы глупы. Нас обманывают. Нас используют в корыстных планах. А мы бегаем, пыжась от гордости.
Наверное, мне не следовало так сразу бросаться в бой. Наверное, нужно было быть хитрее, но я был переполнен негодования.
— Что с тобой, Варда? — спросил Курха, и в голосе его звучала тревога.
— Ты сошел с ума! — прошипел корр по, имени Раху.
— Ляг, отдохни, — попросил Курха. — Ты скорее всего бежал от эллов не останавливаясь. Бывает, от усталости слова путаются в голове, и выбираешь не те, что нужно.
— Нет, корры, — продолжал я, чувствуя, как меня распирает злоба на себя, на остальных доверчивых корров и больше всего на хитрых неживых. — Нет, корры, к несчастью, я не сошел с ума, я не путаюсь в словах, как новорожденный детеныш путается в траве. Мы обмануты. Мы думали, что нас учат долгу и добру, а на самом деле нами пользовались для своекорыстных целей.
— Варда, что ты говоришь? — прошептал Курха.
— Да, корры, он сошел с ума, — вздохнул Раху. — Бедный Варда, он всегда так старался понять учение неживых, так старался делать добро…
— Да не добро я нес, а зло! — крикнул я.
— Успокойся, брат, — ласково сказал Курха. — Ляг, положи голову на грудь мне, я прикоснусь к тебе, чтобы разделить твою боль. Разделенная боль всегда меньше.
— Не меня жалейте, глупые твари, себя надо жалеть! Таких глупых, таких доверчивых, таких невежественных!
— Тш-ш, — взмолился Курха. — Тебя могут услышать. Мы-то знаем, что это усталость спутала твои слова, что в душе ты предан долгу и с радостью несешь добро трехглазым, но неживые могут обидеться…
Я почувствовал, что ярость моя меняет направление, как меняет под утро направление ветер перед тем, как затихнуть. Она обратилась против моих тупых и самодовольных товарищей, которые отмахивались от моих слов, как от назойливых мошек. Они не только не знали правду, они ее и видеть-то в глаза не хотели.
— Братья, — я заставил себя произнести это слово, а не назвать их скотами. — Братья, наберитесь терпения, выслушайте меня. Я сам знаю, как больно расставаться с привычными представлениями. Как будто кто-то вырывает у нас из-под носа пищу, а мы, корры, не любим этого. Даже детенышам своим мы не позволяем утаскивать у нас из-под носа вкусный корень. Я ведь тоже корр, братья, я такой же, как вы. У меня четыре таких же ноги, две руки, такие же два глаза, такая же шерсть. И я готов был броситься на пришельца и разорвать его, когда он открыл мне глаза на правду. Правда эта была отвратительна, уродлива, и от нее внутри образовался сосущий холод. А то, чему нас научили неживые, прекрасно. Слова учителей греют нутро и помогают нам гордиться собой.
— Ты говоришь красиво, — усмехнулся Раху, — но ты так и не объяснил, на что же тебе открыл глаза пришелец. Если, конечно, он действительно открыл их…
— Ты хочешь сказать, что я могу солгать? — спросил я. — Своим братьям? Расщепить слова и смысл?
— Я ничего не хочу сказать, — Раху зевнул и почесал ухо с видом величайшего равнодушия. — Это ты все время пытаешься…
— Обожди, брат Раху, — взмолился Курха, — не ссорьтесь. Ты же видишь, Варда устал, он взволнован, что-то тревожит его. Пусть слова его смущают, пусть они пугают, но мы же братья. Мы корры. Мы одно племя. Мы вышли из леса и научились смыслу жизни не для того, чтобы отворачиваться друг от друга. Так, брат Раху?
— Так, брат Курха, так. Я и не хочу ссориться. Я не животное, чтобы бросаться в ярости на брата. Ты прав, мы не должны забывать слова учителей о долге и добре.
— Ну вот и хорошо, — вздохнул Курха. — Видишь, брат Варда, он не сердится на тебя. Ляг, положи голову на меня. Твое тело отдохнет, и разбежавшиеся слова соберутся вместе.
Передо мной была стена. Они инстинктивно защищались от правды. Защищались любым способом, даже добротой и участием. На мгновение мелькнула мысль: может, они правы? Может, все будет идти как раньше? Мысль манила. Прими меня, просила она, и не надо будет снова и снова бросаться на защитный частокол братьев корров, не надо будет полниться яростью и презрением. Не надо, пусть все будет по-старому.
Я вспомнил, как прекрасна и покойна была жизнь, когда не было во мне никаких сомнений. Я и представить себе не мог, что слова могут идти в одну сторону, а тень их — в другую. Все было ясно. Все имело свое место. Учителя — добрые, мудрые и учат нас добру и долгу. Мы, корры, благодарны им за то, что они ведут нас по тропе мудрости. Трехглазые ждут нашей помощи.
Тот ясный мир был прекрасен своей четкостью и простотой, а новый нес смятение и боль. Вернись, прошептало прошлое, вернись, пока не поздно…
Но я не мог принять соблазнительницу. Она была лжива, — а я уже был отравлен правдой.
— Братья, — сказал я, — единственное, о чем я прошу вас, выслушайте меня. Я принес вам правду, которую мне открыл Юуран. Выслушайте меня, а потом поступайте, как знаете.
— Юуран пришелец, — сказал Хиал, который молчал до сих пор. — Он добр, но он пришелец. Он не может понимать так, как понимаем мы. Вспомните, корры, как тяжело было нам вначале понять то, чему учили нас неживые. Их слова казались нам смешными. Добро? Что это такое? Его можно съесть? Становится от него в животе хорошо? Нет, Варда, нельзя забывать, что Юуран пришел из другого мира.
— Ты прав. Но я сам проверил. Я был бы рад, если он ошибался. Он не ошибался. Неживые предали нас. Они с самого начала обманывали нас…
— Мне трудно слушать тебя, брат Варда, — сказал Раху, и голос его звучал печально. — Я стараюсь понять тебя, но это невозможно. Как могут обманывать учителя, которые открыли нам глаза на высший смысл жизни, на добро, которые дали нам гордость, которые сделали из нас, полуживотных, мыслящих существ, гордых своим новым самосознанием.
— Нет, никакого добра и никакого смысла нет в словах учителей…
— Варда! — крикнул Курха. — Умоляю тебя, опомнись!
— Наоборот, в их словах корыстное зло.
— Варда, — прошептал Хиал, — мы стараемся быть терпеливы, но всему есть предел.
— Неживые глубоко безразличны к эллам. Им нужны не эллы, а источник в их развалинах, сильный источник, который дает эллам силы летать. Они хотят разрушить Семью, чтобы эллы не смогли помешать им присвоить этот источник. Вы знаете, как нужен источник для неживых. Без него они гаснут.
— Хватит, — сказал Раху. — Твои речи безумны. Ты смущаешь наш покой.
— Не надо, брат Варда, — жалобно просил Курха. — То, что ты говоришь, страшно.
— Да, братья, страшно. Но еще страшнее убивать невинных эллов, думая, что делаешь добро. Не случайно ты, Курха, так и не мог перебороть свои инстинкты и поднять камень на трехглазого. Твои инстинкты оказались умнее и добрее, чем твой обманутый разум.
— Нет, — тяжко вздохнул Курха, — ты неправ. Я действительно не мог заставить себя делать так, как говорили наши учителя, но только потому, что я слаб и нерешителен… Ты и представить себе не можешь, как я мучаюсь из-за своей никчемности.
— Достаточно! — рявкнул Раху. — Или замолчи, или…
— Что, брат Раху? — спросил я насмешливо. — Что «или»? Или ты тоже попытаешься принести мне добро при помощи острого и тяжелого камня?
— Это ты у нас мастак по части камней, — ответил Раху. — Мы ведь не убивали. Ты у нас удостоился такой чести. Это почему-то тебе учителя первому доверили убивать трехглазых ради них же самих. Не нам, а тебе. Ты лучше расскажи, как ты этого добился. И, видно, лишился от гордости разума.
— Да можете вы понять что-нибудь своими маленькими, жалкими мозгами? — крикнул я. — Или в них уже ничего не может проникнуть? Всунули туда неживые свою ложь, и она заняла ваши головы целиком. Так что больше ни для чего другого места уже не осталось. Вы не разумные существа, корры. Вы просто орудия в руках немощных неживых. Вы и сами неживые. Хуже неживых, те хоть катятся туда, куда хотят. А вы бежите, куда вас посылают.
— Ты не корр, — крикнул Хиал. — Ты сошел с ума. Держите его, братья, пока он не кинулся на нас, как дикий зверь, и не разорвал нас.
Хиал бросился на меня. Я не ожидал нападения. Он сшиб меня на землю и навалился на меня. За ним последовал и Раху. Его бок придавил мое лицо. Шерсть лезла в рот и нос, я не мог дышать. Я пытался столкнуть с лица груз, но Раху вцепился в меня руками. Я начал задыхаться. Грудь дергалась, в глазах плыли багровые облака.
— Братья, — умолял Курха, — братья, не надо так…
— Хиал, — крикнул Раху, — я держу его. Беги к неживым и расскажи, что случилось с Вардой. Мы не звери, чтобы так вот убить его, пусть научат, что с ним делать. Учителя мудры, они научат нас.
— Ты забыл, что уже темно, неживые недвижимы. Они даже выслушать как следует не смогут. Подождем до утра, когда они побывают в источнике.
— Ты прав. Этот безумец совсем сбил меня с толку. Но он же опасен. Что делать?
— Свяжем ему руки и ноги.
— Правильно.
Я уже плохо понимал их слова. Сознание уплывало клочьями, как туман на ветру. Связать… Кого-то они хотят связать… Ах, да — это меня… Быстрее бы, быстрее, пока я не задохнулся и не прошел остаток пути под тяжким и жарким боком корра. Скорее. Инстинктивно я сжал зубы и укусил Раху. Тот дернулся, и я успел вздохнуть.
— Ух, — рявкнул Раху и ударил меня рукой по голове. — Он укусил меня, этот правдолюбец. Открывал нам глаза, правду, видите ли, он нам принес, а сам впивается клыками. Не правду он принес, а дикость и злобу…
Мне было все равно, что он говорил. Я пил драгоценный воздух маленькими глотками, и воздух был сладостен.
Они связали меня. Было уже совсем темно. Я лежал на боку, слушал посвист ночного ветра, шорох раскачивающихся веток, ровное дыхание спящих корров. Они спали крепко, как спят, когда выполнен долг. У них была чистая совесть. Они связали брата, принесшего им правду, и были счастливы. Не правда им была нужна, а ложь. С ней удобнее. Прав ты был, пришелец, прав. Я не понимал, как это можно не принять правду, а теперь я видел, как поворачиваются к ней спиной, лишь бы было спокойнее. Больше ни о чем я не думал. Не мог думать. Не хотел думать. Мне хотелось быстрее пройти конец, пути. Мне не было жалко навсегда расстаться с оранжевыми облаками и свистом ночного ветра, со струящейся под тобой дорогой, когда ты мчишься, стелясь над ней. Мир оказался слишком сложен. Я не мог в нем разобраться. Мы слишком рано вышли из леса. В лесу все было просто. Набить живот и опорожнить его. Набить и опорожнить. Просто и прекрасно. Мы были частью леса, частью оранжевых облаков, частью ветра и частью развалин. Не было ни смысла жизни, ни идеи добра. Они не были нужны ни для того, чтобы набить живот, ни для того, чтобы его опорожнить.
Я догадывался, что сделают со мной неживые. Я был для них опасен. Моя правда могла помешать их лжи. Они убьют меня. И будут говорить коррам, что это добро, что так мне будет лучше, что они бы рады оставить меня в живых, но моя смерть нужна для общего блага, и даже для меня она тоже нужна. Может быть, они и правы.
Я задремал, и во сне мы бежали вместе с тобой, Юуран, свободные, легкие и веселые. Мы бежали и иногда поднимались в воздух, как это делают эллы у своих стен. Лететь было страшно, но весело, и мы оба смеялись над своим страхом. Ты что-то говорил мне и показывал на мои ноги пальцем, но я почему-то боялся посмотреть вниз, а потом все-таки посмотрел и увидел, что с ног моих свисают веревки. Сейчас какая-нибудь из них зацепится за кусты, и я рухну на землю. И действительно, веревка зацепилась за что-то, дернула ногу.
— Тш-ш, — еле слышно прошептал голос в самое ухо. И я не сразу понял, что это Курха, что я проснулся, что это не сон, что Курха осторожно дергает за веревки, развязывая меня.
— Тш-ш, — снова прошептал Курха. — Еще одни путы… Все, брат мой Варда. Беги отсюда.
— А ты? — тихонько спросил я.
— Не знаю…
— Они поймут, что это ты освободил меня.
— Пусть. Мне все равно.
— Пойдем со мной.
— Не могу.
— Почему, Курха, почему?
— Я не знаю. Меня гнетет печаль.
— Пойдем, Курха. Ты добр и смел. Ты оказался лучше нас всех. Ты не мог заставить себя убивать. Пойдем, Курха, ты нужен мне. Мы будем вместе бороться против неживых.
— Нет, брат Варда. Нет у меня ни сил, ни воли, ни желаний. Я пустой, Варда, у меня осталась только печаль. Иди, милый брат, иди, пока они не проснулись.
Я тихонечко встал, прислушиваясь к дыханию спящих корров. Я обнял Курху за шею, как это делал ты со мной, Юуран, и ушел. Я бежал в темноте, спотыкался, падал и снова бежал. Потом я весь день скрывался в развалинах у стен и ждал, пока смогу проскользнуть к тебе. Я рассказал, Юуран. Прости, что мой рассказ был так длинен. Я должен был поделиться с кем-нибудь словами, что распирали меня. Я мог это сделать только с тобой.
— Спасибо, Варда. — Я провел рукой по его шее, и он прижался к ней. — Ты начал расплачиваться. За все заблуждения, в которых не виноват.
— Но что же теперь делать? — прошептал Варда. — У меня не осталось ничего…
— Ты ошибаешься, корр. У тебя осталась правда, ощущение честно выполненного долга.
— Опять долг, — перебил меня Варда. — Я не хочу больше никаких долгов.
— Это тебе кажется, Варда.
— Может быть.
— И не печалься. Борьба только начинается, и ты нужен мне. У меня постепенно рождается план. Пока я тебе еще не стану его рассказывать.
— Ты не доверяешь мне?
— Я тебе доверяю. Просто план еще не созрел, мне нужно додумать его…
Дверь распахнулась, и появился Верткий. Он молча уставился на нас.
— Верткий, — сказал я. — Это Варда.
— Я вижу. Это убийца.
— Не торопись, я объясню тебе.
— Теперь я понимаю, почему ты так торопился к себе. Тебе не терпелось побыстрее увидеть убийцу эллов. Да, прав, наверное, элл, которому ты дал имя Узкоглазый. Он говорил: ты, Верткий, не забывай, что у твоего Юурана два глаза.
— А что это значит? — спросил я. Мне действительно интересно было, что имел в виду Узкоглазый, и к тому же я хотел как-то разрядить напряжение.
— Два глаза — это два глаза, а три — три.
— Я не совсем…
— Только у эллов три глаза, и эллы видят третьим глазом то, что не видят двухглазые.
— И что же ты видишь, брат Верткий?
— Я вижу, что никому нельзя доверять. Ни Семье, члены которой все еще остаются тупыми мычащими, ни коррам, которые подстерегают нас по ночам с камнями в руках, ни даже тебе, который прячет у себя убийцу. А может, ты и не прячешь. Может, вы вместе прикидываете, кому следующему проломить голову. Так, Юуран?
В бедняге даже не было ни злобы, ни ненависти. Обманутое и преданное доверие. Так он думал, мой пылкий, яростный и беззащитный Верткий.
— Прости, — вдруг сказал Варда и низко нагнул шею. — Я принес вам зло и скорблю теперь вместе с вами. Я не могу оправдаться, но я был обманут.
— Ты был обманут? Ты?
— Да, Верткий, Он был обманут, — сказал я. — Наберись терпения и выслушай, что произошло.
4
В конце концов мы убедили Верткого, что неживые действительно обманули доверчивых корров. Он пришел в величайшее возбуждение, он вскакивал, порывался тут же бежать к ним, чтобы вырвать их щупальца, кричал, размахивал руками.
Я еле уговорил его оставаться пока на месте. В своем воображении я уже видел вариант Варфоломеевской ночи на Элинии: огромная толпа возбужденных и гневных эллов набрасывается на роботов. И хотя, строго говоря, неживые лучшей участи не заслужили, меньше всего мне хотелось разжигать здесь войну.
Верткий ушел, а Варда заснул, вытянувшись на полу. Я смотрел на спящего кентавра и думал об эбрах, о законсервированном сознании двух давно погибших существ, которое мне довелось извлечь, случайно попав в подземелье. А сейчас они снова в машинной спячке, в электронных или каких-то иных, неведомых мне консервах. Я представил себе, что они должны были чувствовать, когда отправляли меня на поверхность, когда их сознание угасало, и они умирали в очередной раз с надеждой на очередное воскрешение. А жизнь их или смерть были в моих руках. Они сами доверили свою судьбу мне.
Доверили… А был ли у них другой выбор? Да, они могли оставить меня в подземелье, и через несколько дней там было бы три трупа, два бесплотных и один вполне материальный. Да, так, Юрий Александрович, ехидно возразил я себе, но тут же услышал в ответ: у эбров был еще один вариант. Они могли вторгнуться в мой мозг и остаться там. Технически они на это способны. И все же они не сделали этого. Да, они копались в моей бедной голове, перерыли все ее содержимое во время обыска, но ведь ушли, не остались в ней. Верно. Но вряд ли можно приписать это их благородству. Что может значить для них судьба одного чужестранца, когда они, не моргнув глазом, погубили целую цивилизацию. О каком благородстве и деликатности можно говорить, когда они с лихостью рубак неслись вперед, меньше всего думая о жертвах их стремительной и безумной скачки.
Да, так, все так. И все же, все же не мог я забыть о всполохах света за прозрачными стенами под развалинами. Не мог оставить два разумных существа в их машинных западнях.
Стоп. Подумай. Будь честен с собой. Тебе это удавалось не слишком часто, но сейчас не время играть с собой в жмурки. От твоих жмурок зависит судьба планеты. Не больше и не меньше. И даже пыжиться от важности мне не хотелось. Потому что сквозь неубедительный спор с самим собой постепенно пробивалось осознание того, что эбры свое дело сделали — я любил их.
И как только я понял это с пугающей ясностью, все мое существо возмутилось и восстало. Я забился, как пойманный в капкан зверь. Как, как мог я любить этих гуннов, разрушителей? Как мог я вообще любить кого-то по приказу? В этом было нечто глубоко оскорбительное для свободного человека. Что могло у меня быть общего с этими всемогущими варварами, с детской легкостью разрушившими все на своей планете и самих себя? Даже корры, эти нелепые меховые кентавры, все еще полуживотные, были в тысячу раз ближе мне. По крайней мере они могут сострадать.
Я не мог, не должен был испытывать никакой симпатии к эбрам. Вся этика нашей земной цивилизации восставала против такой противоестественной симпатии. Хватало в нашей нелегкой истории и своих разрушителей, по пути к новым завоеваниям лихо топтавших копытами коней города, государства, детей, женщин и стариков.
Все было так. И не так. Потому что семена, заложенные в мою голову, прорастали сейчас противоестественным и отвратительным цветком любви к эбрам.
Я физически ощущал теперь инородное тело в мозгу, которое отравляло его, раздваивало, натравляло полушарие на полушарие.
И качели, настоящие качели я ощущал в себе, взмахами которых я не мог управлять. Вот они взмыли в другую сторону, и душа вспыхнула невероятным восхищением. Да, всадники, да, лихие, да, топтали копытами, но ведь прежде всего себя… Ни городов своих, ни самих себя не пощадили, хотя предупреждали их о грядущей катастрофе, и сами они видели безошибочные знамения ее приближения. С презрительной усмешкой, даже не оглянувшись, пришпоривали они коней и мчались вперед, пусть к гибели, но только вперед. Все вокруг сливалось в яркие полосы, проплывавшие мимо. Будущее неслось на них, испуганно раздваивалось и покорно обтекало, исчезая позади. Мелькали века, чужие миры, свои города и тоже исчезали в «черной дыре» прошлого.
Вот они, «черные дыры», так долго волнующие наших земных астрономов. «Черные дыры» — это прошлое, втягивающее в себя то, что было, есть и будет.
И мчались, мчались эбры, смеясь на самом краю этих бездонных «черных дыр». И видение это было прекрасно, что бы я ни говорил себе. Я мог упираться ногами в край обрыва, но оползень нес меня вниз, к эбрам…
Новый взмах маятника — и я испускал стон от этого позорного эмоционального рабства. Пусть они всесильны, пусть они что-то сделали с моей головой, но все равно не должен я пускать слюни от противоестественной любви. Если я претендую на звание мало-мальски мыслящего существа, я просто не имею права сдавать свои мозги и сердце с такой легкостью в аренду первому же нанимателю. Я обязан, я должен быть хозяином своих чувств.
Маятник на излете очередного взмаха — и аргументы мои в тягостном споре начинают менять знак. Ты не прав. Любовь — не формула. Влюбляются не по законам логики и не с сантиметром и весами в руках. Любовь изначально иррациональна. Тысячи книг описывают, как мужчины и женщины влюблялись друг в друга, даже видя множество недостатков. Любовь вообще многообразна, и можно, наверное, было бы составить толстенный словарь сравнений любви. Ее сравнивали с цветком и рыкающим зверем, с утренней зарей и тяжким бременем, с полетом и картошкой, которую нельзя выкинуть в окно.
Я во всяком случае не мог. Да, я пытался изринуть из себя привязанность к эбрам, но похоже было, что чем яростнее я дергал за стебли унизительных сорняков в мозгу, тем глубже пускали они корни.
Да, были они не похожи на меня, на нас, но все равно душа сладостно замирала в восхищении, и хотелось склониться перед бесстрашными искорками разума, что циркулировали в подземной машине. И томительно хотелось служить им, помочь обрести материальную форму.
Маятник менял в очередной раз направление, и в очередной раз менялось положение на борцовском ковре. Теперь наверху оказался здравый смысл. Он придавил коленом позорную влюбленность и ехидно крикнул: мало тебе стремления выпустить джинна из бутылки, ты еще должен делать это с любовью. Ты не просто слуга, ты хуже. Просто слуга служит за деньги, а ты служишь из-за любви. Ты дважды слуга, слуга в квадрате.
От этих споров, возни в мозгу, от этих качелей у меня болела голова, я испытывал болезненное недовольство собой. Хаос в чувствах, спорах и намерениях был мучителен.
И среди всего этого беспорядка подбиралось к моему разуму новое прозрение: я понимал, что схватка, в сущности, уже проиграна. Эбры знали свое дело. Наверное, они легко могли бы лишить меня возможности рассуждать и бороться с собой. Взяли бы мои мозги, брезгливо потрясли, чтобы освободить их от последних сомнений, начинили бы их одной только любовью к господам, и я тут же помчался бы к неживым, лишь бы побыстрее услужить повелителям. Но они этого не сделали, потому что и того, что они всунули мне под извилины, хватало. Хватало, чтобы отправить меня к неживым.
Я знал, что пойду к ним. И хотя эта уверенность делала меня глубоко несчастным, я не мог сопротивляться. Сила, которая послала меня служить эбрам, была вне моего контроля. Я мог сколько угодно науськивать одно полушарие моего бедного мозга на другое, но победить себя я не мог. Нет, не себя, с собой я бы справился. Я не мог победить эбров. Пусть они безумны, но они стоят на другой ступени развития. Пусть эмоционально они дикари, но эти дикари давно странствуют по Вселенной, они пытались приручить силы притяжения, их роботы превосходят все, о чем мы мечтаем на Земле, они легко переносят свое сознание в машину и из машины, меняют форму своих тел.
Я просто не мог сопротивляться. Лучник может быть сколь угодно храбр, но его стрелы не могут даже поцарапать броню танка.
Я еле дождался утра. Я торопил облака, усилием воли пытался побыстрее налить их дневным оранжевым блеском.
Нужно было предупредить Первенца, Верткого и других эллов, что я иду к неживым. Нужно было предупредить Варду. Но я не мог объяснить им. У меня не хватило бы слов. А если бы я и наскреб их, они никогда не поняли бы силы, которая гнала меня. Я ведь и сам не понимал ее.
Я разбудил Варду и приказал ему никуда не уходить и передать Верткому, что я скоро вернусь.
Корр посмотрел на меня сонными круглыми глазами и спросил:
— Куда ты идешь?
— Ну, так… На развалины. Да, на Большие развалины.
— Зачем?
— Ты что, допрашиваешь меня?
— Я не допрашиваю тебя. Я спросил тебя, а ты отводить глаза.
— Я… видишь ли… Как бы тебе объяснить, брат Варда… Боюсь, что все равно не смогу это сделать.
— Я не хочу оставаться здесь. Я хочу пойти с тобой.
Я вздохнул. Неправильность того, что я собирался сделать, чувствовалась хотя бы в том, что я должен был скрывать ото всех свои планы.
— Это невозможно.
— Почему я не могу пойти с тобой на развалины? Корры умеют лазать по развалинам. Я смогу помочь тебе.
— Спасибо, но… Видишь ли, брат Варда, бывают минуты, когда хочется побыть одному. Мне нужно подумать как следует, и я не хочу, чтобы меня отвлекали.
— Я не буду тебя отвлекать. Я буду бежать на расстояние. Ты даже не заметишь меня.
— Нет, брат Варда, не нужно.
Корр встал и печально посмотрел мне в глаза.
— Юуран, ты научил меня сомневаться, цельные ли слова я слышу, или это потрескивает пустая шелуха. Не обижайся на меня, но мне кажется, твои слова идут в одну сторону, а правда — в другую. А ведь это ты говорил мне, что не нужно бояться правды.
Я набрал полную грудь воздуха и прыгнул с обрыва:
— Ты прав, брат Варда. Я действительно обманывал тебя, но не потому, что мне этого хотелось. Просто все слишком сложно…
— Ты странное существо, Юуран. Ты учишь меня стремиться к правде, но как я могу искать ее, если она такая многоликая, такая же, как обман. Может ли быть столько правд? А может, они и не так уж отличаются — ложь и правда?
— Я иду к неживым.
— Ты? К неживым? Ты понимаешь, что они сделают с тобой? Ведь корры, что с ними, наверняка рассказали неживым, что это ты открыл мне глаза на их планы. Ты опять обманываешь меня, и мне грустно.
— Нет, брат Варда. Нет, мой дорогой, доверчивый друг, я не обманываю тебя. Я иду к неживым.
— Они убьют тебя. Они и корры, что служат им. И Раху, и Хиал, да и Курха… Бедный Курха… Я не знаю, зачем ты идешь, но я не могу пустить тебя.
— Они не тронут меня.
— Ты опять прячешь правду за спину и подсовываешь мне ложь.
Я начал отчаиваться:
— Варда, пойми, я не могу, не могу тебе объяснить сейчас всего, но я должен идти к ним. Я надеюсь, что они не убьют меня. Наоборот, они будут рады узнать то, что я должен сообщить им.
— Я пойду с тобой.
— Ни в коем случае. Тебя-то они уж наверняка схватят. И твои же братья в первую очередь. Ты пытался открыть им глаза, а это редко прощают.
— Все равно, Юуран, я пойду с тобой. Я не боюсь.
— Нет.
— Ты не можешь приказать мне. Я свободный корр. Ты не можешь запретить мне бежать за тобой.
— Тебя убьют.
— Я не боюсь.
— Ты можешь не бояться, но я никогда не прощу себе, если с моим другом случится плохое. Ты мой друг.
— А я себе не прощу, если отпущу своего друга одного.
— Ладно, брат Варда. Мы можем так спорить с тобой весь день. Идем. Но ты должен поклясться, что не войдешь со мной в лагерь неживых и будешь ждать меня в ближайших развалинах.
— Хорошо.
Варда выполнил обещание и, не доходя нескольких сот метров до лагеря неживых, он свернул с дороги.
— Я буду ждать тебя, Юуран. Если к утру ты не вернешься, я пойду за тобой.
Через несколько минут я увидел бегущего по дороге корра. Он тоже увидел меня, потому что замер на мгновение, а потом стремглав бросился назад. Нетрудно было догадаться, что он помчался за подмогой. Я не ошибся. Навстречу мне неслись с десяток корров. Молча, грозно, решительно. Трое остановились прямо передо мной, остальные окружили.
Крупный корр с рыжеватым-мехом спросил:
— Куда ты идешь, пришелец? Ты хочешь смущать наши умы ложью? Ты хочешь рассорить нас с учителями? Отвечай!
— У меня нет намерения смущать ваши умы, корры. Я пришел к неживым. Мне нужно поговорить с ними.
— Ты лжешь.
— Я говорю правду.
— Ты лжешь, как лгал, когда учил Варду безумным вещам.
— Для чего нам спорить, ведь проще провести меня к вашим учителям, и они сами разберутся, с чем я пришел к ним.
— Твои слова петляют, как урчи, когда они пытаются запутать следы. Ты полон хитрой злобы. Где Варда? Это ты развязал его веревки, когда мы связали его? Признавайся!
— Нет, корры. Я даже не знаю, где он. Не знаю, что вы связывали своего брата.
— Он нам не брат! Он не корр! Ты, наверное, отвел его в Семью, чтобы он стал эллом.
— Подумайте, корры, как он может стать эллом…
— Чего с ним разговаривать…
Я почувствовал толчок в спину, покачнулся, но устоял на ногах.
— Вы оказываете плохую услугу неживым… Они не простят вам, если вы помешаете мне сообщить им важную весть.
— Не слушайте его! Пришелец пришел со злом в сердце, он завидует нашему благородству. Бейте его!
Еще один корр взмахнул рукой, и я с трудом увернулся от удара. Но еще от одного удара сзади защититься я не мог. Я не ожидал толчка и упал. Мозг прострелила мысль: а ведь Варда был прав. Сильный удар ногой в бок заставил меня перевернуться на спину, и я увидел, как корр с рыжей шерстью поднимает с земли огромный камень. Вот и все. Я попытался вскочить на ноги, но очередной удар ногой снова повалил меня наземь.
— Глупые животные! — заорал я в бешенстве. — Вы хотите убить меня и навсегда лишить ваших учителей возможности служить своим господам.
Рыжий корр с камнем в руках усмехнулся:
— Ну конечно. Мы глупые животные. Мы такие глупые животные, что даже не понимаем, как можно служить господам, которых давно нет. Зато ты умный, пришелец. Ты такой умный, что пытался убедить нас через презренного предателя Варду в коварстве неживых. Ты глуп, Юуран, и ты заслуживаешь смерти.
Рыжий занес камень над головой. Движения его были медленны, как при замедленной съемке. Он держал камень двумя руками. У меня было много времени, целая вечность, чтобы вскочить на ноги. Но, наверное, и я двигался так же мучительно медленно, как и мой палач.
— Эй, трусы! — послышался крик. Это был Варда. — Жалкие трусы, слепые скоты!
Рыжий палач замер, и камень упал к его ногам. Я видел, как надуваются жилы на его шее. Но я уже бежал. Я ударил одного корра, толкнул другого. Я слышал сзади крик, топот, я каждое мгновение ожидал последнего удара в спину, но они, очевидно, забыли обо мне и набросились на Варду, верного, храброго Варду.
Я бежал, и в такт бегу в голове дергалась мысль: если неживые еще не вернулись от источника, я пропал. Мне не убежать от нескольких десятков корров.
В этот момент я увидел вдалеке неживых, которые катились от источника. Только бы корры не успели меня схватить. Я повернул на бегу голову. Или корры разделились на две группы, или они уже разделались с бедным Вардой, потому что только несколько кентавров мчались за мной. Я знал скорость их бега. Я не мог соревноваться с ними. Единственная моя надежда заключалась в том, чтобы оказаться как можно ближе от неживых. Они не посмеют разделаться со мной на глазах неживых. Не может быть, чтобы те не спросили, за что они побивают меня камнями. Зыбкая надежда. Топот ног по утрамбованной дороге накатывался сзади на меня. Но я не хотел расставаться с ней, с последней надеждой. Я отчаянно вцепился в нее, и вместе мы мчались так, как никогда в жизни я не бегал. Рядом просвистел камень и шлепнулся на дорогу. Следующий я мог остановить только собой. Но и неживые были уже совсем близко. Должно быть, они увидели погоню и прибавили ходу.
— Юуран, — услышал я голос и понял, что это Шестой. — Ты вернулся? Для чего?
Я хотел ответить, но что-то тяжелое ударило меня в плечо. Я покачнулся и упал, шлепнувшись плашмя лицом вниз на жесткую дорогу.
Должно быть, на несколько минут я потерял сознание, потому что, когда я пришел в себя, я почувствовал, как меня куда-то тащат два корра. В замутненной голове вяло трепыхалась надежда: раз они не убили меня сразу… Я так и не успел рассмотреть эту надежду, потому что корры привалили меня к дереву.
Передо мной стояло несколько неживых. Они слегка расплющили шары, от чего стали казаться приземистее и сильнее. Щупальца их были неподвижны.
— Жаль, — сказал робот, и я понял, что это Пятый. — Жаль,
— еще раз повторил он. Он пристально смотрел на меня, и в его неподвижности я чувствовал угрозу. Я знал, что нужно объяснить им, для чего я оказался здесь. Я хотел это сделать, но я почему-то никак не мог составить в уме первую фразу. Я пришел, чтобы… Я пришел, чтобы…
— Чего тебе жаль? — спросил Пятого кто-то из роботов.
— Мне жаль, что Юуран оказался врагом. Я помню, как мы подолгу разговаривали с ним. Я рассказывал ему о нашем прошлом, об эбрах, и мне казалось, что он слушал с жадностью и интересом.
А потом, когда мы узнали о предательстве Варды и о той клевете на нас, которой пришелец отравил его сознание, я понял, что ему не интересно было наше прошлое. Он лишь изыскивал способы погубить нас. Предательство всегда печально. Обман ложится на плечи тяжестью. Ты молчишь, Юуран, потому что тебе нечего сказать. Ты наш враг. Ты пытался рассорить корров с нами. Ты нагромождал одну ложь и клевету на другую. Мы не жестоки. Мы никогда не хотим убивать просто ради убийства. Но ты опасен, пришелец, и нам придется лишить тебя жизни. Был бы я один, я, может, пощадил тебя, но твоей смерти требуют все корры. Так, друзья? — спросил Пятый у корров, которые окружали нас.
— Да, учитель.
— Убить его!
— Он обманул Варду и заставил его стать предателем. Он опечалил нас.
— Они вместе пришли. Он и Варда.
— Как, и Варда вернулся? — спросил Шестой. — Где он?
— Мы видели его, но не смогли схватить. Он успел убежать.
— Целая экспедиция. Ну что ж, пришелец, ты видишь, чего требуют наши друзья корры. А мы ведь считаемся с ними. Они благородны и бесстрашны. И если уж эти добрые существа требуют твоей смерти, ты заслужил ее. Так, Хиал?
— Да, — ответил рыжий корр, тот, который уже заносил надо мной камень.
— Ну что ж, воля корров — наша воля. Как мы лишим его жизни?
— Размозжим ему голову камнем, — твердо сказал Хиал.
— Ты сможешь это сделать?
— Да учитель.
— Хорошо. Пришелец, может быть, ты все-таки надумал объяснить нам перед смертью, для чего ты оказался здесь?
Оцепенение, что спеленало мое сознание, спало, и я почувствовал, что могу говорить.
— Да, — сказал я и не узнал свой хриплый голос.
— Ты объяснишь, почему ты пришел к нам? — спросил Пятый. Его глаза-объективы смотрели на меня грозно, как коротенькие пушечки.
— Да. Я пришел, потому что меня прислали эбры.
Неживые стояли молча и неподвижно, и лишь шары некоторых из них подрагивали, то сплющиваясь, то раздуваясь снова.
— Тебя прислали эбры? — недоверчиво переспросил Пятый. — Ты понимаешь, что говоришь? Или ты смеешься над нами? Тебе мало лгать и клеветать на нас, ты еще издеваешься над памятью наших создателей.
— Разрешите нам увести его? — спросил Хиал и дернул меня за руку так, что я сразу оказался на ногах.
— Сейчас, Хиал, обожди. Может, ты объяснишь свои слова, Юуран? Что ты хотел этим сказать?
Я покачнулся, но все-таки устоял на ногах. Я был слаб, болела ссадина на лбу, и я слышал ровный и тяжкий гул в голове.
— То, что сказал, — ответил я, с трудом ворочая языком. — Меня прислали к вам эбры.
— Но ведь наши господа погибли, все до одного, — очень тихо сказал Пятый. — Давно, бесконечно давно, когда начала оседать пыль, что повисла в воздухе после Великого Толчка и закрывала облака, мы надеялись, что кто-то из них остался в живых. Мы обшаривали одни развалины за другими, но не осталось никого в живых. Лучше бы и мы ушли вместе с ними… Ты безумен, пришелец. Или ты лжешь, или ты стал безумцем.
— Меня прислал Арроба, — сказал я.
— Что? — крикнул Шестой, стремительно подкатился ко мне, и я взмыл в воздух, поднятый его щупальцами. — Что ты сказал? Кто послал тебя?
— Арроба.
— Ты понимаешь, что говоришь?
— Да.
— Это имя моего незабвенного господина. Как смеешь ты, жалкий пришелец, смеяться над его памятью?
— Я не смеюсь. Он действительно послал меня к вам.
— Но он же погиб. Все эбры погибли во время Великого Толчка.
— И он тоже, — сказал я. — Он погиб и не погиб. Сознание Арробы и еще одного эбра заранее перенесли в машины, спрятанные в подземелье.
— Заранее?
— Да. Он рассказал мне, что трехглазые пророки все время предупреждали о грядущей катастрофе. Что были аварии машин, воздействовавших на силу тяжести. И чтобы обезопасить цивилизацию эбров от полного уничтожения, сознание некоторых из них было перенесено в машины. Арробе нужно тело, ему нужны вы. Я пришел с этой вестью, я пришел, чтобы помочь вам встретиться, а вы обсуждаете способ, каким удобнее лишить меня жизни.
Гул в моей голове не ослабевал, но силы понемножку возвращались, а вместе с ними и эмоции. Я презирал себя за то, что стоял сейчас покачиваясь перед неживыми и коррами. Даже Варда мог предвидеть, что ожидало меня здесь.
— Ты лжешь, — каким-то удивительно ровным и плоским голосом сказал Шестой. — Ты запомнил имя моего господина, когда я рассказывал тебе о нем, и теперь ты пользуешься им, чтобы, избежать правосудия. Мало того, что ты наш враг, ты ложью пытался вбить клин между нами и коррами, ты еще и издеваешься над памятью наших создателей. Воистину ты достоин камня.
— Но зачем, подумайте сами, зачем бы мне приходить сюда, зная, что меня ожидает.
— Не слушай его, учитель.
— Ведь должен быть какой-нибудь смысл в моем приходе.
— Он лжет.
— Не знаю, — сказал Шестой. — Скорее всего ты действительно надеялся рассорить наших друзей корров с нами.
— Разреши, учитель, увести его, — сказал Хиал. — Нечего слушать его безумные лживые речи. Я бы давно размозжил ему голову, и он бы не унижал нас больше ложью.
— Да, ты, наверное, прав, — вздохнул Пятый. — Но меня настораживает злоба, которая бушует в тебе. Ты совершенно прав. Пришелец заслужил смерть, и ты размозжишь ему голову. Но сделать это нужно без злобы. Вы ведь теперь уже не животные. И поднять камень тебе должна помочь не злоба, не ярость, а лишь любовь к справедливости. Так, Хиал?
— Да, учитель, — угрюмо ответил Хиал.
— Хорошо. Можешь увести пришельца. Мы не хотим слышать его крика. Нам жаль растрачивать драгоценную энергию на пустые разговоры с лгуном вместо того, чтобы думать о добре и долге. Ведь не все еще эллы освободились от оков Семьи, и мы должны помочь страждущим.
— Мы успеем еще покончить с пришельцем, — сказал задумчиво Шестой. — Разумеется, все, что он рассказывает, — выдумка. Но мне все-таки хочется выпытать из него, в чем действительный смысл его прихода к нам. Я прошу надеть на его руки и ноги белые кольца. С ними он не убежит. Даже десяти шагов не сделает. А я еще раз попробую поговорить с ним.
— Жалко энергии.
— Я хочу знать.
— Как хочешь, — сказал Пятый. — Но проследи, чтобы кольца надели как следует.
5
Когда мы остались одни, я посмотрел на свои браслеты и спросил Шестого:
— Объясни мне, почему вам легче обвинить меня во лжи, чем проверить правоту моих слов.
— Странный вопрос.
— Почему?
— Мы же рассказывали тебе, как мало в нас осталось сил. Если бы не найденный источник, мы бы давно перестали двигаться и наши глаза покрылись бы пылью.
— Но после источника…
— Да, после прикосновения к источнику, этому безмолвному привету из ушедшего прошлого, мы вновь обретаем силы. Но не надолго. Их не хватит, чтобы совершить путешествие к Зеркальным стенам. Это долгий путь, и даже половину его мы не сможем прокатиться. А если шары наши остановятся вдали от источника, мы погибнем. Ты, наверное, хочешь меня спросить, почему мы не можем отправить с тобой нескольких корров, чтобы они проверили твой рассказ.
— Допустим.
— Ты разочаровываешь меня. Это очевидно. Несколько корров, да еще в твоей компании, станут легкой добычей эллов. Эллов ведь сотни, и они в своей слепоте ненавидят нас. Нас, которые желают им только добра.
Что это, думал я, просто привычка к демагогии или неживые искренне верят в свою ложь?
— Вы желаете им добра?
— Конечно.
— И посылаете корров, чтобы они убивали трехглазых?
— С болью, пришелец. Это вынужденная мера, чтобы разрушить Семью и освободить эллов от ее оков.
— Это единственное, что движет вами?
— Разумеется.
— А вовсе не стремление заполучить новый сильный источник, настолько сильный, что он подымает трехглазый в воздух?
Неживой помолчал, и я почувствовал, как белые браслеты на моих руках и ногах начали сжиматься: Боль была такой сильной, что я застонал. Еще мгновение, пронеслась мысль, и я услышу хруст своих костей. Браслеты слегка ослабили свою мертвую хватку.
— Ты опасное существо, — задумчиво сказал неживой. — Я начинаю жалеть, что затеял этот разговор.
— Конечно. Некому было бы тогда беспокоить вас правдой. Вы бы лгали так спокойно и долго, что в конце концов сами бы поверили в свою ложь. Это бывает. Для некоторых лучший способ верить в свое благородство — это поверить в свою ложь.
— Для чего ты это говоришь, Юуран? Я перестаю тебя понимать. Ты ведь не животное, ты принадлежишь к разумной расе. Ты боишься боли. Ты застонал, когда я слегка сжал кольца. Твой разум способен строить логические схемы и проектировать их в будущее. Ты понимаешь, что, оскорбляя меня, ты рискуешь вызвать у меня желание еще раз сжать кольца еще сильнее. Так, пришелец?
— Так.
— Для чего же ты тогда тычешь мне в нос свои ядовитые выдумки?
— У меня есть один шанс уйти отсюда живым. Для этого вы должны поверить мне. Я не корр. Это пусть они засматривают вам в глаза и слушают вас, округлив глаза и раскрыв рот. Я знаю, что вам нужны новые сильные источники. Я знаю, что именно для этого вы ведете настоящую войну против эллов. И не торопись сжимать браслеты, Шестой. Подземелье, в котором спрятаны машины, хранящие сознание двух эбров, насыщено энергией. Я полз по трубе, исследуя развалины, и труба, толстенная труба, прогнулась подо мной, доставив меня на дно колодца. А потом волна невесомости несла меня. Сквозь прозрачные стены я видел мерцание и игру света — для всего этого нужна энергия. Уже после того, как Арроба послал меня к вам, та же труба вынесла меня на поверхность. Для этого тоже потребно много энергии.
Неживой издал какой-то звук, нечто среднее между стоном и рычанием:
— Каждый раз, когда ты произносишь имя моего возлюбленного господина, что-то переворачивается во мне. Даже зная, что его нет, я жажду еще раз услышать это драгоценное имя… Я думаю, ты догадываешься об этом и пользуешься моей слабостью, чтобы продлить себе жизнь.
— Скажи мне, Шестой, ты только что повторил, что считаешь меня существом разумным.
— Да, это так.
— Но объясни тогда, для чего мне, существу, разумному, было приходить к вам, зная, какая встреча меня ожидает. Для чего мне, существу разумному, а, стало быть, знающему, что такое боль, нужно было подвергать свою жизнь смертельной опасности? Я уже задавал этот вопрос, но сейчас мы одни, и у тебя есть время спокойно подумать.
— Вот это и смущает меня…
— Я ведь не мог рассчитывать, что тут же раскрою коррам глаза, и они мгновенно поймут, как вы используете их.
— Пришелец!
— Обожди. Наберись мужества хотя бы ради твоего создателя. Эбры не боялись ничего, даже своей гибели.
— Хорошо, — медленно пробормотал неживой. — Я не буду перебивать тебя. Говори, что хочешь. Но в конце разговора ты пожалеешь, что Хиал не успел разбить тебе голову камнем, потому что я сожму кольца так, что они раздавят твои руки и ноги. Нет, не сразу, пришелец, не сразу, этого ты не заслужил, а медленно, так, чтобы успел тысячи раз проклясть свою судьбу, как проклинали ее мы, пережившие своих господ и творцов.
— Другого я не жду. Я взываю не к твоему благородству, я стучусь в дверь твоего разума, твоего расчета. Назови мне хоть одну причину, побудившую меня прийти сюда, и я буду спокойно ждать своего конца. Хотя бы одно объяснение, неживой, одно, всего одно. Ведь Варда рассказал мне о возмущении корров его словами, моими словами, и намерение передать все вам. Ну, говори, Шестой.
— Я не знаю… Может быть, ты действительно потерял разум.
— Ты не веришь своим словам. Ты знаешь, что я не безумец.
— Я не могу решить. Ты говоришь одновременно и как здравомыслящее существо, и как потерявший разум.
— Отлично, значит, ты не можешь придумать ни одного объяснения моего появления в вашем лагере. Но почему же тогда не допустить, хотя бы на короткое время, что я говорю правду, что я действительно нашел подземелье в Больших развалинах, где находятся машины с сознанием двух эбров? Чем ты рискуешь?
— Нет, пришелец. Это бессмысленно.
— Но почему же? — вскричал я.
— Я уже прикидывал такую возможность, но тут же отверг ее.
— Почему?
— Очень просто. Допустим, ты действительно не лжешь, чтобы спасти свою жизнь. Допустим, ты действительно говорил с эбрами. Допустим. Но для чего тебе идти к нам? Ты же ненавидишь нас за то, что мы делаем с Семьей. Для чего же тебе оказывать нам величайшую услугу? Да что услугу — стать нашим благодетелем. Что ты скажешь на это?
— Наконец-то! Наконец-то мы дошли до главного. Ты прав, Шестой. Я не испытываю к вам особой любви. Мало того, умом своим я понимаю, что и эбры не заслуживают моей любви, ибо безразличие их ко всему, что мешало им мчаться вперед, равнодушие ко всем, кто оказывался на их пути, нам чуждо и отвратительно. Но Арроба сумел, несмотря на все это, внушить, вложить в мой мозг какую-то противоестественную любовь к себе. Она-то и гнала меня к вам.
— Ты хочешь сказать, что полюбил моего незабвенного господина?
— Не я полюбил его, а он заставил меня насильно полюбить его. Против моего желания, против моей воли.
— Так или иначе, но ты любишь его?
— Да.
— Как это похоже на него, — прошептал неживой. — Он никогда никому ничего не приказывал. Он говорил мне: сделай то-то и то-то, и я тотчас же бросался выполнять приказ. Он знал, что все любили его. Я уже тебе, кажется, рассказывал, как ему нравилось менять форму. Один раз он принял даже обличье трехглазого. Когда я увидел трехглазого, входившего в наш дом, я встал на его пути, потому что мой хозяин не любил пророков и презирал их. А трехглазый на моих глазах начал меняться. Сначала исчез третий глаз, потом тело его слегка укоротилось, а черты лица смягчились. Передо мной стоял мой господин, а я все еще не мог прийти в себя. Может, это трехглазый прикидывается господином Арробой, подумал я, но в этот момент эбр весело рассмеялся и сказал: «Робот, ты всегда должен уметь различать своего хозяина в любом обличье. Иначе ты не достоин звания настоящего слуги». Я готов был провалиться со стыда…
— Теперь ты веришь мне? — спросил я.
— Нет, — упрямо сказал неживой. — Ты все же не убедил меня. Ты не привел ни одного доказательства истины своих слов. Мало того, теперь я догадываюсь, для чего ты пришел.
— Например?
— Чтобы уговорить нас отправиться к Зеркальным стенам и завести в засаду. Так, Юуран? Признайся, и я пойду тебе навстречу. Я разом сожму кольца, и тебе даже не придется мучиться, ты тут же испустишь дух. Ну?
— Нет. Но я хоть понимаю теперь… чтобы убедить тебя в истинности своих слов, я должен сообщить тебе нечто такое, что мог узнать только от эбров.
— Да, пришелец, — насмешливо сказал Шестой. — Но боюсь, для этого тебе придется отправиться в путешествие, из которого не возвращаются.
— Там было два эбра. Арроба и…
— Я жду. Второе имя… Назови мне второе имя.
Неживой смотрел на меня, его глаза-объективы блестели холодной угрозой. А я не мог вспомнить второго имени. Не мог — и все. Я никогда не отличался хорошей памятью. Мой брат запоминал в детстве целые страницы стихов. Один раз услышит — и словно сфотографировал их. А у меня стихи никак не удерживались в голове. Не удерживались — и все тут. Давай, Юрча, еще раз, говорил папа: Муха, муха-цокотуха, позолоченное… Ну?
Я хотел, вспомнить, я хотел сделать папе приятное, он так грустно смотрел на меня. Ну что может быть у мухи позолоченным? Руки? Ноги? Нет, у нее же лапки. Цокотуха, цокотуха… ага! Вспомнил, кричал я. Вспомнил: позолоченное ухо! Папа вздыхал и говорил: не ухо, а брюхо.
Но то были детские стишки, и я знал, что, даже не запомнив ни единой строчки, я все равно могу залезть отцу ни колени и потереться о его подбородок, который к вечеру всегда становился колючим. Об него было удобно чесаться.
Я не мог залезть на колени робота хотя бы потому, что у него не было коленей. И в отличие от позолоченного брюха, от памяти моей сейчас зависела судьба планеты, не говоря уже о собственной жизни.
Что за дьявольская штука человеческая память. Какой своевольной, капризной, непредсказуемой она бывает. Покладистая наша служанка, она вдруг взбрыкивает и отказывается работать. И не выговоришь ей, не призовешь к порядку, не польстишь, не посулишь награды. И нет тогда с ней сладу, и чем больше просишь ее выудить искомое, тем упрямее отказывается она это сделать.
Ведь знал, знал же я это проклятое имя! Арроба и… Снова и снова я повторял имя бесплотного эбра, беседовавшего со мной в подземелье, надеясь с разгона поймать и второе имя, которое могло мгновенно превратить меня из осужденного смертника в почитаемого благодетеля. Да что благодетеля — существо высшего порядка! При исступленной любви неживых к своим господам они бы боготворили любого, кто принес им надежду на встречу с ними.
Я специально уводил память от эбров. Я вспоминал какие-то случайные пустяки. Я воссоздавал в памяти все гастроли нашего цирка за время, что я надел свой серебряный цирковой костюм. Словно издеваясь надо мной, память услужливо подсовывала не только города, но и манежи цирков, гостиницы, номера, в которых я жил. В Лионе на стене моего номера висела гравюра, изображавшая Наполеона в окружении офицеров на высоком холме. На заднем плане видны были корабли в гавани. Подпись гласила (насколько моих скудных познаний во французском хватало) «Лагерь в Булони». На переднем плане лежал ствол пушки. В этом месте гравюра под стеклом сморщилась, и пушка была волнистой, и мне все время хотелось разгладить ее.
Это был маневр, чтобы усыпить бдительность памяти. Я специально задерживался в лионском отеле, снова и снова возвращаясь к великому полководцу. Он недовольно указывал рукой на гавань, выговаривал что-то двум офицерам с обнаженными головами. Вид у офицеров был растерянный. Покладистым характером Бонапарт, кажется, не отличался.
Ну а теперь сразу: как же звали второго эбра? Я помнил, что имя было коротенькое… коротенькое… Интересно, сколько тысяч, десятков и сотен тысяч имен можно составить из четырех, пяти букв.
— Ну что же, пришелец? — вдруг услышал я голос неживого.
— Я долго ждал, но ты не торопишься.
Я совершенно забыл о нем, но он не забыл обо мне. Он не забывал своих обещаний. Белые кольца на запястьях и лодыжках слегка сжались. Нет, они еще не причиняли мне боль, они просто напоминали о себе. Они предупреждали о грядущей боли.
— Шестой, — сказал я, — пока еще имя второго эбра не всплыло на поверхность. Но оно в моей голове. Когда Варда в первый раз доставил меня сюда, вы копались в моей голове. Вы перетряхнули ее. Я чувствовал, как вы это делали. Я видел перед собой образы, которые не могут быть на Элинии, потому что эти люди остались на моей планете. Тогда вы не спрашивали разрешения, чтобы проникнуть в мой мозг. Я понимаю, это было необходимо хотя бы для того, чтобы вы усвоили мой язык. Теперь я прошу тебя: войди в мою память, перерой ее, но вытащи из нее это проклятое имя. Это же нетрудно.
— Нет, — слегка покачал головой робот.
— Почему? Объясни мне.
— Я не верю тебе. Я не хочу тебе верить. Я хочу, чтобы тебе было больно, потому что ты враг. Ты ненавидишь нас. Ты пытался поднять на нас корров.
Все было бесполезно. Имя было коротенькое, всего несколько звуков. Оно скользило в памяти легкой тенью. То мне казалось, что вот-вот сейчас оно вынырнет на поверхность, то оно снова уходило в глубину.
— Войди в мою голову, Шестой, — взмолился я.
— Нет, — упрямо сказал он. И мне почудилось, что его глаза-объективы заблестели от садистского предвкушения моей казни.
Моей казни. Что за нелепые слова — моя казнь. Я же в двадцать первом веке, я гражданин прекрасной планеты Земля, где все люди стали братьями и понятие «казнь» благополучно перекочевало в историю. Моя казнь. Этого не может быть. Понятие казни, да еще моей было настолько уродливо, нелепо, что оно просто не укладывалось в сознании. Ни по размеру, ни по смыслу. Не было там для него места.
— Шестой, — сказал я, напрягая все свои силы, чтобы удержать отчаяние и страх в узде, — ты предупредил меня, что браслеты будут сжимать мои руки и ноги медленно.
— Да.
— Я прошу тебя растянуть пытку.
— Растянуть? Ты любишь боль?
— Нет, Шестой. Я надеюсь, что вспомню имя.
— Ты упрям.
— Ты ничем не рискуешь.
— Хорошо.
— Но ты будешь недалеко, чтобы я мог позвать тебя.
— Я буду совсем близко. Здесь. Рядом с тобой. Я хочу видеть твое лицо.
— Хорошо.
Паша Литвак, с которым мы дружили в детстве, окончил медицинский институт и стал хирургом. Как-то, еще до цирка, мы встретились с ним, и он сказал: «Хочешь, я проведу тебя на операцию? Завтра мой шеф делает уникальную операцию по реставрации сердца, а я ассистирую. Я посажу тебя вместе со студентами. Это потрясающее зрелище — следить за шефом. Он просто фокусник. У него гениальные руки. За эти руки ему можно даже простить дурацкую привычку рассказывать во время операции пошловатые анекдоты». Я с содроганием отказался. Я боялся крови, боялся страданий. Чужой крови и чужих страданий.
Я машинально отметил, что думаю о себе уже в прошедшем времени: я боялся крови. Не боюсь, а боялся. Вещая ошибка. Я боялся. Я жил. Я боялся страданий.
А теперь меня ожидали мои собственные муки. Я непроизвольно погладил рукой браслет, словно упрашивая его пощадить меня. Браслеты были белые, похожие на безвредные украшения.
Мне показалось, что давление чуть усилилось. Моя казнь. Слова эти меня по-прежнему не касались. Чья-то еще казнь, но не моя. Со мной этого случиться не могло.
Живи я лет на сто пятьдесят — двести раньше, я бы молился. Но молиться было некому, и я знал, что заклинания мои бесполезны. Я не мог пробить броню упрямой злобы, что заставляла робота смаковать пытку. Так любить и быть полным такой мстительной злобы… Значит, был у его любви к господам и этой непреклонной жестокости общий знаменатель.
Вскочить, броситься на неживого… Браслеты тут же сомкнутся. А я все еще надеялся на чудо. Может быть, Курри? Нет, что-то похожее, но не Курри. К сожалению, не Курри. Я бы запомнил это имя. Курица, курить… Нет. Не курица и не курильщик. Но почему-то не хотелось отпускать эти имена. Было что-то в комбинации звуков такое, что заставляло меня… Я даже затаил дыхание. Вот только бы сердце не бухало так о ребра, если бы и оно могло замереть, чтобы не спугнуть надежду.
Осторожно, безмерно нежно, как берут в руки выпавшего из гнезда птенца и чувствуют под рукой испуганную барабанную дробь крошечного сердечка, я держал на ладони два слога: Ку-ри. Имя эбра бродило где-то совсем рядом, я был в этом уверен. Браслеты сжались сильнее, но я не обращал на них внимания. Даже если бы они крушили мои кости, я бы даже не взглянул сейчас на них.
Су-ри. Ту-ри. Тихонечко, не торопиться. Последняя надежда. Если эти слоги не приведут за собой товарища, который спасет меня, больше рассчитывать мне не на что. Ру-ри, Чу-ри…
И вдруг кто-то ясно и четко произнес в моей голове: Бурри. Ну конечно же, как я мог столько времени бродить в потемках кругом да около такого простого имени. Бурри.
Я не закричал от радости, и не вскочил на ноги. Кессонная болезнь заключается в том, что ныряльщик чересчур быстро поднимается с глубины на поверхность и растворенные под давлением в его крови газы вскипают пузырьками и закупоривают сосуды. Поэтому поднимаются водолазы медленно, с остановками.
Я был на слишком большой глубине отчаяния, чтобы сразу вынырнуть на поверхность. Не я чувствовал это, какие-то инстинкты помогали мне.
Я молчал. Я ощутил на глазах слезы. Браслеты снова сжались, но я не боялся их. Я больше не узник, приговоренный к казни. Я повелитель. Я держу судьбу в своих руках прочнее, чем держат меня белые кольца.
— Ты здесь, Шестой?! — спросил я, стараясь, чтобы в голос мой не просочился восторг освобождения.
Должно быть, он что-то почувствовал, потому что подкатился ко мне и испытующе навел на меня объективы.
— Здесь.
— У тебя хорошая память, неживой?
Я задал вопрос, и вдруг меня пронзила холодная, как льдышка, мысль, которую я давно уже подсознательно гнал от себя: а вдруг он не помнит такого имени?
— Источник оживляет нашу память.
— Прекрасно, неживой. В машине, что находится в Больших развалинах у Зеркальных стен, хранится сознание Арробы…
— Я уже слышал.
— Молчи. И Бурри. Этого имени вы, роботы, мне не говорили.
— Как ты сказал? — тихо спросил робот.
— Я сказал, Бурри! — крикнул я.
— Ты произнес имя Бурри? — снова переспросил Шестой.
— Да, я произнес имя Бурри. Это имя назвал мне Арроба.
— Значит, ты действительно говорил с незабвенным моим господином? — спросил Шестой, и шар его расплющился, расплылся, от чего он стал сразу ниже.
— Ты же не верил мне, робот.
— Господин Бурри… Я вижу его перед собой. Это хозяин того, кого ты называешь Пятым… Высокий, всегда серьезный, всегда куда-то торопящийся… Господин Бурри… Этого не может быть, — прошептал он.
— Может, может, и ты прекрасно знаешь это.
— Да, это правда. И все же я не могу поверить, что услышу голос моего возлюбленного создателя. Господин Арроба… Когда он настраивал меня, и я еще путал комнаты, он всегда был терпелив, и прикосновение пальцев его к регуляторам было сладостным и успокаивающим. Юуран, это правда! Я больше не хочу быть неживым. Я живой! Я трепещу от предвкушения встречи. Я расплющиваю перед тобой мой шар в знак благодарности. Прости, Юуран, что не сразу поверил тебе. Все эти бесконечные вращения светила, один, разлученный навсегда с господином, с памятью о нем, которая тоже стремилась выскользнуть из меня, я стал печален, равнодушен. Я был несправедлив и жесток, Юуран. Прости, если можешь… Когда господин Арроба возвращался домой, я еще издали слышал его сигнал и мчался к двери с такой скоростью, что мой повелитель смеялся. «Эдак ты скоро и летать научишься, малыш», - говорил он. Он похлопывал меня по голове, и я чувствовал, как таю от любви. Я услышу его голос.
Шестой вдруг надул свой шар, сделал круг и снова осел передо мной. Если бы у него был хвост, он бы сейчас выбивал им дробь о землю.
— Мы сейчас же отправимся… Нет, но… О! Я даже не сказал Пятому! Как я мог не сказать Пятому! Я позову его. — Он замолчал, посылая, очевидно, сигнал.
Вскоре вкатился Пятый. Он вопросительно посмотрел на товарища.
— Спусти перед Юураном шар! — простонал страстно Шестой.
— И вымолим вместе прощение!
Пятый недоуменно переводил объективы с робота на меня и с меня на робота.
— Это все правда! Все, что он говорил, правда! Наши господа ждут нас.
— На-ши? — испуганно спросил Пятый.
— Да. Господин Арроба и господин Бурри.
— Господин Бурри?
— Да, господин Бурри. Или ты забыл имя своего хозяина?
— Господин Бурри, — прошептал Пятый в экстазе.
— Они ждут нас. Бесплотные, лишенные тел. Они ждут нас. Мы им нужны. Мы пойдем к ним. Юуран поведет нас.
Пятый повернулся ко мне, спустил шар и нагнул голову.
— Прости, — прошептал он. — Прости, если можешь.
Я ничего не ответил. Мне не хотелось ни мстить, ни унижать их. Я чувствовал себя безмерно опустошенным и усталым. Хотелось закрыть глаза, отпустить швартовы, в которые я так судорожно вцепился, и спокойно отплыть, покачиваясь, в исцеляющий сон.
С легким шорохом белые кольца соскользнули с моих рук. Оба робота стояли передо мной на спущенных своих шарах с почтительно наклоненными головами. Они слегка покачивались, и я пытался понять, засыпаю ли я, или они действительно покачиваются. Но когда с них стали спадать бесконечные кольца, я понял, что засыпаю, что сплю.
6
Когда я рассказал неживым о развалинах с летучими мышами, которые я нашел в самом начале своей одиссеи, они решили, что сумеют добраться до подземелья без помощи корров.
— Так будет лучше, — сказал Третий.
— Почему?
— Неужели ты не понимаешь? Нас могут увидеть эллы. Они ненавидят корров.
— Хорошо, что эллы не знают нас.
— Почему вы так в этом уверены? — спросил я. — Многие эллы побывали у вас…
— Все равно нам спокойнее отправиться без корров, — сказал Шестой. — И будем торопиться, пока мы полны энергии после утреннего омовения в источнике.
Это была странная процессия, и не раз я жалел, что нет у меня никакой аппаратуры, чтобы запечатлеть ее, все осталось в моем кубике с зеркальными стенами.
Впереди шел я, за мной катилось четверо неживых. Все роботы рвались в эту экспедицию, но решено было, что со мной отправятся только четверо: Пятый и Шестой, которые рвались на свидание с духами своих создателей, Третий и Одиннадцатый. Остальные оставались с коррами.
Когда дорога была более ровной, неживые полностью надували шары и катились быстрее, на неровностях они снижали в них давление и замедляли ход.
— Юуран, — сказал Третий после нескольких часов движения, — скоро будут развалины, о которых ты говорил. Мы начинаем чувствовать слабость.
— Скоро, по-моему, скоро.
Мы шли, наверное, еще с час, но развалин с летучими мышами все еще не было видно.
— Я больше не могу двигаться, — сказал Третий.
— Мне кажется, — пробормотал Одиннадцатый, — пришелец обманул нас.
— Молчи! — крикнул Пятый. — Он ведет нас к эбрам!
— Не к эбрам он ведет нас, а к гибели. Еще немножко — и мы навсегда останемся здесь. Остатки энергии вытекут из нас, глаза засыплет пыль…
— Хватит! — прошипел Пятый.
— Не трать зря энергию, — сказал Шестой. — Пусть остаются, если хотят. Пусть ждут, пока за ними придут корры и потащат их на себе к источнику.
— Ты прав.
Они полностью надули шары, которые стали жесткими и подпрыгивали на камешках, а не обтекали их, как обычно. Катиться так было, очевидно, неудобно, но потери энергии меньше.
— Стойте, — сказал Одиннадцатый, — я больше не могу катиться.
— Я тоже с трудом вращаю шар, — подтвердил Третий. — Нам надо остановиться и решить, что делать.
— Останавливайтесь, если хотите, — сказал Шестой.
— Нам некогда, — добавил Пятый. — Нас ждут.
— Но у вас ведь тоже кончается запас энергии.
— Мы будем катиться, пока в силах хоть раз повернуть шар.
Не знаю, одинаково ли они умели запасать энергию, или любовь к создателям добавляла Пятому и Шестому сил, но они оставили двух других неживых далеко позади. Еще через полчаса Шестой дернулся, остановился, и шар его начал медленно расплющиваться.
Пятый мельком взглянул на него и продолжал движение. Я остановился около неподвижного робота и сказал:
— Осталось совсем немного. Развалины вон за тем поворотом.
— Я не могу катиться.
— Если Пятый докатится до источника, он вернется, чтобы поделиться с тобой энергией.
— Нет, — прошептал Шестой. — Он не вернется, он будет торопиться к своему господину.
Я вспомнил читанную когда-то восточную притчу. Два человека бредут по пустыне. У одного из них прохудился мех с водой, и она вся незаметно вытекла. Оставшейся воды не хватит, чтобы оба добрались до ближайшего колодца, и оба знают это. Что должны они делать? — спрашивает притча и отвечает: если они оба простые смертные, человек с полным мехом оставит товарища и пойдет вперед. Если человек с водой святой, он разделит воду пополам. Пусть они и не дойдут, но не дойдут вместе. Но если человек с водой ангел, он отдаст ее товарищу, чтобы дошел тот.
Мои роботы были не святыми и не ангелами, в этом я уже успел убедиться. Сейчас они лишний раз подтвердили, что подлость не остается в одной лишь части уравнения, она обязательно выплывает в решении его.
Я догнал Пятого и почти сразу же увидел развалины. Как и в прошлый раз при нашем появлении откуда-то выпорхнули тучи крылатых тварей. С шорохом, со свистом они заметались над нашими головами, и писк их сверлил уши:
— Опасность! Опасность! — пищали они.
— Это стражи развалин, — зачем-то сказал я и сделал шаг вперед. Как и в прошлый раз, я плавно взлетел вверх. — Смелее, робот. Если вы способны воспринимать эту энергию, здесь ты сможешь вволю запастись ею.
Пятый с трудом перевалился через торчащий край обрушившейся стены и замер. У неживых нет черт лица, у них, строго говоря, нет и лица, но я физически чувствовал облегчение и наслаждение, которые испытывал Пятый. Он покачивался, то напрягая шар, то снижая в нем давление.
— С самого рождения, — сказал он, — мы знали, что энергию можно пить только маленькими глотками, особенно когда испытываешь жажду. Сразу глотать ее опасно. Почему так — я объяснить не умею, но мы все знаем это. Но сейчас я не сдерживаю поток, что вливается в меня. Я тороплюсь.
Через несколько минут он объявил, что готов двигаться дальше, и мы вернулись на дорогу.
— Куда ты? — спросил я, видя, что он двинулся вперед.
— Как куда? К Зеркальным стенам.
— Надо вернуться и поделиться энергией с Шестым.
— Зачем?
— Чтобы и он мог докатиться.
— Но я здесь при чем?
— Помоги ему.
— Мне некогда.
— Вернись, он же твой товарищ.
— Но он остановился. Он не может катиться, — упрямо сказал Пятый.
— Значит, нужно помочь ему. До Зеркальных стен недалеко, и даже если ты поделишься энергией, вам обоим хватит добраться до места.
— Я понимаю твои слова, Юуран, но я никак не могу понять их смысла. Я тороплюсь, я полон энергии, источник налил меня до краев, я трепещу при мысли о встрече со своим создателем, а ты задерживаешь меня разговорами о Шестом. Почему? Разве ты не вызвался сам довести нас до подземелья?
— Вот-вот. Ты сказал «нас». Вы вышли вместе. Шестой разрядился. Он не может вращать шар. У вас ведь сильные умы. Разве ты не можешь представить, что сейчас творится в сердце твоего товарища?
— Что такое сердце?
— Неважно. Пусть не сердце. Пусть мозг. Пусть логические схемы. Пусть что угодно.
— Я понимаю. Я знаю, что он страдает. Мысль его тянется туда, где ждет господин, а шар больше не может повернуться ни разу.
— А он не ждет, что ты поделишься с ним энергией?
— Странная мысль. Нет, конечно. Как он может ожидать столь нелепого поступка? Энергию можно пытаться отнять, но как можно делиться ею, когда она нужна мне самому?
— Ладно, не будем обсуждать нравственные проблемы. Я прошу тебя вернуться и поделиться энергией. Мы не можем бросить Шестого.
— Ты не логичен, Юуран. Мы же оставили позади еще двух неживых. Почему ты не требуешь, чтобы я возвратился и к ним?
Я вздохнул. Универсальная софистика себялюбов. Если я не могу помочь всем, то зачем помогать этому или тому.
— Возвратись и поделись энергией с товарищем, — твердо приказал я. — Иначе мы не двинемся с места, а без меня ты никогда не найдешь вход в подземелье Больших развалин.
— Но я…
— Твой господин будет недоволен, если по твоей вине Арроба останется без своего слуги.
Пятый повернул обратно. Шестой стоял на обочине дороги и походил на странный гриб. Шар его полностью расплющился, и он медленно поднял голову, глядя на нас.
— Мы вернулись, чтобы помочь тебе, — сказал я.
— Я обессилен. Я не могу двигаться, мысли мои текут медленно и путаются.
— Пятый полон энергии, он поделится с тобой.
— Что значит понятие «поделиться»? Я не понимаю, что ты хочешь сказать.
— Он отдаст тебе часть своей энергии.
— Почему? — недоуменно спросил Шестой.
— Ты недоволен? Может быть, ты не торопишься к своему господину? Может быть, я скажу Арробе, что его слуга не хотел прикатиться к нему?
Робот низко опустил голову и издал звук, похожий на стон.
— За работу, Пятый. Ты должен как-то подсоединиться к нему?
— Нет, это делается проще. Я просто отдаю ему часть энергии.
Он стоял недвижимо, оборотясь к товарищу, а тот оживал на глазах: шар его начал округляться, голова поднялась с груди.
— Спасибо, — прошептал он, глядя на меня.
Я хотел сказать ему, что он вовсе не похож сейчас на того робота, который совсем недавно предвкушал удовольствие от пыток, уготованных мне, но услышал какой-то звук и обернулся. К нам бежали с десяток корров. Впереди несся рыжий Хиал, тот самый, что чуть было не размозжил мне голову. А рядом с ним бежал Варда.
— Юуран! — крикнул он и бросился ко мне. Дыхание его было прерывисто, бока ходили, и коричневый мех почернел от пота. Но в глазах светилась радость. Он осторожно коснулся рукой моего лица. — Юуран, — повторил он.
Остальные корры окружили нас кольцом. Хиал несколько раз глубоко вздохнул и сказал:
— Юуран, ты должен простить меня. Теперь мы поняли, что Варда говорил правду. Ты говорил правду. Неживые лгали нам. Лгали? — крикнул он, подступая к роботам.
— Мы научили вас добру, — сказал Шестой.
— Мы помогли вам выйти из леса. Вы перестали быть животными, — добавил Пятый.
— Какому добру? Убивать эллов? Когда Варда пытался открыть нам глаза, мы гневались, потому что мы привыкли жить с закрытыми глазами. Нам не нужны были свои глаза, мы все видели вашими. Мы не верили Варде, не хотели его слушать. Мы чувствовали, что поверить ему значило понять, кто мы на самом деле. Увидеть, что мы не благородные корры, несущие добро трехглазым и гордые найденным смыслом существования, а глупые, обманутые твари. Творящие зло. Истинное зло, которое мы в своей глупой слепоте принимаем за добро. И в самодовольстве своем не желающие ничего видеть и слышать.
— Это ложь, — твердо сказал Шестой. — Вы прекрасно знаете, что мы ваши учителя.
— Вы заставляли нас служить вам, — сказал Курха, выступая вперед.
— Мы никогда никого не заставляли ничего делать насильно, — сказал Пятый. — Ответь, Курха, так? Хоть раз мы прибегали к насилию? Почему ты молчишь?
— Да, не прибегали. Вам не нужно было насилие. Вы пользовались обманом. Вы знаете, что он порабощает сильнее, чем насилие.
— Какой обман? — крикнул Шестой. — В чем обман? Почему вы слушаете безумного Варду, который предал ваше дело, ушел к трехглазым? В чем обман? О чем вы толкуете? Разве неправду мы говорили вам, когда рассказывали о Семье эллов, в которой у них не было даже имен, в которой они не могли ни радоваться, ни печалиться? Разве получил бы какой-нибудь элл без нас имя? Вы говорите, что мы обманывали вас, а на самом деле это Варда сбивает вас с толку, потому что он хочет предводительствовать вами.
— Послушайте, корры, — пробормотал невысокий корр, — может, мы поторопились? Все-таки неживые действительно многому научили нас.
— Лгать они нас научили, — печально сказал Курха. — И убивать. И ты это знаешь, Раху.
— Вы убивали не для удовольствия, — сказал Шестой. — Вы поставили перед собой благородную цель освободить эллов от рабства Семьи и стремились к ней. Но не всем доступно бескорыстное благородство. И те, кому оно непонятно, пытаются объявить его злом. Плохо, плохо вы еще усвоили принципы любви, если вас так легко сбить с тропы мудрости.
— Слова, — угрюмо сказал Хиал, сжимая и разжимая огромные кулаки. — Вы ими ловко швыряетесь, лучше, чем камнями. Вы нас одурманили словами. Не успевали облака налиться дневным оранжевым светом, как вы уже начинали опутывать нас словами: долг, любовь, мудрость, добро. Вы затыкали ими наши глотки, вы залепляли ими наши глаза, набивали ими наши головы. А сами строили планы, как превратить нас в покорных слуг…
— Ложь! — крикнул Пятый. — Вы добровольно слушали нас, потому что вы видели в наших словах правду.
— Мы встретили на пути двух неживых. Почему вы бросили их, если вы учите нас добру? — спросил тихо Курха.
— Вы ничего не сказали нам, — сказал Хиал, — когда отправились к Зеркальным стенам. Да, мы не хотели верить Варде, когда он пытался открыть нам глаза на ваши истинные планы, но когда вы бросили все и помчались к Зеркальным стенам, мы поняли, что он говорит правду. И мы кинулись за вами. Варда объяснил нам, что вам нужна энергия, новые источники.
— Ложь! — взвизгнул Пятый. — Уничтожьте Варду, он предатель! — Он дернулся вперед и поднял щупальца, но Варда увернулся.
— Уничтожить — хорошее слово, — пробормотал Хиал. — Это как раз то, что нужно сделать с вами. — Он нагнулся и поднял с дороги увесистый камень. — Вот ответ на ваши слова.
— Хиал, — пробормотал Курха. — Обожди, нельзя так…
— Мы слишком долго ждали.
— Хиал прав, — вздохнул Варда.
— Но ведь уничтожить неживых — тоже зло, — задумчиво сказал Курха. — Мы бежим от одного зла к другому.
— Зло надо уничтожать, так вы нас учили, учителя? — насмешливо спросил Хиал, перебрасывая камень из руки в руку.
Я не знал, что делать и что сказать. Варда был прав, и я чувствовал невольную симпатию к простодушному Хиалу. Для него ощущение правоты означало действие. Сначала оно было направлено на мою голову, а теперь увесистый с острыми краями аргумент в его руках адресовался неживым.
И сомнения бедного Курхи я мог понять. И я думал так же, как он. Но в отличие от них я видел еще мысленным взором и мерцающие всполохи света за прозрачными стенами в подземелье. Я знал, как страстно ждут два бесплотных духа, обреченных на вековое ожидание, освобождения. Знал и все еще испытывал постыдную, навязанную мне любовь к ним. Я должен бы привести неживых в подземелье.
— Ты молчишь, Юуран? — недоуменно спросил Варда. — Ты ничего не хочешь сказать нам?
Я хотел крикнуть коррам, что убивать нельзя, но мои голосовые связки были парализованы. Не мог я защищать неживых, и не мог я благословлять их уничтожение.
— Видишь, Варда, он с ними, — угрожающе сказал Хиал.
— Юуран никогда не сделал никому ничего плохого! — пылко крикнул Варда. — Если он с ними, значит, у него есть какой-то план.
— Хватит! — взревел Хиал. — Хватит слов, планов, объяснений! Вот мой план! — Неуловимым движением он швырнул камень, и тот со звоном ударил в голову Пятого. Что-то брызнуло, какие-то светлые осколки разлетелись в стороны.
— Стойте! — застонал Курха.
— Бей! — крикнул Раху, нагибаясь за камнем.
— Бей, бей! — скандировали корры.
— Не трогайте Юурана! — кричал Варда.
— Плевать нам на твоего пришельца, раз он с неживыми! — кричал Хиал.
— Не прикасайтесь к нему!
— Он с ними!
— Бей!
— Топчи, топчи неживых!
Я не думал о себе. В голове билась лишь мысль об эбрах, замурованных в подземелье. Я должен был их освободить. С пронзительной ясностью я понял: если я не смогу привести к ним роботов, мне придется отдать им свое тело, свой мозг. Я не смогу поступить иначе. Иначе мина замедленного действия все равно взорвется во мне. Не соображая, что делаю, я схватил Шестого за щупальца и бросился вперед.
— Держите их!
— Нет!
— Я тебе дам нет!
— Смотрите, он встает!
— Ты попал в меня!
— Ты что делаешь? О-о-о…
— Держите их…
— Варда, ты что…
— Да я…
— А-а-а…
Крики затихали позади. Я не мог обернуться, у меня для этого не было мгновения. Мелькали в голове обрывки мыслей. Варда… без него бы… Не успеем… Надо…
Я никогда не мчался с такой скоростью. Дыхание перехватывало, ноги с каждым шагом делались все тяжелее и неповоротливее. Воздух загустел, и мне никак не удавалось наполнить им легкие. «Остановись! — вопили все мышцы тела. — Мы больше не можем». Мысль об остановке была сладостна, ей было трудно сопротивляться. Сердце колотилось короткими ударами: стой, стой, стой.
В спину что-то больно толкнуло, и я инстинктивно обернулся. На меня мчался Хиал. Руки его были пусты, он уже швырнул в меня камень.
— Шестой! — крикнул я.
— Теперь ты не уйдешь! — крикнул корр. Он опустил голову и бросился на меня. Он хотел сбить меня на землю. В последнюю долю секунды я отскочил в сторону и успел подставить ему ногу. По ноге ударил молот, и я упал. Падая, я видел, как упал и Хиал. Он тут же вскочил на ноги, чтобы снова броситься на меня, на этот раз уже в последнюю атаку, но Шестой схватил его щупальцами, поднял в воздух — я даже представить себе не мог, что неживые так сильны — и с силой швырнул наземь. Корр шмякнулся с глухим стуком, с каким падают тяжелые и мягкие вещи.
— Бежим, — прохрипел я, вскочил на ноги, но тут же снова упал. Боль в ноге была невыносимой. Сломал я ее, что ли… Неважно. Ничего больше не было важно. Все потеряло смысл. Я знал, что не смогу бежать, даже если бы все корры Элинии гнались за мною с пудовыми каменьями в руках.
Только что робот никак не мог взять в толк, почему нужно с кем-то чем-то делиться — не слишком они большие альтруисты, это уж точно, — но когда что-то касалось их самих… Шестой легко подхватил меня. Болела спина, правую ногу простреливали вспышки острой боли, я все еще никак не мог изловчиться и набрать полную грудь воздуха. Я вдруг почему-то увидел со стороны, как нелепый робот прижимает к холодному телу циркового артиста Юрия Александровича Шухмина и катит с ним по узкой дороге на своем шаре.
— Еще чуть-чуть. Скоро уже развалины, — прокаркал я хрипло. — Вот сейчас мы должны повернуть.
Еще через несколько минут мы были уже у той роковой плиты, с которой начались все мои злоключения. Труба была на месте, такая же ровная, как и тогда, когда я первый раз уподобился лемуру и пополз по ней, жмурясь от ярких облаков. И вдруг я понял, что робот никогда не сможет взобраться на плиту. Как бы он ни манипулировал своим шаром, ему не преодолеть препятствие. У шара просто слишком малый диаметр, чтобы вкатиться на метровой высоты кусок стены, на котором лежала плита.
— Ты не сможешь залезть на эту плиту, — сказал я, и Шестой поднял меня и опустил на плиту. — Один я не поползу.
— Почему один? — пробормотал неживой, и я увидел, как шар на моих глазах раздвоился, каждая половинка вытянулась, превращаясь в ноги.
Еще через минуту мы были внизу, в темноте колодца.
— Сейчас я нащупаю руками проход в коридор, — сказал я.
— Не надо, — прошептал Шестой. — Не надо ничего нащупывать. Я знаю, куда идти. Я слышу голос. О, я слышу голос! Иду, мой господин, иду, мой повелитель.
Он ринулся вперед, и я остался один. Я не мог идти за ним, я не мог опереться на ногу. Я опустился на пол. Я испытывал полную отрешенность. Эмоции мои не успевали за событиями. Я был пуст, легок. И боль пульсировала не во мне, а где-то в стороне, в плотном мраке.
Сердце постепенно замедляло галоп. Я уже не хватал судорожно воздух. Ощущение легкости и пустоты все усиливалось. Я был воздушным шаром — еще мгновение, и порыв ветра унесет его. Но вот пустота начала подниматься вверх, словно я находился в свободном падении, и взорвалась в голове фейерверком. Я не сразу понял, что произошло. Я лишь знал, что что-то случилось. И вдруг понял, почувствовал: противоестественная и рабская моя любовь к эбру, которую он, не спрашивая моего согласия, всунув в меня, ушла. Я был свободен. Мне было легко. Пусть я сижу в темноте со сломанной ногой и не знаю, что делать, все равно я больше не марионетка. И неважно, что не я сам оборвал нитки, за которые дергал бесплотный кукловод, а он, потому что занялся очередной марионеткой. Важно, что я обрел самый ценный на свете дар — духовную свободу. Никто больше не управлял моим сердцем и моим сознанием.
И раньше сквозь навязанную рабскую покорность я видел, чего стоят повелители неживых. Теперь, свободный, я испытывал огромное облегчение от мысли, что не должен больше служить им.
Я услышал шаги в темноте. По коридору кто-то шел к колодцу, на дне которого я сидел. Стены коридора засветились, и я в их зыбком свете успел увидеть элла. Он вошел в темь колодца, стены коридора погасли. Зато засветилось все вокруг меня. Да, это был элл. В нем было что-то странное, но что именно, я не понимал. Он прошел мимо меня и посмотрел вверх, где виднелся кусочек неба.
— Элл, — пробормотал я, — как ты попал сюда?
Он не ответил. Свечение стен усилилось. Труба, которая доставила нас вниз, плавно и бесшумно скользнула вверх.
— Как ты сюда попал? — повторил я. — И как ты думаешь выбраться?
— Я выйду, — сказал элл. — Но я не элл. Я эбр. Я Арроба, и я начинаю новую главу. Я не элл. Я не трехглазый.
— А я… Ты опустишь для меня трубу? — по-детски спросил я. Сейчас он исчезнет, а я останусь один. В темноте. Я уже знал, что свет, сочившийся из стен, погаснет, когда он уйдет.
— Нет.
— Почему?
— Ты больше не нужен, пришелец.
— Я привел тебе твоего слугу, Арроба. Я ничего не прошу, помоги мне только выйти.
— Нет.
— Почему?
— Я могу помочь тому, кто существует. Тебя нет, ты фикция. Ты позади. Впереди я не вижу тебя, стало быть, тебя нет.
Он не сделал видимого усилия, он просто начал медленно подниматься вверх, тем самым воздушным шаром, каким я только что чувствовал себя. Он подымался, и стены гасли за ним.
Вот он мелькнул на фоне неба и исчез. Я сидел на жестком дне колодца со сломанной ногой, не зная, сумею ли я вообще когда-нибудь выбраться отсюда, сидел в плотной, физически ощутимой темноте, вымотанный, выжатый, опустошенный и глупо улыбался. Я понимал, что с такой улыбкой в таких обстоятельствах я готов был для психокорректора, но ближайший психиатр был довольно далеко.
Мне было хорошо. Мне было противоестественно хорошо. В этой западне я был свободен. Выберусь я отсюда или нет — это было уже другое дело. А сейчас я ни о чем не хотел думать. Сейчас я был скупцом, наслаждавшимся своими сокровищами. Только сокровищами были не деньги, не золото, не драгоценные камни, а чувство освобождения от тягостного бремени постыдной любви. Я снова и снова раскладывал свое эмоциональное богатство: вот блестела теплым, нежным блеском любовь к Ивонне, вот ровно светилась глубочайшая привязанность к маме и брату, прыгали веселые искорки заботливой нежности к моим животным, сияла преданность родной Земле. Все свое, все вольно родившееся во мне, а не втиснутое в сознание чужой враждебной волей.
— Юу-ра-ан, — услышал я зов и поднял голову. Я не зря улыбался во тьме. Это был голос Варды.
— Я здесь! — заорал я во все горло. — Здесь, Варда, внизу.
— Как тебе помочь?
— Найди веревку.
— Хорошо, Юуран, я пойду к Верткому.
К тому времени, когда около меня зазмеилась веревка, я уже знал, что ногу я все-таки не сломал. Это был очень сильный ушиб.
Объединенные силы корра и элла не шли ни в какое сравнение с таинственной мощью неведомых машин, которые плавно меняли силу тяжести в колодце. Они тянули меня долго, рывками. Несколько раз мне даже казалось, что вот-вот веревка лопнет, но какой-то фильтр не пропускал в меня ни страх, ни дурные предчувствия. Я так и перевалился через край провала с глупой улыбкой, которая стала еще шире при виде Барды, Верткого и Первенца.
7
— А кто был этот элл, что вылетел, как пробка, из колодца? — спросил Варда. — Я видел его издалека, когда мчался сюда. Почему он оставил тебя внизу? И как он поднялся, кто его вытащил?
— Это был не элл, — сказал я.
— Но я видел его.
— Это был не элл. Это был эбр.
— Но я же видел элла. Элл выбрался отсюда.
— Я повторяю, это был эбр.
— А неживой? Он внизу? И кто такой эбр? — допытывался Варда.
— Пойми, Варда. Это был эбр. Он использовал неживого, превратив его тело в тело элла.
— Для чего?
— Он сам в этом теле.
— Юуран, ты говоришь странно, — участливо пробормотал Первенец. — Я ничего не понимаю. Что такое эбр? Как он может быть в теле неживого? Как неживой может быть эллом?
— Скажите, Первенец и Верткий, кто были ваши предки?
— Предки?
— От кого вы произошли?
— Что значит «произошли»?
— Кто был до вас?
— Мы ни от кого не произошли. Семья была всегда.
— Нет, братья, не всегда. Элинию некогда населял могущественный народ, который звал себя эбрами. Они умели странствовать по Вселенной, они умели подчинять себе силы природы, даже силу тяжести они заставили работать на себя. Они создавали роботов, которые преданно служили им.
— Неживых?
— Да. Это был беспокойный народ, полный гордыни от своего всесилия, снедаемый зудом новых открытий, нового знания, томимый неутолимой жаждой постоянных перемен. В какой-то момент самые мудрые из них поняли, что они слишком бездумны с силами природы, что они похожи на детей, которые играют страшными игрушками. Они почувствовали, что народ, не умеющий оглянуться, подумать, не желающий признавать никого, кроме себя, обречен.
Эти мудрецы стали пророками. Они призывали своих соплеменников осмотреться, внять предзнаменованиям, а их было много. Сила тяжести оказалась покоренной не до конца, и то и дело землю сотрясали толчки.
У эбров было по два глаза, но пророки открыли в себе третий глаз, как символ своего стремления увидеть то, что остальные эбры не хотели видеть.
— И мы… — прошептал Первенец и не закончил фразы.
— Да, — сказал я. — Вы потомки эбров, трехглазых эбров, оставшихся в живых после страшного Большого Толчка, который покрыл планету бесчисленными развалинами.
— Но Семья… — недоуменно пробормотал Верткий.
— Я думаю, катастрофа так потрясла выживших, что они прокляли не только бездумное знание, которое привело к ней, они прокляли всякое знание. Они прокляли жажду знания, и чтобы жажда эта больше никогда не томила их, они объединили всех эбров в Семью, лишили их имен, своего «я», своих чувств и эмоций. Они стали не эбрами, а эллами. Они выбросили из своей памяти прошлое, чтобы прошлое не вернулось.
Осталась в живых после Большого Толчка и горстка неживых, которые тихо угасали, живя воспоминаниями о своих господах.
Но перед самой катастрофой эбры заложили на всякий случай сознание нескольких своих соплеменников в машины, спрятанные глубоко под землей, и машины хранили их спящее сознание, пока я случайно не наткнулся на одну из таких машин.
Сознание одного такого эбра — его имя Арроба — в неживом, которого я привел сюда. А эбры умеют изменять форму вещей.
— Ты привел сюда неживого? — недоуменно спросил Первенец.
— Почему?
— Может, ты заодно с этими… эбрами, пришелец? — Верткий подозрительно посмотрел на меня.
— Нет, братья. Иначе Арроба не бросил бы меня одного в колодце. Потом, потом я все объясню вам. Знайте только, что Арроба заставил меня помочь ему.
— Значит, элл, которого я видел… — начал было Варда, но я прервал его:
— Да. Это Арроба.
— Что же нам делать?
— Мы убьем его! — крикнул Верткий.
— Не торопись, не уподобляйся сам бездумным твоим предкам, брат Верткий, — сказал я.
— Его нужно убить, — упрямо повторил Верткий.
— Он опасен. Видишь, даже тебя он заставил служить себе, — вздохнул Первенец.
— Мы можем его найти, — сказал Варда. — Далеко уйти он не мог.
— Братья мои, — сказал я, — вы должны сами решать, как вам поступить. Я здесь не для того, чтобы отдавать вам приказы, думать за вас и решать за вас. Но я могу сказать, что думаю. Да, Арроба может быть опасен, хотя пока что это единственный эбр, воскресший после вековой спячки. Пусть он умеет менять форму, пусть в его власти окажется горстка неживых, но пока что он не представляет для вас прямой угрозы.
— Он не такой, как мы, — фыркнул Верткий.
— Ну и что?
— Ему нет здесь места.
— А он скажет: трехглазые не такие, как я. А поэтому их надо убить. Выходит, надо убивать всех, кто не похож на тебя? У тебя имя, Верткий, а многие члены Семьи до сих пор предпочитают жить по-старому, без имени. Значит, и их надо убить? А корры должны убивать эллов и с именем и без, потому что те и другие ходят на двух ногах, а не на четырех. Так?
— В твоих словах мудрость, Юуран, — тихо сказал Первенец.
— Может быть, — упрямо сказал Верткий, — но я нутром чувствую, что лучше не рисковать. Сегодня один эбр, завтра их станет больше, а послезавтра они опять превратятся во властелинов. Его нужно убить. Ты согласен, Варда?
— Не знаю. Мой ум разделился на две части. Одна идет за Юураном. Другая бежит за тобой.
— Решайте сами, братья. Это ваша планета и ваша история.
Я ждал прилета «Гагарина», писал отчет о пребывании на Элинии, делал снимки, думал о своих новых братьях и о том, что случилось с Арробой. Хоть он и хозяйничал без спроса в моей голове, я больше не испытывал к нему ненависти.
А случилось с ним вот что. Пока я пытался приобщить Первенца, Варду и Верткого на краю колодца к идее терпимости, Арроба шел мимо Зеркальных стен. Его увидел Тихий и уставился на него.
— Прочь с дороги! — приказал Арроба. — Ты мешаешь мне пройти.
Но Тихий, казалось, не слышал его слов. Он словно завороженный смотрел на него.
— Прочь, трехглазый! — крикнул Арроба и шагнул вперед.
Из-за угла показался Узкоглазый.
— Что здесь у вас происходит? — спросил он Тихого.
— У него… — пробормотал Тихий, — у него два глаза! Какая странная голова. Никогда не видел такого… Может, он болен?
— Прочь! — еще раз крикнул Арроба и толкнул Тихого.
— Для больного он довольно боек, — хмыкнул Узкоглазый.
— Ему нужно помочь, он качается, — сказал Тихий. — Я никогда не видел элла с двумя глазами…
— Жалкие твари! — взревел Арроба, отшвырнул Тихого и помчался вперед.
До лагеря неживых он добрался благополучно.
— Я Арроба. Я эбр и ваш повелитель, — сказал он неживым, и они почтительно расплющили перед ним свои шары и протянули к нему щупальца. — Я вернулся, чтобы возродить величие эбров и двинуться дальше, и мне нужна ваша помощь.
— Мы счастливы повиноваться, господин. Но мы дряхлы и немощны. Мы едва поддерживаем силы с помощью источника.
— Мне не нужны беспомощные старцы, — грозно сказал Арроба.
Несколько дней он потратил на приведение роботов в порядок, а вскоре один из них пробурчал:
— Ты, конечно, наш повелитель, но мы уже привыкли жить сами…
— Робот, молчать! — скомандовал Арроба.
Наверное, они слишком долго ждали возвращения господ. И слишком боготворили память о них. Раз за разом обращалось светило вокруг Элинии, они дряхлели, слабела их память. Их создатели уходили от них все дальше в прошлое и, уходя, становились все прекраснее, все идеальнее.
Они думали, что мечтают о возвращении господ. На самом деле они давно уже отвыкли от служения им. Мессия хорош, пока он не вернулся. Во плоти он не нужен. Наяву мечта обернулась тяжким трудом и требованиями беспрекословного повиновения.
Сначала робко, не веря своей смелости, они начали огрызаться, потом отказывались выполнять команды.
— Не для того мы ждали их возвращения, — вздыхали они и не оканчивали фразу, потому что сами не знали для чего.
— Раньше корры служили нам, а теперь… — говорили другие.
— А может, это вовсе не настоящий господин, наши господа были справедливы, и нам было хорошо, — вздыхали третьи.
— Наверное, так…
Как-то Арроба в припадке гнева бросился на робота, не подчинившегося ему, а тот попытался схватить его щупальцами.
— Разобрать его! — приказал Арроба.
Неживые окружили бунтовщика, но остановились в нерешительности.
— Мы жили тихо и спокойно, — сказал бунтовщик. — Мы вспоминали господ и, даже угасая, были, наверное, счастливы. Пришел господин, и оказалось, что я больше не испытываю радости, подчиняясь.
— Схватите его! — еще раз крикнул Арроба.
— Сегодня вы разберете меня, а завтра он прикажет схватить другого. А потом уже некому будет хватать и некого будет хватать.
Роботы все еще стояли в нерешительности, и Арроба крикнул:
— Вы не должны рассуждать, когда вам приказывает господин. Вы созданы для подчинения. Ваша радость — в беспрекословном подчинении. Вы не имеете права существовать вне подчинения. Такими вас создали, и только такими вы можете быть.
— Мы жили тихо, — сказал бунтовщик. — Нам служили корры…
— Вы не жили, — загремел Арроба. — Вам казалось, что вы жили. Вы медленно выходили из строя, одна за другой отказывали ваши тонкие аналитические системы, я до сих пор не могу привести вас даже в относительный порядок.
— Мы жили, — упрямо сказал бунтовщик.
— Вы созданы слугами, — презрительно сказал Арроба. — Вы машины. Вы не имеете права думать, хотеть и сомневаться.
— Может быть, когда-то мы были действительно машинами. Но мы слишком долго жили одни…
— Вы рабы, — презрительно крикнул эбр.
— Наверное, рабы не могут оставаться рабами без своих господ. Мы тоже думали, что мы рабы. Но мы отвыкли от слепого повиновения.
— Вы ни от чего не отвыкли, просто ваши логические цепи требуют ремонта и настройки.
— Мы не хотим ремонта и не хотим больше настройки.
— Уничтожьте его! — закричал Арроба. — Робот, выходящий из повиновения, должен быть уничтожен.
— Мы давно уже не роботы.
— Молчать! Вы унижаете своего господина.
Арроба оттолкнул неживого, стоявшего перед ним, и кинулся на бунтовщика, но тот схватил его щупальцами и поднял над головой. Эбр мгновенно вошел в мозг робота, чтобы очистить его от ненависти и заполнить любовью к себе.
— Ты господин, и я хочу служить тебе, — пробормотал робот. — Я сделаю так, чтобы тебе было лучше, чтобы никто не унижал тебя. — И он швырнул эбра наземь…
Меня провожали эллы, корры и даже неживые.
— Мы всегда будем считать тебя своим повелителем, Юуран, — сказал Первенец.
— Я не хочу быть повелителем, — пробормотал я, чувствуя, как предательски увлажняются мои глаза. О небо, как же я стал сентиментален… — Я хочу остаться вашим другом.
— Ты и есть друг. Друг-повелитель.
— Ты помог коррам стать свободными, — сказал Варда.
Неживые молча расплющили шары.
Такими я их всех и запомнил.
Как-то я читал какой-то роман, в котором звездолетчик возвращается из космоса, опаленный просторами Вселенной, с глазами, в которых застыла бесконечность мира. Он пытается вернуться к земной жизни, ко все на Земле кажется ему чужим.
Со мной все было наоборот. Как только на меня с визгом набросились мои пудели, как только прижалась ко мне Ивонна, Элиния плавно опустилась в самый нижний слой памяти. Она стала нереальной. Она и не могла быть другой в теплой, пульсирующей реальности Земли.
Поэтому-то я не сразу согласился еще раз пережить возвращение на планету оранжевых облаков.