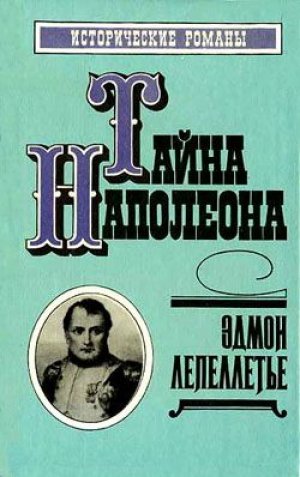
I
Ждали императора.
Победоносный властитель судеб Европы, предложив России свою дружбу и предписав Пруссии свою волю, в ближайшее время должен был совершить торжественный въезд в Париж. Согласно его приказаниям, Жозефина должна была устраивать приемы, приглашать членов дипломатического корпуса и поддерживать императорское достоинство. В честь новой герцогини Данцигской в Тюильри тоже был устроен торжественный вечер.
Весь большой свет, живший и интриговавший вокруг Жозефины, живо интересовался этим приемом. Все спрашивали друг друга с усмешкой, как это удастся новоявленной герцогине поддержать свой ранг. Тут было раздолье для злых языков. С плохо подавляемым смехом вспоминали, что герцогиня была когда-то прачкой.
Большинство из этих брызгавших ядом женщин было низкого происхождения, и не у одной из них в прошлом бывали темные истории и скандальные анекдоты. Но добрая Екатерина пользовалась незапятнанной репутацией, ее любовь к мужу слыла даже чудачеством.
Прачка, маркитантка, генеральша, жена одного из старших офицеров империи, а впоследствии даже и маршала, во время своего благородного существования как дочери народа, превратившейся в знатную даму, знала только одну-единственную любовь – это к Лефевру, своему мужу.
Он же, со своей стороны, хранил ей полную верность, крайне редкую среди вояк империи. Он не обладал даже простительными и допускаемыми его положением слабостями: Наполеон мог мимоходом обманывать императрицу, а Лефевр только покачивал головой и говорил: «Это – единственная область, в которой я не буду следовать примеру императора?» – а потом с откровенным смехом простодушного героя прибавлял, обращаясь к своим адъютантам, менее щепетильным в этом отношении:
– Видите ли, если бы я обманул мою Катрин, то это помешало бы мне как следует потрепать пруссаков! Я стал бы все время думать об этом, терзаться угрызениями совести, ну а когда приходится сражаться подобно нам – одному против двадцати, тут необходимо иметь совершенно чистое сердце!
Честный Лефевр нисколько не стыдился своей супружеской верности. Впрочем, необходимо заметить, что в отношении порядочности, верности и героизма он составлял счастливое исключение среди своих соратников. Этот деревенский Ахиллес, вышедший из народа, отказавшийся когда-то стать коллегой Карно и Барраса в директории, так как не считал себя способным для этого, любил только три вещи на свете: жену, родину и императора. Остальные маршалы смеялись над ним и не следовали его примеру; впоследствии они с такой же легкостью обманули Францию и Наполеона, с какой изменяли своим женам, не остававшимся, впрочем, в долгу перед ними.
Вечер у императрицы был уже в полном разгаре, когда появилась Екатерина Лефевр, Каролина и Элиза, сестры Наполеона соперничали в дерзости и бесстыдной распущенности. Каролина, супруга Мюрата, была королевой неаполитанской, Элиза же обладала только княжествами Лукка и Пьомбино. Отсюда проистекали глухая вражда и эпиграмматическая война между сестрами.
В блестящем кружке, теснившемся вокруг Жозефины, на первом плане виднелся Жюно, губернатор Парижа, бывший сержант, которого Наполеон сделал своим адъютантом, а потом и дивизионным генералом; он все время вертелся около королевы неаполитанской.
Их связь уже давно стала достоянием скандальной хроники двора. Карета Жюно оставалась во дворе дома Каролины до очень поздних часов. Мюрат, занятый войной, не подозревал ни о чем. Жюно, первоклассный стрелок из пистолета, неоднократно хвастался, что сделает Каролину вдовой по первому ее желанию. Их сдерживало единственное опасение: приезд императора. Во время его отсутствия все при дворе распускались до последних пределов, не зная ни границ, ни меры. Но достаточно было одного только известия о его прибытии, как все эти рептилии, из которых воля, слава и гений Наполеона сделали видных особ, становились тише воды, ниже травы. Только две отвратительные мегеры, которых он имел несчастье звать своими сестрами (Полина Боргезе, сестра Наполеона, которая после смерти первого мужа, генерала Леклерка, вышла замуж за римского аристократа Камилла Боргезе, как самая обыкновенная проститутка, не могла идти в счет), решались бравировать гневом грозного завоевателя. Он имел безумие любить, обожать своих родных, несмотря на все их ничтожество, и осыпать их своими милостями. Но история Каролины с Жюно сильно рассердила его после возвращения в Париж. Он упрекал Жюно в явной компрометации неаполитанской королевы и в наказание сослал его в Португалию, дав звание посланника и сан герцога д'Абрантеса. Как видно из этого, гнев Наполеона не был слишком страшен, когда обрушивался на старых солдат, не имевших других заслуг, кроме его расположения, и мечтавших, подобно этому ничтожному Жюно, стать наследником его трона, женившись на его сестре.
В тот день, когда Екатерина Лефевр должна была отправиться к Жозефине, ее муж, бравый маршал, завтракал с императором.
Во время завтрака, который подавал камердинер Констан, Лефевр совершил несколько неловкостей. Каждый раз, когда Наполеон обращался к нему со словами: «господин герцог», Лефевр вздрагивал и оборачивался, разыскивая глазами того человека, которому было адресовано это обращение.
Наполеон любил пошутить. Он знал, что Лефевр честен и беден. Он сделал его герцогом, а теперь захотел сделать его также и богатым человеком.
За завтраком, на котором присутствовал еще и Бертье, он вдруг спросил маршала:
– Вы любите шоколад, герцог?
– Да, ваше величество! Я очень люблю шоколад, если вам угодно; люблю все, что вы любите!
– Ну ладно, так я подарю вам фунт. Это данцигский шоколад. Должны же вы попробовать изделие того города, который вы завоевали.
Лефевр молча поклонился. Он не всегда понимал, что говорил ему император, и зачастую боялся ответить какой-нибудь глупостью, а потому в таких случаях он молчал и ждал, что будет дальше.
Наполеон встал, взял с маленького столика коробочку, достал оттуда продолговатый пакет, имевший форму фунта шоколада, и протянул его Лефевру, говоря:
– Герцог Данцигский, примите этот шоколад. Маленькие подарки укрепляют дружбу!
Лефевр без церемоний взял пакет, засунул его в карман мундира и снова уселся за стол, сказав:
– Благодарю вас, ваше величество, я отдам это в госпиталь. Говорят, что для больных шоколад очень полезен.
– Нет, – улыбаясь, ответил император, – пожалуйста, не отдавайте никому и оставьте у себя. Очень прошу вас об этом!
Лефевр поблагодарил, но внутренне выругался: «Что за странная идея у императора дарить мне шоколад, словно любовнице!»
Завтрак шел своим чередом.
Наконец подали пирог, представлявший собой город Данциг, мастерское произведение императорского повара. Император обратился к Лефевру:
– Невозможно было бы дать пирогу другую форму, которая больше бы понравилась мне! Вам, господин герцог, принадлежит право первому дать сигнал к атаке. Это – ваша добыча, так вы и должны первым оказать ей честь! – И с этими словами Наполеон передал Лефевру нож.
Маршал разрезал пирог, и все трое нанесли крепости жестокое поражение зубами.
Маршал вернулся к себе в восторге от любезности императора.
– Как жалко, что там не было Катрин! – сказал он, вздыхая. – Я не помню, чтобы его величество был в лучшем настроении. Но что за странный подарок – этот данцигский шоколад!
Он машинально развязал пакет, данный ему Наполеоном. Там под шелковой бумагой оказались триста тысяч франков ассигнациями. Это был подарок новому герцогу для поддержания его ранга. С того времени между военными (Лефевр и не подумал скрывать милость императора) всякие неожиданные награды получили название «данцигского шоколада».
Благоволение императора к маршалу должно было бы защитить его жену от всякого злоречия и язвительных уколов, но обе сестры Наполеона и те дамы, которые заискивали перед ними, не желали упустить такой благоприятный момент, как прием у императрицы, чтобы лишний раз поиздеваться над Екатериной и попрекнуть ее низким происхождением.
Обстоятельства благоприятствовали этим ядовитым бестиям.
Екатерина Лефевр в парадном туалете, с искусной прической, вздымавшейся на голове в виде громоздкого сооружения, на вершине которого развевался громадный ток из белых страусовых перьев, в придворном платье с длинным шлейфом и в крайне стеснявшей ее мантии из светло-голубого бархата с золотыми пчелками и с герцогскими коронами, вышитыми по углам, появилась на пороге салона сияющая и в то же время смущенная.
Утром она вместе с Деспрео упражнялась в церемониале представления в качестве герцогини, место которой было подле императрицы наравне с королевами и, желая не ударить в грязь лицом, мысленно повторяла свою роль.
Толстый, величественный, краснолицый дворецкий, который уже много раз прежде впускал ее в Тюильри, поспешил провозгласить как можно громче:
– Ее высокопревосходительство супруга маршала Лефевра!
Екатерина повернулась к нему в пол-оборота и пробормотала:
– Ах прохвост! Он не знает своей роли.
Тем временем императрица, сойдя с трона, пошла навстречу Екатерине. Всегда очень любезная, Жозефина такими словами приветствовала жену победителя северной крепости:
– Как поживаете, герцогиня Данцигская?
– Что мне делается? Я крепка, как Новый мост! – без стеснения ответила Екатерина. – Ну а вы, ваше величество, надеюсь, тоже здоровы? – Затем, повернувшись к невозмутимому дворецкому, она сказала ему с жестом полного удовлетворения: – Что, съел, мошенник?
Герцогиня при подавленных смешках и многозначительных перемигиваниях заняла место в кругу дам.
Хотя императрица и старалась смягчить всеобщую недоброжелательность, обращаясь к новой герцогине с милостивыми словами, но Екатерина заметила, что над нею смеются Она стиснула зубы, чтобы не наброситься на этих нахалок и не заткнуть им глотки.
– Что нужно от меня этим фуриям? – пробормотала она. – Ах, если бы император был здесь, вот-то отвела я бы душеньку, отчихвостив их как следует!
В то время как среди дам поднялся оживленный разговор, темой для которого была Екатерина, взбешенная, что не может ничего ответить им, к ней подошел какой-то выбритый субъект с худощавым, хитрым лицом, на которого большинство придворных смотрело с особым вниманием, казавшимся одновременно полным как презрения, так и страха.
– Вы не узнаете меня, герцогиня? – спросил он, кланяясь Екатерине с притворной вежливостью.
– Нет, никак не могу узнать, – ответила Екатерина, – а между тем я готова поклясться, что когда-то прежде мы с вами встречались.
– О, да! Мы старые знакомые. Но встречались мы с вами в те давно прошедшие времена, когда вы… еще не были облечены тем высоким саном, с которым я имею честь поздравить вас ныне!
– То есть вы хотите сказать – когда я была прачкой? О, не стесняйтесь, пожалуйста, я нисколько не стыжусь прошлого. Да и Лефевр тоже. Я до сих пор храню в шкафу свой скромный костюм работницы, а Лефевр сохраняет мундир сержанта гвардии!
– Ну так вот, герцогиня, – продолжал этот человек с вкрадчивой речью и мягкими манерами, в которых что-то напоминало отчасти священника и весьма – бандита, – в ту отдаленную эпоху я однажды имел удовольствие находиться в вашем обществе на одном из общественных балов. Ведь я был вашим клиентом, почти другом. И вот уличный чародей предсказал вам, что вы станете герцогиней.
– Да, я помню этого предсказателя счастья. Сколько уж раз мы с Лефевром вспоминали его! Ну, а вам-то он что-нибудь предсказал тогда?
– Как же! Мне он тоже составил гороскоп и предсказал будущее. Его предсказания мне так же сбылись, как и у вас!
– Неужели? А что он предсказал вам?
– Что я стану министром полиции, и я стал им! – ответил он с тонкой улыбкой.
– Так вы – господин Фушэ! – вздрогнув, сказала Екатерина, несколько обеспокоенная соседством этого страшного человека, в котором она женским инстинктом угадывала предателя.
– К вашим услугам, герцогиня! – произнес он шепотом, склоняясь перед ней в изысканном придворном реверансе, а затем поспешил сейчас же предложить свои услуги, так как, видя доказательства особой милости императора к Лефевру и его жене, хотел завоевать расположение новоявленной герцогини. – У вас здесь найдется немало завистников, даже врагов, так позвольте мне оградить вас от некоторой опасности. Не давайте этим дамам пользоваться вашей неосторожностью, а отчасти и незнанием придворных обычаев.
– Вы очень милы, господин Фушэ, – добродушно ответила Екатерина. – Я с благодарностью принимаю ваше предложение. Вы давно знакомы со мной и знаете, что я не люблю церемоний. Но я отлично понимаю, что бывают вещи, о которых нельзя говорить в обществе. Но только я зачастую не отдаю себе отчета, развяжу язык – и поехало! Вы-то понимаете в этом толк, так как министру полиции надо все знать и уметь быть хитрым.
– Существуют вещи, которые я знаю, и такие, которых я не знаю, – скромно ответил Фушэ. – Так вот, герцогиня, не разрешите ли вы мне кричать «огонь» – ну, как это делается в игре в жмурки! – говорить это всякий раз, когда вы слишком смело понесетесь прямо в одну из тех западней, которыми обильно усеян наш двор.
– С удовольствием, господин Фушэ, вы бесконечно обяжете меня! Ведь я не имею никакого понятия о придворных обычаях. Да и откуда знать их мне, бросившей утюг для того, чтобы взяться за манерку маркитантки!
– В таком случае следите за мной и каждый раз, когда я ударю вот так, двумя пальцами по табакерке, остановитесь. Это значит «огонь»!
Фушэ при этих словах два раза слегка ударил по эмалированной коробочке, в которой держал нюхательный табак.
– Хорошо, господин Фушэ, я не буду терять из виду ни вас, ни вашу табакерку!
– Главное – мою табакерку!
Покончив с этим, они последовали за императрицей, которая повела приглашенных в соседний салон, где был накрыт ужин.
II
Злословие и сплетни в адрес Екатерины Лефевр не прекратились и с переходом общества в столовую.
Королева неаполитанская Каролина и ее сестра Элиза собрали вокруг себя кое-кого из добрых друзей, которые надрывались в насмешках по поводу новоявленной герцогини, припомнив следующий пикантный анекдот.
Однажды исчез очень красивый бриллиант, который хранился у Екатерины в шкатулке с драгоценностями. Она очень быстро заметила эту пропажу и заподозрила полотера, так как только он один и мог пробраться в комнату, где был этот ларчик. Рыцарь вощения полов энергично отпирался. «Обыскать его!» – приказал полицейский агент, которого позваи слуги из боязни, чтобы не заподозрили и их. Полотера обыскали по всем правилам искусства, его даже раздели донага, но ничего не нашли.
– Эх, дети мои! Ничего-то вы в этом не понимаете! – сказала Екатерина, присутствовавшая при обыске. – Если бы вам пришлось, подобно мне, видеть за работой Сен-Жюста, Леба, Приера и других комиссаров конвента, которым чуть не ежеминутно приходилось обыскивать солдат, сержантов и даже полковников, мародерствовавших среди населения, тогда вы знали бы, что для мошенников существуют другие тайники, кроме карманов, чулок и шляп. Ну-ка, пустите меня!
И затем с обычной бесцеремонностью, которая могла бы показаться очень смешной, если бы в данном случае дело не грозило кончиться для обыскиваемого трагически, Екатерина лично принялась обыскивать раздетого донага полотера и вскоре вытащила украденный бриллиант из такого интимного отверстия, что полицейскому даже в голову не пришло искать.
Это приключение наделало много шума, и добрые души из придворных дам не могли удержаться от смеха, когда в ответ на их лицемерно участливые просьбы Екатерина наивно рассказала им все детали своего обыска.
Элиза хотела доставить себе и обществу удовольствие, заставив герцогиню рассказать эту историю в присутствии императрицы. Она постаралась навести Екатерину на эту тему, и та уже была готова попасть в расставленную ей ловушку, когда легкое покашливание заставило ее обернуться.
Она увидала, что стоявший в нескольких шагах от нее Фушэ нервно барабанил по табакерке.
«Черт возьми! Он мне кричит „огонь“! Значит, я опять чуть-чуть не сделала глупости! Хорошо, что Фушэ предупредил меня. Я считаю его канальей чистейшей воды, но он все же может дать хорошее указание», – подумала Екатерина и, будучи очень умной и смелой, решила сейчас же проучить всех этих псевдовеликосветских дам, которые стали богатыми и сановитыми только благодаря милостям Наполеона.
Она подошла к кружку насмешниц и, глядя в упор на Каролину и Элизу, сказала им со смутившей их иронией:
– Черт возьми, ваше величество и вы, ваша светлость, вы делаете слишком много чести такой бедной женщине, как я, разговаривая о том, как мне удалось поймать воришку… опасного вора, злодея-вора, лакея, полотера, который не был ни маршалом, ни королем, ни родственником императора. Таких бездельников только и ловят, других же берегут, перед ними пляшут, приседают! Нет, ей-Богу, я была не права, что не оставила украденного бриллианта этому несчастному, раз столько коронованных воришек спокойно грабят империю и делятся между собой награбленным у бедной Франции добром!
Слова Екатерины произвели громовое впечатление на блестящую свиту неаполитанской королевы. Фушэ подошел поближе и бешено забарабанил пальцами по табакерке.
Но Екатерина закусила удила, она не хотела останавливаться и, притворяясь глухой к предупреждениям Фушэ, продолжала, в упор глядя на пришедших в ужас дам:
– Да, да, император слишком добр, слишком слаб! Он, который не знает, что такое деньги, он, воздержанный, экономный, способный прожить на капитанское жалованье, дает всем проходимцам, которых его милость подняла из рядов подонков общества, возможность грабить, воровать, открыто разорять нацию и утаивать народные деньги. Да, да, не полотеров, которые пользуются драгоценностями, брошенными в комнате, а маршалов и королей, созданных императором, следовало бы обыскать как следует, раздеть донага!
Голос Екатерины дрожал от злобы. Сильная непоколебимой честностью Лефевра, Екатерина Сан-Жень полными пригоршнями кидала правду прямо в лицо нахалкам, проходимцы-мужья которых грабили империю, дожидаясь, пока можно будет изменить императору.
Каролина неаполитанская была смела, да и гордость от сознания, что она королева, еще больше придавала ей храбрости.
– Герцогиня, вероятно, хотела бы вернуть нас к эпохе республиканских добродетелей! – сказала она с презрительным смехом. – О, вот-то были славные времена, когда все говорили друг другу «ты», а человек, слишком часто мывший руки, уже вызывал подозрение!
– Не смейте оскорблять солдат республики! – промолвила Екатерина дрожащим голосом, – они все были героями, как Лефевр! Они сражались не так, как сражаются ваши мужья, ваши любовники, – ради чинов, привилегий, майоратов, ради возможности нажиться за счет народных денег. Солдаты республики сражались, чтобы освободить угнетенный народ, чтобы разбить оковы рабства, прославить Францию и защитить свободу. Те, кто явился после них, сражаются тоже храбро, но их привлекает не сама слава, а то, что она может принести. Они ищут лишь добычи, которая загромождает фургоны кавалеристов, предводительствуемых – правда, с большой отвагой – вашим королем Мюратом. Император не видит, что в тот день, когда войскам придется думать не о наживе, а о том, как защищать родину, когда им придется бороться за опустошенный Эльзас, быть может, даже за Шампань, – все эти славные победители потребуют отдыха. Никто из них не захочет сражаться за отечество ради одной только чести; все потребуют мира, все заголосят, что Франция истощена, что ей необходим отдых. Да, нашему дорогому императору еще придется пожалеть о солдатах республики! Когда в минуту опасности он будет искать вокруг себя друзей, то найдет только мужей королев, которым очень важно будет прежде всего сохранить случайно добытые ими троны!
Каждое слово было пощечиной для смущенных принцесс. Элиза резко встала и сказала Каролине:
– Пойдем отсюда, сестра; мы не умеем разговаривать на одном языке с прачкой, которую слабость нашего брата сделала герцогиней!
Обе они покинули зал с оскорбленным видом и сухим поклоном императрице, которая не могла понять, из-за чего рассердились ее свояченицы.
Фушэ подошел к Екатерине и сказал с легкой улыбкой:
– Вы говорили немножко слишком резко, герцогиня! Ведь я изо всех сил барабанил тревогу на табакерке! Но вы понеслись, и ничего не могло бы остановить вас!
– Не беспокойтесь, господин Фушэ, – спокойно произнесла Екатерина, – я лично расскажу все императору, и когда он узнает, как все это произошло, он только похвалит меня!
III
22 июня 1807 года Франция торжествовала победу. Лефевр взял Данциг; 14 июня Наполеон нанес поражение русской армии при Фридланде, а Сульт овладел Кенигсбергом.
14 июня была славная годовщина, и суеверный Наполеон назначил генеральное сражение на это чис-бо, бывшее днем Маренго.
Вся русская армия под командой генерала Беннигсена шла на Фридланд, чтобы прикрыть Кенигсберг. Около Фридланда извивается река Аль, на которой было наведено много мостов. Маршал Ланн с 10000 гренадеров и стрелков Удино, с гусарами и драгунами Груши поспешил преградить дорогу русской армии.
В три часа утра был открыт огонь. Дело обещало быть жарким и решительным. Это был натиск всех сил, которыми располагал русский император Александр, обещавший Фридриху Вильгельму попытаться решительным боем спасти Пруссию.
Ланн, у которого было гораздо меньше войск, находился в большой опасности, когда Мортье вывел в бой дивизион Дюша. В этот момент ядром убило лошадь под маршалом Мортье, но судьбой ему не суждено было умереть в этот момент. Ему пришлось встретить смерть не под неприятельским огнем в пылу сражения: много лет спустя, на бульваре Тамполь во время парада национальной гвардии он был поражен насмерть взрывом адской машины Фьекки, покушавшегося на Людовика Филиппа.
Сопротивление, оказанное Ланном, дало Наполеону возможность подойти. Он скакал галопом впереди своего эскорта, сияя доверчивой надеждой, в нетерпении поскорее лично вмешаться в дело и повести войска к победе.
Удино, весь окровавленный, в изорванном мундире, крикнул императору на ходу:
– Поторопитесь, ваше величество! Мои генералы больше не могут выдержать. Но дайте мне только подкрепление, и я прогоню русских ко всем чертям за реку.
Наполеон ответил безмолвным жестом и, остановив лошадь, стал в бинокль рассматривать поле сражения.
День уже клонился к вечеру. Ланн, Мортье, Ней, окружившие императора, советовали отложить продолжение сражения до следующего дня, говоря, что к этому времени по крайней мере можно будет собрать всю армию.
– Нет! – ответил император. – Необходимо продолжить то, что вы начали так хорошо. Не каждый раз удается поймать неприятеля на такой ошибке!
И он стал объяснять внимательно слушавшим маршалам, как он собирался смять русских, не принявших во внимание извилистого русла Аля, которое не позволит им развернуть надлежащим образом свои силы. С поразительной дальновидностью он тут же распорядился занять город Фридланд. Но для успешного выполнения намеченного следовало произвести атаку справа и отбросить русских к реке. Однако для того чтобы выполнить это смелое движение, надо было сначала поручить верному и бесстрашному командиру овладеть мостами, и с этим поручением император обратился к храбрейшему из храбрых, маршалу Нею.
Наполеон резко схватил его за руку и сказал, показывая на Фридланд:
– Вот туда следует идти! Ступайте все прямо и прямо, не оглядываясь ни назад, ни по сторонам! Врежьтесь в эту толпу людей и пушек! Разрушьте мосты! Займите Фридланд во что бы то ни стало! Не заботьтесь о том, что будет происходить справа, слева, сзади. Я останусь около армии, чтобы следить за всем и быть начеку. Ступайте, маршал, и дайте Маренго другую бессмертную годовщину!
Ней отправился в бой с таким энтузиазмом, что император, показывая на него, сказал Мортье:
– Теперь Ней уже не человек, а лев!
В то время как герой, которому было суждено погибнуть от пуль убийц реставрации, шел к мостам, энергично защищаемым русскими, Наполеон собрал своих генералов и с поразительным хладнокровием стал диктовать им свои инструкции из боязни, чтобы в пылу проведения намеченных маневров не были забыты его указания и желания.
Он поместил Нея справа, Виктора – между Неем и Ланном, Мортье – немного спереди, а позади – поляков под командой Домбровского и драгунов Латур-Мобура. Расположенная таким образом французская армия представляла собой внушительную массу в восемьдесят тысяч человек.
Приказание не наступать на левый фланг и ждать, пока русские будут смяты справа, было отлично понято и великолепно выполнено.
Огонь почти смолк. Русские думали, что сражение кончено по крайней мере на этот день. В молчании, которое было похоже на затишье, обыкновенно предшествующее взрыву бури, французская армия располагалась группами по намеченному Наполеоном плану сражения. Сигнал к началу боя должна была дать батарея из двадцати пушек, около которой поместился сам император.
Наполеон хотел дать передохнуть тем, кто держал в своих руках его счастье и славу Франции. Не обращая внимания на нетерпеливые вопросы генералов и выклики солдат, которым хотелось броситься на неприятеля, он спокойно дожидался окончания того обходного движения, которое должно было произойти согласно намеченному им плану, и только тогда дал сигнал.
Ней двинул своих людей вперед. Это было каким-то схождением в геенну огненную. Русская артиллерия расстреливала атакующих, и опустошения, вызываемые огнем, оказались столь значительны, что из колонн вырывались целые ряды сплошь, и пехота дивизиона Биссона остановилась в нерешительности.
Тогда Наполеон приказал генералу Сенармону перенести орудия в упор против русских батарей. Генерал отважно расположил свои орудия под огнем неприятеля, и сражение вновь разгорелось.
Русские, смятые беглым артиллерийским огнем, сами попали в мышеловку, поставленную Наполеоном. Тогда спрятанная в лощине императорская гвардия двинулась со штыками наперевес на русские войска. В страшной резне русские вынуждены были отступить, мосты были разрушены, сожжены, и маршал Ней соединился с генералом Дюпоном среди объятого пламенем Фридланда.
Словно механик, нажимающий на каждый рычаг в определенное для этого время и таким образом управляющий хорошо выверенной машиной, Наполеон приказал двинуть всю армию. Натиск отличался стремительностью и силой. Русская армия в беспорядке отступила под покровом мрака.
Было десять часов вечера; победоносный Наполеон, сойдя с лошади, закусил куском хлеба из пайка, который ему протянул солдат; это было его первой едой за весь день.
В тот момент, когда он подходил к бивуачным огням, чтобы обсушить промокшие при переправе через ручей сапоги, из рядов армии Ланна раздался громкий восторженный крик:
– Да здравствует император всего Запада!
Услыхав этот новый титул, которым окрестили его солдаты, Наполеон не сделал ни малейшего жеста удовлетворения или гордости; он только задумался и пробормотал:
– Император всего Запада! Это славный титул. Ах, если бы император Александр захотел вступить со мной в соглашение! Вдвоем мы разделили бы с ним весь мир!
И глубокий вздох вырвался из его груди.
Это было началом того, что называют наполеоновским безумием; союз с Россией был первым симптомом умственного расстройства великого человека, первым шагом к пропасти.
19 июня Наполеон дошел до берега Немана, реки, отделяющей Восточную Пруссию от России. Великая армия, отправившаяся из Булони в сентябре 1805 года, триумфальным шествием прошла через всю Европу.
После того как Австрия была раздавлена при Аустерлице, Пруссия уничтожена при Иене, Россия побеждена и деморализована при Фридланде, что же оставалось еще? Заключить мир? Да, но только с Англией, Австрией, Пруссией, а не с Россией, которая только искала случая, чтобы наброситься на Францию, дочь революции с неизменно демократическими убеждениями. К сожалению, Наполеон не предусмотрел этого.
Тайлеран и Фушэ – два великих предателя, близко стоявших к Бонапарту, – нашептывали ему о возможности женитьбы на великой княжне Александре Павловне, сестре русского императора. В данном случае они воздействовали на тайные мечты Наполеона жениться на принцессе царствующего дома, чтобы иметь наследника, дедушка которого занимал бы трон не по праву победителя, а в силу божественного права престолонаследия.
Великой княжне Александре Павловне в то время было около пятнадцати лет. Она была маленького роста и обещала быть очень красивой. В ней находили сходство с императрицей Екатериной Великой, особенно в орлином изгибе носа. Тщательно воспитанная княгиней Ливен, великая княжна обещала быть достойной супругой могущественного властителя.
Но в данном случае физические и нравственные достоинства значили очень мало. Наполеона, уже решившего порвать с Жозефиной, занимала только возможность союза с императором Александром, а потому он очень приветливо встретил князя Багратиона, явившегося предложить ему от имени русского императора мир.
Багратион предложил Наполеону устроить свидание императоров. Бонапарт был в восторге от возможности лично познакомиться с великим русским монархом, которого он победил и которого в тайниках своей души, недоступных ни для кого на свете, надеялся в скором времени назвать не только другом, но и шурином.
Свидание было назначено в Тильзите в час дня 25 июня 1807 года.
Генерал Ларибуазьер соорудил на Немане плот, на котором был построен павильон, украшенный тканями и коврами, найденными в Тильзите.
Наполеон и Александр одновременно отчалили от берегов и в час дня одновременно вступили на плот.
Наполеона сопровождали Мюрат, Бертье, Бесьер, Дюрок и Коленкур; свиту императора Александра составляли великий князь Константин Павлович, генералы Беннигсен и Уваров, князь Лобанов и граф Ливен.
Взойдя на плот, оба императора расцеловались на виду у обеих армий, расположившихся по берегам: крики «ура» и радостные возгласы приветствовали эту торжественную дружественную демонстрацию.
Декорация, на фоне которой происходило это свидание, отличалась странностью и меланхоличностью. Куда ни доставал глаз, везде виднелась бесконечная, бесплодная пустыня. Узкий Неман катил илистые воды по этим наносным землям, посреди которых виднелся маленький городок Тильзит, важный рынок Литвы; около города был высокий холм, на котором тевтонские рыцари когда-то построили укрепленный замок.
На правом берегу Немана виднелись мохнатые, страшные казаки с длиннейшими пиками в руках, сидевшие на лошадях такого же дикого вида, как и они сами; затем башкиры с примитивными колчанами и луками, мохнатые, бородатые люди с приплюснутыми носами, напоминавшие о нашествиях азиатских народов в былые дни. Рядом с этими восточными инородцами держалась русская гвардия, корректная, внушительная, вызывавшая восхищение высоким ростом солдатки строгостью зеленых мундиров с красной выпушкой. А левый берег был усеян толпой героев, испещренных нашивками, увенчанных плюмажами, разукрашенных прошивками, доломанами и меховыми шапками.
Сбежались и литовцы, и их крики «виват» смешались с возгласами обеих армий. Оба императора поцеловались, примирились – значит, теперь наступил мир, деревни перестанут быть местом боев, обработанные поля уже не будут вытаптываться кавалеристами и провозимыми пушечными лафетами. Значит, и оба народа тоже расцелуются и примирятся, как это только что сделали оба императора в этом павильоне, выросшем на воде посреди реки, оба берега которой как бы связывались таким образом новым союзом.
Повсюду слышались возгласы радости. Самые отчаянные рубаки были не прочь отдохнуть немного и вернуться во Францию, чтобы побыть с женами и покрасоваться рубцами и нашивками. В своей наивности все эти герои принимали за выражение искренности, за точное выражение мыслей государей то, что на самом деле было чисто дипломатическим поцелуем. Дальнейшие события не замедлили доказать им, что у политики нет сердца и что два государя могут наисердечнейшим образом целоваться, чтобы потом биться насмерть.
Не следует представлять человеческую природу хуже, чем она есть на самом деле. Быть может, император Александр Павлович был чистосердечен и искренен в этом сердечном приветствии Наполеона, с которым позднее отказался вступить в переговоры, считая его бандитом, человеком вне закона, так как он не был рожден королевой, потому что его корона была дарована ему шпагой и славой, потому что он олицетворял собой демократию, право гения добывать то, что другими наследуется. Император Александр был совсем молодым. Это был чистейший славянин, человек нервный и подвижный, впечатлительный, склонный к быстрой перемене решений. Ему было всего двадцать восемь лет, и, несмотря на свое поражение, он испытывал известную гордость при мысли, что ему пришлось помериться силой с победителем Европы, который при Эйлау и Фридланде не так-то легко справился с ним.
Поцеловавшись, оба государя заперлись в павильоне и приступили к переговорам.
На правом берегу блуждала еще третья личность меланхолически мещанского вида, внушавшая презрение и, быть может, жалость. Это был прусский король. Фридрих Вильгельм не получил приглашения присутствовать при свидании императоров; он поручил императору Александру защищать свои права и с боязливым нетерпением дожидался конца переговоров.
Оставшись с глазу на глаз, Наполеон, бросив на императора Александра один из тех чарующих взглядов, в которые умел вкладывать массу силы, сказал с глубокой сердечностью:
– К чему мы воюем? Нам следует побить одну только Англию!
– Если вы сердитесь на Англию и только на нее, то мы скоро сойдемся с вами, – ответил император Александр. – Я одинаково с вами ненавижу англичан: они обманули меня, бросили в минуту опасности.
– Если вы полны такими чувствами, то мир заключен! – сказал Наполеон, резко пожимая ему руку.
Разговор перешел на причины того недовольства, которое испытывала Россия против Англии.
Наполеон поклялся завоевать дружбу императора Александра, так как был очень занят мыслью о союзе с Россией. Он уже видел, что Англия будет окончательно раздавлена, а ее политическая роль будет кончена благодаря единодушию двух великих держав. Желая очаровать молодого царя, Наполеон уступал по всем пунктам. Он был победителем, и все-таки ему предписывали условия. В этот решительный и мрачный момент своей карьеры он безумно пожертвовал самыми явными интересами Франции ради двойной химеры – иметь союзниками казаков и башкир и стать супругом русской принцессы.
Император Александр не расставлял Наполеону никакой западни. Это сам Наполеон, поглупевший, сошедший с ума, опьяненный мыслью иметь Россию союзницей, императора Александра – другом, а его сестру – женой, все выпустил из рук, уступил, бросил…
Из всех ошибок, сделанных Наполеоном в последние годы его царствования, только одна была капитальной: в Тильзите, будучи безусловным хозяином положения, ему следовало восстановить польское королевство, а он, не сделав этого, лишил Запад его естественной защиты от угрожающего панславизма. Эта ошибка стоила Франции Ватерлоо, Седана и двух нашествий.
Наполеон хотел пленить императора Александра при этом знаменитом свидании, которое много раз было неправильно понято, ошибочно истолковано, но сам был обольщен им. В угоду своему новому другу, русскому царю, он пожертвовал Турцией, старинной и надежной союзницей Франции. Он обещал Оттоманской Порте никогда не вступать в переговоры с русскими, вечно стремившимися завладеть выходом в Средиземное море и взять Константинополь. Он позабыл это обещание, которое являлось задачей всей французской дипломатии, и дозволил императору Александру завладеть Молдавией и Валахией, и вместе с тем пожертвовал русским Персию. Что касается Польши, то, несмотря на слезы и чары прекрасной графини Валевской, отдавшейся ему напрасно, он предал ее. Эта спасительная преграда, этот оплот из народа и областей, малодоступных для набега, сделались не более как историческим выражением, над которым посмеется забывчивое потомство.
Что же предлагал красавец Александр в обмен за все эти дары, за все эти отданные ему во власть народы и уступленные территории? Он отделывался одними обещаниями, благосклонными улыбками, любезностями. Он заявил, что охладел к Англии, и, льстя династической мании Наполеона, соглашался признать новых королей, его братьев, только что возведенных им на шаткие троны. К чему обязывал его этот шаг? В дни бедствий император Александр мог преспокойно предоставить этим тронам рушиться и исчезать этим королям, которых он признал на минуту чисто из вежливости, и он же, как послушное орудие в руках Англии, нанес впоследствии смертельный удар поверженному гиганту. Рука Александра доконала его и кинула благородные останки героя во власть британского леопарда.
Маскируя лестью свое настоящее впечатление, русский государь, крайне холодный и превосходно владевший собой, видя, как легко в угоду ему Наполеон предавал своих верных союзников, как, например, Турцию, и отказывался воскресить Польшу, – вероятно, усомнился в прочности союза с Францией; с этой минуты он решил сдерживаться и оставаться другом великого человека лишь до первого поражения.
При прочих свиданиях, последовавших в нейтральном Тильзите, на которых император Александр неизменно обедал с Наполеоном, последний вздумал открыть перед честолюбием своего гостя неожиданную ослепительную перспективу.
Дворцовая революция обеспечила низложение султана Селима. Наполеону показалось ловким маневром предложить императору Александру раздел Турецкой империи. Русскому царю очень понравилось такое предложение: ему – Восток, Наполеону – Запад, они делили между собой земной шар, как двое наследников, пришедших наконец к соглашению, делят поле, долго остававшееся спорным.
В этот момент император Александр воскликнул, восторгаясь Наполеоном:
– Какой великий человек! Какой гений! Какая широта горизонта! Какая глубина ума! Ах, зачем я не знал его раньше! От скольких ошибок избавил бы он меня! Сколько великих дел совершили бы мы вдвоем!
Он воспользовался своим возрастающим влиянием на Наполеона, чтобы заступиться за прусского короля. Этого государя без королевства держали в почтительном отдалении. Все три монарха обедали вместе, а после обеда расходились, причем оба императора предоставляли прусскому королю изнывать в тоске ожидания, а сами запирались вдвоем в салоне и подолгу беседовали между собой.
Несчастный король Пруссии, которому угрожал раздел его государства, умолял императора Александра защитить его и добиться от Наполеона, чтобы его владения не были ограничены бывшими курфюршествами Бранденбургским и Саксонским, и думал поправить свои дела, вызвав к себе жену в расчете на то, что ее красота, обаяние и ум непременно подействуют на впечатлительного Наполеона.
Прусская королева Луиза, ожидавшая в городе Мемель результата переговоров, поспешила приехать. Ей было тогда тридцать два года, и она слыла первой красавицей в Европе. Она пыталась обольстить Наполеона, однако он, не доверяя ее искренности, остался глух и слеп ко всем обольщениям. Королева взялась за дело неискусно. В глубине души она ненавидела победителя, и ей не удалось прикинуться влюбленной в него до безумия. Роль женщины, внезапно охваченной страстью, Луиза сыграла как посредственная актриса, в исполнении которой прорывается плохо заученное с чужого голоса жалкое притворство.
Всем заискиваниям этой государыни Наполеон противопоставил равнодушие и ледяную твердость. Во время одного визита он вежливо поднес ей розу, взятую со стола.
– Ах, ваше величество, прибавьте к этому и Магдебург! – воскликнула королева вкрадчивым тоном, а затем, нюхая поднесенный ей цветок, склонилась к императору с влажным взором и с приветливой улыбкой и прошептала ему: – Ох, ваше величество, если бы вы пожелали быть великодушным… быть добрым! Как вас благословляли бы! Как любили бы!
– Ваше величество, – сухо перебил ее Наполеон, – вам следовало бы знать мои намерения; я сообщил их русскому императору, и он взялся передать принятое мною решение королю Вильгельму, так как императору Александру было угодно выступить посредником между нами. Эти намерения неизменны. То, что я сделал, сделано мной – должен сказать вам откровенно – только ради русского монарха. – И он удалился с поклоном. Это было сказано сухо и непреклонно.
Прусская королева, униженная как женщина, оказывалась окончательно лишенной своих владений как монархиня. И она затаила непримиримую ненависть к Наполеону и к Франции.
Что же касается ее малодушного и несколько смешного мужа, то оскорбления, которые наносил ему Наполеон, нарочно обращавшийся с ним как с коронованным ничтожеством, он принимал ближе к сердцу, чем потерю половины своих провинций.
Однажды Фридрих Вильгельм был особенно жестоко уязвлен во время катания верхом.
Наполеон, всегда ехавший впереди, пустил свою лошадь вскачь, насвистывая про себя и оставив прусского короля с Дюроком, и король робким тоном спросил последнего:
– Нужно ли следовать за ним?
Но побежденный король припомнил свое унижение, когда, сделавшись в свою очередь победителем, поступил неумолимо с тем, кто в сущности пощадил его.
Если Наполеон совершил в Тильзите громадную ошибку, поддавшись химере союза с Россией, то он сделал так же второстепенный промах, не раздавив своего врага, не раздробив прусских владений. Он разбил эту державу как раз настолько, чтобы внушить германскому народу желание отыграться и воодушевить его патриотизм. У Наполеона в руках было еще иное средство: он мог пощадить самолюбие прусского короля и сделать из него друга, покровительствуемое лицо. Фридриху Вильгельму только этого и было нужно. Но у него, к несчастью, не нашлось ни сестры, ни родственницы, которую он мог бы дать в супруги Наполеону, и по этой причине им пожертвовали без всякой жалости.
Тильзитский мир был подписан 6 июля 1807 года, а на другой день государи обменялись ратификациями.
Наполеон присутствовал на церемонии в андреевской ленте, император Александр возложил на себя знаки ордена Почетного легиона первой степени. Русская императорская гвардия и старая гвардия французов, выстроенные в боевом порядке, составляли шпалеры. Наполеон вызвал из строя русского гренадера и собственноручно повесил ему на грудь крест Почетного легиона среди восторженных возгласов обеих армий. Потом, когда барабаны забили поход, оба императора обнялись в последний раз и расстались.
Достопамятное свидание кончилось. Франция была в то время славной, торжествующей, Наполеон главенствовал в Европе, почтительно склонившейся перед ним, ослепленной его подвигами. Император Александр унес с собой искреннее восхищение полководцем-выскочкой да вдобавок к тому уступки, весьма выгодные для государя, оружие которого не одержало победы.
Прусский король поплатился своим достоянием за этот союз, но, скрывшись в Мемеле возле плачущей супруги, Фридрих Вильгельм обдумывал план мщения. Его поразили достаточно для того, чтобы ожесточить, но слишком слабо для того, чтобы отнять возможность реванша. А Наполеон, увлеченный своим воображением, обманутый миражем союза с Россией, стоя на вершине, куда вознесла его победа, начал спускаться по роковому склону, у подножия которого его подстерегали бедствия, отречение от престола, ссылка и смерть.
IV
Прошло три года со времени беседы Наполеона с Екатериной Лефевр под Данцигом, когда у него возникла мысль о необходимости вступить в брак с женщиной монархического происхождения, а он и не думал начинать развод с Жозефиной, не старался осуществить свою мечту о союзе с Россией, скрепленном его женитьбой на великой княжне Александре Павловне. Война с Испанией, австрийский поход не давали ему времени заняться этими делами.
Между тем стремление иметь наследника и основать династию путем женитьбы на дочери или сестре какого-либо монарха усиливалось все более и более в сердце Наполеона.
В Эрфурте он прямо сказал своему доброму другу, императору Александру о желании скрепить их союз, сделавшись его зятем. Царь выслушал этот проект не моргнув глазом и привел только одно возражение: сопротивление императрицы-матери. В то же время император Александр настоял на том, чтобы Польша была навсегда стерта с лица земли как нация и чтобы никакая мысль о возрождении этой несчастной страны не могла возникнуть ни при каких бы то ни было обстоятельствах.
Секретные переговоры о брачном союзе Наполеона с великой княжной Александрой Павловной были начаты Талейраном и Шампаньи. Для разбора этого важного дела Наполеон созвал 21 января 1810 года частный совет. В состав его вошли: государственный канцлер Камбасерес, король Мюрат, Бертье, Шампаньи, государственный казначей Лебрен, принц Богарнэ, Талейран, президент сената Гарнье, президент законодательного корпуса Фонтан и Марэ, исполнявший должность секретаря.
Император председательствовал. Он сообщил о своем желании расторгнуть брак с Жозефиной и спросил мнение советников относительно выбора новой упруги.
– Выслушайте, – сказал он им, – доклад де Шампаньи, а затем потрудитесь высказать мне свои соображения.
Шампаньи представил доклад о всех трех брачных союзах, среди которых можно было сделать выбор: о союзе русском, саксонском и австрийском.
При рассмотрении личных качеств трех принцесс оказалось следующее: дочь саксонского короля была уже несколько зрелой невестой, но редких достоинств; эрцгерцогиня австрийская отличалась красотой, прекрасным здоровьем и получила превосходное воспитание; сестра императора Александра, более юная, к сожалению, исповедовала религию, чуждую Франции, и ее восшествие на французский престол угрожало религиозными затруднениями. В таком случае потребовалось бы устроить в Тюильри православную церковь. Шампаньи, бывший посланник в Вене, рекомендовал, с точки зрения политических выгод, брачный союз с австрийской принцессой.
После этого доклада Наполеон собрал мнения, начиная с лиц, наименее способных подать правильный совет. Дебрен высказался за брак с саксонской принцессой, принц Евгений и Талейран объявили себя сторонниками австрийского дома, Гарнье одобрил Лебрена, говоря, что саксонский союз не нарушает ничьих интересов и соответствует главной цели императора – рождению наследника. Фонтан восстал против присутствия в Париже императрицы не католического вероисповедания. Марэ одобрил выбор эрцгерцогини, Бертье присоединился к нему, но Мюрат отверг брак, способный воскресить неприятные воспоминания о Марии Антуанетте, так как в брачном союзе с австриячкой французы могли бы усмотреть нежелательный возврат к старому режиму. Государственный канцлер Камбасерес, которого спросили напоследок, подал голос за русский союз. Вековой антагонизм Австрии и Франции он считал постоянной опасностью для трона, которая не могла быть устранена браком. Россия, удаленная от Франции, не имела причин сделаться ее противницей, а война с ней была бы опаснее и рискованнее, чем с Австрией. Таким образом он остановился на русском союзе.
Император отпустил совет, с чувством поблагодарив его участников, и отложил свое решение.
Предварительные переговоры с Россией продолжались с целью добиться согласия императрицы-матери. Коленкур, посланный к императору Александру для этого сватовства, назначил срок, но русский двор нарочно затягивал дело и не спешил с ответом. Там ссылались на состояние здоровья великой княжны да, кроме того, требовали постройки православной церкви в Тюильри, при которой должен был состоять штат православного духовенства.
Все эти промедления раздражали Наполеона, и его горячий темперамент побуждал к разрыву переговоров. Под этими оттяжками он чувствовал недоверие к себе, нежелание отдать за него дочь русского царя. Вопрос о православной церкви тоже задевал Бонапарта, да, кроме того, он был оскорблен поставленным ему условием: никогда не восстанавливать польское королевство. Поэтому его решение отказаться от брачного союза с русской великой княжной было вскоре принято.
Но сначала требовалось расторгнуть брак с Жозефиной.
Император любил ее, и дело не обошлось без жестокой нравственной борьбы, без настоящего внутреннего сопротивления, когда он готовился порвать эти крепкие узы привязанности и привычки.
Жозефина имела значительное влияние на своего супруга. Несмотря на зрелые годы и морщины, она по-прежнему казалась ему прекрасной и обольстительной.
Сделавшись женой, обаятельная креолка осталась для Наполеона любовницей, желанной и возбуждавшей его страсть.
После возвращения из Шенбрунна, загородной императорской резиденции около Вены, где он жил в тайной близости с графиней Валевской, которую оставил беременной, Наполеон решил ускорить развязку и реговорить с Жозефиной. Два последовательных доказательства, которые предоставили ему Элеонора де ла Плен и прекрасная полька, убедили его, что природа не отказывала ему в наследнике; и он задумал безотлагательно приступить к разрыву с Жозефиной, а после того сделать выбор между дочерью саксонского короля и дочерью австрийского императора. От дочери императора Александра Наполеон отказался уже окончательно.
После частного совета, на котором он собрал различные мнения, император, прежде чем объявить свое решение, пожелал посоветоваться в последний раз с Камбасересом. С этой целью он призвал его в Фонтенбло.
На утренней заре в кабинете, тускло освещенном догорающими свечами, свет которых боролся с розовым сиянием утра, сошлись Наполеон и его поверенный, государственный канцлер, и, обменявшись несколькими словами, касавшимися здоровья, вступили в разговор.
– Что я слышу? – сказал император Камбасересу. – В Париже в эти дни распространилась боязнь… там носились с неприятными новостями, битва под Эслингом показалась сомнительной. Неужели меня лишают доверия?
– Нет, ваше величество, вами по-прежнему восхищаются, вас любят, за вами готовы идти на край света. Если замечается боязнь, то она вызвана тем, что в последние месяцы было много поводов к тревоге: толковали о покушении на вашу жизнь в Шенбрунне.
– Напрасно беспокоились о таких пустяках, – поспешно ответил Наполеон. – Впрочем, тут есть доля правды. Я находился в Шенбрунне, где было большое стечение народа. Публика хотела полюбоваться нашими прекрасными победоносными войсками. Вдруг возле меня очутился молодой человек, которого я и сам приметил, потому что он много раз старался пробраться ко мне. Он размахивал бумагой, бывшей у него в руке; вероятно, то была какая-нибудь просьба. Однако Раппу что-то показалось подозрительным в его манере. Незнакомца схватили, обыскали и нашли при нем длинный нож без ножен.
– Это оружие предназначалось для вас, ваше величество?
– Да, арестованный сознался. Я допросил его сам и велел Корвизару освидетельствовать этого субъекта, предполагая, что он сумасшедший. Его имя Стаапс, он сын протестантского пастора из Эрфурта. Этот жалкий чудак говорил спокойно. На мой вопрос он ответил, что действовал один, без сообщников. Я полагаю, что он принадлежал к обществу филадельфов, последователи которого поклялись умертвить меня или дать убить самих себя. Ну что ж, это профессиональные опасности, сопряженные с должностью правителя! В Париже совершенно напрасно тревожатся из-за таких ребячеств!
– Это оттого, что ваша жизнь так драгоценна, ваше величество!
– Да, – продолжал Наполеон после минутного раздумья, – мне надо жить. Если бы я исчез, сраженный слепой пулей или глупым кинжалом, что сталось бы с делом рук моих, с моей Францией? Все рухнуло бы со мной. Я строил на песке, Камбасерес, и пора, если мы люди мудрые, даровать империи более прочные основы.
Государственный канцлер скорчил гримасу.
– Ваше величество, вы желаете иметь наследника. Я не имею в виду напомнить вам это желание, а только позволю себе заметить следующее: не говоря уже о неблагоприятном впечатлении, какое произведет в народе ваш насильственный разрыв с императрицей, это дело не обойдется без вмешательства духовенства, которое возбудит против вас общественное мнение.
– Я приведу наше духовенство к повиновению, как сумел удержать в границах папу! – надменно возразил Наполеон.
– Во всяком случае, ваше величество, остерегайтесь религиозных осложнений; если вы женитесь на католической принцессе, от вас потребуют расторжения тайного брака, совершенного накануне коронации.
У Наполеона вырвался жест досады.
– Этот брак недействителен, – сказал он, – не были соблюдены формальности.
– Однако вы соединились церковно в момент коронования. Без этой церемонии папа Пий Седьмой не соглашался на коронацию.
– Это правда! Феш обвенчал меня и Жозефину тайно в одной из комнат Тюильри, но без свидетелей. Это была пустая формальность из любезности, чтобы успокоить сомнения папы. Тут не было согласия; я только подчинился необходимости. Это подобие церковного брака не может послужить препятствием. Во всяком случае слишком поздно поднимать это возражение. Духовный суд и государственный совет разберут настоящее дело. Я призвал вас, Камбасерес, чтобы попросить о помощи. Подготовьте императрицу к важному разговору со мной о предмете, на который вы должны намекнуть ей заранее.
Камбасерес поклонился и, уходя от императора, пробормотал про себя:
– Он не хотел ничего слушать; его решение принято. Он поссорится с Россией, и мы заключим австрийский союз, иначе говоря, восстановим против себя всю Европу, и не пройдет трех лет, как нам придется разделываться с нею! Бедный император! Бедная Франция!
И Камбасерес с тяжелым вздохом, скорбно пожимая плечами, отправился на половину Жозефины.
V
Императрица уже давно готовилась к удару, который должен был так жестоко поразить ее. Хотя она и вытребовала у кардинала Феша формальное свидетельство о своем духовном бракосочетании, но Для поддержки своего звания супруги более полагалась на привязанность Наполеона, искреннюю и неизменную, чем на документы. Однако после романа с красавицей полькой и тесной близости между ней и императором в Шенбрунне могла ли Жозефина быть уверенной в том, что сердце Наполеона принадлежит ей по-прежнему?
Предупрежденная государственным канцлером, она явилась к супругу вся дрожа, со слезами, готовыми брызнуть из ее прекрасных, томных глаз.
Между супругами разыгралась короткая и мучительная сцена.
Дело происходило после обеда 30 ноября 1809 года, когда подали кофе, Наполеон сам взял чашку, которую поднес ему дежурный паж, и подал знак, что желает остаться один. Царственная чета в последний раз осталась наедине.
Наполеон высказал свое решение в коротких словах, стараясь казаться хладнокровным. Он кратко объяснил, что интересы государства требуют продолжения его рода, и по этой причине ему следует расторгнуть свой брак, чтобы заключить другой. Жозефина пробормотала несколько слов, напоминая о том, как она любила своего Бонапарта, как он платил ей взаимностью, и попыталась возбудить его нежность, напомнив о минутах блаженства, сладостных часах тесной близости, пережитых ими. Тут Наполеон резко перебил ее, опасаясь поддаться овладевавшему им волнению. Он чувствовал, что слабеет, и поспешил защититься жестокой, безжалостной фразой:
– Не пытайся растрогать меня, не рассчитывай повлиять на мое решение. Я не разлюбил тебя, Жозефина, но политика требует, чтобы мы расстались. У политики нет сердца, у нее только голова!
При этих словах Жозефина с громким криком упала без чувств.
Дежурный камер-лакей, стоя за дверью, хотел войти, думая, что императрице дурно, но не решился нарушить интимный разговор между супругами и сделаться очевидцем тяжелой сцены.
Наполеон сам выглянул из комнаты, позвал дежурного камергера де Боссэ и сказал ему:
– Войдите и заприте за собой дверь!
Де Боссэ последовал за императором. Он увидел на ковре плачущую Жозефину.
– Ах, я не переживу этого! Дайте мне умереть! – восклицала она среди рыданий.
Хватит ли у вас силы поднять императрицу и отнести ее в комнаты по внутренней лестнице, которая ведет в ее помещение? Государыне нужна медицинская помощь, – сказал Наполеон. – Погодите, – прибавил он, – я вам помогу.
И встревоженный император вместе с камергером подняли общими силами Жозефину, лежавшую в обмороке. Боссэ положил неподвижную императрицу себе на плечо и осторожно двинулся вперед со своей ношей. Наполеон с канделябром в руке освещал это почти погребальное шествие. Он сам отворил дверь коридора и сказал камергеру:
– Теперь спускайтесь с лестницы.
– Ваше величество, лестница очень узкая. Я упаду.
Тут император решился прибегнуть к помощи камер-лакея. Он передал ему канделябр, а сам стал придерживать ноги Жозефины, указав знаком Боссэ, чтобы тот взял ее под мышки. Таким образом несчастную женщину медленно, с трудом несли вниз по лестнице.
Неподвижная и бездыханная Жозефина походила на мертвую, которую собираются положить в гроб. Вдруг камергер услыхал ее тихий шепот: «Не жмите меня так крепко!» – и успокоился относительно здоровья отринутой супруги.
Наполеон был взволнован и огорчен больше, чем Жозефина: он пожертвовал своим счастьем, своей любовью политике, и ему предстояло впоследствии жестоко поплатиться за это.
Этот зловещий спуск по лестнице женщины, которая была подругой славы Наполеона, его доброй феей, приносившей ему счастье, как говорили в народе, был ужасным и пророческим предзнаменованием собственной судьбы императора. После разрыва с ней счастливая звезда Наполеона стала клониться к закату.
Декрет о разводе был подписан 15 декабря 1809 года. По этому поводу состоялось торжественное собрание в Тюильри.
В парадном кабинете императора заняли в креслax места: государыня-мать, королевы испанская, неаполитанская, голландская и вестфальская, а также принцесса Полина – все сестры Наполеона, торжествующие и плохо скрывавшие свою радость от Гортензии, опечаленной королевы голландской. Короли голландский, вестфальский и неаполитанский с Евгением, вице-королем Италии, сели напротив. Камбасерес со своими ассистентами, Мюратом и Рено де Сен-Жан-д'Анжели, заняли стулья за столом, на котором лежал приготовленный акт развода.
Тогда Наполеон, взяв за руку Жозефину, прочитал, стоя, с непритворными слезами на глазах, речь, приготовленную Камбасересом; в ней он сообщил о своем решении, принятом с согласия его дражайшей супруги, причем единственным поводом к разводу выставил потерянную им надежду иметь детей от Жозефины.
– Достигнув сорокалетнего возраста, – сказал Наполеон, – я надеюсь прожить достаточно долго для того, чтобы воспитать в моем духе и по моим понятиям детей, которых будет угодно Провидению даровать мне. Одному Богу известно, чего стоила подобная решимость моему сердцу, но нет той жертвы, которая была бы свыше моего мужества, раз я убедился, что она необходима для блага Франции. Нужно прибавить, что я не только никогда не имел повода жаловаться на мою супружескую жизнь, но, напротив, могу только хвалиться привязанностью и любовью моей любезнейшей супруги. Она украсила пятнадцать лет моей жизни, и воспоминание об этом никогда не изгладится из моего сердца. Она была коронована моей рукой; я желаю, чтобы за ней были сохранены сан и титул императрицы, а главное, чтобы она никогда не сомневалась в моих чувствах и всегда считала меня своим лучшим и дражайшим другом.
Жозефина должна была в свою очередь прочесть ответ на это заявление, но не могла преодолеть волнение, слезы душили ее. Она передала врученную ей бумагу Рено де Сен-Жан-д'Анжели, и тот прочел этот документ вместо нее.
Императрица заявляла со своей стороны, что соглашается на развод с покорностью судьбе, не будучи в состоянии дать империи наследника престола.
«Но, – гласит текст, – расторжение моего брака не изменит ничего в моих чувствах: император будет всегда иметь во мне своего лучшего друга. Я знаю, насколько этот акт, предписанный политикой и крайне важными интересами, огорчил его сердце, но мы с ним оба гордимся жертвой, которую приносим ради блага отечества».
К этим фразам, сочиненным Камбасересом или Марэ, Жозефина присовокупила только одну строчку, трогательную в самой ее простоте: «Я с радостью даю императору величайшее доказательство расположения и преданности, какое когда-либо давалось на земле!»
Поведение Жозефины в тяжелое время развода заставляет простить ей многие прегрешения, и к ней, жертве политики и династического честолюбия Наполеона, потомство будет всегда снисходительно.
На другой день, 16 декабря, решение сената утвердило развод. Он был изложен в деловых и точных выражениях. Параграф 1-й гласил, что брак между императором Наполеоном и императрицей Жозефиной расторгнут. Параграф 2-й сохранял за императрицей Жозефиной титул и звание коронованной императрицы. Параграф 3-й определял ее вдовью часть: ей было назначено ежегодное содержание из государственного казначейства в два миллиона франков. Преемники императора обязывались соблюдать условия развода. Кроме того, наваррские вдовьи владения, составлявшие отдельное герцогство, также были отданы в пожизненное пользование Жозефине.
Существовали некоторые доказательства, что декларация развода противоречила юридическим нормам, так как они подтверждали действенность гражданского брака, совершенного 9 марта 1796 года в присутствии муниципального чиновника второго парижского округа. Кроме того, ссылались на то, что Жозефина убавила себе четыре года в этом акте, тогда как Бонапарт прибавил себе лишний год. Если бы Жозефина указала настоящую дату своего рождения, то в 1809 году ей официально считалось бы сорок шесть лет, согласно ее настоящему возрасту, развод же допускался только для лиц моложе 45 лет. Говорили также, что можно было сослаться на параграф 7-й закона об императорском доме, который гласит, что «развод воспрещен членам императорской фамилии обоего пола и всякого возраста».
Но что значили эти доводы, эти судебные ограничения, эти законные препятствия перед непреклонной волей всемогущего императора! Наполеон захотел развода, и Жозефина подчинилась ему. Со стороны императрицы было самоотверженностью и самопожертвованием согласиться на этот мучительный разрыв. Со стороны императора также потребовались самоотверженность и самопожертвование, потому что он по-прежнему любил Жозефину, конечно, менее чувственной, менее страстной любовью, чем в молодые годы, но все-таки его привязанность к ней была непритворна, серьезна и глубока. Слезы, пролитые им в момент торжественного разрыва их любви, были так же искренни, так же жгучи, как те, что текли из томных глаз Жозефины.
Для совершения утвержденного развода был установлен особый церемониал.
16 декабря – день сенатского решения, по которому брачный союз Наполеона объявлялся расторгнутым, – приходилось в субботу. В четыре часа вечера в Тюильри была подана карета, чтобы увезти Жозефину в Мальмезон. Погода стояла ужасная; небо как будто облеклось в траур для этой церемонии, напоминавшей похороны. Реймская дорога, избитая, мокрая, подернутая мглой и печалью, усиливала скорбь императрицы. Сколько раз ездила она по ней в блеске могущества, в сиянии царственного величия! Теперь же ей сопутствовал лишь ее сын, принц Евгений, присутствовавший, впрочем, на частном совете.
Император в свою очередь покинул Тюильри и отправился ночевать в Трианон. Два дня спустя он навестил императрицу в Мальмезоне.
– Я нахожу тебя слабее, чем следует, – ласково сказал Наполеон. – Ты выказала мужество, тебе нужно запастись им еще, чтобы поддерживать свои силы. Не поддавайся пагубному унынию! Береги свое здоровье, которое драгоценно. Спи хорошенько! Помни, я хочу видеть тебя спокойной, счастливой!
Он нежно поцеловал Жозефину и уехал обратно в Трианон.
Прошло несколько дней, потом настало последнее свидание, похоронный обед, состоявшийся в Трианоне в день Рождества Христова.
О чем говорили между собой супруги, разлученные отныне публичным актом подавляющей торжественности? Надо полагать, что Жозефина плакала, и Наполеон был нисколько не веселее ее. Роковое стечение обстоятельств встало между ними; они были игрушками политики, рабами неумолимой судьбы и не могли освободиться от этого гнета.
Нельзя без щемящей боли расстаться с женщиной, которая была подругой вашей молодости, возле которой вы покоились сладким сном в зрелые годы. Несмотря на недостатки Жозефины, на ее мимолетные измены Наполеону, императорская чета жила счастливо. Впоследствии император никогда не высказывал сожаления по поводу своего рокового шага, так как гордость заглушала в нем голос сердца. Но в смертельном томлении на острове Св. Елены, когда его точила болезнь и он подвергался ежедневному унижению в когтях британского леопарда, воспоминание о счастливых годах, прожитых с Жозефиной, вероятно, мелькало перед Наполеоном, и последний обед в Трианоне, несомненно, вызывал у него угрызения совести. Но его толкала таинственная, неодолимая сила. Как человек, летящий стремглав вниз головой, он уже не мог остановиться иначе как на дне пропасти, разбившись насмерть.
После того как Жозефина была похоронена заживо в Мальмезоне, стали спешить с приготовлениями ко второму браку императора. Талейран и Фушэ, два неразлучных предателя, да вдобавок к ним коварный дипломат Меттерних, тот самый, о котором Камбасерес говаривал: «Он близок к тому, чтобы сделаться государственным человеком, так как он отлично лжет», – торопились предоставить опустевшему и печальному дворцу Тюильри молодую императрицу.
Меттерних через герцога Бассано дал знать императору Наполеону, что если он обратится к австрийскому двору с предложением о браке, то не получит отказа, а переговоры не затянутся здесь, как в России.
У Австрии действительно не было причин, как у России, затягивать осуществление ожиданий Наполеона. Император австрийский опасался раздробления своей империи. Выдав дочь за Наполеона, он отвращал войну от своего государства по крайней мере на время, а выигранное время было здесь, как всегда, спасением. Кроме того, Франца II могли обуревать честолюбивые мечты. Две монархии, согласно грандиозному плану Наполеона, должны были управлять миром и поддерживать его равновесие. Россия разделяла это всемирное господство с Францией; почему бы Австрии не встать на место России? Франц II решил толкнуть свою дочь в объятия Наполеона.
Он позвал графа Нарбонского и открылся ему. – Эрцгерцогиня австрийская, снова водворенная во Францию, – сказал он с лицемерной нежностью, – изгладила бы печальные воспоминания о Марии Антуанетте и, конечно, побудила бы Наполеона остановиться на мире, чтобы наслаждаться наконец своей славой вместо того, чтобы беспрестанно рисковать ею, и трудиться над счастьем народов заодно с добродетельным монархом, для которого Наполеон сделался бы приемным сыном.
В начале февраля 1810 года Наполеон, посвященный в намерения австрийского императора, порвал переговоры с императором Александром и отправил собственноручное письмо Францу II. То было официальное предложение. Бертье, принцу Невшательскому, было поручено просить для Наполеона руки эрцгерцогини Марии Луизы, и, исполняя это поручение, он в качестве чрезвычайного посланника имел полномочие демонстрировать исключительную роскошь.
Наполеон стал неузнаваем с той поры, как у него появилась уверенность, что он породнится с королем, настоящим королем, что стало его коньком. Он с любопытством всматривался в самого себя, с тревогой выяснял состояние своего здоровья: стучал по грудной клетке, прислушивался к звукам, издаваемым его грудью, и, став перед зеркалом, двигал челюстями, точно старался убедиться в прочности и яркой белизне своих зубов.
Лицо и фигура Наполеона сильно изменились в эту пору его карьеры. Рост его был пять футов два дюйма три линии, что составляет по метрической системе один метр семьдесят два сантиметра. Эти данные опровергают расхожее мнение, будто знаменитый полководец был низенький человечек, почти карапуз. у него был рост французских кавалеристов. Наполеон казался маленьким, потому что его окружали такие великаны, как Бертье, Лефевр, Ней, Мортье, Дюрок и прочие колоссы армии.
Цвет лица, некогда местами оливковый и медно-красный на щеках, стал светлее, принял матовый оттенок старинной слоновой кости. Его крайняя худоба сменилась уже значительной полнотой. Щеки стали пухлыми, подбородок округлился. Напоминавшее античную медаль лицо полководца итальянской армии, корсиканца с прямыми волосами, изнуренного лихорадкой, походило теперь на полное и жирное лицо прелата эпохи Возрождения. Редкие от природы волосы Наполеона поредели еще больше, образуя лысину, которая увеличивала и без того открытый и высокий лоб; виски также начали обнажаться.
Его взгляд сохранил острую проницательность, а глаза с приобретением могущества как будто наполнились лучезарным светом, распространявшим вокруг ослепительное сияние.
Физические особенности Наполеона не представляли ничего ненормального. Его голова имела большой размер – двадцать два дюйма в окружности (60 сантиметров), была сплющена на висках. Кожа на голове отличалась чрезвычайной чувствительностью, так что знаменитые маленькие треуголки приходилось подбивать ватой. Ноги императора были миниатюрны, руки очень красивы и тщательно выхолены. Тем не менее он имел привычку грызть ногти в дни сражений, когда артиллерия мешкала или когда Мюрат или Бертье медлили кидаться в атаку.
Здоровье Наполеона было превосходно, телосложение – необычайной крепости. Усталость приносила ему отдых. Он был одарен исключительной трудоспособностью, изнеможение было ему незнакомо. Спрыгнув с лошади, он тотчас приступал к просмотру счетов, ведомостей, к проверке денежных сумм. Этот человек входил во все мелочи, его ум стремился вникнуть в самые незначительные факты.
Итак, Наполеон был в расцвете сил и на вершине могущества, когда после развода вздумал жениться на Марии Луизе.
Мысль об этом браке, об этой молодой девушке, которой предстояло вскоре сделаться его женой, поглощала императора, а отсюда проистекали тревожное заглядывание в зеркала и изменения в его манерах.
Первым изменением, внесенным в привычки Наполеона близостью свадьбы, явилась невиданная прежде забота о своем костюме.
Между прочим, император обычно повязывал голову на ночь фуляровым платком; это был не особенно величественный головной убор; он не был смешон старухе Жозефине, но мог уронить Наполеона в глазах юной Марии Луизы. Приняв это в соображение, царственный жених отказался от своей ночной короны и стал приучать себя спать с непокрытой головой.
Наполеон не изменял своему обычаю ежедневно принимать ванну. В ней он прочитывал депеши, а после нее заставлял массировать себя, растирать тело щетками и освежать одеколоном. Он брился сам перед зеркалом, которое держал Рустан, его верный мамелюк. Император носил нижнее белье из полотна, белые шелковые чулки и брюки до колен из белого казимира. То был его обычный костюм полковника стрелкового полка. Но, желая понравиться Марии Луизе, он призвал портного, который шил на Мюрата, и заказал ему роскошный фрак, в каких щеголял неаполитанский король, франт и хвастун большой руки Впрочем, заказанный фрак не понравился Наполеону и он не захотел оставить его у себя. Напрасно портной предлагал перешить эту вещь по-другому; великолепное и слишком богатое платье было не по душе императору; он не мог видеть его и подарил своему зятю, который был в восторге от дорогого шитья, покрывавшего сплошь этот парадный наряд. Зато Наполеон, расставшись со своими сапогами, на которых неизменно звенели шпоры, велел дамскому башмачнику сшить легкие башмаки и стал учиться вальсировать в этой обуви у несравненного Деспрео. Ему хотелось открыть бал с Марией Луизой на своем свадебном пиру, а ведь известно, что немецкая принцесса не обойдется без вальса!
В то же время Наполеон с лихорадочной поспешностью носился по дворцу Тюильри, приказывая снимать обивку, картины со стен, менять меблировку, обновлять украшения, решив, что ничто не должно было напоминать новой императрице о пребывании здесь прежней. Порой среди этой суетливой беготни по дворцовым галереям Наполеон останавливался в задумчивости перед портретами Людовика XVI и королевы Марии Антуанетты, которые он приказал повесить в гостиной будущей императрицы, и можно было расслышать, как этот честолюбец бормотал с улыбкой удовлетворенной гордости на устах:
– Король – мой дядя! Моя тетка – королева! Мария Луиза действительно приходилась родной племянницей Марии Антуанетте.
В один из таких моментов экстаза и затаенной радости император увидал Лефевра.
– Идите сюда, идите, герцог Данцигский, – весело сказал он, – мне надо с вами потолковать.
– Гм… – проворчал сквозь зубы Лефевр, – опять он прожужжит мне все уши похвалами своей австриячке! Это совершенство, восьмое чудо света, никогда еще не бывало такой прекрасной принцессы. Пусть бы выбирал для своих излияний Марэ или Савари, а мне они давно набили оскомину!
Маршал Лефевр жалел отверженную Жозефину. Ему было больно, что император опять возводит на французский трон одну из тех австрийских принцесс, брачный союз с которыми всегда был пагубен для приютившей их страны. Кроме того, развод претил старому служаке. Он смотрел на него как на побег. Если ты вступил вдвоем в битву с жизнью, то не надо бросать друг друга в пылу сражения.
Между тем Лефевр не мог не пойти на зов императора, и ему пришлось присоединиться к Наполеону в парадной гостиной Тюильри, где партия обойщиков покрывала стены материей ярко-желтого цвета, усыпанной пчелами, и прилаживала пышные занавеси с Разводами.
– Ну что, маршал, ведь красиво, свежо? – спросил Наполеон с довольным видом купца, удалившегося от дел, который показывает приятелю свои владения, гордясь роскошью устроенного им жилища.
– Богато, что и говорить, – ответил Лефевр, – должно быть, эти затеи стоили вам недешево!
Император, человек расчетливый, хотя совсем не скупой, не допускал грабежа со стороны поставщиков и не любил бросать денег на ветер. Единственным поводом к его супружеским ссорам с Жозефиной служили ее расточительность и слишком большие счета, представляемые ей портнихами и модистками. Теперь же он возразил маршалу самым убедительным тоном:
– Нет ничего слишком прекрасного, слишком дорогого для той, которая скоро сделается императрицей.
Лефевр поклонился и продолжал восхищаться меблировкой, занавесями из шелка, затканного узорами, позолоченными креслами, диванами с роскошной чеканной отделкой.
В углу гостиной стояла арфа изящной формы из позолоченного дерева с вереницей пляшущих амуров на ее подножии, которые выделялись розовыми тонами обнаженных тел на нежно-зеленом фоне прелестного оттенка.
– Эрцгерцогиня – хорошая музыкантша, – заметил император, слегка дотрагиваясь пальцем до струн инструмента, которые издали жалобный, жидкий звук. – Пойдемте, я покажу вам приданое императрицы, – продолжал он с наивной и нетерпеливой радостью, увлекая маршала в спальню, приготовленную для Марии Луизы.
Хотя герцог Данцигский был более компетентным лицом по части инспекции гренадерского ранца или осмотра лагеря, чем в деле оценки изящных вещей, разложенных на постели, на столиках, на диванах и козетках императорской комнаты, однако ему пришлось внимательно следить за перечислением этих сокровищ, любезно предпринятым Наполеоном.
Лефевр последовательно любовался кружевами, рубашками с отделкой из валансьенских кружев, носовыми платками, кофточками, юбками, ночными чепчиками, всеми принадлежностями белья, изготовленного в мастерских знаменитой мадемуазель Лолив и мадам Беври. Этого добра здесь было почти на сто тысяч франков. Кроме того, было на сто тысяч кружев английской работы и на сто двадцать шесть тысяч франков платьев от Леруа. Затем следовали всевозможные украшения, дамские уборы, ленты, аграфы, которыми Наполеон наполнил объемистые корзины.
Драгоценности были дивные, каких не имела еще ни одна королева. Портрет императора, усыпанный бриллиантами, стоил шестьсот тысяч франков. Ожерелье в девятьсот тысяч франков, затмевавшее своей красотой знаменитое колье королевы Марии Антуанетты, две подвески в четыреста тысяч франков и уборы из крупных изумрудов, из бирюзы, осыпанных алмазами, – таковы были роскошные свадебные подарки Наполеона, к которым присоединялся бриллиантовый убор, поднесенный государственным казначейством и стоивший свыше трех миллионов трехсот тысяч франков. Сверх того императрице было назначено на ее личные расходы тридцать тысяч франков в месяц – по тысяче франков в день.
Наполеон был совершенно счастлив, показывая старому товарищу все эти сокровища, все эти богатства, свидетельствовавшие о той пылкости, с какой он ожидал свою молодую супругу.
– Ну что, ведь императрица будет счастлива, не так ли? – спросил он в заключение Лефевра.
– Да, ваше величество, тем более что, как слышно, эрцгерцогиня живет очень скудно при дворе своего отца. Драгоценности у нее самые простые, а все платья, вместе взятые, едва ли стоят одной из этих рубашек. Черт возьми, ваши победы заставили императора Франца положить зубы на полку. Вот развернется-то эрцгерцогиня, попав в такой рай! Однако на ее месте все эти бриллианты, кружева, уборы показались бы мне пустяками по сравнению со славой быть женой императора Наполеона!
– Льстец! – весело подхватил император и ущипнул маршала за ухо.
– Говорю, как думаю, ваше величество. Вы знаете, я сам по примеру моей жены немного бесцеремонен!
– Ах да, кстати: мне надо поговорить с тобой о ней конфиденциально. Ты пообедаешь со мной. Пойдем садиться за стол!
И Наполеон толкнул в столовую несколько удивленного Лефевра, который не без тревоги спрашивал себя: «Что он хочет сказать мне насчет моей жены? Уж не вышло ли у нее снова какой-нибудь перебранки с сестрами императора?»
VI
Обед императора был готов, а стол накрыт в маленькой столовой, которую победитель под Иеной предпочитал нарядным залам.
С отъезда Жозефины Наполеон обедал всегда только вдвоем, приглашая кого-нибудь в последнюю минуту: Дюрока, Раппа, дежурного камергера или министра, вызванного для указаний по службе.
Наполеон никогда не был любителем еды. Он ел очень быстро и спешил кончить обед как скучную церемонию. Даже на парадных обедах император мог едва высидеть четверть часа за столом. Он поднимался со стула внезапно посреди обеда, подавая знак рукой, чтобы за ним не следовали и кончали трапезу, всегда превосходного качества, потому что, хотя сам император был плохим гастрономом, но следил за своим поваром и хотел, чтобы за его столом подавались самые лучшие блюда. Все его маршалы отличались здоровым аппетитом, а государственный канцлер Камбасерес приводил в восторг Наполеона способностью поглощать между двумя комплиментами громадные куски мяса, которые он запивал двумя графинами шамбертена, своего любимого вина. Наполеон, не пивший ровно ничего, всегда наблюдал за тем, чтобы с обеих сторон прибора государственного канцлера стояло непременно два графина этого короля Бургундии.
Поспешно поднимаясь однажды по своей привычке из-за стола, император сказал принцу Евгению, обедавшему с ним в тот день:
– Ведь ты не успел поесть, Евгений?
– Извините, ваше величество! Получив ваше приглашение, я пообедал заранее.
Многие из придворных, по примеру сына Жозефины, предпринимали эту мудрую предосторожность, когда знали, что будут приглашены к императорскому столу.
Император завтракал один, без салфетки, на маленьком столике. Он глотал в несколько минут поданные ему яйца и котлету.
Рассказчики анекдотов времен Империи утверждали, что великий муж ел не особенно опрятно. Он часто забывал о вилке, поглощенный заботой разбить пруссаков или образумить папу, и часто пускал в ход ложку праотца Адама. Он без церемонии макал свой хлеб в блюдо, поставленное перед ним, и подбирал с него соус. Так бывало даже в тех случаях, когда за столом сидели принцы, герцогини, маршалы и женщины, весьма жеманные в другом месте, и никто из благородных гостей не отказывался брать кушанья с этого блюда, в которое император запускал пальцы.
У императора были свои любимые блюда: цыпленок а-ля Маренго, который напоминал ему одну из прекраснейших его побед, а потом кушанье бедняков – чечевица, турецкие бобы, жареная телячья грудинка и свиное сало. Наполеон не был любителем вина и позволял поставщикам обворовывать себя.
Обед, за которым неожиданно очутился Лефевр, был подан просто, но немного обильнее обыкновенного. Наполеон старался привыкнуть теперь сидеть за столом, и это была новая жертва, которую он приносил своей будущей супруге.
Лефевр, отличный едок, не имел ничего против новых привычек своего повелителя. Между тем его по-прежнему разбирало некоторое беспокойство и портило его прекрасный аппетит. С какой стати император, пригласив его, упомянул о Екатерине?
Когда после обеда подали кофе, Наполеон внезапно спросил своего гостя:
– Что говорите вы, господа маршалы, о моем Разрыве с Жозефиной между собой, вдали от меня?
Должны же вы толковать об этом, не так ли? Я желаю знать, что думают мои приближенные о разводе, о моей новой женитьбе.
– Но, ваше величество, мы не можем иметь иную идею, кроме той, какую вам было угодно нам сообщить. Мы преклоняемся перед вашей волей, у нас нет привычки обсуждать ваши распоряжения. Развод, женитьба – в наших глазах это перемена фронта, новый маневр, который вы сочли нужным произвести. Мы не можем высказать никаких возражений… по крайней мере вслух!
– Вот как? Ну а потихоньку? Мне хотелось бы знать именно то, что говорится между вами потихоньку.
– Гм… В этом нет ни особой важности, ни большого интереса, – нерешительно ответил Лефевр. – Говоря по правде, ваше величество, императрицу жалеют. Она была добра, любезна, всегда готова обласкать каждого, кто приближался к ней. Кроме того, к ней привыкли, да и она привыкла к нам. Мы вместе выбрались вслед за вами, ваше величество, на то прекрасное место, где находимся теперь. Государыня и не подумала бы никогда упрекать нас ни нашим скромным происхождением, ни нашей непривычкой к большому свету. О, я знаю, что говорят про всех нас, особенно про меня и мою добрую, милую жену у королевы неаполитанской или среди приближенных великой герцогини Элизы!
– Не надо придавать излишнее значение насмешкам моих сестер! Впрочем, я скажу им, что мне неприятно, когда поднимают на смех храбрецов, помогавших мне выигрывать сражения и воздвигнуть этот трон, на который они смотрят как на фамильное наследство!
– Императрица Жозефина, ваше величество, никогда не допускала этих презрительных шуток и издевательств, которые оскорбляют самолюбие; она всегда обращалась с нами ласково и внимательно. Мы боимся, чтобы новая повелительница – принцесса, воспитанная при венском дворе, среди гордых аристократов, со всеми предрассудками своей касты, – не стала смотреть на нас свысока. Мы опасаемся показаться людьми слишком скромного происхождения такой важной особе. Ваше величество, нас немножко пугает эта избранная вами дочь императора. Вот что говорят ваши маршалы, генералы, ваши боевые товарищи, которые, как вам известно, не вышли из чресл Юпитера!
– Успокойтесь, мои храбрые сподвижники! Мария Луиза чрезвычайно добра; ваша новая императрица может только любить и почитать таких героев, как вы, Лефевр, как Ней, как Удино, как Сульт, Мортье, Бесьер или Сюше. Ваши рубцы и шрамы заменяют красивейшие гербы, а у вашей знатности вместо фантастических химер и грифонов, украшавших в былые времена гербовые щиты, есть взятые вами города, завоеванные крепости, мосты, пройденные под градом картечи, знамена, даже троны, ставшие вашей добычей. Мария Луиза познакомится с этой новой геральдикой и научится уважать ее.
– Но кроме нас, – пробормотал Лефевр, – есть еще наши жены.
У Наполеона вырвался жест досады.
– Ну да, я понимаю! Ваши жены, чтоб им пусто было, не выигрывали сражений, они…
– Они, ваше величество, – с жаром подхватил Лефевр, – делили наше существование, возбуждали наше мужество, воспламеняли нашу энергию. Они любят нас, восхищаются нами. Они добрые супруги и заслуживают жребия, дарованного им вами, ваше величество, и победой!
– Да, да, знаю, – пробормотал император. – Однако некоторые из этих превосходных женщин, добродетелям которых я воздаю должное почтение, представляют собой необычайных светских дам, невероятных герцогинь. Ах, зачем, черт побери, всех вас дернула нелегкая жениться, когда вы были сержантами!
– Ваше величество, пожалуй, то была ошибка, но я никогда не раскаивался в ней.
– Ты добрая и честная душа, Лефевр, и я одобряю как твои слова, так и поступки. Но сознайся, что в настоящее время, когда ты получил звание маршала империи и титул герцога Данцигского, твоя добрейшая жена оказалась немножко не на месте.
Она смешит своими манерами пригородной слобожанки, а ее язык по-прежнему отзывается прачечной.
– Герцогиня Данцигская, или скорее мадам Лефевр, любит меня, ваше величество, а я люблю ее, и ничто в ее манерах не заставит меня забыть долгие годы счастья, прожитые нами.
– Досадно, что ты женился во время революции, Лефевр!
– Ваше величество, дело сделано; нечего об этом толковать.
– Ты полагаешь? – спросил Наполеон, устремив на маршала свой глубокий взор.
Тот вздрогнул и пролепетал, внезапно оробев, боясь угадать мысль императора:
– Екатерина и я, мы вступили в супружество, значит, уже соединились совсем, на всю жизнь.
– Но, – с живостью подхватил Наполеон, – ведь вот и я был женат на Жозефине, однако же…
– Ваше величество, вы – дело другое.
– Весьма возможно. Но все-таки, любезный Лефевр, ты никогда не помышлял о разводе?
– Никогда, ваше величество! – воскликнул маршал. – Я смотрю на развод, как на…
Он спохватился, внезапно испугавшись, что у него вырвется слово, которое можно было бы счесть критикой поведения императора.
– Послушайте, маршал, – продолжал Наполеон, заметивший его замешательство, – что если бы ты и твоя жена с обоюдного согласия развелись? Помни, что в этом случае я назначу твоей жене значительное содержание; с нею будут обращаться с уважением, ей будут воздавать почести в ее уединении, она сохранит за собой герцогский титул, будет именоваться вдовствующей герцогиней. Ты хорошо понимаешь это?
Лефевр поднялся и, прислонившись спиной к камину, с побледневшим лицом выслушивал, покусывая губы, не особенно соблазнительные предложения императора.
А тот продолжал, прохаживаясь по комнате, заложив руки за спину, точно диктовал боевой приказ:
– Когда развод совершится, я найду тебе супругу, женщину, состоявшую при прежнем дворе, с титулом, с именем, с предками. За богатством не стоит гнаться. Я дам тебе денег, награжу тебя поместьями, у вас будет всего вдоволь. Нужно, чтобы наше молодое дворянство смешивалось с старинною знатью. Вы, современные паладины, должны жениться на дочерях героев крестовых походов. Вот каким образом мы заложим основу путем слияния обеих Франций – старой и новой – общество будущего, новый порядок возрожденного мира. Тогда между обеими аристократиями исчезнет всякий антагонизм. Ваши сыновья пойдут рука об руку со всеми наследниками благороднейших родов Европы, и через два поколения не останется больше следов, пожалуй, даже не останется и воспоминаний об этой розни, об этой враждебности старинных партий. Будут только одна Франция, одно дворянство, один народ… Тебе нужно развестись, Лефевр! Я подыщу для тебя жену.
– Ваше величество, вы можете послать меня на край света – в раскаленные пустыни Африки, в глубь ледяных степей Сибири; вы вольны располагать мной во всем и для всего, приказать мне найти себе смерть, если вам угодно, и я послушаюсь вас. Вы можете также лишить меня чинов, титулов, которые я добыл благодаря своей сабле и вашему благоволению, но вы не можете заставить меня разлюбить мою добрую Екатерину, вы не можете принудить меня к разлуке с той, которая была мне преданной подругой в тяжелые дни и останется моей женой до смерти. Нет, ваше величество, ваша власть не простирается до этого. И если я даже рискую навлечь на себя тем вашу немилость, я все-таки не разведусь, и мадам Лефевр, маршальша и герцогиня по вашему изволению, останется мадам Лефевр по моей воле! – гордо заключил герцог Данцигский, осмеливаясь впервые пойти наперекор императору и противиться его намерениям.
Наполеон исподлобья взглянул на маршала и холодно сказал ему:
– Вы славный малый, образцовый муж, герцог Данцигский. Я не разделяю ваших взглядов, но уважаю вашу добропорядочность, черт побери! Ведь я не какой-нибудь тиран. Хорошо, оставим навсегда разговор о разводе. Сохраните при себе свою пригородную слобожанку, только посоветуйте ей следить за своим языком и не вводить при моем дворе, около императрицы, рыночного говора и манер торговок. Ступайте, герцог, мне надо поработать с министром полиции; можете отправляться к своей благоверной!
Лефевр поклонился и вышел, все еще взволнованный предложением императора и кисло-сладкими словами, сопровождавшими его отказ. Когда он переступал порог комнаты, Наполеон, следивший за ним взором, пожал плечами и обмолвился словом, выражавшим мнение, которое было вызвано отпором Лефевра его матримониальным планам:
– Дуралей!
VII
Лефевр с багровым лицом, недовольный, встревоженный, недоумевавший, каким образом примет император его сопротивление и как выдержит нравственное поражение, нанесенное им, вернулся восвояси, ругаясь про себя.
Он нашел Екатерину за примеркой придворного наряда, предназначенного для церемонии императорской свадьбы. Она побросала все при виде мужа, кинулась ему навстречу и повисла у него на шее, радостная, бесцеремонная, а потом, почти тотчас заметив его расстроенное лицо, спросила с тревогой:
– Что с тобой? Разве в императора стреляли?
– Нет! Его величество здоров и невредим.
– Ах, ты снимаешь у меня тяжесть с души! – промолвила Екатерина.
У всех в голове была мысль о возможности неожиданной смерти Наполеона. Никто не мог представить себе более ужасную катастрофу, и эти опасения мучили не только приближенных Наполеона, их разделяла вся Франция, и эта общая тревога немало способствовала успеху смелых планов Мале и его филадельфийцев.
Успокоившись относительно императора, Екатерина повторила свой вопрос:
– Так что же случилось? Ты ходишь взад и вперед, точно минутки не можешь постоять на месте; дело, значит, серьезное?
– Очень серьезное! – И Лефевр опять принялся шагать по комнате, слегка подражая императору.
– Ты поспорил с его величеством? – спросила Екатерина.
– Да, мы немножко сцепились. Император повел на меня основательную атаку; я держался как мог, а потом сам перешел в наступление и… победил! Но одерживать победы над императором очень опасно: он из тех, которые всегда мстят.
– Похоже на то! Но из-за кого или из-за чего вы спорили?
– Из-за тебя!
– Из-за меня? Быть не может!
– Нет, это правда! Угадай-ка, чего захотел император?
– Право, не знаю… Он хочет, чтобы ты отправил меня в тот замок, который он велел нам купить? На который он в Данциге дал тебе денег?
– Да, он именно хочет, чтобы ты жила в имении, в провинции, и довольно-таки далеко.
– Отчего же ты не согласился? Я отдохну в деревне. У нас будут большая карета для катания, собаки, корова. Это будет очень забавно! И знаешь, Лефевр, мне уже по горло надоели все эти придворные злючки, которые постоянно насмехаются над нами! Мне вовсе не весело на праздниках и приемах у его величества. А во время всех этих свадебных церемоний придется целые часы выстаивать в тяжелых накидках, задыхаться в тесных лифах и мучиться в узких бальных башмаках. Если император желает, чтобы мы уехали в то имение, которое он для нас выбрал, – купим поскорее замок и уедем! Ведь теперь у нас долго не будет войны, может быть, никогда! Послушай, Лефевр, почему ты не согласился? Отчего сейчас же не сказал: «Государь, мы едем!»?
– Да видишь ли, дорогая моя Катрин, когда император говорил, чтобы ты оставила двор и поехала в отдаленный замок, он подразумевал только тебя одну.
– Как так? А ты?
– Я должен остаться при императоре.
– Вот еще! Разлучить нас в мирное время? Понятно, что на войне я не могу следовать за тобой по пятам, как адъютант или вестовой, но теперь, когда во всей Европе мир и тишина… Да что же это сделалось с императором?
– Он хотел не только разлучить нас, дорогая моя Катрин, но… знаешь, что он хотел сделать со мной?
– Дать тебе отдельный корпус? Послать тебя управлять каким-нибудь государством? Неаполем? Или Голландией?
– Не угадала: он хотел женить меня!
Екатерина громко вскрикнула:
– Тебя? Женить тебя?! Ну а я-то?
– Мы должны развестись.
– Развестись? Он смел предложить это? Смел говорить о нашем разводе? Какой он мерзкий, твой император! А что же ты ответил ему, Лефевр?
Маршал, улыбаясь, открыл объятия. Екатерина бросилась к нему на грудь, и муж и жена крепко обнялись. Счастливые тем, что опять вместе, они страстно обнимали друг друга, как бы для того, чтобы отогнать страх, навеянный перспективой разлуки. Нет, ничто не могло разъединить их! Этими молчаливыми, горячими объятиями они протестовали против самой возможности развода, подтверждали друг другу, что мысль о подобной измене никогда не могла прийти им в голову, и ободряли друг друга ввиду смутной опасности, которой грозил им план императора.
– Так что же ты ответил ему? – спросила Екатерина после долгого молчания, потихоньку освобождаясь из объятий мужа.
Лефевр усадил жену рядом с собой на диван и заговорил, нежно глядя ей в глаза и не выпуская ее рук из своих:
– Я сказал императору, что люблю тебя, Катрин, одну тебя и что, прожив вместе очень счастливо и согласно годы нашей молодости, мы мечтаем только о том, чтобы это продолжалось, пока русское ядро или испанская пуля не отправят меня туда, где уже покоятся Ош, Дэзэ, Ланн – все мои товарищи по прежним битвам.
– Ты сказал то, что следовало, Лефевр! Во что только не вмешивается император! Сам развелся, так хочет, чтобы и все на свете делали то же самое! У него была особая цель, свой определенный план. Зачем он говорил тебе о разводе?
– Да ведь я же сказал тебе: он хотел меня женить.
– На ком же? Я хочу знать! Ведь я же ревную! Скажи мне имя той, которую он предлагал тебе! Нечего сказать, хорошими делами занимается твой император! У него есть барышни, которых ему нужно пристроить. Он, конечно, предлагал одну из своих любовниц? Гаццани? Или Элеонору? Или прекрасную польку?
– Он не назвал никого, он говорил вообще. Видишь ли, он хочет, чтобы ему подражали… чтобы его принимали за образец. Сам он женится на эрцгерцогине, и каждого из нас хотел бы женить на аристократке.
– Вот так придумал! Я не про тебя говорю, бедный мой Лефевр, твои чувства я знаю; а другие-то маршалы? Что они будут делать с благородными барышнями, которые так гордятся своими предками? Разве Ожеро не сын рыночной торговки? Ней, Массена? Да все они, все из народа, как и мы с тобой! Просто безумие – навязать им в жены девиц, которые будут сравнивать их с знатными дворянами, каковы они сами. Боюсь, Лефевр, не спятил ли немножко наш император! Уж одно то, что он собирается жениться на дочери императора, гордой австриячке, для которой он будет таким же солдатом-выскочкой, как и ты.
– У императора на все свои причины.
– А у нас свои! Ведь ты отказался? Решительно отказался? Наотрез?
– Неужели ты в этом сомневаешься? – нежно спросил Лефевр, снова целуя жену, которая, краснея от удовольствия, охотно отдавалась его ласкам. – Ты, значит, не испугалась? Ты была вполне уверена, что я никогда не соглашусь развестись и жениться на другой?
– Черт возьми! Да разве ты не принадлежишь мне? Притом ты поклялся, что будешь только моим!
– Да, перед муниципальным чиновником. Это было давно. Но я не забыл, моя милая Катрин, той клятвы, которую дал тебе, когда взял тебя в жены.
– Я также! А если бы ты и забыл, так есть одна вещь, которая напомнит тебе твое обещание.
– Что такое? – рассеянно спросил Лефевр.
– А это что? – И, взяв мужа за руку, Екатерина быстро засучила рукав его мундира и отвернула рубашку: на коже виднелось голубоватое изображение пылающего сердца со словами: «Екатерина – навеки». Эту татуировку маршал, в то время простой сержант, сделал перед свадьбой и шутя назвал своим свадебным подарком. – Ага! Вот эта клятва! – с торжеством воскликнула Екатерина. – Разве ты можешь с такой рукой жениться на какой-нибудь эрцгерцогине? Что сказала бы она, увидав такую штуку? Она спросила бы, какой это Екатерине ты обещал быть верным до гроба, и стала бы делать тебе сцены. Ведь ты не можешь отречься от своего обещания, старина?
– Верно! Да и другая рука не больше понравилась бы ей! – смеясь, сказал Лефевр и, отогнув другой рукав, добродушно посмотрел на другую татуировку, сделанную 10 августа 1792 года, с отчетливо сохранившейся надписью: «Смерть тирану!».
– Что бы там ни было, а мы навеки принадлежим друг другу, – сказала Екатерина, с любовью опуская голову на грудь мужа.
– Навеки! – тихо сказал маршал.
– Ах, пусть бы теперь император пришел и увидел нас! – сказала растроганная Екатерина.
VIII
Мария Луиза задумчиво сидела в своей просто убранной комнате на втором этаже императорского дворца в Вене и лениво играла с маленькой, нарядно разукрашенной лентами собачкой, которую ей поднес английский посланник. Это была одна из тех крошечных кудрявых собачек с лисьей мордочкой, какие тогда были в большой моде и получили название кингчарльс в память Карла II, который любил их и подарил несколько экземпляров своей фаворитке, герцогине Портсмутской.
Раздался торопливый стук в дверь, и в комнату, задыхаясь и охая, прижимая руку к боку как бы для того, чтобы унять учащенное биение сердца, вбежала единственная дуэнья эрцгерцогини, в одно и то же время статс-дама и камеристка.
– Что случилось? – спросила удивленная Мария Луиза. – Уж не пожар ли во дворце?
– Никакого пожара нет, но сюда идет ваш августейший батюшка, его величество император!
– Мой отец? Ко мне в комнату? Боже мой! Да что же случилось?
– Не знаю, ваше высочество; вероятно, вы сейчас услышите это! – И дуэнья, уже несколько оправившись от своего волнения, удалилась, сделав низкий реверанс входившему императору.
Франц II, или Франц Иосиф I, сначала император германский, а после победы Наполеона и учреждения Рейнского союза император австрийский, был очень ничтожным государем. Он упорно боролся с французской революцией, затем с Наполеоном, защищая то, что считал основанием социального строя: сохранение привилегий дворянства и уничтожение всякого рода народного представительства. Подчас жестокий, он не стеснялся отправлять в шпильбергские казематы всякого из своих подданных, согласного с принципами французской революции хотя бы только в теории или с философской точки зрения.
Разбитый во всех сражениях, вынужденный после Маренго подписать Кампоформийский договор, лишившись после аустерлицкого боя Венеции, он более всех европейских государей имел основание ненавидеть Наполеона, но скрывал эту ненависть до тех пор, пока его победитель не был сам окончательно побежден и не очутился под строгим надзором английских солдат.
Постепенно ожидая перемен в чувствах Наполеона. изменчивых, как случайности войны, он при посредстве Меттерниха и князя Шварценберга расточал перед победоносным императором дружеские уверения и пошлую лесть.
С самого начала переговоров о брачном союзе он не скрывал желания иметь Наполеона своим зятем и ликовал как монарх и как отец.
К своей дочери Марии Луизе он питал прочную и спокойную родительскую привязанность, свойственную германской расе, и думал, что она будет вполне счастлива с Наполеоном, трон которого уже блистал славой пятидесяти побед. Император французов был не только самым богатым государем Европы, но слыл и самым щедрым. Франц II с удовольствием отметил количество присланных высоким женихом подарков – драгоценностей, кружев и платьев, и через своего представителя в Париже, князя Шварценберга, дал понять, что австрийский двор беден и что подношения национальных музеев и знаменитых фабрик богатой Франции будут приняты в Вене с большой признательностью.
Наполеон очень гордился будущим родством, жаждал угодить императору широкой щедростью и внушить Марии Луизе выгодное мнение о пышности французского двора. По его желанию Серван, Моллиен и все, заведовавшие музеями, принялись усердно хлопотать: грабили Гобеленов, опустошали Севр, налагали контрибуции на чудные произведения Обюссона и Сен-Гобэна. В Вену потянулись вереницы фургонов, нагруженных мебелью, тканями, произведениями искусства. Будущий тесть принимал все эти доказательства величия Наполеона с безграничным удовольствием, что не помешало ему впоследствии отказать узнику Св. Елены в лишней паре лошадей для кареты и находить его стол чересчур обильным.
Теперь из политических расчетов Франц II притворялся совершенно очарованным предстоящим браком, который должен был упрочить его трон, уничтожить последствия прежних поражений и разрушить союз с Россией.
Поэтому он сделал все, чтобы довести до благополучного конца предварительные переговоры в Париже, и с радостью получил собственноручное письмо Наполеона, извещавшее о приезде в Вену Бертье, принца Нёшательского, уполномоченного официально просить руки Марии Луизы. Его собственное согласие было дано заранее; оставалось исполнить лишь небольшую формальность: предупредить эрцгерцогиню, что ей предстоит отправиться во Францию и сделаться французской императрицей. Вот какую новость явился Франц II лично сообщить Марии Луизе.
Молодой принцессе было восемнадцать лет. Это была здоровая девушка, не отличавшаяся ни грацией, ни привлекательностью, но плотно сложенная, свежая и розовая. Она была довольно красива, но ее красота была красотой продавщицы из пивной; с толстыми руками и талией, с большими ногами, с сильно развитой грудью, полными, чувственными губами и холодными голубыми глазами, лишенными выражения. Она представляла собой красивое животное, равнодушное, ленивое, толстое и грубое, женщину, созданную лишь для алькова.
Собирая отовсюду сведения о своей невесте, Наполеон с удовольствием узнал о ее физических качествах, что для него было важнее всего. Эта тяжеловесная принцесса обещала быть превосходной матерью; он был уверен, что она подарит его империи наследника.
Мария Луиза была воспитана тщательно и очень строго, должна была подчиняться чисто монастырской дисциплине и получила довольно солидное образование. Она знала почти все европейские языки: французский, немецкий, английский, итальянский, испанский, чешский и даже турецкий, так как предназначалась в супруги члену одного из царствующих домов, поэтому ей не мешало знать язык своих будущих подданных. Не была забыта и музыка, о чем было доведено до сведения ее будущего супруга. Религиозное воспитание Марии Луизы ограничивалось внешними обрядами, чтобы в случае выгодной партии с иноверным государем ей ничего не стоило сделаться православной, лютеранкой или кальвинисткой.
Юную принцессу окружала крайняя простота; утрата провинций, военные контрибуции, поражения, формирование новых армий совершенно истощили австрийскую казну, вынуждая двор к строгой экономии. Пышные балы уступили место скромным музыкальным вечерам; ценные вещи и дорогие украшения исчезли из дворца.
Молодость принцессы протекала среди постоянных опасений французского нашествия. Часто раздавались вокруг нее испуганные крики: «Французы!». По залам суетливо бегали дрожащие камергеры; слуги как попало бросали в сундуки платья, посуду, драгоценные вещи. Улицы наполнялись бегущим народом, яростно требующим мира; а Франц II, не успевший добриться, выглядывал из своей комнаты с тревожным вопросом: «Успеем ли мы добраться до Тироля?»
Принцессу торопливо усаживали в карету, и весь двор спешил укрыться в горах, с отчаянием повторяя: «Все погибло!»
Из случайно долетавших до нее во время бегства разговоров прислуги принцесса вынесла убеждение, что на свете существует коронованный разбойник, чудовище, всегда верхом на коне, со шпагой в руке, с угрозой смерти на устах, носящийся по Европе с отрядом свирепых рубак, сопровождаемый толпами пастухов, ремесленников и всяких бродяг, вооруженных чем попало после разграбления замков; одетые в фуфайки, деревянные башмаки и красные шапки, они пьют кровь стаканами, уводят в лесную глушь захваченных женщин, а вместо знамен водружают гильотины с вечно окровавленным ножом. Воображение принцессы рисовало ей Наполеона тем корсиканским людоедом, каким легенды изображали его после падения.
Франц II несколько опасался страшной славы, которою пользовался его будущий зять, и сознавал, каким малопривлекательным представлялся для принцессы подобный разбойник. Поэтому он до последней минуты откладывал объяснение с дочерью; но теперь оно было необходимо: Бертье уже находился в дороге, и бракосочетание по доверенности было назначено на следующей неделе.
С первых слов отца Мария Луиза выразила полную покорность родительской воле, объяснив, что ничего не имеет против предлагаемого брака. Она знала, что Франция – обширная и прекрасная страна и что ей самой титул императрицы даст преимущество перед всеми членами ее семьи, поставив ее наряду с самыми могущественными монархинями Европы. Она заставила отца дважды повторить ей, что никакая королева, никакая императрица не сравнится с ней в блеске и могуществе. Франц II тут же перечислил ей все великолепные подарки, приготовленные ей Наполеоном, и сказал, что все эти сокровища она найдет в Париже, где будущий супруг ожидает ее с нетерпением.
В качестве послушной и покорной дочери Мария Луиза ответила, что, конечно, очень жалеет о необходимости покинуть своего доброго отца, нежную семью и венский двор, где провела первые годы своей жизни, но что без всякого неудовольствия соглашается сделаться супругой императора французов, избранного для нее отцом, и готова отправиться во Францию, как только принц Нёшательский приедет за нею.
Казалось, ее вовсе не удивляло, что ею распоряжались из малопонятных ей политических целей. Мысленно она перечисляла драгоценности, кружева и наряды, ожидавшие ее в Париже, сожалея лишь об одном – что не может надеть их немедленно. Она несколько раз переспрашивала отца о количестве, достоинстве и цене подарков, приготовленных к свадьбе, но ей ни на минуту не пришло в голову расспросить о том, кто приготовил для нее эти подарки. Богатый и могущественный император обеспечивал ей выдающееся положение среди тех самых принцесс, которым она завидовала, – это было для нее достаточно.
На прощание Франц II сказал дочери:
– Ты будешь очень одинока, Луиза, среди чужого двора, вдали от всех нас; ты будешь окружена храбрыми воинами и блестящими дамами, но ничто не будет напоминать тебе отечество. Я хочу, чтобы около тебя был кто-нибудь из нашей среды, почти из нашей семьи. В Париже ты найдешь соотечественника.
– Моего милого Зозо? Моего прелестного кингсчарльса? – воскликнула Мария Луиза, радостно хлопая в ладоши при мысли, что может увезти с собою своего неразлучного друга.
– Нет, – возразил Франц II, улыбаясь заблуждению дочери, – речь не о нем, да и император Наполеон не терпит собак. Зозо останется в Вене. Будь спокойна, о нем будут заботиться!
На ясных голубых глазах опечаленной принцессы выступили слезы. Она тяжело вздохнула и с раздражением начала стучать носком по ковру. Зозо был единственным существом, которое она любила.
В холодной, надменной принцессе не было ни молодых порывов, ни девичьего любопытства, ни смутного стремления к неизвестному. Любовь, желания не существовали для этой невозмутимой души, замкнутой для всего возвышенного. А между тем в ее жилах текла пылкая кровь дочерей Марии Терезии, горячих, ненасытных любовниц: Марии Каролины, королевы неаполитанской, знаменитой своим распутством; Марии Амелии, герцогини пармской, имевшей бесчисленных любовников; казненной королевы Марии Антуанетты, прославившейся громкой историей с ожерельем и двусмысленной дружбой с герцогиней де Полиньяк и принцессой де Ламболь. Но час пробуждения еще не пробил, и чувства еще спали в груди Марии Луизы. Только иногда ощущала она трепет – предвестник чувственных наслаждений, впоследствии наполнивших всю ее жизнь и сделавших из нее развратницу, которой Франция была обязана своим позором, а Наполеон – своим пленом на острове Св. Елены. У нее чувственность заменила сердце, ум, волю, разум, честность, она для утоления неугасимой жажды любви изменила мужу, бросила сына, отказалась от трона, забыла всякий стыд и навсегда опозорила свое имя. Но теперь Мария Луиза рассеянно слушала долетавшие до нее намеки на любовь. Как ни охраняли ее в затворнической жизни – в Лаксенбургском монастыре, в садах Шенбрунна, в императорском дворце в Вене, к ней все-таки нашла доступ почтительная, но смелая любовь.
Однажды, во время прогулки по Шенбруннскому парку, принцесса увидела на поверхности пруда, посреди водяных растений, красивый голубой цветок, который ей захотелось сорвать. Очутившись на сыром, скользком берегу, она неосторожно нагнулась, потеряла равновесие и чуть не упала в тинистую воду, между тем как отчаянные крики ее воспитательницы обращали в бегство уток и разгоняли лебедей, величественно удалявшихся с полураспущенными крыльями, подобно белым парусам. Вдруг чья-то рука поддержала и вывела на твердую зехмлю ошеломленную, но уже оправившуюся от испуга Марию Луизу. Ни она, ни ее воспитательница не знали изящного кавалера, почтительно склонившегося перед ними. Принцесса милостиво улыбнулась так кстати подоспевшему спасителю и сказала, протягивая ему руку:
– Благодарю вас! Без вашей помощи я барахталась бы в грязи, как эти бедные утки, испугавшиеся, кажется, не меньше меня.
Незнакомец молча склонился над протянутой рукой и запечатлел на ней почтительный поцелуй.
– И все это из-за цветка, которого я все-таки не достала, – продолжала Мария Луиза.
Обращение и наружность кавалера произвели на нее благоприятное впечатление. Поскользнувшись, она сильно задела ногой тот кустик водорослей, среди которого рос цветок-искуситель, и все поплыло по воде вслед за лебедями.
Не успела эрцгерцогиня закончить свои слова, как незнакомец в своем элегантном костюме, в напудренном парике, в шелковых чулках и со шпагой, не колеблясь, бросился в прозрачную воду глубокого пруда. Она была страшно холодна, так как стояла уже глубокая осень. Сильно работая руками, он не без грации доплыл до пучка зелени, уносимого течением, сорвал желанный цветок и вернулся на берег.
Изумленная и очарованная, Мария Луиза с живым интересом взглянула на человека, который, удачно удержав ее от падения в воду, не задумался принять ледяную ванну, чтобы добыть понравившийся ей Цветок, и даже не обратила внимания на беспорядок в костюме изящного кавалера. А он действительно имел комичный вид в платье, испачканном тиной, и в съехавшем на сторону парике, в котором запутались водяные растения, а из его шляпы вода лилась, как из лейки. Но молодую эрцгерцогиню поразила та трогательная нежность, с которой этот уже немолодой человек с правильными чертами лица два раза украдкой поцеловал, выйдя на берег, цветок, добытый им с такой самоотверженностью.
Приняв этот трофей из его дрожащих рук, принцесса поднесла его к лицу, желая понюхать, или, может быть, она хотела прикоснуться к нему собственными губами, чтобы уловить секрет незнакомца. Отвесив ей почтительный поклон, он уже хотел удалиться, когда она обратилась к нему с вопросом:
– Извините! Потрудитесь сказать мне ваше имя: император, мой отец, конечно, пожелает узнать, кто был кавалер, не задумавшийся броситься в пруд, чтобы исполнить мой каприз, за который мне теперь, право, стыдно.
Кавалер вспыхнул от удовольствия.
– Мое имя – граф Нейпперг, – тихим голосом ответил он. – Я нахожусь на службе его величества как генеральный консул. На сегодняшнее утро я как раз получил аудиенцию у императора и прошу вас, ваше высочество, милостиво извинить меня: я должен вернуться домой и переодеться для представления его величеству.
– Идите, граф! Я извинюсь за вас перед моим отцом, который, узнав, что это я виновата в вашем опоздании, уже заранее простит вас.
И она еще раз улыбнулась Нейппергу.
А он из этой нечаянной встречи на берегу пруда вынес неизгладимое впечатление, глубокое, как рана.
С этого дня малоподвижному девичьему воображению Марии Луизы иногда рисовался образ Нейпперга, но неясно и не смущая ее сердца мыслью или желанием, которые она не могла бы доверить отцу или своей воспитательнице. Психологический момент еще не наступил, и слово «любовь» имело для принцессы лишь значение любви христианской или родственной. Она не забыла Нейпперга, даже иногда думала, что с удовольствием встретила бы его при дворе своего отца, но ожидание этой встречи не возбуждало в ней никаких страстных мечтаний.
Известие о браке с французским императором не давало ей ни малейшего повода думать, что это событие может иметь какое-либо отношение к графу Нейппергу, поэтому она очень удивилась, когда Франц II сказал ей:
– Нет, милое дитя, дело идет не о таком сотоварище, каким был для тебя твой Зозо. Я хочу дать тебе шталмейстера – благородного дворянина, во всех отношениях достойного такого доверенного поста; придворного кавалера, который будет служить тебе при чужом для тебя дворе, будет всегда около тебя, своим присутствием напоминая тебе твою родину, беседуя с тобой о твоем отце и родных – обо всем, что ты покидаешь здесь навеки. Ты поняла меня? Ты должна с кротостью и добротой относиться к этому представителю моей власти, к поверенному, а в случае нужды – даже защитнику, которого я приставлю к тебе.
– Батюшка, я буду поступать согласно вашим желаниям, – спокойно ответила эрцгерцогиня, в глубине души очень мало интересуясь наставником, которого ей навязывали, и продолжая сожалеть о своей собачке Зозо.
– Твой новый шталмейстер вступит в исполнение своих обязанностей с завтрашнего же дня, так как принц Нёшательский уже в дороге и его прибытие в Вену ожидается с минуты на минуту.
– Как вам угодно, батюшка!
– Но… Ты даже не спрашиваешь, кто этот кавалер? – сказал император, слегка задетый равнодушием дочери.
– В самом деле! Как же его зовут?
– Граф Нейпперг, который давно служит нам. Он был уполномоченным при Марии Антуанетте. Его возраст и характер вполне ручаются за него, и я надеюсь, что ты останешься довольна моим выбором.
– Да, батюшка, – ответила Мария Луиза, в сущности довольная, что снова увидит изящного незнакомца, о котором часто вспоминала, но нисколько не подозревая, какое место займет в ее жизни этот предупредительный кавалер, ментор и наставник, которому ее поручают, и какую роль – увы! – он сыграет в несчастиях Франции, корону которой так торжественно готовился ей поднести принц Нёшательский.
IX
11 марта 1810 года совершилось в Вене заочное бракосочетание Марии Луизы, причем в качестве представителя царственного супруга фигурировал эрцгерцог Карл.
Отбытие из Вены Бертье, увозившего новую императрицу, было обставлено очень торжественно. В Браннене, на границе австрийских владений, немецкие офицеры и придворные дамы откланялись и их сменили французы. Император австрийский провожал свою дочь до границы инкогнито; там он нежно простился с нею, и слезы струились по его загорелым щекам, огрубевшим в беспокойной, малоблагоприятной жизни. Но его дочь оставалась совершенно равнодушной.
Мария Луиза не испытывала ни малейшего волнения, покидая дворец, где протекало все ее детство. Она не проронила ни единой слезинки, прощаясь с отцом, который любил ее, но к которому она была совершенно равнодушна. Единственно, что причиняло ей горе во время путешествия, была мысль о любимой собачке Зозо, оставшейся в Вене.
Неаполитанская королева, сестра Наполеона, выехала навстречу Марии Луизе и сопровождала ее на пути во Францию. Этот путь представлял собою сплошной ряд оваций, подношений цветов, триумфальных арок, хвалебных гимнов, речей, пиршеств и церемониальных маршей.
Все эти почести, совершенно новые для Марии Луизы, приводили ее в восторг и наполняли гордостью. У нее, казалось, не было ни желания поскорее увидаться со своим супругом, ни сожаления о покинутом родительском доме и родной стране, возвращение куда не могло ей тогда представляться возможным. Однако время от времени она слегка поворачивалась и бросала благосклонный взгляд на Нейпперга, сопровождавшего ее карету.
Между тем Наполеон с лихорадочным нетерпением считал дни и часы. Его состояние граничило почти с безумием. Он беспрестанно только и думал о своей будущей супруге и готов был сократить все формальности, все, что отдаляло их свидание. Навстречу новой императрице ежедневно отправлялись курьеры и специальные гонцы, чтобы засвидетельствовать ей расположение того, кто ждал ее с неизъяснимым нетерпением. Чтобы успокоить нервы и утихомирить свою пылкую страсть, Наполеон отправлялся на охоту, хотя не любил подобного рода удовольствия и с наивной радостью посылал Марии Луизе огромные корзины, наполненные настрелянной им дичыо.
Недовольный своим портным, он выписал громадный набор всевозможных костюмов, не находя ничего, что казалось бы ему достаточно подходящим. Сапожники не покидали Фонтенбло целыми часами, занимаясь примерками. Наполеон отсылал министров и маршалов, запирался на полдня с учителем танцев Деспрео и старательнейшим образом учился танцевать вальс.
Желая во всем понравиться Марии Луизе, он приказал вынести из картинной галереи все картины, изображавшие победы над Австрией, так как боялся оскорбить дочь Франца, оставляя у нее на глазах изображения отцовских поражений.
Любовная лихорадка Наполеона усиливалась еще более при мысли об обладании девушкой, чистой, прекрасной, целомудренной, соблазнительной, существом недоступным, запретным, являвшимся в его глазах как бы из другого, высшего мира. Он был безумно влюблен в Марию Луизу, хотя знал ее только по портретам, быть может, неверным и приукрашенным. Его пленило главным образом ее царственное происхождение. Он не мог скрыть свое счастье, свою гордость и торжество бедняка-корсиканца: ведь его мать ходила в свое время на базар с корзинкой и испытывала горькую нужду, почти голод, а он вдруг женится на эрцгерцогине, дочери и внучке трех императоров. Это, быть может, единственный момент, когда обаятельный, великий Наполеон казался довольно ничтожным!
По церемониалу первая встреча их величеств должна была состояться между Компьенем и Суассоном. В двух лье от Суассона на дороге была устроена площадка с двумя входами, и на ней был поставлен шатер, окруженный решеткой. В момент приближения Марии Луизы император должен был выехать из Компьеня в сопровождении принцев и принцесс в пяти каретах, конвоируемых гвардейскими отрядами. В назначенном месте император и императрица должны были встретиться; в шатре императрица должна была преклонить колена, а император – поднять ее и заключить в свои объятия. Затем оба они должны были сесть в карету и отправиться в Компьень, где городские власти должны были встретить и приветствовать их.
Однако этот величественный церемониал был нарушен из-за безумной страсти Наполеона.
Как только было получено известие, что императрица выехала из Витри в Суассон, он не мог более сдерживаться, вскочил в карету и в сопровождении Мюрата пустился во всю прыть навстречу своей супруге, решив явиться перед нею инкогнито. Проскакав таким образом пятнадцать лье, император близ деревни Курсель преградил путь каретам эрцгерцогини и, бросившись к экипажу изумленной Марии Луизы, представился ей, удалил свою сестру Каролину, а сам, оставшись наедине с молодой девушкой, обрушился на нее с грубыми ласками, которые и удивили, и испугали ее, а быть может, даже сразу оттолкнули от него. Наполеон приказал форейтору гнать лошадей, чтобы как можно скорее прибыть в Компьень. Гнали безостановочно и проехали мимо шатра, приготовленного для торжественной встречи, оставив за собой изумленных офицеров, придворных, местные власти и население, собравшееся со всей округи.
В десять часов вечера 28 марта Наполеон и Мария Луиза прибыли в компьенский дворец. Императрица должна была там остановиться одна, а для Наполеона была приготовлена комната в особом флигеле. Но он не воспользовался этим помещением. Торжество гражданского бракосочетания было назначено на 1 апреля, а 2 апреля должно было состояться венчание в соборе Парижской Богоматери, после чего только и мог совершиться брак. Но Наполеон спешил, как будто дело шло о военном походе против Австрии. Поужинав вместе с Марией Луизой, которая считалась еще невестой, он спросил ее, не согласилась бы она, чтобы он теперь же вступил в свои права супруга.
Принцесса не знала, что ей на это ответить. Тогда Наполеон пригласил своего дядю, кардинала Феша, и спросил:
– Не считаете ли вы, что наш брак уже состоялся представительством в Вене и мы теперь – муж и жена?
– Да, ваше величество, по гражданскому закону вы уже сочетались браком, – почтительно ответил придворный кардинал.
После этого Наполеон остался, решив воспользоваться своими супружескими правами.
На следующее утро он велел подать завтрак в спальню Марии Луизы, цветущей, спокойной как всегда и нимало не смущенной присутствием своих дам.
Придворные дамы скрыли впечатление, какое произвел на них этот эпизод. Они были настолько поражены, что даже не заметили, как в передней императрицы ее австрийский адъютант проливал горькие слезы, забившись в кресло.
X
Любила ли когда-нибудь Наполеона Мария Луиза? Возможно, что в первые месяцы этого брака, заключенного австрийским двором в качестве перемирия с врагом, молодая австриячка нашла прелесть в удовольствиях замужества и почувствовала некоторую признательность к тому, кто познакомил ее с ними. Однако позже она не только забыла про этот медовый месяц, но даже не стыдилась признаться, что всегда была равнодушна к Наполеону.
Вот, например, как она приняла известие о фатальной развязке, сделавшей ее вдовой императора.
Курьер привез ей в Парму лаконичную депешу от отца, гласившую:
«Генерал Бонапарт скончался на острове Св. Елены после продолжительной и тяжкой болезни 5 мая 1821 года, в 5 часов 45 мин. вечера. Шлю тебе, дорогая дочь, мои самые нежные утешения. Генерал Бонапарт умер как христианин. Присоединяя мои молитвы об упокоении его души к твоим, прошу Бога сохранить тебя под Своей защитой. Франц».
Мария Луиза тотчас же ответила отцу. Уведомляя его о получении депеши, сообщавшей печальную новость, она написала:
«Признаюсь, что я крайне поражена. Хотя я никогда не питала к нему каких бы то ни было чувств, я все же помню, что он является отцом моего сына; правда, говорили, что он дурно обходился со мной, но я заявляю здесь, что он всегда выказывал по отношению ко мне полное уважение и внимание, а в сущности говоря, это все, чего можно требовать в политическом браке. Я очень огорчена, и, хотя нужно было бы радоваться, что он окончил, как христианин, свое несчастное существование, тем не менее я желала бы ему долгих лет счастья и жизни, только подальше от меня».
Какое суровое, жестокое письмо! А между тем Мария Луиза была горячо любима тем, кто сначала руководствовался лишь простым тщеславным желанием. Наполеон добивался руки дочери австрийского императора и желал иметь детей от эрцгерцогини; позже, сделавшись повелителем и мужем, он стал влюбленным и рабом. В Марии Луизе он действительно любил женщину. Он всеми силами старался ей понравиться, он осыпал ее подарками, расточал знаки внимания, но Мария Луиза принимала все это с равнодушной надменностью, как должную дань. Для своей Луизы, которую он называл «ты», требуя того же от нее, что, впрочем, нисколько не смущало эту принцессу, отличавшуюся мещанскими вкусами, Наполеон был готов на все.
Так, например, он изменил своей закоренелой привычке есть быстро и смотреть на обед как на простой перерыв в дневной работе. У Марии Луизы был волчий аппетит. За столом, изобиловавшим яствами, приходилось сидеть долго. Однако Наполеон покорился этому, считая за счастье смотреть, как его супруга объедается в свое удовольствие.
Сама она даже в возрасте сорока одного года сохранила все привычки ранней молодости, веселость выпущенной на свободу школьницы, съезжавшей по перилам лестницы, играющей в жмурки и горелки в парке Мальмезон. Наполеон играл с ней в мяч, в прятки и в кошки-мышки. Вечером под сенью деревьев в Компьене или Сен-Клу он устраивал с придворными дамами игры, и можно было часто видеть победителя Европы «собирающим мнения» или за ширмой спрашивающим «сестру Луизу» в качестве привратника монастыря.
Мария Луиза захотела иметь лошадь, и Наполеон тотчас же обратился в берейтора, а когда она выучилась ездить верхом, он впервые в своей жизни пренебрег важнейшими государственными делами, диктовкой повелений, проверкой отчетов и вообще всеми мелочами, касавшимися управления обширной империей, в которые он вникал лично, чтобы отправиться сопровождать верхом молодую амазонку. К несчастью, сложные политические отношения заставляли его не раз прерывать верховую езду и возвращаться в свой кабинет. Он удалялся с тяжелым сердцем, оставляя Марию Луизу беззаботной, скорее веселой, продолжать без него прогулку. Тогда, выждав момент, когда император должен был удалиться, граф Нейпперг показывался императрице; она дружелюбно подзывала его, и он приближался.
– Поезжай, Наполеон, – говорила императрица в таких случаях супругу, – я не хочу соперничать ни с Савари, ни с Талейраном. Отправляйся к своим солдатам и полицейским шпионам, а я сделаю еще два или три тура галопом. О, не беспокойся… со мной ничего не случится. Кроме того, меня будет сопровождать Нейпперг.
С тяжелым вздохом император поворачивал лошадь и возвращался во дворец, нисколько не беспокоясь относительно Нейпперга. Этот австрийский адъютант был приставлен к Марии Луизе ее отцом. Он был своего рода опекуном, избранным Францем I, и Наполеону и в голову не могло прийти заподозрить его в любовной интриге с Марией Луизой. Возраст Нейпперга и его подчиненное положение устраняли какое бы то ни было недоверие императора.
Но у женщин, даже носящих титул императрицы, самое невероятное часто становится истиной и самые худшие предположения оправдываются.
Ревность к Нейппергу у Наполеона проснулась внезапно.
Однажды он сопровождал императрицу в одной из ее верховых прогулок в Сен-Клу, когда на повороте дороги у подъема на холм близ Монтрету они встретили человека, стоявшего у дороги. Этот человек, правильнее говоря – великан, был одет в поношенную солдатскую шинель, на которой выделялся знак отличия военного ордена; на голове у него была плоская фуражка. Левая рука была на перевязи, но правую он держал горизонтально, как бы салютуя толстой и длинной палкой с серебряным набалдашником. Он стоял при въезде на мост с очевидным намерением обратить на себя внимание императора, галопировавшего возле императрицы в сопровождении только графа Нейпперга и верного Рустана, в его обычном костюме мамелюка, с тюрбаном на голове, в широких шароварах, при палаше и с пистолетами, заткнутыми за пояс. Более чем храбрый, отважный даже перед подосланными убийцами, Наполеон, находясь вместе с императрицей, принимал некоторые меры предосторожности. Он увидал этого необычайно высокого человека, как будто подстерегавшего его на дороге, и, несколько задержав свою лошадь, стал приглядываться к нему без малейшего беспокойства, даже не подзывая к себе Рустана. Крик «Да здравствует император!» вырвался из груди великана, продолжавшего салютовать своей большой палкой с серебряным набалдашником как ружьем. Наполеон круто остановил лошадь и подозвал незнакомца.
Великан подошел, по-прежнему держа с серьезным видом свою палку.
– Я где-то видел тебя! – сказал вдруг император. – Постой, не был ли ты тамбурмажором в первом гренадерском полку моей гвардии?
– Да, я там был, ваше величество!
– Почему же тебя там теперь нет?
– Моя рука, ваше величество. Картечная пуля попала в нее при высадке на остров Лобау.
– Ах! Ужасное сражение. Эсслинг! Асперн! Могила моих храбрецов… Здесь я потерял Ланна. Ты служил под начальством герцога Монтебелло? – спросил Наполеон печальным тоном, потому что воспоминание об этом сражении с сомнительным исходом, в котором пал один из его лучших друзей, не оставлявший его в дни несчастий, всегда вызывало у императора тяжелое чувство.
– Ваше величество, под Берлином он был позади меня, когда я первым, с моей тростью тамбурмажора в руке, во главе первого гренадерского полка вошел в столицу пруссаков.
Наполеон расхохотался.
– Ей-Богу, я узнал тебя. Я же сам и надел на тебя орден. Вечером под Иеной… ты один взял в плен целый эскадрон красных драгунов?
– Со мной была моя трость! К тому же ваше величество, все знали, что вы были поблизости!
– Хорошо, льстец! Ну, теперь я вспомнил… Тебя зовут л а Виолетт?
– Точно так, ваше величество!
И ла Виолетт взял по всем правилам «на караул», испугав этим лошадь императрицы, безучастно прислушивавшуюся к беседе императора со старым солдатом.
– Хорошо, – сказал император, наклоняясь к лошади и сильно ущипнув за ухо ла Виолетта. – О чем ты просишь?
Ла Виолетт показал на молодую женщину в трауре, стоявшую на коленях в нескольких шагах, и произнес:
– Ваше величество, у нее прошение…
Император сделал нетерпеливое движение.
– Что нужно этой женщине? Пенсию? Имеет ли она на нее право? Что, она – вдова одного из моих солдат?
Ла Виолетт вместо ответа подал женщине знак приблизиться.
Поднявшись с колен, дрожащая, с покрасневшими глазами, просительница пролепетала:
– Ваше величество, я прошу справедливости… милосердия. Прошу вас, ваше величество, прочтите! – И она подала императору бумагу.
Наполеон развернул ее, прочел подпись и воскликнул:
– Генерал Мале… это о генерале Мале, неисправимом якобинце, заговорщике, изменнике, идеологе. Что ему нужно от меня? Я мог бы расстрелять его за все проделки и интриги, но ограничился лишь отправкой в Сент-Пелажи. Пусть он там и останется. Пусть он даст забыть о себе.
– Соблаговолите прочесть, ваше величество, – пролепетала женщина, набравшись немного смелости.
Наполеон быстро пробежал поданное ему прошение; это было письмо, составленное в очень почтительных выражениях, от генерала Мале, арестованного два года тому назад за попытку на покушение филадельфов, раскрытую благодаря промаху одного из заговорщиков – генерала Гийома, который пытался склонить к измене своего друга генерала Лемуана, находившегося не у дел. Последний, желая заслужить расположение и милость Наполеона и загладить свое прошлое, предупредил начальника полиции о заговоре и выдал всех, чьи имена были известны. Мале был мало замешан в это дело, и лишь на одного Демайо ложилась вся тяжесть доноса.
Письмо Мале заключало в себе следующее:
«Ваше Величество! Сделав все, что предписывали мне долг и честь, чтобы указать Вам мою невиновность и непричастность к этому печальному делу, я решил ожидать молчаливо того акта справедливости и милосердия, который может вернуть мне свободу. Два года прошло с тех пор, Ваше Величество, а меня еще держат в тюрьме как преступника за намерения, быть может, нескромные, но во всяком случае преувеличенные и истолкованные в дурную сторону из желания возвести на мою голову гнусные подозрения, единственной защитой от которых могла бы служить память о моей прежней службе. Так как она. забыта, а заслуги, которые я имел счастье оказать Вам, Ваше Величество, быть может, никогда не доходили до Вашего сведения, то я считаю необходимым вкратце напомнить о них, прилагая эту записку, содержанию которой умоляю Вас уделить минуту внимания».
Император, которого покаянные выражения прошения привели в более милостивое настроение, быстро пробежал список заслуг генерала Мале, между которыми тот не забыл упомянуть о своей приверженности к делу 18 брюмера.
– Оказывается, Мале вовсе не так страшен, как мне расписал его Фушэ, – пробормотал император, удовлетворенный почтительным тоном просителя, – он вовсе не был таким неукротимым заговорщиком, каким мне изображали его в полицейских донесениях.
После этого Наполеон перелистал несколько страниц записки и бросил взгляд на ее конец. Генерал Мале, перечислив все свои несчастья, заканчивал письмо следующими словами:
«Такие невзгоды могли бы вселить скорбь в самую мужественную душу, но меня утешает мысль о том, что лучшим доказательством могущества монархической власти является право прекращать и одним словом исправлять незаслуженные несчастья осужденных. Этого слова я жду, Ваше Величество, надеясь на Вашу справедливость и доброту, которые могут вернуть мне свободу. Находясь в силу повеления от 31 мая 1808 года в заключении, я скорблю при мысли о том, что не могу быть более полезен своей службой Вам, Ваше Величество, и умоляю Вас приказать военному министру разрешить мне вернуться в Иль де Франс, где я мог бы снова вступить в свою семью, если, конечно, Вы найдете это уместным. Остаюсь с глубоким уважением покорным, послушным и верным слугой Вашего Величества. Генерал Мале».
Император пробормотал:
– Это писано от чистого сердца. Я рад убедиться в искреннем раскаянии генерала Мале. Но я не могу даровать ему свободу, о которой он умоляет; это послужило бы нежелательным примером. Необходимо сперва заглушить даже малейшие признаки мятежного духа в армии. Все, что я могу сделать, – обратился он к женщине, – это разрешить генералу Мале выйти из тюрьмы Сент-Пелажи; но он будет еще на некоторое время помещен в госпиталь, и таким образом его заточение будет несколько облегчено. Потом я подумаю. Ну, ты рад, ла Виолетт?
Наполеон весело обернулся к тамбурмажору; в глубине души он был доволен своим милосердием, проявленным по отношению к такому несерьезному врагу, каким оказался генерал Мале. Он уже хотел пустить лошадь легкой рысью, чтобы нагнать императрицу, когда просительница сказала:
– Ваше величество, вы только что оказали мне милость: теперь я прошу о справедливости.
Император сейчас же остановил лошадь и сказал:
– Прежде всего скажите, кто вы? Родственница генерала Мале, его жена, дочь?
– Нет, ваше величество! Спросите ла Виолетта, он скажет вам, кто я. Этому свидетелю вы можете поверить.
– Говори! – сказал император красному и смущенному тамбурмажору, сунувшему свою трость под мышку, чтобы отдать честь, приложив руку к фуражке.
– Ваше величество, – заговорил ла Виолетт, – эта женщина солдат. Она была в походе со мной… и ее звали Красавчик Сержант.
– Красавчик Сержант? Мне знакомо это имя. Подойдите сюда! Я, кажется, видел вас когда-то?
– Да, ваше величество, это было довольно давно. В Париже, в гостинице «Мец». Вы тогда очень позаботились обо мне… о нас… я хочу сказать – о Марселе, который был полковым лекарем в Валенсе и благодаря вашему покровительству был переведен в Верден…
– Марсель? Постойте, мне кажется, что это имя мне уже знакомо! Что сталось с ним?
– Ваше величество, его также арестовали вместе с генералом Мале. Он заключен в тюрьму в Гаме. Марсель никогда не был на стороне врагов вашего величества. Убедившись, что один человек, которого он считал таким же честным французом, как и самого себя, замышляет восстановить королевскую династию во Франции, он указал на этого агента графу де Прованс.
– Вы знаете имя этого агента?
– Ваше величество, его зовут маркиз де Лавиньи.
– Он не арестован?
– Он на свободе, тогда как Марсель в тюрьме.
– Я проверю и выясню все, что вы сказали мне. Но, – спросил император после минутного размышления, – кому сообщил Марсель о планах этого агента Бурбонов?
– Министру полиции, ваше величество, герцогу д'Отранту!
– Фушэ ничего не сказал мне. Он не говорил мне ни о маркизе де Лавиньи, ни об этом заговоре… Ах мошенник! Он, пожалуй, заодно с ними! – проворчал император возбужденным тоном, а затем продолжал: – Хорошо! Если дело обстоит так, как вы говорите, я подумаю и поступлю по справедливости!
После этого император, очень взволнованный, повернув лошадь, пустился в том направлении, куда уехала императрица.
Ренэ, успокоенная участием императора, воспрянула духом и сказала ла Виолетту, указывая ему на таверну, зеленая беседка которой манила отдохнуть:
– Вы, вероятно, чувствуете жажду. Пойдемте, я угощу вас.
– От бутылочки я никогда не отказываюсь, Красавчик Сержант, а сегодня, кстати, жарко, да и разговор с императором вогнал меня в краску.
– Я хочу написать моему узнику, – сказала Ренэ, – я горю желанием поделиться с ним хорошими вестями. Перевод Мале в госпиталь – уже шаг к свободе. Что касается Марселя, то император, подробно разузнав, не оставит его в тюрьме.
– Выпьем же за его освобождение и за здоровье императора! – весело сказал ла Виолетт, усаживаясь за стол в беседке вместе с Ренэ, менее печальной и даже почти улыбавшейся.
В то время как Ренэ писала Марселю, а ла Виолетт вспоминал о своих походах, опоражнивая бутылку, Наполеон ехал по парку, разыскивая свою супругу.
Он заметил свежие следы лошадиных копыт на одной из аллей, а потом следы вдруг исчезли. По примятой траве было видно, что всадники свернули с дороги, чтобы углубиться в лес.
– Странно, – проговорил про себя император, – зачем Луиза свернула с дороги? Не случилось ли чего-нибудь? Не понесла ли лошадь?
Волнуясь, он свернул в свою очередь с дороги в лес, сопровождаемый Рустаном, и, проехав немного, Увидел двух лошадей, привязанных к дереву.
Наполеон узнал скакуна императрицы, тотчас сошел с коня, так как густые ветви деревьев затрудняли дальнейшее движение, и, бросив поводья Рустану, направился в чащу.
Неподалеку находилась лужайка с простой беседкой посредине, из которой доносились звуки голосов.
Наполеон узнал резкий голос императрицы, к которому присоединился мужской баритон. Его глаза свирепо сверкнули, а рука, державшая хлыст, слегка задрожала.
В голове в одно мгновение промелькнули тысячи раздражающих, тяжелых, скорбных мыслей, в мозгу зашевелилось неопределенное подозрение, смутные догадки, ревность.
Вместо того чтобы сдержать себя, обождать, отдать себе отчет, потому что разговор лиц, находившихся в беседке, был настолько громок, что он мог слышать его, Наполеон бросился как бешеный в беседку, крича Нейппергу, стоявшему на почтительном отдалении от императрицы, которая сидела:
– Что вы здесь делаете? Уходите! Императрица не должна оставаться наедине с вами в глубине леса!
Нейпперг поклонился и, ничего не сказав, вышел.
Императрица, не изменяя своему обычному спокойствию, смеясь сказала:
– Что с тобой, Наполеон? Уж не ревнуешь ли ты?
Император, гнев которого остыл при виде его прелестной супруги, всецело властвовавшей над ним, стал бормотать возражения.
Ревность – низкое чувство, и такой человек, как Наполеон, не должен был бы поддаваться ей; к тому же Нейпперг, приставленный австрийским императором к дочери, не мог внушить ему подозрение; однако видимая близость и глубокая привязанность, которую, казалось, питала императрица к этому кавалеру, требовали его удаления. Он получил вместе с хорошим вознаграждением приказ возвратиться в Австрию.
Мария Луиза не настаивала на сохранении при себе этого адъютанта, но страшно рассердилась на Наполеона за такое решение. Он казался ей смешным со своими подозрениями, отвратительным в своей ревности. Зато Нейпперг, которому она все время выказывала знаки благоволения, стал в ее глазах жертвой супружеской тирании. Она думала о нем, мысленно вспоминала тысячи мелких подробностей из их ежедневных бесед, и в ее мыслях он занял одно из важных мест. Мария Луиза с умилением вспоминала о первой встрече с ним. Приключение на пруду с цветами получило теперь в ее глазах совершенно особенное значение. Она поняла, что Нейпперг любил ее. Мария Луиза созналась себе, что и он ей не был противен, и перебирала в уме его любезности, заботливость, манеру держать себя всегда почтительно, но в то же время с некоторым оттенком превосходства; последнее так действовало на нее, что она, вообще крайне гордая, при нем чувствовала себя слабой, покорной, побежденной.
В течение всего дня, когда Нейпперг уезжал, она проплакала в укромном уголке своей комнаты, удалив Наполеона под предлогом головной боли, а в тот момент, когда Нейпперг садился в карету, горничная передала ему маленькую шкатулку, которую он открыл с волнением и чувством счастья. В шкатулке были перстень и голубая незабудка.
XI
Вызвав к себе великого канцлера Камбасереса, император заперся с ним в обширном кабинете и занялся рассмотрением дела маркиза де Лавиньи. Слова Ренэ и подозрение министра полиции в измене только подтвердили опасения, зародившиеся у него благодаря внутренним военным заговорам. Ему небезызвестны были деяния графа де Прованса в Лондоне, но Фушэ каждый раз, когда император спрашивал его, отвечал с уверенностью, что с той стороны нечего опасаться беды. Таким образом и сам Наполеон стал понемногу забывать о тех, кто на чужбине в ожидании его поражения готовились к реставрации, считавшейся в то время невозможной и невероятной.
Итак, опасность перестала угрожать со стороны недовольных военных вроде Мале, мечтавшего о возмущении полков и содействии гарнизона гибели Наполеона. Эти казарменные мятежи были невероятны. Выражения в письме генерала Мале доказывали, что по крайней мере в данный момент филадельфы отказались от своих планов.
Оставались неведомыми замышляемые роялистами ухищрения Бурбонов, сношения, которые поддерживались во Франции принцами с помощью денег и с помощью Англии. Пожалуй, тут-то и таилась настоящая опасность.
Де Лавиньи, тайного агента, тем более опасного, следовало бы арестовать десять раз. Без сомнения, уже предупрежденный в настоящее время, он мог ускользнуть обратно в Англию.
Фушэ оставил его на свободе. Со стороны министра тут была или преступность, или глупость: он или не знал о его роли агента принцев и тогда заслуживал просто отставки за свою неспособность, или же ему были известны как присутствие де Лавиньи в Париже, так и цель, которую он преследовал; в последнем случае Фушэ оказывался изменником, достойным жестокой кары.
Раздраженный приключением в беседке, недовольный своей горячностью, которую он не мог сдержать при виде Нейпперга возле императрицы, Наполеон поспешно послал в полицейскую префектуру за сведениями о филадельфах и маркизе де Лавиньи. Он отдал этот приказ таким резким, нетерпеливым тоном, что секретарь, посланный за этими бумагами, находясь в очень хороших отношениях с Дюбуа, префектом полиции, не мог умолчать о явном гневе Наполеона.
Граф Дюбуа встревожился и, сев в карету, сам повез во дворец потребованные от него справки. Когда Наполеон принял его в своем кабинете, там уже был Камбасерес.
Император казался сильно взволнованным. Он прохаживался взад и вперед по комнате. На письменном столе лежал лист бумаги большого формата, на котором было набросано несколько строк его совершенно неразборчивым почерком. Император, круто повернувшись, внезапно остановился пред графом Дюбуа и сказал:
– Дюбуа, этот Фушэ – страшный негодяй.
Префект полиции, враг Фушэ, поклонился, не говоря ни слова. Он не одобрил и не подтвердил это определение, сделанное императором его начальнику.
Принявшись снова шагать по кабинету, Наполеон обратился тогда к Камбасересу:
– Да, это негодяй! Страшный негодяй! Но пусть он не рассчитывает сделать со мной то, что сделал со своим Богом, своим конвентом и своей директорией, которые были поочередно преданы и проданы им на самый низкий манер. Я дальновиднее Барраса и сладить со мной будет потруднее! Пусть Фушэ остерегается. Но у него есть мои записи, инструкции, и я хочу получить их обратно. – Тут, вернувшись опять к Дюбуа, император прибавил: – Я знаю, что вы и Фушэ – заклятые враги, однако, несмотря на это, я избрал именно вас, чтобы вы исполнили важное поручение, относящееся к этому человеку. Важное в особенности для него, потому что здесь дело идет о его голове!
– Ваше величество, – сказал Дюбуа, – соблаговолите избавить меня от такой чести. Вы сами изволили сказать, что герцог д'Отранте – мой враг; он вообразит, что я пришел к нему с враждебной целью.
– Молчать! – продолжал император. – Вы поедете к Фушэ, чтобы исполнить государственную миссию, с которой не справиться никому, кроме вас. Слушайте внимательно! Герцог в бытность свою министром получил от меня много записок, конфиденциальных писем: нужно добыть их обратно.
– А вы требовали их у него раньше, ваше величество?
– Требовал, и не раз. И знаете, что он мне отвечал? Будто эти бумаги сожжены им! Чтобы он, Фушэ, стал жечь мои бумаги, бумаги, написанные моей рукой! Никогда не поверю!
– Ваше величество, я потребую обратно эти записки.
– Да, мне они нужны сейчас! Я только что получил доказательство, что Фушэ изменял мне, что он был в сношениях с роялистскими агентами. Я хочу лишить его возможности вредить мне; он уже не министр полиции. Отправляйтесь в его замок Ферьер, где он теперь находится, и моим именем потребуйте у него бумаги.
– Ваше величество, мне был бы нужен их список.
– Вот он! – сказал Наполеон, кидая Дюбуа большой лист, испещренный иероглифами.
– А если его светлость герцог д'Отранте ответит отказом? – спросил префект, убежденный заранее, что хитрый министр ни за что не расстанется с бумагами, которые служили ему охраной, с бумагами, имевшими отношение к казни герцога д'Энтьена.
– «Если он ответит отказом»?! – гневно воскликнул император. – Возьмите с собой десятерых жандармов, и пускай его отведут тогда в Аббатство, а я покажу ему, как скоро можно решать судебные дела! Ступайте, Дюбуа, и постарайтесь избавить меня от этого изменника!
Облегчив себя таким крутым поступком, император подписал декрет, которым герцог де Ровиго назначался министром полиции, и его ярость утихла. Он с улыбкой отпустил Камбасереса и Дюбуа, после чего сошел вниз к императрице.
Дюбуа старательно исполнил поручение, однако ему не удалось ничего захватить в замке Ферьер; Фушэ заранее спрятал в безопасное место бумаги, которые продал впоследствии Людовику XVIII. Впрочем, эти документы не представляли той важности, которую приписывал им Наполеон. Они устанавливали прежде всего, что казнь герцога д'Энтьена произошла по наущению Савари, получившего потом титул герцога де Ровиго и назначенного как раз преемником Фушэ.
Отрешенный от должности министр заверил Дюбуа в своей почтительности к императору, с которой он принял постигшую его опалу, и сообщил о своем предстоящем отъезде в Рим, а сам тайно покинул Ферьер и засел в Париже, устроившись в маленьком домике невзрачного вида. Окруженный здесь надежными агентами, которыми он пользовался для личных целей, организовав собственную контрполицию, Фушэ зорко следил за каждым шагом императора, императрицы и всех лиц, приближавшихся к ним.
В бытность министром ему случалось получать довольно темные донесения, содержание которых, однако, живо интересовало его. Они касались шталмейстера-австрийца, назначенного его величеством Францем II состоять при Марии Луизе, графа Нейпперга. Кое-какие личные наблюдения позволили Фушэ проверить точность сведений, доставленных его сыщиками.
– Граф Нейпперг влюблен в императрицу, – сказал он, улыбаясь про себя, и его лисий профиль принял выражение необычайного лукавства. – Дело очевидное… даже слишком очевидное, если император заметил что-то неладное и удалил графа. Но любит ли его императрица? Этот вопрос, требующий проверки. Впрочем, я увижу сам. Нейпперг уехал, но он вернется; я уверен, что он покажется в Вене лишь на короткое время, как раз достаточное для того, чтобы французский посланник успел убедиться в его присутствии, а потом уедет снова, не мешкая. – Фушэ понюхал табакерку и пробормотал: – Как заяц в нору, вернется этот любезник во дворец. Тут я его сцапаю и притащу, как верный пес, императору, который поневоле признает мое усердие и поспешит загладить свою теперешнюю несправедливость. Или же – ведь императрица могущественна и пользуется большим влиянием на супруга! – я предупрежу ее об опасности… возьму ее под свою защиту и спасу ее. Тогда Мария Луиза изъявит мне свою признательность. – И, восторгаясь своей проницательностью, Фушэ, обнадеженный, успокоенный, сказал сам себе, потирая руки: – Пусть Нейпперг вернется через два месяца… тогда я отошлю вас в ваши поместья, герцог де Ровиго!
XII
– Вот шляпа вашей светлости! – сказала горничная Лиза, отворяя дверь гостиной, где Екатерина Лефевр, стоя пред трюмо, выгибалась и вертелась, примеряя амазонку, только что принесенную ей портнихой.
На другой день предстояла охота в Компьене, устроенная императором, и герцогиня Данцигская заказала себе для этого случая длинную юбку, жакет с металлическими пуговицами и кокетливую шляпку.
Она ворчала про себя, надевая юбку и корсаж, который оказался ей чересчур тесным:
– Ни за что не влезть мне в него! Наверное, он лопнет на мне, когда я буду стоять перед их величеством, и меня поднимут на смех! – заключила она вздыхая. – Ну, да что за важность? Наплевать! Я нисколько не хуже этих жеманниц! Ах, если бы только хоть одна из них попалась мне когда-нибудь с глазу на глаз! Королева Каролина, например! Даром, что она сестра императора, я задала бы ей такую трепку, что ух! Это напомнило бы ей то время, когда она сама ходила в прачечную. Мы присягали в верности и повиновении его величеству, а не ей! Черт возьми! Ведь не эта Мюратша выиграла сражение под Аустерлицем! Ну давай шляпу, Лиза! – Екатерина схватила головной убор, поданный горничной, надела на голову, слегка сдвинув на затылок, и, посмотрев в зеркало, воскликнула: – Совсем не к лицу мне эта шляпа! По-моему, она мала мне. Шляпочник делает их только по своей голове.
– Не прикажете ли, ваша светлость, позвать его? Он дожидается в прихожей. Это приказчик шляпного мастера.
– Хорошо, пусть войдет! – согласилась Екатерина и снова принялась вертеться и прихорашиваться перед трюмо.
Дверь отворилась. Герцогиня продолжала свое занятие, то снимая, то надевая шляпку, то сдвигая ее набекрень нетерпеливыми движениями. Но вдруг у нее вырвался крик: она увидала в зеркале человека, приведенного Лизой, приказчика из шляпной мастерской, обернулась и поспешно сказала, указывая озадаченной горничной на дверь;
– Оставьте нас!
«Что такое сегодня с герцогиней? – недоумевала Лиза. – Странное дело, как ее смутил приход этого приказчика из магазина!»
И, закрывая за собой дверь, плутовка рассмеялась:
– Ага! Должно быть, она знала его, когда была еще прачкой. Странная дружба, приятное воспоминание давних времен! Вот была бы потеха, если бы этот молодчик, прикативший из Парижа с головным убором для герцогини, уехал отсюда, снабдив украшением также и голову почтенного маршала! Ха-ха!
Пока Лиза потешалась таким образом над своей титулованной госпожой, та проворно подбежала к приказчику и, схватив его за руки, воскликнула:
– Это вы? Какими судьбами удалось вам попасть в Компьен?
– Я был в Париже и, зайдя к вашему шляпочнику, случайно узнал, что вам отправляют сюда готовый заказ. Я последовал за приказчиком, которому была поручена его доставка. Дорогой мне удалось с помощью наполеондора уговорить его, чтобы он передал мне свое поручение, а сам обождал меня в кабачке. Я заменил его и, по-видимому, искусно вошел в роль: по крайней мере ваши люди поддались на обман. Принимая меня, ваш управляющий предложил мне сделать приписку к вашему счету, лакей потребовал с меня полагающийся ему процент, а ваша горничная настоятельно рекомендовала мне не забывать о ее булавках. После всего этого, кажется, вы можете быть спокойны относительно моей безопасности!
– Какая неосторожность! Как будто вы не знаете, что у вас могущественные враги при дворе!
– Только один, именно сам император!
– И того достаточно! Ах, какая поднялась бы тревога, если бы узнали, что граф Нейпперг находится здесь!
– Никто не узнает! – беззаботно возразил Нейпперг.
Это действительно было так.
Не будучи в силах дольше переносить разлуку, влюбленный пренебрег всем, чтобы вернуться во Францию и увидать Марию Луизу, как предугадывал Фушэ.
– А шпионы! – подхватила встревоженная Екатерина. – Вспомните о том, что вас выслеживают, за вами наблюдают, ходят по пятам. Императору, конечно, доставляли сведения о вас, писали донесения.
Женскую прислугу императрицы расспрашивали обо всем. Одним словом, если вас найдут, если узнают о вашем пребывании во Франции, то вы погибнете!
– Я рассчитываю остаться здесь лишь самое короткое время; через два дня, самое позднее, мне надо пуститься обратно в Вену.
– Тогда зачем же вы явились?
– Я должен увидеть императрицу.
– Это невозможно! К чему такая настойчивость? Вы неосторожны! Мало того: вы не имеете права смущать покой императрицы, навлекать на нее подозрения.
Нейпперг задумался на минуту, потом, взяв за руку Екатерину, сказал ей с волнением:
– Дорогая герцогиня, не расспрашивайте меня слишком подробно! Не заставляйте открыть перед вами мое сердце, мое печальное сердце! Вы угадали! Вы видите – я люблю императрицу, что-то подсказывает мне, что и она не совсем равнодушна ко мне…
– Несчастный! Обманывать императора! Это смерть для вас, позор, несчастье для императрицы, потому что она будет отвергнута тогда своим супругом! Откажитесь от этой безрассудной страсти!
– Не могу! Только с моей жизнью угаснет эта безумная любовь! – с жаром воскликнул Нейпперг. – Но я не хочу по крайней мере, чтобы моя страсть повредила той, которая' зажгла ее во мне.
– Что вы задумали? О какой смелой попытке мечтали, возвращаясь сюда?
– Увидаться в последний раз с Марией Луизой, как я вам говорил, и передать ей одну вещь, полученную от нее, вот это кольцо, – продолжал граф, вынимая из кармана маленький футляр. Он открыл его и вынул оттуда перстень, который Мария Луиза подарила ему с цветком, сорванным ею на память в день его отъезда. Нейпперг покрыл поцелуями эту вещицу и снова убрал в футляр, который крепко стиснул в руке, говоря про себя: – Я должен расстаться с этой драгоценностью, которая для меня дороже всех сокровищ мира, дороже моей собственной жизни. Но – увы! – так нужно.
– Так для того, чтобы передать этот футляр императрице, вы покинули Австрию и явились сюда, пренебрегая гневом Наполеона, рискуя подтвердить его ревнивые подозрения?
– Мог ли я поступить иначе? Наполеон – вероятно, благодаря нескромности горничной императрицы – узнал, что этого кольца уже нет у Марии Луизы. Она уверяла, будто кольцо нечаянно потеряно. Наполеон потребовал, чтобы его непременно нашли. Императрица смогла уведомить меня о том. Получив ее отчаянное письмо, я поспешил покинуть Вену. Сегодня вечером Мария Луиза получит обратно свой перстень, и подозрения ее супруга рассеются.
– Но если вас схватят, чем вы оправдаетесь? Кроме того, кто поможет вам проникнуть во дворец?
Нейпперг колебался с минуту, не спуская пристального взгляда с Екатерины, а затем произнес:
– У меня только одна-единственная добрая и верная приятельница во Франции, а именно вы, дорогая герцогиня. Я надеялся, что вы согласитесь при данных обстоятельствах прийти мне на помощь, оказав содействие, и, пожалуй, спасти меня… еще раз!
– Нет, не рассчитывайте на меня!
– Екатерина Лефевр, вспомните десятое августа! Зачем подобрали вы меня тогда, защитили от мести национальных гвардейцев, собиравшихся расстрелять меня, раненого пленника?
– Теперь уже не десятое августа, милейший граф, – с достоинством ответила Екатерина, – я сделалась супругой маршала Лефевра, герцогиней Данцигской. Я всем обязана императору. Мой муж, его верноподданный, товарищ его сражений и славы, теперь маршал императорских войск, герцог империи Наполеона; с ним он прошел все поля битв в Европе. Нам – моему мужу и мне – не подобает содействовать планам противника его величества, хотя бы он был нашим личным другом, а мы сами были обязаны ему признательностью за давние услуги: ведь если помните десятое августа, то и я не забываю ночи в Жемапе! Рассудите хорошенько, граф, и вы поймете, что требуете от меня невозможного! Я не должна знать о том, что привело вас во Францию. Честь императора, добродетель императрицы даже не могут затрагиваться в нашем разговоре.
– Значит, вы покидаете меня на произвол судьбы?
– Я советую вам уехать, вернуться в Вену, не делая попытки приблизиться к императрице.
– Это сверх моих сил. А как же кольцо?
– Доверьте его мне! Я возвращу потихоньку Марии Луизе заветную вещицу. Обещаю вам это!
И Екатерина протянула руку Нейппергу.
Он припал к ней долгим поцелуем и прошептал:
– О, благодарю, благодарю! Передайте вместе с тем императрице, что хотя я и удаляюсь, но готов спешить к ней по первому зову, по первому знаку.
– Я исполню ваше поручение, граф, но полагаю и надеюсь, что императрице никогда не понадобится напоминать вам ваше сегодняшнее обещание и прибегать к вашей преданности.
– Как знать, герцогиня, почва подрыта под стопами вашего государя.
– Мина взорвется без вреда для Наполеона, победа покровительствует ему! Посмотрите на его трон, окруженный коленопреклоненными королями. Кто осмелится прорваться за эту ограду венценосных караульных, стоящих на часах со скипетрами?
– Распростертые в прахе короли поднимутся и отомстят за то, что им так долго пришлось гнуть спину. Мне известно многое, милая герцогиня. Венский двор выдал мне свою тайну. Пусть ваш император остерегается! Гроза идет, скоро грянет гром.
– Если бы роковая буря и угрожала императорскому трону, то не из Вены ударит она, я полагаю. Ведь ваш император приходится тестем нашему.
– Мой государь никогда не принимал всерьез сближения с Наполеоном. Он пожертвовал родной дочерью, чтобы сохранить несколько своих провинций. Этот брак, заключенный из политических целей, может быть и расторгнут с помощью политики. Пока Наполеон будет скакать с победой на крупе своего коня, к нему будут относиться по-прежнему как к зятю Франца Второго, но стоит ему пошатнуться, вылететь из седла и скатиться в канаву побежденным, как все пойдет прахом. Когда он захочет встать на ноги, то царственный тесть протянет ему не руку, а шпагу острым концом. Франц поступит так, как поступят повелители России, Пруссии, Англии. Вот его настоящие союзники, настоящая родня. Он никогда не расстанется с ними и поможет им доконать поверженного Наполеона. Поэтому повторяю вам снова: уверьте императрицу, что в день несчастья, который я предвижу, она увидит меня спешащим к ней, чтобы пролить за нее кровь, пожертвовать ей всю мою жизнь.
– Однако у вас мрачные предчувствия, Нейпперг! К счастью, ничто не предвещает здесь их подтверждения. Не забывайте, что Наполеон по-прежнему могуществен, что его трон не опрокинут, что его охраняют преданные слуги, готовые безжалостно покарать того, кто позволит себе бродить вокруг императрицы, подстерегая ее. Такому человеку не будет пощады: приказы на этот счет даны самые строгие.
– Я знаю, – с улыбкой ответил Нейпперг, – первый телохранитель Наполеона – мамелюк Рустан. Но, как ни окружай он себя восточными янычарами, чтобы сторожить свою особу и свою жену, все-таки его дворец – не гарем турецкого султана. Там не схватят человека, чтобы заткнуть ему рот и утопить в Босфоре!
– Не шутите ни с ревностью Наполеона, ни с палашом Рустана.
– Мне известно, что Наполеон посадил за решетку, замуровал Марию Луизу. Он держит ее взаперти, точно одалиску. Я знаю, что каждому мужчине, не исключая заслуженных офицеров, не исключая его лучших друзей: Бертье, Камбасереса, Лефевра, Коленкура, запрещено являться на половину императрицы иначе как по приглашению и в сопровождении самого Наполеона. Я знаю также слепую преданность мамелюка: он убил бы родного отца, если бы нашел его вопреки данному приказу в коридорах дворца. Но я принял свои предосторожности, я сделал себя неприкосновенным!
– Как это неприкосновенным?
– Не объясняя австрийскому императору настоящую цель моей тайной поездки во Францию, я сообщил ему в частном разговоре, что увижу императрицу в Париже, в Сен-Клу, в Компьене, что я свободно побеседую с ней и Мария Луиза сможет сообщить мне без свидетелей, счастлива ли она, хорошо ли обращается с нею Наполеон.
– Неужели императору Францу нужен таинственный посол вроде вас, чтобы узнать о чувствах своей дочери? Разве императрице запрещают писать родному отцу?
Нейпперг едва заметно пожал плечами.
– Вы забываете Савари! Он организовал черный кабинет повсюду – в Сен-Клу, в Тюильри, в Компьене. Ни одно письмо не отправляется в Вену, не будучи предварительно распечатано, представлено императору и снова запечатано с большим искусством. Герцог де Ровиго слывет мастером по части вскрытия писем, по части умения снимать сургучные печати лезвием раскаленного докрасна ножа. Зная о том, император австрийский уполномочил меня добиться тайного разговора с его дочерью. Ради этого, пренебрегая всем, я проникну переодетый в Компьеньский дворец…
– Нейпперг, не губите себя, не компрометируйте императрицу! Поклянитесь мне, что вы немедленно уедете, не пытаясь проникнуть к ее величеству.
Нейпперг колебался.
– Но вот что еще: на кого вы рассчитываете, кто может ввести вас к императрице?
– На госпожу де Монтебелло.
– Статс-даму? Это важный вопрос! А известно ли вам, граф, что по случаю болезни генерала Орденэ, заболевшего внезапно, к большой досаде императора, Компьеньский дворец передан под охрану Лефевра, который занимает здесь теперь должность гофмаршала? Госпожа де Монтебелло состоит под началом моего мужа, и он отвечает за самовольное появление во дворце каждого лица, которое не было вызвано сюда. Нейпперг, не захотите же вы заставить Лефевра выбирать между его дружбой к вам и долгом? Ведь вы знаете, что он непреклонный человек.
– Неужели Лефевр прикажет расстрелять меня? – с улыбкой спросил австриец.
– Если бы император велел, если бы вас застали здесь – да! Итак, уезжайте, умоляю вас, ради нашей старинной дружбы, ради вашего сына Анрио, которого император любит. Не захотите же вы испортить ему карьеру, разбить его будущее из-за минутного разговора, из-за свидания, не обещающего никакой надежды. Уезжайте!
– Будь по-вашему! Я послушаюсь вас. То, что вы сказали мне про Лефевра, которого я не хочу подвергать ответственности, заставляет меня отказаться от моего плана. Я уеду! Моя карета ожидает на суассонской дороге. Я зайду за приказчиком шляпного фабриканта, которого заменял тут, и отправлю его обратно в Париж, а сам немедленно пущусь назад в Австрию. Итак, прощайте! Вы передадите кольцо ее величеству и скажете ей то, что я сообщил вам.
В эту минуту раздался стук в дверь и в комнату заглянула Лиза.
– Что случилось? Почему нам помешали? – с живостью спросила Екатерина.
– Господин де Ремюза, камергер его величества, желает говорить с вашей светлостью.
– Камергер? Ах, да, знаю, – сказала вполголоса Екатерина. – Должно быть, это из-за стычки, которая опять произошла у меня вчера с сестрами императора. О, им досталось от меня! Они, конечно, пожаловались, и мне предстоит нагоняй от императора. Пригласи же сюда господина де Ремюза, – прибавила герцогиня, обращаясь к Лизе, которая сгорала от желания узнать, о чем могла шептаться ее госпожа с приказчиком из шляпного магазина. – Прощайте! – сказала герцогиня Нейппергу.
– Итак, ваша светлость, вы довольны исполнением заказа? – спросил «приказчик».
– Очень довольна! Передайте от меня поклон вашему хозяину! – И герцогиня бросилась в кресло, чтобы с подобающим достоинством принять камергера его величества.
XIII
Приказ, переданный камергером Ремюза, был строг, Император немедленно требовал герцогиню Данцигскую к себе в кабинет.
Посланный ушел, исполнив поручение, а герцогиня поспешила переодеться и закуталась в плащ, отправляясь к Наполеону.
Он занимался за письменным столом, освещенным тремя свечами и лампой. При нем был его камердинер Констан, варивший ему кофе. Флигель-адъютант де Лористон и де Бригод ожидали пакетов, которые вручал им император. По коридорам беспрерывно носили эстафеты.
Раздраженный, взволнованный Наполеон с лихорадочной поспешностью подписывал разложенные перед ним бумаги. Вперемежку с этим он яростным взором пробегал иностранные газеты, заполненные корреспонденциями скандального свойства, которые были направлены против его частной жизни и в особенности задевали его сестер. Предметом этих недоброжелательных анекдотов служили рубака Жюно, любовник Каролины, и де Фонтан, ректор университета. Прочитав, Наполеон сердито комкал и кидал в огонь топившегося камина вырезки из враждебных листков, ежедневно доставляемых ему бдительным Савари.
Одна из этих ядовитых статей особенно рассердил императора: в ней говорилось о немилости, постигшее графа Нейпперга, шталмейстера императрицы, приставленного к ней ее августейшим отцом. Остальное сводилось к намекам на то, будто отъезд этого графа довел до отчаяния Марию Луизу, которая горевала и томилась, проклиная ревность Наполеона.
К этим причинам раздражения императора присоединилась еще сильная досада: обе его сестры, беспрерывно ссорившиеся между собой (Элиза все более и более завидовала Каролине, получившей сан королевы, тогда как сама она была только герцогиней Лукки и Пьомбино), затеяли перебранку с Наполеоном, которая, начавшись по-французски, закончилась на корсиканском наречии с чисто южным избытком жестикуляции. В разгаре спора рассерженный император, напрасно пытавшийся унять обеих болтливых сорок, бросив помешивать угли в камине, перед которым он, задыхаясь от гнева, грел ноги, схватил щипцы и, размахивая ими с комичным и азартным видом, пригрозил расходившимся сестрицам этим орудием, как бывало во времена нужды в убогом марсельском жилище Бонапартов.
Таким образом Екатерина Лефевр, на которую королева неаполитанская с герцогиней Лукки и Пьомбино подали формальную жалобу, могла рассчитывать на весьма нелюбезный прием со стороны разгневанного государя. Однако она вооружилась терпением и, будучи уверена в том, что присутствие духа не изменит ей, приготовилась дать отпор грозному повелителю, который требовал ее к себе, чтобы распечь.
На всякий случай, как последнее оружие защиты, Екатерина, порывшись в своем ларце, где у нее хранились драгоценности и особенно дорогие вещицы, вынула оттуда пожелтевший листок бумаги, протершийся на сгибах, что свидетельствовало о долгом лежании в бумажнике. Взглянув на эту бумажку с умилением, как на милое воспоминание далекого прошлого, герцогиня сунула ее за корсаж и, видимо, приободрившись, чувствуя себя более способной отразить колкие грубости Наполеона, прошла довольно твердым шагом ряд длинных коридоров Компьеньского дворца, где дремали дежурные офицеры, и достигла порога императорского кабинета.
Рустан, верный мамелюк, стоял на карауле. Один из адъютантов доложил о приходе герцогини Данцигской и удалился.
Екатерина Лефевр вошла, сделала реверанс и стоя ожидала, чтобы император, читавший ведомость, представленную ему министром финансов, заговорил с нею.
Глубокая тишина царила в кабинете Наполеона.
– Ах, вот и вы! – воскликнул император, внезапно подняв голову. – Славные вещи узнал я про вас, нечего сказать! Что такое произошло третьего дня? Опять ваш язык не знал удержу и вы отпускали крепкие словечки, которые потешают всех журналистов Европы, придавая моему двору сходство с рыночной площадью! Я знаю, что вы – женщина далеко не глупая, но вы не можете усвоить придворную манеру выражаться, вы никогда не учились этому. О, я не сержусь на вас за подобное невежество, мне досадно только за Лефевра, который имел глупость жениться сержантом, тогда как У него в ранце лежал маршальский жезл! – Наполеон замолчал, подошел к буфету, где на конфорке стоял горящий кофейник, налил себе полчашки кофе и проглотил душистый напиток, горячий, как крутой кипяток. Затем, вернувшись к Екатерине, которая стояла неподвижно, спокойно, выжидая, когда минует гроза, он продолжал: – Ваше положение при дворе стало невозможным, вы удалитесь отсюда. Вам назначат содержание, вы не будете иметь повода жаловаться на материальные условия, в которые будете поставлены. Ваш развод не изменит ничего в вашем звании, в ваших преимуществах. Я уже сообщил обо всем этом Лефевру. Говорил он вам?
– Да, ваше величество, Лефевр сказал мне все.
– А что ответили вы мужу?
– Я? Да расхохоталась ему в глаза!
Император от удивления уронил серебряную чашку, снятую им с блюдечка, и она покатилась со звоном.
– Это что за новости? А что сказал, что сделал сам Лефевр?
– Он расцеловал меня, давая клятву, что не послушается вас!
– Однако это чересчур! И вы осмеливаетесь отвечать мне таким образом – мне, вашему императору, вашему повелителю?
– Ваше величество, вы наш повелитель, наш император, это совершенно верно, – с твердостью сказала Екатерина. – Вы можете располагать нашим достоянием, нашей жизнью – Лефевра и моей… мы обязаны вам всем! Вы император и можете одним жестом, одним мановением руки бросить на Дунай, на Вислу пятьсот тысяч человек, которые с радостью позволят убить себя ради вас. Но вы не можете заставить Лефевра и меня разлюбить друг друга, не можете разлучить нас друг с другом. Ваше могущество кончается здесь. И если вы попытаетесь выиграть эту битву, то напрасно: тут вас постигнет поражение!
– Вы полагаете? Но так как, насколько я слышал, язык у вас не на веревочке, то вам следовало бы уметь держать его за зубами и не доставлять моему двору зрелища слишком частых скандалов, подобных вчерашнему. Разве не оскорбили вы королеву неаполитанскую и герцогиню Лукки и Пьомбино? Вы оказываете неуважение к императору в лице членов его семьи. Могу ли я потерпеть эти публичные дерзости, эти оскорбления, которые вы позволяете себе как будто нарочно?
– Ваше величество, вы плохо осведомлены; я только защищалась, оскорбления исходили не от меня. Сестры вашего величества оскорбляли армию… да, армию в моем лице! – сказала Екатерина, гордо выпрямляясь, почти с отвагой принимая военную осанку.
– Я вас не понимаю, объяснитесь!
– Ваше величество, ваши августейшие сестры упрекали меня в том, что я принадлежала к числу тех геройских солдат Самбр-э-Мёз, со славой которых можно сравняться, но не превзойти ее.
– Это правда! Но как вы попали в их ряды?
– Маркитанткой тринадцатого пехотного полка. Я. сопровождала Лефевра. Верден, Жемап, Альтенкирхен… Я служила в северной армии, в мозельской, ц рейнской, в армии Самбр-э-Мёз. Восемнадцать походов. Мое имя было упомянуто в реляции о деле под Альтенкирхеном.
– Ваше имя? Удивительно!
– Славный подвиг, да, ваше величество. А не так-то легко было отличиться в этих армиях. С Гошем, Журданом, Лефевром все были героями.
– Но это очень хорошо! Очень хорошо! – улыбаясь, сказал император. – Черт возьми! Как это Лефевр ни разу не заикнулся мне о том?
– С какой стати, ваше величество? У него хватало славы и почестей на двоих. Я только случайно упомянула об этом. Если бы не подвернулся случай, я не сказала бы ни слова. Вот хоть бы моя рана…
– А вы были ранены?
– Ударом штыка под Флерю… тут, пониже плеча, в руку!
– Посмотрим! Дайте мне применить единственное леченье, подходящее для этой прекрасной руки. – И, Превратившись в любезного кавалера, Наполеон приблизился к Екатерине, взял ее руку и припал губами к тому месту, где австрийский штык оставил свою метку в виде шрама. Затем, развеселившись и перестав браниться, он пробормотал: – Славная, атласная кожа! Вы позволите, герцогиня?
– О, у меня тут нет больше ран! – смеясь, сказала она, спеша освободиться и оттолкнуть проворные, слишком смелые пальцы Наполеона, соблазненного, разгорячившегося, восхищенного, после чего прибавила с лукавой миной: – Однако же вам понадобилось много времени, ваше величество, для того, чтобы заметить атлас моей кожи…
– Мне? Да разве вы были когда-нибудь… так близки от меня? – спросил Наполеон, придвигаясь опять к Екатерине, чтобы ласково потрепать ее по белой пухлой руке.
– А как же, ваше величество! О, это было давно, очень давно! В славную эпоху десятого августа я не была еще помолвлена с Лефевром. Однажды утром я пришла в маленькую комнату в гостинице «Мец», где вы тогда квартировали.
– Совершенно верно! А за каким чертом явились вы в мою тогдашнюю каморку? – полюбопытствовал Наполеон, все более и более заинтересованный тем, что рассказывала герцогиня Данцигская.
– Я принесла вам чистое белье, в котором вы очень нуждались. Ах, тогда стоило вам захотеть! Не ручаюсь, что я ушла бы такой, как пришла. Но вы совсем и не думали обо мне! Вы уткнулись носом в географическую карту и все время, пока я была у вас, не двинулись с места, как тумба… Вот почему я вышла за Лефевра! Тогда он не нравился мне, а теперь я обожаю его. Если бы вы объяснились мне в любви, я отдала бы вам предпочтение, говорю истинную правду! Но все это было когда-то и быльем поросло; не надо и думать о том, ваше величество!
И Екатерина, оканчивая описание сцены, кинула на императора иронический взгляд.
Наполеон внимательно смотрел на нее. Его необычайно глубокий взор озарился странным сиянием при этом воспоминании о прошлом, и он с любопытством продолжал:
– Значит, вы были тогда…
– Прачкой! – подсказала Екатерина. – Да, ваше величество; ваши сестры упрекнули меня в этом.
– Прачкой! Прачкой! – проворчал Наполеон. – Кажется, вы занимались всевозможными ремеслами? Маркитантка – это еще куда ни шло, но прачка!
– Ваше величество, люди делают что могут, когда хотят зарабатывать хлеб честным трудом. Да и то сказать, прачечное ремесло было не из выгодных – очень уж туго платили заказчики. Вот хоть бы, к слову поверите ли вы, что в вашем дворце есть один военный, который еще не уплатил мне по счету с той поры?
– Надеюсь, вы не рассчитываете на меня, чтобы получить с него долг? – спросил Наполеон, наполовину смеясь, наполовину досадуя.
– А то как же! На вас одних, ваше величество. Ведь я требую только положенного. Кроме того, мой должник пошел далеко… он достиг высокого положения, – сказала герцогиня, насмешливо посматривая на императора, а затем прибавила, достав из-за корсажа пожелтевшую бумажку, которую сунула туда, когда камергер пришел звать ее к Наполеону: – О, ему нельзя отказаться от своего долга. Вот тут у меня письмо, в котором он, признавая поданный счет, просил меня обождать немного с уплатой. Постойте, я прочту вам, что тут написано: «… в настоящую минуту я не могу рассчитаться с Вами; мое жалованье, недостаточное для меня самого, должно еще идти на поддержку моей матери, братьев и сестер, бежавших в Марсель вследствие волнений, разыгравшихся на Корсике. Когда я буду восстановлен в чин капитана артиллерии…»
Наполеон кинулся к Екатерине, поспешно взял у нее из рук письмо, которое она читала, и воскликнул с видимым и глубоким волнением:
– Значит, то был я! Ах, вся моя молодость оживает в этой измятой бумажке с побледневшим почерком! Да, я был тогда беден, безвестен и, пожираемый честолюбием, в то же время беспокоился об участи моих родных, тревожился судьбами моего отечества. Я был одинок, без друзей, без кредита, не имея никого, кто верил бы в меня. А вот вы почувствовали доверие ко мне… вы… простая прачка. О, теперь я припоминаю! Вы оказались доброй и предвидели, что ничтожный артиллерийский офицер не застрянет навсегда в каморке меблированного дома, где вы оставили ему принесенное вами белье из жалости к его одиночеству и бедности… Император не забудет этого!
Наполеон был искренне растроган. Весь его гнев пропал. С благоговейным вниманием рассматривал он пожелтевший листок и усиленно припоминал мельчайшие события той эпохи.
– О, – сказал он, – теперь я вижу вас такую, какой вы были у себя в лавочке на улице Онорэ-Сен-Рок. Мне кажется, что я там… Вот мастерская с ее лестницей, ее столами, ее ушатами, огромным камином. Дверь вашей комнаты была налево, а выходная дверь направо. Большие окна, двустворчатая дверь и повсюду белье: развешенное для сушки, выглаженное… Но как же вы назывались тогда, до вашего замужества?
– Екатериной… Екатериной Юпшэ.
Император покачал головой. Это имя было ему незнакомо.
– У вас не было другого имени? Понимаете? Прозвища… клички?
– Было. Меня называли Сан-Жень.
– Теперь я припомнил! И это прозвище осталось за вами и при моем дворе!
– Повсюду, ваше величество! И на полях сражений также.
– Ваша правда, – с улыбкой подтвердил император, – вы хорошо сделали, что защищали свою благородную юбочку маркитантки против наглости придворных мантий. Избегайте, однако, этих сцен, которые мне неприятны. Я сам, Катрин Сан-Жень, потребую с этих пор уважения к вам от всех. Будьте завтра на охоте, которую я даю в честь баварского принца. В присутствии всего двора, в присутствии моих сестер я стану говорить с вами таким образом, что никто не посмеет больше задевать вас или ставить вам в упрек ваше скромное происхождение и бедную молодость, которую вы разделяли, впрочем, с Мюратом, с Неем… со мной, черт побери! Позвольте, однако, до вашего ухода император обязан еще уплатить долг артиллерийского капитана. Сколько я вам задолжал, мадам Сан-Жень?
И Наполеон принялся весело шарить по своим карманам.
– Три наполеондора, ваше величество! – ответила Екатерина и протянула руку.
– Вы ставите слишком высокие цены! – возразил император, умевший разбираться в расходах и тщательно проверявший свои счета в ливрах, су и денье.
– Сюда прибавлена плата за починку, ваше величество.
– Мое белье вовсе не было рваным!
– Извините, пожалуйста! А потом проценты…
– Ну так и быть! Я подчиняюсь… – И Наполеон продолжал ощупывать, обшаривать карманы своего жилета и брюк с комической поспешностью. – Клянусь честью, мне не везет, – добродушно промолвил он, – при мне нет этих трех наполеондоров, которые вы требуете от меня.
– Не беда, ваше величество, я опять поверю вам в долг!
– Благодарю вас! Однако становится поздно, вам пора домой. Черт побери! Бьет одиннадцать часов, и все во дворце уже спят. Нам обоим следовало бы лежать теперь в постели. Я пошлю Рустана проводить вас.
– О, ваше величество, я не боюсь! Да и кому придет в голову забраться во дворец в ночную пору? – спокойным тоном возразила герцогиня.
– Нет, по всем этим коридорам, пустынным и темным, лучше проводить вас с канделябром. – И, повысив голос, император крикнул: – Рустан!
Внутренняя дверь отворилась, и в кабинет вошел верный мамелюк.
– Ты проводишь эту даму в ее апартаменты. Они расположены на другом краю дворца, – сказал Наполеон. – Возьми канделябр.
Рустан поклонился и, взяв канделябр, притворил дверь императорского кабинета, выходившего в длинную галерею.
Он собирался двинуться вперед, предшествуя Екатерине, как вдруг обернулся к императору и с восточной невозмутимостью, но тоном, заставившим содрогнуться герцогиню Данцигскую, сказал:
– Ваше величество, по галерее ходят! Мужчина в белом… Он направляется к покоям императрицы…
XIV
Наполеон страшно побледнел, узнав, что в галерее, которая ведет в апартаменты Марии Луизы, находится какой-то человек в белом мундире.
Кто же из носящих австрийскую форму мог забраться ночью в ту часть дворца, которая даже днем была закрыта для всех посторонних?
Прежде всего Наполеон подумал о Нейпперге, но поторопился отогнать от себя эту мысль.
«Какой вздор, – стал успокаивать он себя, – Нейпперг в Вене, я напрасно беспокоюсь. Право, я, кажется, схожу с ума; мне всюду мерещится этот австриец. Нет-нет, это не он. Белый мундир, о котором говорит Рустан, может принадлежать какому-нибудь роялисту, соучастнику Кадудаля; может быть, это даже сам маркиз Лавиньи; ведь ему удалось тогда ускользнуть от Фушэ. Наверное, он забрался во дворец, чтобы убить меня, когда я засну».
С той же быстротой, с которой он расставлял войска на поле битвы, Наполеон сделал знак Рустану погасить лампу и стать за дверями его спальни, чтобы иметь возможность прибежать по его первому зову, а затем сам быстро потушил свечи, горевшие на письменном столе. Императорский кабинет погрузился во мрак; только догоравшие в камине угли бросали на пол слабый красноватый свет, позволявший видеть дверь кабинета, выходившую в галерею. Повернувшись к Екатерине Лефевр, Наполеон крепко сжал ее руку и прошептал:
– Сидите тихо и молчите!
Екатерина дрожала; она догадывалась, в чем дело, и боялась выдать тайну. Она не сомневалась, что человек в белом мундире был Нейпперг.
Она придумывала всевозможные способы, чтобы спасти австрийца, но ничего не получалось. Оставалось подчиниться обстоятельствам и молча ждать неизбежного хода вещей.
Изнемогая от жалости, чувствуя, что вся кровь прилила к ее сердцу, Екатерина опустилась на диван, на спинку которого облокотился Наполеон.
Послышался тихий шелест; дверь кабинета осторожно открылась и при свете пламени угасающих углей можно был рассмотреть женскую фигуру. Она медленно, ощупью двигалась вперед.
– Графиня Монтебелло! – прошептала Екатерина, узнав статс-даму Марии Луизы.
Наполеон снова сильно стиснул ее руку, боясь, чтобы она не вскрикнула или не шелохнулась.
Появление в его кабинете статс-дамы, осторожно осматривавшейся по сторонам, возбудило у императора прежние подозрения. Он гневным взором следил за каждым движением герцогини Монтебелло, которая, убедившись, что в кабинете никого нет, тихонько обернулась по направлению галереи, которая вела в комнату императрицы.
Наполеон не мог более владеть собой, бросился вслед за статс-дамой и в ту минуту, когда переступил порог, столкнулся с каким-то человеком, который спросил:
– Можно мне пройти, герцогиня?
Наполеон грубо схватил непрошеного гостя и крикнул:
– Рустан!
Телохранитель моментально явился, держа факел в руках.
– Нейпперг. Да, это он! – в безумном гневе прохрипел император, узнав человека в белом мундире.
Ошеломленный, не зная, что сказать, неосторожный австриец старался сохранить хладнокровие и держать себя с достоинством.
Герцогиня Монтебелло, о которой Наполеон совсем было забыл, вскрикнула от ужаса и тем напомнила о себе.
– Рустан, уведи эту женщину, – обратился император к своему телохранителю, указывая на статс-даму, – и не входи сюда, пока я тебя не позову.
Телохранитель увел почти потерявшую сознание герцогиню Монтебелло.
– Теперь поговорим, сударь, – живо обратился Наполеон к Нейппергу, на которого Екатерина смотрела с бесконечной жалостью. – Как вы попали в мой Дворец ночью? Вы забрались сюда, точно вор. Что вы вообще делаете в Париже, когда должны были бы быть в Вене?
Нейпперг был очень бледен и, стараюсь казаться спокойным, медленно ответил:
– Я покинул Вену, ваше величество, по приказанию моего повелителя, чтобы передать конфиденциальное сообщение ее величеству императрице.
– Так что это по поручению австрийского императора вы являетесь ночью ко мне во дворец? Да вы смеетесь надо мной, господин необыкновенный посланник! – не помня себя от гнева, воскликнул Наполеон.
– Вы изгнали меня, ваше величество, вход во дворец мне был запрещен; волей-неволей мне пришлось избрать для выполнения поручения моего повелителя неподходящее время. Ее величество обещала мне в полночь дать свой ответ для его величества австрийского императора!
– Императрица не могла сделать этого, вы лжете! – крикнул Наполеон.
Нейпперг вздрогнул от оскорбления.
– Ваше величество, – возразил он, стиснув зубы от обиды, – я австрийский генерал и состою полномочным министром. Сюда я явился как представитель австрийского императора к австрийской же эрцгерцогине. Вы оскорбляете меня в вашем собственном дворце, зная, что здесь я не в состоянии защищаться. Не могу не сказать вам, ваше величество, что так поступать низко!
– Негодяй! – крикнул Наполеон, приходя в бешенство.
Дерзость этого австрийца, забравшегося в его дворец ночью, чтобы похитить у него жену, довела императора до помрачения рассудка. Поддаваясь своему вспыльчивому характеру, он сорвал аксельбант Нейпперга и произнес:
– Вы явились ко мне во дворец ночью, как разбойник, и потому недостойны носить благородный знак отличия!
Выведенный из себя насилием Наполеона, Нейпперг выхватил шпагу и замахнулся ею на императора.
Екатерина быстро бросилась вперед и стала между мужчинами.
– Рустан, сюда! – крикнул Наполеон, как бичом размахивая аксельбантом, единственным своим оружием.
В одну секунду дверь из императорской спальни открылась, Рустан подскочил к Нейппергу, свалил его на землю, обезоружил и пронзительно свистнул. На этот свист прибежали еще трое телохранителей, подчиненных Рустана, и они помогли своему начальнику удержать Нейпперга.
– Пощадите его, ваше величество, будьте милосердны! – обратилась к императору Екатерина.
Наполеон молча оттолкнул ее и, подойдя к двери галереи, громко позвал:
– Лористон, Бригод, Ремюза, идите все ко мне!
Почти тотчас же в кабинет вошли дежурный камергер и адъютанты, которые находились в комнате рядом.
– Вот, господа, человек, осмелившийся поднять на меня руку, – обратился к ним Наполеон. – Бригод, вы отберите у него шпагу, а вы, Лористон, арестуйте его.
Телохранители помогли Нейппергу подняться с пола.
Бригод схватил его шпагу, а Лористон, положив руку на плечо графа, торжественно проговорил:
– Именем императора арестую вас. Куда прикажете увести арестованного, ваше величество? – спросил он Наполеона.
– Посадите его в ту комнату, которая предназначена для вас, и следите за ним, – ответил император. – Нужно известить герцога де Ровиго; пусть он распорядится, чтобы военный суд был назначен сейчас же. После удостоверения личности виновного и установления факта покушения со стороны этого господина на мою особу должен быть вынесен приговор и приведен в исполнение немедленно. Я требую, чтобы до восхода солнца все это было окончено.
Нейпперга увели в дежурную комнату адъютантов, а император прошел в свою спальню, оставив в сильной, тревоге всех свидетелей этой трагической сцены.
XV
Екатерина Лефевр находилась в подавленном состоянии в ожидании приговора Нейппергу. Она старалась найти способ спасти графа, но все ее планы оказывались неудачными. Было бы безумием надеяться на то, что можно смягчить Наполеона. Нейпперг был приговорен, ничто не могло защитить его от мести императора. Всемогущий повелитель хотел наказать графа за оскорбление, нанесенное ему как мужу Марии Луизы.
Когда маршал Лефевр вошел в кабинет императора, он нашел свою жену в полном отчаянии. Лефевр был в парадной форме и казался очень озабоченным. Один из адъютантов только что сообщил ему об аресте Нейпперга.
– Ты слышал ужасную новость? – спросила маршала его жена.
– Да, я знаю все. Несчастный сам себя погубил! – ответил ей Лефевр, вздохнув. – Император позвал меня для того, чтобы я как маршал двора председательствовал в военном суде, когда будут судить графа.
– А между тем Нейпперг спас, мне жизнь когда-то, в Жемапе, – напомнила Екатерина. – Меня хотели расстрелять, и, если бы не граф, меня не было бы теперь здесь.
– Да, у нас есть долг перед Нейппергом, – согласился Лефевр мрачным тоном. – А потом, помнишь, утром десятого августа ты в свою очередь не допустила, чтобы его убили. Да, подобные вещи связывают людей. Но, черт возьми, я ничего не могу сделать для него! Я состою на службе и вынужден подчиниться приказу императора.
– Ну, а я не состою на службе, – воскликнула Екатерина, – и не имею никаких обязанностей; я женщина с сердцем и жалею несчастного графа. Ты сказал о нашем долге, Лефевр. Да, долг сделала маркитантка, а уплатит его герцогиня. Предоставь мне свободу действовать и скажи только, кто может проникнуть сейчас к императрице?
– Единственный, кто может подойти к дверям комнаты ее величества, это я. Как маршал двора я имею право проверить, находятся ли на своих постах все часовые.
– Ах, ты можешь сделать это? – радостно воскликнула Екатерина. – Значит, не все еще потеряно, ты Сможешь мне! Постарайся подойти как можно ближе к дверям той комнаты, в которой отдыхает императрица.
– Это нетрудно сделать! – заметил Лефевр.
– И начни так сильно шуметь, чтобы она проснулась, – продолжала Екатерина. – Нужно, конечно, чтобы Мария Луиза узнала твой голос. Присутствие ночью у ее дверей маршала сразу убедит императрицу, что во дворце происходит что-то необычное. Скажи громко часовым следующее: «Следите хорошенько за тем, чтобы никто не проник в комнату императрицы. Задержите каждого, кто бы ни прошел мимо с письмом, если даже это письмо адресовано австрийскому императору». В особенности произнеси как можно громче слова: «австрийскому императору».
– Я не вполне понимаю тебя, – пробормотал Лефевр, – ты объяснишь мне…
– Это лишнее, – прервала Екатерина своего мужа, – да и времени нет. Бывают такие обстоятельства, когда каждая минута дорога; иди скорее и действуй! Главное, как можно громче произнеси слова «австрийскому императору»!
Когда Лефевр ушел по направлению к апартаментам императрицы, Екатерина начала искать кого-нибудь, кто мог бы помочь ей спасти Нейпперга, но, кроме офицеров-ординарцев и адъютантов Наполеона, никого не было вблизи, а с офицерами нельзя было говорить об арестанте, которого они обязаны были стеречь.
Уже два раза Лористон выходил из спальни Наполеона и справлялся, не приехал ли герцог Ровиго.
– Что делает этот министр полиции? Не понимаю, почему его нет до сих пор, – негодовал Лористон, – он, очевидно, не знает, что здесь происходит?
– Теперешний министр полиции ничего не знает, Даже и того, что его жена наставляет ему рога, – послышался чей-то едкий писклявый голосок.
– Вероятно, вы помогаете ей в этом, герцог? – шутливо спросил Лористон.
– Возможно. Это лучший способ следить за тем, что делает мой заместитель! – смеясь проговорил все тот же писклявый голосок.
– Ах, это вы, герцог? Само небо посылает мне вас, – воскликнула Екатерина, бросаясь навстречу бывшему министру полиции Фушэ, герцогу д'Отранте. – Бы можете оказать мне большую, огромную услугу, – начала Екатерина.
– В чем дело? Вы знаете, что я всегда был дружески расположен к вам, – ответил Фушэ, – ведь мы с вами очень давние знакомые. Вы видели меня молодым бедным человеком, все состояние которого заключалось в патриотизме и революционном задоре, а я вас помню прачкой. Теперь вы – герцогиня…
– А вы – бывший и будущий министр полиции, – прервала его Екатерина. – Но не в этом дело. Вы слышали, что произошло с графом Нейппергом?
– Да. Ожидают только Савари, чтобы расстрелять австрийца!
– Нельзя допустить смерти Нейпперга, – горячо воскликнула Екатерина, – я надеюсь, вы поможете мне снасти его.
– Надеетесь на меня? – с удивлением переспросил Фушэ. – На каком основании? Граф Нейпперг – австриец и открытый враг нашего императора. Он мне не друг и не родственник, какое же мне дело до него? Он просто глуп и неловок; вместо того чтобы броситься в объятия женщины, он попадает в руки охранников. Австриец так глупо попал впросак, что пропадает всякое желание облегчить его участь.
Внезапный арест Нейпперга помешал планам Фушэ, который рассчитывал сам выследить графа и тогда, смотря по обстоятельствам, или представить его императору и получить за это благодарность, или дать графу возможность убежать, потребовав за такую услугу значительную сумму.
Теперь дело было проиграно, и потому Фушэ был в дурном настроении. Ну, стоило ли ему так долго выслеживать Нейпперга, тратить столько труда, чтобы арестовать его, когда тот сам бросается в руки Рустана!
Слова Екатерины подали некоторую надежду Фушэ: может быть, удастся снова восстановить то здание, которое собирается рухнуть?
– Кроме удовольствия быть вам полезным, какую выгоду я лично могу получить, занявшись делом Нейпперга? – спросил он.
– О, очень большую! – ответила Екатерина. – Вам хотелось бы сделаться снова министром полиции? Не правда ли? Да? Ну теперь вам представляется для этого прекрасный случай. Спасите Нейпперга – и вы получите портфель министра. Я сейчас объясню вам все. Ввиду того, что между императрицей и графом Нейппергом не существует ни малейшей интриги…
– Ни малейшей интриги! – насмешливо повторил Фушэ.
– Вы сомневаетесь в этом? – спросила Екатерина.
– Ничуть, ничуть! Каким образом австриец докажет свою невиновность? – все так же насмешливо заметил Фушэ.
– Не он один докажет, но и императрица подтвердит это! – возразила Екатерина.
– Совершенно верно. Императрица больше всех заинтересована в этом. Что же произойдет дальше?
– Если вам удастся отсрочить военный суд, удалить Савари и дать время императрице принять со своей стороны какие-нибудь меры, наш осужденный будет спасен. Когда императрица узнает, что благодаря вам казнь отсрочена, она начнет убеждать Наполеона в вашем необыкновенном уме и ловкости и ей нетрудно будет добиться от своего супруга, чтобы вам вновь вернули вашу должность, которую вы так прекрасно исполняли.
– Честное слово, герцогиня, вы склонили меня на свою сторону, – воскликнул Фушэ, доставая табакерку и взяв из нее щепотку табаку. – Вы прекрасно придумали все, и я постараюсь вырвать из рук Савари несчастного Нейпперга. Я должен сейчас же видеть императора.
В эту минуту в кабинет вошел Констан, камердинер Наполеона, чтобы узнать, не приехал ли герцог Ровиго.
– Доложите, пожалуйста, дорогой Констан, его величеству, что я здесь и весь к его услугам! – обратился Фушэ с любезной улыбкой к весьма влиятельному камердинеру.
Констан почтительно поклонился и удалился.
– Если Савари опоздает еще минут на десять и мне удастся в это время переговорить с императором то граф Нейпперг будет вне опасности! – убежденно проговорил Фушэ.
– Что же вы сделаете для этого? – спросила Екатерина.
– Я докажу его величеству, что невозможно казнить сейчас же, почти без всякого суда человека только за то, что его видели ночью во дворце. Это значило бы навлечь на себя всеобщее негодование, скомпрометировать императрицу, подтвердить скандальные слухи, которые уже и так носятся относительно Марии Луизы и графа Нейпперга и вызвать серьезное неудовольствие австрийского двора.
– Как же вы объясните его величеству присутствие во дворце графа? – поинтересовалась Екатерина.
– Заговором! – не задумываясь, ответил Фушэ.
– Но тогда нужно, чтобы заговор действительно существовал! – проговорила Екатерина.
– Это не важно. У хорошего министра полиции всегда имеются в запасе два-три заговора. У меня есть нити двух заговоров. Одно из этих сообществ – республиканское. Лагори, Мале, филадельфы… Но, конечно, было бы маловероятно, чтобы граф Нейпперг, австрийский генерал, аристократ, вступил в сношения с бывшими якобинцами. Придется прицепить его к заговору роялистов, в котором значится граф де Прованс и лондонские эмигранты.
– Это опасно, – возразила Екатерина. – Ведь можно доказать, что он не состоял в том сообществе.
– Да сообщества и нет вовсе, – хитро улыбнулся Фушэ. – Как же найти доказательства того, что оно не существует? Во всяком случае мы таким образом выиграем время. А вот и Констан. Вы пришли за мной, мой друг? – обратился Фушэ к лакею.
– Его величество приказал сказать вам, что примет вас после герцога Ровиго.
– Его величество ничего больше не прибавил? – спросил Фушэ, делая недовольную гримасу.
– Нет, его величество изволили сказать при этом, что не торопятся принять герцога д'Отранте, так как он вероятно, сообщит какую-нибудь глупую историю о новом заговоре. «Я должен покончить раньше с Нейппергом!» – вот последние слова его величества. Как видите, герцог, вам придется подождать. А вот и герцог де Ровиго.
– Что случилось? Почему император послал за мной среди ночи? – спросил Савари, запыхавшись и тяжело дыша. – Ведь вы всегда все знаете, – обратился он к Фушэ, – объясните же мне, в чем дело? Держу пари, что это из-за вас меня разбудили, – прибавил он пренебрежительным тоном. – Вы, наверно, опять стараетесь вбить в голову его величеству какую-нибудь историю о военном заговоре?
– Ничего подобного, – спокойно возразил Фушэ, – дело идет о графе Нейпперге.
– О Нейпперге? – удивился Савари. – Но тот благополучно живет в своем имении возле Вены. Он охотится, занимается рыбной ловлей и играет на флейте. Я только что получил подробный рапорт об этом господине.
– Скажите об этом его величеству, мой милый заместитель, – насмешливо заметил Фушэ. – Император будет очень доволен и поблагодарит вас за точные сведения.
– Я это не считаю большой заслугой с моей стороны.
Савари гордо откинул голову и прошел в спальню императора.
– Вот все наши планы и рухнули! – воскликнул Фушэ, когда дверь за Савари закрылась. – Нужно придумать что-нибудь другое.
– Так думайте, думайте скорее! – в отчаянии прошептала Екатерина.
– Ну, вот еще одно средство; оно, правда, не особенно удачно, но у нас нет выбора, – проговорил Фушэ после короткого раздумья. – Нейпперг знает ваш почерк? В таком случае напишите то, что я сейчас скажу вам.
Фушэ взял со стола императора бювар и листочек бумаги, на котором Екатерина Лефевр должна была письменно посоветовать Нейппергу, чтобы он притворился спящим, а потом, когда его стражу постараются отвлечь, тихонько открыл окно и выскочил из него.
– Теперь положите записочку в бювар и попросите передать этот бювар от вашего имени Нейппергу для того, чтобы он мог написать перед смертью письмо своей матери, – сказал Фушэ. – В этой просьбе не откажут.
Екатерина обратилась к Лористону, и тот взялся исполнить ее поручение.
Через несколько минут он вернулся с пустыми руками; бювар дошел по назначению, и стража Нейпперга не заметила записочки, которая лежала внутри.
– Теперь я на время покину вас, – обратился Фушэ к Екатерине. – Я поставлю перед окном надежных людей, которые примут нашего пленника и переправят его дальше. Постарайтесь отвлечь Бригода, который через открытую дверь следит за графом Нейппергом; нужно дать возможность вашему протеже приготовить для побега окно и так положить свой плащ, чтобы подумали, что он сам завернулся с головой в него и спокойно спит.
Фушэ тихонько вышел, как тень, прошмыгнул между ординарцами и незаметно исчез.
– Господин Бригод, – смело и громко обратилась Екатерина к одному из адъютантов, – будьте так любезны, спросите императора, могу я уйти, или должна подождать, пока он позовет меня.
– Император желает кое о чем спросить вас, герцогиня, – вдруг услышала она за своей спиной голос Наполеона.
– Я к вашим услугам, ваше величество, – ответила Екатерина, задрожав с ног до головы.
Наполеон стал спокойным, и это не предвещало ничего хорошего. Савари следовал за ним. Что, если император велел ускорить казнь и граф не успеет убежать? Эта мысль мучила Екатерину Лефевр.
– На этот раз, надеюсь, вы хорошо поняли мое желанье? – обратился Наполеон к Савари резким то ном. – Постарайтесь быть более ловким, чем всегда.
– Ваше величество, саперы уже роют яму в лесу, – низко кланяясь, ответил герцог Ровиго, – через три часа, еще до восхода солнца, виновный будет лежать в этой яме и на земле не останется от него и следа.
Министр полиции попятился к дверям с гордым видом, довольный, что уразумел инструкции императора. Он ждал, что получит награду, когда сообщит его величеству, что дело окончено.
– Теперь мы наедине, – сухо проговорил Наполеон, смотря на Екатерину суровым взглядом. – Впрочем, мы будем сейчас втроем. Позовите сюда герцогиню Монтебелло, – обратился он к адъютанту, – и затем оставьте нас.
Статс-дама пришла трепещущая, закрыв руками заплаканное лицо.
Наполеон приступил к допросу. Он старался сбить с толку и Екатерину и Монтебелло и заставить их таким образом проговориться. Он был убежден, что обе женщины кое-что знают, что статс-дама ввела Нейпперга во дворец. Ему было известно, что Екатерина была хорошо знакома с графом. Во время пребывания во Франции Нейпперг часто посещал Лефевра; ходили слухи, что между ним и Екатериной Лефевр существует любовная интрига. Наполеон не сомневался, что граф нарочно распространял эти слухи, чтобы лучше скрыть истинное положение вещей.
Пронизывая острым взглядом испуганных женщин, император потребовал, чтобы они говорили всю правду, не скрывая ничего, как бы ужасна ни была для него эта правда. Он боялся услышать об измене жены и вместе с тем искал доказательства этой измены, предпочитая самую жестокую уверенность постоянному сомнению.
Он принимал тысячу самых разнообразных решений и с отчаянием приходил к заключению, что его жизнь разбита, надежды неисполнимы и все планы на будущее рухнули: Мария Луиза вернется к отцу, новая война восстановит против него всех монархов Европы, да и французы отвернутся от него. Но ужаснее всего было сознание, что Мария Луиза отдалась другому! Сильный, могущественный человек чувствовал себя маленьким и слабым при мысли, что его жена могла изменить ему! Он будет вынужден оттолкнуть ее, жить вдали от нее, отказаться навсегда от ее ласк! Наполеон сознавал, что не может жить без Марии Луизы. На что ему были слова, все победы, завоеванные территории? Он раздавал их братьям и своим маршалам. Ему ничего не нужно было на земле, кроме Луизы! Поэтому он с таким напряженным беспокойством задавал вопросы своим собеседницам; в их власти было прекратить его муки! Он следил за каждым движением их лиц, старался проникнуть в самую глубину их сердец.
Обе женщины твердо выдерживали этот трудный экзамен, и чем настойчивее они отвергали подозрения Наполеона, тем более смягчался его голос, тем яснее становилось выражение его глаз.
– Итак, вы думаете, герцогиня Данцигская, что я заблуждаюсь относительно причины, заставившей графа Нейпперга явиться ночью ко мне во дворец? – спросил Наполеон менее раздраженным тоном. – Вы действительно предполагаете, что герцогиня Монтебелло говорит правду, утверждая, что дело идет о письме, которое Нейпперг должен был передать моему тестю?
– Я убеждена, ваше величество, что это сущая правда! – уверенно ответила Екатерина.
– Я хотел бы, чтобы это было так! – грустно пробормотал Наполеон.
– Вы легко можете проверить слова герцогини Монтебелло, – сказала Екатерина, которой вдруг пришла в голову смелая мысль. – Императрица спит, она ничего не знает о том, что происходит здесь, во дворце. В таком случае пусть герцогиня Монтебелло при вас исполнит данное ей поручение. Если она обманывает вас, то вы сейчас же сами заметите это.
– Черт возьми, вы очень умны, герцогиня! – воскликнул император. – Я сейчас же произведу этот опыт. Только берегитесь, не вздумайте одурачить меня, – строго обратился он к статс-даме, сильно стискивая ее руку. – Не произносите ни одного слова, не делайте ни одного жеста, которые могли бы предупредить императрицу. Идите и помните, что я слежу за вами.
По приказанию Наполеона герцогиня направилась к комнате императрицы. У нее подкашивались ноги от страха. Она не знала, что Мария Луиза уже предупреждена Лефевром, который громко, у самой ее двери, сказал часовому, что всякое письмо, которое вынесут из покоев императрицы, будет вскрыто и передано его величеству.
Наполеон, судорожно сжав спинку кресла, стоял в углу и с беспокойным блеском в глазах следил за тем, что должно было сейчас произойти.
Герцогиня Монтебелло вошла в спальню Марии Луизы и, согласно распоряжению императора, оставила дверь открытой.
– Ваше величество, – громко и ясно проговорила она, – граф Нейпперг послал меня к вам за ответом, он ждет в приемной. Что вы прикажете сказать ему?
Мария Луиза глубоко вздохнула, как бы проснувшись от сладкого сна, протянула руку, достала с ночного столика письмо и подала его статс-даме.
– Вот ответ, – зевая, произнесла она, – поблагодарите от меня графа Нейпперга и уходите; я страшно хочу спать!
Монтебелло вернулась к Наполеону с письмом в руках. Император жадно схватил его, сорвал печать и начал читать.
Екатерина Лефевр и герцогиня Монтебелло с беспокойством следили за лицом Наполеона; они видели, как оно прояснялось по мере чтения, потом он вдруг расхохотался и прижал листок бумаги к губам.
– Дорогая Луиза, как она любит меня! – растроганно прошептал император. – Да, вы были правы, – обратился он затем к дамам, смотревшим на него, – здесь нет ни одного слова, которое могло бы возбудить тревогу в самом ревнивом муже. Императрица высказывает свои взгляды на политику, которые не вполне согласуются с моими, и только один раз упоминает имя Нейпперга: она просит своего отца избрать в будущий раз другого посланника, так как ей неприятно видеть при своем дворе лицо, возбуждающее своим появлением сплетни в газетах. Ах, герцогиня, я так счастлив! – с искренней радостью воскликнул Наполеон и, подойдя к Екатерине, ущипнул ее за ухо.
Это была его обычная ласка в минуты торжества.
– Теперь, ваше величество, когда ваши опасения рассеялись, я надеюсь, вы отмените военный суд и от пустите графа Нейпперга! – проговорила Екатерина, потирая ухо.
– Пусть он уезжает сейчас же и больше никогда не показывается во Франции, как советует ему императрица! – приказал Наполеон. – Я, собственно, против него ничего не имею, так как ни одной минуты не думал, что он виновен; все это глупое приключение вызвало недоверие моего тестя: австрийскому императору вдруг понадобилось узнать, счастлива ли его дочь со мной, – вот и все! А бедный Нейпперг пострадал!
Император совсем позабыл о своих недавних подозрениях, о ревности и злобе, клокотавших в нем. Позвав Ремюза, он приказал ему отдать шпагу Нейппергу.
– А затем? – спросил камергер.
– А затем проводите графа Нейпперга до кареты и пожелайте ему счастливого пути! – ответил Наполеон.
– Увы, Нейпперг уже умер! – раздался голос Савари, который вошел в комнату в сопровождении адъютантов и ординарцев.
– Как умер? Вы уже расстреляли его? – с огорчением спросил император. – К чему такая поспешность? Вы должны были подождать восхода солнца!
– Я и собирался сделать это, ваше величество, но граф Нейпперг сбежал, выскочив в окно. К счастью, под окном стояли мои агенты; они схватили преступника, посадили его в карету и отвезли в лес, где его уже ожидал взвод солдат. Спросите герцога д'Отранте – он тоже был там.
– О, совершенно случайно! – заметил Фушэ, доставая свою табакерку.
– Вы поступили глупо, – строго заметил Наполеон, обращаясь к Савари. – Раз Нейпперг убежал, нужно было оставить его в покое. Не правда ли, Фушэ?
– Совершенно верно, ваше величество, – поспешил согласиться Фушэ. – Если бы я имел честь состоять еще министром полиции, я догадался бы, что может существовать недоразумение, нужно было предвидеть, что император, наведя более точные справки, помилует обвиняемого.
– Да, следовало предвидеть это, – обратился Наполеон к злополучному Савари. – У вас нет дара предвидения, поэтому вы не можете быть министром!
– Следовало, – продолжал Фушэ, пользуясь одобрением императора, – дать полицейским агентам приказание отвести арестанта не в лес, а в сторону, противоположную той, где ждал взвод солдат. Вот как бы я распорядился, если бы имел честь быть министром полиции.
– Очень жаль, что вы не министр! – проговорил Наполеон.
– Осмелюсь доложить вам, ваше величество, – живо воскликнул Фушэ, – что я поступил так, как будто был министром. Предвидя, что существует какое-то недоразумение и что вы, ваше величество, убедившись в совершенной невиновности заподозренных лиц, пожелаете помиловать графа Нейпперга, я вызвал команду полицейских агентов, на которых я могу положиться, и приказал им отвести графа на дорогу, ведущую в Суассон. Полицейские подумали, что я снова стал министром…
– Вы действительно стали им, – прервал его Наполеон, очень довольный сообщением Фушэ.
– Полицейские повиновались мне, – продолжал последний, – и граф Нейпперг вовсе не умер, как уверяет вас, ваше величество, герцог Ровиго, не всегда точно осведомленный, а едет по направлению к Суассону, где его ожидает завтрак.
– Благодарю вас, герцог д'Отранте, – воскликнул Наполеон, – вы неоценимый администратор! Вы предугадываете то, чего другие не понимают, когда им даже разжевывают и в рот кладут. Скажите, пожалуйста, вы были уверены, что я помилую графа?
– Почти уверен, ваше величество, в особенности после того, как поговорил с герцогиней Данцигской.
– А если бы я не изменил своего первого решения, вы дали бы таким образом возможность убежать важному политическому преступнику! – сказал Наполеон.
– Ваше величество, я отправил вперед отряд полицейских, они задержали бы в Суассоне графа Нейпперга, если бы вы нашли его достойным наказания.
– Что за бес сидит в этом человеке, он предвидит все! – пробормотал император и, подойдя к Екатерине Лефевр, весело сказал ей: – Я думаю, герцогиня, что вам уже пора вернуться к своему мужу, а я пойду разбужу императрицу и уверю ее, что письмо, которое она написала, уже отправлено в Вену.
Чувствуя себя счастливым от уверенности, что Мария Луиза не обманывает его, и довольный тем, что граф Нейпперг избежал смерти благодаря догадливости Фушэ, император приходил все в лучшее и лучшее настроение. Он подошел к Екатерине, приподнял ее голову, поцеловал и ласково сказал:
– Спокойной ночи, мадам Сан-Жень!
Это была неслыханная милость при дворе Наполеона.
С чувством страстной любви к жене император вошел в комнату Марии Луизы.
Через девять месяцев после этой тревожной ночи на свет появился Римский король, которому мы посвящаем целый роман.