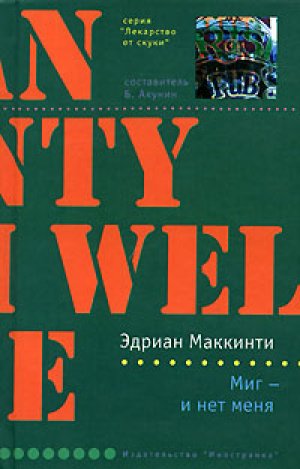
Пролог:
Ирландское конфетти
К счастью, никто не погиб. По крайней мере на этот раз. Бомбисты загодя известили власти о готовящемся взрыве, и никто не пострадал. Мы подъехали, когда все было позади. Даже криминалисты давно закончили свою работу, и полицейские подняли желтую ленту, пропуская нас на оцепленную территорию. Мы выгружали из фургонов стекло и передавали десятникам и подсобникам, которые с помощью специальных приспособлений поднимали его выше, передавая работавшим на лебедках и подъемных кранах.
Мы тоже взбирались по лестницам и, натянув рукавицы, разгружали транспортные поддоны. Остановившись, чтобы перевести дух, мы любовались открывающимся видом.
Почти вещественная твердь серого декабрьского неба над головой; неподвижные пространства заводи и заливов дышат холодом; над верфями и крышами домов плывет соленый морской туман и торфяной дым.
Потом мы снова спускались вниз, к огромным допотопным фургонам, и вынимали новые листы стекла, обрезанного под нужный размер и бережно упакованного в брезент и пластик, словно его уже давно приготовили именно для такого случая.
Саднят сорванные мозоли на пальцах, ноют натруженные спины.
В перерывах мы курим и пьем простую воду, а какой-то парень проносит из «Маркса и Спенсера» пиво и сандвичи с курятиной.
Кто-то опять взорвал отель «Европа». Как я уже говорил, при этом никто не пострадал, но взрывной волной высадило все стекла в радиусе полумили. Для стекольщиков это был роскошный рождественский подарок, а вот легавые работали сверхурочно; кроме них вокруг было полно пеших армейских патрулей и журналистов, охотившихся за сенсационной информацией для утренних газет. Бригады телевизионщиков, радиокорреспонденты, фотографы, предрассветные сумерки и битое стекло под ногами, странно похожее на бриллиантовые россыпи…
Мы работали, изредка перебрасываясь словами.
С Кейв-Хилл и Блэк-Маунтин спустился туман, и в путанице узких, разбегающихся в разные стороны проулков Сэнди-роу стало холодно и сыро. Для такой погоды мы были одеты слишком легко, поэтому десятник распорядился выдать нам вязаные подшлемники и каски, и это оказалось весьма кстати.
Все мы впервые увидели друг друга несколько часов назад на бирже труда, когда невесть откуда появившийся парень сказал, что ищет крепких ребят, чтобы грузить поддоны со стеклом. Он обещал нам по полсотни в день и премию за хорошую работу.
И все, включая тех, кто получал пособие по нетрудоспособности, тотчас согласились. Уровень безработицы поднялся до тридцати пяти процентов, так что наш неожиданный работодатель мог бы предложить вдвое меньшую сумму, и все равно мы сказали бы ему «да». Впрочем, состояние рынка труда, наверное, не имело существенного значения, коль скоро счета оплачивали страховые компании, за которыми стояло британское правительство. В конечном итоге все расходы ложились на плечи налогоплательщиков Суррея, Кента и Саффолка, а ведь если вы живете в столь тихих и спокойных местах, вы, несомненно, можете позволить себе некоторые дополнительные расходы.
Туман привел нас в хорошее настроение, поэтому время от времени кто-нибудь хватал сам себя за горло и хрипел, делая вид, будто его схватил Джек-Потрошитель.
Гораздо сильнее «Европы» пострадал расположенный напротив бар «Корона», цветные стекла и газовые фонари которого были установлены еще в сороковых годах XIX века. «Корона» была настоящим памятником истории, которым владел и управлял Национальный фонд. Теперь его хрустальные стекла с узорами, изображающими морские волны, его корабельные якоря и кельтские завитушки превратились в разбросанные по мостовой мусор и осколки.
Что касалось «Европы», уже давно стяжавшей славу самой «взрывоопасной» гостиницы Старого Света, то некоторое время назад она была перестроена согласно проекту, предусматривавшему так называемые области смятия, которые поглощали большую часть энергии ударной волны. Должны были поглощать. Впрочем, сегодняшнее испытание гостиница выдержала: здание совершенно не пострадало, и только на нижних этажах выбило стекла в окнах, перед которыми взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
Как я уже говорил, у белфастских стекольщиков не было оснований жаловаться на жизнь. Близилось Рождество, и денег, полученных с владельцев пострадавших зданий, должно было хватить, чтобы они могли купить к празднику бельгийский шоколад, виски «Айлей» или итальянские туфли. Что до нас, то нам, по большому счету, было все равно. Главное, у нас была работа, за которую нам обещали заплатить неплохие деньги. Кроме того, когда ворочаешь тяжести, не следует слишком задумываться о посторонних вещах, иначе недалеко и до беды.
Когда мы вынимали из кузова длинное и узкое стекло для двери гостиничного вестибюля, нас сфотографировал вертевшийся поблизости корреспондент «Ассошиэйтед пресс». Он уверял, что снимок должен получиться отличным. Когда мы вместе шли к полицейскому оцеплению, он сказал, что сам он из Джексонвилла во Флориде и что у них даже зимой темнеет не так быстро, а я объяснил, что географически Белфаст находится на одной широте с Москвой и Аляской и что за долгие летние вечера приходится расплачиваться зимой.
Потом корреспондент АП потрусил к зданию «Белфаст телеграф». Солдаты расселись по «лендроверам» и покатили на базу. Сменились зевающие легавые, а небольшая толпа любопытных начала рассеиваться — граждане возвращались к своим делам и заботам.
Мы все смеялись, когда наши фотографии появились на первой полосе «Телеграф». Это и в самом деле были мы: мы восстанавливали упрямый, неукротимый город, и лица у нас были упрямые. «Их дух не сломлен!» — гласил заголовок.
— Чего не скажешь об ихних спинах… — заметил на это парень по прозвищу Паук и добавил: — Ерунда все это!
И все же, выгружая из фургонов последние, самые большие поддоны, а также витринные стекла и деревянные щиты для паба, мы двигались уже по-другому — с фасоном, с сознанием собственной важности.
Пока мы работали, дождь ослабел, ветер переменился, а наша одежда покрылась кирпичной и стеклянной пылью, клочками газет, хлопьями сажи и мельчайшими частицами от разметанного взрывом автомобиля. Гнетущие, приводящие в уныние признаки и приметы террористического акта, которые хорошо известны теперь во многих городах мира… Путаница слов и осколков, которые поэт Кьяран Карсон назвал «ирландским конфетти».
При других условиях замена выбитых стекол в домах могла бы занять несколько недель, но здесь действовали профессионалы. К концу дня наша работа была закончена, стекло выгружено, и нам выплатили причитающиеся деньги и премию за то, что ни один лист стекла не был разбит или украден. Некоторые решили сберечь деньги на рождественские подарки, но большинство отправилось в «Морскую деву», чтобы пропустить по кружечке-другой.
Мы пили, угощали друг друга темным пивом, ели ирландское рагу из баранины и яйца под маринадом.
Прежде чем поздно вечером паб закрылся, я отправился по магазинам, чтобы сделать кое-какие покупки. Себе я приобрел пару книг и новую пластинку «Нирваны». А бабуле купил зимнюю куртку. Еще с военных времен она была неравнодушна к шоколаду, поэтому я не утерпел и купил ей огромную плитку «Тоблеронс». Уже по пути домой я встретил в автобусе Малыша Томми, с которым служил в армии. Томми остался на сверхсрочную и дослужился до сержанта, а меня вышвырнули после того, как я угодил на гауптвахту на (кто бы мог подумать!) Святой Елене — крошечном, насквозь продуваемом всеми ветрами островке, где при невыясненных обстоятельствах скончался еще один военный преступник, Наполеон Бонапарт. Так что я еще легко отделался… Вспоминая службу, мы немного посмеялись, и Томми назвал меня сумасбродом и мятежником, а я сказал, что теперь он точно будет генералом.
Потом был другой автобус, долгий подъем по склону холма сквозь заволакивающую окрестности дождливо-туманную мглу.
Бабуля смотрела по телевизору сериал «Улица Коронации», поэтому мне не составило труда незаметно пробраться в квартиру с купленной курткой. Поздно вечером мы поужинали «ольстерской поджаркой» — яичницей с обжаренными картофельными лепешками, сосисками, грудинкой и прочим.
Бабуля всегда смотрела только мыльные оперы, поэтому она ничего не знала об утреннем взрыве. А я не стал ей ничего говорить, иначе бы она расстроилась. Зато, когда я достал шоколад, бабуля так и расплылась от удовольствия.
— Ну зачем такие траты! — сказала она.
— Мне удалось немного подработать, — объяснил я, и бабуля пошла заваривать чай. Мы съели шоколад, а затем я помог ей разгадать последние слова в кроссворде.
Потом навалилась ночная тьма, и огни за окнами погасли. Я принял душ и отправился в постель.
Меня окружили ночные шорохи и звуки. Гудели трубы в водяном котле на чердаке. На окраине поселка нехотя лаяли собаки. «Опять нажрался, пьянчуга долбаный!» — привычно кричала на мужа миссис Клоусон за стеной. Чуть слышно потрескивали половицы и балки перекрытий — каминная труба вытягивала последнее тепло, дом остывал, и дерево съеживалось и сжималось.
Вскоре я провалился в крепкий, глубокий сон, какой бывает у хорошо поработавшего человека.
Когда на следующий день утром я спустился вниз, меня уже ждал инспектор из агентства, которое занимается пособиями по безработице. Это был крупный мужчина в очках, твидовом костюме, голубой рубашке и красном галстуке. В руках он держал планшетку с зажимом, к которой были прикреплены какие-то документы. Инспектор производил впечатление отличного парня, хотя в данном случае — учитывая обстоятельства, которые привели его к нам в дом, — было бы уместнее, если бы инспектор оказался тощим субъектом с редкими, сальными волосами. Инспектор пил бабушкин чай и доедал остатки шоколада. Поздоровавшись, я тоже подсел к столу, и он сообщил мне новости.
Оказывается, моей фотографии в «Белфаст телеграф» было достаточно, чтобы министерство здравоохранения и социального обеспечения убедилось: я не только не являюсь безработным, но, напротив, активно тружусь в области строительства, продолжая при этом претендовать на пособие. Иными словами, мне чертовски не повезло. Впервые за несколько месяцев я решил подработать — и сразу же попал на страницы самой популярной в Северной Ирландии газеты! На первую полосу, если точнее. С другой стороны, служащие министерства соцобеспечения вряд ли просматривают все газеты и сличают лица на фотографиях со снимками в регистрационных карточках. Следовательно, в моей судьбе принял участие кто-то из соседей.
— А если я скажу, что это не я? — спросил я.
— Вы отрицаете, что это вы изображены на фотографии? — ответил инспектор вопросом на вопрос.
— Я не знаю, — сказал я.
— В таком случае… — проговорил он, поправляя очки.
Бабуля предложила нам еще чаю. Я отказался. Инспектор взял еще одну чашку и придвинул поближе вазочку с овсяным печеньем.
— Сколько вам лет, мистер Форсайт? — спросил он спустя некоторое время.
— Девятнадцать.
— Следовательно, вы уже совершеннолетний. К несчастью! — добавил он зловеще.
— Послушайте, скажите же, наконец, что именно я сделал не так?!
— Вы работали на стройке и одновременно получали пособие. Боюсь, мистер Форсайт, вам придется предстать перед судом.
— Но за что?!
— За мошенничество с пособием, приятель, — осклабился инспектор.
Но до суда дело не дошло. На следующей неделе я признал себя виновным и подписал бумаги, в которых отказывался от пособия навсегда. Я по-прежнему был безработным — уже больше года я никак не мог найти работу, — но теперь даже на пособие мне рассчитывать не приходилось. Еще с неделю я проторчал дома, но бабуля не могла содержать меня на свою пенсию, и я понял, что у меня нет другого выхода, кроме как последовать совету моей кузины Лесли, которая еще в прошлом году рекомендовала мне обратиться к брату ее мужа, который работал в Штатах на некоего Темного Уайта. Темный готов был даже заплатить за мой билет, стоимость которого мне, разумеется, пришлось бы впоследствии отработать.
Мне не хотелось ехать в Америку, не хотелось работать на Темного Уайта, и для этого у меня были свои причины.
Но я все-таки поехал.
1. Белый человек в Гарлеме
Я открываю глаза и вижу железнодорожные рельсы. Вижу реку. Удушливая жара окружает меня плотной стеной. Невыносимо яркий солнечный свет отражается от парапета, от асфальта, от уродливых фасадов домов. Пар поднимается над решеткой коллектора коммунального энергоснабжения на углу. На тротуаре белеют граффити и комки жвачки. Люди на платформе… Господи, неужели на них действительно свитера и шерстяные шапочки? Повсюду мусор — газеты, объедки, тряпье, жестянки из-под содовой, жестянки из-под пива. Движение медленное, но плотное. Над улицей плывут синие выхлопы кашляющих автобусных двигателей. Горячим ядом плюются неповоротливые, побитые «бродячие» такси.[1]
Я курю. Я стою на открытой платформе подземки, смотрю на этот титанический кошмар и курю. Кожа совершенно не дышит. Я задыхаюсь. Футболка на спине промокла насквозь. Температура воздуха приближается к 100 градусам,[2] относительная влажность — девяносто процентов. Я жалуюсь на загрязненный воздух, и я же курю «Кэмел». Что за идиот!
Диспозиция вкратце такова: к западу от Бродвея всем заправляют парни-доминиканцы, к востоку — черные. Первых легко узнать по длинным хлопчатобумажным брюкам, теннисным туфлям, сетчатым футболкам и толстым золотым цепям. Черные, как правило, ходят в чистых голубых, желтых или красных футболках, мешковатых шортах и более дорогих теннисных туфлях или кроссовках. Они чувствуют себя вольготно — пока что эта территория принадлежит им. Латинос здесь — новички, пришельцы. Такая вот долбаная «Вестсайдская история»…
Засунув руку глубоко в карман своих просторных шортов, я рассеянно играю с предохранителем револьвера. Глупое занятие. Дурацкое. Приходится себя одергивать. Кроме того, эти парни мне не враги. Настоящий враг действует тоньше и часто маскируется под своего.
Какие-то подростки играют в баскетбол без щита и кольца. Женщины обходят магазинчики и лавчонки: тяжелые пакеты с покупками заставляют их сутулиться. Те, кто постарше, катят перед собой проволочные тележки. Те, кто помоложе, почти раздеты. Мне нравятся эти красивые девушки с длинными коричневыми ногами и ленивыми, дремотными голосами. Их голоса — единственные из здешних звуков, которые напоминают о рае.
Разумеется, в те времена Гарлем был совсем другим. И 125-я улица была не такой, как сейчас или даже пять лет назад. Сейчас здесь есть кафе «Старбакс». Мультиплексы. Компания «Хиз мастерз войс». Мемориальные места, связанные с именем бывшего президента. Нет, речь идет о Гарлеме, каким он был до того, как мэр Джулиани спас город. Дважды спас. Речь идет о 1992 годе. В те времена в Нью-Йорке происходило больше двух тысяч убийств в год. Воевали друг с другом преступные группировки. Люди сходили с ума от крэка и убивали кого ни попадя, часто без всяких причин. Именно тогда «Нью-Йорк таймс» опубликовала карту Манхэттена, на которой черными точками были отмечены все места, где совершались убийства. За Центральным парком точки ложатся гуще, а к северу и к югу от Колумбийского университета они сливаются в одно черное пятно. Буквально вчера на этом самом углу произошло еще одно убийство. Подросток на мотоцикле смертельно ранил выстрелом в грудь женщину, которая не захотела отдать ему свою сумочку. Практически у всех здешних парней есть оружие. Черт побери, мы все здесь носим с собой «волыны». Легавые не вмешиваются. Впрочем, какие легавые? Никто не видел здесь легавых, кроме как на бульваре Флоридита. Так, во всяком случае, было в девяносто втором, когда президентом был Буш-старший, мэром — Динкинс, премьер-министром Мэйджор, а папой — Иоанн Павел Второй. Согласно нью-йоркской «Дейли ньюс», вчера в Белфасте было всего 55 градусов[3] и шел дождь. Вполне нормально для этого времени года.
Носовым платком я вытираю свой начинающий выпирать, как у Будды, животик. Поезд, наверное, так и не придет. Никогда. Я вытираю под мышками. Я бросаю окурок на платформу, растираю ногой и с трудом подавляю желание закурить еще одну сигарету. Интересно, окружающие действительно начинают на меня коситься, или мне это только кажется? На платформе я — единственный белый, и я еду на север, на Вашингтон-Хайтс, что, если вдуматься, выглядит очевидной глупостью.
Парни в шерстяных шапочках — это западно-африканцы. Я уже видел их раньше. Они сидят спокойные, невозмутимые, болтают о всяких пустяках, иногда режутся в домино. Они едут в центр. На их стороне платформы нет никаких признаков тени, солнце шпарит вовсю, и западно-африканцы кажутся разморенными и добродушными. У каждого в руках чемоданчик, а в нем — часы, которые они впаривают простофилям на Пятой авеню и Геральд-сквер. С их главарем я знаком. Этот парень живет в Штатах всего несколько месяцев, но в его команде около двадцати человек. Мне он нравится — вежливый, прирожденный делец, но при этом никогда не зарывается. Я сам бы с удовольствием на него работал, но он нанимает только парней из Гамбии. Если вы знаете, о чем речь, вы согласитесь, что это довольно самобытная страна. Как-то я упомянул об этом в разговоре с главарем, и он рассказал мне много любопытного о британском владычестве, колониализме, структурной системе эксплуатации, Франкфуртской школе и прочем дерьме. Словом, мы отлично поладили; он даже взял у меня сигарету, однако наотрез отказался дать мне работу по продаже липовых часов. Как я понял, дело даже не в том, что чернокожие ему ближе, чем я, белый; дело в доверии. Насколько мне известно, он не брал на работу даже выходцев из Ганы, которая тоже находится где-то в Западной Африке. Что ж, такой подход мне понятен. Я и сам действовал бы так же. Скорее всего — так же, хотя возможны варианты.
Сегодня эти ребята в домино не играют, просто сидят и разговаривают. Разговаривают они вроде бы по-английски, но понять их невозможно. Черта с два поймешь.
Я убираю носовой платок и пытаюсь отдышаться. Я дышу и смотрю по сторонам. Все те же машины. Все тот же город. Та же река — обыкновенная, вонючая, грязная. В этом душном мареве и не поймешь, где кончается река и начинается Гарлем. Купающихся, разумеется, нет: даже дураки здесь не настолько глупы.
Наконец я отрываюсь от воды и смотрю в другую сторону. Трудно поверить, как много здесь пустующих домов и как много домов — просто пустые, выжженные внутри скорлупки с провалившейся крышей. Дальше на восток, в направлении бульвара Аполло, дела обстоят еще хуже. Весь этот район отлично виден с того места, где я стою, так как линия надземки проходит здесь довольно высоко.
К примеру, 126-я улица пролегает сразу за внушительным зданием «Адам Клейтон Пауэлл-джуниор билдинг», где я получал водительские права, а другие люди получают карточки социального страхования и прочую муру, поэтому несведущий человек может решить, будто дома в этом районе представляют собой первоклассную недвижимость. Но это не так. Почти все здания на протяжении трех кварталов заброшены и разрушаются. Что касается 123-й улицы, на которой я сейчас живу… Впрочем, об этом я еще расскажу.
Я зеваю. Привстаю на цыпочки. Кручу головой. Потягиваюсь.
Н-да…
Рано или поздно (через несколько минут? часов?) поезд все равно придет. Он отвезет меня на 173-ю улицу, где я должен встретиться со Скотчи, который едет из Бронкса; Скотчи наверняка опоздает и начнет вешать мне лапшу насчет очередной девчонки, с которой встречается. Затем мы поговорим по душам с одним владельцем бара, которому необходимо втолковать несколько элементарных правил безопасного бизнеса, и может быть — если этот жмот Скотчи раскошелится, — мы возьмем такси и поедем в другой бар на 163-й, где нам предстоит обломать рога некоему Дермоту Финюкину, что, пожалуй, будет немного сложнее. Если мы отправимся туда пешком — а это где-то около десяти кварталов, — прогулка по такой жаре запросто меня прикончит, но я знаю, что без крайней необходимости Скотчи не потратит и десяти центов. Мы попремся на 163-ю своим ходом, а он еще будет подсмеиваться надо мной и говорить, что для меня, дескать, это полезное упражнение. Да, так все и будет… Сначала мне придется выслушивать всякое дерьмо от Скотчи. Потом от Финюкина. Потом мне придется одному возвращаться домой. Ужинать в кафе быстрого обслуживания «Кентукки фрайд чикен». Покупать за четыре доллара упаковку пива в супермаркете «Си-таун», чтобы было чем скоротать вечер. Тоска.
Чернокожая девушка разговаривает о чем-то с доминиканцами у винного погребка. Картина начинает все больше напоминать эпизод из «Вестсайдской истории», когда доминиканцы и негры на разных сторонах улицы начинают переругиваться. Только перестрелки мне сейчас не хватало. Боже, прошу тебя, сделай так, чтобы поезд поскорее пришел и чтобы в нем работал кондиционер! Но поезд не идет, и я отворачиваюсь на случай, если перестрелка все-таки начнется и мне придется давать в полиции свидетельские показания.
В тоннеле со стороны Сити-колледжа появляются огни фар. Подходит поезд, идущий в центр города; гамбийцы садятся в него вместе с другими пассажирами, и на платформе остаюсь только я и несколько придурковатых подростков в дальнем конце, которые развлекаются тем, что плюют с высоты шестидесяти футов на проходящий внизу Бродвей. На платформу поднимается какой-то бродяга, несомненно перепрыгнувший через турникет. Он грязен, от него воняет, и я чувствую, что он собирается попросить у меня четвертак. Так и есть. Откашлявшись, он произносит:
— Лишнего четвертачка не найдется, сэр?
Его руки распухли и выглядят чуть не вдвое больше нормального размера. Что с ним, я не знаю — то ли последствия зимнего обморожения, то ли натуральная долбаная проказа.
— На, — говорю я. Мне не хочется дотрагиваться до него, поэтому я кладу монету на асфальт и сразу же об этом жалею. Жестоко заставлять шестидесятилетнего старика наклоняться, чтобы поднять с земли четвертак. Тем не менее он наклоняется, подбирает монету, благодарит и ковыляет прочь.
Потом за моей спиной начинает звонить телефон-автомат. Кто бы мог подумать, что эта штука вообще работает?! Но телефон звонит и звонит. Подростки перестают плевать и глядят на меня. В конце концов я подхожу к автомату и снимаю трубку.
— Алло? — говорю я.
— Майкл? — спрашивает знакомый голос.
— Да, я, — отвечаю я, стараясь скрыть удивление.
— Это Лучик, — говорит он.
— Привет, Лучик. Но как, ради всего святого, ты узнал этот номер телефона? — спрашиваю я, даже не пытаясь изобразить равнодушие.
— Знать такие вещи — моя обязанность, за нее мне и платят деньги, — говорит он загадочно.
— Да, но…
— Слушай меня, Майкл: на сегодня все отменяется. Темный срочно едет к боссу и берет меня и Большого Боба с собой. Все остальные на сегодня свободны. Скотчи позвонит тебе завтра.
— О'кей, — говорю я и собираюсь спросить насчет денег, но Лучик дает отбой. Вот гнида! Он — правая рука Темного Уайта, и, должен сказать, я еще никогда не встречал более верткого типа. Во всяком случае, среди тех, кто подвизается в нашем деле. Худой, худее даже, чем Скотчи, Лучик носит тоненькие, словно приклеенные к верхней губе усики; голова у него почти лысая, а остатки волос он зачесывает с затылка на лоб, что придает ему некоторое сходство с Гитлером. Когда я впервые его увидел, я сразу решил, что передо мной растлитель малолетних, но я, похоже, ошибся. Во всяком случае, Скотчи говорит, что подобного за Лучиком не водится, а Скотчи его терпеть не может. Чего не скажешь обо мне. После того, как пообщаешься с ним немного, он кажется совершенно нормальным. Я даже считаю, что в целом он скорее неплохой парень.
Повесив трубку на рычаг, я глупо таращусь на аппарат, пока один из подростков не подходит и не спрашивает, мне ли это звонили или не мне. Пареньку на вид лет десять, и он явно пошустрее своих товарищей, хотя, возможно, он просто больше других изнывает от скуки. Его крупные руки, сложенные за спиной, находятся в непрестанном движении. Одет он аккуратно, на ногах у него — новенькие кроссовки.
Я киваю.
— А кто ты вообще такой? — спрашивает он и, прищурившись, чтобы защитить глаза от солнца, глядит на меня снизу вверх.
— Я… я — злой страшила, — говорю я и ухмыляюсь.
— Но ты же совсем не страшный, — говорит паренек. Его американский выговор звучит одновременно агрессивно и испуганно. Иногда я действительно могу испугать.
— Ты всегда делаешь то, что говорит тебе мама? — спрашиваю я.
— Иногда, — отвечает он, озадаченный моим вопросом. — А что?
— А то, что когда ты в следующий раз вздумаешь не слушаться маму, не удивляйся, если ночью увидишь меня у себя под кроватью, или в стенном шкафу, или на пожарной лестнице за окном. Я буду сидеть там с во-от такими зубами и ждать… Тебя.
Парнишка поворачивается и отходит, стараясь казаться спокойным. Возможно, моя речь действительно не произвела на него впечатления. Здесь, в Гарлеме, нелегко напугать даже малышей. Зато большинство их бабушек способны до полусмерти напугать меня!
О'кей, домой так домой… Торчать здесь и дальше нет никакого смысла. Наверное, получить жетон назад не удастся, хотя я так никуда и не поехал. Я оценивающе смотрю на кассиршу… Это настоящая бой-баба — угрюмая, мрачная, грудастая. Одна ее тень способна уложить меня на обе лопатки. Пока я раздумываю, кассирша в свою очередь окидывает меня враждебным взглядом, и я решаю не рисковать. И вот — топ-топ-топ — я спускаюсь пешком по сломанному эскалатору, который так и не починили с тех пор, как я сюда приехал.
На нижней ступеньке я едва не наступаю в лужу какой-то липкой дряни.
Потом я иду по 125-й улице мимо магазина, где торгуют живыми цыплятами, мимо винного погребка, где продают спиртное со скидкой, мимо грязного ларька, где производят отвратительные пончики, мимо католической церковной лавочки, где можно найти предметы культа, относящиеся практически к любой религии. За церковной лавкой я перехожу на другую сторону. Мужчина за импровизированным лотком продает бананы, апельсины и еще какие-то зеленые тропические фрукты, название которых мне неизвестно. Все фрукты имеют вполне товарный вид, но, учитывая уровень загрязнения воздуха и царящую вокруг антисанитарию, вы не станете покупать и есть ничего из того, чем он торгует, если только вы не сумасшедший. Впрочем, сумасшедших здесь довольно много, поэтому к лотку выстроилась очередь.
На перекрестке я невольно останавливаюсь, как остановился бы на моем месте любой человек. Отсюда открывается полная панорама Гарлема. Все, что в нем есть, — все перед глазами. Движение. Пешеходы. Дети, собаки и хромые старики, сидящие в тени под балконами. Плакаты фонда Джеки Робинсона.[4] Из многочисленных динамиков доносится музыка «Паблик энеми»: Чак Ди и Флейвор Флав пытаются перекричать друг друга. Жара, духота, крэк и общее веселье. «Толкачи», покупатели и остальные… Непривычного человека эта насыщенная, плотная атмосфера просто подавляет, но на самом деле здесь, в Гарлеме, живут не так уж плохо. На меня никто не обращает внимания. Меня принимают как данность. Как деталь пейзажа. Пейзаж, кстати, напоминает пляж. Влажность, жара, на тротуарах, точно на песчаных дюнах, яблоку негде упасть, а огромный, распаренный город — если продолжить аналогию — похож на грязную, серую Атлантику.
Я поднимаюсь вверх по холму. Идти всего два квартала, но из-за географических вывертов кажется, что пять.
Я сую руку в карман за ключами и сворачиваю на свою 123-ю. Впереди меня заходит в дом Винни-Коновал, громко и сердито разговаривая на ходу с самим собой. В его пакете что-то звякает. На углу, на самом солнцепеке, стоит Дэнни-Алкаш. Опираясь на свою тросточку, он наклоняется вперед и пытается проблеваться, но ничего не выходит — только его лицо багровеет от натуги. Третий представитель белой расы на улице — я. Что я собой представляю?
Да, что?
Ключи, пистолет. Пистолет, ключи.
Нервы ни к черту.
Ключи…
Но замок сломан, и мне приходится долго трясти и дергать дверь. Надо будет сказать Ратко, хотя этот лентяй чинить, конечно, ничего не будет. Зато, мучимый совестью, он пригласит меня к себе и станет угощать мерзкой польской водкой и какими-то сербскими кушаньями, приготовленными его женой, наверное, еще в прошлом году. И все же в моем больном воображении они будут казаться домашней едой.
Что ж, это уже похоже на план.
На дворе девяносто второй год, и сербы понемногу начинают пользоваться дурной славой, но дело пока не зашло слишком далеко. Ратко нальет мне полный стакан прозрачной как слеза и отвратительно-едкой на вкус жидкости, мы выпьем за Гаврилу Принципа, за Тито или за долбаных «Рыцарей Косова», и я закушу бутербродом с холодной сарделькой и салом. Потом мы выпьем еще по стакану, а когда спиртное доведет меня почти до сердечного приступа, я наконец ускользну прочь и, спотыкаясь, стану подниматься к себе на третий этаж.
Но я передумываю.
В подъезде Фредди раскладывает по ящикам почту.
— Привет, Фредди, — говорю я, и мы минуту-другую болтаем о последних спортивных новостях. К счастью, Фредди замечает, что я вымотан донельзя, и быстро меня отпускает. Славный он малый, этот Фредди.
Поднимаюсь по лестнице. Вот и дверь. Снова достаю ключи. Вхожу. В квартире еще жарче, чем на улице. Машинально включаю телевизор. По случайному стечению обстоятельств он подключен к бесплатным кабельным каналам. Переключаю программы, ища что-нибудь знакомое, и в конце концов нахожу передачу о Филе Спекторе и Джоне Ленноне. Йоко Оно внушает раздраженным, патлатым музыкантам какие-то прописные истины о последовательности гитарных аккордов.
Я включаю кран и начинаю наполнять ванну. Из крана течет бурая вода. Я опускаюсь на край ванны и на мгновение представляю, как зазвонит телефон и Лучик зловещим голосом скажет, что Темный срочно хочет меня видеть.
Я вздрагиваю, иду в комнату и снимаю трубку с аппарата. Потом раздеваюсь, залезаю в ванну. Закуриваю сигарету и пытаюсь убедить себя, что никто мне звонить не будет. В конце концов я выбираюсь из ванны, выдергиваю шнур из розетки на стене и, немного подумав, тщательно запираю дверь, достаю револьвер, проверяю механизм и кладу оружие так, чтобы до него можно было легко дотянуться. Потом я снова залезаю в ванну и медленно погружаюсь в воду.
И в забытье…
Бормотание, шепот, церковные гимны… В ризнице на меня набрасываются рои молчаливых насекомых, а я слишком пьян, чтобы сопротивляться. Водка толчками выплескивается у меня изо рта. Я сплю, и мне чудится — я на огромном острове, но под ногами у меня не земля, а спина гигантского морского чудовища. Я даже различаю вдали его огромный бычий глаз; голубые нервы под кожей словно реки, а щупальца — как лес. О господи! Я вылезаю из остывшей ванны и хватаю полотенце.
Немного погодя я включаю телефон, телевизор. Жара и духота с новой силой наваливаются на меня, и я курю одну за другой, пока пепельница не наполняется до краев. К счастью, холодильник работает, и я могу пить водку со льдом. Маленькая, но все же радость. Откинувшись на спинку дивана, я окидываю взглядом обстановку своего жилища.
Позвольте мне описать тот райский уголок, который подыскали для меня Скотчи и Темный. Нет, не то чтобы я был неблагодарной скотиной — ведь они дали мне работу, нашли жилье! С другой стороны, свое содержание я отрабатываю с лихвой. В конце концов, я у них чуть не единственный, у кого в мозгах больше одной извилины. Впрочем, ладно… Сами они, конечно, живут в одном из лучших районов Бронкса, в конце Первой линии, но мне они заявили, будто там нет свободных квартир. Представляете? Так, во всяком случае, сказал Скотчи, а я был настолько наивен, что ему поверил. Нынешняя моя квартирка обходится примерно в пятьсот баксов ежемесячно, и эти деньги, само собой, вычитаются из моего жалованья. Как и стоимость мебели, которую, как впоследствии признался Скотчи, он приобрел на уличной распродаже буквально за гроши.
В моей квартире только одна спальня. Вонь из туалета шибает в нос, стоит только войти в прихожую. Рядом — ванная комната, где стоит ванна на низеньких ножках. Под ванной — свой особый мир с собственной флорой и фауной, которую затруднился бы описать сам Дэвид Аттенборо со всеми ресурсами Би-би-си за спиной. Далее идут коридор и кухня, в которой не то что кошке — мышке негде повернуться. Газовая плита с постоянно гаснущей контрольной лампочкой. На всем — многолетние отложения засохшей жирной грязи. В стенах и за плинтусами глубокие щели.
В гостиной стоит телевизор, подключенный к бесплатным кабельным каналам, и внушительных размеров диван с мохнатой обивкой тошнотворно-желтого цвета.
В спальне поместились футоновый матрасик на полу, шифоньер, стол и стул.
Дневной свет в квартиру почти не попадает. Пыльные окна гостиной глядят в крошечный внутренний дворик, окна спальни выходят на задворки многоэтажных зданий на 122-й улице. Если вылезти на площадку пожарной лестницы (что я часто проделываю), сесть на стул и смотреть вверх, то сквозь бреши в кронах лиственниц можно видеть кусочек неба и — время от времени — пролетающий самолет. Пожарная лестница насквозь проржавела, она скрипит и раскачивается при каждом шаге; если в доме будет пожар, все мы неминуемо погибнем, и все же в моей квартире это самое приятное место.
Серьезная проблема — тараканы. Я вселился сюда в прошлом декабре и с тех пор веду с ними партизанскую войну. Привыкнуть к их существованию мне так и не удалось. Я так и не достиг известного в практике дзен невозмутимого спокойствия, которое позволило бы мне делить с этими тварями духовное и физическое пространство. В Ирландии тараканов нет. В Ирландии вообще нет подобных тварей. Очень редко бывает, что в дом проберется полевая мышь или залетят в окно пчела, жук или божья коровка. Но никаких тараканов и прочей мерзости…
Впрочем, в последнее время я начал испытывать к тараканам нечто вроде уважения. Я по-прежнему терпеть их не могу и в то же время — уважаю. Я обезглавливал их, травил, ошпаривал кипятком, сжигал, снова травил, и все же они каким-то образом ухитрялись выжить. Как-то раз я уронил на одного крупного таракана литровую бутылку кока-колы, но негодяй уцелел. В другой раз я высыпал на таракана с полфунта борной кислоты, накрыл кастрюлькой и придавил сверху кирпичом. Сразу после этого я на неделю улетел во Флориду, куда мы все ездили на похороны брата мистера Даффи. Когда я вернулся и снял кастрюльку, этот мерзавец преспокойно почистил усики и уполз в дырку в стене. На моем личном счету этот таракан должен был стать примерно двухсотым, но, как выяснилось, зарубку на цевье своего верного «винчестера» я сделать поспешил. Этот случай стал мне хорошим уроком. Летчикам королевских ВВС времен Битвы за Британию тоже разрешалось записывать на свой счет очередную победу, только если они видели, как самолет противника ткнулся в землю.
От тараканов буквально не было житья. Они ползали по мне ночью. Они шуршали в стенах. Мои ловушки служили им чем-то вроде бесплатных закусочных. Время от времени тараканы отращивали крылышки и принимались летать. Я жаловался Ратко, но он в ответ только смеялся и водил меня показывать свою квартиру в подвальном этаже, которая, пожалуй, была еще хуже.
Зато…
Зато у меня была пожарная лестница.
Я закуриваю еще одну сигарету и выбираюсь на ржавую решетчатую площадку. Вдали перекликаются полицейские сирены. Лают собаки. Где-то ссорятся или просто громко разговаривают. Я курю. Сижу на стуле, втягиваю дым, задерживаю в легких… Задерживаю. Выдыхаю. И вместе с дымом выбрасываю из головы все мелкие заботы и проблемы. Ну их…
Я живу на углу 123-й и Амстердам-авеню в одном квартале от охраняемой территории, принадлежащей Колумбийскому университету. В университете прилегающий район предпочитают называть Морнингсайдскими холмами, чтобы не пугать родителей, многие из которых упали бы в обморок, узнав, что писать своим чадам им придется в хренов Гарлем. Но, как его ни назови, Гарлем остается Гарлемом. Правда, квартал к северу от университета по-своему неплох, но и он не лишен недостатков, свойственных всем проектам, которые финансировало правительство. Что касается кварталов, расположенных восточнее, то это действительно ад. Дома здесь обветшали и буквально разваливаются на куски, к тому же большинство из них облюбовали любители крэка. После наступления темноты парк Морнингсайд становится по-настоящему опасным, да и кварталы, протянувшиеся до 125-й улицы, немногим лучше. Там даже я не мог чувствовать себя спокойно — слишком уж я выделялся на общем не белом фоне. Правда, на всякий случай я выучил несколько испанских слов в надежде, что в критических обстоятельствах мне удастся сойти за доминиканца, но особенно рассчитывать на это не приходилось — моя белая как бумага ирландская кожа выдала бы меня с головой.
Я бросаю бычок и лезу через окно обратно в спальню. Кондиционера в квартире нет, а вентилятор только гоняет по комнатам горячий воздух. Мне хочется освежиться, и я иду на кухню, чтобы достать из холодильника банку пива «Милуоки». Худшего пива я просто не знаю. Его готовят из пророщенной кукурузы, что нормальному человеку даже в голову не придет. Единственное его достоинство — низкая цена, а если включить холодильник на полную мощность, чтобы пиво заморозилось, отвратительный вкус почти не чувствуется.
Я возвращаюсь на площадку пожарной лестницы, сажусь и некоторое время наблюдаю за возней белок в ветвях и за расплывающимся в голубизне неба белым следом пролетевшего самолета. Ледяное пиво кажется почти нормальным, да и жара, похоже, начинает спадать.
И тут звонит телефон.
Я не помню, чтобы я включил его после того, как вышел из ванной. Должно быть, все-таки включил. Ответственность, знаете ли, чувство долга и все такое прочее…
Некоторое время я жду, что телефон замолчит. Но он продолжает блеять, и в конце концов мне это надоедает. Я допиваю пиво и бросаю жестянку через ограждение площадки, стараясь попасть в питбуля Ратко, но промахиваюсь. Пес укоризненно глядит на меня снизу и начинает лаять. Я снова лезу в окно, иду через спальню в коридор, выключаю кассетник, наигрывающий композиции «Невермайнд», и беру трубку.
Это Скотчи. Я определяю это по гнусавому сопению, которое предшествует его первым словам. Судя по всему, Скотчи чем-то взволнован.
— Эй, Брюс, тут наклевывается одно дельце…
— Меня зовут Майкл, — устало говорю я. Скотчи часто называет меня Брюсом. Это он так шутит.
— Нужно ехать в город, Брюс. Энди крепко избили. Ты ведь знаешь, что Темного сейчас нет?
Я молчу.
— Эй, Брюс, ты где?
— Ты, наверное, ошибся номером, приятель. Здесь нет никакого Брюса. Ни Брюса, ни пещеры, и никто не спасет Любимую Шотландию.[5]
— Хватит чушь пороть, Брюс, импотент несчастный. Я говорю серьезно!
И снова я избираю путь молчаливого сопротивления. Проходит добрых пятнадцать секунд. Потом Скотчи начинает что-то бормотать и наконец, не в силах совладать с подступающей паникой, начинает кричать в трубку:
— Алло? Алло?! Майкл?! О господи, Майкл, куда ты девался?
— Я здесь, — говорю я достаточно равнодушно, надеясь таким способом лишить его остатков душевного равновесия.
— Какого черта, Майкл?! Что ты со мной в молчанку-то играешь? Или ты не знаешь, что сейчас я командую? Короче, приятель: Энди избили, а пока Темного и Лучика нет, я у вас за главного… Понял?
— Ты — за главного? — переспрашиваю я с таким сомнением в голосе, словно Скотчи только что сообщил мне, что он — таинственно исчезнувшая княжна Анастасия, дочь последнего русского императора Николая.
— Да, — говорит он, не обращая внимания на мой тонкий сарказм.
— Разве это соответствует… э-э-э… принципу субординации? — спрашиваю я несколько более нейтральным тоном.
— Да, соответствует.
— Но Фергал работает на Темного намного дольше, чем ты, разве не так? — лукаво осведомляюсь я.
— Фергал — идиот, — холодно констатирует Скотчи.
— Пенял чайник котелку, дескать, сажа на боку… — замечаю я вскользь.
— Брюс, твою мать, хватит изгаляться! — рычит Скотчи, и я чувствую, что он готов взорваться.
— То есть ты хочешь сказать, что в отсутствие Темного и Лучика командуешь ты? — уточняю я.
— Да. Факатически, — добавляет он. Как всегда, сложные слова даются ему с трудом.
— «Фактически», Скотчи, — поправляю я самым снисходительным тоном, чтобы разозлить его еще больше. — Надо говорить — «фактически».
Вот теперь Скотчи рассердился по-настоящему.
— Вот что, умник, слушай сюда: на данный момент я действительно имею право отдавать приказы, поэтому бери ноги в руки и дуй сюда. Да поживее, — говорит он ледяным тоном.
— Браво, Скотчи, продолжай в том же духе. Должен признать, ты почти убедил меня, что ты — крутой.
— Господи, Брюс, неужели Бог создал тебя только затем, чтобы довести меня до инфаркта? Ладно, хватит умничать; кончай базар и мигом сюда, понял?! — рявкает Скотчи.
— Скажи хоть, как там Энди? Он что, в больнице? — спрашиваю я, проявляя запоздалое беспокойство о судьбе нашего товарища.
— Нет, не в больнице. Он здесь. Пока за ним присматривает Бриджит. Возможно, нам действительно придется отвезти его в больницу, но я думаю, он сдюжит. Это Лопата его отделал. Наш недоумок Фергал думал, что это Мопс, но я точно знаю, что это Лопата. Вообще-то Энди парень здоровый; он мог бы Лопату на куски разорвать, да только ублюдок напал на него сзади и отоварил по затылку чем-то тяжелым, так что он сразу потерял сознание. Энди так и валялся на улице, пока его не подобрали, представляешь? К сожалению, он до сих пор не пришел в себя, но когда это случится, я…
Но я не слушаю, потому что мне все равно. Мне все равно, что сделал с Энди Лопата и что собирается в этой связи предпринять Скотчи. Мне на это абсолютно наплевать, но Скотчи конечно же рассказывает мне все подробно. Босс уехал, его нет в городе, и он, Скотчи, намерен взять дело в свои руки. Гм-м… Тут уж не нужно гадать на кофейной гуще, чтобы предсказать неприятности. Скотчи давно рвался в герои, но он был туповат. К тому же ему хронически не везло, поэтому существовал очень большой шанс, что, когда мы — он и я — приедем к Лопате домой, Лопата или его подружка плеснут в нас раскаленным маслом, застрелят, сдадут легавым, поджарят наши пальцы в тостере или выдумают что-нибудь похуже. И это будет совершенно закономерным исходом дела, в котором принимает участие Скотчи. Разумеется, что бы ни случилось, сам он останется в живых, а вот я могу запросто лишиться глаза, охрометь или быть располосован шрамами. Другого не получится — это уж наверное.
Внезапно мне приходит в голову новая мысль.
— Откуда ты знаешь, что это был Лопата, если Энди до сих пор не пришел в себя? — спрашиваю я.
— Одно следует из другого. Энди ездил к Лопате, чтобы получить с него деньги, а Лопата уже давно предупредил меня, что не намерен платить. Этот гад напал на Энди на улице, напал сзади и…
— Одно следует из другого, говоришь? Что ж, позвольте вас поздравить, Шерлок, ваш дедуктивный метод вас не подвел. Несомненно, это единственное объяснение; ничего другого просто не может быть! — Я снова пускаю в ход саркастические интонации.
— Твою мать, Брюс, заткнись, кол тебе в дупло! Хватит умного строить! Короче, приезжай живо сюда. Это приказ, понял?! — в ярости вопит Скотчи.
— Ладно, не кипятись. Уже еду, слышишь? Считай, я уже в пути! — На сей раз я подпускаю в голос уважительную нотку.
Скотчи вешает трубку, а я поднимаю аппарат и убиваю им ползущего по стене таракана. Потом я тоже кладу трубку, иду в спальню и закрываю окно.
Придется снова тащиться на станцию и пытаться сесть в поезд. Типичная невезуха, к тому же придется снова покупать жетон. Вздохнув, я споласкиваю лицо водой и беру куртку. На случай, если дело затянется на всю ночь, я рассовываю по карманам сигареты, спички, пару книжек и мелочь. Потом я натягиваю ботинки «Доктор Мартенс», причесываюсь, сую в карман запасную обойму калибра 22 и выхожу.
Я знаю по меньшей мере пять человек, которые носили имя «Скотчи». Первым был Скотчи Данлоу, который на протяжении семи лет, проведенных в Бригаде Мальчиков,[6] лупил меня в свое удовольствие каждую пятницу. Вторым был Скотчи Мак-Гарк, который торговал наркотиками. Я своими глазами видел, как он уронил половину шлакобетонного блока на грудь одному парню, причем произошло это из-за какого-то пустяка. В конце концов его подстрелили во время неудачного ограбления букмекерской конторы. Скотчи Мак-Моу в детстве играл на железнодорожном полотне возле Каррик-фергюса и лишился руки. После этого он немного помешался, но однажды он спас другого мальчика, вместе с которым они отправились на рыбалку. Лодка опрокинулась, но Мак-Моу сумел дотащить приятеля до берега, гребя одной рукой. За этот подвиг он даже получил какую-то награду, которую вручила ему сама принцесса Диана. Скотчи Колхоун тоже был «плохим мальчиком» и в конце концов оказался за решеткой (его отправили в «Кеш» за рэкет и убийство), однако сейчас он, наверное, уже вышел благодаря Большой амнистии. Моим пятым знакомым Скотчи стал наш Скотчи Финн. Нет нужды говорить, что ни один из них никогда не имел и не имеет отношения к Шотландии. Как все они получили прозвище Скотчи, остается тайной за семью печатями не только для меня, но и, вероятнее всего, для них самих.
Скотчи Финн, во всяком случае, этого не знает. Он рос в Кроссмаглене и Дандолке, а если вы имеете хоть какое-то представление об Ирландии, вы должны знать, что это означает. Нет ничего удивительного, что его отец, мать, три брата, два дяди и тетя в конце концов оказались в одном месте — в Ледсе. С младых ногтей они начали приобщать Скотчи к делу, поэтому довольно скоро он оказался в колонии для несовершеннолетних преступников, где отсидел срок за какое-то мелкое правонарушение. Вскоре, если верить самому Скотчи, по ту сторону лужи для него стало жарковато, и он перебрался в Бостон, а оттуда приехал в Бронкс. Честно говоря, я отношусь довольно скептически к его рассказам об «акциях» и «стычках» с британцами, протестантами, Специальной службой, десантниками и полицейскими. Скотчи утверждает, что именно ирландские легавые, «Гарда шиохана», повредили ему ногу, когда он занимался контрабандой бензина (следует заметить, что хромота проявляется у Скотчи, только когда он хочет, чтобы ему посочувствовали), но Лучик как-то проговорился, что Скотчи подвернул ногу, свалившись с крыши припаркованного автомобиля, после того как выпил одиннадцать кружек пива на пляже в Ревир-Бич. Это, впрочем, случилось еще до того, как Скотчи начал работать на Темного, к тому же представить нашего друга на пляже довольно сложно. Кожа у него тонкая и белая что твоя папиросная бумага, и выглядит он совсем как тот пацан, которого лупцуют в начале рекламного ролика «Чарльза Атласа»[7] — бледная кожа, рыжие волосы, скверные зубы, скверный запах, который не может заглушить даже запах скверного одеколона… Даже не знаю, сколько Скотчи прожил в Штатах, — может, десять лет, а может, и все пятнадцать, однако, несмотря на это, он до сих пор не утратил ирландского акцента (довольно своеобразного, кстати; например, «джаз» звучит у него как «джасс»). Одевается он, впрочем, как настоящий янки и совершенно по-американски неровно дышит к деньгам и к женщинам. В отличие от среднестатистического ирландского иммигранта, Скотчи никогда не скулит по Покинутой Родине, что, однако, нисколько не делает его симпатичнее. С таким скользким дерьмом, как Скотчи, не захочет по доброй воле общаться ни один порядочный человек, однако, если не обращать внимания на неприятные стороны его характера, терпеть его можно. Что, кстати, мне не вполне удается. Да, чуть не забыл: Скотчи нечист на руку, он обкрадывает меня за моей спиной, и если бы я не был новичком, я бы непременно что-нибудь сказал по этому поводу, однако я — новичок, поэтому предпочитаю пока помалкивать.
Таков он, наш предводитель, наш отважный вождь (слава богу, что только на один вечер). Характерно, что Скотчи оказался во главе нашей шайки-лейки именно в тот вечер. Потому что этот вечер должен был положить начало целой череде трагических, кровавых событий, чего я, разумеется, тогда не знал… Правда, я знал — не мог не знать, — что для человека, выросшего в Белфасте в семидесятые и восьмидесятые годы, в самый разгар гражданской войны, насилие становится естественной формой самовыражения, но тогда я считал, что это не обязательно. В конце концов, есть же исключения и из более строгих правил.
Поездка в подземке прошла незаметно. У меня была с собой книга об одном русском, который только и делал, что лежал на диване. Окружающие по этому поводу ужасно кипятились, но его можно было понять.
На конечной остановке я вышел и стал подниматься по лестнице. Этот ежедневный подъем по ступенькам, отделяющим Ривердейл от остального Бронкса, был в те времена моим единственным спортивным упражнением. Лестница буквально кишела бездомными бродягами и мерзавцами всех мастей. Темный говорит, что в день, когда обитатели Бронкса наконец-то решат от нас избавиться, мы, по крайней мере, сможем держать оборону на холме.
Задыхаясь, я добрался уже почти до самого верха, до самых «Четырех провинций», когда меня внезапно схватил за плечо один из завсегдатаев лестницы. Уже стемнело, и он напугал меня буквально до чертиков. Это был мистер Беренсон — тощий семидесятилетний старик, который не мог бы напугать и кошку, но я, должно быть, сильно нервничал. Кстати, тогда я почти не знал мистера Беренсона; даже его имя я узнал много позже, когда все пошло кувырком, когда мне было худо и когда мистера Беренсона пришили. Именно тогда я предпринял небольшое расследование и узнал, что настоящее его имя было вовсе не Беренсон и что на самом деле он бежал в Штаты откуда-то из Восточной Германии, предварительно переменив фамилию, так как в годы войны работал в ведомстве Гиммлера не то в Польше, не то где-то еще. В общем, в событиях, которые я описываю, он не играет заметной роли, поэтому я просто скажу, что он был очень сутул и говорил с таким странным восточноевропейским акцентом, какой, как я думал до встречи с ним, бывает только в плохом кино. Его пальцы были сплошь покрыты желтыми никотиновыми пятнами; он размахивал ими у меня перед носом и был заметно взволнован.
— Ты работаэш на Шкотчи?
— Нет, я работаю с ним. Мой босс мистер Уайт, — сказал я.
— Я должен ему передайт — несколько месяц назад кто-то вломиться в мой дом. Что-то искайт.
— Кто-то вломился к вам в дом? — переспросил я.
— Да, я же говорит. Я проснуться, спугнуть его, и он убегайт.
— И когда это было?
— В декабрь.
— Может, это был Санта-Клаус?
Моя шутка его оскорбила.
— Послушайт, молодой человек, какой-то ниггер вломиться майн дом, но ничего не брайт и больше не возвращайт. Потшему, я спрашивайт себя, потшему он так поступайт? Со временем я забыть, но два месяц назад он приходийт снова. Меня не быть дом, но я все равно узнайт. Я быть уверен — кто-то еще раз побывайт в майн дом.
— И у вас опять ничего не пропало?
— Найн. Нет.
— Тогда я не пойму, в чем ваша проблема.
— Он вломиться ко мне.
— Позвоните легавым.
— Что?
— В полицию. Позвоните в полицию. Или попробуйте поставить новый замок. Пожалуй, это будет лучше всего.
Но Беренсону мое предложение пришлось не по душе, хотя мне оно казалось достаточно разумным. Я со своей стороны тоже начинал испытывать что-то вроде раздражения. Каждый раз, когда я здесь появлялся, мне приходилось изображать из себя этакого социального работника — особенно в разговоре со стариками. Как правило, все у них более или менее в порядке и ничего особенного им не нужно. Каждый из них стремится остановить тебя только затем, чтобы поболтать о разных пустяках — это помогает им хотя бы на время избавиться от одиночества. К Скотчи они тоже цепляются, но он умеет уходить от пустых разговоров лучше меня. А я новичок; наверное, поэтому я и кажусь им человеком, который готов вникнуть в их реальные и выдуманные проблемы.
Я как раз собирался сказать Беренсону что-нибудь участливое и успокаивающее, но именно в этот момент меня увидел Фергал — увидел и заорал:
— Эй, Майкл, давай сюда! Живо!
Я извинился и поспешил преодолеть оставшиеся ступеньки лестницы. Забавно, что если бы Фергал вышел мне навстречу на пять минут раньше или позже, я, возможно, отнесся бы к словам мистера Беренсона более внимательно. И тогда, быть может, полторы или две недели спустя его не убил бы неизвестный преступник, который искал в его доме тайник. Но вмешался Фергал, и я пошел дальше. (Последним взломщиком, кстати, был один из подручных Рамона, и если вы думаете, что это просто совпадение, значит, вы не знаете Рамона, потому что он уже тогда совершал пробные вылазки на территорию Темного, обследуя, прощупывая и потихоньку подготавливая плацдарм для решительного наступления.)
— Как крэк, Фергал? — спросил я, воспользовавшись гэльским словом, которое означает просто «дела» и которое звучит точно так же, как название наркотика, поэтому в определенных кругах подобный вопрос способен вызвать замешательство.
— Хреновый крэк, Майкл, — печально ответил Фергал и покачал крупной головой. Он был высоким, с темно-каштановыми волосами и неопрятной рыжеватой бородкой, покрывавшей впалые, бледные как у трупа щеки. Пытаясь выглядеть респектабельно, Фергал носил твидовые пиджаки, которые смотрелись бы уместно в швейцарских туберкулезных санаториях году этак в 1912-м, но не в душном летнем Нью-Йорке восемьдесят лет спустя.
Я сказал — мол, как жаль, что с Энди случилась такая неприятность. Фергал снова покивал, и мы вместе пошли в «Четыре провинции». Судя по всему, сегодня Фергал не был расположен много разговаривать, что было кстати, поскольку его речи, как правило, не вызывали у окружающих ничего, кроме раздражения.
Бар «Четыре провинции», игравший в нашей жизни весьма важную роль, заслуживает, пожалуй, более или менее подробного описания. Увы, если вы видели хоть один бар, оформленный в псевдоирландском стиле, вы сразу поймете, как выглядело наше излюбленное место. Прежний бар, стоявший на этом же самом месте, сгорел при невыясненных обстоятельствах несколько лет назад, а новым «Четырем провинциям» недоставало уюта. Заново отстроенный бар лишился второй барной стойки и посыпанного опилками пола и имел открытую планировку, а его стены украшали плакаты с рекламой выдержанного виски «Бушмиллз», зеркала с логотипом «Гиннесса» и картинки с изображениями пожилых ирландцев на велосипедах. Рядом с доской для дартса стоял неизбежный «лепрехон с шиллингом»,[8] а в стеклянной витрине барной стойки была выставлена огромная арфа, сделанная, по некоторым признакам, в Китае. Больше того, наш Энди, обычно не отличавшийся наблюдательностью, заметил однажды, что вырезанные на деревянных облицовочных панелях листья имеют четыре лепестка; следовательно, это самый обыкновенный клевер, а не трилистник, с помощью которого святой Патрик наглядно объяснил сущность Божественной Троицы. Пожалуй, единственное, что хорошо в «Четырех провинциях», это то, что Пат и миссис Каллагэн поддерживают здесь чистоту.
Кивнув Пату, который стоял за стойкой, я вслед за Фергалом поднялся на второй этаж. Скотчи был уже здесь. Он ел булочку с кремом и испачкал нос. Энди лежал в кровати. Выглядел он вполне нормально, но Бриджит то и дело смачивала ему лоб холодной водой; я думаю, когда-то она видела картинку, где то же самое проделывала Флоренс Найтингейл. Пока я таращился на Бриджит, она подняла голову, и я поспешил притвориться, что лишь бросил на нее случайный взгляд, из-за чего, разумеется, вся сцена стала выглядеть еще более подозрительно.
— У тебя крем на шнобеле, — вполголоса сказал я Скотчи.
Он вытер нос рукавом и смерил меня раздраженным взглядом.
— Как он? — мягко спросил я у Бриджит.
— Мне кажется, ему лучше, — сказала она, и ее мягкая грудь соблазнительно колыхнулась. На Бриджит была обтягивающая футболка с загадочной надписью «Капитан капитанов». При других обстоятельствах я бы непременно спросил, что означает эта тавтология (мне не хотелось, чтобы кто-то заметил, как я уставился на ее грудь), но сейчас, учитывая, что Энди был почти что при смерти и все такое, подобный вопрос прозвучал бы в высшей степени бестактно.
— Наконец-то ты приехал, блин, — сказал Скотчи. — Ладно, отправляемся…
Тут я должен заметить, что Скотчи обычно не стесняется в выражениях, и, переводя его речь, я обычно большинство его ругательств опускаю, поэтому каждый раз, когда в его реплике появляется слово «блин», следует иметь в виду, что на самом деле он произнес его (и другие слова) три или четыре раза. Из-за этого слушать его порой бывает просто невыносимо — уж вы мне поверьте. К примеру, его последняя фраза на самом деле звучала так: «Наконец-то, блин, ты приехал, блин. Ладно, блин, отправляемся, на хрен…»
— Мне бы хотелось сказать Энди хоть пару слов, — проговорил я.
— Он все равно ни хрена не слышит, ясно? — отозвался Скотчи и сразу напрягся. Надо сказать, что ко всему прочему он комплексует еще и по поводу своего небольшого роста, хотя на самом деле Скотчи всего на пару дюймов ниже меня, а во мне без малого шесть футов.
— Но может, все-таки вызвать ему врача? — предложил я.
— Заткнись, Майкл, мать твою за ногу! Заткнись, и поехали, о нем и без тебя позаботятся, — сказал Скотчи.
Я снова взглянул на Бриджит, но она была слишком поглощена высоким драматизмом ситуации. В медицине она не понимала ни бельмеса. Я окончательно убедился в этом после того, как она попыталась извлечь у меня из пальца крошечную занозу при помощи прокаленной вязальной спицы. Шрам получился просто громадный, он у меня до сих пор. У бедняги Энди мог быть и инсульт — Бриджит ничего бы не заметила. Впрочем, отвечал все равно Скотчи.
— О'кей, — сказал я, и мы со Скотчи и Фергалом спустились вниз.
— Значит, план у нас будет такой… — начал Скотчи, но я остановил его взмахом руки.
— Послушай, Скотчи, прежде чем мы отправимся куда бы то ни было и наделаем глупостей, давай позвоним Темному, ладно? — сказал я как можно мягче.
— Действительно, Скотчи, давай сперва поговорим с Темным, — поддержал меня Фергал, в кои-то веки прислушавшись к тому, что подсказывал здравый смысл.
Скотчи немедленно разозлился:
— Господи Иисусе, вы, парни, наверное, ср… не сядете, не поговорив предварительно с боссом, да еще будете спрашивать разрешения подтереть задницу! Вы что, не видели, что эти гады сделали с Энди?!
Вообще-то, если бы мне или Фергалу приспичило по нужде, мы, скорее всего, действительно попросили бы позволения у босса, если бы он оказался поблизости. Темный Уайт никогда не стал бы Темным Уайтом, если бы терпел возле себя парней, которые думают, будто они способны сами управиться со всеми проблемами, стоит ему ненадолго отлучиться. Только не подумайте, будто наш Темный чем-то похож на Марлона Брандо в «Крестном отце»; он действует скорее как тот же Брандо в роли Правителя Джорэла в «Супермене»: самодостаточный, решительный, умный, честолюбивый и, несомненно, чуть-чуть психованный. Сильная личность, властная натура… Это чувствовалось сразу, и не только в его присутствии, но и как сейчас — когда Темный был далеко.
— Послушай, Скотчи, я просто не хочу, чтобы у нас были неприятности, — начал я. — Лучик сказал, что на сегодня все отменяется, и я…
— Я вижу, гребаный Лучик нагнал на тебя страху, Брюс! Похоже, ты начал бояться собственной тени. А теперь закрой хлебало и топай за мной.
Фергал посмотрел на меня и пожал плечами. Я вздохнул и последовал за обоими к выходу из паба.
На улице мы забрались в принадлежащий Скотчи новенький коричневый «олдсмобиль», который был не только очень неудобным, но и не совсем исправным. Например, при включении левого поворотника каждый раз включались и «дворники» на лобовом стекле. Для Скотчи, впрочем, это не представляло особой проблемы, так как он принципиально не пользовался поворотными сигналами.
Ехали мы минут десять, забираясь все глубже в извилистые улочки Ривердейла, и наконец оказались в довольно приличном, хотя и не самом лучшем районе. За все время ни один из нас не произнес ни слова, если не считать Скотчи, который что-то бормотал себе под нос.
Но вот мы почти приехали. Как я уже говорил, я не стал бы ничего предпринимать, не посоветовавшись предварительно с Темным или, на худой конец, с Лучиком, но Скотчи явно был слеплен из другого теста. Он очень хотел показать, что ему все по плечу. Истина, однако, состояла в том, что это было вовсе не так, но Скотчи из кожи вон лез, чтобы доказать обратное, и именно по этой причине наша команда оказалась одной из последних. Я хочу сказать — нам всегда доставалась самая тяжелая и грязная работа, а самые прибыльные задания получали ребята Боба.
Скотчи остановил «олдсмобиль» у многоквартирника, где жил Лопата. Для меня это была последняя возможность попытаться уговорить Скотчи быстренько звякнуть Темному; звонок занял бы не больше минуты, зато всем нам было бы гораздо спокойнее. По крайней мере один из нас должен был оказаться достаточно взрослым, и если бы эта роль досталась мне, самому младшему по возрасту, что ж — я бы возражать не стал. Больше того, я сам готов был проявить инициативу, но не успел. Скотчи выскочил из машины чересчур быстро, а когда я его догнал, момент был упущен, да и решимость моя куда-то пропала.
— Надеюсь, пушки у вас с собой? — спросил у нас Скотчи.
Я кивнул.
— А, черт! Я свою дома оставил! — сказал Фергал.
— Идиот хренов! — яростно выругался Скотчи. — Посмотри в бардачке, может быть, там что-нибудь найдется.
Мы все вернулись к машине, Фергал залез в бардачок, но там не оказалось ничего полезного.
— Слушай, у тебя же фары включены, — сказал я Скотчи, но он притворился, будто не слышит.
— У тебя фары работают, — повторил я.
— Это специально, — сердито отозвался он.
— Специально для чего? — не сдавался я. — Зачем это нужно?
— Господи, Брюс, раз я сказал, что оставил фары включенными с какой-то целью, значит, так оно и есть, ясно? Я не обязан объяснять тебе все гребаные мелочи! — сказал Скотчи, снова начиная закипать.
— Ты не обязан объяснять мне все гребаные мелочи, но и я, и Фергал доверяли бы тебе больше, если бы ты признался, что просто забыл выключить фары, а не болтал о какой-то долбаной цели. Хороший руководитель, Скотчи, умеет признавать свои ошибки.
— Ладно, ладно, я забыл их выключить, случайно забыл. Случайно, понял?! Я, мать твою, не какой-нибудь долбаный Александр Македонский, чтобы обращать внимание на всякую херню. А теперь имей в виду, Брюс: я бы хотел, чтобы ты хоть раз в жизни перестал рассуждать и начал делать, что тебе говорят!
Все это Скотчи проорал мне прямо в лицо, даже не думая о том, что нас могут услышать. «А как же элемент внезапности?» — подумал я, но решил не высказываться на эту тему.
— О'кей, Скотчи, будь по-твоему, — кротко сказал я.
Скотчи подобрался и бросил на меня еще один яростный взгляд.
— Попробуй сосчитать до десяти и обратно, — предложил Фергал. — Говорят, это помогает.
— Заткнись, Фергал, — отрезал Скотчи.
— Да-да, заткнись, — поддержал я его. — Ведь ты, в отличие от нашего генерала Роммеля, понятия не имеешь, как это трудно — командовать.
Скотчи покипел еще немного, потом вытащил из брюк край своей черной вискозной рубашки и почесал зад. Он ничего не сказал, и я подмигнул Фергалу.
— О'кей, Майкл, — промолвил наконец наш новоиспеченный босс и притянул меня поближе. — Давайте займемся делом. Мы с тобой пойдем первыми, Фергал — сзади.
Фергал упрямо покачал головой.
— Я никуда не пойду, пока вы двое ссоритесь, — сказал он.
— Господи, Фергал, вовсе мы не ссоримся! — возразил я.
Скотчи закатил глаза, но даже ему было ясно, что Фергала необходимо как-то успокоить.
— Мы уже помирились, ясно? — раздраженно сказал он.
Но Фергала это не убедило, и я обнял Скотчи за плечи.
— Гляди, Фергал: мы со Скотчи — друзья, — объявил я.
Фергал кивнул. Я тоже кивнул.
— А что, если этот парень держит с-собаку? — неуверенно спросил Фергал.
Тут я вспомнил, что он боится собак. Должно быть, в розовом детстве одна из них его укусила или напугала.
— Расслабься, Фергал, никакой собаки у Лопаты нет, — сказал я.
Он удовлетворенно улыбнулся в ответ и первым поднялся по ступенькам ко входу.
— Как ты думаешь, можем мы на него положиться? — шепотом спросил меня Скотчи. — Мне кажется, сегодня он немного не в себе.
— Не обращай внимания, он в порядке, — так же шепотом отозвался я.
Дверь парадного была заперта, и Скотчи принялся нажимать на все кнопки подряд. Наконец кто-то из жильцов впустил нас.
— Третий этаж, — сказал Скотчи. Он был заметно напряжен. От него буквально несло свежим потом и немного — страхом. Что касается меня, то я чувствовал себя почти нормально. Я был вооружен револьвером калибра 22, у Скотчи была пушка калибра 38; что касалось Фергала, то он, несмотря на свою внешность, не был круглым идиотом. Я был уверен, что все пройдет как надо. То есть почти уверен.
Мы поднялись на третий этаж и остановились перед дверью квартиры № 34.
— Будем звонить или вышибем дверь? — спросил Фергал.
Скотчи задумался.
— Мне кажется, лучше обойтись без лишнего шума, — сказал я.
— Ты прав, Брюс, — кивнул Скотчи, шаря по карманам в поисках пачки «Тарейтона». Мы оба терпеливо ждали, пока он закурит.
— О'кей, Фергал, мы встанем так, чтобы нас не было видно, а ты позвони в дверь, — распорядился наконец Скотчи.
Фергал послушно поднял руку и нажал на кнопку звонка.
— Кто там? — раздался из-за двери женский голос.
— Фергал Дори, — сказал Фергал.
— Что вам нужно?
— Я к Лопате. Я его знакомый.
— Его сейчас нет. Он вышел, — сказала женщина.
Фергал смутился и вопросительно покосился на нас.
— Скажи, что принес ему микроволновку, — шепотом подсказал Скотчи.
— Я это… я принес его микроволновку, — повторил Фергал.
— Его микроволновку? — переспросила женщина.
— Ага.
Последовала продолжительная пауза, потом в коридоре за дверью послышались шаги. Несколько секунд спустя дверь распахнулась, и на пороге возник ухмыляющийся Лопата.
— Фергал, сукин ты сын, наконец-то ты принес… — начал он, но Скотчи заорал во все горло:
— Хватай его, Фергал, хватай эту сволочь!
Фергал ринулся вперед и, по-регбистски обхватив Лопату за пояс, бросил на пол. Мы со Скотчи ввалились следом, и я захлопнул дверь.
Несколько часов спустя, когда я возвращался домой в поезде надземки, полагая (ошибочно), что теперь-то все позади, я снова и снова перебирал в памяти все, что произошло в тот вечер. А произошло, надо сказать, довольно много вещей, которые иначе как ужасными не назовешь. Бриджит, замывающая кровь на моей рубашке; наша остановка у «Макдональдса»; облепленное перьями тело Лопаты… Я не садист и не смаковал подробности, просто мне хотелось все запомнить. Как я уже сказал, произошло слишком много всего, чтобы память могла вместить все разом, а мне нужно было быть уверенным, что я ничего не забыл и не упустил. Мне хотелось верить, что я отдавал себе отчет в своих действиях, и что моими поступками руководили разум и расчет, а не горячность молодости и волнение. Разумеется, события развивались своим чередом и вовсе не я направлял их ход. С другой стороны, время от времени я все же останавливался, анализируя происходящее и решая про себя, нравится мне это или нет. И по большей части я был совсем не против. Почему? Этого я сказать не могу. Это слишком сложный вопрос, да и в конце концов, сейчас речь не об этом.
Когда миссис Лопата (или как ее там звали на самом деле) выглянула на шум, мы четверо уже находились в прихожей, оклеенной цветастенькими обоями и такой узкой, что здесь и повернуться-то было негде. На вид ей было что-то около тридцати или чуть больше. Волевое, загорелое, на удивление симпатичное лицо… На ней были ночнушка и шлепанцы, на голове — черный парик. Увидев, что Лопата лежит на полу, она заорала, но Скотчи ударил ее по лицу рукояткой револьвера. Миссис Лопата повалилась как подкошенная. Падая, она зацепила какую-то картину в раме и сломала раму. Лопата тоже что-то крикнул и попытался подняться, но я приставил ему ко лбу ствол револьвера.
— Не дергайся, приятель, иначе мне придется тебя застрелить, — сказал я, желая придать происходящему хотя бы видимость цивилизованности. Но у Скотчи на уме было нечто совершенно противоположное. Наклонившись над Лопатой, он принялся избивать его рукояткой револьвера. Он не говорил, а рычал, как будто выплевывая слова, которые из-за этого было очень трудно разобрать:
— Зачем ты сделал это, подонок? Гребаный кретин! Ты что, совсем ума решился? Или ты думал, что мы это так оставим, да? Ты думал — тебе это сойдет с рук?
Кровь заливала лицо Лопаты, но он пытался возражать. Он тут ни при чем. Он вообще не понимает, о чем идет речь. Фергал все еще сидел на нем, и Лопата не мог увернуться, когда Скотчи ударил его рукояткой револьвера в зубы. После этого Лопата начал сопротивляться изо всех сил, но я придавил к полу его ноги, а Фергал сдвинулся выше. Скотчи выпрямился и стал пинать Лопату ногами, стараясь попасть по ребрам или по голове. Теперь кровь была уже повсюду. Она пятнами расплывалась на нашей одежде и собиралась на полу зловещими, темными лужицами. Наконец Лопата потерял сознание.
— Принеси подушку! Две! — приказал Скотчи Фергалу.
Фергал поднялся и пошел искать спальню.
— Ты собираешься его пристрелить? — спросил я бесстрастно.
— Ага, собираюсь, — кивнул Скотчи.
У меня внутри все перевернулось. Одно дело — поучить кого-то уму-разуму, и совсем другое — убить. Нет уж, на мокрое дело я не подписывался. В Куле, Гринайленде и Карриктауне тоже процветали подростковые разборки, но убийства случались редко, и сейчас у меня по спине побежали мурашки. Я еще никогда не был свидетелем хладнокровного убийства, и мне очень не хотелось, чтобы что-то подобное произошло на моих глазах.
К счастью, Скотчи оказался несколько умнее, чем я думал, и в тот вечер мне не суждено было получить боевое крещение.
— «Шесть банок по-ирландски», — сказал он после небольшой паузы.
— Круто, — заметил я.
— А об Энди ты подумал? — брызгая мне в лицо слюной, заорал Скотчи. — Об Энди, который может остаться на всю жизнь инвалидом или вообще откинуться?!
Я ничего не ответил, и он смерил меня мрачным взглядом.
В этот момент вернулся Фергал с подушками.
— Включи-ка телик погромче, — велел ему Скотчи.
Фергал снова ушел. Я посмотрел сначала на Скотчи, потом на распростертого у наших ног Лопату.
— Давай я все сделаю, — сказал я. — От моего «двадцать второго» все-таки поменьше шума.
Скотчи кивнул.
На самом деле я больше беспокоился о Лопате, чем о том, насколько громким будет звук выстрелов. Пуля калибра 22 оставляет куда менее серьезные раны, чем револьверная пуля калибра 38. Приняв решение, я прижал подушку к лодыжке Лопаты, глубоко уткнул в нее ствол и, дождавшись, когда в соседней комнате заорал телевизор, нажал на спусковой крючок. Брызги крови и перья из распоротой подушки полетели во все стороны. Стараясь действовать как можно спокойнее, я прострелил Лопате вторую лодыжку. Снова кровь, перья… Запахло порохом, к тому же подушка начала тлеть, и я быстро затоптал огонь. После выстрела в левое колено Лопата внезапно очнулся, и его тут же вырвало, но Скотчи снова успокоил его на удивление ловким ударом ногой в висок. Я прострелил Лопате и другое колено и передал револьвер Фергалу, чтобы тот обработал локти. Сам я выпрямился и поспешно перевел дух. Я больше не мог выполнять эту палаческую работу, но Скотчи решил, что я отдал оружие Фергалу только потому, что тот находился в более удобном положении. Ему было невдомек, что я каждую минуту мог потерять сознание или сблевнуть.
Фергал выстрелил Лопате в локоть, но не слишком удачно. Мне следовало сделать это самому. Не то чтобы я обладал каким-то опытом по этой части, просто у меня было значительно больше здравого смысла и я лучше владел собой. Еще раз глубоко вздохнув, я забрал у Фергала револьвер.
— Смотри, как надо, — сказал я и аккуратно прострелил Лопате другой локоть, повернув оружие так, чтобы пуля попала в мясистую часть руки. Лопата снова дернулся, потекла кровь, полетели перья. Жена Лопаты, которая все еще валялась в отключке, тоже пошевелилась и застонала.
Я перевел дух.
То, что мы сделали, было жестоко. Просто ужасно. Одно дело — избить кого-то до потери сознания, и совсем другое — шесть раз подряд выстрелить в беспомощного человека. В знакомого человека к тому же…
Мы трое поднялись на ноги и несколько секунд стояли неподвижно, потрясенные тем, что мы только что сделали.
— Шесть выстрелов, «шесть банок по-ирландски», — прошептал Скотчи и как-то странно забулькал. Похоже, это он так смеялся. Фергал кивнул, и его рожа расплылась в улыбке — словно пополам треснула.
— Я всегда хотел спросить, что это такое, — проговорил он чуть ли не с благоговением. — Скажи, Майкл, у нас в Ирландии действительно так делают?
— Да, в Ирландии действительно так делают, — ответил я холодно, как будто подобные вещи давно вошли в мою плоть и кровь и стали второй натурой… Как будто я видел подобное десятки раз, и не испытывал ничего, кроме скуки. Разумеется, ничего подобного я раньше не делал. «Шесть банок» я видел только раз, после чего меня мутило целую неделю, но Фергал этого не знал. Теперь он смотрел на меня совсем другими глазами. В его представлениях я стал по-настоящему крутым сукиным сыном, и я не сомневался, что он раззвонит об этом другим. Даже Скотчи, насколько я заметил, был несколько потрясен тем, что мы сотворили. Когда мы в последний раз были в «Четырех провинциях», Лопата угощал нас пивом.
Их замешательство было мне на руку, и я поспешил воспользоваться представившейся мне возможностью.
— Ладно, пошли отсюда, — сказал я, открывая дверь. Скотчи и Фергал без возражений последовали за мной. Скотчи вознамерился было напоследок пнуть Лопату, но не посмел — настолько ему было не по себе. Мы все были с ног до головы забрызганы кровью, но на улице наступила уже настоящая ночь, да и машина стояла у самого подъезда. Скотчи начало трясти, но он старался этого не показать. Протянув мне ключи, он сказал:
— Садись за руль.
Я еще не привык ездить по правой стороне улицы, однако возражать не стал. Взяв ключи, я запустил мотор и, плавно тронув машину с места, поехал в обратном направлении. По дороге нам попался «Макдональдс» для автомобилистов, и я решил еще больше укрепить свою новообретенную репутацию.
Я повернул на стоянку.
— Умираю с голоду, — объявил я. — Вам, ребята, что-нибудь взять?
Скотчи, сидевший на переднем сиденье, был бледен как смерть, а после моего вопроса он и вовсе позеленел. Фергал на заднем сиденье с трудом сдерживал позывы к рвоте. Оба покачали головами, и я, подкатив к окошку, взял бигмак. Одной рукой я правил, а другой держал бутерброд, откусывая от него большие куски. «Фергал расскажет всем и об этом, — думал я. — Слухи дойдут до Лучика. До Темного. Может быть, даже до самого мистера Даффи».
У «Четырех провинций» мы остановились и зашли внутрь, чтобы привести себя в порядок. Бриджит взяла у меня окровавленную одежду. Энди по-прежнему был без сознания.
— Пожалуй, его все-таки стоит отправить в больницу, — сказал я.
Скотчи было не до споров, и миссис Каллагэн стала набирать номер. Я принял душ и стал ждать парамедиков.
Когда мы остались одни, я разыскал Бриджит и поцеловал.
— Я очень хочу с тобой встретиться, — сказал я.
Она ничего не ответила.
— Завтра, — добавил я.
— Я не знаю, Майкл, — ответила она.
— Ради всего святого, Бриджит, ведь нам с тобой обоим так досталось! Завтра. Пожалуйста. Приходи, оттянемся…
Она с сомнением покачала головой и спустилась вниз.
Я несколько секунд стоял неподвижно и смотрел ей вслед. Придет ли она? Может быть, моя наглость пришлась ей не по вкусу? Кто знает… Я устало покачал головой и тоже спустился вниз.
Пат налил мне бесплатную кружку пива, и я выпил ее, закусывая хрустящими чипсами и болтая о предстоящем футбольном сезоне британской премьер-лиги. Потом я попрощался с ним, спустился по лестнице и сел в поезд.
Страшное было позади.
Закончилось.
Я справился.
Я справился. Мне нелегко пришлось, но это была вина Скотчи, а не моя. Не моя.
Я ищу в кармане книжку про русского, но она куда-то подевалась, и я просто сижу в вагоне подземки и думаю. Не моя вина. Не моя… Поезд гремит на стыках, вагон покачивается и едва не убаюкивает меня. Наконец он останавливается на остановке и больше не двигается. Наконец появляется служащий подземки. Он говорит, что на линии возникли какие-то проблемы и что мне придется выйти на 137-й улице. Я выхожу, и служащий вручает мне бесполезный пересадочный талон.
В Гарлеме темно. В Гарлеме — ночь.
От Сити-колледжа и парка Сент-Николас дорога идет под уклон. Улицы пусты. Ни наркоманов, ни проституток, ни полицейских в штатском, ни рассыльных, ни дорожных рабочих — никого и ничего. Винные лавочки закрыты, их железные ставни заперты на замки. Только луна. Только луна и пустынная дорога. Гигантские темные здания спят, оплетенные ржавыми пожарными лестницами, словно осьминожьими щупальцами. Воздух еще не остыл. Гарлем затих, и я тоже начинаю успокаиваться. Да и с чего бы мне волноваться? Все ответы лежат передо мной. Не стоит усложнять, на самом деле все предельно просто. Я знаю положение вещей. Я знаю, кто я и кто они. Я знаю свое место. Я знаю, что будет дальше. Я знаю буквально все и поэтому могу существовать здесь, не испытывая ни дискомфорта, ни страха перед прошлым.
Я могу быть никем.
О, как приятно пройтись ночью по Амстердам-авеню. Вокруг — никого. «Бродячее» такси нагоняет тебя и гудит. Ты смотришь на него, киваешь. Такси останавливается. Ты садишься. Три доллара до перекрестка 123-й и Амстердам, говоришь ты.
Водитель улыбается и кивает.
— Жаркий был денек, — говорит он.
Ты не отвечаешь и глядишь в окно. Ты не отвечаешь, хотя в глубине души ты с ним совершенно согласен.
2. В центре
Все должно было быть иначе. На этом трудный вечер должен был закончиться, но он не закончился. Вечер превратился в бурную ночь, в которой смешались выпивка и крэк (понимайте как хотите), бары и машины. Впрочем, по порядку… Вернувшись домой после расправы над Лопатой, я разделся и лег, но поспать мне удалось всего минут сорок. Ребята приехали за мной в большом желтом фургоне — похоже, угнанном. За рулем сидел парень по имени Марли; до этого момента мне еще никогда не приходилось с ним сталкиваться, да и впоследствии я встретился с ним только один раз, — несколько месяцев спустя, если брать физическое время, или через несколько геологических эпох с точки зрения психологии, — когда я вонзил ему в горло заточку и он упал, не издав ни звука, в мягкий рождественский снежок.
Я был вымотан до предела, но меня все равно решили разбудить, чтобы я принял участие во всеобщем веселье, так как Темный, отмечая какое-нибудь событие, вел себя совершенно как моряк, который сошел на берег после долгого плавания. Он пил, и вместе с ним должны были пить все — таково было правило, которым он руководствовался в подобных случаях. А я, что ни говори, был героем дня — так, во всяком случае, мне сказали. Лучик, Большой Боб и Темный приехали в «Четыре провинции» сразу после своих важных переговоров, но меня уже не застали — я отчалил буквально за полчаса до этого. На переговорах Темный и Большой Боб пили, поэтому везти их пришлось Лучику (хотя фактически за рулем сидел Марли). За столиками «Четырех провинций» вся компания столкнулась со Скотчи и Фергалом, которые как раз собирались принять по последней — как говорится, «на посошок». Оба были уже хороши, но Лучику каким-то образом все же удалось вытянуть у них подробности наших приключений. Услышав всю историю, Темный возмутился. Как им только пришло в голову разрешить мне ехать домой на метро, вскричал он. Меня, героя сегодняшнего вечера, расправившегося с Лопатой с поразительными хладнокровием и решительностью?
Надо сказать, что Темный был, что называется, человек настроения. Поддавшись минутному капризу, он решил, что сейчас они поедут в больницу, чтобы навестить Энди, а потом отправятся в Гарлем, чтобы чествовать героя, то есть меня.
О господи, бедный я…
Как я уже говорил, я спал всего сорок минут или около того, но спал крепко, не тревожимый ни совестью, ни чем-либо еще. Иными словами, я отрубился начисто, но меня это не спасло.
К Энди ребята, конечно, не попали, но это не помешало им явиться ко мне на 123-ю улицу. Внизу они принялись давить на кнопку домофона, но у меня был включен вентилятор, а кроме того, я заткнул уши ватой, чтобы отсечь шум, доносившийся со стороны восточной части города.
«Ну давай же, открывай, засоня долбаный, сукин сын, это мы!» — несомненно, бормотал в домофон Скотчи, давя на кнопку сигнала. Они звонили, наверное, секунд десять, затем терпение Темного истощилось, и он велел Большому Бобу сломать замок, что и было сделано. Я думаю, что та же участь постигла бы и входную дверь моей квартиры, если бы я в конце концов не услышал в коридоре их пьяный гогот, выкрики и стук. Спросонок я, видимо, решил, что ко мне собирается вломиться компания пьяных сербов, изредка приходивших в гости к Ратко, поэтому, прежде чем открыть дверь, я вооружился металлической бейсбольной битой и сунул за резинку трусов револьвер.
Когда я распахнул дверь, вся компания разразилась дружным смехом. Видок у меня, конечно, был еще тот: трусы, футболка с обложкой четвертого альбома «Лед Зеппелин», револьвер, бейсбольная бита, волосы взлохмачены, зубы оскалены.
Темный протянул руку и дружески стукнул меня по бицепсу.
— Отличная работа, приятель! — сказал он. Темный никогда не был в Ирландии, но, пообщавшись со мной и Скотчи, усвоил легкий ирландский акцент и манеру, которые и практиковал в нашей компании, кошмар, да и только.
Я еще не совсем проснулся, но они натянули на меня джинсы, ботинки и кожаную куртку и силой потащили за собой в ночь. Пока меня волокли вниз по лестнице, мне вдруг показалось, что все это бьющее через край дружелюбие — просто показуха и что на самом деле они намерены отвезти меня на берег Гудзона и прикончить выстрелом в затылок. Даже хуже. Сначала, думал я, Темный будет бить меня ногами по голове, пока я не ослепну, а мои мозги не полезут из ушей. Тогда Скотчи скажет: «Ты меня очень огорчил, приятель». И убьет.
Но желтый фургон свернул не налево, к Амстердам-авеню, а направо, и я подумал, что мы, похоже, и вправду едем куда-то в центр. Никто этого не заметил, но мое сердце перестало стучать, как отбойный молоток, и забилось в нормальном ритме. Напряжение, державшее меня как в тисках, начинало спадать, хотя я и знал, что это будет непростая ночь: выпивка, курево и какой-нибудь кабак, работающий до рассвета… Главное, я останусь в живых, а это, согласитесь, уже кое-что.
В машине Темный заставил меня выпить с полпинты виски, а сам отключился на заднем сиденье. Пока он кемарил, Скотчи и Большой Боб затеяли спор по поводу того, куда именно мы едем. И как всегда, когда Боб и Скотчи пытались поладить, дело кончилось почти фарсом: нас остановил полицейский. Разбираться с легавым пришлось Лучику, сидевшему на переднем сиденье; он же в итоге и принял решение, доставив всех нас в ближайший притон, оказавшийся стрип-клубом, неподалеку от Мэдисон-сквер-гарден.
К этому времени Темный успел очухаться. Он первым вошел в клуб и был принят, что называется, с распростертыми объятиями. В самом заведении, впрочем, не было ничего примечательного: темные кабинки, подиум, шесты, главная сцена и боковые, захватанные стаканы и немногочисленная клиентура.
Я сразу забился в темный уголок, чтобы попытаться поспать еще немного. Должно быть, я действительно задремал, поскольку разбудил меня тягучий и неотвязный голос Фергала, рассказывавшего о какой-то рыжеволосой красотке, в которую он влюбился. Помнится, спросонок я подумал, что наш визит к Лопате свинтил ему мозги, а впрочем, он, возможно, был такой же, как всегда. Лично мне мосластый, долговязый Фергал и раньше казался, что называется, трехнутым. В Ирландии он был взломщиком, и ему хотелось, чтобы в ознаменование прежних заслуг мы называли его «Мастер», но никто этого не делал. Фергал был старше меня на пять лет, но в наших повседневных отношениях роль старшего брата, как правило, доставалась мне.
— …Вон она, гляди. Правда, Майкл, шикарная маруха? Ты только посмотри на нее, только посмотри!
Я посмотрел. Сначала мне показалось, что Фергал шутит, но он был серьезен как могила. Девица, о которой он говорил, явно была профессионалкой и явно нанюхалась кокаина. Кроме того, она была на добрых четыре дюйма выше Фергала, а с каблуками разница составляла почти фут. Танцевала она не в главном шоу, а возле одного из боковых кабинетов и выглядела так, словно вот уже несколько месяцев ничего не ела и не показывалась на воздух. Ее волосы сильно смахивали на парик, поэтому нельзя было исключить, что девушка, сумевшая разжечь в Фергале огонь страсти, на самом деле была переодетым парнем, превратившимся почти в скелет от голода и кокаина.
— Я тебя понимаю, Фергал, — сказал я. — Ты прав: эта девица как будто для тебя создана. Эта светлая кожа, эти рыжие волосы… Ну и везунчик ты, приятель! Я думаю, ты поймал свое счастье.
— Ты правда так думаешь, Майкл, правда? Нет, я серьезно… Понимаешь, я только взглянул на нее, и мне сразу захотелось… нет, не то, что ты думаешь. Это чувство… Оно вроде любви, понимаешь? Любви с первого взгляда, когда ты просто ничего не можешь с собой поделать. Это просто случается — и все. Как гром с ясного неба. Знаешь, иногда в автобусе ты вдруг видишь кого-то, и тебя прямо как стукнет, а через пару минут того и след простыл, и ты не знаешь… А у тебя так было? Наверное, такое может случиться с каждым, но я…
Слушая это признание в любви, которое лишь весьма отдаленно напоминало возвышенный стиль Овидия, я рассеянно оглядывал скверно освещенный клуб в поисках остальных. Но я никого не увидел и решил, что они либо вовсе уехали, либо заперлись в отдельном кабинете. В любом случае это был хитрый ход, рассчитанный на то, чтобы оставить меня один на один с окосевшим от любви Фергалом, и я подумал, что, должно быть, мне и вправду суждено стать халифом на час.
— Сволочи!
— Что-что?
— Это я не про тебя, Фергал. Просто мне стало интересно, куда все подевались.
— Не знаю, Майкл. Разве ты не слышал, о чем я тебе говорил?
— Конечно, слышал, Фергал. Как же иначе, ведь у тебя что ни слово — то перл.
— Перл?
— Жемчужина.
— Ну вот, как ты думаешь, что мне теперь делать? У меня в животе как будто тепло разливается…
— У меня тоже. Должно быть, это то так называемое виски, которым угощал меня Темный…
— Твою мать, Майкл, я же серьезно! Как тебе кажется, что мне делать? Я хочу сказать — она ведь танцовщица и, может быть, даже… — Тут он понизил голос до шепота. — Может быть, она шлюха или что-то в этом роде. Господи Иисусе, это будет по-настоящему скверно! Как тебе кажется, будет правильно, если я к ней подойду? А если я подойду, что мне сказать?
Я сделал ему знак наклониться ближе.
— Послушай, Фергал, мне эта девчонка тоже кажется совершенно очаровательной… Кто знает, быть может, на самом деле она — студентка теологического факультета, которая танцует в баре, чтобы оплатить курс обучения? Как бы там ни было, тебе нужно подойти к ней и вежливо сказать: «Позвольте узнать, мадам, нельзя ли как-нибудь встретиться с вами после того, как вы закончите работать в этом заведении?» Разумеется, следует уточнить, что ты намерен встретиться с ней вовсе не за тем, чтобы заняться каким-нибудь непотребством. Чашка кофе, обмен идеями и мнениями, диалог культур — вот цель, которая, я уверен, способна увлечь вас обоих.
— Ты считаешь, это сработает?
— Несомненно, Фергал, земляк мой любезный. Кто бы сомневался! Твоя внешность и своеобразный ирландский юмор сделают тебя неотразимым в ее глазах.
Фергал допил свое пиво и действительно пошел к девице. Я ободряюще хлопнул его по спине и стал смотреть, как он произносит свою маленькую речь. К сожалению, после первых же его слов танцовщица что-то сказала. Фергал тут же заткнулся и, разочарованный и обескураженный, вернулся ко мне. Глядя на его вытянувшееся от огорчения лицо, трудно было представить, что всего пару часов назад этот парень хладнокровно стрелял в человека.
— Она говорит, что не может встречаться с клиентами. У них тут такое правило.
— Фергал, — сказал я, — тебе нравится эта женщина? Ты ее любишь? Хочешь ее?
Он кивнул.
— В таком случае скажи ей, что ты принадлежишь к древнему и благородному кельтскому роду, что тебе наплевать на какие бы то ни было правила и что если она станет твоей, ты заберешь ее отсюда, купишь ей собственную квартиру и оплатишь курс обучения на факультете теологии, а также все библиотечные штрафы. Скажи, что если нужно, ты готов вкалывать по двадцать часов в день, лишь бы она ни в чем не нуждалась и чувствовала себя счастливой. А теперь ступай, Фергал, скажи ей все это и не возвращайся, пока Виктория, то есть Победа, не окрасит румянцем твои бледные ирландские скулы.
Я слегка подтолкнул его, и Фергал снова направился к девице, а я закрыл глаза и откинулся на спинку стула. Вожделенный сон подкрался как наемный убийца, и вскоре я был уже далеко от окружавшей меня суеты.
На несколько недолгих, но восхитительных минут я оказался среди зарослей вереска и утесника. Луг слева от меня зарос белыми полевыми цветами; над болотиной, протянувшейся до отлогих голуэйских холмов, колыхали венчиками куга и камыш. Все Ирландское нагорье, укутанное голубоватой таинственной дымкой, раскинулось передо мной. Должно быть, были сумерки — утренние или вечерние, я не разобрал, — поскольку на далеком морском берегу зажглись маяки. Я успел насчитать шесть штук, прежде чем мои грезы были грубо прерваны, и я принужден был вернуться в реальный мир.
На этот раз меня разбудил Скотчи. Он просто-напросто вышиб из-под меня стул и громко расхохотался, когда я растянулся на полу, покрытом какими-то пятнами сомнительного свойства. Темный, Большой Боб и Марли тоже смеялись. Короче, ржали все, кроме меня и Лучика, который отличался сдержанностью.
— Ах ты, долбаный засоня! — сказал Скотчи. — Ты опять вырубился и пропустил самое интересное. Пока ты храпел, девчонки исполнили для нас танец на коленках.
— Угу, — подтвердил Большой Боб. — Там была одна ну просто роскошная деваха. Пальчики оближешь. Я спросил у нее, откуда она родом, и она говорит — с Таити. А я говорю: сейчас мы поглядим, что вы там таите под этими крошечными трусиками…
Я видел, что Большой Боб пытается шутить, однако падение со стула отнюдь не настроило меня на миролюбивый лад, поэтому я сказал, что каждой девице, которая станет танцевать на широких коленках Боба, сразу станет ясно, что он не «таит» там ничего особенного, кроме жировых складок.
Боб был слишком пьян, чтобы понять, в чем соль, однако он заподозрил в моих словах оскорбительный подтекст и недолго думая назвал меня иммигрантской сволочью.
Я уже готов был произнести долгий и подробный монолог, касающийся его происхождения, но Скотчи поглядел на меня и отрицательно покачал головой.
— Где Фергал? — спросил Лучик.
И действительно, Фергал куда-то исчез.
— Он ушел с какой-то рыжей шлюхой, — объяснил я.
— На всю ночь или как? — поинтересовался Темный.
— Думаю, на всю ночь, — сказал я.
— В таком случае одного мы потеряли, потому что мы, мой друг, переходим на новые пастбища, — сказал Темный и протянул руку, помогая мне подняться с пола.
— Видел бы ты сейчас свою морду, — сказал Скотчи, когда мы шли к фургону.
— Посмотри лучше на свою, пока есть на что смотреть, — огрызнулся я.
— Это угроза или я ослышался? — насмешливо спросил он.
— Это угроза, мудак, — сказал я, начиная сердиться по-настоящему.
— Ладно, болтай сколько влезет, все равно до дела у тебя не дойдет, — заявил Скотчи несколько более язвительно, чем всегда.
Я остановился, примерился и, сжав кулак, врезал ему со всей силы. Удар был хорош. Мой кулак угодил ему точнехонько в нос, Скотчи попятился и наткнулся спиной на фонарный столб.
— Козел гребаный! — выругался Скотчи и бросился на меня как тысяча диких кошек, царапаясь, кусаясь и плюясь столь яростно, что мне пришлось сделать ему подсечку. В результате мы оба повалились на землю, причем Скотчи, оказавшись сверху, продолжал вырывать мне пряди волос и вонзать зубы мне в руку.
— Ах ты, гнида! — заорал я, целясь головой ему в лицо, но прежде чем мы успели нанести друг другу серьезные увечья, нас разняли. Оба мы были в крови, а я к тому же кипел от гнева.
Темный что-то кричал, но я ничего не слышал, и даже когда в ушах у меня перестало звенеть, я никак не мог разобрать, чего он от меня хочет. Тогда Лучик взял меня за запястье и заставил вытянуть руку вперед. Темный поступил таким же образом со Скотчи, и я понял — мы должны обменяться рукопожатием в знак примирения.
Покачав головой, я попятился:
— Я не стану пожимать руку этому вшивому дерьму, Лучик! Он просто подонок, настоящий подонок, и все его предки были подонками и гребаными педиками, — сказал я.
— Учти, Брюс, я все слышал! — заорал Скотчи.
— Что, мало тебе? Получил и еще получишь! — крикнул я в ответ.
— Ну давай, давай, попробуй, сукин сын! — взвизгнул Скотчи, почти охрипший от крика.
— Эй, вы, хватит! — сказал Темный.
Он продолжал удерживать Скотчи, меня держал Большой Боб. Все это происходило неподалеку от Мэдисон-сквер-гарден; к счастью, в тот вечер не было ни концерта, ни боксерского матча, поэтому наша интермедия не привлекла внимания ни полицейских, ни любопытных прохожих.
Лучик схватил меня за плечи:
— Вот что, Майкл, сейчас ты пожмешь руку Скотчи, и вы помиритесь. Я уверен, что уже завтра ты будешь сожалеть о том, что произошло. Ты станешь звонить мне и извиняться и говорить, что не можешь поверить, как двое взрослых мужчин могли вести себя словно вздорные подростки. В конце концов, мы все знаем, что если кто из нас и понимает шутки, так это ты…
— Не хочу я пожимать ему руку, — снова пробормотал я, и не только потому, что был пьян, а из обыкновенной гордости. Лучик, однако, понимал, что если он не хочет потерять свой авторитет, он должен покончить с этим инцидентом здесь и сейчас. Улыбнувшись, он сказал спокойно, но достаточно громко, чтобы все слышали:
— Ты пожмешь ему руку, Майкл, даже если мне придется приставить дуло к твоей голове.
Я посмотрел на него. Невысокий (пять футов и восемь дюймов), болезненно худой, с дурацким зачесом и не менее дурацкими усиками, но почти без бровей, Лучик напоминал яйцеголового из научно-фантастического фильма пятидесятых годов. Мне, во всяком случае, было очень легко представить себе, как он сообщает Стиву Маккуину, что к Земле приближается таинственный Пузырь.
Подумав об этом, я сразу успокоился и даже улыбнулся.
— Это приказ? — осведомился я.
Он кивнул и слегка прищурился, что в данном случае означало не гнев, а скорее что-то вроде сочувствия.
Я еще больше расслабился. Лучик давал мне возможность отступить, не теряя достоинства. Это, кстати, было вполне в его стиле. Нет, что ни говори — Лучику можно было доверять. Он заботился о нас и жил не только сегодняшним днем, но и завтрашним, порой заглядывая на неделю вперед.
Я шагнул к Скотчи и протянул руку. К моему удивлению, он привлек меня к себе и обнял.
— Господи, какой же ты все-таки сукин сын, Майкл! — прошептал Скотчи мне на ухо прерывающимся от наплыва чувств голосом. Мне даже показалось — еще немного и он заплачет, поэтому я улыбнулся ему и слегка оттолкнул.
— Ну вот, теперь он хочет заняться со мной любовью, — заявил я для остальных, и Скотчи снова взмахнул кулаком. Он даже слегка заехал мне по макушке, но теперь это не имело значения, поскольку отныне мы были неразлучными друзьями. И действительно, мы не расставались до тех пор, пока две бутылки «Девара» спустя Скотчи не отключился в сортире бара «Мат», сохранившегося чуть не со времен «сухого закона» в западной части Виллидж, где еще можно было увидеть посыпанный опилками пол, портреты знаменитых писателей довоенной поры и «барных псов», готовых в неограниченных количествах лакать ваше пиво.
Нам нужно было как-то избавиться от бесчувственного тела, поэтому мы отправились в Бронкс, где Скотчи жил. Когда мы проезжали мимо моей родной 123-й улицы, я заметил, что сейчас уже действительно поздно и мне, пожалуй, тоже следовало бы отправиться на боковую, но Темный и слышать ничего не хотел.
Наконец мы остановились напротив дома Скотчи, и мы с Большим Бобом не без труда проволокли нашего товарища вверх по лестнице. В квартире мы сбросили наш груз на кровать, и пока Боб исследовал содержимое холодильника, я уложил Скотчи на бок, чтобы он не захлебнулся собственной блевотиной. Потом мы снова поехали в Виллидж, но только не в западную, а в восточную часть, где Темный знал отличный бар, в котором можно было выпить настоящего крепкого портера. К сожалению, бар за поздним временем был давно закрыт, поэтому нам пришлось довольствоваться ближайшим заведением, носившим название «Алфавит-сити» и представлявшим собой ультрамодную забегаловку, в которой было дымно, шумно и полным-полно симпатичных девчонок из Нью-Йоркского университета.
Когда в очередной раз настала моя очередь платить за выпивку, я увидел у стойки потрясающе красивую израильтяночку с коротко подстриженными темными волосами, влажными темными глазами и большими грудями, которые характерно торчали вперед, дерзко бросая вызов закону всемирного тяготения. Я и сам, надо признаться, далеко не урод, к тому же я был уверен, что царящий в баре полумрак скроет и темные круги недосыпа у меня под глазами, и выражение жестокости, которое могло сохраниться на моем лице после недавней расправы над Лопатой.
Красотке я сказал, что она похожа на ирландку, и поинтересовался, нет ли у нее ирландских корней. Когда же она сказала «нет», я сказал — в духе столь популярного нынче постмодернизма, — что мог бы предложить ей свой ирландский корень. То, что годится для Боно,[9] сработало и в моем случае. Она обозвала меня «хуцпан»,[10] а я ответил: «Будь здорова». На этом официальные представления были закончены, и я некоторое время вешал ей лапшу насчет того, что я, мол, студент Королевского университета в Белфасте, приехал на год по обмену в Колумбийский университет. Еще я наплел, что изучаю проблему потери прочности при растяжении в крупных механических конструкциях. С этой выдумкой я, впрочем, чуть не попал впросак, поскольку, как выяснилось довольно скоро, моя новая знакомая служила в саперных войсках армии Израиля и знала об упомянутом предмете намного больше меня. По ее словам, она была в звании лейтенанта, но я был склонен ей не поверить. Я так ей и сказал, но она развеяла мои сомнения, вполне по-офицерски поставив мне порцию виски. Оплаченную мной выпивку я отправил парням через бармена, а сам уединился в укромном уголке с лейтенантом Рэчел Наркис. О своей собственной армейской карьере, которая продолжалась всего год и бесславно завершилась на гауптвахте острова Святой Елены, я решил не упоминать.
Лейтенант Наркис выросла в кибуце неподалеку от границы с Ливаном, и ей часто приходилось лазить по горам северной Галилеи и увертываться от реактивных снарядов, выпущенных из древних «катюш» советского производства. Сейчас она изучала историю в Университете Нью-Йорка и кроме иврита и английского говорила также на идиш, арабском, французском и еще на нескольких языках. Мне она показалась умной и интересной женщиной; должно быть, по этой причине я шутил и хвастал как заведенный и фонтан моего пьяного ирландского красноречия казался неиссякаемым.
Мы разговаривали о картинах, о путешествиях, и Рэчел удачно притворилась, будто ее восхитил мой рассказ о каникулах, которые я провел в Испании. На Тенерифе — одном из островов Канарского архипелага — произошли столкновения между английскими и немецкими футбольными болельщиками. Тогда от участия в потасовке меня удержали старшие товарищи, но в своем рассказе я немного погрешил против истины, сказав, что оказался в самой гуще событий и даже спас от верной гибели заблудившегося испанского пастушонка, за что удостоился от испанского правительства гражданского знака отличия за доблесть. Рэчел, разумеется, не поверила ни одному моему слову; впрочем, будучи большой любительницей кино, она спросила, действительно ли испанские ландшафты напоминают Негев.[11] Я чистосердечно признался, что не знаю, но добавил, что в тех местах, где мне довелось побывать, когда-то снимался фильм «Хороший, плохой, отвратительный», так что единственное, что ей нужно сделать, это взять в прокате соответствующую пленку.
— И ты убедишься, что банк в Эль-Пасо снимался вовсе не в Эль-Пасо, — добавил я нравоучительно. Рэчел тут же возразила, что банк в Эль-Пасо фигурировал совсем в другом фильме. Кажется, добавила она, это была картина «За пригоршню долларов».
На этом кинотема была закрыта, однако мы не испытывали нехватки в предметах для обсуждения. Некоторое время мы разговаривали о Белфасте, Иерусалиме и кибуце, где Рэчел работала в механической мастерской. Разумеется, мы не могли не сравнивать ситуацию в Израиле и в Северной Ирландии. Прибегнув к помощи здравого смысла и нескольких примитивных схем, наскоро набросанных на обороте салфетки, мы в пять минут решили обе проблемы, к полному удовлетворению всех заинтересованных сторон. Я заметил, что Рэчел не любит хвастаться своими связями, однако один раз она все же упомянула, что ее брат работает в аппарате Рабина. Я тоже не любил хвастаться знакомствами с «большими людьми», да и большинство имен, которые я мог бы упомянуть, хотя и гремели в Ирландии, были куда менее внушительными. «Бешеный пес» Джонни Макдафф, «Мясник» Клонферт, «Кровавый принц» Харлахан… Из предосторожности я предпочел не упоминать о своем знакомстве с этими выдающимися личностями. Вместо этого я пространно заговорил о прелестях студенческого житья. Когда я закрыл рот, чтобы перевести дух, Рэчел спросила, что я думаю об Основном своде знаний Колумбийского университета. Я понятия не имел, что это за штука, но сказал, что, по моему глубокому убеждению, он плохо сочетается с реалиями нашей динамично меняющейся эпохи, что, похоже, вполне удовлетворило Рэчел.
Так мы трепались довольно продолжительное время, и в конце концов она спросила, не хочу ли я зайти в ее комнату при университете. Жила она не в общежитии, и нам не нужно было пробираться туда тайком, однако, несмотря на это, предложение Рэчел звучало весьма заманчиво. Буквально на днях она приобрела новое приспособление для заваривания чая, представлявшее собой сетчатый металлический шарик, в который закладывалась заварка. Ячейки проволочной сетки были достаточно маленькими, чтобы в них застревали распаренные чайные листья, и вместе с тем достаточно большими, чтобы пропускать кипяток, благодаря чему обеспечивалось более высокое качество настоя… В какой-то момент я перестал прислушиваться к ее объяснениям, с головой утонув в ее глазах, которые, как я уже упоминал, были глубокими и пленительными.
— Интересно было бы взглянуть на твою фотографию в армейской форме, — подумал я, сам не заметив, что произнес это вслух. Рэчел сказала, что такого снимка у нее нет, но тут же спохватилась. Маленькое армейское фото было наклеено у нее в удостоверении личности. Смеясь, она показала мне удостоверение, и это решило дело. Я был готов отправиться к ней на квартиру, чтобы вместе исследовать чудесные свойства нового приспособления для заваривания чая. Но уже в следующую минуту я совершил страшную глупость, которая в конечном итоге и привела к смерти нашего водителя Дэвида Марли, погибшего от моей руки или, вернее, от моей заточки в снежный уэстчестерский сочельник. Та же глупость стоила жизни и всем, кто сидел сейчас за нашим столиком вместе с Марли. А ведь я всего-навсего сказал Рэчел, что должен предупредить своих товарищей о том, что я собираюсь исчезнуть.
Если бы я этого не сделал, все было бы по-другому. Я провел бы ночь с Рэчел, и того, что произошло на следующее утро, никогда бы не случилось. Не было бы поездки в Мексику, и никто бы не погиб. Да, если бы я промолчал, моя повесть была бы совсем другой — куда более веселой и оптимистичной.
— О'кей, — ответила Рэчел, не зная, что этим коротким словом она определила мою дальнейшую судьбу.
Я подошел к Лучику.
— Вот какое дело, дружище, — сказал я. — Я тут познакомился с одной девушкой… Короче говоря, мне нужно исчезнуть, если ты понимаешь, что я имею в виду….
— Нет, — ответил Лучик. — Темный хочет пригласить тебя в один бруклинский ресторан и как следует угостить. Мы отправимся туда, как только он вернется из сортира. Твои сегодняшние действия произвели на него… на всех нас очень сильное впечатление. Короче говоря, Темный хочет тебя отблагодарить. Лопату нужно было проучить, и ты отлично справился с этим делом… Сам понимаешь — искалечить или убить врага легко, а вот заиметь друга гораздо сложнее. А ты сегодня продемонстрировал настоящую верность и мужество.
— Послушай, Лучик, если ты не против… Эта деваха, с которой я познакомился — она просто отпад, сечешь? Вот те крест святой, старик, я не вру! У нас уже все на мази, так что я бы предпочел…
— И слушать ничего не хочу, Майкл. Мы едем в Бруклин. Так сказал Темный, ясно? Он хочет тебя угостить, и он это сделает, — твердо сказал Лучик.
— Господи Иисусе, сейчас, наверное, уже четыре утра, и все рестораны давно…
— Хватит, Майкл. Все решено, повторять я не буду. Возьми у девочки телефон, позвонишь ей завтра.
Я понял, что спорить бесполезно, и, сгорая от стыда, вернулся к оставленной девушке.
— Слушай, скажи, пожалуйста, еще раз, как тебя зовут? — сказал я. — Разумеется, твое имя навсегда высечено на скрижалях моего сердца, но сейчас моя память почему-то не сообщается с сердечно-сосудистой системой.
— Рэчел, — сказала она.
— Вот что, Рэчел, мой босс… то есть мой куратор, университетский куратор, — вон он сидит, видишь? — решил пригласить нас сегодня на ужин, так что мне придется поехать с ним. Умоляю тебя, Рэчел, дай мне твой номер телефона, чтобы я мог позвонить тебе завтра, о'кей?
На лице Рэчел отразилось легкое разочарование; но телефон мне она все-таки дала, обиженно прикусив нижнюю губу. Это было уже чересчур, и я не выдержал. Наклонившись, я поцеловал ее, и она ответила. Наш поцелуй был влажным и сладостным и длился добрых полминуты.
— Ты правда никак не можешь зайти сегодня? — спросила она наконец.
— Мне очень жаль, но нет.
— Послезавтра я на десять дней уеду в Майами, так что не затягивай со звонком, — предупредила Рэчел.
— Ты шутишь?! — оскорбился я. — Конечно, я позвоню.
— Нет, правда…
— Обязательно. Мне ужасно досадно, что я так и не попробовал твоего чая, так что я позвоню. Клянусь!
С этими словами я чмокнул ее в щеку и спрятал бумажку с телефонным номером в карман куртки.
— Как ты доберешься до дома? — спросил я. — Все-таки уже поздно.
— Ничего страшного. Я живу буквально через улицу.
Она ушла, а я почувствовал, что мое сердце разбито, не говоря уже о том, что я остался без чая, заваренного по новому способу. Нет нужды говорить, что Рэчел я так и не позвонил. Утром следующего дня в мою жизнь вошла другая девушка, а еще через день Рэчел улетела в свое Майами (на всякий случай я все же позвонил ей, но ответа не было). Когда она вернулась, меня уже не было в Штатах. Когда же я наконец снова оказался в Нью-Йорке, мне не хотелось, чтобы она видела, во что я превратился.
Бруклинский ресторан на поверку оказался грязной итальянской забегаловкой, из окон которой открывался великолепный вид на обнажившееся с отливом побережье и заброшенный грузовой причал. Я не очень хорошо знаю Бруклин, но мне показалось, что наш ресторанчик располагался где-то невдалеке от Вильямсбурга и линии надземки. Еда была отвратительной, но мне посчастливилось избежать неприятностей — в отличие от Большого Боба, который заказал омара в каком-то подозрительном белом соусе и, очевидно в качестве расплаты за грех чревоугодия, блевал весь следующий день. Но это было в розовом будущем, а в настоящем он сидел рядом со мной и рассказывал историю своей жизни, причем врал так безбожно, как не осмелился бы врать даже Скотчи. Я же пребывал в расстроенных чувствах: главным образом из-за Рэчел, хотя для уныния у меня были и другие причины. Прошедший вечер не только оказался не слишком удачным, но и нанес мощный удар по моему представлению о себе как об обаятельном Ловком Плуте.[12] Сначала мне пришлось стрелять в беспомощного Лопату, потом меня вытащили из постели, едва я только успел заснуть, и потащили в город, где я подрался со Скотчи, а под конец меня лишили лейтенанта Наркис — женщины, которая, несомненно, обладала целым букетом как явных, так и скрытых достоинств.
В ресторане мы были единственными посетителями. Кроме нас присутствовали только один официант, повар и метрдотель по фамилии Куинн. Ни один из троих не напоминал итальянца ни лицом, ни акцентом. Улучив минутку, я закрыл глаза и снова закемарил. Большой Боб многословно и путано рассказывал Лучику о преимуществах систем центрального кондиционирования. Марли молча курил. Темный просто стоял у окна. И вдруг, к моему несказанному ужасу, он велел мне подойти.
Темный курил сигару. Мне показалось — он здорово захмелел. По крайней мере я надеялся, что он пьянее, чем я.
— Майкл, мальчик мой, иди сюда, — сказал он.
Я подошел.
— Мы ведь с тобой ни разу не разговаривали по-настоящему, не так ли?
Я покачал головой.
— Этим у нас занимается Лучик, — грустно сказал Темный.
— Да.
— Жаль. Честное слово — жаль. Мне всегда нравилось знакомиться с людьми, узнавать их. Например, я бы хотел лучше узнать всех, кто на меня работает, но, к несчастью, чем выше поднимаешься, тем меньше остается времени вникать в подробности. Приходится доверять подчиненным — больше как Рейган, чем как Картер. Ты понимаешь, что я хочу сказать?
Я не понимал, но на всякий случай кивнул, и Темный опустил руку мне на плечо. Он был ниже меня ростом, и мне пришлось ссутулиться, чтобы наши головы были примерно на одном уровне. Рука Темного показалась мне очень тяжелой.
— Короче говоря, Майкл, сегодня ты отлично поработал, так что можешь рассчитывать на премиальные. Этот чертов Лопата совсем обнаглел! Что он о себе воображает?! По-моему, он просто спятил, псих долбаный! Вот она, его благодарность. Другое дело ты, Майкл… Ты приехал из Ирландии, из самого Белфаста. Я дал тебе работу, и ты хорошо поработал. Не беда, что иногда приходится возить кого-то мордой по столу, а иногда — возить мебель, ха-ха! Нужно начинать с самого низа, с черной работы. Зарабатывать доверие. Не волнуйся, я знаю, как идут ваши дела. Лучик мне докладывает, он мне все докладывает.
— Я так и думал, — вставил я.
— Дело в том, Майкл, что ты мне нравишься. И ты, и Скотчи… И Энди мне тоже нравился. Он встречался с Бриджит, но он ей не пара, понимаешь? Совсем не пара. Не тот тип. Что ты собой представляешь, я знаю. Ты отличный парень, и ты настоящий ирландец, но слушай меня… Ты способный парень, Майкл, и ты можешь далеко пойти. И Скотчи, и Лучик — оба так говорили. В общем, я думаю — я тебя хорошо знаю. Ты молод, а молодые — они горячие, так уж устроен мир, и я это хорошо знаю, но неприятности мне не нужны. Чтоб никаких проблем, ясно? Я справедливый человек, по крайней мере мне хочется так думать, но никаких неприятностей я просто не потерплю. Я буду поступать с вами как сын царя Соломона. «Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами».[13] Железный кулак — вот единственный способ. Вырезать раковую опухоль, если таковая имеется. Ты видел фильм с Джоном Уэйном, где он играет боксера?
— Кажется, нет, не видел…
— Очень хорошо, очень хорошо… Я еще не стал таким, но когда-нибудь стану. Тихая, спокойная жизнь… Рано или поздно начинает хотеться покоя. Хочется остепениться, зажить нормальной жизнью… Как я начинал — не важно. Важно, как все закончится. В этом все дело, Майкл! Строительство приносит втрое против того, что собирает Лучик. Ты понимаешь?
— Не совсем, — признался я.
Его рука сильнее надавила на мое плечо. Мне даже стало немного больно.
— Сколько тебе лет, Майкл?
— Мне? Девятнадцать. Но мне исполнится двадцать уже через…
— Так вот, Майкл, быть может, у вас, молодых, есть молодость, зато у меня есть терпение, — сказал Темный и ткнул в меня пальцем. — Я смогу продержаться дольше, чем все вы, чем любой из вас. Мистер Даффи и я — это у нас в крови, понимаешь? Ты, Боб, Скотчи, и ты Лучик — вы даже не представляете, что это такое. Для этого вы слишком молоды. Ум и хитрость не могут заменить мудрости и опыта. А чтобы набраться мудрости, нужно достаточно долго прожить, верно?
— Да. Наверное, да, — согласился я. Я был совершенно сбит с толку и к тому же начинал испытывать страх. Мне вдруг пришло в голову, что все это могло быть просто страшным розыгрышем. Что, если все было подстроено с самого начала? Что, если ребята привезли меня в этот бруклинский ресторан и притворились пьяными, чтобы дать Темному возможность разыграть свои карты? Вот сейчас он заорет что-то насчет того, что я, дескать, считаю его за идиота и что я, долбаная деревенщина, который только вчера сошел с парохода, собираюсь обмануть его, самого Темного Уайта. Тем временем Боб неслышно подойдет ко мне сзади, и в руке у него будет что-то вроде кастета…
Представив себе всю эту картину, я мигом протрезвел. Кажется, даже кровь отхлынула от моего лица. Я изо всех сил старался не дрожать, но у меня это получалась плохо. О господи! Неужели они нарочно напоили Скотчи, чтобы он за меня не вступился?
Я затравленно обернулся. Большой Боб действительно приближался ко мне сзади.
Тут меня охватила самая настоящая паника. Что происходит, в ужасе думал я. Почему?! Может быть, мне все-таки стоит попытаться спастись бегством или я уже безнадежно опоздал?
— Мне нужно в сортир, — проворчал Боб.
— И я с тобой, — весело отозвался Темный. — А потом, я думаю, мы все отправимся по домам. А то уже чертовски поздно…
Он ухмыльнулся и подмигнул мне.
— Что ни говори, у молодости есть свои преимущества, — добавил он. — Мне, например, уже не по силам не спать всю ночь.
— Вообще-то мне тоже… — начал я, но Темный уже не слушал.
— Эй, Марли, подъем! — гаркнул он через зал. — Мы уезжаем, так что иди заводи свой драндулет.
— О'кей, — отозвался Марли. (В моей повести это оказалась его первая и последняя реплика.)
Темный отправился в туалет, а я опустился за столик и перевел дух. Просто не передать, какое я испытывал облегчение. Теперь мне стало ясно, что Темный ничего особенного не замышлял и со мной не должно было случиться ничего плохого. Просто острый приступ паранойи, только и всего. Обычное дело.
И, чтобы промочить пересохшее горло, я отпил глоток вина из чьего-то стакана.
— Ты как, в порядке? — спросил Лучик.
— Я-то в порядке, а вот Темный, похоже, слегка окосел.
Лучик смерил меня внимательным взглядом.
— Я ничего не заметил, — сказал он холодно. Я, впрочем, давно понял, что Лучик никогда не критикует босса и никогда не сомневается в его словах и поступках. Это была слепая, нерассуждающая преданность. Лучик умел быть верным — этого у него не отнимешь. Ради Темного он, как когда-то Геббельс, мог бы отравить собственных детей, если бы они у него были. Я в этом отношении больше напоминал Штауфенберга,[14] однако свои соображения я предпочитал держать при себе.
— Слушай, Лучик, как ты узнал номер того телефона-автомата? — спросил я просто для того, чтобы что-нибудь сказать.
— Это не важно, — ответил Лучик.
Я понял, что он хочет сохранить это в тайне. Он был умен, и мне это нравилось.
— Ты ведь учился в университете, да, Лучик?
— Да.
— В каком? Что ты изучал?
— В Нью-Йоркском, — ответил он. — Я специализировался на французском языке.
— Я тоже учил французский. В школе. Tu es une, salope…[15] Я сказал так одной гаитянке в «Си-тауне». Забавный случай — она не хотела возвращать мне деньги за… — Я замолчал. Произвести впечатление на Лучика мне не удалось, и я попробовал зайти с другой стороны. — Я это к тому, что ты человек умный, образованный. Почему ты связался с такими, как мы?
— Потому что я многим обязан Темному, — просто ответил Лучик.
— Ты хочешь сказать, что когда-то давно он спас тебе жизнь или что-то вроде того? Например, ты тонул в бассейне Христианской молодежной организации, а он тебя вытащил, и с тех пор ты хранишь ему верность. Или еще лучше — в школе ты был хилым, очкастым ботаником, а он защищал тебя от хулиганов…
Я старался говорить в шутливом тоне, но Лучик даже не улыбнулся.
— Ты мне поверишь, если я скажу, что что-то подобное имело место? — сказал он.
— Да, наверное, поверю… — пробормотал я несколько растерянно.
— Я хочу дать тебе один совет, Майкл. Не стоит недооценивать Темного или меня. Понял?
— Господи, Лучик, не сердись! Я же просто пошутил, — сказал я.
Лучик улыбнулся.
— Я тоже, — ответил он.
Чтобы сменить тему, мы заговорили о кино, и я сказал, что мне нравится Орсон Уэллс в «Третьем человеке», а Лучик сказал, что мне обязательно нужно взять в прокате «Леди из Шанхая».
Потом вернулись Темный и Большой Боб, который выглядел каким-то осунувшимся. Подойдя ко мне, Темный хлопнул меня по плечу. Не сильнее, чем обычно хлопнул, что после его непонятной речи я воспринял почти с облегчением. В следующую секунду Темный сжал мою шею в борцовском захвате и заставил молить о милосердии, но и это он проделал без злобы, почти не причиняя мне боли. Это тоже было в порядке вещей, однако внезапно охватившее меня ощущение острой Неприязни к боссу не проходило. Темный, несомненно, был немного «с приветом»; и я, наверное, не стал бы работать на него ни за какие деньги в мире, если бы большую часть времени кормило находилось не в его руках, а в крепких и надежных руках Лучика.
Подумав об этом, я посмотрел на Лучика, и он ответил взглядом, в котором, как мне показалось, читались понимание и сочувствие. Боб принялся барабанить по моей голове, все еще зажатой в «стальном захвате», и Темный рассмеялся.
— Ух какой бодх ран! Настоящий живой бодх ран! — выкрикивал Боб, пока босс не велел ему прекратить.
Потом он отпустил мою голову.
— Это слово произносится «боран», ты, невежественный кусок дерьма! — сказал я Бобу.
Лучик, всегда интересовавшийся новыми словами, тут же спросил меня, что оно означает, и я объяснил (бросив презрительный взгляд в сторону Боба), что «боран» — это не дикарский тамтам, а малый ирландский барабан.
Темный тем временем расплатился, оставив весьма скудные чаевые, и мы уже собирались уходить, когда босс внезапно вспомнил один анекдот. Надо сказать, что в большинстве случаев шутки Темного были сугубо практического свойства (например, он мог приказать Скотчи выбить из-под меня стул, и считал это очень забавным), однако порой он проявлял подлинное остроумие. Нет, я вовсе не хочу сказать, будто Темный был грубым или тупым; напротив, у меня сложилось впечатление, что зачастую он старался казаться проще и примитивнее, чем на самом деле.
— О'кей, парни, анекдот! Только пусть все сядут…
Мы сели, и Темный начал:
— Когда-то в одном старом монастыре в Голуэе была клетка с двумя попугаями. Целыми днями эти попугаи молились, клали поклоны и перебирали четки. Однажды в монастырь заехал какой-то епископ. Он увидел попугаев и, пораженный их набожностью, рассказал отцу настоятелю, что в близлежащем женском монастыре сложилась прямо противоположная ситуация. Там, сказал епископ, живут две попугаичьи самки, попавшие в монастырь прямо из борделя, который прикрыла полиция. Днями напролет эти птицы кричат одно и то же: «Трахни меня, трахни свою грязную курочку!», а бедные монахини вынуждены все это выслушивать. Тогда настоятель мужского монастыря предлагает перевезти попугаиц к нему, чтобы они брали пример с попугаев-праведников и перевоспитывались. Епископу очень понравилась эта идея, и вскоре обеих самок привозят в мужской монастырь и сажают рядом с самцами. Тут одна из них начинает кричать: «Трахни меня, трахни свою грязную курочку!» Тогда один попугай-самец говорит другому: «Можешь отложить четки, Шеймас, наши молитвы услышаны!»
Мы все рассмеялись. Лучик смеялся гораздо громче остальных, и смотреть на это было жутковато — уж вы мне поверьте. Мне, во всяком случае, снова пришел на ум доктор Геббельс.
Они высадили меня у моего дома на 123-й улице. Темный вышел из машины и пожал мне руку на прощание.
— Я ведь могу рассчитывать на тебя, правда, Майкл? — спросил он, буравя меня взглядом из-под полуприкрытых тяжелых век.
— Конечно, — ответил я не моргнув глазом. (Я чуть было не добавил: «сэр».)
Лучик тоже выбрался из салона. От выпитого и съеденного я отупел, голова моя отяжелела от усталости и сигаретного дыма, но он все равно хотел еще раз поздравить меня с хорошей работой.
Однако я его опередил.
— Знаешь, Лучик, а ведь Лопата ничего не сделал, — сказал я. — Во всяком случае, ничего такого…
Лучик кивнул. Не знаю, понял ли он, что я имею в виду, но объяснять что-либо сейчас мне не хотелось. Быть может, он знал это с самого начала, а быть может, это не имело значения.
Потом я поднялся по ступенькам парадного. Проверил, на месте ли бумажка с телефоном Рэчел (она была на месте). В воздухе пахло близким рассветом. Что за длинная, странная, ужасная ночь! Я толкнул дверь с выломанным замком. Вестибюль был полон пара из прохудившейся батареи. Обычное дело. Непонятно только, почему паровое отопление продолжало работать и летом. Зимой — да, но летом? Впрочем, я не стал ломать над этим голову и поскорее поднялся к себе, от души надеясь, что перевозбуждение и чрезмерная усталость не помешают мне заснуть.
Увы, моим надеждам не суждено было сбыться.
3. Лучшая часть Бронкса
Тише, тише, слушай! Отключись от всех посторонних звуков и слушай невнятный голос. Слушай! Слышишь? Он изрекает истины, простые, как яблоки. Он поет на языке, который внятен и прост. Он поет тебе. Для тебя. Для тебя, хулигана, бабника и «быка», готового поставить синяк кому укажут. От тепла его дыхания туманится зеркало, и голос становится видимым. Он поднимается из сточных канав и канализационных люков и звучит тяжко, замогильно…
Я слышу его. Чувствую на коже его дыхание. Оно сырое, жуткое. Темный голос сплетает ложь и полуправду, полуправду и истину. Он звучит негромко, но все здание напряженно внимает ему, и вот уже камни стен и кроны лиственниц за окном шепотом повторяют каждое слово.
Ты преступник. Вор. Громила. Ты причиняешь боль людям. Ты ничто, просто тень. Глупец. Мерзкое ничтожество.
Обвинения и упреки… Это звучит мир вокруг тебя. Уйди. Исчезни. Пожалуйста, исчезни… Сгинь.
Но мир никуда не исчезает. И он не знает покоя.
Мои глаза наполняются слезами, веки трепещут. Я просыпаюсь.
Спать невозможно. Я создаю звуковую завесу с помощью вентилятора, который на третьей скорости довольно успешно заглушает сирены, плач, крики, музыку, кошмары и — как ни мелодраматично это звучит — далекие выстрелы.
Уже почти рассвело. Я спал, самое большее, час.
Глухой стук у двери возвещает прибытие утренней «Таймс».
Господи. Эти ночные кошмары… Не такие, каких можно было бы ожидать, но все-таки кошмары.
Я отбрасываю хлопчатобумажную простыню, зеваю и иду за газетой. В прихожей я бросаю газету в таракана на стене. Достаю из морозилки рогалик и кладу в микроволновку. Это простое действие будит во мне какие-то смутные воспоминания — что-то насчет микроволновок… Кажется, Скотчи вчера что-то такое говорил. Но откуда? Постойте-постойте, вчерашний вечер!
Внезапно я испытываю непреодолимое желание сесть посреди кухни на пол.
И я сажусь.
Меня мутит.
Я один.
Нужно расслабиться. Успокоиться. Нужно глубже дышать. Дышать… Я хватаюсь за подоконник и кашляю так сильно, что в легких начинает саднить. Это продолжается почти минуту.
— Нужно бросить курить! — говорю я громко.
Микроволновка негромко звякает. Опираясь на подоконник, я встаю и ем рогалик. Полдюжины таких рогаликов стоят доллар, следовательно, один стоит около шестнадцати центов. Газету, как и кабельный канал, я по какой-то причине получаю бесплатно. Ее просто продолжают приносить и класть перед моей дверью.
Я завязываю пояс домашнего халата, варю себе кофе и выбираюсь на пожарную лестницу. В газете ничего интересного. Я просматриваю спортивный раздел. Для нью-йоркских бейсбольных команд сезон складывается не слишком удачно. Ведущий спортивный обозреватель пространно пишет о том, почему «Янки» не смогут выиграть национальный чемпионат, покуда командой владеет Джордж Стейнбреннер.
Встает солнце. Новый день вытесняет из моей головы воспоминания о вчерашнем. Я снова потягиваюсь, возвращаюсь в квартиру и решаю принять душ и побриться. В ванной я отвертываю краны, чтобы трубы успели прокашляться, а сам разглядываю себя в зеркало. Вчера я побывал в заварушке, так что внимательный осмотр мне не повредит. Мое лицо… неужели это лицо чудовища? Мои волосы успели выгореть на солнце и кажутся намного светлее, чем были в Ирландии; щетина на подбородке тоже имеет соломенный оттенок. Я продолжаю внимательно разглядывать себя. Кажется, синяков нет. У меня красивые зеленые глаза, темные брови и выразительная челюсть, которая в последнее время стала чуть более массивной, чем раньше, но это, пожалуй, хорошо, так как я всегда казался себе недостаточно солидным. Приятное, симметричное лицо, которое немного портит лишь сломанный нос, но в целом я произвожу впечатление порядочного человека, заслуживающего всяческого доверия. Если бы не проблемы с «гринкартой»,[16] я бы, наверное, мог получить честную работу в честной фирме, за которую мне платили бы честными деньгами. Честное слово, я бы справился. Я не тупой.
— Я не тупой! — говорю я вслух.
Потом я вздыхаю и достаю новое безопасное лезвие.
Бреюсь.
Кашляю. Отплевываюсь.
Я буквально умираю от голода. Одного рогалика мне явно недостаточно, во всяком случае сегодня утром. Я торопливо пробегаю взглядом газетные заголовки, быстро одеваюсь, выключаю воду, открываю дверь, сбегаю по лестнице и спешу к «Макдональдсу» на 125-й улице.
Еще очень рано. На тротуаре, на дальней от меня стороне улицы, все еще спят на драных матрасах бродяги. Глядя на них, я на мгновение задумываюсь, как им удалось пережить ночь, не будучи избитыми или порезанными. Впрочем, не исключено, что многих из них избили или даже порезали, просто мне этого не видно. Бездомные занимают всю улицу вплоть до парка Риверсайд; многие спят и в проложенном под Риверсайдом тоннеле «Амтрака», но лишь самые храбрые отваживаются ночевать на Амстердам-авеню к востоку отсюда. Несколько безумцев и вовсе избрали своим домом парк Морнингсайд.
Если бы у меня не было Темного и ребят и если бы я не мог вернуться на родину и вынужден был жить на улице (моя навязчивая идея, она же ночной кошмар), я бы купил гамак, привязал к нему веревки, перекинул через древесный сук, подтянул бы повыше и спал бы себе наверху, среди листвы. Правда, этот план годится только для лета. Зимой в гамаке запросто можно откинуть лыжи. Впрочем, в любом случае я предпочел бы поселиться в северной части Центрального парка — безлюдной и относительно безопасной. Сам не знаю почему, но всякий раз мысль эта успокаивает. Если прочим моим надеждам не суждено сбыться, я всегда могу поселиться в листве Центрального парка. Чем не выход? Звучит, конечно, глупо, но это единственный вариант, который мне по силам.
Я иду к 125-й улице.
Прохожу винный погребок и укрепленный, словно какой-нибудь средневековый замок, китайский ресторан со стальными стенами, переговорным устройством на входной двери, толстенным плексигласовым прилавком и противовандальными стульями из толстого железа. Я уверен, что когда Клаату и другие космические пришельцы наконец разбомбят наш шарик к едрене фене, заведение мистера Хана уцелеет. Еда, которую там подают, тоже не способна разрушаться под воздействием пищеварительных соков, поскольку ровно через три часа после того, как вы ее проглотили, она покидает организм практически в первоначальном виде. Проходя мимо ресторанчика, я делаю ручкой Саймону, который, конечно, уже встал, но при неверном утреннем свете, да еще сквозь пятидюймовое стекло, он меня не узнает.
«Макдональдс» только что открылся, поэтому в очереди стою только я да еще несколько бездомных. Я заказываю оладьи, чашку скверного кофе и сажусь у окна.
Оладьи мне приносят без сиропа. Я недоумеваю, и официант отправляется на выяснение. Поднимается суматоха, а я превращаюсь в капризного белого джентльмена, который скандалит из-за пустяков. Впрочем, в зале я не единственный белый. Дэнни-Алкаш тоже здесь. Несмотря на ранний час, он уже пьян. Просто не представляю, как ему это удается; возможно, это у него особый дар. (Или проклятье, смотря как посмотреть.) Дэнни заказывает на завтрак молочный коктейль и расплачивается мелкими монетами по одному и пять центов. В доме, в котором я живу, поговаривают, что Дэнни не так прост, как кажется, но мне по большому счету все равно, да я и не верю в бездомных мудрецов, сумевших стяжать высшее знание и достичь просветления за годы тяжких испытаний и жестоких ударов судьбы. Нет, Дэнни ничему не может меня научить. Он — самый обычный красноносый алкаш, каких я немало видел в Ирландии. Больше того, он вряд ли заинтересовал бы меня, будь он даже президентом какой-либо крупной корпорации, членом экипажа космического корабля «Аполло» или большой шишкой из Массачусетского технологического. Дэнни, впрочем, ни то, ни другое, ни третье. Поговаривают, будто некогда он работал в билетной кассе подземки, но, возможно, это и из области преданий. Хоть Ратко, в частности, и любит порассуждать о таинственных обстоятельствах его падения.
Поскольку мы с Дэнни живем в одном доме, он питает ко мне что-то вроде родственных чувств. Обоняние подсказывает мне, что Дэнни приближается ко мне. И действительно, он подходит и садится напротив меня.
Сволочь.
— Доброе утро? — произносит он вопросительно, словно сомневаясь, правильно ли он определил время.
— Угу, — отзываюсь я, не поднимая головы, и продолжаю намазывать оладьи взбитым маслом и кукурузным сиропом.
— Холодновато, — снова говорит Дэнни.
Я не знаю, относится ли это слово к погоде, к его молочному коктейлю или к моей реакции, но снова соглашаюсь:
— Пожалуй.
— Там есть статья о трупе на 135-й?
— Что?
— В твоей газете есть эта статья?
— Д-да, — нехотя говорю я. — Кажется, есть.
Я как раз читал именно эту статью. На территории студенческого городка Сити-колледжа было найдено мертвое тело. Застрелили молодого негра. Парень наверняка имел отношение к колледжу, следовательно, эта информация должна была попасть на двадцать третью полосу, однако случай оказался не совсем типичным. У убитого вырезали сердце, а полость в груди, где оно когда-то было, набили соломой. Насколько я мог судить, это убийство способно было заинтересовать читателей примерно на сутки, то есть до тех пор, пока не произойдет еще одно кошмарное убийство, а в том, что это случится уже завтра, сомневаться не приходилось. На страницах газеты представитель полиции авторитетно заявлял, что таким способом ямайские банды расправляются со стукачами. Операция, подобная той, что кто-то проделал с несчастным чернокожим студентом, призвана была показать, что у стукачей, мол, нет никаких понятий ни о мужестве, ни о верности и что они вообще не люди, а так — манекены.
— Его набили соломой, — сказал Дэнни и отпил глоток своего молочного коктейля. По всей вероятности, он дошел до такого состояния, что мог питаться только жидкой пищей — ничего твердого желудок не принимал.
Внезапно мне стало жаль беднягу; казалось, даже Бог от него отвернулся, и все такое.
— Удивительно, что газетчики не связали это с «Волшебником из страны Оз», — сказал я. — Ведь кажется, в этой сказке соломенный человек хотел получить сердце…
— Не соломенный, железный, — поправил Дэнни.
— Вот как… — сказал я.
— Нет, это убийство больше похоже на то, что произошло с императором Валерианом, — сказал Дэнни. — Слышал о нем?
— Смутно, — честно признался я.
— Его тоже набили соломой.
— Кто?
— Персы.
— Зачем?
— Чтобы посмеяться над Римом.
— Что-то я не совсем понимаю…
— Персы взяли его в плен и вытирали об него ноги. А когда он умер, из него сделали соломенный тюфяк, предназначавшийся для той же цели.
Тут я почувствовал, как во мне снова растет раздражение. Из-за таких вот высказываний кто-нибудь может подумать, будто Дэнни еще что-то соображает. На самом деле это не так, но если бы сейчас его слова слышал Ратко или кто-то из жильцов нашего дома, они бы точно решили, что Дэнни многое знает. Но меня эти проблески эрудиции просто бесили. Кроме того, я чувствовал, что в самом ближайшем будущем расскажу Ратко о моем сегодняшнем разговоре с Дэнни, а это еще больше укрепит его репутацию загадочной личности, знававшей лучшие времена.
— Ладно, мне пора, — сказал я, вставая.
— Ты не будешь допивать кофе? — с надеждой спросил Дэнни.
— Нет. — Я протянул ему кружку, и наши глаза на мгновение встретились.
— Ты когда-нибудь ходил в университет? — спросил я, сам не зная почему.
— Да. Я учился в Университете Ратджерса.
«И вот до чего ты докатился», — хотел я сказать, но, разумеется, не сказал.
Я бросил пластиковую посуду в мусорную корзину и вышел. Ужасно хотелось курить, и я безуспешно пытался прогнать мысль о хорошей затяжке. Дэнни помахал мне рукой и схватил оставленную мною газету.
Снаружи стало немного теплее, но температура все еще была достаточно комфортной. Со 125-й улицы хорошо виден кампус Сити-колледжа; я посмотрел в ту сторону и покачал головой. Это убийство… Оно действительно было ужасным. Некоторое время я размышлял о нем, машинально роясь в карманах в поисках сигарет, пока не вспомнил, что оставил пачку дома.
Черт!
Много позднее, когда, потрясенный и похудевший на тридцать фунтов, я вернулся с Юкатана, я познакомился с Районом Эрнандесом и узнал об этом убийстве все. Хотите верьте, хотите нет, но оно не имело никакого отношения ни к бандитам-ямайцам, ни к стукачам. Легавые ошиблись, если, конечно, они не ввели газеты в заблуждение нарочно. Рамон рассказал мне, что похищение сердца — самый обычный бизнес, связанный с неким поверьем. Вырезанное сердце сжигают, а соломой (которая, по идее, должна идти на растопку) набивают грудь жертвы. Покуда зола от сожженного сердца остается в твоем очаге или в камине, дому не грозят никакие опасности. Кроме того, чем крупнее и сильнее была жертва, тем большее зло способен отвратить ее «донорский орган». В общем, колдовство чистой воды, но Рамон в него верил, как верит большинство доминиканцев. Я думаю, это из-за того, что у себя в стране им приходится жить бок о бок с гаитянами. С другой стороны, я не мог не задаться вопросом: много ли нынешних ньюйоркцев имеют дома очаг или камин? Думаю, таких совсем мало.
Но на тот момент я еще не был знаком с Районом, поэтому меньше чем через пять минут загадочное убийство совершенно вылетело у меня из головы. Вдобавок я слишком разозлился на Дэнни, которому почти удалось подавить меня своим интеллектом, чтобы мне задумываться о смерти очередного совершенно неизвестного мне черномазого, добавившего еще одну строку в обширнейший перечень насилий, захлестнувших в этом году Верхний Манхэттен.
То ли для того, чтобы прогнать ходьбой желание закурить, то ли в силу еще каких-то причин, я решил спуститься к реке. Крюк небольшой, к тому же я надеялся, что новых раздражителей там не окажется. Избранный мною маршрут был, однако, не самым подходящим для прогулок. Мастерские, занимающиеся главным образом разборкой на запасные части угнанных автомобилей, и крошечные винные лавки перемежаются здесь пустырями. С левой стороны улицы стоит новое здание «Коттон-клуба»,[17] которое выглядит бледной копией оригинала. Здесь же проходит Вестсайдский хайвей, стальные фермы которого образуют череду постепенно понижающихся арок. Небоскреб «Коламбия», автомобильные парковки, еще одна подозрительная автомастерская, несколько рыбаков на набережной — вот и весь пейзаж.
Кстати, каждый раз, когда я вижу, что кто-то ловит рыбу в Гудзоне, мне становится не по себе. Ведь эти люди рыбачат не из спортивного интереса — все, что поймают, они едят сами или продают. Я сам видел на рынке мелкую рыбу с чешуей черного или ядовито-зеленого цвета; изредка попадаются и более крупные экземпляры, которые в какой-нибудь другой жизни вполне могли называться форелью.
— Доброе утро, — поздоровался я с рыбаками. В ответ раздалось невнятное ворчание. Не желая мешать, я прошел вдоль берега еще с полквартала и сел на старые автомобильные покрышки. На лбу у меня выступила испарина, и я решил, что это, несомненно, что-то вроде гипоглекимической реакции на поглощенный за завтраком сахар. Когда-нибудь этот сахар меня убьет, точно.
По Гудзону медленно двигалась огромная мусорная баржа, поднимавшаяся к причалу на 135-й улице. Еще выше по реке входила под мост Вашингтона яхта с убранными парусами и включенным дизелем. Я пересел на парапет и некоторое время смотрел на воду, думая исключительно о куреве. В конце концов я решил пойти домой. Принять душ, отключить телефон и завалиться в постель — таков был мой план. Будильник я поставлю на двенадцать, чтобы не слишком нарушать свой суточный цикл. Может быть, потом я позвоню Рэчел.
Я посмотрел на часы. Было без малого семь. Как ни странно, я не чувствовал особой усталости, хотя должен был бы валиться с ног.
Парк Риверсайд был почти пуст, если не считать нескольких горожан, прогуливавших своих собак, редких бегунов, горстки бездомных и женской волейбольной команды Колумбийского университета, глядя на которую я сразу развеселился. Поднявшись по длинной лестнице (наверху мне пришлось ненадолго остановиться, чтобы перевести дух), я прошел мимо величественной руины Мавзолея Гранта, а потом спустился по 122-й улице, свернул у музыкальной школы и оказался практически в двух шагах от своего дома. Поднявшись на свой этаж, я некоторое время рылся в кармане, пытаясь отцепить квартирные ключи от револьвера (в последнее время это превратилось у меня почти в ритуал), и наконец вошел.
В квартире я приготовил себе еще чашку кофе, принял душ, по ошибке еще раз побрился, вычистил зубы, врубил вентилятор и завалился в постель. Не прошло, однако, и часа, как зазвонил мой дверной звонок. Он звонил, и звонил, и звонил, так что я готов был завопить: боже мой, неужели в этом мире мне так и не дадут выспаться как следует?! В конце концов я все-таки встал, но когда я открыл дверь, в прихожую, не говоря ни слова, вошла Бриджит.
Бриджит… Она прекрасна. Можно сказать, даже слишком прекрасна. Неземная, спокойная, элегантная… Бывают дни, когда кажется, будто она только что сошла со стихотворной страницы Уильяма Б. Йейтса. Не стоит ни малейшего труда представить, как она, выйдя из росистого леса, стоит в ореоле света и поет о Стране Молодости, маня тебя в пещеру под холмом. И ты безропотно последуешь за ней, даже если будешь твердо знать, чем это кончится.
Так вот, Бриджит… У нее яркие, огненно-рыжие волосы, при одном взгляде на которые можно заработать сердечный приступ. Двигается она с легкостью балерины, но фигура у нее достаточно пышная, ноги — длинные-предлинные, а зад такой, что великому Рубенсу потребовалось бы несколько ведер краски, чтобы изобразить его во всем великолепии.
Одевается она тоже что надо. Например, сегодня Бриджит надела джинсы и белую майку с изображением ромашки, которая поместилась точно между грудями. На ногах у нее высокие полусапожки, которые придают ей вид юный и бесшабашный, однако этот эффект уравновешивается стрижкой, которая делает Бриджит чуть старше. Впрочем, ни одна из этих подробностей не имеет особого значения. Бриджит могла бы весить на двести фунтов больше, могла напялить брезентовый мешок из-под картошки, но это ничего бы не изменило. Все дело в лице. В его выражении, которое меняется постоянно, словно погода в прибрежных заводях. В тонком носе, который придает Бриджит аристократический вид. В светлой коже. И конечно, в глазах… Описать их я не возьмусь. Стоит мне только на них взглянуть, и все девушки, включая лейтенанта Наркис, мгновенно вылетают у меня из головы. В разные дни глаза Бриджит кажутся то синими, то зелеными — но что цвета? Когда в ее глазах собирается гроза, мне хочется забиться в какую-нибудь глубокую щель; когда они радостно вспыхивают, мне начинает казаться, что вся вселенная не вместит моего счастья.
Я знаю, что несу чушь, но если б вы хоть раз увидели Бриджит, вы бы поняли, что я имею в виду.
О том, что Бриджит некоторое время встречалась с Энди, мне было известно еще до того, как об этом мне рассказал Темный. Увы, у Энди было слишком много серьезных, запутанных, практически непрерывных проблем со Службой иммиграции и натурализации. По-видимому, придурки чиновники так сильно донимали беднягу, что он просто не мог уделять Бриджит столько времени, сколько она заслуживала. Энди приходилось работать, приходилось ездить в четыре утра в офис СИН, чтобы занять очередь (в день там принимали ровно одну тысячу желающих), так что не было ничего удивительного в том, что в конце концов Бриджит его бросила. Ей тогда было семнадцать, а Энди — девятнадцать, и, насколько я знаю, он стал ее первым дружком. Между тем его положение было более чем неустойчивым, и я подозреваю, что в глубине души Энди был почти рад, что ему не нужно больше думать о Бриджит. Сам я не особенно разбираюсь в делах подобного рода, однако у любого более или менее внимательного человека, умеющего к тому же распутывать всякого рода загадки, могло сложиться впечатление, что Энди вовсе не влюблен в Бриджит и что на самом деле он действует в интересах другого лица, исполняя роль так называемой «заслонной лошадки». Насчет того, что это за «другое лицо», никаких сомнений быть не могло. Темный начал ухаживать за Бриджит где-то через месяц после того, как она рассталась с Энди. Нашему боссу примерно лет сорок пять или около того. Столь значительная разница в возрасте могла бы обеспокоить родителей Бриджит, если бы она не доказала, что умеет обращаться с мужчинами, когда бросила этого недоумка Энди, вечно приглашавшего ее в разные интересные места, но в последний момент отменявшего поездку из-за своих неприятностей с властями. Впрочем, я не сомневался, что сейчас, когда Энди пребывал в коме и вообще стоял одной ногой в могиле, прежние обиды были забыты.
В целом смысл всего сказанного выше сводится к тому, что на данный момент Бриджит была девушкой Темного. Единственной или нет, я точно не знал; во всяком случае, сам Темный вел себя так, словно кроме Бриджит у него больше никого нет. Они встречались уже больше года, и миссис Каллагэн, которая всегда была несколько старомодна, пару раз заикалась насчет помолвки. Бриджит — самая младшая из пяти ее дочерей, которые разлетелись кто куда — в университет, либо в Калифорнию, либо еще дальше, поэтому миссис Каллагэн совершенно искренне полагает, что для ее любимицы не будет слишком большой неудачей, если она в конце концов выйдет замуж за мистера Уайта, хоть он и не красавец. Больше того, это еще не самый худший вариант, поскольку Темный (который, кстати, был женат уже дважды) получает неплохой доход от своего строительного бизнеса, от стекольной компании и от своей доли в предприятиях мистера Даффи. И Пату, и самой миссис Каллагэн Темный нравится, и дело не в том, что они его боятся. Нет, они его не боятся, просто он действительно им по душе. Боятся они Лучика (а кто его не боится?), но Темного они любят и доверяют ему.
Иными словами, будущее бедной Бриджит давно спланировано; единственный выход для нее — побег из отчего дома, но она вряд ли на это решится. Не тот характер, к тому же Бриджит умна. Ей подходит быть хозяйкой дома, поэтому если не случится ничего из ряда вон выходящего, она, я думаю, успокоится, угомонится и в конце концов выйдет за Темного. В том, что Бриджит влюблена в него, я, однако, сомневаюсь. Не исключено, что она влюблена в меня, но и это не точно. Трудно разобраться, что творится у них внутри в этом возрасте. Впрочем, я в моем возрасте просто без ума от Бриджит, и не только потому, что она такая красотка. В чем именно дело, я не знаю, но уверен — кроме потрясающей внешности в ней есть что-то еще.
Не успела Бриджит войти, как полусапожки уже полетели в угол и пуговицы на джинсах оказались расстегнуты.
— Какая мерзость кругом! — такова ее первая реплика.
— Я знаю, но, честное слово, Мышка, я регулярно здесь убираю, — отвечаю я в не менее романтическом ключе.
Мышка — это ласкательное имя, к которому я пытаюсь ее приучить, и не без успеха. Бриджит одно время звала меня «Крысенок», но мне никогда не нравилось это прозвище, и постепенно оно отпало.
— Везде эти долбаные тараканы! — говорит она.
— И вовсе не везде.
— Я только что видела: на стене рядом с телефоном раздавленный таракан. Омерзительно!
— Извини, Мышка…
— Неужели нельзя извести их ДДТ, «Рейдом» или еще чем-нибудь?
— Я пробовал травить их борной кислотой.
— А в службу дезинсекции ты позвонить не пробовал?
— Они приехали и уехали, а тараканы остались.
И так далее в том же духе. Строго говоря, наш разговор мало напоминает диалог Абеляра[18] и Элоизы, но Бриджит успевает раздеться, а это уже что-то.
Я в свою очередь стаскиваю майку и джинсы и несу ее в спальню.
— У тебя есть пиво? — спрашивает она.
Вряд ли в эти минуты уместно читать ей нотацию о том, что порядочные люди так рано не пьют, поэтому я просто иду к холодильнику, чтобы достать для нее бутылочку. Заодно я выпиваю одну бутылку сам, и это как раз то, что мне нужно.
Она лежит на постели; ее спина напряжена словно натянутый лук, губы алы, и этого вполне достаточно, чтобы я завелся. Кожа у Бриджит такая светлая, что на фоне простыней она почти не выделяется. Я целую ее в белый живот, а она лежит, приподнявшись на локте, и улыбается мне, наклонив голову так, что огненно-рыжий локон падает ей на плечо. От ее улыбки буквально захватывает дух. Я чувствую, что мне наплевать на риск, на что бы там ни было. Ей-ей… О господи!
Я ложусь рядом с ней, и мы занимаемся любовью — медленно, замысловато — в течение примерно получаса. Закончив, мы жадно пьем и некоторое время просто лежим рядом, а потом делаем то же самое снова. На этот раз — быстро, лихорадочно, жадно. Я ложусь на нее, а Бриджит обвивает мою спину своими длинными ногами, стонет и впивается ногтями в мои плечи. Она опьяняет. У меня даже начинает кружиться голова. Я закрываю глаза и упиваюсь ее запахом, наслаждаюсь каждым прикосновением. Я целую ее груди и шею, провожу языком под мышками, а Бриджит кусает меня в плечо.
— Еще! — говорит она.
— Что — еще?
— Заткнись, — говорит она.
Мы трахаемся так, словно меня только что выпустили из тюрьмы, и кончаем почти одновременно. Потом мы снова лежим, задыхаясь и обливаясь потом.
Придя в себя, мы выпиваем еще по бутылке пива, включаем радио, и я иду в кухню, чтобы приготовить ей завтрак.
— Я снова начала брать уроки верховой езды, — говорит Бриджит из гостиной.
— На лошадях?
— Нет, на свиньях! Это Темный устроил.
— Как мило с его стороны.
— Он вообще очень милый, понятно?
— Ходят такие слухи.
Только приготовив яичницу, чай и поджарив еще один рогалик, я спохватываюсь:
— Как там наш герой?
— Энди?
— Да, Энди.
— Ему лучше. По крайней мере, он начал нормально дышать. Темный звонил мне сегодня утром, он говорит — все в порядке, Энди поправится. Его перевели куда-то в другое место.
— В какое именно?
— Точно не знаю. В какое-то другое отделение больницы. Главное, что не в морг.
— Да, это действительно главное.
— Это было бы ужасно, Майкл! А ты как думаешь?
Мне не хочется говорить, что я думаю, поэтому я отвечаю:
— Я рад, что Энди лучше. Кстати, как тебе удалось выбраться? В пабе, наверное, было полно народу.
— Нет, когда я уходила, там уже никого не было. Только мама, папа и я.
— И все-таки мне кажется, что тебе следовало как следует выспаться. Ведь из-за Энди ты полночи провела на ногах.
— Да, я действительно почти не спала, к тому же утром мы с мамой ездили в больницу, чтобы его проведать. Правда, нас не пустили, у них там неприемные часы. Мама говорит, что Энди всегда ей нравился, но это вранье. В общем, ты, конечно, прав — я очень устала. Мышка устала… Мышка хочет спать здесь, с тобой.
Внезапно я глубоко задумываюсь. Темный мог пустить за Бриджит «хвост», такой финт был бы как раз в его духе. И как раз сейчас филер находится прямо под окнами моей квартиры. Весьма вероятно, весьма… Особенно если припомнить, что сначала был избит Энди, а потом Темный стал болтать, что Бриджит, дескать, принадлежит ему, потому что у молодых нет его опыта и выдержки… Я думаю об этом снова и снова и чувствую, как у меня по коже бежит холодок.
— Нет, серьезно, как ты ко мне приехала? — спрашиваю я еще раз.
— На поезде. Готова моя яичница?
Яичница еще доходит.
— Знаешь, Бриджит, я думаю, впредь нам надо быть осторожнее насчет…
— Где моя яичница?! — визжит она, притворяясь истеричной примадонной.
Мы едим и ложимся в кровать, но мне не спится. Мне не дает покоя мысль о том, что Темный мог следить за Бриджит. В первую же неделю моего пребывания в Америке Скотчи продал мне бинокль, который он увел из чьей-то машины. Тогда он сказал, что на моей работе бинокль будет нужен мне постоянно, и, разумеется, я ни разу им не воспользовался. Сейчас я вспоминаю о нем, и пока Бриджит негромко посапывает под вентилятором, выбираюсь из постели и натягиваю кое-какую одежду. Потом я беру бинокль и поднимаюсь с ним на крышу дома. Солнце уже шпарит вовсю. Лучи его, отражаясь от кровельного железа и от круглых боков водонапорной башни, слепят глаза, и мне приходится выждать пару минут, чтобы привыкнуть. Потом я осторожно подхожу к краю крыши и смотрю вниз. Большинство стоящих внизу автомобилей мне знакомы, однако вскоре я обнаруживаю четыре машины, идентифицировать которые мне не удается. Сверху мне не видно, есть в них кто-нибудь или нет, но мне кажется, что если я пройду по крыше дальше и переберусь на соседнее здание, то смогу рассмотреть марку и номерные знаки подозрительных машин. Так я и поступаю. С помощью бинокля мне удается прочесть номера машин, и я стараюсь их запомнить, чтобы позднее записать. Еще довольно долго я сижу на крыше и жду, чтобы что-то произошло, но внизу все остается без изменений.
Тогда я снова спускаюсь в квартиру к Бриджит.
У дверей я встречаю Ратко. Он как раз собрался навестить меня. Под мышкой у него бутылка, в руках — три стакана. Три! Похоже, приход Бриджит сопровождался довольно громким шумом и не прошел незамеченным.
Я открываю дверь и кричу в комнаты:
— Мышка, приведи себя в порядок. У нас гости!
Я слышу, как она просыпается и, все еще сонная, неуверенно шлепает в ванную, чтобы накинуть какую-нибудь одежду.
Ее трусики валяются в коридоре, и я, приоткрыв дверь ванной, просовываю их внутрь.
— Твой фиговый листочек, — говорю я в щель.
— Что?
— Трусики.
— Галантен, как истинный ирландец, — говорит она и целует мне руку.
Ратко видит, что я улыбаюсь, и смеется как Санта-Клаус: ему нравится смотреть на нас с Бриджит.
Я сажусь рядом с ним. Бриджит выходит из ванной в моих джинсах и в моей майке с портретами «Андертоунз». Выглядит она, разумеется, совершенно потрясающе.
Ратко Ялович наливает нам виски. Когда у него хорошее настроение, он обычно наливает мне из бутылки, в которой плавает золотой лист, но сегодня жарко, к тому же жена с утра наехала на него из-за мышей и тараканов, поэтому сегодня мы пьем какой-то мерзкий суррогат. За стаканчиком Ратко рассказывает нам о своих проблемах, которые имеют сугубо личный характер и касаются его жены и ребенка. Строго говоря, это вообще не проблемы. Я делаю попытку решить их оптом с помощью банальнейших советов и избитых фраз, чем Ратко, кажется, остается доволен; во всяком случае, он совершенно искренне меня благодарит.
Некоторое время мы говорим о погоде, потом Ратко начинает расспрашивать Бриджит о ее жизни. Ее ответы нейтральны и носят общий характер, и я понимаю, что они адресованы и мне тоже.
Я спрашиваю Бриджит, не хочет ли она вздремнуть, пока мы разговариваем, но она качает головой. Ей нравятся новые люди. Впрочем, в благодарность за мою заботу она целует меня в щеку.
— Вы замечательно смотритесь вместе. Вам надо держаться друг друга, — говорит Ратко. От выпитого он уже слегка захмелел и сделался сентиментальным, но его слова странным образом отвечают моим собственным мыслям, и мое сердце наполняется нежностью к Бриджит. Быть может, характер у нее и не сахар, но она очень мила, ласкова со мной, и второй раз такую вряд ли встретишь.
— Ее лоно как будто создано для материнства, — говорю я.
Бриджит смеется, мы с Ратко тоже улыбаемся.
— Нет, — возражает Ратко, — вам нужно уехать из города куда-нибудь в деревню, на природу.
— Мы могли бы отправиться в Калифорнию, — говорит Бриджит. — Или на Гавайи. В любое место, где много солнца и близко океан.
— Я не против, — говорю я и смотрю на нее, и Бриджит берет меня за руку.
— Какая она, Югославия? — спрашивает она у Ратко, зная, что вопрос доставит ему удовольствие.
— О, это прекрасная страна! Там есть золотые песчаные пляжи, горы, прозрачные реки… Мои родители родом из-под Ниша, где родился Константин Великий.
— Мы могли бы поехать туда, — задумчиво говорит Бриджит.
— Нет, — твердо отвечает Ратко. — Лучше вам ехать в Ирландию.
Словно для того, чтобы подчеркнуть свои слова, он подается вперед и звякает своим стаканом о мой.
— Да, мы могли бы отправиться в Ирландию! — восклицает Бриджит. Похоже, идея Ратко пришлась ей по вкусу.
— Мне казалось, ты хотела поехать туда, где светит солнце, — замечаю я.
— Неужели в Ирландии никогда не бывает солнечной погоды? — говорит она.
Я качаю головой, и Бриджит снова смеется,
— Никогда-никогда? — спрашивает она.
— Никогда, Мышка. Особенно летом, — говорю я. — Как ты думаешь, почему там все время идет война? Это погода виновата. Действует на психику.
Но она не слушает.
— Я бы хотела побывать в Ирландии, — говорит она. — Там мои корни.
Бриджит морщит носик, и на пару секунд ее лицо становится печальным и задумчивым. В эти мгновения она выглядит такой неописуемо прекрасной, что я даже начинаю на нее злиться.
— Попроси Темного, что ему стоит? — говорю я, подпуская в голос капельку яда, но Бриджит не реагирует.
— О да, — соглашается она самым безмятежным тоном. — На будущий год мы обязательно съездим в Ирландию недельки на три. У одного из знакомых Темного в Донеголе есть настоящий замок. Быть может, нам повезет и дождей будет не очень много.
— Вот у нас в Югославии… — говорит Ратко и начинает рассказывать какую-то длинную историю о своей давно покинутой родине. В этой истории, относящейся к середине семидесятых годов, фигурируют маршал Тито и какой-то исследовательский институт, который ищет способ управлять погодой, потому что решающий матч чемпионата мира по футболу сборной Югославии предстояло играть на своем поле. История совершенно дурацкая и к тому же отдает враньем, но мясистое лицо Ратко вздрагивает от сдерживаемого смеха, и к концу рассказа мы с Бриджит тоже хохочем как безумные.
— …И вот, — рассказывает Ратко, — выпал снег, но сборная Югославии победила западных немцев со счетом 2:0. Сразу после игры маршал Тито произвел директора института из полковников в генералы. Увы, югославы слишком любили маршала, и никто не осмелился сказать ему правду, которая была известна всем, кроме него. Так Тито и умер, считая, что в области управления осадками Югославия оставила все страны мира далеко позади…
Ратко ржет так, что его лицо становится багровым. Он уже не может сдерживаться. От смеха у меня на глаза тоже наворачиваются слезы. Бриджит глядит на меня и целует еще раз, а я думаю, что нам действительно следовало бы убежать, уехать куда-нибудь вдвоем. Тут Ратко прав на все сто.
Потом мы опрокидываем еще по одной. Должно быть, с утра Ратко уже успел принять на грудь, потому что он ни с того ни с сего заводит тоскливую сербскую песню о каком-то Вороньем поле.
— Ты тоже спой что-нибудь, Майкл, — просит Бриджит. Петь мне совершенно не хочется, к тому же сейчас не время и не место для песен, но разве я могу ей отказать?
— Ах, Дэнни-бой, зовут волынки, их голос по долам плывет… — старательно вывожу я. Впрочем, после первых двух куплетов я останавливаюсь, не допев песню до конца. Я зол и разочарован. Почему Бриджит никогда меня не слушает? Ведь я совершенно серьезно предлагал ей уехать куда-нибудь вместе. Что нам здесь делать? Что нас ждет?
Продолжая загадочно улыбаться, Бриджит ложится на диванчик, но Ратко чувствует, что мое настроение изменилось, и в свою очередь мрачнеет. Теперь уже я должен как-то его подбодрить. К счастью, я знаю один верный способ.
— Вот ты всегда говоришь, Ратко, что наш Дэнни-Алкаш гений или что-то в этом роде, — начинаю я. — Так вот, сегодня утром я столкнулся с ним в «Макдональдсе», и он отпустил одно любопытное замечание об императоре Валериане…
— Почему здесь так грязно? — перебивает меня Бриджит, садясь на диванчик. Это еще больше действует мне на нервы, и я обиженно замолкаю. Быть может, думается мне, мы с Бриджит не так уж хорошо подходим друг другу…
Ратко со вздохом встает.
— Я, пожалуй, пойду, — медленно говорит он трагическим голосом, словно он какой-нибудь Тополь или другой советский диссидент, которого под конвоем везут в Сибирь. Я, впрочем, вижу, что ему действительно пора, поэтому я его не задерживаю.
— Ладно, еще увидимся, — говорю я, закрывая за ним дверь.
Потом я возвращаюсь к Бриджит.
— Хорошо посидели, правда? — говорю я.
Она медленно поднимает голову и глядит на меня в упор. За последние несколько минут Бриджит не произнесла ни слова, и я уверен, что она собирается сообщить мне что-то неприятное. Что-то такое, что способно напугать меня до потери сознания. Господи, сделай так, чтобы она не была беременна! В противном случае Темный наверняка на ней женится, но если ребенок окажется похожим на меня… Не попусти, Господи! Только не это.
— Давай уедем в эти выходные, — говорит она. — Вместе, ты и я…
— Куда же мы поедем? — спрашиваю я, подавляя вздох облегчения.
Она пожимает плечами и принимается раздирать спутавшиеся волосы. Сейчас Бриджит действительно похожа на мышь — маленькую рыжую мышку.
— Что произошло вчера вечером, Майкл? — спрашивает она, не глядя на меня.
Я не знаю, то ли Бриджит просто не хочет отвечать на мой вопрос, то ли тема нашего совместного отъезда успела ей наскучить. Не исключено, что она вдруг вспомнила, что всегда предпочитала возможное невозможному, а может быть, ей снова пришел на память тот ужас, который она пережила меньше двенадцати часов назад.
— С Энди? — переспрашиваю я.
— Нет, после… Что вы делали потом?
— Мы все или конкретно я? — Я продолжаю тянуть время.
— И ты, и остальные. Вы решили отомстить за Энди, правда? Когда ты вернулся, у тебя была кровь на рубашке, и… И я кое-что слышала… — Она не договаривает, и я смотрю на нее. Этот детский лепет раздражает меня сверх всякой меры. Он раздражает меня даже больше, чем я ожидал, но я ничего не могу с собой поделать.
— О'кей, Бриджит, если уж мы начали играть с тобой в эту игру, позволь и мне задать тебе один вопрос. Чем, по-твоему, занимается твой распрекрасный Темный?
— Он работает, — небрежно роняет она. — У него свое дело.
— А чем в таком случае занимаемся мы — я, Энди, Скотчи, Большой Боб и его ребята? Да, у нас есть профсоюзные билеты, но я, к примеру, не каменщик, не стропальщик и не сварщик. Кстати, жаль, что я не сварщик — в этом случае я бы получал не в пример больше.
— Я знаю, чем вы занимаетесь. Во всяком случае, мне кажется, что знаю… Темный платит мистеру Даффи, а мистер Даффи дает ему строительные контракты. Потом Темный нанимает вас, чтобы вы следили за соблюдением всяких там правил и инструкций.
Она говорит очень убедительно, но меня не обманешь. Тут что-то нечисто. Бриджит все прекрасно знает, знает во всех отвратительных подробностях, и это снова заставляет меня задуматься, что за игру она затеяла. Зачем ей знать детали наших вчерашних похождений? Нужны ли они ей для того, чтобы дать мне в руки козырь против Темного или, наоборот, дать Темному козырь против меня?
— В общем, ты говоришь верно, — смущенно бормочу я.
— Так что же случилось вчера вечером? — снова спрашивает Бриджит.
— Никто не умер, если тебя это интересует, — говорю я.
Бриджит с шумом выдыхает воздух, и ее строгое лицо сразу становится мягче. Похоже, именно этого она от меня и добивалась. Ей нужно знать, как далеко способен зайти Темный. Убийство — вот граница. И покуда эта черта не перейдена, она будет спать спокойно. Темный еще не самый худший вариант.
— Тебе пора ехать, — говорю я после небольшой паузы. — Поезжай домой. Я тоже поеду в «Четыре провинции», но другим поездом.
Она глядит на меня. Сейчас ее глаза кажутся зелеными. Изумрудными, если точнее.
— Скажи, Майкл, как ты собираешься жить дальше?
— А ты? — отвечаю я.
— Я первая спросила, — говорит Бриджит, накручивая на палец огненно-рыжую прядь.
— Пока не знаю. Видишь ли, мне приходится много ездить в поездах, — неуверенно начинаю я. — В дороге я читаю разные книги, много книг, и…
— Ты читаешь книги?!
— Господи, ну конечно! Что тут такого? Быть может, когда-нибудь я попробую поступить в колледж или еще куда-нибудь. Правда, я так и не получил аттестата об общем среднем образовании, но здесь, я думаю, это не имеет большого значения.
Бриджит зевает.
— А как собирается жить Темный? — едко осведомляюсь я. — Каковы его планы на будущее?
Она мечтательно улыбается. Боже мой, кажется, они это уже обсуждали! Их общее будущее. И, судя по всему, Бриджит это будущее нравится, мать его растак!
— У него много всяких романтических идей, — говорит она.
Романтических идей? У Темного? При одной мысли об этом меня начинает тошнить, но я молчу и смотрю на Бриджит. Она не обращает на меня внимания. Встав с дивана, Бриджит начинает собираться.
— Я возьму такси, — говорит она.
— Везет же некоторым, — отвечаю я, но она пропускает мои слова мимо ушей. Одевшись, она с нежностью целует меня. Я провожаю ее до дверей. На пороге Бриджит поворачивается ко мне и целует еще раз.
— Скажи мне «до свидания» по-ирландски, — просит она.
— Я не знаю, как это будет, — отнекиваюсь я.
— Скажи! — Она настаивает.
— Slan leat, — нехотя говорю я.
— Slan leat, — повторяет она. — Slan leat, Майкл.
— Тот, кто уходит, должен говорить slan agat, — поправляю я.
— Slan agat! — весело говорит она, снова целует меня в щеку, поворачивается и спускается по лестнице. Когда снизу доносится скрип отворяемой двери, я тоже поворачиваюсь и со всех ног бегу на крышу, чтобы посмотреть, не двинется ли за ней один из замеченных мной раньше автомобилей. Бриджит идет по 123-й улице в направлении Амстердам-авеню, потому что там легче поймать такси. Пока я смотрю ей вслед, синий «форд», на который я обратил внимание раньше, запускает двигатель, разворачивается и тоже движется в сторону Амстердам. Это может быть совпадением, говорю я себе. А может и не быть… По улице едет такси, и Бриджит останавливает его взмахом руки. Пока она садится, «форд» прибавляет скорость и проскакивает перекресток, прежде чем на светофоре загорается красный сигнал. Такси проскочить не успевает. Учитывая все обстоятельства, мне хочется верить, что это было все-таки совпадение.
Я снова ехал в подземке. Из-за наплыва пригородных пассажиров, спешивших в Нью-Йорк на работу, обстановка в вагоне была куда более космополитической, чем днем. Найти свободное место тоже было труднее, но я сумел втиснуться в уголок и вытащил из кармана свою книгу в бумажной обложке. Богатые люди, Лонг-Айленд, далекое прошлое… Смерть.
Поезд покидал Манхэттен, и в вагоне стало свободнее. Я вложил между страницами книги фирменную закладку и вдруг заметил, что на обороте что-то написано. «Кто много читает — плохо трахается». Я узнал затейливый почерк Бриджит. Записка меня рассердила. Это было слишком опасно, слишком рискованно. Что, если кто-нибудь в «Четырех провинциях» поинтересуется, что это я читаю, схватит книгу, увидит исписанную закладку, прочтет, узнает почерк? О боже! Я разорвал закладку на мелкие клочки и бросил их на пол.
На последней остановке я вышел из вагона и начал подниматься по ступенькам.
— Раненько ты сегодня, — приветствовал меня Пат.
— Сегодня мне повезло, поезд сразу подошел, — ответил я.
— Сейчас налью тебе кружечку, — сказал Пат.
— Не возражаю, — кивнул я.
Он начал наливать «Гиннесс» в большую кружку. Увы… Пат, да поможет ему Бог, был иммигрантом во втором поколении, да и с «Гиннессом», похоже, что-то случается, стоит ему только покинуть Пейл.[19] Я имею в виду, что правильно наливать стаут может только настоящий профессионал, вышколенный в Ленстере, в непосредственной близости от Лиффи. У Пата, к сожалению, не хватало ни способностей, ни терпения, а главное, ему приходилось иметь дело с ненастоящим «Гиннессом». Для Бронкса и даже для Нью-Йорка он действовал неплохо, но…
Тем не менее я поблагодарил его, сделал из кружки большой глоток и закусил чипсами с сыром и луком. Потом подошли остальные ребята, и я угостил их пивом. В семь мы все отправились на второй этаж, чтобы посовещаться. Темный, по всей видимости, прошел через черный ход — я не видел, как он приехал, а когда поднялся наверх, он был уже там.
Комната на втором этаже была полна табачного дыма, что подействовало на меня особенно сильно, так как с сегодняшнего утра я пытался бросить курить. Темный сидел на своем обычном месте во главе стола. Лучик занимал стул слева от него. По мысли Темного, это должно было означать, что Лучик отвечает за «левые» дела. Впрочем, «левым» делам наш босс уделял внимания нисколько не меньше, чем своему легальному бизнесу, и наша сегодняшняя встреча была самым настоящим производственным совещанием, где Темный был генеральным директором, а мы — исполнителями.
Зал для банкетов, в котором мы разместились, находился над основным баром «Четырех провинций». Надо сказать, что эта комната редко использовалась для чего-либо, кроме наших еженедельных совещаний, продолжавшихся обычно не дольше часа. У Темного хватало других дел, поэтому руководство нашим нелегальным бизнесом он возложил на Лучика.
В подчинении Темного и Лучика находились две небольшие команды. Одна из них включала меня, Фергала, Энди и Скотчи, другая — Большого Боба, Мики Прайса и Шона Маккену. Время от времени в составе команд появлялись новые люди, — например, Дэвид Марли — но они, как правило, надолго не задерживались. Сегодня, впрочем, одного человека у нас не хватало. Я имею в виду Энди, который лежал в Американо-пресвитерианской больнице, приходя в себя после полученных побоев.
Я называю наши маленькие группы «команды» исключительно для удобства; на самом деле мы не были столь жестко организованы. И разумеется, «работали» мы не постоянно, а лишь от случая к случаю. Как правило, Лучику удавалось решать возникающие проблемы самому; наше вмешательство требовалось лишь в особо трудных случаях. Зато и деньги мы тоже получали нерегулярно. Лучик поставил дело так, что наша плата зависела от количества отработанных часов, и я уверен, что если бы он мог, он заставил бы нас отбивать время прихода и ухода. Большого Боба и двоих его парней мы почти не видели, поскольку случаи, когда для выполнения того или иного задания требовались обе бригады, можно было пересчитать по пальцам. Большой Боб, Мики и Шон занимались главным образом тем, что собирали дань с торговцев и мелких предпринимателей, которым покровительствовал Темный. Проделывать это надо было раз в месяц или раз в две недели. Работа, сами понимаете, не пыльная, и я подозреваю, что и конвертики с деньгами ребята получали регулярно. Одевались они, во всяком случае, вполне прилично (Боб — тот даже костюмы носил), и я уверен, что никакой грязной работы вроде нашего вчерашнего дельца им исполнять почти не приходилось. Именно бригада Большого Боба ездила с Темным к мистеру Даффи в Нассау, и это обстоятельство бесило Скотчи больше всего, так как он был уверен, что подобные встречи происходят в каком-то шикарном месте. (Мне довелось побывать в усадьбе мистера Даффи в Трайбеке, и я должен признать, что выглядит она достаточно роскошно.) Что касалось нас, то мы под чутким руководством Скотчи занимались главным образом всяким дерьмом: разборками, охраной, выколачиванием дани и — во многих случаях — просто грубым физическим трудом.
Организация всего дела разительно отличалась от того, что было когда-то у нас на родине. Там шайки рэкетиров четко разделены на звенья или ячейки и действует жесткая командная система. Каждое дело предварительно обсуждается самым подробным образом, и только потом отдается соответствующий приказ. Здесь, в Штатах, все было куда проще, спокойнее и… безалабернее. У меня порой складывалось впечатление, что и самые ответственные решения Темный принимает с кондачка, без подготовки. К счастью, Лучику в большинстве случаев удавалось держать процесс под контролем.
Дома, в Ирландии, я был «быком» или «бойцом», и это стало моей основной специальностью. В Америку мне, однако, ехать не хотелось. С четырнадцати до шестнадцати лет я был членом шайки рэкетиров, действовавшей в Северном Белфасте; за это время мне довелось стать свидетелем нескольких чрезвычайно неприятных происшествий, и когда моя кузина Лес предложила мне поработать в Нью-Йорке у Темного Уайта, я отнесся к ее словам без особого энтузиазма. Я не хотел больше участвовать в насилии, меня от него тошнило. Как только мне исполнилось шестнадцать, я расстался с прежними товарищами и поступил в армию, но из этого ничего путного не вышло. В конце концов я оказался безработным, живущим на мизерное пособие; когда же и эти выплаты прекратились (почему — я уже рассказывал), у меня не осталось другого выхода. Лес обещала подыскать мне работу каменщика, такую, как у ее деверя (многие безработные потихоньку подрабатывали кладкой кирпичей), но Лучику каменщики были не нужны. Оставался только криминальный бизнес. Бизнес, впрочем, оказался не таким масштабным, как я ожидал. Темный занимался двумя основными разновидностями рэкета — «крышевал» мелких предпринимателей и договаривался с профсоюзами, причем дело это было настолько отработанным, что запугивать никого особенно не приходилось. Не брезговал он и ростовщичеством под грабительские проценты, однако этот способ извлечения доходов применялся им исключительно к недавним иммигрантам-ирландцам и не играл сколько-нибудь заметной роли. А с некоторых пор мне и вовсе стало казаться, что наша деятельность для него не важна, почему Темный и сумел, так сказать, перераспределить свои акции, поместив их в другие, более прибыльные области.
Пока я потихоньку дремал, Темный говорил:
— …Итак, в мое отсутствие Скотчи взял инициативу на себя и решил возникшую проблему, а заодно показал всем, что мы настроены серьезно и шутить с нами не стоит. Сейчас мистер Лопата лежит в той же больнице, что и бедняга Энди, однако нельзя сказать, что они в одинаковом положении. Если верить врачам, Энди будет на ногах уже через пару дней. Что касается Лопаты, то при большом везении он сможет выйти из больницы только к Рождеству. Отличная работа, Скотчи!
Последовали кивки и удовлетворенное бормотание. Темный продолжал:
— Если кто-то из вас намерен навестить юного Эндрю, его друзья по достоинству оценят подобный поступок. Я уже побывал у него и должен сказать, что он держится молодцом.
И Темный улыбнулся.
Наш босс был зрелым мужчиной среднего возраста, обремененным к тому же множеством забот, но я не мог не признать, что выглядит он очень неплохо. Темный был склонен к полноте, но он регулярно занимался в гимнастическом зале и красил волосы, что придавало ему вид сенатора с гнильцой, каких иногда показывают в кино. Глаза у него были темно-синими, почти черными, а кожа — смуглой, так что посторонний человек мог принять его за кого угодно, но только не за ирландца. На мой взгляд, он был больше похож на араба. Скотчи, будучи в сильном подпитии, однажды рассказал нам, что мать Темного нагуляла сыночка на стороне и что настоящим отцом Темного был на самом деле какой-нибудь португальский матрос. Каждому из нас было известно, что у Скотчи язык без костей, однако на сей раз в его словах, похоже, была толика истины. Свое прозвище Темный получил, однако, не столько за свою смуглую кожу, сколько за то, что его фамилия была Уайт.[20] Теренс Уайт — так звучало его полное имя, но в глаза его называли только Темным или мистером Уайтом. Интересно, подумалось мне, а как зовет его Бриджит в интимной обстановке?
Темный все говорил; ему, как видно, нравился звук собственного голоса.
— …Хочу еще раз сказать про придурка, который поднял руку на нашего Эндрю. Вы, парни, славно его проучили. Особенно ты, Майкл. Я слышал, ты проделал просто ювелирную работу. Буквально на днях я говорил Лучику, что с негодными инструментами даже лучший мастер ничего не добьется. Так вот, Майкл, ты и Скотчи — мои самые лучшие, самые надежные люди, — сердечно сказал Темный, и я вдруг поймал себя на том, что мой рот сам собой разъехался до ушей. Скотчи, сидевший у противоположного конца стола, повернулся и подмигнул мне.
— Спасибо, мистер Уайт, — сказали мы хором.
Лучик тоже кивнул нам с явным одобрением, а Большой Боб пробормотал что-то вроде «Отличная работа». Из всех сидящих за столом только я, Скотчи и Фергал были настоящими, стопроцентными ирландцами; кроме того, мы были из Северной Ирландии, что прибавляло нам авторитета, хотя в организации мы и занимали подчиненное положение. Нас считали отчаянными парнями, готовыми на все. Привычка Скотчи рассказывать о своих юношеских подвигах или во всеуслышание приниматься вдруг рассуждать о том, как следует начинять гвоздями взрывные устройства или мастерить мины-ловушки, еще подливала масла в огонь, укрепляя нашу репутацию сорвиголов, я же обо всем таком помалкивал, что, по моему мнению, имело чуть ли не больший эффект.
Темный закончил свою вступительную речь, и слово взял Лучик, который заговорил о вещах более прозаических и скучных. Потом Темный решил посвятить нас в подробности выборов в местные отделения профессиональных союзов, но я, честно сказать, слушал его вполуха. В конце речь зашла о каких-то внутренних организационных вопросах, но это продолжалось недолго, так как Лучик никогда не перегружал нас подобными мелочами. У меня в памяти остались лишь слова о том, что переговоры с Дермотом, которые должны были состояться вчера, пришлось перенести на пару дней. Еще Лучик сказал, что сам поедет с нами на разборку, чтобы серьезность происходящего скорее дошла до маленького ублюдка.
После этого повестка дня была исчерпана, и меня, Фергала, Шона и Мики Прайса отпустили, велев отправляться вниз. С нами пошел и Боб, которому понадобилось в туалет. Выйдя оттуда, он окинул нас сердитым взглядом и снова поднялся наверх.
Бар был полон, и Пат усадил нас за единственный свободный столик в углу. По идее, платить за пиво была очередь Мики, но поскольку Фергал углубился в подробный рассказ о наших вчерашних похождениях, я отправился к стойке сам. Когда я вернулся, с трудом неся четыре большие кружки, Фергал уже заканчивал, причем согласно его версии получалось, что на обратном пути мы все съели в «Макдональдсе» по бигмаку — нам, дескать, все нипочем. Мики Прайс слушал его с разинутым ртом, но на Шона Маккену, который побывал в федеральной тюрьме в Техасе и отсидел четыре года то ли в Оссининге, то ли в Аттике, наши приключения не произвели большого впечатления. Судя по его взгляду, он готов был рассказать историю покруче. Я не сомневался, что в его рассказе одному отрежут голову ножовкой, другого выпотрошат при помощи ножниц по металлу, третьего прибьют гвоздями к потолку или будут пытать электросварочным аппаратом, поэтому прежде, чем он открыл рот, я отправился в туалет.
Прежде чем вернуться к столику, я поболтал немного с Патом и миссис Каллагэн и поискал Бриджит, но, по всей вероятности, она ушла куда-то с подругами.
Потом сверху спустился Скотчи. Тронув меня за плечо, он сказал, что Темный и Лучик хотят меня видеть.
«Вот твой последний шанс удрать», — сказал я себе, но мне не хватило смелости броситься к дверям, и я послушно поднялся в банкетный зал.
Когда я вошел, Темный, Лучик и Боб просматривали какие-то бумаги.
— Гхм, — откашлялся я. — Вы хотели меня видеть?
Темный даже головы не поднял. Лучик улыбнулся.
— Да, Майкл, — сказал он. — Садись-ка сюда…
Я сел. Темный повернулся и посмотрел на меня.
Большой Боб поднялся. Зачем? Чтобы удобнее было нанести удар?
— Вчера вечером я говорил с Лучиком о тебе, Майкл… Должен сказать откровенно — мы давно к тебе приглядываемся, и пока нам нравится то, что мы видим. Я вот что хотел сказать тебе, Майкл: если ты не скурвишься и будешь работать как следует, мы тебя не забудем. И тогда ты сможешь добиться многого, — сказал Темный, вручая мне конверт, в котором лежало пять двадцатидолларовых бумажек.
— Спасибо, Темный, — поблагодарил я.
Лучик ухмыльнулся:
— С тобой все. Можешь идти.
Я поднялся и не спеша двинулся к выходу. Меньше всего мне хотелось, чтобы они поняли, как мне хочется поскорее убраться отсюда.
— Да, и навести Энди, — сказал Темный, когда я был уже у дверей.
Четыре моих обычных кружки я уже выпил, поэтому внизу я попрощался с парнями и поехал домой. Путь был неблизкий, к тому же, несмотря на усталость, я решил последовать совету Темного и, не откладывая дела в долгий ящик, побывать в больнице и узнать, как поживает Энди. Речь шла не о посещении — посетителей в палаты наверняка пускали только днем. Я хотел просто навести справки о нашей крошке.
Интересно, почему Темный вообще заговорил об Энди? Может, он хотел, чтобы я своими глазами увидел, что случается с дружками Бриджит? Гм-м…
Больничные корпуса были разбросаны по довольно обширной территории, и мне пришлось четыре раза обращаться к охранникам, прежде чем я узнал дорогу в отделение реанимации, но даже после этого я по ошибке забрел в приют для бездомных.
Разумеется, в реанимацию уже не пускали, а когда дежурная сестра узнала, что я даже не родственник, она буквально вытолкала меня, велев приходить в более приличное (как то считают пресвитериане) время.
С таким напутствием я отправился восвояси. Я собирался покинуть больницу, но снова заблудился. Пока я разыскивал выход, мне попался туалет, я воспользовался случаем, чтобы отлить. Покончив с этим важным делом, я вышел в коридор, раздумывая, как, черт побери, мне отсюда выбраться, когда вдруг увидел… Кого бы вы думали? Миссис Лопата собственной персоной! Она стояла буквально в двух шагах от двери туалета и, сжимая в дрожащей руке пластиковый стаканчик с кофе, с ненавистью смотрела на меня.
Я уверен, что на моем месте Скотчи, не задумываясь, сделал бы ноги. И по-хорошему мне тоже следовало удрать. Это было бы самое разумное, но вместо этого я подошел к ней и сказал:
— Эй, послушайте, я здесь не из-за Лопаты. Я навещал одного приятеля и заблудился, а теперь никак не могу найти выход. Я вовсе не хотел вас пугать. Извините.
Она довольно долго смотрела на меня исподлобья, и я уже думал, что сейчас она вцепится в меня ногтями или обольет своим кофе, но она вдруг заплакала. Плечи ее затряслись, а кофе выплеснулся из стаканчика и потек по руке.
Сначала я растерялся, потом осторожно взял стаканчик у нее из рук и подвел к стоявшим у стены пластиковым сиденьям. Миссис Лопата поплакала еще немного, достала носовой платок, высморкалась, потом всхлипнула еще несколько раз. Через минуту-другую она успокоилась и внимательно посмотрела на меня. Под ее взглядом я чувствовал себя очень неловко, и мне захотелось что-то ей сказать.
— Как он? — спросил я.
— В сознании. Его оперировали четыре часа. Четыре часа под ножом! Ему дали наркоз, накачали болеутоляющими, а он все не спит! Это так на него похоже. Все сиделки были просто поражены — они такого еще не видели.
— Да, Лопата крепкий парень, — сказал я.
— Но с троими ему было не справиться, — ответила она.
— Нет.
Некоторое время мы сидели молча. Потом я снова посмотрел на нее:
— Конечно, от слов мало проку, но я надеюсь, что он поправится.
— Зачем Скотчи понадобилось его калечить? Он бы заплатил. Он всегда платил! — воскликнула она.
Теперь я понял, в чем дело. Она думала, что с Лопатой расправился Скотчи, что я лишь помогал ему… Что ж, я не стал ее переубеждать.
— Скотчи думал, что Лопата завалил нашего Энди, — сказал я, решив, что от Скотчи не убудет, если она станет считать виноватым его.
— Но он ничего такого не делал, — грустно возразила она.
— Да, я знаю, — вырвалось у меня.
У нее на щеке синел внушительных размеров синяк — это Скотчи ударил ее рукояткой револьвера. Волосы у миссис Лопаты были короткие, светлые, и это шло ей куда больше, чем нелепый черный парик, который был на ней вчера. Парик был ей совершенно не к лицу…
Мысль, как это часто со мной бывает, самопроизвольно облеклась в слова.
— Вы, случаем, не еврейка? — спросил я.
— Нет. А почему вы спросили?
— Вчера вы были в парике.
— Это он придумал, — объяснила она, ткнув пальцем в дверь палаты за спиной.
— Лопата? — удивился я.
Она кивнула, потом покачала головой.
— Я постригла волосы, а ему не понравилось, и он сказал, что заставит меня носить парик, пока они не отрастут, — объяснила она.
Говорила она серьезно или шутила? Я терялся в догадках. Больничная обстановка к шуткам вроде бы не располагала, и я взглянул на нее повнимательнее. Жена Лопаты показалась мне совсем молодой, она была младше мужа лет на десять. У меня сложилось впечатление, что она принадлежит к иному, более высокому социальному кругу, и я спросил себя, как они встретились, как сошлись… Сейчас я думал, что записной выпивоха Лопата и его сдержанная, мягкая жена не особенно подходят друг другу, но с другой стороны, любовь не разбирает…
— Но почему парик черный? — спросил я. Она рассмеялась:
— Его спросите.
— Он, значит, просто пошел и купил эту штуку? — уточнил я.
— Не знаю, — ответила она и снова засмеялась.
— По-моему, он просто ненормальный, — сказал я. — Без парика вам гораздо лучше.
— Вы так считаете?
— Никаких сомнений.
Она прикусила губу и вздохнула:
— Не понимаю, почему вы с Фергалом слушаетесь Скотчи, ведь он — настоящее чудовище, психопат. Тупость какая-то.
Я и не подозревал, что она знает нас настолько хорошо. Раньше я с ней не встречался, это точно, но, быть может, она видела нас в «Четырех провинциях» или еще где-нибудь. Расспрашивать ее я, однако, не стал, и минуту или две мы сидели молча.
— Пойдем отсюда, — сказала она наконец.
— Я бы рад, только я не знаю, куда идти. Никак не могу найти выход. Я торчу здесь чуть не с самого утра — зашел выписать рецепт, и вот чем все кончилось.
Она слабо улыбнулась.
— Посадите меня в такси, — сказала она.
С этими словами она встала. Я тоже поднялся, и она повела меня к выходу.
— Я слышал, Лопату выпишут не раньше Рождества, — сказал я.
— Кто это сказал?
— Не помню. Кто-то говорил.
— Его выпишут через пару недель. Он крепкий парень и должен скоро поправиться.
— Угу.
Пока мы стояли на улице в ожидании такси, она достала из сумочки золотистую пачку сигарет и предложила одну мне.
— Спасибо, но я пытаюсь бросить, — покачал я головой.
— И давно? — спросила она небрежно.
— Со вчерашнего вечера.
— А я со вчерашнего вечера снова закурила, — призналась она.
Тут я заметил такси и махнул рукой. Машина остановилась, и она села.
— До дому меня проводите?
— Мне вообще-то нужно в центр, — замялся я.
— Проводите меня, — повторила она настойчиво.
Вот так все и получилось. Мы поехали вместе, и поскольку я был при деньгах, в конце я расплатился с таксистом. Потом мы стали подниматься по лестнице, которую я хорошо помнил со вчерашнего вечера. Мне приходилось слышать истории о женщинах-активистках Ирландской республиканской армии, которые заманивают британцев к себе домой, а там их приканчивают боевики. Классическая приманка. Вот почему, пока мы шагали по ступенькам, меня не оставляло ощущение, что рано или поздно мне в лоб упрется ствол револьвера, последуют яростные крики и брань, потом сверкнет огонь, и конец. Даже когда она сняла с меня майку и джинсы, стащила через голову блузку и брюки и отвела в выдержанную в розовых тонах спальню, где стояла широкая кровать, я все еще не был до конца уверен, что это не ловушка.
— Ты очень красивый, — сказала она.
Я спросил, как ее зовут, но она не захотела говорить. Вместо ответа она прижала палец к моим губам в знак того, что сейчас лучше молчать. В словах таилась опасность — они могли напомнить о прошлом и все испортить.
Я привлек ее к себе, обнял. У нее были маленькие груди и гибкое, тонкое тело. Враждебность, которую я заметил в ней вчера, была, по-видимому, лишь реакцией на наше появление; во всяком случае, сейчас она не проявлялась ни в ее поцелуях, ни в прикосновениях и ласках. Бриджит была в постели то деловитой, то страстной, то кокетливой; жена Лопаты, казалось, была до краев полна одним лишь желанием, которое заменяло, подавляло все остальные чувства. Ей нужен был мужчина. И не просто мужчина; я ясно видел, что она хочет именно меня, и сознавать это мне было горько до боли.
Но я не отстранился, не ушел. Я хотел наказать Бриджит за то, что она была с Темным, наказать Темного за то, что ему нравилась Бриджит…
Она заметила мою неуверенность и поняла — я боюсь, что она раздавлена, сломлена, что она позвала меня от отчаяния и безысходности. И поспешила убедить меня в обратном. Она была нежна, собранна, нетерпелива. Желание продолжало сжигать ее изнутри. Я целовал ее синяки, ее глаза и губы, а она целовала меня в ответ. Каждый из нас отдавал не скупясь и с благодарностью принимал то, что дарил другой. Утро следующего дня застало нас еще в постели.
4. За 110-й улицей
Жизнь — это последовательность стоп-кадров. Поход в «Си-таун» за продуктами; драка в двухдолларовом кинотеатрике; пиво в «Четырех провинциях»; вечерние походы по точкам вместе со Скотчи; Фергал, сцепившийся с таксистом, машину которого он помял; труп чернокожей девушки в парке Маркуса Гарви; поножовщина на 191-й улице; поцелуй, который Бриджит украдкой подарила мне, когда мы доставали новый бочонок пива; заброшенная автостоянка на бульваре Мартина Лютера Кинга, где сквозь трещины в асфальте проросли деревья и трава, а напротив — мотоциклист, сбитый машиной под окнами почтового отделения Манхэттенвилл; ряды свежих фруктов на Вестсайдском рынке; расплющенные колесами крысы; перечные деревья; целые лужи мочи; наши попытки убедить торговца с Фордхема отвалить нам ни за что целую кучу денег; булочная на Ленокс-авеню; негритянские блюда в «Эм энд Джи»; поездка к какому-то дальнему родственнику Темного в Йонкерс, которому мы должны были доставить диван и две тумбы (пешком на третий этаж плюс изогнутый под немыслимым углом коридор, сквозь который чертов диван едва пролез); перепалка с «Черными мусульманами» на остановке маршрута «А» на 125-й; девушка с глазами голубицы и ее парень в моем подъезде; дети, старательно изображающие беззаботное веселье; уличные музыканты; крошечная, забытая синагога на 126-й; полуголая эфиопка, которая как ни в чем не бывало расхаживает по коридору; еще одна откупоренная бутылка и санта-клаусовский смех Ратко; рис с фасолью на 112-й; «Кентукки фрайд чикен»; рис с фасолью во «Флоридите»; «Макдональдс»; снова «Эм энд Джи»; «Четыре провинции»; Бриджит; снова Бриджит…
Все события лета полыхнули как одна яркая вспышка, сжались, втиснулись в одно краткое мгновение. Восемь недель пронеслись как одна секунда. Краски, запахи, влажная духота, привкус бензиновой гари на языке — все спрессовалось, уложилось в один миг, как складывается старинная подзорная труба из позеленевшей латуни.
Одно мгновение… Зафиксированное, удержанное. Более яркое, чем воспоминания о Белфасте. Более насыщенное и богатое — но не в смысле денег.
Жизнь сверкнула, пронеслась мимо, и я, потрясенный, рухнул…
И ударился затылком о пол.
Ударился…
Заорал.
— Твою мать!
Шум.
Я вдохнул. Я дышал.
Я дышал тяжело. Я обливался потом. В следующую секунду я с ужасом осознал, что меня зацепило. Пуля рикошетом попала в левую руку. Сразу за костяшками пальцев был вырван солидный кусок мяса, но образовавшаяся глубокая рана еще не кровила. Казалось, она о чем-то задумалась, но я знал, что еще немного — и кровь потечет ручьем.
Должно быть, меня задело, когда я закрыл лицо руками, поэтому мне (и моей руке) понадобилось некоторое время, чтобы понять, в чем дело. А дело между тем было в том, что мы попали в довольно серьезную переделку. В такие переделки я не попадал, наверное, с тех самых пор, когда в розовом детстве участвовал в молодежных разборках в Северном Белфасте и Ратколе. Вляпались мы довольно крепко, но, как мне казалось, эта заварушка вовсе не обязательно должна была стать последней: наша позиция находилась довольно близко к входной двери, а Дермот допустил серьезный промах, не поставив своего человечка у нас в тылу и не отрезав нам путь к отступлению.
То, о чем я рассказываю, случилось через пять дней после расправы с Лопатой. Перенесенная встреча с Дермотом, проходившая, кстати, на его территории, закончилась стрельбой. Точнее, стрельбой она началась, потому что никаких переговоров не было. Когда я только поступил на работу к Темному, Скотчи предупредил, что рано или поздно пальбы не миновать, но сказано это было тоном, каким дети говорят об игре в ковбоев и индейцев. Сам Скотчи утверждал, что бывал в Кроссмаглене, который у нас прозвали Бандитским Краем; я же приехал из Северного Белфаста, так что ни ему, ни мне стрельба не была в новинку. Я, однако, давно заметил, что в Америке вещам, о которых порядочные люди предпочитают не говорить вовсе, зачастую придается какой-то мишурный блеск. К примеру, Скотчи и Фергал не раз с упоением вспоминали заварушку, в которую они попали два года назад в Инвуд-парке. Если верить этим двоим, пули так и свистели у них над головой, а одна из них даже попала Фергалу в ногу, однако нашим отважным героям все же удалось обратить в бегство двух черномазых, которые без оглядки удрали куда-то в холмы. Подробности битвы в изложении нашей сладкой парочки выглядели, однако, довольно противоречиво и туманно, и я почти уверен, что большая часть из них была почерпнута из гангстерских сериалов и боевиков.
Однако сегодняшняя заварушка была, увы, вполне реальной. Я проработал у Темного уже восемь месяцев, и за это время только раз стал свидетелем того, как Скотчи и Энди лупили одного парня, пока тот не потерял сознание. А если быть честным до конца, то самым серьезным был случай, когда я сам хладнокровно искалечил Лопату. Я хочу сказать — в большинстве случаев нам удавалось добиться желаемого с помощью угроз, хотя пару раз мне и пришлось применить силу против одного-двух особенно упрямых клиентов. Но теперь реальности Старого Света буквально в течение нескольких дней проросли (не без моего участия) на почве североамериканских Соединенных Штатов, и я оказался вовлечен в самую настоящую бандитскую разборку, в которой меня с большой долей вероятностей могли прихлопнуть. Для меня это был своего рода перелом, серьезное нарушение сложившегося порядка вещей, и, будь я склонен к подозрительности, я мог бы кое-что и заподозрить.
Короче говоря, мы с Лучиком склонились за стойкой бара, занимая позицию слева от входа, а справа — практически на открытом месте — залегли Фергал со Скотчи. Энди, разумеется, остался снаружи; он сидел за рулем нашей машины, и я молился, чтобы этому дураку хватило здравого смысла не лезть на рожон. Только сегодня утром Энди выписался из больницы, но вместо того, чтобы дать ему прийти в себя, Скотчи потащил его на задание, которое могло оказаться — и оказалось! — довольно опасным.
Если бы я хоть немного верил в приметы, я бы остался дома и никуда не поехал, потому что сегодняшний день с самого начала был необычным. Поезда подходили точно по расписанию, погода стала прохладней, а кроме того, билет моментальной лотереи, который я купил в подпольной винной лавочке на 123-й, выиграл двадцать долларов. После такого сумасшедшего везения неприятности просто не могли не посыпаться на меня как из рога изобилия.
Сегодня мы собирались как следует обмыть выздоровление Энди, но дело испортил Лучик. Обычно он достаточно хорошо владел собой, и я уверен, что его вывела из себя только неслыханная наглость Дермота, заявившего, что, мол, «разговор окончен» и что «ты, Лучик, да и Темный, если не хотите неприятностей, лучше не попадайтесь мне на глаза».
Короче говоря, мы поехали разбираться, и теперь парни Дермота палили в нас по чем зря из чего-то крупнокалиберного. Грохот стоял такой, что к месту происшествия должны были сбежаться все окрестные жители, даже если в это время они смотрели по телику решающий матч с участием «Янки». Автоматные очереди уже изрешетили полки над нашими головами, а несколько пуль пробило стойку навылет. Лучик трясся как заливное, которое каким-то образом обрело разум и обнаружило, что его расстреливают практически в упор. Во всяком случае, в его устремленных на меня глазах застыл самый настоящий ужас.
Я тем временем продолжал размеренно вдыхать и выдыхать воздух, стараясь хоть немного успокоиться и вернуть ясность мысли.
— Что это, черт тебя побери, ты делаешь? — осведомился Лучик хриплым шепотом.
Но я не собирался отвечать на дурацкие вопросы. Сегодня легендарная предусмотрительность Лучика дала осечку. Против нас было по меньшей мере два автоматчика, сам Дермот и, возможно, долбаный бармен, а Лучик повел нас в бар без всякой разведки и едва не угробил.
— Пытаюсь уравновесить свое ци.
— Что-что?!
— Ци.
— Какое еще, к черту, ци?
— Ци. Это духовная субстанция, которая лежит в основе всего.
— И ты пытаешься ее уравновесить? — с испугом переспросил Лучик.
— Угу.
— А сколько времени это займет?
— Думаю, не много. Только что перед моим мысленным взором промелькнула вся моя прежняя жизнь, — сказал я уже не так сердито, стараясь этим успокоить Лучика.
— Правда?
— Правда.
— И теперь ты пытаешься уравновесить свое ци?
— Да.
Два автомата Калашникова вели огонь из полутемного коктейль-бара футах в пятидесяти от нашей ненадежной позиции. Каков был первоначальный план Дермота, я не совсем понимал, поскольку для засады он выбрал явно не идеальное место, однако наше положение все равно было хуже некуда. По-видимому, решил я, Дермот велел своим парням впустить нас в паб, а потом расстрелять сразу из нескольких стволов, но стрелки либо не обладали достаточным опытом, либо слишком нервничали, либо нанюхались крэка, поскольку они открыли огонь, едва мы появились на пороге. Лучик и я успели юркнуть за стойку. Фергал и Скотчи так и остались у столиков. С начала заварушки прошло минуты полторы, но за это время моя прошлая жизнь действительно пронеслась перед моим мысленным взором во всех подробностях.
Кроме того, лежа на полу рядом с Лучиком, я успел подумать о том, что ждет меня в ближайшем будущем. На мой взгляд, возможный исход сводился к трем вариантам: мы шлепнем их, они шлепнут нас, появятся фараоны и заметут всех.
Я, правда, уже говорил, что после наступления темноты стрельба в этой части города была делом обычным (какие-нибудь придурки могли просто выпускать в воздух пулю за пулей из пистолетов калибра.9), однако надеяться на то, что среднестатистический фараон — при всей своей лени и патологической трусости — не обратит внимания на шум, не стоило. А ведь дело происходило поздним утром и стрельба велась очередями… Нет, на то, чтобы разминуться с легавыми, у нас оставалось минут пять, от силы десять, но никак не больше.
Тут я заметил, что Скотчи подает мне из противоположного угла какие-то знаки. Автоматчики расстреливали наших друзей практически в упор, и Скотчи, по-видимому, пытался жестами убедить меня встать во весь рост и немного постоять, отвлекая внимание врагов, пока он и Фергал займут более удобную позицию. Судя по всему, у столиков они чувствовали себя не слишком уютно и были не прочь перебраться к нам за стойку.
Я вовсе не собирался вставать и изображать из себя мишень. Будь я вооружен немного получше, я мог бы, по крайней мере, отвечать на огонь, но при мне был только небольшой револьвер калибра 22, который, по совести сказать, и оружием-то можно было назвать лишь с большой натяжкой. Напугать кого-то, прострелить лодыжку или колено — для этого я и таскал его с собой. Отстреливаться с помощью этой штуки мне и в голову не приходило, да я и не думал, что такая ситуация возникнет. Пистолетам я не доверял, так как отлично знал, что в решительный момент проклятую штуковину обязательно заклинит. Нет, для «быка» нет ничего лучше американского револьвера калибра 38; он бьет точно и мощно, хоть в воде, хоть одеяло… Иными словами, взяв револьвер у Лучика, я мог бы попытаться привести в исполнение сомнительный план Скотчи, однако куда благоразумнее было притвориться, будто я не понимаю, чего он от меня хочет. Так я и поступил. В ответ на отчаянную жестикуляцию Скотчи я просто кивнул, но остался лежать на месте.
Скотчи удвоил усилия, разразившись серией отчаянных гримас. Я поглядел на Лучика, но он закрыл глаза и бормотал что-то себе под нос — должно быть, читал молитвы. Это меня удивило. Он всегда казался мне рационалистом, агностиком, но, наверное, атеисты остаются атеистами только в достаточно глубокой траншее, бомбоубежище, окопе или в чем-то подобном.
Сквозь приоткрытую дверь бара я видел, что снаружи уже собралась небольшая толпа, состоящая из всяких недоносков, которые обычно первыми появляются на месте происшествия, чтобы быть убитыми шальной пулей. Что ж, по крайней мере никто из них не станет звонить в полицию… Даже эти придурки хорошо знали, когда лучше держать рот на замке. Буквально на соседней улице был когда-то смертельно ранен Малколм Икс;[21] в прошлом месяце здесь же хладнокровно расстреляли сразу шестерых, так что для местных жителей наша заварушка не была чем-то из ряда вон выходящим. Я, однако, хорошо понимал, что какая-нибудь молодая мать, которая с трудом укачала орущее чадо, чтобы вздремнуть самой, в конце концов вызовет легавых. Они приедут, прочтут нам через мегафон лекцию о том, как должны вести себя законопослушные граждане, потом пустят слезоточивый газ и возьмут нас тепленькими. Это было неизбежно, как восход солнца, если только парни Дермота не примутся за дело всерьез и не прикончат нас раньше. Оба варианта вряд ли могли нас устроить, поэтому я подумал, что мне, пожалуй, все-таки придется что-то предпринять. Что именно, я пока не знал, но что-то надо было делать. Расчетливо отступать, бросаться сломя голову к двери в надежде на удачу, пытаться заключить перемирие — хоть что-нибудь!
Между тем бормотание Лучика стало громче; ребята Дермота перестали стрелять и, сместившись в сторону, чтобы вернее выцелить укрывшегося за перевернутым столом Скотчи, снова открыли ураганный огонь. Пока пули крупного калибра ударялись в пол или впечатывались в стены, но я знал, что рано или поздно одна из них попадет в цель.
И тогда нам точно несдобровать.
Я подумал еще немного и откашлялся.
— Эй, Дермот, фенианская[22] отрыжка, сукин сын, дешевка. Дешевка долбаная! — прокричал я. Ответа не было, и я повторил все сначала, стараясь, чтобы мои слова звучали как можно оскорбительнее. И снова мое красноречие пропало втуне.
Дермот Финюкин приехал в Нью-Йорк сравнительно недавно. В Туме, в графстве Антрим, он был записным пижоном и дамским угодником: костюмы «Некст», летний отдых на Ибице, бездна очарования и собственный маленький «эм-джи» темно-синего цвета, но ему не повезло. Он обрюхатил дочь одного из заправил и был вынужден в срочном порядке сниматься с насиженного места и бежать в Новый Свет, имея в пассиве смертный приговор, вынесенный ему одним из местных авторитетов. В Нью-Йорке Дермот Финюкин открыл бар в крошечном ирландском квартале в районе 160-х улиц. Это был скверный план, поскольку как раз в то время ирландцы покидали старый район, перебираясь в Бронкс, Джерси или Квинс, где условия жизни были лучше, а от покровительства доминиканцев и пуэрториканцев Дермот отказался. Когда появились мы, его бар хронически пустовал. Лучик предложил Дермоту крупный заем под пятьдесят процентов в месяц. Дополнительной гарантией возврата денег служил находившийся где-то на севере нашего штата тайник с оружием, закупленным для «временных»[23] примерно в 1988 году. Вскоре, однако, некоторые главари и непосредственные исполнители операции оказались за решеткой, оружие осталось невостребованным, и Финюкин предложил его Лучику в качестве обеспечения долга.
Лучик был неглуп. Он рассчитывал, что месяца через три бар окончательно прогорит и тогда мы получим все оружие и продадим его людям, которые в нем остро нуждались и которые по случайному стечению обстоятельств были ближайшими соседями Финюкина. Однако избранная Финюкиным линия поведения оказалась не такой безнадежной, как казалось на первый взгляд. Он не только ежемесячно выплачивал положенные проценты, но даже ухитрялся возвращать часть основного долга. Как выяснилось впоследствии, проныре Финюкину было начхать, как идут дела в баре. С самого начала основной статьей его дохода был крэк — кристаллический кокаин, который он производил у себя в подвале с одобрения и под покровительством какого-то местного главаря, о котором было известно только то, что его кличка — Фокусник. Не сразу, но мы все же узнали, что под этой кличкой скрывался некий Рамон — тот самый Рамон, который много, много месяцев спустя поможет мне осуществить мои собственные планы.
Словом, Дермот Финюкин устроился очень и очень неплохо и дурачил наивного Лучика довольно долго, пока кто-то не проболтался. Когда слухи дошли до Лучика, он сам настоял на том, чтобы отправиться к Дермоту вместе с нами и разобраться, что тут правда, а что — нет. Самое интересное, впрочем, заключалось в том, что стукачом был, скорее всего, не кто иной, как Финюкин, который задумал и осуществил этот план для того, чтобы заманить нас на свою территорию и убрать без лишнего шума, а потом перенести свою кокаиновую фабрику в новое здание на Сент-Николас. Он собирался убить нас, избавиться от трупов, поджечь бар и исчезнуть, так что Темный, который, конечно, предпринял бы собственное расследование, не сумел бы отыскать никаких следов. Таким образом Дермот избавился бы от долга и зажил припеваючи, спокойно увеличивая свое состояние. Не исключено, что время от времени он жертвовал бы некоторые суммы «временным» в «Штате у Залива»,[24] а те в свою очередь прикрывали бы его от любых неприятностей. Сам по себе план был неплох, во всяком случае он был составлен с известной долей изобретательности, хорошо продуман и вполне мог сработать. Наша смерть была самой легковыполнимой его частью, и на данный момент я бы оценил наши шансы как пятьдесят на пятьдесят — если, конечно, кто-нибудь из нас не придумал бы что-нибудь оригинальное.
— Эй, Дермот, выпердыш куриный, ублюдок, ты что, оглох? — снова заорал я. — Отзовись, членосос!
Яростная стрельба продолжалась еще несколько секунд. Потом она внезапно прекратилась, и наступила тишина.
Последовала томительная пауза, и наконец Дермот Финюкин заорал откуда-то из полумрака:
— Что нужно?
— Это я, Майкл Форсайт. Выслушай меня, Дермот, только выслушай, хорошо? Легавые будут здесь через пару минут, это я тебе точно говорю. Вы, парни, здорово облажались. Оттуда, где вы засели, вам нас не достать, понятно?
— Ну, это мы еще поглядим, — с угрозой откликнулся Финюкин.
— Да погоди ты, дерьмоед долбаный, не перебивай. Вам нас не завалить, но и мы ничего не сможем вам сделать. Рано или поздно копы все равно приедут, и что тогда? Пять лет тюрьмы и депортация. Ты этого хочешь?
Один из парней Дермота крикнул что-то по-испански, и стрельба возобновилась. Лучик схватил меня за руку; при этом он что-то сипел, словно астматик. Я повернулся к Скотчи, приглашая его полюбоваться этой картиной, но ему было ни до чего. Лицо его перекосилось от ярости, но злился ли он на меня или на свое незавидное положение, я не знал.
Стрельба снова прекратилась.
— Что ты предлагаешь? — прокричал Дермот.
— Я предлагаю прекратить огонь и разбежаться. Ты дашь нам уйти, а мы дадим тебе сутки, чтобы перебраться на новое место, — сказал я и взглянул на Лучика, чтобы убедиться, что он не возражает. Тот, похоже, все понял и согласно кивнул.
— С чего ты взял, что я готов отсюда уехать? — крикнул Финюкин.
— Всех парней Темного тебе все равно не замочить, значит, тебе придется куда-то перебираться. Остаться здесь ты по-всякому не сможешь — не настолько силен.
Последовала долгая пауза, и в тишине мы услышали далекий вой полицейских сирен.
— Ладно, Майкл, согласен. Только помни — ты обещал! Если я вас выпущу, вы дадите мне двадцать четыре часа, чтобы свернуть дела и убраться?
— Можешь на меня положиться, Дермот. Вот и Лучик слово дает! — заорал я и повернулся к Лучику. — Скажи ему, — прошептал я. — Скажи…
— И я даю слово, Дермот! — натужно взвизгнул Лучик.
— О'кей, договорились.
— О'кей, — сказал и я.
— А что теперь? — неуверенно осведомился Финюкин.
— Теперь мы встанем и уйдем, а вы не будете в нас стрелять, — тотчас ответил я.
Краем глаза я заметил, что Скотчи отрицательно качает головой и беззвучно шевелит губами. «Черта с два!» — хотел он сказать. К счастью, ему хватило ума не произносить это вслух.
— Ладно, валяйте, — снова крикнул Дермот.
— Значит, мы сейчас тихо и спокойно выйдем, а вы дадите нам сесть в машину и уехать, пока не появились легавые, о'кей?
— О'кей, согласен, — сказал Дермот.
Тут Лучик потянул меня за рукав, и я наклонился к нему:
— Что?
— Ты уверен, что все сработает? — спросил он.
— Думаю, что да.
— Откуда ты знаешь, что нас не замочат, как только мы выйдем из укрытия? — нервно осведомился Лучик.
— Они откроют стрельбу, как только мы встанем. На этом и строится мой план, — сказал я, забирая у Лучика его револьвер.
Лучик побледнел.
Я повернулся к Скотчи и разыграл свою собственную маленькую пантомиму. Я показал ему револьвер Лучика и жестами дал понять, что собираюсь держать оружие так, чтобы можно было быстро выхватить его и открыть огонь. В первые секунды Скотчи смотрел на меня с удивлением, но потом, похоже, понял, что я хотел ему сказать. Повернувшись к Фергалу, он шепнул что-то ему на ухо, но тот отрицательно качал головой до тех пор, пока Скотчи не привел его в чувство, сильно дернув за волосы. То, что я предлагал, в основном повторяло идиотский план Скотчи, но никакого другого выхода у нас, пожалуй, не было. В меня стреляли уже не в первый раз (и, как оказалось, не в последний), поэтому я почти не трусил. Я знал, что сдюжу, лишь бы Скотчи не подвел.
— О'кей, Дермот, не стреляйте. Мы идем! — крикнул я и, обращаясь к Лучику, добавил шепотом: — А ты лучше не высовывайся.
Потом я посмотрел на Скотчи. Он, похоже, сумел справиться со страхом. Хоть он и придурок, но в трудную минуту сделает все, что только в его силах.
Я кивнул.
Скотчи кивнул в ответ.
Он был готов действовать, и черт меня побери, если в этот миг я его не зауважал. От Фергала проку было мало, но Скотчи — тот действительно парень стоящий.
Главная трудность заключалась в том, что с нашими револьверами мы не могли как следует прицелиться, не подставляя себя под пули. Из автомата можно палить наугад, но револьвер дело другое. Я был уверен — и Скотчи, вероятно, мысленно со мной соглашался, — что парни с «Калашниковыми» начнут стрелять, как только увидят нас. Вспышки покажут нам, где они находятся, и тогда мы можем попробовать снять обоих. В стрельбе из револьвера Скотчи был настоящим снайпером, я тоже стрелял неплохо, однако наш успех зависел главным образом от того, насколько хорошо головорезы Дермота умеют обращаться с автоматическим оружием — особенно с таким мощным, как «АК», управляться с которым нелегко даже профессионалу.
Словом, план был достаточно рискованным.
— Ничего не выйдет, — шепнул Лучик.
— Выйдет, — ответил я уверенно.
Потом я снова кивнул Скотчи, он тоже кивнул, и мы начали подниматься. Все дальнейшее произошло очень быстро. Лучик был прав — наш план не сработал.
Как только мы встали, парни Дермота открыли огонь, но они так нервничали и торопились, что не сумели удержать оружие. Стволы автоматов задрались вверх, и в потолке над нашими головами появилось несколько здоровенных дырок. Я прицелился в стрелка, который находился справа, и выпустил подряд три пули. Скотчи взял на себя того, который был слева, выпустив в него весь барабан. Не знаю, как он, но я, кажется, во что-то попал, однако этого оказалось недостаточно. Пули засвистели совсем близко, и нам снова пришлось залечь.
— Ты не попал! — сказал Лучик.
Я покачал головой.
Мы действительно никого не убили, но Фортуна не совсем нас покинула. Один из наших противников был ранен — мы слышали, как он вопит. Потом послышалась ожесточенная перебранка на испанском. Звук полицейских сирен тем временем стал гораздо громче.
— Дермот, ты что, не врубаешься?! Нам всем кранты, понял, ты, урод? Тебе придется нас выпустить! Уходите через черный ход, а мы уйдем через парадный, — заорал я.
— Шлепните их! — завизжал Дермот где-то в глубине зала.
— Давай же, шевели извилинами, ублюдок безмозглый! — внес свою лепту Скотчи.
Я ждал ответа, но спор на испанском продолжался, потом прогремело еще несколько очередей. Скотчи тоже выпустил наугад несколько пуль, положив ствол револьвера на край опрокинутого стола. Стрельба с той стороны продолжалась еще несколько мгновений, потом все стихло.
— Господи, Дермот, неужели тебе еще не ясно, что все мы по уши в дерьме? — снова крикнул я.
Я ждал ответа, но из дальнего конца зала не доносилось ни звука. Тогда я посмотрел на Скотчи, и он пожал плечами.
Потом мы услышали, как хлопнула дверь черного хода, и Скотчи тут же выпрямился.
— Эти ублюдки слиняли, — объявил он.
Дальше пришлось действовать очень быстро. Пока я помогал Лучику подняться, Скотчи, внезапно преисполнившись энергии, ринулся в офис, чтобы до приезда парней в синем забрать наличность и все документы, которые могли иметь отношение к Темному. Я бросился за ним, но, не добежав до дверей, мы увидели Дермота, который лежал на боку, вытянувшись во весь рост в луже собственной крови. Он был мертв. В его теле зияло несколько больших ран от автоматных очередей.
— Как думаешь, это случайность? — спросил я у Скотчи. — Огонь по своим или что-то в этом роде?
Скотчи покачал головой то ли в знак того, что сомневается, то ли потому, что и сам не знал ответа.
Остановившись, я несколько мгновений тупо смотрел на тело, распластавшееся у моих ног. С тех пор, как я начал работать на Темного, это был первый труп, который я увидел. Подошел Фергал и несколько раз щелкнул пальцами перед моим носом.
— Эй, очнись, — сказал он. — Пора сматываться.
Получить замечание от Фергала — это было уже слишком. Я стряхнул с себя оцепенение и поспешил в офис. В коридоре мы увидели кровавый след, тянувшийся к дверям черного хода. Это многое объясняло. По-видимому, наша отчаянная попытка оказалась не совсем безрезультатной: мы ранили одного из парней, после чего они захотели как можно скорее исчезнуть. Дермоту это предложение не понравилось, и он стал возражать, забыв о том, что умные люди стараются не ссориться с людьми, вооруженными автоматами Калашникова. Особенно когда те находятся на расстоянии нескольких шагов…
Полицейские сирены завывали теперь буквально на соседней улице. Нужно было торопиться. В фальшивом посудном шкафчике на стене мы обнаружили миниатюрный сейф. Скотчи, способности которого я иногда недооценивал, уже обыскал ящики стола и теперь выдирал сейф из шкафа.
— Открывать некогда, Брюс, — сказал он мне. — Помоги мне дотащить его до машины.
— Ну его к черту, — сказал я.
— Ты не понимаешь, Брюс. Нельзя оставлять ничего копам. Помоги мне!
— Да он черт-те сколько весит! — возразил я, но все же сунул револьвер в карман и наклонился.
— Согни колени, спину держи прямо, — хладнокровно посоветовал Скотчи, хотя сирены выли уже совсем рядом.
— Помочь? — спросил Фергал.
— Помоги, но сначала посади Лучика в машину, — велел Скотчи.
Фергал убежал, а мы взялись за сейф. Эта сволочь оказалась жутко тяжелой: мы пронесли его футов десять и опять уронили.
— Ну давай же, мать твою! — завопил Скотчи. Мы подняли сейф и дотащили почти до дверей, когда снова появился Фергал.
— Там уже целая толпа, — сообщил он.
Втроем мы вынесли сейф на улицу, и я увидел, что на тротуаре действительно собралось человек двадцать. Здесь были только мужчины, некоторые кричали что-то на испанском, но большинство хранило молчание.
— Открой багажник! — велел я Фергалу. Энди за рулем то прибавлял, то убавлял обороты двигателя, работавшего на холостом ходу, и я понял, что он здорово нервничает. Быть может, даже наложил в штаны. Фергал тем временем совладал с замком и открыл багажник. Мы зашвырнули проклятую железяку внутрь и прыгнули в салон — Скотчи впереди, остальные сзади.
— Все на месте? — спросил Энди.
— Все, все, поехали, идиот чертов! — взревел Скотчи.
Несколько человек из числа зрителей захлопали в ладоши, а один парень, подойдя совсем близко, посоветовал нам развернуться и ехать в сторону противоположную той, откуда приближались легавые. Он же разогнал толпу и подсказал, как лучше добраться до набережной. Я не сомневался, что, когда копы приедут, он направит их в другую сторону. Повезло.
Все было бы хорошо, если бы Энди, запаниковав, не запутался в переплетении улиц и не вырулил на Вестсайдский хайвей, по которому мы доехали почти до самого моста Джорджа Вашингтона. Только там он взял себя в руки и свернул на восток, в Инвуд. Там мы остановились и уложили сейф так, чтобы можно было закрыть крышку багажника как следует. Потом Скотчи, Фергал и Лучик сели в поезд, чтобы сбить со следа полицию, которая могла разыскивать автомобиль с пятью мужчинами в салоне. Мне пришлось остаться с Энди, так как рана на руке еще кровила. Кроме меня никто больше не пострадал (если, конечно, не считать Дермота и одного из его парней).
Энди, как выяснилось, еще не окончательно пришел в себя, и пока мы ехали, мы могли попасть в аварию раз пять, а то и больше.
— Вообще-то у нас в Америке правостороннее движение, — заметил я, когда, поворачивая на перекрестке налево, он выехал на левую сторону улицы.
— Знаю. Живу здесь подольше тебя, — огрызнулся Энди.
— Может быть, но я в коме не валялся и половину мозгов не растерял.
— Как и я, — сердито сказал Энди.
— Вот это верно, дружище, потому что если ноль разделить пополам, все равно будет ноль.
— Слушай, заткнись, ты мне на нервы действуешь! — прошипел Энди, начиная закипать.
Но моя уловка сработала. Мне удалось его отвлечь, и оставшуюся часть пути Энди злился на меня, напрочь забыв о стычке в баре.
Мы переехали через мост и двинулись по Бродвею, торопясь покинуть опасную часть Манхэттена. Вскоре мы уже благополучно сидели в «Четырех провинциях». В паб мы вернулись еще до того, как Пат услышал по полицейскому радио первые сообщения о перестрелке.
Меня разбудила боль в раненой руке. Ее забинтовала мне миссис Каллагэн, поскольку долбаная Бриджит Найтингейл уехала с долбаным Темным в какое-то долбаное заведение на Лонг-Айленде. С Бриджит мы, таким образом, не виделись уже несколько дней, и я невольно спрашивал себя, охладела ли она ко мне или, может быть, Темный вдруг окружил ее заботой.
Заковыристая задачка.
Вечеринку, посвященную возвращению Энди из больницы, решено было отложить, так как люди, в которых только что стреляли из автоматов, обычно не склонны веселиться. Перенесли ее на вечер следующего дня.
Накануне я уехал домой на поезде. Войдя в квартиру, я сразу завалился на диван и проспал несколько часов. Сейчас я проснулся — болела рука, к тому же я чувствовал себя — словно в грязи вывалялся. Стрелять в людей, чтобы заработать на кусок хлеба, — такой работенки и врагу не пожелаешь. Да и вообще, что у меня за жизнь? Это же смех сквозь слезы! В конце концов, мне уже не четырнадцать, мне скоро двадцать. Через пару недель, если точнее. Может быть, пора перевернуть страницу и начать все с чистого листа. Интересно, отработал ли я уже стоимость своего авиабилета или еще нет? Но куда мне возвращаться? Что ждет меня на родине? Ничего. Ровным счетом ничего, кроме вечного дождя.
День уже склонялся к вечеру, поэтому я набрал номер и, подражая акценту уроженцев джерсийского побережья, сказал в трубку:
— Позовите, пожалуйста, Бриджит.
— Одну минуточку, — сказала миссис Пат Каллагэн.
Последовала долгая пауза, потом я услышал знакомый голос:
— Да?
— Я не видел тебя целую вечность! — сказал я.
— Я не могла. У меня было очень много дел, но я… Не думай, что я забыла о тебе, — ответила Бриджит.
— Хотелось бы верить.
— Но это правда. Слушай, Май… В общем, мне сейчас не очень удобно разговаривать. Я перезвоню тебе, о'кей?
— О'кей.
Она повесила трубку.
Секунд тридцать я сидел неподвижно и смотрел на телефон.
Потом я разделся и отправился в душ.
Ощущение грязи на коже было почти физическим. Я намыливался, тер себя мочалкой, снова намыливался. Потом я включил душ и сел на дно ванны, чтобы вода окатывала меня с ног до головы. Минуту или две я стучал кулаком по дну ванны и бессильно матерился. Потом я вспомнил, что я сказал Лучику насчет своего ци, и начал ржать. Наконец я вымыл голову и вышел из ванной. От голода у меня буквально сводило живот, и я решил выйти и съесть что-нибудь китайское. На улице было довольно жарко, поэтому я надел только шорты, хлопчатобумажную футболку и армейские ботинки для хождения по пустыне. Револьвер Лучика так и остался у меня, а я был уверен, что выпущенные из него пули калибра.38 уже находятся в криминалистической лаборатории и какой-нибудь очкастый умник рассматривает их в микроскоп. От револьвера следовало срочно избавиться. Я тщательно протер его носовым платком, вымыл и завернул в пластиковый пакет. Потом я достал свой рюкзак, положил револьвер внутрь вместе с книжкой и бутылкой минеральной воды, и вышел из квартиры. Дырявая батарея парового отопления в парадном продолжала сифонить, и мне пришлось лавировать между струйками горячего пара, чтобы добраться до двери. На улице я надел солнечные очки, бейсболку «Янки» и повернул направо в направлении Амстердам-авеню.
На углу возле нашего дома стоял большой мусорный контейнер. Кроме меня на улице никого не было, поэтому я вынул из рюкзака сверток с револьвером и бросил в мусорку. Ничего лучшего мне просто не пришло в голову, к тому же я был уверен, что кто бы из соседей ни нашел револьвер, он, скорее всего, оставит его у себя, а не потащит в полицию.
Потом я прошел мимо муниципального жилого комплекса, пересек 125-ю улицу и нажал звонок у дверей китайского ресторанчика.
Саймон впустил меня внутрь.
Для начала я рассказал ему, что на прошлой неделе, проходя мимо, я помахал ему рукой, но, как я подумал, он меня не видел, — обстоятельство, впрочем, не помешавшее ему извиниться передо мной за невнимательность.
В ресторане было чисто, на стене висел новый календарь с видами гонконгского залива. Саймон, сидевший за пуленепробиваемым стеклом, тоже выглядел неплохо.
— Сто слусилось твоя рука? — спросил он.
— Порезался, — объяснил я. — Налетел на что-то острое. Болит, сволочь!
— Нада засить рана. Ты ходить враси?
— Нет, — покачал я головой. — Я сам ее забинтовал.
— Ты идить пункта первая помось больниса Син-Люка. Там тебе быстро засить, и никаких вопроси.
— Там, наверное, придется заполнять целую кучу бумажек.
— Мозно назваться фальсивая имя, — посоветовал Саймон с таким видом, словно сам поступал так неоднократно, но, скорее всего, ему кто-то об этом рассказывал, и теперь он решил дать мне хороший совет.
— Спасибо, надо подумать, — вежливо сказал я, хотя прекрасно знал, что никогда не сделаю подобной глупости. Только круглый идиот мог отправиться в пункт первой медицинской помощи с явным огнестрельным ранением, да еще в тот же самый день, когда в городе произошла серьезная перестрелка. Кроме того, я надеялся, что, когда рука заживет, у меня на кисти останется мужественный шрам.
Впрочем, много позднее — дважды преданный, искалеченный физически и морально и вдобавок с пулей калибра 22 в брюхе (думая, что тут-то мне и крышка), — я все-таки сумел побороть сомнения и отправился к одному верному «Син-Люку», а точнее — знакомому греку, который был художником-любителем, записным вруном, а по совместительству доктором.
Но все это было в будущем; сейчас же я мог позволить себе немного покрасоваться.
— Да черт с ним, Саймон, — сказал я. — Рана-то пустяковая, а эти коновалы, того и гляди, по ошибке отхватят всю руку.
Саймон рассмеялся, но я видел, что он старается запомнить слово «коновал», чтобы воспользоваться им при случае.
Я заказал свинину в соусе карри и поджаренный рис, а сам устроился в углу с тремя бульварными газетенками, которые купил по пути. «Таймс» я уже прочел, так что за обедом вполне мог удовлетвориться таблоидами. Обедал я, впрочем, без особого аппетита — просто съел немного свинины с рисом и запил «кокой». Должно быть, на меня сильно действовала жара, а кондиционер над дверью почти не помогал.
— Эй, Саймон, нельзя ли включить эту штуку посильнее? — попросил я, но Саймон не вышел бы из своего пуленепробиваемого укрытия, даже если бы сегодня был День мира во всем мире и его просил об этом сам далай-лама вместе с Папой Римским. В ответ на мою просьбу он только кивнул и продолжил смотреть по своему черно-белому телевизору «Шоу с красками» Боба Росса. Впрочем, роскошный голос Боба помог мне расслабиться.
Прежде чем я успел развернуть газеты, дверь в ресторан снова отворилась, и в зал вошел Фредди, наш местный почтальон. Я знал его довольно хорошо, потому что, когда я приехал в Америку, я обратился к нему насчет устройства в почтовое ведомство, хотя бы на почасовую работу. Из-за разного рода бюрократических штучек это оказалось невозможно, и тогда Фредди помог мне найти работу в баре.
Фредди был крупным негром лет сорока с небольшим; его отличали могучее телосложение (весил он, должно быть, не меньше трехсот фунтов), общительность и почти плакатная жизнерадостность, не изменявшая ему ни при каких обстоятельствах. Даже сегодня он казался веселым и бодрым, хотя при его комплекции жара, несомненно, была для него настоящей мукой.
— Привет, Майкл, — сказал он, пожимая мне руку. — Давненько я тебя не видел.
— Я работал, — сказал я.
— Черт побери, парень, хотел бы я знать, где ты работаешь. Не «У Карла»?
— Нет, Фредди, не «У Карла». Я же тебе говорил… Я работал там всего неделю — мне нужно было как-то перекантоваться, пока я ждал места в Бронксе.
Фредди ухмыльнулся и, заказав яичницу, маринованного цыпленка и блинчики с начинкой, уселся за мой столик. Его почтовая тележка осталась снаружи. Казалось бы, на 125-й улице она не простоит без присмотра и пяти минут, однако еще не было случая, чтобы ее украли.
— Поразительный случай, — сказал Фредди. — Я имею в виду твою работу в том баре… Единственный белый пижон в заведении! Досталось тебе, наверно, а?
— Ну, мне действительно пришлось нелегко, — согласился я. — Но со временем все вошло в колею. Я до сих пор туда заглядываю. Нечасто, правда, но все-таки…
Название «У Карла» носил бар, расположенный восточнее 125-й улицы. Я работал там, пока Скотчи наводил обо мне справки и передавал материалы Лучику для принятия окончательного решения. Бар больше не назывался «У Карла», и я туда теперь и носа не казал, но мне хотелось, чтобы Фредди считал меня крутым завсегдатаем.
Фредди, впрочем, было наплевать, крутой я завсегдатай или не очень. В данный момент его интересовала только еда. Он поглощал ее жадно и увлеченно, что, впрочем, не мешало ему болтать со мной о всякой всячине, главным образом, о спорте. Так мы сидели и разговаривали, пока Фредди не наелся и не сказал, что ему пора идти. Расставаться с ним мне было искренне жаль. От него как будто исходила какая-то добрая сила, и рядом с ним любой человек начинал чувствовать себя увереннее и спокойнее. Забывчивый, ленивый, Фредди вряд ли являл собой идеал почтового служащего, но он был хорошим человеком и к тому же — единственным чернокожим парнем, которого я знал в Нью-Йорке. Спокойный, надежный, он многое знал и во многом разбирался; я, к примеру, был не прочь узнать его мнение кое о чем, но об этом лучше было говорить не при свете дня и не на трезвую голову. Кроме того, после известных событий прошло слишком мало времени, чтобы я мог спокойно их обсуждать.
— Слушай, я, наверное, буду «У Карла» в пятницу вечером. Может, заглянешь? — сказал я, когда Фредди, отдуваясь, поднялся, чтобы уйти.
— Ничего не выйдет. Уж извини. Только в понедельник, а лучше во вторник, — ответил он.
— Ладно, во вторник. Только обязательно, а то я приду, а тебя не будет. Не хочу торчать там как бельмо на глазу.
— Хотел бы я знать, что у тебя на уме, Майкл. Наверное, женщины, а? — спросил Фредди, растянув рот до ушей.
Я кивнул и добавил, что обязательно должен встретиться с ним, но во вторник я уже был в долбаной Мексике и сумел вернуться в Гарлем лишь много позднее.
Я доел свинину, которая была до того напичкана глутаматом натрия, что у меня едва не начались галлюцинации.
Потом я любезно попрощался с Саймоном и, выйдя на улицу, снова надел бейсболку и очки. Как выяснилось, Фредди еще не ушел: он стоял тут же, на углу, и трепался с каким-то костариканцем. Небрежно представив меня своему приятелю, Фредди неожиданно огорошил меня вопросом о том, продолжаю ли я встречаться с той грудастой, рыжеволосой красоткой. Он не назвал имени, но я знал: он мог иметь в виду только Бриджит! Я-то думал, что о наших встречах не знает ни одна живая душа, но если об этом пронюхал гребаный письмоноша, значит, об этом известно и половине города.
Кое-как взяв себя в руки, я сказал Фредди, что никогда не встречался с такой девушкой и что он, верно, обознался.
Поспешив расстаться с обоими, я отправился к остановке надземки, раздумывая, не позвонить ли мне миссис Лопате (я все-таки узнал, что ее зовут Ребеккой). Она говорила, что будет ждать моего звонка, но, подумав еще немного, я решил, что не буду больше с ней встречаться. По крайней мере здесь, в Нью-Йорке, у меня должна быть только одна девушка — Бриджит. Она принадлежит мне. Она — моя. То, что Темный имеет на нее какие-то виды, меня смущало мало. Я был уверен, что в конце концов он совершит какую-нибудь глупость, например, напьется или ударит ее. Тогда Бриджит прибежит ко мне, и мы улетим далеко-далеко, за океан. Там мы будем в безопасности и…
Но тут подошел поезд, я сел в него и поехал в Бронкс.
Меня довольно сильно смущало то обстоятельство, что теперь я был замешан в убийстве. Как ни крути, а мы все же были причастны к тому, что Дермот отправился к праотцам, и я был уверен, что последствия не заставят себя ждать. Легавые возьмут след и будут искать меня, методично обходя один дом за другим и врываясь в квартиры. Неумолимо, безжалостно… Так, во всяком случае, бывало в кино. В реальной жизни, впрочем, на смерть Дермота Финюкина мало кто обратил внимание. Еще один труп погоды явно не делал, во всяком случае — в Нью-Йорке. Мертвецом больше, мертвецом меньше — для огромного города это была просто капля в море. Ну а поскольку набивать Дермота соломой нам было недосуг, то сообщение о перестрелке в баре не попало даже в вечерние новости.
Несмотря на это, я продолжал беспокоиться. Если вы возьмете газеты начала девяностых, то увидите, сколько там статей и прочих материалов, посвященных масштабам организованной преступности в Нью-Йорке. С всесильной мафией боролись больше трехсот агентов ФБР, поэтому среднестатистический читатель пребывал в уверенности, что все итальянские лавочки в округе оборудованы подслушивающими устройствами и скрытыми камерами и что каждый второй продавец, жонглирующий тестом в ближайшей пиццерии, — долбаный федеральный агент. По телевизору выступали с разоблачениями многочисленные осведомители и стукачи, шли бесконечные репортажи о бесконечных судебных процессах. Генеральный прокурор (впоследствии — мэр) Джулиани подробно рассказывал, как еще он «вставил» преступным кланам. Разумеется, прокурор действовал не один. Вместе с ним не покладая рук работали полиция, ФБР, парни из казначейства, шерифская служба, налоговики и даже Канадская королевская конная полиция, поэтому на первый взгляд может показаться, будто в те времена прокручивать какие-то сомнительные делишки, как делали это мистер Даффи и Темный, было невозможно. Но это не так.
И даже совсем не так.
Спору нет, деятельность нью-йоркской мафии начала девяностых производит сильное впечатление, но общая картина отнюдь не ограничивалась историей ее заката, крушения и последовавшего самороспуска. Нет, общая картина преступности включала и совершенные в состоянии наркотического опьянения убийства, которые происходили в Гарлеме, Южном Бронксе и Бед-Стае практически каждую ночь, а также тех, кто поспешил заполнить вакуум, образовавшийся после ухода всесильной мафии со сцены.
Верно и то, что к северу от 110-й улицы всегда действовали свои, особые правила и законы. Лично мне всегда казалось, что властям нет абсолютно никакого дела до того, что там происходит. За все время, что я прожил в Гарлеме и на Вашингтон-Хайтс, я ни разу не сталкивался ни с федеральными агентами, ни с наркополицейскими, ни с обычными оперативниками.
Впрочем, если бы федералы вздумали навести в этих районах хотя бы видимость порядка, из этого вряд ли бы что-нибудь вышло. Вот хотя бы Темный… Он был очень осторожен и хитер, я бы сказал — дьявольски хитер, и взять его с поличным было невероятно сложной задачей. Начать с того, что занимался он почти исключительно недавними иммигрантами из Ирландии — несчастными нелегалами, которые бежали от тридцатипроцентной безработицы и гражданской войны у себя на родине и селились в Ривердейле и на Вашингтон-Хайтс, а кое-кто даже и в Бронксе, исчисляясь в этих местах уже десятками тысяч. Эти молодые мужчины и женщины готовы были безропотно сносить многое, лишь бы не привлечь к себе внимания полиции и официальных лиц. Конечно, Нью-Йорк — не Бостон и не Сан-Франциско, но если вы возьмете статистику Службы иммиграции и натурализации, относящуюся к концу восьмидесятых, и умножите количество официально въехавших в страну ирландцев минимум на десять, то вы поймете, о чем я говорю.
Разумеется, наши соотечественники заселяли не только верхнюю часть города. В Квинсе их особенно привлекал Вудсайд; существовали также такие места, как Адская Кухня и Верхний Ист-Сайд, но эту территорию контролировал кто-то другой. Не Темный — это я знал точно, а вот за мистера Даффи не поручусь. Впрочем, все это я рассказываю только затем, чтобы вы поняли, что, несмотря на все усилия ФБР, мэра Динкинса и полиции, мистер Даффи и Темный чувствовали себя абсолютно спокойно. Тем более и мне не стоило беспокоиться, что копы станут меня разыскивать. Для них я был мелочь, я был ничто, к тому же я находился под надежной защитой. Тот же Темный наверняка не только успешно водил полицию за нос, но и подкармливал кое-кого из легавых, поэтому я мог не трепыхаться. Впрочем, практической стороной безусловно ведал Лучик, пока наш обожаемый Темный с увлечением занимался более приятными делами. Никаких трений с законом у него не было; потенциальные конкуренты успешно уничтожали друг друга; ирландцы продолжали прибывать. У него была девушка, была своя команда, свой ангел-хранитель (хотя для ангела Лучик был, пожалуй, слишком костляв), и если бы не его обрюзгшее, чуть рябоватое лицо, ему можно было бы только позавидовать. Да и мне тоже… Когда вечером того же дня я сидел в баре «Четырех провинций» и, обливаясь потом, глотал отвратительный лагер, я не мог не признать, что никаких оснований для беспокойства у меня нет и что я напрасно так волнуюсь из-за утренних событий и так жалею себя. На самом деле все о'кей, и я зря кисну: дела идут хорошо, и в обозримом будущем положение вряд ли изменится. Темный загребает хорошие деньги, от которых и нам кое-что перепадает, так что вскоре всем нам предстоит кататься как сыр в масле. Не исключено, что через год или два каждый из нас сумеет скопить достаточную сумму, чтобы уйти из бизнеса. Быть может, денег хватит даже на то, чтобы поступить в университет или открыть собственный бар — это уж кому что нравится.
Этим, вероятно, все бы и кончилось, если бы как раз в это время Темный не начал осуществлять еще один план, о котором знали только трое членов нашей организации, но увы — не я и не Скотчи.
Но будущее — это будущее, а в настоящем я продолжал переживать по поводу смерти жалкого придурка Дермота, разбавляя свое сожаление абстрактными размышлениями об организованной преступности и расистской сущности стратегического курса, избранного полицией Нью-Йорка.
— У тебя озабоченный вид, — сказал Энди.
— Правда?
— Да.
— Вот как…
— О чем ты думаешь?
— О том, как нам повезло, что мы действуем в северной части города. В каком-нибудь другом районе легавые давно бы сели нам на хвост.
— Это верно.
— Ты смотрел фильм «За 110-й улицей»? — спросил я.
— Нет.
— Я тоже не смотрел, но я готов поспорить, что в нем не только правдиво рассказывается об организованной преступности, но и отражена расистская сущность стратегического курса, которого придерживается нью-йоркская полиция. Легавым наплевать на то, что здесь происходит, просто наплевать!
Энди слегка наклонил голову.
— Что сегодня с тобой? — спросил он. — Или может быть, ты хочешь, чтобы тебя сцапали?
— Ничего такого я не хочу.
— Ну и слава богу!
— Ладно, забудь. И извини, что я такое подумал. Непростительная ошибка с моей стороны. Я забыл, с кем разговариваю.
У Энди обиженно вытянулось лицо.
— Я просто пошутил, — быстро сказал я. — Не сердись, ладно? Скажи лучше, паренек, как ты себя чувствуешь?
Энди начал рассказывать, как он себя чувствует, а я сидел и, как мог, поддерживал беседу, впопад и невпопад кивая головой, чтобы он думал, будто вся эта чушь меня действительно интересует. Так оно и шло: я вздыхал, ковырял в ухе и прихлебывал пиво, пока Энди разливался соловьем, и никто из нас не знал, что меньше чем через десять минут Скотчи спустится по лестнице и разом вышибет все мои заботы о легавых, о Нью-Йорке и о прочих обстоятельствах моей теперешней жизни не только у меня из головы, но и вообще откуда бы то ни было.
Да, решающий момент близится. Наверное, мне следовало бы присутствовать на сегодняшнем гребаном совещании, чтобы выразить свой протест прямо в лицо Темному, но я не присутствовал, потому что приехал в «Четыре провинции» слишком поздно.
Собственно говоря, совещание еще продолжалось, но Энди спустился вниз, потому что от табачного дыма его немного тошнило. Он, однако, рассказал мне о том, что я пропустил, и надо признать, новости были достаточно любопытными.
— Полный облом, — сказал Энди и объяснил, что Темный считает нашу утреннюю разборку серьезной неудачей (а почему, собственно? — подумал я), так как Дермот погиб, а в дело вмешались копы. Еще Темный наорал на Лучика и показал ему, где раки зимуют. Должно быть, наш босс и вправду рассердился, хотя нельзя было исключать, что Энди, по своему обыкновению, преувеличивает.
Подумав об этом, я посмотрел на Энди. Крупный, светловолосый, с каким-то сонным взглядом, он не был круглым идиотом, но я почему-то был уверен, что в Институт перспективных исследований его пригласят очень не скоро. Впрочем, общаться с ним было по большей части приятно, и я подумал, что он не заслужил того, что с ним случилось. Кого следовало бы избить, так это Скотчи; может быть, и Фергала тоже, но никак не Энди.
— Ну-ка, поверни голову, — сказал я.
Он послушно повернулся. Кое-где еще сохранились следы синяков, но в целом он выглядел удовлетворительно.
— Неплохо выглядишь, недоносок, — сказал я. — Хочешь кружечку? Я угощаю.
— Хочу.
Я отправился к бару и купил ему пинту «Гиннесса». Себе я взял бутылку «Ньюкасл браун».
— Ты видел Бриджит? — спросил я, вернувшись к столику.
— Да. Она рассказала мне один анекдот.
— О попугаях? — уточнил я.
— Ага. Смешной, правда?
— А где она сейчас? — спросил я.
— По-моему, она уехала с Темным. Они собирались в оперу или еще куда-то, — ответил Энди.
— Уже отправились?
Он кивнул:
— Бриджит говорила, что хочет сменить имя.
— Что-что?!
— Да, на Бриджид. Произносится почти так же, но пишется на ирландский манер. Святая Бриджид считается покровительницей Ирландии, ну как Патрик. Бриджит сказала, что раньше она была богиней земли, матерью Эйр, но ранние христиане…
— Первый раз об этом слышу, — перебил я.
— Ах да, ты ведь не в курсе, Мики, — сказал Энди. Тут его разум совершил внезапный скачок, и он заговорил о другом: — Сегодня утром было горячо, доложу я тебе. Господи, я чуть не обделался. Честно тебе говорю: еще немного — и я бы наложил в штаны. Я ведь ничего не знал! Не знал, что у вас там происходит, понимаешь? Я только сидел, гонял движок и ждал, что вот-вот появятся фараоны. А вся эта толпа… Можно было подумать, что тут карнавал, бесплатное представление или что-нибудь в этом роде. И кругом только испанская речь. Я немного знаю этот язык, но они говорили слишком быстро, и я ничего не понял. Господи, Майкл, я серьезно говорю — я в жизни так не боялся! Я сидел, и меня трясло, просто трясло, представляешь? А вот ты не сдрейфил. Ты вообще ничего себе парень, хладнокровный. Этот твой план, когда вы со Скотчи вскочили и начали стрелять — это было здорово!
— Но у нас же ничего не вышло.
— Почему не вышло? Ведь ублюдка Финюкина-то вы пришили.
— Его пришил кто-то из своих, — сказал я.
— Ну, Лучик-то подал это совершенно иначе. По его выходит, что все сделали вы двое: ты и Скотчи. Это было круто, Майкл. Улет. И как вы только не боялись, что вас застрелят, тебя и его?! А я-то ничего не знал, просто сидел в машине и ждал. Впрочем, некоторые считают, что это самое трудное. Ждать — я имею в виду. Вы-то, по крайней мере, были чем-то заняты, хотя… уже небось к встрече с творцом готовились, а? Скажи, Майкл, а это точно «Гиннесс»? Вкус какой-то необычный. Да, кстати, я слышал, как ты отделал Лопату… Спасибо тебе. Огромное спасибо.
— Не стоит благодарности, — сказал я. Мне хотелось сменить тему, но ничего подходящего не приходило в голову, и Энди все сыпал и сыпал:
— А потом, я ведь только что вышел из больницы. Согласись, что для человека, который только что вышел из больницы, это было нешуточное дельце.
— Нешуточное, — согласился я.
— Ты действительно так думаешь? — спросил Энди взволнованно.
— Еще бы, — подтвердил я. — Ну а сейчас-то ты в порядке, паренек?
— Все о'кей, — сказал Энди и кивнул. — Меня могли выписать еще вчера, но врачи захотели подстраховаться.
— Ну а какие там были сиделочки? — спросил я и подмигнул. — Симпатичные?
— Не особенно. Впрочем, была там одна девчонка, с Ямайки, что ли… Я было решил, что дело выгорит, но она просто любезничала.
— Ну хоть телефончик-то ты у нее взял? — не отставал я.
— Нет, ни телефона, ни адреса. Слушай, Майкл, хочешь конфетку? — спросил он.
— Не откажусь. А это, случайно, не подарок?
— Премия за хорошую работу, — сказал Энди и ухмыльнулся.
Я позволил ему сходить за очередной пинтой пива и конфетами, за которые я авансом внес свои пять баксов, так что теперь вправе был рассчитывать на самое высокое качество. Иначе я, честное слово, устроил бы скандал.
Вскоре Энди вернулся. Из-за жары я перешел на лагер. На редкость скверное пойло, но шло оно куда легче «Гиннесса».
— А чем ты занимался потом? — спросил Энди, ставя передо мной кружку.
Я выбрал батончик с орехами, пару карамелек и нугу. И сунул их в рот разом.
— Что-что? — переспросил я.
— Что ты делал после этой заварушки?
— Ничего. Спал.
— Я бы так не смог, — покачал головой Энди. — Неужели ты правда спал?
— Точно тебе говорю: я поехал домой и завалился спать.
— Ну ты даешь! Я же говорю — спокойствия тебе не занимать!
— Спасибо.
— Нет, серьезно. На меня-то колотун напал. Знаешь, как меня трясло? Ты-то небось действовал на автопилоте, а я сидел и дрожал как заяц. А потом мне еще пришлось вести машину, это тоже было нечто… Кстати, как твоя рука? Скотчи сказал, тебя по глупости под пулю угораздило.
— Скотчи так сказал?
— Ну да, когда докладывал мистеру Уайту. Еще до того, как начался облом. Сначала он слушал спокойно, мистер Уайт то есть, ну а потом не выдержал. Слышал бы ты, как он орал на Скотчи…
— Что Скотчи говорил обо мне конкретно? — перебил я.
— Да в общем-то ничего особенного. Что-то насчет того, что Брюс, мол, специально полез под пули, чтобы заработать шрам, которым можно будет хвастаться перед девчонками, но я думаю, это он шутил. Точно — шутил.
— Ну что за сволочь этот Скотчи! — пробормотал я сквозь зубы. — Я был единственным, кто пытался хоть что-то сделать, пока он валялся на полу и думал, как бы не обделаться.
В этот момент на верху лестницы появился Лучик. Я кивнул ему в знак приветствия, и он сразу подошел ко мне. Лучик улыбался. Остатки его волос были подстрижены, вымыты и уложены особым образом, чтобы замаскировать плешь. Должно быть, подумал я, ему пришлось как следует постараться, чтобы привести себя в порядок после утренней заварушки. Впрочем, разнос, который устроил Лучику Темный, того, похоже, ни в малейшей степени не беспокоил, и я невольно задался вопросом, уж не обвел ли меня Энди вокруг пальца.
— Привет, Майкл, мне нужно с тобой поговорить, — сказал Лучик.
— Валяй, говори, — ответил я.
— Пойдем-ка лучше вон туда, — предложил он и подвел меня к стойке бара. — Это тебе, — сказал Лучик, вручая мне конверт.
Мне очень хотелось казаться невозмутимым, но я не сумел совладать с любопытством и открыл конверт. Там оказалось десять пятидесятидолларовых банкнот — почти вдвое больше, чем я зарабатывал в неделю (за вычетом налогов Темного).
— Это за что? — спросил я.
— За сегодняшнее утро. Если бы ты не попытался заговорить зубы этому ублюдку, нас всех бы арестовали. Или еще хуже — завалили. К счастью, тебе удалось убедить… нет, не его, а парней, которых он нанял, но этого оказалось достаточно. Словом, сегодня ты спас мою задницу, Майкл.
— Наши задницы.
— Да, наши.
— Что ж, спасибо, — сказал я.
— Здесь вообще-то немного…
— И тем не менее.
— Об операции докладывал Скотчи, но я рассказал Темному, что сделал ты, — многозначительно добавил Лучик.
— Да, я знаю. Энди тоже рассказал мне кое-что, — довольно злобно отозвался я.
— Но я постарался, чтобы Темный знал, как все было на самом деле, — прошептал Лучик и посмотрел на меня. Отчего-то в эти мгновения он мне показался каким-то странным, словно он все еще был немного не в себе. Что ж, немудрено после всего, что Лучик пережил утром. Зато теперь, подумалось мне, он не скоро отправится на операцию без тщательнейшей подготовки.
Я вдохнул идущий от его волос запах кондиционера и сказал:
— Хорошо, что ты замолвил за меня словечко. Спасибо тебе.
— Знаешь, Майкл, на самом деле мы с тобой очень похожи, и, сдается мне, тебя здесь недооценивают. Но пусть тебя это не беспокоит. Я-то знаю, что ты сделал сегодня для всех нас. В общем, можешь потратить эти деньги на удовольствия, ты это заслужил.
— Спасибо, — сказал я в третий или четвертый раз. — Пожалуй, так я и поступлю.
— Не стоит благодарности, Майкл. Право слово — не стоит.
— О'кей.
Мне казалось, что Лучик хочет сказать что-то еще, но он только кивнул и начал было подниматься обратно наверх. Я припустил за ним бегом.
— Еще одно, Лучик… Твою пушку мне пришлось выбросить. Как насчет того, чтобы вернуть мне мой револьвер?
Он посмотрел на меня и улыбнулся с таким видом, словно я проявил неслыханную предусмотрительность.
— Правильно, Майкл. Хорошо, что ты об этом подумал, — мне это и в голову не пришло. Разумеется, я верну тебе твою игрушку. А может, достать тебе что-то посерьезнее?
— Нет, не надо. Мне хватит и моей старой пукалки. Вряд ли мы когда-нибудь попадем в такую же серьезную переделку.
— Никогда не попадем, — твердо сказал Лучик.
— Вот и хорошо.
Он опять стал подниматься по ступенькам, но на полпути остановился и вернулся ко мне.
— Что бы ни случилось, Майкл, — сказал он, глядя мне в глаза, — я хочу, чтобы ты знал, что я… что я действительно тебе благодарен. И что я очень сожалею… Еще раз спасибо.
Сказав это, он поднялся на второй этаж и скрылся из виду.
«Странно!» — подумал я, проводив его взглядом.
Потом я спрятал конверт с деньгами во внутренний карман куртки и возвратился к Энди.
— Ну, что тебе сказал Лучик? — спросил он. — Чего он хотел?
— Да так, ничего особенного. Он, гм-м… отругал меня за опоздание. Не сильно, но не хотелось делать это в твоем присутствии, ставить меня в неловкое положение. Довольно тактично с его стороны, не находишь?
— Да, с ним это бывает, — согласился Энди.
— Угу
— А ты обратил внимание, как он выглядит? По-моему, он даже маникюр сделал, вроде как педик.
— Должен сказать, Энди, — строго заметил я, — что мне не нравится твоя гомофобия.
— Моя гомо… мого… Чего это? — переспросил Энди. Он явно слышал это слово в первый раз.
— Большинство великих военачальников были гомосексуалистами или, в крайнем случае, бисексуалами. Александр Македонский, Цезарь, Октавиан, герцог Мальборо и многие, многие другие… — сказал я, напустив на себя устало-искушенный вид.
— Что-то я тебя не пойму, — покачал головой Энди. — Уж не хочешь ли ты сказать, что наш Лучик — гей?
— Нет, не думаю. Кто-то из наших — не помню кто — говорил, что у него есть девушка, но дело не в этом. Ты меня просто не понял, Энди. Я хотел сказать…
— А может, ты думаешь, что и я тоже гребаный гомик?! — перебил Энди, но прежде чем я успел что-то ответить, на верхних ступеньках лестницы появились Фергал и Скотчи. Ухмыляясь как вестники смерти, оба прямиком направились к стойке, а потом подошли к нам с пивом и виски.
— Ну, давайте разбирайте ваш «Бушмиллз», — велел Скотчи, садясь за наш столик и протягивая нам стаканы.
Мы послушно разобрали стаканы, и Скотчи набрал в грудь побольше воздуха, явно готовясь произнести длинный тост.
— Поднимите стаканы повыше, джентльмены, и слушайте, что я хочу сказать. В благодарность за хорошую работу и годы верной службы — в твоем случае, Брюс, за год без малого, а также в качестве особой компенсации за то, что сегодня нам пришлось заглянуть в глаза смерти и столкнуться с силами закона и правопорядка, нам поручается выгодный заказ. Да что я говорю — это даже не заказ, а гребаная конфетка, да! Выпьем!
Мы выпили. Скотчи смотрел на нас, расплываясь в улыбке. Потом он снова наполнил наши стаканы и подмигнул. Я не собирался доставлять ему удовольствие и расспрашивать о подробностях, но Энди не выдержал.
— И что же это за заказ? — выпалил он вне себя от любопытства.
— Энди, мальчик мой, тебе очень повезло, что ты успел выписаться из больницы, потому что нам с тобой, а также юному Фергалу и даже Брюсу (и, к сожалению, Большому Бобу тоже) предстоит в самое ближайшее время пересечь южную границу и отправиться в благодатный и солнечный край, который иногда называют долбаной Мексиканской республикой.
— Мексиканской республикой? — тупо переспросил Энди.
— Именно так, мой юный друг. Мы едем в Мексику! Девчонки, текила, пляжи, музыка, снова девчонки — там есть все, что душе угодно. Солнце, песок, роскошные гостиницы… Пьем за Мексику, ребята! — проревел Скотчи.
Я поднес стакан к губам, но не смог сделать ни глотка.
Иногда — очень редко — будущее отбрасывает свою тень на настоящее, и тогда нам удается предвидеть… нет, только почувствовать, что ждет нас впереди. Как я уже сказал, такое случается очень редко, но все-таки случается, и тогда ты ощущаешь, как по коже бегут мурашки, а кончики пальцев ни с того ни с сего начинает покалывать. В принстонском институте, куда Энди вряд ли когда-нибудь пригласят, создали целую теорию, согласно которой все события происходят на квантовом уровне, и отбрасываемый ими световой конус распространяется вдоль временной оси и вперед, и назад. И тогда, если вы достаточно чувствительны или каким-то образом настроены на восприятие, вы ловите сигнал. Так получилось и в этот раз. Не успел Скотчи закончить свою речь, как на меня вдруг словно пахнуло студеным байкальским ветром, и я застыл, пытаясь разобраться в том, что я почувствовал.
Скотчи толкнул меня локтем:
— Пей!
Я посмотрел на него и, проигнорировав послание из будущего, выпил.
— Кто-то прошел по моей могиле… — пробормотал я.
— Ну и хрен с ним.
— А все-таки, что нам нужно делать? — спросил я.
— Да почти ничего. Работа пустяковая, Брюс, не волнуйся. Забудь о ней. Думай лучше о золотом песочке на берегу Карибского моря, где ты будешь гулять с очаровательными сеньоритами, и об отдельной комнатке на шикарной вилле, куда ты сможешь их водить. Думай о выпивке, о хал явной жрачке, о купании в теплом море и о девицах, которых у тебя будут десятки — только выбирай. Главное, не забудь, что все это устроил для тебя дядя Скотчи…
— И когда нам надо ехать? — спросил Энди.
— Мы уезжаем в субботу, — возбужденно сказал Фергал.
Энди застонал:
— А если у меня паспорт не в порядке?
— Тогда ты никуда не поедешь, — отрезал Скотчи.
Энди мрачно посмотрел на нас.
— Я не уверен, что мне разрешат выехать из страны, пока я не получу статус иммигранта, — пробормотал он.
Энди был настолько глуп, что решил получить иммигрантский статус официальным путем. Все остальные доверили это дело Лучику, который добыл и нам вполне легальные визы и разрешения на работу.
— Вот и хорошо. Нам больше и девок и выпивки достанется, — поддел его Фергал.
Бедняга Энди чуть не плакал от огорчения. Его можно было понять: сначала его избили, потом заставили ждать в машине, а теперь еще это…
— Ну ладно, Энди, не расстраивайся. Ты тоже поедешь. Лучик с этим разберется, правда, Скотчи? — сказал я, бросив на Скотчи многозначительный взгляд.
— Да-да, Энди, успокойся. Мы просто шутили. Конечно ты поедешь. Куда мы без тебя? Разве можем мы обойтись без нашего паренька? — поспешно сказал Скотчи.
Энди повернулся ко мне.
— Думаешь, получится? — спросил он.
— Думаю — да, Энди, — ответил я, и он улыбнулся.
Мы переглянулись и вдруг начали хохотать. Наконец-то мы уезжали из города, уезжали от надоевшей рутины. Да здравствует Мексика! Мы смеялись и смеялись, так что на глазах у нас даже выступили слезы. Все складывалось крайне удачно. Владевшее нами напряжение понемногу отпускало; мы успокоились, начали пить и болтать о разных пустяках. Нашей радости не омрачило даже появление Большого Боба, которого мы угостили пивом. Все мы и думать забыли о том, что уже очень поздно и Пату, которому не терпелось поскорее отправиться на боковую, пришлось выпроваживать нас буквально силой.
5. Мы летим в Мексику
Нью-Йорк. Ослепительная синева Атлантического океана. Извилистая линия побережья. Леса, поля, города, длинные полосы намытой земли, где когда-то текли реки. Болота. Острова. Отмели. Карибское море. Джунгли.
Самолет идет на посадку.
Мы разместились в особняке, стоявшем на набережной Канкунской лагуны. Большой, чисто выбеленный, он был окружен кольцом пальм. Под балконом веранды располагался небольшой плавательный бассейн. В бассейне плавали сухие листья, но их было не так уж много. По моим подсчетам, предыдущие обитатели особняка съехали не больше недели назад. Просторные, светлые спальни на втором этаже были украшены акварелями с изображениями красоток в национальных костюмах. Большие деревянные кровати были с перинами.
Выбрав себе комнату, я сразу улегся на кровать и закрыл глаза. Снаружи доносилось щебетание птиц и звон колокола, а если напрячь воображение, то можно было расслышать и шум прибоя. Проспав час или полтора, я встал и принял душ. Ребята расслаблялись внизу у бассейна, передавая друг другу бутылку рома. Только Скотчи, которому не терпелось попасть в город, был уже одет и поторапливал остальных.
Пока парни собирались, я читал книгу Бернала Диаса о завоевании Мексики. Это было дешевое пингвиновское издание в мягкой обложке, но для самолета она подходила как нельзя лучше. В ней речь шла о том, как в Новый Свет прибыл Кортес и как испанцы начали подготовку к своему великому завоевательному походу. Если верить Диасу, они подошли к Канкуну и высадились на ближайшем островке под названием Исла-Мухерес. (Тут я вышел на балкон, чтобы проверить, виден ли оттуда океан, и если да, то какие там есть острова, но мне мешали кроны высоких деревьев.) Ну да бог с ними, с островами… Парни были уже готовы, и я быстро переоделся и плеснул в лицо холодной воды.
После небольшого замешательства мы все же сумели вызвать по телефону такси и отправились в ресторан, который рекомендовал нам Лучик, хотя, откуда он о нем знал, оставалось загадкой.
Ресторан находился недалеко от нашего особняка. В нем подавали индейские и мексиканские блюда, которые объединяло то, что все они были с лаймом и все — острые. Еда была превосходной; она нам очень понравилась, и только Фергал, который положил на тарелку столько соуса чили, что не мог проглотить ни кусочка, остался недоволен. Обед каждый из нас запил упаковкой пива «Корона», после которого мы заказали еще по порции текилы.
Следующим пунктом нашей программы был ночной клуб, поэтому мы сели в автобус и поехали в курортную зону. Скотчи заплатил за вход, и мы оказались внутри. Я все еще чувствовал себя слишком усталым, чтобы танцевать или пить, поэтому я сразу забился в тихий, укромный уголок. Музыка, которую здесь крутили, была модной лет десять назад. Диско-шлягеры сменялись композициями в стиле нового романтизма, а одну песню восемьдесят первого года в исполнении Дэвида Боуи диск-жокей пускал каждые десять минут, словно это был золотой хит прошедшей недели. Играй музыка немного потише, я бы, наверное, снова задремал над своим коктейлем, но это оказалось невозможным. Впрочем, мне и так было неплохо. Вытянувшись в своем мягком кресле, я потягивал коктейль и наблюдал за тем, как ребята выламываются. Некоторое время спустя ко мне подошел Скотчи, и я сделал ему выговор по поводу одеколона, которым он, казалось, облился с головы до ног. Это была редкостная дрянь; попади она в дикую природу, и Рэчел Карсон[25] залилась бы горючими слезами. Скотчи, разумеется, не знал, кто такая Рэчел Карсон, поэтому он назвал меня «дураком набитым». Мы оба пили «Маргариту», но еще до того, как мы успели надраться до такого состояния, чтобы с раскаянием возрыдать друг у друга на груди, к нам присоединился наш паренек Энди. Он познакомился с какой-то девицей и хотел спросить у нас совета. Его подружка была вертлявой мулаткой, которая едва ли могла похвастать безупречной добродетелью, но мы со Скотчи сошлись во мнении, что это, пожалуй, к лучшему.
Я посоветовал Энди не говорить ничего конкретного, а отделываться таинственными недомолвками и многозначительными намеками — чем многозначительнее, тем лучше. Скотчи порекомендовал узнать, нет ли у нее ирландских корней. Какую тактику применил Энди, мы так и не узнали, но, по всей видимости, она была успешной, поскольку вскоре он уже тискал красотку в уголке.
Я тем временем попытался вызнать у Скотчи, чем конкретно нам предстоит заниматься, но он ответил, что это должно оставаться в тайне до завтра. Учитывая, что Скотчи был редкостным треплом, это, наверное, и в самом деле был очень важный секрет, поэтому я не стал слишком на него давить.
Ближе к полуночи зал начал наполняться посетителями, а музыка стала чуть поживее. Появилось и несколько американских туристов. Большой Боб, уже некоторое время жаловавшийся на то, что у него болит живот, решил пойти домой, но мы были этому только рады. У Скотчи, направившегося было к группе юных девушек, тоже началось что-то вроде судорог: он как-то странно дергался, но поскольку при этом его лицо не выражало неудовольствия или страдания, я догадался, что это он просто танцует. Сам я предусмотрительно пересел поближе к туалетам на случай, если и меня, как Большого Боба, настигнет «месть Монтесумы», однако мои опасения оказались напрасны. Я чувствовал себя отменно. Фергал то и дело приносил мне разноцветные бокалы с торчащими в них бумажными зонтиками, и вскоре у меня открылось «второе дыхание». Окружающее заволоклось приятной золотой дымкой, время понеслось вскачь, и прежде чем я опомнился, я уже оказался в автобусе в обществе блондинки, одетой в коротко обрезанные джинсы и майку с логотипом Канзасского университета. Мы целовались. Девица напоминала Бриджит — она могла быть ее белобрысой, пухленькой младшей сестренкой. В перерывах между поцелуями она принималась болтать о правильном питании. Ей, впрочем, удалось сообщить мне, что балкон ее номера на седьмом этаже отеля выходит на залив, и, поднявшись с ней, я готов был ей поверить, поскольку снаружи все равно было темно, как в угольной яме. Пока я осматривался, она стащила покрывало со своей кровати (одной из трех, стоявших в комнате), вышла на балкон и бросила покрывало прямо на пол. На мой взгляд, это было не слишком разумно, поскольку все вокруг кишело муравьями, однако она объяснила, что только в этом случае нам гарантировано необходимое уединение, потому что скоро должны вернуться ее подруги.
Стоило мне подумать о двух других девушках, которые могут появиться с минуты на минуту, как перед моим мысленным взором возникли довольно любопытные картины, заставившие меня на некоторое время отвлечься от реальной действительности. Девица тем временем сходила в комнату и принесла мне и себе по банке пива. Мы сели и некоторое время любовались ярко освещенными прогулочными яхтами, которые плавно скользили в ночном мраке. Потом я поцеловал подругу и увлек ее на покрывало, но совершенно неожиданно у меня возникли проблемы. Я не встречался с Бриджит, миссис Лопатой и другими девушками уже четыре дня, поэтому кое-кому может показаться странным, что на второй день заграничных каникул здоровый, молодой мужчина оказался не способен адекватно реагировать на близость упругого молодого тела. Однако выпивка, незнакомая девушка, долгий перелет и вполне естественное беспокойство сыграли свою зловещую роль, и мне пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы в решающий момент не оказаться вне игры. К счастью, мои поистине героические усилия увенчались успехом, и я сумел достаточно надолго (для девушки, но не для себя) сосредоточиться на стоящей передо мной задаче. Как бы там ни было, моя новая знакомая стонала и вскрикивала так громко, что весь полуостров имел возможность убедиться — она получила, что хотела. У меня же все сильнее кружилась голова, и только врожденная ирландская вежливость помешала мне поблевать с чужого балкона вниз. В конце концов свежий морской воздух все же подействовал, в голове у меня настолько прояснилось, что я даже спросил, откуда она. Она ответила, и я сказал, что это очень мило, хотя никогда прежде не слыхал о таком городке. Потом она в свою очередь спросила, откуда я. Я сказал — откуда, и тут выяснилось, что целая куча ее родственников живет в графстве Корк. Мы поболтали о достопримечательностях юго-западных районов Ирландии и немного — о «Волшебнике из страны Оз», поскольку это было единственным, что я мог припомнить в связи с Канзасом. Увы, еще разговор с Дэнни-Алкашом обнаружил мое слабое знакомство с фильмом, а она, к несчастью, смотрела его внимательно и имела о нем твердое мнение. Следующие несколько минут девушка объясняла мне, что, несмотря на свою внешность и прочее, она получила правильное воспитание и — как и ее родители — относится к историям о ведьмах, волшебстве и тому подобной чертовщине крайне неодобрительно. На это я возразил, что, насколько я помню, история эта — просто сказка, но она сказала, что это не имеет никакого значения, что ее родители — хорошие люди и добрые христиане и что ее прадедушка даже был присяжным на знаменитом «Обезьяньем процессе».[26] Ни я, ни она точно не знали, что это был за процесс, но я решил, что он был направлен против вивисекции, и поспешил похвалить прадедушку за то, что он исполнил свой гражданский долг.
Мы сидели на балконе еще сколько-то времени и пили пиво. Потом на берегу вспыхнул маяк, и я начал считать вспышки. Пока девица рассказывала что-то о знаменитой футбольной команде Канзасского университета и — опять! — о правильном питании, я прилег на одеяло. Судя по тому, что она говорила, питался я совершенно неправильно, поскольку большинство продуктов, которые я ел, поступали с верхних, а не с нижних этажей пищевой пирамиды, и поэтому вместо пользы приносили один только вред.
Часа в четыре утра пошел дождь, и мы перебрались в спальню, где я был представлен двум другим девушкам, которые, не переставая хихикать, забросали меня вопросами о том, как меня зовут, из какого я колледжа и воспользовался ли я презервативом. Моя партнерша шепнула им, что большую часть времени я был совершенно не способен на что-либо путное… Впрочем, на этом месте я притворился, будто я сплю.
Я и сам не заметил, как заснул по-настоящему. Спал я на полу и с рассветом проснулся.
Одевшись, я потихоньку выскользнул из номера. Я понятия не имел, где нахожусь; хмель еще не выветрился до конца, а мятая одежда делала меня похожим на оборванца. Когда я остановился у какой-то стены, чтобы помочиться, сзади ко мне подъехал полицейский. Думаю, если бы я был местным, он бы забрал меня в участок, но мексиканский коп понял, что перед ним — чертов янки, который к тому же совершенно не рубит по-испански. Если бы он меня арестовал, это могло бы стать самой большой удачей в моей жизни, но он этого не сделал. Вместо этого коп выругался, сплюнул и отъехал, что-то ворча себе под нос.
Когда я проходил под большим мексиканским флагом, какой-то мерзкий мальчишка бросил в меня камнем, угодив точнехонько в затылок. Я погнался за ним, чтобы надрать ему уши, но только заблудился еще больше. Какая-то пожилая супружеская пара, видя, что я пребываю в расстроенных чувствах, попыталась мне помочь, но я даже не мог объяснить, куда мне нужно попасть. В конце концов супруги настояли на том, чтобы пройти со мной хотя бы часть пути до набережной, где стояли самые большие отели, а потом дали мелочи на автобус. Автобус, однако, так и не появился, хотя я ждал его довольно долго. Тогда я снова решил идти пешком и в результате проплутал по Канкуну еще не менее полутора часов. В конце концов я случайно попал на шоссе, ведущее к аэропорту, откуда с помощью метода обратной топографии мне удалось сравнительно быстро добраться до нашего особняка.
Входная дверь была распахнута настежь. Скотчи, полностью одетый, разговаривал с кем-то по телефону.
— Ну, наконец-то! Где тебя, блин, носило?! — заорал он, увидев меня. — Я уж думал, ты под автобус попал!
— И тебе доброго утра, — ответил я.
— Небось всю ночь прокувыркался с какой-нибудь смазливой шлюхой, урод. Ладно, ступай на кухню, выпей кофе с булочкой и приведи себя в порядок. Нам скоро выходить, — сказал он, не забыв на этот раз прикрыть ладонью телефонную трубку.
— На самом деле она была очень милой девушкой, — пробормотал я в ответ.
На кухне Фергал и Большой Боб жарили яичницу, Энди наверху принимал душ. Когда он спустился, то по его лучезарному виду я догадался, что прошедшей ночью он тоже сумел кое-чего добиться.
— Знаешь, Майкл, я решил завязать с этой воровской жизнью и заняться образованием. Все эти девчонки учатся в колледжах, представляешь? — сказал мне Энди, когда мы пили кофе.
— Значит, она была ничего? — спросил я.
Энди был оскорблен в лучших чувствах. Это была не какая-нибудь шлюха — это была настоящая девушка, с которой он соединился духовно, ощутил глубокое душевное сродство и достиг сверкающих высот взаимопонимания — и все это за сорок пять минут в номере отеля.
— Ничего?! Она была прекрасна, прекрасна! Божественна! — с горячностью возразил Энди. Восторженность его показалась мне несколько наигранной, и я решил, что он, возможно, еще под впечатлением нашего последнего разговора насчет разного рода сексуальной ориентации. Мне сразу же захотелось еще немного его озадачить, но потом я передумал.
— Что ж, это просто отлично, — сказал я.
— Да, Майкл, это действительно было очень здорово.
— В общем, дело выгорело. Поздравляю. А теперь прими один совет — когда ты с ней, не болтай много, о'кей? Держи рот на замке, так будет лучше.
— Я почти ничего не говорил, — сказал он, — но мне и не нужно было. Она очень интересный человек, Майкл. Представляешь, она изучает историю! Я и не знал, что история такая большая. Целая куча историй!
Я посмотрел на Энди, думая, что он наверняка шутит, но его лицо ничего не выражало.
— Значит, ты хочешь оставить карьеру рыцаря большой дороги и ступить на научную стезю? Вот что я тебе скажу, дружище: быть может, это покажется тебе смешным, но я и сам в последнее время все чаще задумываюсь о чем-то подобном…
— Эй, там, яичницу будете? — крикнул из кухни Большой Боб.
— Да, а какую?
— Болтунью со всякой хреновиной.
— С какой именно?
— С луком.
— Будем.
Завистливо улыбаясь, к нам подошел Фергал.
— Я слышал, тебе тоже повезло, Майкл… Скотчи говорил — вчера ты подцепил настоящую красотку. Просто пальчики оближешь, — сказал он жалобно.
— Скотчи так сказал? Она и правда была красивая? Я-то ничего не помню, — ответил я, и мы трое рассмеялись.
Тем временем поспела яичница, которая оказалась на удивление вкусной. Энди напыщенно рассуждал о различных дисциплинах и специальных курсах, которые он мог бы изучить, и я уверил его, что с его могучей фигурой и молодой энергией он сможет получить стипендию практически в любом университете в качестве игрока футбольной команды.
— Кстати, — добавил я, — в Канзасском университете очень хорошая учебная программа.
Энди хлопнул меня по плечу и продолжал болтать о своей новой философии и о высоких духовных наслаждениях, которые сулит интеллектуальная жизнь. Он никак не мог замолчать, хотя я был не слишком расположен слушать эту ерунду. Меня спас Скотчи, который велел мне принять душ и переодеться.
Я поднялся наверх. Шея у меня была в крови, и я не сразу понял — отчего это. Только потом я вспомнил о юном мексиканском гавроше с камнем. Чертов ублюдок!
Я помылся, натянул трусы, джинсы на пуговицах и старую порыжелую футболку. Спустившись вниз, я увидел, что остальные были в шортах, и подумал, что мне, пожалуй, следовало бы переодеться. Так бы я, наверное, и поступил, будь у меня время, но как раз в этот момент к особняку подъехал автомобиль, который Большой Боб взял напрокат. Скотчи дал пригнавшему машину шоферу на чай. Тот просился вернуться в город с нами, но Боб не разрешил.
Потом мы стали усаживаться. Скотчи и Большой Боб сели впереди; я, Фергал и Энди — сзади. Боб достал карту, и в течение следующих сорока пяти минут они со Скотчи ожесточенно спорили, куда следует сворачивать на очередном перекрестке. Еще я обратил внимание, что у Боба был при себе большой пакет из универмага «Сабар». Это было странно. Боб был не из тех, кто делает покупки в «Сабаре». Я немного подумал, и мне все стало ясно. В «Сабар» ходил Лучик. Это был его пакет. В пакете наверняка лежали деньги. Нам предстояло обменять их на товар. Скорее всего, на наркотики или оружие. Наркотики… Интересно, на какие?
Но узнать это мне было не суждено.
Внезапно меня разобрал смех. Я хихикал и никак не мог остановиться.
Энди ткнул меня локтем в бок.
— Что смешного? — шепотом спросил он.
— Мы, кажется, собираемся заняться контрабандой пончиков! — проговорил я сквозь смех, указывая на пакет из универмага. Энди тоже рассмеялся, но, скорее всего, потому, что смеялся я, — вряд ли до него дошел смысл моей шутки.
— Эй вы там, сзади! Заткнитесь и не идиотничайте! — сердито сказал Скотчи.
Мы проехали еще немного. Когда до места назначения оставалось уже немного, машина остановилась.
— Вот, парни, берите, — сказал Скотчи и, обернувшись к нам, вручил каждому по пистолету. Это были массивные, старомодные образцы времен Первой мировой войны.
— Откуда это старье? — сразу спросил Фергал.
— Не ваше дело, — раздраженно ответил Большой Боб.
— Так что за работа, Скотчи? — спросил я, притворяясь, будто Боба здесь вообще нет.
— Тебе, Брюс, надо будет лишь грозно помалкивать. Мы с Бобом все берем на себя, — ответил Скотчи примирительным тоном.
— А как мы собираемся доставлять наркотики в Штаты? Контрабанда наркотиков тянет на десятку, — сказал я.
— На десять лет? — прошипел Фергал.
— Кто вам сказал, что речь идет о наркотиках? — огрызнулся Скотчи и злобно покосился на Большого Боба.
— Я ничего не говорил. Ни словечка, — прошептал Большой Боб, но его голос звучал как-то не очень уверенно.
— Не переживай, Брюс, все продумано. Никаких осложнений, все пройдет без сучка без задоринки, — сказал Скотчи, пристально глядя в зеркальце заднего вида на Энди и Фергала.
Я заметил, что Большой Боб вспотел, но Скотчи выглядел спокойным, и я подумал, что все еще может как-нибудь обойтись.
Мы поехали дальше, но через пять минут снова остановились.
— Приехали, — пробормотал Боб, поднимая голову от своей карты.
Я огляделся. Мы стояли в бедном районе на северной окраине города, прямо на краю какого-то болота. Дорога здесь больше напоминала проселок, а дома были отделаны только с фасада. В большинстве своем эти хлипкие двухэтажные хибарки имели такой вид, словно их сляпали на скорую руку каких-нибудь месяц-полтора назад. Я не исключал, впрочем, что они будут выглядеть неплохо, когда их покрасят, когда осушат болото и замостят дорогу, когда в Канкуне появится градостроительная комиссия, а Мексика совершит экономический рывок, обретет развитую инфраструктуру и избавится от порочной однопартийной системы.
— Ты уверен? — спросил Скотчи.
— Угу. Правда, на карте уже этого нет, но он кое-что подрисовал от руки. Да, это то самое место, — сказал Боб.
Мы выбрались из машины. Вокруг не было видно ни единой живой души. Дома казались нежилыми. Ни электрических, ни телефонных проводов я, во всяком случае, не заметил.
— Господи, это же самые настоящие трущобы! — простонал Фергал.
— Вовсе нет. Это новый район, вот это что. Город растет. Новые кварталы всегда так выглядят, — успокоил его Скотчи.
— Но здесь никого нет. Наверное, мы все-таки не туда заехали, — высказал свою точку зрения Энди.
— Я тоже думаю, что мы ошиблись, — согласился с ним Фергал.
— Дайте-ка мне взглянуть, — сказал Скотчи и выхватил карту из рук Большого Боба.
— Ничего мы не ошиблись, — возразил Боб. — Я уверен, ведь я же смотрел…
За чем там смотрел Боб, так и осталось неизвестным, поскольку жестяная дверь ближайшего дома отворилась и чей-то голос окликнул нас:
— Сеньоры!
Скотчи бросил торжествующий взгляд на Энди и Фергала и зашагал к дому по утоптанной земляной дорожке. Боб повернулся к нам:
— О'кей, парни, засуньте пистолеты за пояс. Впрочем, они вам не понадобятся. Только не делайте никаких глупостей, держитесь как можно спокойнее. Эти парни не любят, когда кто-то суетится, ясно?
Мы кивнули, а Энди сказал, что ему все ясно.
Мы пошли по дорожке к дому. На глинистой почве рядом с тропой четко отпечатались следы нескольких машин, и я подумал, что это немного странно. Следы есть, но никаких машин, кроме нашей, я не видел. Впрочем, я не стал слишком об этом задумываться, поскольку мы уже входили в дом. Здесь повсюду лежал толстый слой пыли, а в воздухе сильно пахло смолой, герметикой и табачным дымом. В гостиной мы увидели Скотчи и трех мексиканских парней в джинсах и футболках. Разговаривали они по-английски. Скотчи представил Большого Боба, и они обменялись рукопожатиями. Нас никто представлять не собирался, и я оперся плечом о стену. После вчерашнего во рту у меня было сухо, как в Сахаре, а от всей этой пыли мне стало еще хуже.
Тем временем Большой Боб открыл свой пакет и начал доставать оттуда пачки двадцатидолларовых бумажек. Один из мексиканцев расстегнул «молнию» на спортивной сумке и передал ее Скотчи. Тот заглянул внутрь. В сумке лежал расфасованный в пластиковые пакетики белый порошок. Один пакетик Скотчи передал Бобу для проверки, но прежде чем тот успел что-либо предпринять, боковая дверь распахнулась, и в комнату ворвались двое мужчин в масках и с помповыми ружьями в руках.
— Не двигаться! — закричали они. — Вы арестованы!
Мексиканцы тоже выхватили оружие и велели нам лечь на пол.
Позади меня появился какой-то человек. Я попытался проскользнуть мимо него к выходу, но у меня не было ни малейшего шанса. Уверенным, плавным движением мужчина преградил мне дорогу и сильно ударил по голове прикладом винтовки.
Камера оказалась весьма и весьма приличной — новенькой, с гладкими бетонными стенами. Если встать к оконной решетке вплотную, то сквозь нее можно было видеть весь Канкун и даже серебристую полоску моря за ним. В камере стояла железная койка с завернутым в пластик матрасом и тонкими шерстяными одеялами черного цвета, а также унитаз из нержавеющей стали без сиденья. Он примостился в самом дальнем углу, но смывной бачок работал исправно. В целом в камере было несколько темновато, но чисто. Размеры камеры (я измерил ее шагами) составляли восемь на двенадцать футов, что было совсем не так уж плохо.
Когда я очнулся, снаружи была ночь, к тому же после удара по голове перед глазами все плыло. Но я все же встал на ноги, подошел к решетке и, вцепившись в прутья, стал смотреть на город. Больше все равно было нечего делать — разве что снова лечь спать. Так я в конце концов и поступил. Улегшись на койку, я накрылся одеялом и, учитывая обстоятельства, выспался вполне прилично.
Утром железная дверь камеры отворилась и престарелый охранник внес в камеру туалетную бумагу, железную кружку с водой и лепешки-тортильи с бобовым паштетом.
— Buenos dias,[27] — сказал я.
— Buenos dias, — ответил охранник и засмеялся.
У него были очень плохие зубы, но улыбка настолько заразительная, что я невольно заулыбался тоже.
— Есть скорее, я забрать посуда быстро, — сказал он по-английски, но с таким сильным акцентом, что я понял его с большим трудом.
Я начал с лепешек, которые были теплыми и упругими, как губка. Вода оказалась ледяной, что было весьма кстати.
Потом охранник забрал поднос и кружку, оторвал четыре листочка туалетной бумаги и направился к двери. В коридоре маячил второй охранник, вооруженный чем-то вроде травматического пистолета, — он стоял там, очевидно, на тот случай, если мне придет в голову какое-нибудь безрассудство.
— А где остальные? — с беспокойством спросил я. — Я — американо. Мне нужен адвокат.
Охранник пожал плечами и, ничего не ответив, захлопнул за собой дверь.
Я сел на койку.
— Вот блин… — пробормотал я и закрыл лицо руками. Так я сидел довольно долго и даже, кажется, слегка всплакнул. Мысленно я проклинал Скотчи, называя его потомственным идиотом, что было недалеко от истины. Потом я стал выкрикивать имена Скотчи, Энди, Фергала, Большого Боба. Я кричал довольно громко и стучал по стенам и по прутьям решетки, но ответа так и не дождался. Несколько часов спустя у меня над головой раздался какой-то стук, и я, конечно, сразу решил, что это тюремный телеграф (как в фильме «Полуденная тьма»). Минут десять я напряженно прислушивался, стараясь разгадать смысл зашифрованного сообщения, но скоро мне стало ясно, что это шумит вода в трубах.
Постепенно у меня сложилось впечатление, что я совершенно один во всем тюремном блоке. Быть может, говорил я себе, остальным каким-то образом удалось скрыться. Или они попытались проложить себе дорогу силой оружия и полегли в перестрелке. Раздумывая об этом, я нервно расхаживал по камере из стороны в сторону, изо всех сил стараясь сохранить самообладание. Я чувствовал, как мною овладевает паника, но не знал, следует ли с нею бороться или нет. Почему-то мне казалось, что небольшая истерика могла пойти мне на пользу.
В конце концов я не выдержал и принялся стучать кулаками сначала по полу и по стенам, потом по матрасу. Я попытался опрокинуть койку, но она была привинчена к полу. Пару раз я пнул ногой стальной унитаз, но и он оказался достаточно крепким.
— Где этот хренов адвокат! Позовите адвоката, иначе ваше самоуправство пропесочат в программе «Шестьдесят минут»! — кричал я сквозь дверь.
Потом я застонал. Ну что за невезение! Каждый раз, когда я попадаю за границу, дело кончается отсидкой. Сначала гауптвахта на Святой Елене, теперь долбаная мексиканская тюряга. Должно быть, на мне лежит проклятье… Нет, не в проклятье дело. Просто я идиот. Кретин. Только полный кретин мог доверить свое будущее такому типу, как Скотчи. Ну так и поделом мне. Честное слово — поделом!
Я сел на пол и вскоре поймал себя на том, что хохочу во все горло и никак не могу остановиться. Этот придурок Скотчи! Мудила Лучик! Десять лет нам обеспечено! Контрабанда наркотиков — дело не шуточное. Можно, конечно, уйти в несознанку… Собственно говоря, до сегодняшнего утра я действительно ничего не знал о том, что нам предстоит. Чтобы подтвердить это свое заявление, я мог даже добровольно пройти проверку на «детекторе лжи». Я ничего не знал! Мне просто не повезло.
Снова наступила ночь, и, несмотря на волнение и тревогу, я заснул почти сразу и спал крепко. Постель была очень удобной, в камере царила прохлада. Честно говоря, здесь я чувствовал себя даже лучше, чем в своей нью-йоркской квартире.
Утром охранник снова принес мне тортильи с бобовым паштетом, воду и лайм. Я с аппетитом поел, запил завтрак водой и отдал ему посуду, и он снова оставил мне несколько листков туалетной бумаги, хотя я еще не использовал вчерашнюю порцию.
После завтрака я несколько раз отжался от пола и сделал несколько упражнений на растяжку. Закончив зарядку, я снова улегся на койку и стал ждать, зная, что рано или поздно что-то непременно должно случиться. И я не ошибся. Ближе к вечеру в коридоре появились два охранника, которые приказали мне встать. Они не стали надевать на меня наручники или толкать — они просто велели мне следовать за ними. Как только я вышел из камеры, один из охранников дал мне сигарету, и я с удовольствием закурил.
Меня повели по коридору, в конце которого располагалась металлическая дверь. Когда ее открыли, в коридоре с другой стороны я увидел еще одного охранника, вооруженного автоматом. Увидев нас, он улыбнулся.
Мы прошли по этому коридору еще несколько шагов и остановились перед дверью, которая, очевидно, вела в какой-то кабинет. Здесь один из охранников повернулся ко мне и сказал доверительным тоном:
— Чисто-чисто, сеньор.
Но я не понял, что он имел в виду, и охранник сам заправил футболку мне в джинсы, а второй жестом показал, что мне нужно пригладить волосы. Когда они решили, что я выгляжу достаточно прилично, первый охранник почтительно постучал в дверь.
— Войдите, — по-английски проговорили из кабинета.
Я вошел.
Комната, в которой я оказался, была довольно просторной, на стенах висели полки с книгами и папками. За столом красного дерева сидел подтянутый, элегантно одетый мужчина в темном костюме. Огромное окно за его спиной глядело прямо на залив. На столе стояли семейные фотографии в рамках и снимки каких-то исторических развалин эпохи майя.
Я сел напротив него в мягкое кожаное кресло.
— Позвольте мне показать вам кое-что, мистер Форсайт, — сказал мужчина на превосходном американском английском. С этими словами он сунул руку в ящик стола и, достав оттуда три листка бумаги, положил на стол передо мной. Это были признания на английском, подписанные Скотчи, Фергалом и Энди. Пока я читал, мужчина монотонно перечислял:
— Незаконное ношение огнестрельного оружия, хранение сильнодействующих наркотических веществ, попытка незаконного ввоза наркотиков на территорию другого государства… По нашим законам, мистер Форсайт, вам грозит не менее двадцати лет тюрьмы.
— Кто вы такой? — спросил я.
Мой вопрос его расстроил. Он забыл представиться, и его заранее приготовленная речь не произвела должного эффекта.
— Я — капитан Мартинес, — важно сказал он, пытаясь исправить положение.
«Капитан чего?» — мысленно спросил я себя. Мартинес был в гражданском, но, может быть, у них здесь, в Мексике, такие порядки. Признания я уже прочел. Они были хорошо продуманными, подробными и стандартными. Я знал, что Фергал и Энди могли подписать эти бумажки, но Скотчи никогда бы не сделал ничего подобного. Только не он! Признания были липовыми, но для меня здесь не было ничего нового — эта уловка была мне хорошо знакома. Старый трюк, но довольно эффективный.
— Сколько я получу, если подпишу такое же? — спросил я.
— Три года.
— Три года?
— Да.
— Вы гарантируете?
— Гарантирую.
— Видите ли, капитан, три года в мексиканской тюрьме я бы приравнял к девяти годам в Ирландии. С тюрьмами вообще как с собачьим возрастом: в Штатах годы приходится умножать на два, во Франции — на полтора. Что касается шведских тюрем, то срок там и вовсе приходится делить, так как сидеть в Скандинавии — одно удовольствие.
Но капитан был серьезен, как наша милая старушка королева Виктория, и даже не улыбнулся моей шутке.
Тогда я снова взял в руки листки с признаниями, чтобы повнимательнее взглянуть на подписи. Так и есть, подпись Скотчи была скопирована, по всей видимости, с его паспорта. Подписи Энди и Фергала могли быть настоящими, но я и в этом сомневался.
— А где признания Боба? — спросил я. — То есть Роберта?
— Мистер О'Нил — особая статья. Он американский гражданин, а вы — нет.
Я не мог не признать, что своя логика в этих словах была. Мы все действительно въехали в США по британским или ирландским паспортам, и все же я почти не сомневался, что капитан Мартинес лжет. Но что он скрывает? Может быть, Боба убили в перестрелке?
— Как насчет того, чтобы устроить мне встречу с представителем консульства? — спросил я.
— Об этом мы позаботимся в свое время, — ответил он.
— Я говорю серьезно, мистер! Я должен встретиться с британским консулом, и как можно скорее. Например, сегодня.
— Придется мне показать вам еще кое-что, — сказал Мартинес с улыбкой, которая мне совсем не понравилась.
Тяжело поднявшись, капитан подошел к секретеру. Открыв его маленьким ключом, он откинул крышку и выдвинул изнутри новенький телевизор. Включив аппарат, Мартинес нажал кнопку на видеомагнитофоне под телевизором. На экране сразу появилось черно-белое изображение. Это была запись нашей утренней встречи. Я отчетливо видел, как Скотчи открывает пакет с деньгами, как берет в руки сумку с наркотиками. Вокруг виднелись наши фигуры. Когда я появился на экране достаточно крупным планом, Мартинес остановил пленку.
— Это ошибка, — сказал я и широко улыбнулся. — Я просто попросил этих ребят меня подвезти. Потом они остановились, сказали, что у них тут небольшое дело. Они велели мне оставаться в машине, но я все равно вошел…
Капитан Мартинес мрачно посмотрел на меня и выключил телевизор.
— Вы всегда берете с собой оружие, когда путешествуете автостопом?
— В Мексике, как я слышал, это не лишняя предосторожность. Впрочем, в этом я готов признаться. Что там мне полагается? Штраф или пара месяцев отсидки?
— Вот, возьмите, — сказал Мартинес и, достав из стола готовое признание, которое остальные якобы подписали, протянул мне. — Пожалейте себя, мистер Форсайт. В конце концов, наш с вами разговор — чистая формальность, ведь у нас есть видеозапись. Зато если вы подпишете добровольное признание, то через год с небольшим вы, вероятно, уже выйдете на свободу. Пожалейте себя, — повторил он.
— Как я уже сказал, мистер Мартинес… простите, капитан Мартинес, я хочу видеть британского консула. Как подданный Соединенного Королевства, я желаю говорить с представителем нашего посольства, черт его дери. Если мне в этом будет отказано, я постараюсь сделать так, чтобы о вашем произволе стало известно как можно скорее, — спокойно заявил я.
— Вы не в том положении, чтобы угрожать, — хладнокровно ответил он.
Несколько мгновений мы сидели молча, потом Мартинес снова встал и, вызвав охранников, сделал знак увести меня. По дороге обратно в камеру я попросил еще одну сигарету. Правда, курить я почти бросил, но обстоятельства, что ни говори, были исключительными. Сигарету я хотел оставить про запас, но спичек мне не дали, поэтому я закурил ее сразу.
Потом меня снова заперли.
Вечером явился уже знакомый мне старик — охранник с тортильями и водой. Он дождался, пока я поем, и, осторожно оглядываясь на дверь, достал из кармана кусок лимонного кекса. Кекс оказался непропеченным и довольно кислым, но его, несомненно, пекла жена охранника или кто-нибудь из домашних, и в самом его поступке было столько сердечности, что я едва не прослезился. В знак благодарности я попытался поговорить с ним по-английски, но он сказал мне что-то по-испански и ушел.
На рассвете следующего дня ко мне в камеру вошли двое охранников и — вместо завтрака — сковали мне руки за спиной наручниками. Впрочем, действовали они не грубо, и я это оценил.
— Теперь куда? — спросил я, но они не поняли.
Меня вывели из камеры и повели по другому коридору к лифтам.
С каждым шагом я чувствовал, как меня все сильнее охватывают отчаяние и страх. Почему-то я решил, что если я не войду в лифт, то ничего страшного со мной не случится. Я немножко поупирался, но охранники догадались, что я это не всерьез. Меня толкнули в спину, и я, покорно пригнув голову, шагнул в кабину. Один из охранников нажал на кнопку, и лифт опустился в обширный подвал, где стоял наготове фургон-перевозка. В фургоне я увидел Скотчи, Энди и Фергала. Я был ужасно рад снова встретить друзей, но, прежде чем я успел что-то сказать, один из охранников заклеил мне рот широкой клейкой лентой. Остальных, как я заметил, обработали таким же образом.
Потом мне помогли забраться в фургон. Вдоль бортов тянулись две скамьи с металлическими поручнями. Охранники разомкнули одно кольцо моих наручников, завели руку за поручень и снова защелкнули «браслеты», так что я мог сидеть, но не мог податься вперед или наклониться в сторону. В кабине фургона уже сидели двое охранников; позади я увидел еще один автомобиль, в котором тоже было двое легавых. Очевидно, эта машина должна была следовать за нами на случай, если среди нас затесался долбаный Гудини, которому раз плюнуть освободиться от наручников и металлического поручня.
Кое-как устроившись на жесткой скамье, я встретился взглядом со Скотчи, и он чуть заметно наклонил голову, а затем подмигнул. Этот парень не был слабаком, и, глядя на него, я тоже приободрился. Быть может, Скотчи и не гений, подумал я, но он — крепкий орешек, расколоть который не каждому по силам.
Потом я заметил, что один из охранников заполняет на планшетке какой-то документ. Это меня тоже обрадовало. Бумажки… Раз есть бумажки, значит, мы где-то записаны и нашим тюремщикам будет труднее сделать вид, будто мы никогда не существовали. На моих глазах другой охранник взял у первого заполненную форму, сложил пополам и спрятал в нагрудный карман рубашки. Это движение почему-то показалось мне не столь обнадеживающим, но я постарался об этом не думать. Тем временем кто-то, невидимый нам, захлопнул задние дверцы фургона, и меньше чем через минуту машина тронулась с места.
Скоро фургон выехал из города и помчался по шоссе. Окон в кузове не было, поэтому мы почти ничего не видели. Лишь сквозь небольшую царапину на замазанном темной краской стекле, отделявшем нас от водительской кабины, я различал отдельные фрагменты дороги — двухполосного шоссе, проложенного, похоже, прямо сквозь джунгли. Дорога была совсем новой, так как нас почти не бросало, хотя фургон развил довольно приличную скорость.
Насколько я мог судить, мои товарищи совершенно не пострадали. Я, во всяком случае, не заметил ни синяков, ни ссадин. Несколько минут мы разглядывали друг друга, потом Фергал попытался что-то сказать, но мы не поняли ни слова, и в конце концов он сдался. Скотчи прикрыл глаза и, кажется, даже задремал. Вскоре он начал храпеть, а мы едва не задохнулись, потому что смеяться с заклеенным ртом совсем не просто.
Примерно часа через два езды по шоссе фургон свернул на какую-то другую дорогу. Мы почувствовали это сразу, поскольку нас стало немилосердно швырять и подбрасывать, хотя скорость заметно упала. Так мы ехали около часа.
Наконец фургон остановился, и мы услышали доносящиеся снаружи голоса. Через несколько минут мы снова тронулись, на этот раз — очень медленно, словно фургон пытался вписаться в очень узкие ворота. Ребят это сразу насторожило, и даже Скотчи проснулся.
Задние двери фургона распахнулись.
По глазам полоснул солнечный свет, туча густой пыли, поднятой фургоном. В кузов ворвались запахи мочи и дерьма.
Я несколько раз моргнул. Пыль немного осела, и я увидел, что нас привезли в тюрьму.
По углам прямоугольного тюремного двора стояли сторожевые вышки. Со всех четырех сторон двор замыкали похожие на монастырские стены блоки тюремных камер, закрытые сплошными железными дверями с прорезанными в них глазками. Оглядевшись, я увидел, что ограда у въездных ворот имеет высоту футов тридцать и к тому же опутана поверху витками «высечки». Эта разновидность колючей проволоки такая острая, что если схватиться за нее, она разрежет руку до кости, словно бритвенное лезвие. Кроме того, возле ворот располагался трехэтажный флигель охраны. Сквозь решетку ворот я видел еще одну ограду — сетчатую со спиральной «колючкой» наверху, которая, по-видимому, окружала весь комплекс. Сторожевые вышки были оборудованы прожекторами. На вышках стояли охранники в выгоревшей голубой форме, вооруженные двуствольными дробовиками. Других заключенных мы не видели, но ощущали их присутствие за железными дверьми камер.
С первого взгляда мне показалось, что удрать отсюда будет довольно просто. Надо только выбраться из камеры, а перемахнуть через сетчатую ограду ничего не стоит, думал я. Ограда не выглядела неприступной, и я сразу приободрился. Должно быть, решил я, мы находимся в пересылке или тюрьме предварительного содержания для неопасных преступников.
Пока наш водитель и охрана тюрьмы решали какие-то вопросы, мы просто стояли у дверцы фургона и ждали.
Жаркое солнце. Лазурно-голубое небо. Серые тюремные стены. Белый, пыльный двор.
Вот и весь пейзаж.
Через несколько минут фургон уехал, и массивные металлические ворота снова закрылись. Из караулки вышло человек шесть охранников, которые без лишних разговоров повели нас к одной из камер и, втолкнув внутрь, сняли с нас наручники. Вместо наручников, однако, на нас надели самые настоящие кандалы, крепившиеся спереди и соединенные восемнадцатидюймовой цепью — тяжелой, старой, но еще очень крепкой.
Потом нас заставили сесть. В камере было душно и жарко, от пола поднималась застарелая вонь. Вентиляцию обеспечивало единственное крохотное зарешеченное окошко, которое располагалось в стене под самым потолком. С потолка космами свисала паутина, а пол шевелился насекомыми.
Когда мы сели, охранники надели каждому из нас на левую лодыжку еще по одному железному кольцу, также соединенному с отрезком массивной, толстой цепи. В пол было вцементировано шесть рым-болтов, и каждый из нас оказался теперь в непосредственной близости по крайней мере от одного из них. С помощью массивных висячих замков охранники прикрепили цепи, идущие от наших ножных колец к кольцам рым-болтов. Потом один из охранников молча показал нам на ржавое ведро в углу, и они вышли, не забыв запереть за собой дверь.
Как только охранники скрылись, мы поспешно сорвали пластыри и заговорили все разом. Насколько я мог судить, со всеми нами обошлись примерно одинаково. Отказ предоставить адвоката или кого-то со стороны, трюк с фальшивыми признаниями… Кстати, никто из нас не попался на эту уловку, никто не раскололся, не заговорил. Даже Энди. Я мог гордиться своими товарищами. Господи, да я просто ушам своим не верил! Даже этот увалень Энди сообразил, что к чему. Он был очень доволен собой. Что касается меня, Скотчи и Фергала, то наряду с тревогой мы испытывали и облегчение. Конечно, заведение, в которое мы попали, никто бы не назвал райским местечком, но мы, по крайней мере, снова оказались вместе, а это было уже кое-что.
Скотчи первым справился с волнением и задал действительно важный вопрос:
— А где Большой Боб? — спросил он.
— Мне сказали, что поскольку он американский гражданин, то с ним будут разбираться отдельно, — сказал я.
— Вот как? — с сомнением проговорил Скотчи.
— А ты думаешь, это не так? — удивился я.
— Я ничего не думаю, Брюс, — коротко ответил он.
Фергал поднялся с пола и потянулся. Ножная цепь не мешала стоять и даже позволяла пройти несколько шагов.
— Как вам кажется, долго нам торчать в этой помойной яме? — спросил он.
Мы покачали головами. Я полагал, что мы останемся здесь до суда. Ведь если нас сюда перевезли, значит, это зачем-то было нужно, не так ли? Единственное, что меня смущало, это то, что нас всех посадили в одну камеру. Перед процессом было бы разумнее разместить нас по одному, если, конечно, наши тюремщики не были на сто процентов уверены в том, что выиграют дело. В частности, видеозапись, которую демонстрировал мне сеньор Мартинес, могла стать решающим аргументом обвинения.
— Мне говорили — нам светит лет двадцать, — негромко сказал Энди.
— Этого не будет, — бодро возразил Скотчи и повторил: — Не будет! У Темного есть связи, а в этой стране связи — главное. Если мы будем держаться твердо, рано или поздно им придется дать нам адвоката. Это, в конце концов, не Африка, это Мексика. С Америкой мексиканцам шутить не пристало, и им придется играть по правилам.
— Я тоже думаю, что скоро нам дадут адвокатов, — согласился Фергал, снова усаживаясь на пол.
— Вот именно. Когда у нас появятся адвокаты, вы увидите, на что способен Темный. Он-то не станет медлить ни минуты, — убежденно сказал Скотчи, и я понял, что он действительно верит в то, что говорит, а не просто болтает, чтобы нас успокоить.
— А когда это будет? — поинтересовался Энди. — Когда Темный нас вытащит?
— Думаю, не сразу, паренек, — ответил Скотчи. — Придется тебе запастись терпением. Во-первых, Темному это сделать не так-то просто. Он наверняка пришлет сюда своего человечка, чтобы выяснить обстановку и дать нам рекомендации. Возможно даже вот что: он посоветует нам признать себя частично виновными. Темный — это Темный, но и он не Господь Бог. Быть может, нам и придется отсидеть какой-то срок, но, уверяю вас, он не будет чрезмерно большим, — глубокомысленно изрек Скотчи.
— Ну а все-таки — сколько? — спросил Фергал.
— Я не могу этого сказать, потому что не знаю, но уверен, что немного. Так, для затравки. Зато будет что рассказывать девчонкам по возвращении, — ответил Скотчи и подмигнул.
Я в этом разговоре не участвовал. Краем уха я слушал Скотчи, а сам думал о Большом Бобе. И о карте, которая у него была. Я думал о том, где он может быть сейчас, и понемногу во мне росла страшная уверенность, что я это знаю. Знаю почти наверняка.
Мы разговаривали еще некоторое время. Наш боевой дух был достаточно высок — Скотчи здорово сумел нас подбодрить. Когда наступила ночь, мы легли спать прямо на бетон. Температура упала, в камере стало холодновато, и я был рад, что в день нашего отъезда из особняка так и не успел переодеться, и остался в джинсах. Остальные по-прежнему были в шортах и, естественно, мерзли сильнее. Донимали нас и насекомые — крошечные жучки, ползавшие по нам и щекотавшие кожу своими лапками. Всех более или менее крупных насекомых переловили и съели обитавшие под потолком пауки, но мелочь осталась; в сочетании с жестким, холодным полом это отнюдь не способствовало быстрому засыпанию.
Проснувшись утром, мы до половины наполнили ведро-парашу. Нам здорово мешали ночные и ручные кандалы, так что мочиться пришлось, передавая ведро друг другу, но в конце концов мы справились. Закончив с этим, мы стали ждать, когда придут охранники и откроют камеру, чтобы мы могли вынести ведро в уборную, но никто не появлялся. От ведра воняло, над ним кружились крупные мухи. Постепенно в камере снова стало жарко (не жарче, впрочем, чем в моей нью-йоркской квартирке), но вонь была ужасающая.
— А здесь, оказывается, есть крысы, — заметил Фергал, пока мы ждали, чтобы кто-нибудь пришел.
— Я что-то ни одной не видел, — сказал я.
— Есть здесь и крысы и ящерицы, и они ползают по тебе, пока ты спишь, — подтвердил Энди.
Прошедшей ночью он действительно несколько раз просыпался с испуганным криком, но я считал, что крысы ему просто почудились, пока не увидел пару этих отвратительных тварей, которые шныряли за дверью. Щель под дверью камеры была не больше полудюйма шириной, но я знал, что крысы способны на многое, если захотят. Впрочем, крыс я никогда не боялся, и их присутствие меня не смущало; ящериц я бы, пожалуй, тоже как-нибудь пережил. Что касалось остальных, то я был уверен — со временем ребята привыкнут и к тем и к другим.
— Ничего, привыкнешь, — сказал я Энди, но он с сомнением покачал головой.
Мы прождали все утро, но тюремщики так и не появились. Только ближе к вечеру дверь камеры отворилась, и надзиратель поставил на пол кувшин с водой и три миски с вареным рисом.
— Veinte minutos,[28] — сказал он и ушел, снова заперев дверь.
Мы с жадностью набросились на еду и напились воды. Примерно через полчаса надзиратель вернулся, чтобы забрать посуду и кувшин. Воду мы выпили не всю, поэтому, прежде чем отдать ему кувшин, каждый из нас сделал еще по нескольку глотков.
— Послушай, приятель, нам надо вынести парашу, — сказал ему Скотчи, но охранник его не понял.
— Ведро, понимаешь? Эль ведро! — попробовал свои силы Энди, но дверь камеры уже закрылась.
Поздно ночью меня укусила какая-то крупная тварь. Я решил, что это паук, и испугался, что он может быть ядовитым, но утром я все еще был жив и чувствовал себя довольно сносно. Весь день Скотчи занимал нас разговорами, не позволяя замыкаться в молчании, и нам удалось сохранить относительно бодрое настроение.
Ведро к этому времени было уже полнешенько: моча переливалась через край, к тому же у кое-кого из нас начались нелады с желудком. Мы надеялись, что уж сегодня-то нам разрешат вынести нечистоты, но мы ошиблись. Как мы узнали впоследствии, парашу здесь выносили только через два дня на третий. Как я уже упоминал, тюрьма была построена прямоугольником, по одному блоку камер с каждой стороны, но в настоящее время один из четырех блоков пустовал, так что их оставалось три, и заключенным разрешалось вынести нечистоты и слегка размяться в тюремном дворе раз в три дня. По утрам мы слышали доносящиеся со двора шум и голоса и думали, что в конце концов придет и наш черед. Во всяком случае, мы на это надеялись.
В этой тюрьме никто не работал, зато не было ни тюремной лавки, ни больницы. Все заключенные постоянно находились в своих камерах, если не считать короткой прогулки раз в три дня. По нашим подсчетам, заключенных было человек триста—четыреста плюс тридцать или сорок охранников — точнее мы сказать не могли.
Когда заключенных выводили во двор, до нас доносились голоса, а однажды прямо под дверью нашей камеры кто-то сказал: — Gringos.[29] Хэлло, Америка!
На третье утро нашего пребывания в тюрьме в нашу камеру вошли охранники. Они сняли замки, которые соединяли цепи от ножных колец с головками рым-болтов, и, сложив замки в мешок, вышли, оставив дверь незапертой. Несмотря на то что наши руки были скованы, мы тотчас вскочили, готовясь выйти наружу, но охранники закричали, показывая знаками, что мы должны снова сесть. Потом один из них что-то сказал; судя по выражению его лица, это была какая-то важная информация, и мы повернулись к Энди, который утверждал, что немного знает испанский.
— Что он говорит? — спросил я.
— Он говорит, что мы должны ждать… дальше идет слово, которого я не знаю, но думаю, что это свисток. Мы должны ждать свистка, — сказал Энди.
Энди одолел только начальный курс испанского, получая в основном посредственные отметки, но и это было лучше, чем ничего. Я вспомнил, что в предыдущие два дня я вроде бы действительно слышал свистки, так что Энди догадался правильно.
Мы сели и стали ждать. Вскоре раздался свисток, и мы услышали, как другие заключенные выходят из камер во двор.
— Нужно вынести чертово ведро, — сказал Скотчи. — Фергал, займись…
— Почему я?
— Потому что я так сказал, — отрезал Скотчи. — И еще одно: когда мы выйдем, мы должны держаться вместе, ясно?
Мы кивнули.
Все еще ворча, Фергал стал осторожно поднимать ведро, но моча все равно выплеснулась через край и попала ему на руки. За два прошедших дня ни один из нас так и не сподобился сходить по-крупному, так что хоть с этим Фергалу повезло.
Утреннее солнце светило так ярко, что нам понадобилось около минуты, чтобы привыкнуть к этому после полутьмы камеры. В открытых дверях нашего блока один за другим появлялись заключенные; охранники зорко следили за ними с вышек. Должно быть, тюремная охрана считала время начала прогулки самым опасным, потому что если бы все заключенные бросились бежать, они легко могли смять четверых надзирателей, выпускавших нас во двор. Я не исключал даже, что одно из правил внутреннего распорядка предписывало охране (и она это отлично усвоила) стрелять в каждого, кто выйдет из камеры до свистка.
Заключенные выливали свои ведра в уборную рядом с блоком камер, который, как мы узнали впоследствии, стоял пустым. Те, кто был свободен от этой неаппетитной обязанности, прогуливались по двору. Низкорослые, худые, оборванные, они напоминали индейцев. Их было примерно сто человек. Большинство были босиком и без головных уборов. Никто из них даже не смотрел в нашу сторону. Они негромко переговаривались, некоторые усаживались прямо в пыль, чтобы сыграть в кости партию-другую.
Вслед за Фергалом мы подошли к уборной.
Мы снова видели голубое небо; столбы пыли, поднятой десятками ног, поднимались над двором, закручиваясь спиралью; в ноздри бил резкий запах простора, близких джунглей и множества чужих тел.
Возле уборной с низким гудением роились мухи. Промелькнула какая-то птица; черный хохолок из перьев у нее на голове отливал в солнечных лучах алым, изумрудно-зеленым и золотым, и я вдруг осознал, как мне не хватает этих красок.
— Четыре вышки, по два человека на каждой, — шепнул я Скотчи. — У них дробовики и прожекторы.
Он посмотрел на меня и ухмыльнулся.
— Брюс, детка, это тебе не голливудская дребедень вроде «Большого побега». Наша задача сидеть тихо и не делать глупостей, понятно? — сказал он насмешливо.
— Именно так ты себя вел, когда сидел в «Кеше»? — спросил я.
— Да, именно так я себя вел, если тебя это интересует, — ответил он.
Задавая этот вопрос, я пытался поймать его на слове: Скотчи не раз рассказывал про «Кеш», но он часто забывал, что он наврал нам в прошлый раз, поэтому я рассчитывал, что рано или поздно он скажет: «Какой, к черту, «Кеш», Брюс? Я сидел в долбаном Магабе!»
— Кстати, сколько ты там отсидел? — небрежно спросил я, но Скотчи не успел ответить. Я сам помешал ему, указав в противоположный конец двора, где несколько заключенных столпились вокруг внушительной кучи соломы, сваленной у входных ворот.
Толкнув Скотчи локтем, я показал в ту сторону и сказал:
— Смотри! Это наверняка подстилка.
— О'кей, — кивнул Скотчи. — Идем.
Он подозвал Энди и Фергала, и мы вместе пошли к воротам. Взяв из кучи по большой охапке соломы, мы остановились в нерешительности. Мы хотели сразу отнести солому в камеру, но не исключено было, что возвращаться туда тоже следовало по свистку или по какому-нибудь другому сигналу.
— Давайте просто забросим ее внутрь, а заходить не будем, — предложил Фергал, но когда он приблизился к двери нашей камеры, охранник, прохаживавшийся по крыше блока, направил на него дробовик и что-то прокричал.
— Что он говорит, Энди?
Но Энди, похоже, не понял ни слова.
— Извините, парни, но я изучал классический испанский, а не его долбаный мексиканский диалект, — объяснил он.
Пришлось нам стоять у нашего блока с охапками соломы и ждать свистка. Не знаю, как остальные, но я чувствовал себя довольно неловко, оказавшись в центре всеобщего внимания. Впрочем, мы и так выделялись среди остальных заключенных не только потому, что были новичками, но и потому, что здесь мы были единственными немексиканцами.
— Да, на соломе будет спать помягче, — заметил Фергал, усаживаясь в пыль, но Скотчи схватил его за шиворот и заставил встать. При этом Фергал едва не упал, запутавшись в цепи от ножных кандалов, которая волочилась за ним по земле.
— Не садиться, — прошипел Скотчи. — Не садиться и глядеть в оба — здесь вам не курорт!
И он оказался прав. Не успели мы сообразить, что к чему, как к нам приблизилась группа из десяти или двенадцати парней, которые до этого спокойно прогуливались по периметру двора. Все было проделано так быстро и ловко, что мы не сразу поняли, в чем дело. Парни принялись тыкать в нас пальцами и говорить что-то на своем испанском языке. «Где же охрана? Почему она не вмешивается?» — подумал я, хотя уже догадывался, что рассчитывать на это не стоит.
— Что им нужно, Энди? — спросил Скотчи, но наш переводчик по-прежнему ничего не понимал.
Главарем был невысокий парень в мешковатых джинсах и сетчатой футболке. Показывая на рыжую шевелюру Скотчи, он хватал себя за волосы и говорил что-то остальным. Вероятно, это была какая-то шутка, но я хорошо знал, к чему идет дело. Самым разумным в нашем положении было прижаться к стене, но парни, действуя на удивление проворно и слаженно, уже окружили нас со всех сторон. Правда, среди них не было ни одного, кто мог бы сравняться с нами в росте и силе, но на их стороне было численное преимущество, к тому же у некоторых были кожаные ремни, которые они накручивали на сжатые кулаки. Остальные помахивали цепями ручных кандалов. Они подняли такой шум, что я почти не сомневался — теперь-то охрана наверняка вмешается, но, поглядев на сторожевые вышки, я увидел, что охранники не обращают на нас ни малейшего внимания.
— Ну, держитесь! — просто сказал Скотчи, и в следующее мгновение индейцы ринулись на нас. Я успел замахнуться, целясь в челюсть одному из нападавших, но меня с силой толкнули в спину и сбили с ног. Тотчас я получил удар ногой по голове и по лодыжкам и почувствовал, как с меня стаскивают сандалии. Еще одна пара рук попыталась сорвать с меня футболку, и я свернулся калачиком. Я все ждал, когда вмешается охрана, но удары продолжали сыпаться и сыпаться. Сильные удары, хотя, как ни странно, боли я почти не чувствовал. Защищая ребра, я прижал руки к туловищу и свернулся в еще более тугой узел, чувствуя, что мое горло забито пылью. Потом кто-то наступил мне на шею ногой, и я схватил эту ногу и впился в нее зубами, прокусив мясо чуть не до кости. В следующую секунду я ощутил довольно болезненный удар ременной пряжкой по уху, но продолжал сжимать зубами чужую лодыжку. Мой рот заполнился кровью. Кто-то пнул меня босой ногой в лоб, и я перекувырнулся через голову назад, замахал руками и вдруг почувствовал, что стою во весь рост. Не тратя времени даром, я двинул ближайшего врага локтем и почувствовал, как под моим ударом хрустнул его нос.
В следующую секунду раздался свисток, и сквозь тучи пыли я увидел, как заключенные бегут к своим камерам.
Только теперь я почувствовал боль.
Кожа у меня на спине оказалась содрана, и, если не считать нескольких ударов по голове, это было самое худшее. Кроме того, я прикусил язык и теперь сплевывал кровью. Кто-то ухватил меня под локоть, я скосил глаза и увидел Скотчи. Он что-то кричал, но я не мог разобрать что. Наконец Скотчи увидел, что я его не понимаю, и просто показал рукой вперед. Энди и Фергал все еще лежали на земле, и он хотел, чтобы я помог им встать. Охранники тоже кричали, сердитыми жестами торопя нас, но в тот момент их пантомима казалась мне не слишком удачной шуткой.
Наконец я немного пришел в себя и, подхватив Фергала под мышки, попытался поднять, но это оказалось мне не по силам. Оступившись, я с размаху шлепнулся на землю. Прежде чем я успел подняться, к нам подскочила группа надзирателей, вооруженная резиновыми дубинками. Громко крича, то и дело пуская в ход дубинки, они погнали меня и Скотчи в камеру. Я пытался сопротивляться и крыл их на чем свет стоит, но ударом в зубы меня заставили заткнуться. Потом нас втолкнули в дверь, повалили на пол и снова пристегнули к рым-болтам.
Секунд через тридцать двое охранников втащили в камеру Фергала и Энди. Оба были без сознания. Их швырнули на пол и тоже приковали к полу.
Мы все лишились обуви. На Энди, в частности, были новенькие высокие ботинки, которые мы со Скотчи купили ему в аэропорту. По-видимому, он никак не хотел отдавать их и теперь был весь в пыли и крови. Мне показалось, что парни сняли с него и футболку, но я не был уверен, потому что мои глаза слезились и я мало что мог разглядеть. С Фергала тоже была сорвана рубашка. Скотчи, согнувшись пополам, надрывно кашлял.
— Господи Иисусе! — выдохнул я.
Потом я закрыл глаза. Когда я их открыл, была уже ночь. Бока горели, спину ломило, словно по ней прошлись цепами. Я смутно помнил, что меня разбудил какой-то шум, но прошло, наверное, несколько минут, прежде чем я осознал, что Скотчи, приблизившись к двери, насколько позволяла ножная цепь, требует позвать врача. Вместо врача явились двое охранников с дубинками. Они обрабатывали Скотчи, пока он не замолчал, и до утра в камере было тихо. Весь остаток ночи я то задремывал, то просыпался; меня лихорадило, а на рассвете минут пятнадцать рвало едкой горячей желчью.
— Брюс! Эй, Брюс! — шепотом позвал меня Скотчи.
— Меня зовут не Брюс, — сумел выдавить я.
— Брюс! — снова позвал Скотчи.
— Что?
— С тобой все о'кей?
— Да. То есть, нет. Скорее да, чем нет, — ответил я.
Скотчи подполз ко мне. Цепь у него на ноге натянулась, и, чтобы поговорить со мной, ему пришлось вытянуться на полу во весь рост.
— Тебя сильно избили, Брюс?
— Не так чтоб очень, — ответил я.
— Фергал еще без сознания, — сказал Скотчи. — Но он время от времени приходит в себя, и я думаю, что он очухается. Меня беспокоит Энди, ему совсем худо. Похоже, у него сломаны ребра. Ты что-нибудь в этом понимаешь?
Я покачал головой, но мы все равно подползли к Энди. Фергал лежал на боку и стонал. Ему было очень больно, но он, по крайней мере, не потерял способности чувствовать боль.
Энди во время драки раздели до трусов. Его дыхание мне сразу не понравилось: оно было частым и судорожным, на губах выступила кровавая пена. Черты его лица странно заострились, кожа была неестественно бледной. Казалось, он находится где-то между помрачением сознания и полной его потерей: его губы шевелились, словно он пытался что-то сказать, но я не слышал ни звука. Опустив глаза, я посмотрел на грудь Энди. Я не специалист, но в расположении его ребер было что-то неправильное. Под кожей расплывалось темное пятно, и я сообразил, что это, скорее всего, кровь из прободенного сломанным ребром легкого.
— Господи, Скотчи, мне кажется, он умирает.
Скотчи посмотрел на меня. Один глаз у него совсем заплыл, лицо распухло и посинело.
— Когда нам принесут обед, ты должен броситься на охранника и сбить его с ног, а я накину ему на шею цепь. Мы скажем, что убьем его, если они не привезут для Энди врача, — сказал он с холодной решимостью в голосе.
Я кивнул. Вряд ли, думал я, из этого выйдет что-нибудь путное, но попытка не пытка. Да и что еще могли мы предпринять в сложившихся обстоятельствах?
— Я слышал, как ты требовал врача, — сказал я.
— А они явились только для того, чтобы заткнуть мне рот, — пробормотал Скотчи.
Договорившись, как действовать, мы замолчали и стали ждать, экономя силы для решительной минуты. Скоро в зарешеченное окошко камеры начали проникать солнечные лучи, снаружи прозвучал свисток, и заключенные соседнего блока стали выходить из камер. Жара быстро усиливалась, а время, как назло, тянулось невыносимо медленно.
Губы у Энди запеклись, а лицо побледнело еще больше. Каждый вздох давался ему теперь с огромным трудом. Мы со Скотчи склонились над ним.
— Энди, слышишь меня? Не волнуйся, все будет о'кей. Мы вызовем тебе врача, — проговорил я.
— Да, паренек, мы тебя не бросим, — поддакнул Скотчи.
Наконец день начал клониться к вечеру. Дверь камеры отворилась, и на пороге появился надзиратель. В ту же секунду я бросился на него, рассчитывая повалить, но он легко оттолкнул меня. Я отлетел назад и растянулся у дальней стены; при этом цепь на ноге натянулась и едва не вывихнула мне лодыжку.
— Доктор, доктор, доктор, ему нужен доктор! — умолял Скотчи, указывая на Энди, но охранник не обращал на него внимания. Оставив на полу воду и деревянные миски с рисом, он вышел. Мы попытались напоить Энди водой, но после первого же глотка он поперхнулся и страшно закашлялся.
Вскоре вернулись охранники, чтобы забрать посуду — мы едва успели схватить по нескольку пригоршней риса.
— Он умирает. Morto, morto,[30] — крикнул я в надежде, что они поймут. Несколько секунд охранники смотрели на лежащего Энди, потом вышли, заперев за собой дверь, но мы слышали, как они переговариваются между собой, и в наших сердцах затеплилась надежда. Быть может, подумали мы, в конце концов они кого-нибудь пришлют.
Но никто так и не пришел.
Вечером Фергал окончательно пришел в себя. Ему было намного лучше, и мы по очереди сидели с Энди, держа его голову у себя на коленях. Никто из нас не знал, что делать. В медицине ни один из нас не разбирался. Единственное, что я знал из этой области, это как уложить пьяного спать, чтобы он не захлебнулся собственной блевотиной. В данном случае это, конечно, не годилось, и я просто держал голову Энди, шепча ему на ухо, что все обойдется и он обязательно поправится. Но дышал он теперь с еще большим трудом, и я уже не надеялся, что он выживет.
Через некоторое время меня сменил Фергал, и я лег на пол. Наступила ночь. Где-то около полуночи меня растолкал Скотчи. Рядом с ним я увидел Фергала; его глаза в лунном свете казались двумя черными провалами.
— Что случилось? — спросил я.
— Энди умер, — просто сказал Скотчи.
Я сел. Посмотрел на Фергала, и тот кивнул.
— Ты уверен? — спросил я. Это был, конечно, глупый вопрос, и Скотчи на него не ответил.
— Наверное, он еще не до конца оправился после того раза, — сказал Фергал.
— Нет, — прошептал Скотчи сквозь зубы. — Это они его убили. Они его убили.
Я подполз к Энди и прикоснулся к его руке. Она была неестественно холодной. Они уже и глаза ему закрыли.
— Господи Иисусе! — пробормотал я. — Энди… Вот бедняга…
Фергал легонько похлопал меня по плечу. Скотчи сплюнул и, повернувшись к нам, сказал:
— Я хочу, чтобы вы оба пообещали мне: если я не вернусь, вы позаботитесь о Большом Бобе. Обещайте, что вытащите его отсюда.
Я и Фергал кивнули.
Не прибавив больше ни слова, Скотчи лег на пол. Я стряхнул с руки богомола и тоже улегся. Подложив обе руки под щеку, я подтянул колени чуть не к самому подбородку и закрыл глаза.
Через некоторое время я заснул.
6. Затерянный мир
Да, это правда. Мы затеряны в океане. Мы плывем в утлой лодчонке по бушующему морю. Вокруг громоздятся волны величиной с дом. Компаса нет. Мы влипли. Потеряли ориентиры. Заблудились в тумане неведения. Мы тонем в штормовой мгле ночи, но рассвета не будет. Координаты и карты больше не существуют. Нет больше земли, нет навигационного счисления, нет даже самого горизонта. Это конец. Воздух в каюте застоявшийся, затхлый, и я заперт здесь с астматиками, с такими же глупцами, как и я; они не знают матросских песен, но их кашель звучит как отходная. Впрочем, судьба их хуже моей. Со мной все в порядке, потому что я — не с ними. Я не мужчина и не мальчик, я — корова или, скорее, черный бык, а может быть, даже птица или крошечная зеленая гусеница, способная проползти в щель под дверью. И я остаюсь гусеницей или птицей до тех пор, пока один из них не скажет или не просипит что-то; тогда я возвращаюсь и снова становлюсь бредящим пассажиром — измученным морской болезнью, погибающим, почти погибшим…
Я закрываю глаза, ложусь, снова открываю.
Дни идут за днями.
Строго говоря, с тех пор, как я случайно открыл для себя иной, параллельный мир, дела обстоят не так уж плохо. Лежа со скрещенными на груди руками на тощей охапке соломы, я смотрю на потолок и вижу там долины, горные кряжи, впадины, дороги. Клочья старой паутины напоминают облака. Потолок похож на выцветшую, сделанную с высоты птичьего полета черно-белую фотографию какой-то местности, и я начинаю воображать, будто различаю там города и реки. Рельеф на удивление неровный. Местность гористая.
С каждым днем мы с Фергалом и Скотчи все меньше разговаривали друг с другом, поэтому я стал создавать в уме историю воображаемого мира. Например, вон та большая трещина посередине на самом деле разделяет два постоянно воюющих континента. Я вижу и каналы, подобные тем, которые Персиваль Ловелл когда-то заметил на Марсе, но, несмотря на это, континент, который расположен ближе к двери, часто страдает от жестоких засух. Он, прямо скажем, гибнет буквально на глазах, поэтому его обитатели мечтают завоевать своих соседей. А кто бы на их месте не мечтал? На континенте, который расположен рядом с маленьким зарешеченным окошком, воды всегда хватает, и его жители ведут тихую и вполне сносную жизнь, занимаясь главным образом сельским хозяйством. Впрочем, по временам и в Аркадию приходит смерть, поскольку на ее землях я вижу влажные пятна — следы былых наводнений. На континенте у окна тоже есть паутина, и я воображаю, что это опасные, непроходимые болота, куда отваживаются забираться только круглые дураки, которых в этой утопически-пасторальной стране хватает с избытком.
Я выдумываю истории войн и мирных переговоров; порой в общие темы вплетаются и более узкие сюжеты об отдельных выдающихся личностях. На континентах существуют, разумеется, различные политические партии и многочисленные религии, и я не исключаю, что для тамошних жителей богами являемся именно мы.
История двух континентов ненадолго прерывается по утрам, когда в окно проникают солнечные лучи, и тогда начинается ежедневное черно-белое кино: причудливые тени, меняя очертания, медленно ползут по неровной поверхности потолка. Шоу продолжается без малого три часа, потом тени исчезают. Быть может, фильм и не бог весть какой, но мне нравится его бесконфликтный, незамысловатый сюжет.
Прошло уже две недели нашего заточения, за которые мы превратились в грязных, покрытых коростой и искусанных оборванцев. Наши раны так и не зажили как следует. Как я уже говорил, друг с другом мы почти не разговариваем. Фергал, сидя в ближайшем к окну углу камеры, коротает время, пытаясь сделать отмычку из половинки пряжки от моего ремня. Замки на наших ножных цепях кажутся ему относительно простыми и однотипными, выпускавшимися еще в семидесятых, и он думает, что сумеет их открыть. Когда-то Фергал был взломщиком, поэтому не исключено, что он знает, что говорит, но и мы со Скотчи знаем его достаточно хорошо, чтобы питать сколько-нибудь большие надежды. Кроме того, дверной замок, открывающийся длинным ключом с бородкой, в любом случае ему не по силам по той простой причине, что изготовить такой ключ ему не из чего. Именно поэтому Скотчи говорит, что нет никакого смысла освобождаться от ножной цепи, коль скоро дверь нам все равно не поддастся. Но это только слова. Освободиться от цепей, ограничивающих нашу свободу до какой-нибудь пары шагов, ему хочется не меньше, чем нам.
С тех пор как из камеры унесли Энди, прошло десять дней. Сейчас он уже, конечно, похоронен или кремирован — не знаю, как они тут поступают с трупами. Быть может, поедают на древней языческой церемонии, сохранившейся со времен майя. Нам, во всяком случае, об этом ничего не сказали. Нам вообще никогда и ни о чем не говорят, но я уверен, что теперь и о нас станут говорить как можно меньше: в конце концов, мертвый гринго — это такая штука, о которой не трубят на каждом перекрестке. Наше дело просто уберут с глаз долой, на самую дальнюю полку, и не станут ничего предпринимать, предоставив нам возможность тихо гнить заживо в этой долбаной тюряге. И это только разумно, поскольку, если мы когда-нибудь выйдем на свободу и расскажем нашу историю газетам, мексиканским властям вряд ли удастся замять смерть Энди. С другой стороны, я не представляю, как и когда мы выйдем отсюда, поскольку под залог нас точно не выпустят. Правда, мы могли бы дать слово молчать (как известно, слово наркоперевозчика — самое крепкое слово в мире!), и все равно от этой истории будет пахнуть довольно скверно, а лишние неприятности никому не нужны.
Впрочем, я не стал делиться этими соображениями с остальными. Скотчи, по-видимому, еще надеялся на свою дружбу с Темным, а Фергал тратил всю свою нервную энергию на изготовление идиотской отмычки.
Несколько раз за это время мы гуляли во дворе, но никто больше на нас не нападал. Думаю, Энди погиб только из-за того, что парням приглянулась наша одежда. Знаю, это звучит глупо, но после того, как они завладели нашей обувью, мы перестали представлять для них какой-либо интерес. Мы запасли соломы для подстилок, и Скотчи даже попытался заставить нас убраться в камере. Впрочем, в последние пару дней он, похоже, махнул на эту затею рукой, и дело было не в том, что убираться здесь все равно было бесполезно. Просто все его моральные силы уходили на то, чтобы поддерживать в себе мужество, а продолжать строить из себя начальника ему было невмоготу.
Итак, Скотчи спит. Фергал стачивает пряжку о бетон. Картину дополняют мухи, тараканы, гусеницы, испарина на коже и, конечно, потолок.
Утреннее кино закончилось, и до обеда еще четыре часа. Я смотрю на потолок, и история двух континентов сама собой начинает разворачиваться в моем воображении. Занятия сельским хозяйством предполагают наличие скота, и я ясно вижу тучные стада на зеленеющих склонах. Пыль поднимается над дорогой, по которой вереницей бредут усталые паломники, явившиеся в эти края омыться в водах священной реки. Паломников тысячи. Даже сотни тысяч. Миллионы. Основная религия на обоих континентах одна и та же, но — в точности как у лилипутов и блефускуанцев или католиков и протестантов — различие в мелких частностях, которые и вызывают ожесточенные споры. Одни говорят, что омываться нужно только по пояс. Другие утверждают, что погружаться в воду следует с головой. Богословы в университетах всерьез обсуждают этот вопрос, приводя изощреннейшие теологические доводы в пользу своей точки зрения и яростно опровергая мнение противников. Кстати, большинство жителей моего мира носят тюрбаны, но одни завязывают узел на лбу, а другие — на затылке. Из-за этого тоже происходит немало споров, диспутов, ссор. В целом вся ситуация напоминает эпизод из «Звездного пути», где играл Фрэнк Горшин.
Теологическим словоблудием дело, понятно, не ограничивается. Диверсионные отряды совершают дерзкие рейды через трещину… простите, через Большое Ущелье. В конце концов в плен (как в свое время Гэри Пауэрс[31]) попадает группа подростков, и разражается дипломатический скандал. Растет напряженность; при этом обеим сторонам давно обрыдла однообразная и скучная жизнь, которую они ведут, что является благоприятной почвой для роста воинственных настроений. В народе зреет недовольство, пресса нагнетает страсти и раздувает военную истерию. Премьер-министр левого континента обсуждает со своим кабинетом возможные последствия мобилизации. Заседание кабинета происходит в летней резиденции на одном из островов неподалеку от разделяющего континенты разлома. Сторонники мира считают, что война обернется бойней и будет стоить обеим сторонам миллионы жизней, и они, конечно, правы. Их лидер напоминает членам кабинета о последствиях недавнего пограничного конфликта, и те слушают разинув рты… Дальше моя история превращается в историю жизни моего дедушки Сэма. Кровь и грязь, кости и дерьмо, которого простые ирландцы вдоволь нахлебались в июле 1916 года. Приснопамятная Ольстерская дивизия, которую германские пулеметы косили сначала ротами, потом — батальонами, так что спустя неделю в живых не осталось практически никого. И это никакое не преувеличение. Я помню, у дедушки на фортепьяно стояла фотография тех времен, на которой было снято пятьдесят его однополчан. Сорок пять из них были убиты в первые же двадцать минут. Фортепьяно, старые, порыжевшие фотографии, сабля и скрипка на стене… Как напряжены люди на снимке, как строги и серьезны их лица! Действительно ли они были такими, или, может быть, на самом деле они были такими же, как мы, шалопаями?
Интересно, откуда взялись все эти мысли? Дом… Война… И то и другое осталось в другой вселенной. Океан? Но океан широк, и я по-прежнему в Новом Свете. Впрочем, кто знает…
Я оставляю дедушкиных однополчан лежать в окопной грязи и дышать отравляющими газами, которые ветер относит назад на их же позиции, а сам возвращаюсь к скотоводам и земледельцам приоконного континента. До механизации здесь еще не додумались. Впрочем, как и до огораживания. Зато на континенте практикуется правильный севооборот, когда часть земель остается под паром зимой и каждый седьмой год. Злаки на полях морозоустойчивы и легко приспосабливаются к почве, поэтому урожаи, как правило, бывают большими. Болезней в этом королевстве нет. Только в районе болот встречается малярия, но целебные свойства хинина уже открыты.
Я вижу — сыплет легкий, теплый дождичек. Фермеры вспахивают склоны отлогих холмов, в прогалах между которыми синеет вода залива. На фермерах шерстяные брюки, хлопчатобумажные рубашки и плоские твидовые кепки. Фермеры пьют пахтанье и едят картофельную запеканку с маслом и приправами. Нет, лучше не так… Пусть они завтракают поджаренными содовыми лепешками с золотистым сиропом. Поел и в поле! Свежее утро. Над заливом проглядывает солнце, и мой континент сразу становится похож на графство Доун. Белеет на холме церковь, тарахтит трактор, а ты сгребаешь сено. Я бы не отказался снова оказаться в тех местах. Трактором управляет здоровенный хмурый детина; он медленно едет по полю, а мы вилами закидываем в кузов охапки сена. Мы потеем, бранимся, а потом, за обедом, травим разные истории. Нам только по тринадцать, но жена хозяина выносит нам сидр, и мы хмелеем от одного его запаха. На закуску у нас свежий домашний хлеб, который мы едим с джемом и черносмородиновым вареньем… Ну, пожалуй, хватит. Я закрываю глаза и засыпаю.
Проходит несколько часов.
Я просыпаюсь и снова сажусь.
Парни еще спят. У Скотчи отросла клочковатая рыжая борода, глаза ввалились, дряблая кожа стала тусклой, как пыльный мрамор. От работы над отмычкой у Фергала сбиты в кровь пальцы, растрепанная жесткая борода торчит клочьями, как у сумасшедшего. Он зарос до самых глаз, и я думаю — парни его побаиваются. Один бог знает, как выгляжу я сам. Раньше у меня никогда не было бороды. Сейчас я тоже зарос, но зеркала нет, и я не могу сказать, идет мне борода или нет.
Я знаю, что через некоторое время Скотчи проснется и начнет яростно чесаться: промежность, ноги, голова, потом все остальное. Обычно это продолжается не менее получаса; еще минуту или две Скотчи будет разговаривать сам с собой и наконец, если у него останутся силы, скажет пару слов мне. Откусив отросший ноготь, он снова начнет чесаться.
Фергал просыпается иначе. Он совсем не шевелится, так что не сразу поймешь, спит он или бодрствует. Так он будет лежать долго, уносясь мыслями куда-то далеко-далеко. Разговаривает он еще меньше, чем Скотчи. Если у него есть силы, он сядет и снова начнет обтачивать мою пряжку.
Но сил у нас осталось всего ничего. Я думаю, скоро у нас начнут выпадать волосы и зубы. Скотчи говорит, что запасов витамина С в человеческом организме хватает всего на полтора месяца. Потом начинается цинга.
Я пытаюсь рассуждать последовательно, чтобы держать себя в руках, но мысли приходят одна мрачней другой. Дела наши, строго говоря, обстоят очень и очень неважно. Мы все сильно похудели и ослабли, и я точно знаю, что у меня начинают появляться пролежни. Ногти сделались тонкими и ломкими, а голос — хриплым, к тому же мне постоянно хочется спать. Все было бы иначе, давай они нам изредка лаймы или апельсины.
Подходит время обеда. Мы едим вареный рис и запиваем водой. Я все жду, когда же наше меню хоть немного изменится, но оно не меняется. Скотчи бормочет что-то насчет сверчков: мы, мол, должны их есть, потому что они — источник протеина, но до такого я еще не дошел.
Однако через день или два он приказывает нам есть сверчков. Смешно думать, будто Скотчи еще может командовать нами, и все же в его словах есть рациональное зерно. Сверчков легко поймать, к тому же это какое-никакое развлечение. Мы с хрустом жуем их шатающимися зубами, притворяясь, будто это картофельные чипсы. Только жевать надо как следует, потому что иначе они будут шевелиться даже в глотке. Впрочем, богомолы в этом отношении еще хуже.
Фергал отказывается есть сверчков. Скотчи смеется и говорит, что нам больше достанется.
Потом Фергал возвращается к своей отмычке. Скотчи — к своей бессильной ярости и бессвязному бормотанию. Мне не к чему возвращаться. У меня нет ничего, кроме мрачных мыслей, сожалений, страха.
Наступает ночь.
Утром мы выбираем друг у друга вшей из волос и бороды. Потом я занимаюсь обычными делами: смотрю свое кино, сочиняю историю о фермерах, о войне. Приносят обед. Вечер приходит быстро, а за ним — снова ночь. С каждыми прошедшими сутками шум за стенами нашей темницы становится все громче. Лесная симфония гремит не умолкая и днем и ночью; только в полдень, в самую жару, голос джунглей умолкает на полтора-два часа, и кажется — это сделано специально, чтобы подразнить нас иллюзией тишины. Наступает утро, но мы не слышим ни пения петухов, ни щебета ранних пташек — ночной шум просто сменяется дневным, вот и все.
В моем выдуманном мире кончается лето. Близится жатва. Народы приоконного континента живут в изобилии, благоденствуют и не ждут ничего дурного, но обитатели дверного континента, с проклятьями царапающие плугами иссохшую, тощую землю, дышат завистью и войной.
Солнце врывается в зарешеченное окошко камеры. Мы знаем в лицо уже почти всех охранников и надзирателей. Косой, Рябой, Бандит (он — однорукий), Аль Пачино (со шрамом на лице), Кинг-Конг (у него большие вывернутые ноздри), Рузвельт (он сильно хромает и едва волочит ноги)… Никто из них, за исключением Косого, ни слова не знает по-английски (а если знает, то очень удачно скрывает). Косой знает слов примерно пять, но задавать ему вопросы все равно бесполезно. Из заключенных мы не знаем никого. Если у них и есть главарь, то это низкорослый индеец в джинсах и высоких ботинках, которые когда-то принадлежали Энди. Остальные — хотя и не все — относятся к нему с видимым почтением. Но для нас это не так уж важно. Парням нет до нас никакого дела; похоже, они вообще нас не замечают.
Во сне мы видим еду. Шоколад «Кэдбери», пончики с кремом, золотистую жареную рыбу с картошкой. И конечно, пиво. Настоящий «Гиннесс» — горьковатый, густой, бархатистый.
А еще мне снится она. Снятся ее глаза, ее улыбка. Снятся ее длинные ноги, глядя на которые так и хочется прикоснуться к ней, обнять, отнести ее на постель, расстегнуть зеленую юбку и снять белые трусики. Почувствовать на коже ее легкое дыхание. Войти в нее. Прижать. Пить ее сладкий пот. Лежать рядом с ней на прохладных белых простынях.
Но я сижу на бетонном полу, чешусь, скучаю, бросаю Скотчи пойманного сверчка, но он не реагирует, и я продолжаю сидеть неподвижно.
От скуки я выбираю одну из множества мух и пытаюсь следить за ней взглядом. Она опускается на край нашего ведра, взлетает, садится на Фергала, снова взлетает, снова летит к ведру, возвращается ко мне, откладывает что-то на мое предплечье (мне приходится замереть, чтобы не мешать ей), взлетает. В ее движениях мне чудится какая-то упорядоченность. Скотчи, Фергал, я… Мухи словно связывают нас воедино святым помазанием из ведра с нашим же жидким дерьмом.
— Сам ешь своих сверчков, Брюс, — говорит Скотчи. — Их теперь не так просто поймать.
Он бросает мне моего сверчка, я ловлю его на лету и действительно съедаю. Глядя на меня, Скотчи улыбается.
Сегодня снова третий день, и охранники отпирают замки. Звучит свисток, и мы выходим во двор. Мы держимся вместе и глядим в оба. Никто не обращает на нас внимания, никто с нами не заговаривает, а мы в свою очередь стараемся держаться как можно дальше от остальных. Несколько секунд я злобно гляжу на парня, который щеголяет в моих сандалиях, но спохватываюсь и отвожу глаза. Снова свисток. Мы забираем наше ведро и нашу солому и возвращаемся в камеру.
Появляются надзиратели. Они достают из мешка замки и прикрепляют наши цепи к кольцам в полу. Дверь закрывается.
Я сижу на полу и гадаю, кто из моих товарищей заговорит первым и заговорит ли вообще. Фергал чем-то взволнован, и его прорывает:
— Слушайте, парни, знаете, что я вам скажу? Один хромой старик мне подмигнул. По-моему, он что-то задумал. Вдруг у него есть для нас какое-то сообщение? Может, даже о Большом Бобе, а?
— А может быть, он просто задумал поиметь тебя в задницу, — лениво говорю я.
Скотчи ухмыляется.
— Нет, нет, он что-то хочет нам сообщить, точно! — настаивает Фергал. — Вам двоим он не доверяет, но я — другое дело.
— Несомненно, этот колченогий — руководитель подпольного комитета по организации нашего побега. Ему понадобилась твоя помощь, чтобы сдвинуть с места планер, который они тайком собирают в блоке «С», — с издевкой говорит Скотчи.
Я подмигиваю.
— Не понимаю, почему вы злитесь! — говорит Фергал.
— А что, для этого мало причин? — огрызается Скотчи.
Фергал что-то ворчит себе под нос и снова принимается обтачивать пряжку.
Скотчи тем временем кивает мне, а я киваю в ответ. Мне хочется сказать что-то такое, что бы всех нас развеселило, но ничего не приходит в голову. Мозги ворочаются так медленно и с таким трудом, словно они заржавели.
Так и не сказав ни слова, я снова ложусь и начинаю выбирать насекомых из бороды. Покончив с этим, я зарываюсь в солому. Приносят рис и воду, и мы жадно глотаем. Темнеет, и нами овладевает безотчетный страх. Только доносящиеся снаружи звуки напоминают о том, что где-то есть и другой мир.
Дни идут. Погода начинает меняться. Все чаще выпадают дожди, и пол в камере буквально сочится сыростью (как будто у нас и без этого было мало неприятностей). У Скотчи начался кашель, его натужное перханье не дает нам спать. Фергал и я думаем, наверное, об одном и том же: Скотчи будет следующим. Просыпаясь утром, мы ждем, что он начнет харкать кровью, но ничего не происходит; напротив, Скотчи выглядит даже бодрее, чем накануне. Весь день он не разговаривает — бережет горло, и к ночи кашель ослабевает.
— Как ты нас напугал, дружище! — шепчу я в темноте. — Мы уж думали — ты подцепил холеру или, скорее всего, СПИД или триппер.
Скотчи не отвечает, но я чувствую, что он улыбается. И засыпаю. Ночью мне снова снятся плохие сны. Наступает еще один день, как две капли воды похожий на предыдущий. Кашель у Скотчи окончательно проходит, и мы рады тому, что наше положение не стало хуже, поскольку об улучшении говорить не приходится. С каждым днем мы слабеем все больше — сказываются недоедание и понос, и я знаю, что это не может продолжаться бесконечно.
Но что мы можем поделать, кроме как беречь силы и надеяться на перемены к лучшему? Конечно, это чистой воды микоберизм,[32] но мои мозги настолько отвыкли работать, что ни на что другое я уже не способен.
В один из дней я вдруг решаю, что сегодня мой день рождения. Я в этом уверен, но я ничего не говорю ни Скотчи, ни Фергалу. Я просто сижу и думаю о том, что моя юность осталась позади. И именно в этот день, а точнее — ночью, я мысленно возвращаюсь в те края, где все начиналось.
Интересно, похожа ли память на дневник или судовой журнал? Можно ли записать в нее имена и лица, а потом, много лет спустя, заново перечесть страницы былого? Большинство специалистов однозначно ответят — «нет». Ненужное выпадает из памяти. Ведь она — не видеокамера, не компьютер и не регистрационная книга. Но правда ли это? Как в таком случае объяснить, что я прекрасно помню все подробности, все запахи, все диалоги?
Все это здесь, у меня в голове.
Ей-богу.
Где ты, старший брат? Где вы, мама и папа? Но даже если вы уже ушли из нашего мира, вы все равно существуете — пусть даже только в этих моих грезах наяву. Я вижу вас, вижу все, что было…
Мои глаза закрываются. Все готово. Воспоминания о часах и днях спрессованы в один миг, в несколько кратких секунд. Будущее, настоящее, прошлое…
Я помню! Пи-Джей прячется под сараем. Дэви Куинн. Миссис Миллер. Состриженные вихры, кружась, сыплются на пол. Все воспоминания спрессованы в одно. Странно, что большинство из них группируется вокруг праздников — Иванова дня, праздника окончания полевых работ, Рождества, святого причастия… Впрочем, нет, не странно; просто для меня праздники — самое трудное время. Взять хотя бы прошлогоднее Рождество в Европе, или еще более давнее Рождество, которое я встречал на голых, узких, темных улочках родного города, или Рождество, которое еще только грядет…
Дождь барабанит в окно, тянет по стеклу свою бесконечную туманную сказку. От кухонной плиты тянет запахом горящего торфа. Зима — ив моих воспоминаниях Белфаст похож на город, который только что поднялся со дна залива.
Пи-Джей сидит под сараем. Он прячется. Впрочем, Пи-Джей предусмотрительно захватил с собой игрушки. Я вижу в темноте тусклые движущиеся пятна — это светящаяся краска на игрушечных солдатиках. Пи-Джей играет в противопехотные мины, и пластмассовые тела летят во все стороны от места воображаемого взрыва. Брат старше меня на три года, но я выгляжу серьезнее и взрослее, к тому же я давно предпочитаю «экшнменам» конструктор «Лего». Предпочитаю, впрочем, не по своей воле. Мы с Пи-Джеем как-то поспорили, что я сумею сделать из простыни настоящий парашют, который позволит мне спрыгнуть с крыши прачечной в сад на заднем дворе и не покалечиться. Я проиграл, и мне пришлось отдать своих «экшнменов» брату.
Да, я помню…
Пи-Джей прячется под сараем, и мне тоже хочется спрятаться. Некоторое время я раздумываю, как поступить — удрать в поле или забраться под кровать в нашей спальне. Последнее, однако, означает, что придется подниматься наверх, а это нежелательно, потому что дедушка бродит в пижаме по коридору второго этажа, разыскивая свои зубы и невнятно матеря премьер-министра, папу (не моего, а римского) и — иногда — кайзера Вильгельма.
Дедушка…
Я могу, разумеется, пойти домой к Дэви и попросить там политического убежища (и, если удастся, выпросить у его родителей еще один обед). Его отец и мать прятали бы меня хоть до ночи, если бы могли. Мне порой кажется, что они любят меня больше, чем собственного сына, потому что хоть я и протестант, я всегда говорю «спасибо», «пожалуйста» и называю Ширли «миссис Куинн», хотя все мы отлично знаем, что на самом деле она Дэви-ному папе никакая не жена.
Сидя перед телевизором, по которому показывают мультик про Флинтстоунов, я все еще раздумываю, как мне поступить, когда дверь гостиной отворяется.
Входит мама с фунтовой банкнотой в руке. Она кажется мне очень красивой и молодой.
— Это зачем? — спрашиваю я, неумело притворяясь, будто ничего не понимаю.
— Ты отлично знаешь — зачем. А сейчас будь добр — сходи и найди своего брата.
— Я не знаю, где он, — предпринимаю я неуклюжую попытку солгать.
— Не знаешь?
— Нет.
— А если я подарю тебе десять пенсов?
— Ты хочешь, чтоб я продал собственного брата за какие-то паршивые десять пенсов?!
— Дело твое.
Монетка лежит у нее на ладони решкой вверх. Это те самые десять пенсов, которые испоганили «временные». Прямо поверх профиля королевы выштампован большой крест.
В лавке, которая торгует сладостями, такой десятипенсовик могут и не взять — это я тоже знаю.
Мама смотрит на монетку и пожимает плечами. Потом запускает руку в карман своих слаксов — синих, с въевшимся пятном от варенья на заду. Из кармана она достает республиканский десятипенсовик с рыбой на аверсе и арфой на реверсе.
— Пи-Джей под сараем, — быстро говорю, хватаю свой серебреник и прячу в кармашек шортов.
Мама открывает окно:
— Пи-Джей, иди сюда. Я тебя вижу.
Но он не идет.
— Ты под сараем, Пи-Джей. Я вижу тебя даже отсюда.
Через минуту брат появляется в гостиной. Он бросает на меня недобрый взгляд.
— Это ты меня выдал, маленький говнюк, — убежденно шепчет он, когда мама уходит, чтобы принести ему чистую футболку.
— Ничего подобного.
— Врешь.
— Ты, кажется, назвал меня лжецом?
— Да, назвал.
— Ну, ты у меня сейчас получишь! Я так тебе двину, что своих не узнаешь.
— Ну-ка, попробуй, посмотрим, как у тебя получится.
— И попробую.
— А вот попробуй.
— И попробую.
— Попробуй, и увидишь, что будет.
— Что?
— Сам получишь — вот что!
— Ха-ха, думаешь, испугались очень?!
— Конечно.
— Видали мы таких.
— Каких?
— Э-э-э… — Я смотрю на него и морщу лоб.
— Слушай, напомни, о чем мы вообще говорили?
Пи-Джей ухмыляется, и мы оба хохочем.
— Маленький говнюк! — шепчет Пи-Джей, когда мать возвращается с желтой футболкой.
— Надевай, — говорит она. — Не могу поверить, что ты лазил под сарай — ведь там черви и… и прочее. Знаешь, сынок, мне иногда кажется, что у тебя не все в порядке с головой. Хорошо еще, что нашего папы сейчас нет.
— Можно подумать, что он когда-нибудь есть! — тихонько шепчет мне Пи-Джей.
Я не отвечаю, и мы вместе выходим на улицу.
— Как ты считаешь, — спрашивает Пи-Джей, — нельзя ли как-нибудь от этого отвертеться?
— Нет, если, конечно, ты не хочешь остаться в этом году без подарков, — говорю я.
Дальше мы идем в мрачном молчании. Сгущаются ранние сумерки, и на улице много детей, которые играют в вышибалы, в пятнашки, в футбол. На дворе конец декабря, но погода на удивление мягкая и сухая, и несколько девчонок играют на асфальте в «классики» или прыгают через веревочку. Мирный, тихий вечер, напоенный предвкушением завтрашнего праздника…
Прямо посреди проезжей части сидит крупная, рыжевато-коричневая собака. Объезжая ее, машины сердито гудят, но собака и ухом не ведет.
Мистер Маккласки пытается загнать голубей в голубятню, но они продолжают сидеть на телефонных проводах и не спешат слетать вниз.
— Ну, спускайтесь же, сукины дети! — снова и снова взывает к ним мистер Маккласки, и я знаю, что рано или поздно на улицу выйдет его жена, которая станет упрекать его за то, что он ругается при детях. Что касается голубей, то они сами вернутся в голубятню, как только похолодает.
Мы идем мимо дома Куиннов. Дэви замечает нас из окна.
— Эй, Майкл! — вопит он. — Как крэк?
— Никак.
— В крикет сыграем?
Я качаю головой.
— Иду по делам! — кричу я в ответ.
— По большим или по малым?! — шутит Дэви.
Мы движемся дальше и, миновав несколько дверей, оказываемся перед домом, в ограде которого зияет большая дыра. Все дома на нашей улице одинаковы. Они сложены из красного кирпича и стоят почти вплотную друг к другу по шесть или семь в ряд. Чтобы попасть в сад на заднем дворе, приходится идти либо непосредственно через дом, либо через узкий проход между двумя соседними домами. Единственное, что отличает один дом от другого, это то, как его хозяева ухаживают за своим палисадником. Одни сажают цветы, другие — овощи, третьи засеивают землю травой, а некоторые (почему — этого ни я, ни Пи-Джей не в состоянии понять) заливают весь передний двор бетоном.
Миллеры, как видно, давно махнули на свой палисадник рукой. Он весь зарос травой высотой фута три, из которой выглядывают остовы странных механических конструкций. Мы знаем, что у них есть собака, потому что собачьи кучки встречаются нам на каждом шагу, однако мы ни разу ее не видели. Пи-Джей считает, что однажды собака заблудилась в траве, да так и не смогла вернуться домой, и с тех пор питается кузнечиками и кусочками, откушенными от почтальонов.
Или от маленьких мальчиков.
Единственной видимой приметой праздника служит приклеенная к окну записка, адресованная молочнику. На листке бумаги написано от руки: «В рождественский сочельник — два молока». «Сочельник» Миллеры пишут через букву «а».
Мы идем к дому по растрескавшемуся асфальту дорожки и стучим дверным кольцом. Сначала никто не отзывается, потом из гостиной доносится сочная брань. Мы слышим приближающиеся к двери шаги и на всякий случай отходим подальше.
Дверь открывается, и на пороге появляется мистер Миллер. Он очень рассержен. Несколько мгновений он глядит на нас с недоумением, потом говорит:
— А-а, гимны петь пришли? Так что ж не поете, недоноски?
— Видите ли, сэр, мы не…
— Если вы думаете, что я дам вам хоть пенни просто так, то вы ошибаетесь. Ну-ка, пойте гимны, иначе вместо денег я вам еще горячих подсыплю! Современная молодежь совершенно не хочет трудиться — хочет, чтобы ей поднесли все на блюдечке, вот в чем проблема! Не то что фении — эти знают, что делают. По телевизору все время передают, как они вкалывают, а потом поют и танцуют эти свои ирландские танцы. Они нас просто вытесняют. Вытесняют, ассимилируют, поглощают! Взять хотя бы Куиннов! У них уже десять сопляков, а Ширли опять на сносях! Вот они будут петь, да еще как будут. Стараться будут, из кожи вон лезть, чтобы заработать лишний медяк, да только напрасно — от меня они и гроша не получат. Я их угощу разве что ведром холодной воды, чтобы впредь неповадно было, хе-хе!
— Мы вообще-то насчет стрижки, мистер Миллер, — с беспокойством вставляет Пи-Джей.
Мистер Миллер косится на нас и, наклонив голову набок, надолго задумывается.
— Ах да, конечно, — говорит он наконец. — Проходите. Я сейчас позову Мэри.
Пи-Джей слегка толкает меня в спину, ему хочется, чтобы я вошел первым.
— Ступайте сразу на кухню, — добавляет мистер Миллер.
Мы идем по коридору мимо знакомых военных фотографий и картин, изображающих битву на реке Войн. Картины написаны самим хозяином дома и поражают полным и неизменным отсутствием даже намека на какие-либо способности. Мистер Миллер придерживается нетрадиционных взглядов на перспективу и основные законы создания художественных образов. На его картинах король Вильгельм больше похож на спившегося Ринго Стара, чем на привычный образ великолепного Короля Билли, открытки с портретами которого можно купить в протестантских кварталах почти на каждом углу. Католического короля Иакова мистер Миллер всегда старается изобразить злым и коварным, но человеку постороннему бывает трудно разобраться, который из королей больше напоминает нормальное человеческое существо.
Пи-Джей, впрочем, старается воздерживаться от каких-либо замечаний. Как-то раз он попытался прокомментировать сюжет одной из картин и в течение следующих сорока минут был вынужден слушать подробный рассказ о том, что вдохновило мистера Миллера на написание данной картины и почему он почувствовал себя обязанным взяться за кисть.
Пи-Джей вталкивает меня в кухню, входит сам, и мы рассаживаемся рядком у стола.
— Она сейчас спустится, — говорит мистер Миллер и, включив свет, снова выходит в гостиную, оставляя нас одних.
Сквозь открытые окна в кухню врываются запахи улицы, искушая нас соблазнами внешнего мира. Кто-то готовит жаркое, и мы чувствуем аромат грудинки и поджаристой хлебной корочки. В воздухе вьется мошкара; несколько переживших первые заморозки ос с басовитым гудением перелетают с травинки на травинку в запущенном саду Миллеров.
— Может, сделаем ноги, пока не поздно? — предлагает Пи-Джей. — Выберемся через заднюю Дверь да махнем через забор, а?
Я смотрю на него с презрением.
— Ты что, с дуба рухнул? — говорю я. — Старый мистер Миллер нас тут же застрелит.
— Как это — застрелит?
— Обыкновенно. Из ружья.
— Нет у него никакого ружья.
— Он же в этих, в боевой дружине… — говорю я, понижая голос до шепота.
— Откуда ты знаешь? — насмешливо спрашивает Пи-Джей.
— Спроси у папы, когда он придет.
— А вот и спрошу, и ты окажется в дураках.
— Нет, это ты окажешься…
— Нет, ты!
Пи-Джей замолкает, потому что на пороге появляется миссис Миллер.
Должно быть, она только что встала, потому что на ней только ночная рубашка и шлепанцы. Поверх ночнушки она накинула просторный домашний халат, подпоясанный широким кожаным ремнем с квадратной пряжкой, как у Элвиса. Меня вдруг посещает мысль о том, что она, наверное, работала в ночную смену и что мы помешали ей выспаться как следует.
— Привет, ребята, — говорит она и несколько раз проводит пальцами по своим длинным светло-рыжим волосам, разделяя спутавшиеся пряди. Я протягиваю ей фунтовую бумажку, и миссис Миллер улыбается. — Ну, кто первый? — спрашивает она.
Я успеваю показать на Пи-Джея чуть раньше, чем он успевает ткнуть пальцем в меня.
— О'кей, значит, с тебя и начнем, Пи-Джей, — говорит она и выдвигает его табурет в центр кухни. Потом миссис Миллер отходит к раковине, закуривает сигарету, берет посудное полотенце и набрасывает Пи-Джею на плечи. Из кармана халата она достает ножницы и расческу. Расческа не очень чистая, и я радуюсь, что первым будут стричь брата, а не меня.
Я сижу на табурете, вдавившись спиной в кухонный стол, и глазею по сторонам. Кухня у Миллеров оклеена обоями, на которых вместо рисунка мелкими буквами напечатано слово «Дюпон». Я знаю, что раньше мистер Миллер работал на дюпоновском заводе в Дерри, но потом его посадили в тюрьму за… в общем, за что-то. Все родители на нашей улице знают, в чем там было дело, но детям не говорят, и от этого нам кажется, что мистер Миллер совершил что-то ужасное. Разумеется, ходят разные слухи, но лично я склонен верить версии, согласно которой он участвовал в одном ограблении, затеянном дружиной. Мистер Миллер был шофером и должен был увезти основных участников налета подальше от места преступления. Ограбление закончилось неудачно, потому что (согласно тем же слухам) мистер Миллер был настолько пьян, что не смог вести машину.
В целом кухня выглядит совершенно непримечательной, если не считать двух календарей, которые висят на стене напротив меня. Первый из них — сувенир из китайской забегаловки с панорамой Гонконга. Второй календарь выпущен газетой «Сан», и на нем изображена девица с обнаженной грудью, которая держит в руках футбольный мяч. На каждой странице этого календаря напечатана новая девица, тогда как китайский устроен так, что фотография Гонконга остается видна, сколько бы страниц вы ни перевернули. Я смотрю на календарь «Сан» и мгновенно краснею, а хуже всего то, что я уверен — миссис Миллер знает, что я уставился на голую грудь девицы.
Я поспешно опускаю голову и смотрю на кафельный пол, где уже скопилась порядочная кучка русых волос Пи-Джея.
На шлепанцах у миссис Миллер две большие дырки, и я вижу, что ее ногти выкрашены розовым лаком. Когда она делает шаг, халат распахивается, и я вижу ее ноги. Интересно, сколько ей лет, спрашиваю я себя и украдкой бросаю на нее быстрый взгляд.
Миссис Миллер где-то около тридцати. Так, во всяком случае, мне кажется. У нее на лице почти нет морщин, а небольшие мешки под глазами появились, скорее всего, от усталости и недосыпа. Несомненно, она очень привлекательная женщина (мне она, во всяком случае, нравится), и я недоумеваю, как она могла выйти замуж за такого кретина, как мистер Миллер.
Я снова смотрю на календарь и замечаю, что девицу зовут Стейси. Груди у нее большие, как дыни, и гладкие, словно сделаны из пластмассы. Каким-то образом они кажутся мне и восхитительными, и отталкивающими одновременно — совсем как чудовище из фильма «Доктор Ху», смотреть на которое жуть берет, но и не смотреть тоже невозможно. Чтобы справиться со смущением, которое во мне вызывают эти блестящие, противоестественно большие груди, я снова опускаю голову и упираюсь взглядом в пол.
Потом я замечаю, что вспотел. Я смотрю на Пи-Джея и вижу, что он острижен только наполовину. Тяжело дыша, я незаметно вытираю влажные ладони о штаны и поворачиваюсь к окну, но задний двор у Миллеров зарос травой еще сильнее, чем палисадник, и смотреть там совершенно не на что.
Внезапно дверь распахивается, и в кухню быстро входит мистер Миллер.
— Ай! — вскрикивает Пи-Джей, которому миссис Миллер поцарапала ухо ножницами.
— Смотри, что я из-за тебя сделала! — говорит миссис Миллер, щедро посыпая голову Пи-Джея пеплом сигареты, торчащей у нее между пальцами.
— Из-за меня?! — сердито огрызается мистер Миллер. — Господи Иисусе, неужто мне в собственном доме нельзя воды попить?
— Разве так трудно подождать пять минут? — со злостью огрызается миссис Миллер.
— Да, черт тебя возьми, трудно! — рявкает мистер Миллер и выходит, яростно хлопнув дверью. Мы слышим, как он с топотом поднимается по лестнице, не переставая браниться.
На этот раз краснею не только я, но и Пи-Джей.
Миссис Миллер смотрит на меня и улыбается, но как-то совсем невесело.
— Подожди минуточку, — говорит она Пи-Джею и выходит из кухни. Мы слышим, как она поднимается по лестнице вслед за мужем. Пи-Джей поворачивается ко мне, его лицо выражает страдание.
— Хорошо бы я уже облысел, — негромко говорит он.
— Угу. Как Саймон Баскин.
— Кто это?
— Один парень, которого я знал раньше. У него рак, — говорю я.
— Ах да, конечно… — Пи-Джей кивает, но я вижу, что говорить на эту тему дальше ему не хочется.
Минуточка проходит. Мы по-прежнему сидим в кухне одни: Пи-Джей вытряхивает из волос табачный пепел, я грызу ногти. Наконец дверь отворяется, и возвращается миссис Миллер.
— Вот и я, — говорит она и закуривает новую сигарету. Еще через пару минут она заканчивает стрижку. Пи-Джей снимает с плеч полотенце и благодарит.
— Я, пожалуй, пойду, миссис Миллер, — добавляет он неожиданно. — Мне еще надо доделать домашнее задание.
— Правда? — спрашивает миссис Миллер.
— Да, — решительно отвечает Пи-Джей, не обращая никакого внимания на мои телепатические сигналы, и я в отчаянии хватаю его за рукав, но все напрасно.
— Я провожу тебя, — говорит миссис Миллер, и они выходят. Я остаюсь. Мне все еще не верится. Ведь он должен был подождать меня. Я не хочу оставаться один в этом доме! Сквозь приоткрытую дверь я вижу, как миссис Миллер ведет моего брата по коридору и отворяет наружную дверь. В прихожую врывается столб света, Пи-Джей делает шаг вперед и внезапно исчезает. Кажется, что его похитили какие-то таинственные силы, как в «Контактах первого рода».
— Теперь твоя очередь, — говорит миссис Миллер, возвращаясь в кухню.
Я пересаживаюсь на табурет в центре кухни, и она завязывает у меня на шее посудное полотенце, чтобы волосы не сыпались за шиворот и на одежду.
— Тебе как обычно, Мики, мальчик?
— Ага. То есть да.
От табачного дыма и запаха ее духов у меня начинает першить в горле. Я изо всех сил стараюсь не закашляться.
Миссис Миллер начинает стричь. Двумя пальцами она захватывает прядь волос и отрезает кончики. Пальцы у нее холодные и гладкие. Она убирает немного с боков и встает передо мной, чтобы подстричь челку. Когда она наклоняется, ее халат распахивается спереди, и я вижу ночнушку и все остальное. Моргнув, я отворачиваюсь, но она берет меня за голову и наклоняет, так что теперь я смотрю прямо на ее руки.
— Не шевелись, — говорит она.
Ножницы, прищелкивая, ползут по моему лбу, и короткие темные прядки сыплются на полотенце, а оттуда — на пол.
— Ну вот, — говорит миссис Миллер и выпускает струйку дыма в направлении окна. — Так лучше?
— Да, наверное, — отвечаю я. Почему-то самые простые слова даются мне с трудом.
Она снова затягивается сигаретой. Пальцы у нее белые, почти как папиросная бумага.
— Сейчас сниму немного сзади, — говорит миссис Миллер.
Она заходит мне за спину и начинает стричь волосы за ушами. Когда ей попадается особо трудная прядь, она негромко сопит, и ее дыхание щекочет мне шею. Перед тем как поступить на работу на фабрику, миссис Миллер пять лет была парикмахершей. Стрижет она быстро и берет вдвое дешевле, чем парикмахер в торговом центре или в городе. Кроме того, миссис Миллер дружна с нашей матерью, а папа частенько разрешает мистеру Миллеру звонить с нашего телефона. Ма говорит, что могла бы стричь нас сама, но ей хочется помочь подруге, пока мистер Миллер сидит без работы.
Из гостиной доносится какой-то шум — как будто что-то упало. Миссис Миллер перестает стричь, и я оборачиваюсь, чтобы взглянуть на нее.
Потом мистер Миллер кричит, да так громко, что его, наверное, слышно даже у нас:
— Мэри!!!
— Ах, я совсем забыла! — в панике бормочет миссис Миллер. Она роняет ножницы, кидается к буфету и хватает стакан. Потом она поворачивается к раковине, на секунду включает кран, наполняет стакан водой и чуть ли не бегом устремляется в коридор.
Из гостиной доносится громкая брань, но единственное, что я могу разобрать, это «гребучий» и «сочельник».
Потом раздается глухой удар, похожий на затрещину.
Через несколько секунд в коридор, пошатываясь, выходит миссис Миллер. За ней идет ее муж. Его правая рука сжата в кулак. Он снова замахивается на жену, но замечает меня и останавливается.
— На что это ты уставился, щенок? — спрашивает он.
«Ни на что», — хочу я ответить. Больше того, мне следовало бы так ответить. Так, и только так. Но вместо этого я говорю что-то совершенно другое.
— А вы действительно крутой мужик, — говорю я.
Мистер Миллер ошеломлен и растерян. Он понимает, какой злой сарказм заключен в моих словах. Не понимает он только того, как какой-то десятилетний сопляк осмеливается делать ему замечания. Его лицо сначала бледнеет, потом багровеет. Он бросается в кухню и останавливается передо мной.
— Что ты сказал?! — шипит он, наклоняясь ко мне.
— Н-ничего… — нетвердо бормочу я.
Несколько мгновений мистер Миллер колеблется, решая, размозжить мне голову сейчас или лучше пожаловаться моему отцу. Или разделаться со мной еще каким-нибудь хитрым способом.
— То-то же, сопляк чертов! — рявкает он и трясет кулаком у меня перед носом. Потом мистер Миллер поворачивается к жене: — Давай сюда деньги, мать твою, я иду в долбаный «Рейнджере». Да шевелись ты, шлюха гребаная!
Он хватает фунтовую бумажку и выбегает вон, громко хлопнув дверью, а миссис Миллер поднимает ножницы и продолжает стрижку. Несколько раз она расчесывает мне волосы, ровняет их сзади и… Кажется, все. Уф!
— Ну вот, готово, парень, — говорит она.
— Спасибо.
Миссис Миллер прячет в карман халата расческу и ножницы. Она улыбается, но я понимаю, что миссис Миллер готова расплакаться: она как-то подозрительно шмыгает носом и трогает глаз отворотом халата.
— Вы в порядке? — спрашиваю я с тревогой.
Она глядит на меня и улыбается еще раз. Ее губы чуть приоткрываются — при свете голой лампочки они кажутся сочно-красными и влажными. Медленно подняв руку, миссис Миллер прикасается к моей щеке. Ее пальцы так холодны, что кажется, будто она давно умерла.
— Ты добрый мальчик, Майкл, — говорит она и, отняв руку, развязывает и снимает посудное полотенце. Состриженные волосы она просто стряхивает, и они сыплются на пол, кружась, как маленькие вертолетики.
— Большое спасибо, миссис Миллер, — говорю я.
— Не за что. Увидимся через месяц, — отвечает она, потом берет меня за руку и ведет к входной двери.
Уже на самом крыльце она вдруг ерошит мне волосы, и я невольно останавливаюсь.
Миссис Миллер снова прикасается к моей щеке, улыбается, потом поворачивается и тихо закрывает за собой дверь.
На улице горит заря. Золотисто-белое свечение так ярко, что вдалеке можно разобрать очертания горы Ноках.
— Лысый, лысый! Скинхед! — кричит мне Дэви Куинн, и я гонюсь за ним до самого кладбища.
Потом мы оказываемся на нашей улице и присоединяемся к игре в футбол, которую затеяли наши друзья. Мы играем в разных командах. Команда Дэви побеждает, но мне удается забить гол, поэтому в целом все складывается достаточно удачно.
Ближе к ночи, когда становится по-настоящему холодно, я отправляюсь искать Пи-Джея и нахожу его в сарае. Мы сидим там при свете парафиновой лампы и рассказываем друг другу страшные истории, в которых непременно фигурирует мистер Миллер. Мы счастливы. Стрижка осталась позади, завтра — Рождество, и мы поедем в гости к бабуле, где нас ждут подарки, которые она купила на свою небольшую пенсию. Приготовила она и праздничный ужин: индейку, картофель, торт со взбитыми сливками и фруктами и пропитанные вином и кремом бисквиты.
Наконец мы замолкаем и просто сидим и молчим. Нам давно пора в постель, но мама пошла к соседям и теперь, наверное, курит и треплется с миссис Паркинсон.
— Знаешь, — говорит вдруг Пи-Джей, — я просил бабулю подарить мне на это Рождество картонную «Звезду Смерти»…
— Ну и что?
— Мне кажется, ни к чему мне она теперь. Мне что-то разонравились все эти «Звездные войны» и прочая дребедень.
— Правда?
— Правда.
— А как насчет «экшнменов»?
— И «экшнмены» мне тоже разонравились, так что можешь их забрать.
— Ты это серьезно?
— Угу.
Я пристально смотрю на него:
— Что это на тебя нашло, Пи-Джей?
Он пожимает плечами:
— Не знаю.
Потом, лежа в прохладных простынях на верхней койке, я долго размышляю об этом и о многих других вещах, но в конце концов все они куда-то исчезают, и остается только одна мысль. Я спасу ее. Обязательно спасу, пусть даже не сразу, через несколько лет. Стану чуть постарше и спасу. Я войду к ним в дом, дам ему в челюсть и заберу ее. Мы уедем далеко-далеко за море — в Англию, в Америку или в какое-нибудь другое место, где будет светить солнце, где небо всегда будет голубое, где не будет солдат и боевых дружин, противопехотных мин и жестокости. Но с другой стороны…
Да, это было той самой ночью.
Было уже совсем поздно, когда вернулся папа. Он был сильно под газом и во всю глотку орал песни. Послышался разговор на повышенных тонах. Что-то падало. Что-то с треском ломалось.
Потом мама сказала:
— Только через мой труп.
А папа ответил:
— Тебя не спрашивают. Это мужские дела, и ты в них не лезь.
А мама, которая никогда не упускала случая подлить масла в огонь, спросила, какое отношение к мужским делам может иметь он.
Тогда папа сказал, что лучше бы ей на хрен заткнуться, если она не хочет неприятностей на свою тупую башку.
А мама сказала что-то такое, чего я не слышал, но это, несомненно, были насмешливые и злые слова, потому что папа не нашелся что ей ответить. На несколько мгновений воцарилась тишина, потом что-то со страшным грохотом разлетелось вдребезги, и мама крикнула, что это был свадебный подарок. Звонкий удар. Сдавленное рыданье.
Я знал, что Пи-Джей давно натянул на голову подушку, но я все слышал.
Я все слышал.
Шел 1982 год. Всего год прошел после голодных забастовок, и напряженность в обществе достигла наивысшей точки. Я, во всяком случае, не помню, чтобы нечто подобное имело место раньше или позже. Мятежи в Белфасте стали таким же обычным явлением, как снег у Джойса. Каждую ночь происходили взрывы и поджоги; полиция тратила уйму сил, разводя протестантов и католиков, так что дело обходилось без жертв. Впрочем, в нашем северном пригороде они могли несколько расслабиться. У нас было намного спокойнее, чем в самом городе, хотя ситуация и оставалась нестабильной. Совсем как молоко на плите — стоит повернуть регулятор конфорки хотя бы на одно деление, чтобы оно убежало и начало подгорать. Спровоцировать катастрофу мог любой пустяк или, если на то пошло, любой человек.
И неприятности не заставили себя ждать.
Мистер Миллер вбил себе в голову, что он — не чета другим. На самом деле он наверняка был заурядным членом боевого звена, мелкой сошкой, но нам, мальчишкам, он казался донельзя крутым. И себе, как видно, тоже. Как бы там ни было, он вообразил себя героем и начал совершать необдуманные поступки, и впоследствии, когда все полетело к чертям, я часто думал, что в этом есть и моя вина. В детстве многим кажется, что мир вращается исключительно вокруг них. Я, например, был почти уверен, что когда я выхожу из комнаты, оставшиеся в ней люди застывают, словно кто-то нажал «паузу» на видеомагнитофоне, и оживают вновь только с моим появлением.
Прозрение наступило для меня, Пи-Джея, папы и мамы за тринадцать дней до Крещения.
Вне себя от ярости и жажды головоломных подвигов, мистер Миллер отправился в «Рейнджере клуб» с маминой фунтовой бумажкой в кармане. Там он вдохновенно говорил о больших делах и, называя остальных жалкими трусами, призывал их сделать что-то такое, что показало бы — они готовы помочь полиции и другим силам закона и порядка не только на словах. В конце концов ему удалось убедить с полдюжины идиотов, что лучший способ обеспечить политическую будущность Северной Ирландии — это забросать зажигательными бомбами католический жилой район. Согласно разработанному им блестящему плану, добровольцы должны были отправиться домой и приготовить по нескольку бутылок с «коктейлем Молотова», а потом снова собраться у клуба, чтобы мистер Миллер и Артур Дюран могли доставить их на место в Артуровом микроавтобусе. О том, чтобы наш отец тоже принял участие в этом безумии, мистер Миллер позаботился особо. Да-да, именно таким способом он решил отомстить мне за мою дерзость. Не знаю, хотел ли он, чтобы папа первым бросил бутылку с зажигательной смесью, или, может быть, ему было нужно, чтобы его отпечатки пальцев остались на готовых «коктейлях»… Как бы там ни было, он старался организовать дело так, чтобы впоследствии иметь возможность держать отца на крючке. Но, как известно, планы планами…
Они даже не доехали до католического микрорайона. Армейский патруль остановил их за езду с недозволенной скоростью. Бутылки с «коктейлем Молотова» сразу обнаружили, и всех, находившихся в микроавтобусе, арестовали. В комендатуре Марти Байнс раскололся, и папа, мистер Миллер и остальные получили по пять лет за сговор с целью подготовки террористического акта.
Последующие события стремительно развивались по хорошо накатанной колее. Мама развелась с папой, начала выпивать, снова закурила, выставила из дома дедушку и вместе с миссис Миллер стала ходить в Центральный бар. Вскоре она сошлась с мистером Генри, владельцем мясной лавки, а поскольку мы с братом с ним не ладили, мама отправила нас к бабушке в Восточный Белфаст.
Миссис Миллер осталась женой своего мужа и даже каким-то образом ухитрилась зачать младенца, которым, как мне кажется, его родители могут гордиться.
Пи-Джей в пятнадцать лет ушел в море, как в свое время его дед и прадед. Где-то он сейчас?! Бог весть.
Ну а я?.. Я остался жить с бабушкой. Она — прекрасная женщина, благослови ее Господь, но воспитатель из нее никудышный, поэтому в конце концов я и оказался в мире, где все решает насилие. Подростковый рэкет, армия, Америка — вот ступени, по которым я прошел за последние несколько лет.
Но все это осталось в прошлом, а сейчас мне приходится иметь дело с настоящим.
Причины, следствия, цепочки событий — я скован ими, словно цепями.
Я скован и настоящими цепями — скован и заточен в сырой, тесной камере. Неужели это навсегда?
Я так не думаю. Потому хотя бы, что — как я уже говорил — скоро наступит очередное Рождество, очередной рождественский сочельник.
А под Рождество обязательно что-нибудь случается.
7. Вальядолид
Ночная тьма, сумерки, рассвет. Наступает день, и иногда свет солнца будит нас, но чаще мы вообще не спим. Мы машинально чешемся, ворочаемся от сырости, стонем, грезим наяву.
Мучительны воспоминания о прошлом, мучительны размышления о настоящем. Скорбь, чувство вины, взаимные обвинения…
Конечно, я ни за что не расскажу Скотчи и Фергалу о своих подозрениях — о том, что они оказались здесь из-за меня. И поэтому я думаю только о ней. Я представляю себе ее глаза, ее волосы, но все это так далеко, и воспоминание меркнет.
Вокруг меня все то же. Фергал. Скотчи. Мухи. Я сижу или лежу на спине, глядя в потолок.
И развлечения все те же. История двух континентов, утреннее «кино», еда. Прогулка и вынос параши каждый третий день. Свалка из-за сухой соломы. Щелканье ножных замков. Несколько глотков воды и положение «полуприсев» над поганым ведром (впрочем, все мы испражняемся почти что прозрачной жидкостью). Подтираться приходится все той же соломой, поэтому действовать надо предельно осторожно. Расцарапанная задница здесь совсем ни к чему.
Иногда Фергал начинает бормотать вполголоса молитвы к Деве Марии. Скотчи это раздражает, но он ничего не говорит.
Еще можно смотреть, как Фергал трудится над своей отмычкой. Или как Скотчи чешется.
И можно смотреть на потолок.
Моя история продолжает развиваться.
Надо мной началась большая война, которая быстро превращается в бессмысленную кровавую баню. Дверной континент мобилизовал половину наличных ресурсов, чтобы провести стремительную и мощную атаку сразу на всех фронтах. Однако первоначальный успех вызвал серьезные трудности с боевым обеспечением и снабжением передовых частей, поэтому обе воюющих армии зарылись в землю и перешли к позиционной войне. Атаки продолжаются с обеих сторон, но они раз за разом захлебываются, наткнувшись на укрепленные оборонительные линии. Шилох, Ипр, все то же сражение на Сомме… Избиение младенцев. Оно может продолжаться десятилетиями, поскольку ресурсы обоих континентов еще далеки от полного истощения. Пресса начинает проявлять недовольство, и правительство вводит цензуру, перекрывая доступ к объективной информации. Отныне газеты трубят только об одержанных победах. На фронте одни победы, но война не кончается.
День да ночь — сутки прочь.
Мы выносим отсыревшую солому и заменяем новой. У нас отросли длинные волосы и неопрятные бороды. Теперь мы еще больше отличаемся от заключенных-индейцев, которым каким-то образом удается следить за собой. Время от времени со двора доносится гудение моторов: грузовики привозят новых заключенных или увозят старых. Новичков легко узнать по одежде — но не по лицам. Скорее всего, это действительно пересыльная тюрьма, но я знаю, что мы останемся здесь надолго. Быть может, дольше, чем кто бы то ни было.
По ночам и иногда вечером нашу тюрьму сотрясают свирепые грозы с молнией и оглушительными громовыми раскатами. Теперь это происходит регулярно. С потолка течет, и на полу образуются лужи. Чтобы лечь, приходится отыскивать относительно сухой участок пола; на небольших неровностях бетона, которые не заливает вода, мы спим.
Иногда полы высыхают, но ненадолго. Погода становится прохладнее, и я думаю, что приближается сезон дождей. Я пытаюсь припомнить школьные уроки географии и решить, в тропиках мы или нет. Похоже, что да.
Грозы, поиски сухого места… День за днем молнии разрывают ночную мглу.
И вдруг…
Невероятно, чудесно, удивительно…
Что-то новенькое.
Чья-то рука ложится мне на плечо.
Я просыпаюсь.
Фергал будит меня перед самым рассветом. В руках у него какой-то предмет. Я напрягаю зрение, но спросонок перед глазами все расплывается, и я не могу разглядеть, что это за штука. Мне кажется, это что-то изогнутое, почти круглое…
Несколько секунд я таращусь на предмет в руке Фергала, потом сажусь.
— Что это?
Фергал не может сдержать своего ликования и пихает меня кулаком в плечо.
— Это мои ножные кандалы, гребаный придурок! — говорит он.
Остатки сна слетают с меня в мгновение ока, и я резко выпрямляюсь.
— Господи, значит, ты сумел?! Твоя отмычка сработала?!
— Конечно, она сработала!
— А ты можешь открыть только свой замок? — взволнованно спрашиваю я.
— Нет, приятель, я могу открыть все три замка, ведь они открываются одним ключом. Ты сам видел, что когда охранники их снимают, они просто бросают их в мешок, а потом достают какой попадется. Это старые замки, им по меньшей мере лет двадцать. Я думаю, иногда их проверяют на прочность, но и только. Старые замки, простые… Это была легкая работа.
— Но ты провозился с ней месяц? — говорю я.
— А какие у меня были инструменты? — ухмыляется Фергал.
Я улыбаюсь. Фергал почти хохочет от счастья.
— Открой скорее мой замок, — говорю я возбужденно.
— О'кей…
Он опускается передо мной на колени и берет замок, который соединяет цепь от ножного кольца с головкой рым-болта. Минут десять он возится с механизмом, потом — невероятно! — замок щелкает. Фергал надевает его на палец и болтает им в воздухе перед моим лицом:
— Видал?
— Ты гений, Фергал! Самый настоящий долбаный гений! — говорю я, чувствуя, как близок к истерике или нервному срыву.
— Пожалуй, — соглашается Фергал.
— Давай разбудим Скотчи! — предлагаю я, и он кивает.
Мы подходим к Скотчи. Именно подходим, а не подползаем на четвереньках, до предела натягивая цепь на ноге. Какое, оказывается, наслаждение просто ходить или просто стоять! А ведь мы были лишены этого с тех самых пор, как нас заперли в этой камере.
— Скотчи! — шепотом зову я, и он, мгновенно проснувшись, поворачивается и ошеломленно глядит на нас.
— Как, вашу мать, вы сумели… — говорит он, пожалуй, чересчур громко.
— Это все вот этот молокосос, — с торжеством говорю я.
Фергал сияет. Скотчи в восторге хлопает его по ноге.
— Ах ты, долбаный сукин сын, твою мать, — говорит он. — Вот это голова, блин, твою мать!
Фергал наклоняется и начинает возиться с замком Скотчи. На этот раз ему требуется всего пять минут.
— С каждым разом все проще, — говорит он.
Скотчи внезапно замирает как громом пораженный.
— Что случилось? — с волнением спрашиваю я.
— А дверь ты открыть можешь? — спрашивает Скотчи.
Но Фергал качает головой:
— Нужен большой ключ с бородкой. У нас нет для этого металла, и даже если б был, сделать такой ключ трудно. Да и шумная это работа…
Но Скотчи нимало не обескуражен этим ответом, и я думаю, что если мы даже не сможем выбраться отсюда, мы, по крайней мере, отыграли у тюремщиков очко.
Внезапно Скотчи поворачивается к нам.
— Руки! — говорит он.
Наши руки скованы примерно полуторафутовой железой цепью, один конец которой приварен к левому наручнику, а другой крепится к правому при помощи замка. Эти замки никогда не отпираются, и я думаю, что они уже заржавели и открыть их будет сложнее, но Фергал говорит, что все они — стандартные и ничем не отличаются от замков на ножной цепи. Несколько минут он ковыряется с моим замком, и тот в конце концов уступает. Скотчи, подпрыгивая от нетерпения, требует, чтобы Фергал освободил и его. Свой замок Фергал отпирает последним. Теперь — впервые за много недель — мы можем двигаться совершенно свободно; я несколько раз подпрыгиваю и делаю несколько наклонов, доставая пальцы ног. Фергал и Скотчи потягиваются, смотрят на меня и смеются.
Потом Скотчи делает нам знак подойти ближе.
— О'кей, парни, теперь давайте немного успокоимся и подумаем, что мы имеем… Так… Есть одно дело, которое мне хотелось сделать с тех самых пор, как мы попали в эту дыру. Нужно посмотреть, что видно из этого нашего долбаного окна. Или нет — лучше подсади Фергала, Брюс, он сядет тебе на плечи.
Я киваю. Из нас троих я по-прежнему самый сильный, а Фергал — самый легкий, поэтому в словах Скотчи есть смысл. Мы подходим к окну. Я складываю руки ковшиком, и Фергал встает на них, как на ступеньку. Я поднимаю его вверх, и он усаживается мне на плечи.
— Ну, что ты видишь? — нетерпеливо спрашивает Скотчи.
— Значит, так, — докладывает Фергал, — по углам я вижу четыре вышки. На каждой вышке — охранник, может быть даже два, никак не разгляжу. За стеной нашего блока трава, а дальше — ограда из проволочной сетки высотой примерно… гм-м… футов двадцать. По верху ограды идут две спирали Бруно из «высечки».
— Какое расстояние от стены до ограды? — спрашивает снизу Скотчи.
— Не знаю. Ярдов тридцать, может быть, двадцать — не могу сказать точно.
— А что за ней?
— За оградой? — переспрашивает Фергал.
— За оградой, конечно, за чем же еще? — шипит Скотчи.
— Дальше снова трава, потом, ярдов через тридцать—сорок, — заросли.
— Ладно, хватит, слезай! — не выдерживаю я. — Иначе я сейчас сдохну.
Скотчи взволнован, я тоже. Фергал, сидя у меня на плечах, принимается деловито рассуждать вслух:
— Даже если мы сумеем открыть дверь, вырваться во двор и перелезть через стену, остается еще эта ограда. Она довольно высокая, к тому же по ночам вдоль нее наверняка пускают сторожевых собак, — говорит он и вздрагивает.
— Слезай с меня, ты, идиот! — злобно шепчу я.
— Нет, подожди, расскажи нам еще раз, что ты видишь, — требует Скотчи. — Какова высота ограды, сколько до нее, сколько от нее до зарослей, есть ли прожектора на вышках…
— Это же можно потом поглядеть, Скотчи! — почти кричу я, чувствуя, что еще немного — и я просто рухну. Фергал едва успевает сползти по моей спине вниз.
Скотчи подходит к нему и садится на пол. Выражение лица у него самое серьезное.
— Объясни мне еще раз, почему ты не можешь открыть замок на входной двери. Только поподробнее, — просит он. Ему очень не хочется расставаться с надеждой так скоро. Никому из нас не хочется.
Фергал качает головой:
— Замки, которые я открыл, очень простые. Это стандартная конструкция, очень древняя, стоило обточить пряжку, и дело было в шляпе. Замок на двери совсем другой. Он прочный, и ключ к нему толстый, с бородкой. Моя отмычка тут не подойдет. Вскрыть такой замок невозможно. Нужно иметь либо сам ключ, либо смастерить что-нибудь наподобие, а не из чего — у нас нет металла. И даже если бы был, мне понадобились бы месяцы, а то и годы, чтобы отточить его как надо.
Все это Фергал разъясняет очень терпеливо и мягко, но его слова все равно повергают Скотчи в состояние шока. Он начинает понимать, что и теперь, когда наши руки и ноги свободны, никакого выхода у нас по-прежнему нет. Пробить стену не стоит и пытаться — охранники сразу заметят следы нашей работы. Пол в камере сделан из крепкого бетона. Нет, единственный путь к свободе — через дверь.
— Тогда какой смысл?! — злобно говорит Скотчи. — Какая нам польза от того, что мы можем снять цепи, если мы все равно не можем выбраться из этой гребучей камеры?
— Я и не говорил, что в этом есть какой-то смысл, — смиренно отвечает Фергал. — Не понимаю, почему ты на меня злишься…
— Это мое дело, на кого злиться, а на кого нет, и ты мне тут не указывай! — чеканит Скотчи.
— Прибереги этот тон для своих крутых друзей из Кроссмаглена, — отвечает Фергал, тоже начиная закипать. — Нас ты этим не удивишь.
— А ты когда-нибудь кого-нибудь удивил? — презрительно бросает Скотчи.
— Я отомкнул наши долбаные замки.
— Ну и какая нам от этого польза?
— А что сделал ты, кроме того, что заманил нас в эту дурацкую Мексику? — огрызается Фергал, Уже готовый сорваться.
— Послушай ты, урод… — с угрозой начинает Скотчи.
— Нет, это ты послушай!
— Помолчи-ка, Фергал, и дай мне объяснить тебе кое-что!
Они начинают потихоньку подталкивать друг друга, и я закрываю глаза, чтобы не видеть этого. И затыкаю уши.
— Нет, сначала я объясню тебе одну вещь!
— Ты меня учить вздумал, сопляк?! Да имел я тебя в одно место!
— Это только слова, Скотчи, только слова, а ты попробуй…
Я трясу головой. Слушать их дальше выше моих сил. За окном — раннее утро, и скоро должно начаться мое кино. Я ложусь на спину и гляжу на реки, города, каналы и железную дорогу, которую я почему-то не заметил раньше. Она соединяет два самых крупных провинциальных города на левом континенте, который — даже с учетом хронической нехватки воды и проблем с орошением — все же несколько опережает второе королевство по уровню развития техники. Сейчас на этом континенте воплощается в жизнь новый военный план, который должен сдвинуть с мертвой точки ситуацию на фронтах. Военный министр просматривает записки и докладные и видит, что все идет, как задумано. Железнодорожной линии отводится в новом плане решающая роль. Ложное наступление на юге, быстрая и тайная переброска войск на север и внезапный переход Большого Ущелья… Основные силы Оконного континента еще будут связаны на юге, перегруппироваться они не успеют, и противник обойдет их с фланга. Вся северная часть Оконного континента может быть захвачена очень быстро. Единственное спасение — отступить, оттянуть войска далеко назад в заросший паутиной угол — в болота у Припяти, в сибирские просторы. Заманить врага в глубь территории, измотать, обескровить…
Я улыбаюсь. Начинается утреннее представление. Тени металлических прутьев в окне медленно ползут справа налево, вытягиваются, ломаются о неровности потолка. Гм-м… Я смотрю на потолок. На потолок. На гребаный потолок.
И тут меня осеняет.
— Эврика, твою мать! — негромко шепчу я.
Нам потребовалась целая неделя, но в конце концов мы все-таки сумели проковырять в потолке достаточно большую дыру, чтобы в нее мог пролезть человек. Работали мы голыми руками, иногда пуская в ход наручные кандалы. Свою драгоценную отмычку Фергал нам не доверил. Каждый день перед появлением охранников ему приходилось запирать наши замки, и он боялся, что мы ее повредим. И все же нам удалось процарапать бетон до тонкого слоя битума, которым была залита крыша.
Надо сказать, что крыша тюрьмы была сделана из тонких железобетонных плит, которые с помощью крана уложили на массивные карнизы, тянувшиеся вдоль всего тюремного блока. Крыша таким образом состояла их простейших перекрытий. Стены служили в качестве опорных конструкций, так что вся постройка обладала достаточной жесткостью. С другой стороны, сами материалы наверняка были самыми дешевыми (я бы, например, не хотел оказаться в камере во время землетрясения), но для наших целей это было как нельзя более кстати.
Потолочная плита в нашей камере имела дюймов шесть толщины, но влага и перепады температуры не пощадили компонентов бетона. Крошился он, во всяком случае, довольно легко, и нам приходилось следить только за тем, чтобы дыра не вышла слишком большой — в противном случае часть крыши могла просесть, а то и вовсе обрушиться нам на головы.
В качестве дополнительной гидроизоляции железобетонную крышу залили слоем гудрона или какой-то другой битумной смолы, которая не пропускала дождевую воду. Но это было давно, быть может — несколько лет назад; с тех пор битум покоробился, растрескался и во многих местах облез. Правда, самые большие дыры были заложены листами дюраля, но их легко можно было сдвинуть.
К счастью, все мы когда-то имели отношение к строительству, поэтому мы знали, что и как делать. Крыша блока была плоской, поэтому во время очередной прогулки мы убедились, что, когда мы выберемся из камеры, со двора нас видно не будет. Кроме того, ночами было очень темно, а, по нашим наблюдениям, прожекторами освещали территорию нерегулярно и через довольно большие промежутки времени.
Большую часть работы выполнил Фергал, который сидел у меня на плечах, а когда я уставал — пересаживался к Скотчи. Впрочем, нельзя сказать, будто мы двое ничего не делали — держать Фергала было трудновато. К счастью, бетон, как я уже говорил, был дешевым, с большим количеством песка; он крошился очень легко, и мы, наверное, пробились бы на крышу еще раньше, если бы не необходимость соблюдать осторожность. Больше всего мы боялись повредить слой битума, который закрывал нашу дыру от взоров охранников на вышках. Его мы могли продрать голыми руками в ночь побега; делать это раньше не имело смысла и, как я уже говорил, означало ненужный риск.
Дыра располагалась в дальнем углу камеры. Мы постарались сделать ее как можно меньшего диаметра. От мусора мы избавлялись так, как это делалось в фильме «Большие гонки», — выносили цементную крошку и песок в собственных штанах и высыпали во дворе во время прогулок. Единственное, чего мы боялись, это того, что кому-то из охранников придет в голову осмотреть крышу сверху тюремного блока. Он мог заметить повреждение или — еще того хуже — провалиться сквозь дыру прямо к нам в камеру.
Изнутри дыры почти не было видно. Даже если стоять прямо под ней и смотреть вверх, заметить ее было не так-то просто — все зависело от освещения и теней, но никто из надзирателей никогда не заходил в дальний угол камеры.
С тех пор как перед нами забрезжила надежда, наше настроение заметно переменилось. Фергал был бодр и исполнен оптимизма. У меня тоже открылось «второе дыхание». Что касается Скотчи, то он настолько вернулся к жизни, что снова начал нами командовать. Когда мы не царапали потолок, он сажал Фергала ко мне на плечи и заставлял смотреть в окно и докладывать ему обо всем — о температуре снаружи, о направлении ветра, о фазах луны, о включении и выключении прожекторов, о характере местности за проволочной оградой. Собрав наконец достаточно информации, Скотчи объявил нам, что мы готовы и что побег состоится в ближайшие несколько дней.
План был прост. Я подсаживаю Фергала, он удаляет битум и выбирается наружу. Потом я сажаю на плечи Скотчи, он подтягивается наполовину. Я хватаюсь за его лодыжки, и они вместе с Фергалом вытаскивают меня. Затем с противоположной стороны крыши мы спрыгиваем в траву и во весь дух бежим к ограде. Если вдоль нее действительно пускают по ночам сторожевых собак (а за все время наблюдений Фергал не видел ни одной), придется их убить, после чего перелезть через ограду и скрыться в лесу. Дальше Скотчи поведет нас на север (ориентируясь по Полярной звезде — как он сказал); когда мы доберемся до побережья, мы украдем лодку и поплывем на ней в Штаты.
Если судить объективно, то план, конечно, несколько сомнительный, но никто из нас в тот момент не был настроен проявлять объективность.
— Мне кажется, у нас все получится, — сказал я Скотчи. — Я боюсь только одного — что если мы не уйдем в самое ближайшее время, охранники могут обнаружить дыру. Ведь если пойдет сильный дождь, вода может размыть битумную пленку и прорвать ее там, где мы сделали лаз, потому что под ней больше нет бетона.
— Все в порядке, Брюс. Через пару дней наступит новолуние, тогда мы и сделаем ноги, — успокоил меня Скотчи.
— Мы совсем не подумали о двух важных вещах, — внезапно заявил Фергал.
Я улыбнулся:
— О каких же?
— Во-первых, мы не подумали о еде. Что мы будем есть, когда выберемся отсюда? И еще — собаки…
Я пристально посмотрел на него:
— Мы будем есть то, что нам попадется. Не забывай — мы в тропиках, и в джунглях должно быть полно всякой живности и плодов. Ну а насчет собак, Ферги-малыш, — что толку беспокоиться заранее? Вот когда эта проблема возникнет, тогда мы и будем ее решать. Если возникнет… — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно увереннее.
— Это не проблема, корешок, — поддержал меня Скотчи.
— Кроме того, — добавил я по наитию, — если там и есть сторожевые собаки, то это, скорее всего, чихуахуа. Ты наверняка таких видел: крошечные собачки со смешными ушами… Такую прихлопнуть — нам, здоровым парням, раз плюнуть.
— А-а, знаю, это такие, маахонькие… — сказал Фергал, восприняв мою шутку всерьез; поскольку мои слова явно его подбодрили, я не стал его разубеждать. Вместо этого я многозначительно посмотрел на Скотчи, но он не заметил моего взгляда.
— Помнится, у твоего приятеля Джимми Дикона была такая собачка, — сказал Скотчи, вслед за нами настраиваясь на раздумчивый лад. — Он всюду носил ее с собой и все в бушлат кутал.
— Господи, Джимми Дикон! Давненько я о нем не слышал! — воскликнул Фергал.
Я так вообще слыхом не слыхивал ни о каком Джимми Диконе, но предпочел промолчать — лишь бы отойти от собачьей темы.
— Ты ведь помнишь его, Брюс, правда? Это тот однорукий парень, который спас своего приятеля, когда тому тонуть вздумалось.
— Тот был Скотчи Мак-Моу, и ты не можешь его знать, ты выдумываешь все, — возразил я.
— Нет, я его знаю! — заупрямился Скотчи.
Фергал говорил еще что-то, но я уже не вникал в смысл. Я отключился. Мне было приятно просто слышать, что парни говорят о доме. И вообще о чем угодно. Сон овладевал мною, и в полудреме я чувствовал запах дыма из дымоходов и горящего торфа, грезил о жареной картошке, шкварчащей во фритюрнице, и о порции подогретого виски в баре… Наконец-то все было хорошо. Как крэк? Нормально.
Но некоторое время спустя Фергал снова начал сомневаться. Он только что слез с моих плеч, с которых, глядя в окно, наблюдал за лучами прожекторов, и считал секунды, пытаясь обнаружить в их движениях какую-то систему. Но похоже, никакой системы не существовало вовсе. Охранники просто бросали луч куда им заблагорассудится, зато они никогда не возвращались к одному и тому же месту скоро.
— Готовьтесь, — сказал Скотчи. — Через два дня наступит новолуние. Это значит — никакой луны не будет. Вот тогда мы и уйдем.
Но Фергал покачал головой. Несмотря на то что по характеру он был скорее оптимистом, иногда на него находило, и он начинал видеть вещи в мрачном свете.
— В чем дело, Фергал? — спросил я его. — Что тебе не нравится?
Некоторое время он ничего не говорил, но в конце концов все же произнес:
— Этот ваш план… Он же дырявый, что твоя рыбацкая сеть!
По-видимому, в этих словах выразились все беспокойство и тревога, которые исподволь копились в его душе.
— Ну, одна дыра у нас точно есть, — согласился Скотчи и подмигнул мне.
Я рассмеялся, но если уж Фергал что-то вбил себе в голову, отвлечь его было нелегко.
— Если это так просто, — сказал он, — то почему они не бегут? — И он жестом показал в ту сторону, где находились другие камеры.
— Потому что эти парни содержатся здесь в предварительном заключении и ждут суда, — пояснил Скотчи. — А бежать до суда, рискуя заработать дополнительный срок, просто глупо.
В этом был весь Скотчи, и я даже не рассердился.
— Кто тебе сказал? — спросил я. — Откуда ты вообще можешь знать такие вещи?
— Но ведь так и есть! — возразил он.
— Нет, скажи — откуда?! — уперся Фергал. — Как ты можешь знать хоть что-нибудь? Что, если сторожевые собаки — маленькие или большие — между стеной и оградой все же есть? Или сама ограда под током?
— Ограда? Под током?! Не смеши меня, мы же не где-нибудь, а в чертовой Мексике! — фыркнул Скотчи.
— Ну и что, что в Мексике? Ладно, пусть у них трудности с электричеством, но ведь заминировать-то ее они могли? В чем в чем, а в минах у них наверняка недостатка нет.
— Перестань, Фергал. — Скотчи поморщился. — Ну когда ты научишься реально смотреть на вещи?!
Нам очень хотелось ему верить, но мы боялись. В самом деле, почему не бежали другие узники? Что они знали, чего не знали мы? Быть может, им элементарно не хватало сообразительности и инициативы, а может быть, и нет. Черт побери, не исключено было, что они бежали, много раз бежали, просто мы ничего об этом не слышали. Да и откуда нам слышать?
— Мне кажется, — медленно сказал я, — что у них просто нет такого классного специалиста по замкам, как наш Фергал, вот они и не бегут.
— Ерунда, — мрачно возразил Фергал. — Здесь собраны преступники со всей Мексики. Готов спорить, что мы им в подметки не годимся. Наверняка среди них есть и взломщики, и медвежатники, и кто угодно. Нет, наверняка все дело в том, что им известно что-то, чего мы не знаем!
— Но ведь мы не можем их расспросить, мы не владеем языком, — сказал я. — И потом, не думаю, что кто-то из них захочет беседовать с нами.
— И не забудь — они убили Энди, — вставил Скотчи.
— Но хоть попытаться-то мы можем, — не сдавался Фергал. — Не все же они убийцы. Нам и нужно-то всего лишь разок с кем-нибудь переговорить. Хотя бы просто для того, чтобы сориентироваться.
Я покачал головой, но Фергал никак не унимался:
— Помните хромого старика, который хотел поговорить со мной? Можно расспросить его. Одна минута — и все станет ясно. Всего два вопроса: есть ли здесь собаки и под током ли ограда…
— Всего два вопроса — и все сразу узнают, что мы задумали! — сказал я.
— Да, — кивнул Скотчи. — Это может сорвать наши планы. Я запрещаю это, слышишь, Фергал?
— Ты запрещаешь? — переспросил Фергал.
— Да, запрещаю. — Скотчи снова кивнул.
— Да кто ты такой, чтобы здесь командовать?! — возмутился Фергал.
Оба вскочили и уставились друг на друга; каждый ждал, что противник нападет первым. На мгновение мне показалось, что Скотчи вот-вот врежет Фергалу по-настоящему, поэтому я поспешил втиснуться между ними.
— Ну-ка, сядьте, вы, оба! — прикрикнул я. — Ей-богу, ведете себя как дети малые! Даже хуже.
Настороженно глядя друг на друга, Скотчи и Фергал опустились на пол. Я тоже сел.
— Я знаю, Фергал, что в нашем плане немало сомнительных мест, — сказал я. — И кое-какая разведка нам бы не помешала, но увы — Скотчи совершенно прав. Мы не можем доверять этим ублюдкам, не можем ни о чем их расспрашивать, тем более о таких вещах.
— Вспомни об Энди, — снова вставил Скотчи.
Фергал ничего не ответил, и я потрепал его по плечу. Скотчи между тем продолжил:
— Все очень просто, Фергал, дружище… Этим тупым идеям просто не хватает инициативы. Посмотри на них и посмотри на нас. Ты у нас настоящая звезда художественного взлома, у них таких, как ты, днем с огнем не найдешь.
Фергал через силу улыбнулся, но мы видели, что он все еще неспокоен. Я не мог понять, какую часть его беспокойства составляла искренняя озабоченность состоятельностью нашего плана, а какую — старый добрый мандраж. Фергал был далеко не трус — во всяком случае, боялся он наверняка не больше нашего; все дело было в том, что никто из нас еще никогда не попадал в ситуацию, подобную этой. Правда, я и Скотчи уже побывали за решеткой, он — в Белфасте, я — в штрафных казармах на острове Святой Елены, но ни он, ни я не замышляли побег. Скотчи отсидел какой-то до смешного маленький срок; что касается меня, то всего через пару недель после ареста меня с позором демобилизовали. Не знаю, легко ли далось Скотчи пребывание за решеткой; лично для меня отсидка была все равно что внеочередной отпуск, фергал, однако, был слеплен совсем из другого теста. Он был вором, специалистом-взломщиком, и еще ни разу не попадал в тюрьму. Приехав в Америку, Фергал лишь по чистой случайности оказался в команде «быков», работавших на Темного и мистера Даффи. Ему бы прокручивать какие-то хитрые комбинации или заниматься другой тонкой работой, а не мотаться по Гарлему, выколачивая последние жалкие доллары из должников босса. Правда, с оружием Фергал обращаться умел — он доказал это в кафе, когда люди Дермота едва не отправили нас на тот свет, но лишь благодаря тому, что Темный предусмотрительно гонял нас в платный тир, где каждый из нас провел не один час. Но в целом это была не его стезя; Фергал был просто не создан для насилия.
Я посмотрел на Скотчи, он посмотрел на меня, и я подумал, что мы, похоже, думаем сейчас об одном и том же. Нужно было как-то успокоить Фергала. Как видно, смерть Энди слишком на него подействовала, и нам следовало обращаться с ним как можно мягче. Кроме того, Фергалу мы были обязаны многим. Почти всем.
— Ладно, приятель, кончай трястись, — сказал я и похлопал его по спине. — Все будет хорошо, вот увидишь. Нам повезет.
— Точно! — согласился Скотчи и тоже улыбнулся. — Нам уже повезло, что мы оказались здесь вместе с тобой. Что бы мы без тебя делали? Как я уже говорил, ты — первоклассный спец по замкам. Когда мы вернемся домой, я буду не я, если ты не получишь долбаную медаль за все, что ты для нас сделал.
Фергал улыбнулся.
— Да я в общем-то и не сомневаюсь, что все будет хорошо, — сказал он после небольшой паузы.
Следующие несколько минут мы болтали о всяких пустяках, и мрак окончательно развеялся. Потом Скотчи сказал, что, по его расчетам, подходящая ночь как раз завтра, в крайнем случае — послезавтра. Луны не будет, и если не начнется гроза, мы сможем уйти. Мы согласились и потрепались еще немного. Перед приходом охранника Фергал снова закрыл наши замки. Мы поели риса, выпили воды и дождались, пока охранники вернутся забрать наши миски. Потом я помочился в ведро и — во второй раз со дня нашего приезда в Мексику — облегчился по-настоящему, по обыкновению подтершись соломой. Остаток вечера мы провели за разговорами, что случалось достаточно редко. Скотчи травил какие-то байки о своем детстве, я в свою очередь тоже рассказал выдуманную историю о девушке, которая нянчила меня, когда я был маленьким.
Потом мы заснули. Ночью прошел дождь, и рассвет наступил сырой и серый. История континентов на потолке во многом определялась наводнениями: сейчас континент у окна снова затопило, и стремительное вторжение неприятельских войск сделалось невозможным — по крайней мере в ближайшее время.
Тот день был «прогулочным», и надзиратели, явившись в свое обычное время, снова отомкнули наши замки. Каждый раз, когда они делали это, я ужасно нервничал. Я был уверен, что рано или поздно они заметят, что с замками что-то неладно, но этого так и не произошло. Кроме того, запирая нас, они доставали замки из одного большого мешка, и я боялся, что в конце концов нам попадется какой-то особый замок, открыть который нам будет не по силам. Но Фергал оказался прав: все замки были более или менее одинаковыми, а он уже так навострился, что открывал их меньше чем за две минуты.
Дождавшись свистка, мы вышли во двор.
Все было как всегда, все казалось обычным. Я еще не знал тогда, что это будет чертовски трудный день.
Вылив ведро в уборную в конце пустующего тюремного блока, я прихватил из кучи охапку соломы и пошел назад. Фергал и Скотчи шли за мной следом — просто на всякий случай. День выдался жаркий, и разморенные духотой охранники следили за нами не так внимательно, как обычно. Что до нас, то мы почти не замечали жары и чувствовали себя прекрасно.
Во время прогулки заключенные ходили по двору по часовой стрелке. Не знаю, как это получалось и почему, но факт оставался фактом: каждый раз оказывалось, что все мы шагаем именно так, хотя нас никто не организовывал и не направлял.
И надо же было случиться, что прямо перед нами оказался тот самый хромой старик, которого Фергал заприметил в самом начале. Невысокий, худой, с плоским индейским лицом, он выглядел лет на шестьдесят пять. Он был похож на старого лагерника, который провел в тюрьме, наверное, большую часть жизни, однако никакого особого внимания я на него не обращал. Когда мы не говорили о том, что занимало нас сейчас больше всего, я думал исключительно об ублюдке, который вышагивал в моих сандалиях ярдах в двадцати от нас. Но Фергал, должно быть, все время помнил об этом старом колченогом педике. Позднее Скотчи сказал, что Фергал говорил ему: он, дескать, слышал, как старый козел напевает какую-то песенку, похожую на «Мою дорогую Клементину». Ну и что? — сказал тогда Скотчи. Но для Фергала это было доказательством того, что старый пень знает, по крайней мере, несколько английских слов. Вот блин!
Так мы бродили по двору, потом раздался свисток, и заключенные бросились врассыпную, спеша поскорее вернуться в камеры. Мы со Скотчи бежали вместе со всеми (иногда охранники обрабатывали дубинками тех, кто покидал двор недостаточно быстро), и ни я, ни он не сомневались, что Фергал следует за нами. Но, обернувшись, мы его не увидели.
— Ах, черт! — воскликнул я и, остановившись, стал высматривать Фергала среди мелькавших во дворе фигур. Наверное, он упал, подумал я. Мне не верилось, что случилось что-то серьезное; как я уже говорил, завладев нашей обувью, а может, и узнав о смерти Энди, парни оставили нас в покое и не предпринимали новых попыток припугнуть нас опять.
— Споткнулся этот придурок, что ли, — сказал я Скотчи, но, пристальнее вглядевшись в облака пыли, мы увидели, что Фергал подошел к старому индейскому педику и что-то у него спрашивает.
(Чего-то подобного следовало ожидать. Зная Фергала, мы должны были это предвидеть, но мы были слишком поглощены мыслями о предстоящей ночи.)
— Ну, все! — мрачным шепотом изрек Скотчи. — Теперь держись.
Отмахнувшись от него, я напряг слух. Впрочем, голос Фергала звучал непривычно громко и казался каким-то чужим.
— Извини, приятель, — говорил Фергал, — я хотел спросить, не мог бы ты сделать мне ма-алень-кое одолжение…
Но прежде чем он успел закончить фразу, старик повернулся и принялся орать что-то грубым, гортанным голосом. Он толкал Фергала и кричал, кричал прямо ему в лицо какие-то непонятные слова. Старик испугался нашего тихого, безвредного остолопа! Так понял бы каждый идиот, в том числе и Фергал.
И Фергал схватил старика за плечи.
— Да ты не бойся, приятель. Успокойся. Не надо шуметь, мы ведь не хотим, чтобы сюда сбежалась вся кодла, правда?! — уговаривал он.
Старик в панике рванулся и, стряхнув с себя руку Фергала, смазал того по скуле.
— Ну, началось. Живо туда! — сказал я, но прежде чем мы со Скотчи успели вмешаться, Фергал ткнул старика в челюсть. Старик рухнул как подкошенный и скорчился в пыли. Фергал попятился от него, на ходу озираясь, но было слишком поздно: на него уже набегал другой заключенный, спешивший к месту схватки с противоположного конца тюремного двора. Молодой, наверное, нашего возраста… В руке у него что-то блестело.
— Берегись, у него нож! — заорал я, и мы рванули быстрее.
Фергал услышал мой крик и даже успел повернуть голову, но парень уже прыгнул на него сзади. Раздался громкий вопль, и в воздух взвились плотные облака пыли, которые совершенно скрыли от нас происходящее. Когда мы подбежали, Фергал лежал на спине и в груди у него торчал острый и длинный осколок стекла.
Стекло вошло точно в сердце.
Мы со Скотчи закричали, подзывая охранников. В ответ снова раздался свисток, и кто-то выстрелил из ружья в воздух. Охранники громко бранились, показывая, что мы должны немедленно вернуться в камеру, но мы лишь опустились на землю рядом с телом Фергала.
Тучи пыли вокруг нас, постепенно редея, возносились к небу словно молитвы.
Я попытался применить искусственное дыхание «рот в рот», но в нем уже не было жизни.
Подбежавшие охранники разогнали всех дубинками и потащили меня и Скотчи в камеру. Приковав наши ноги к рым-болтам, они еще некоторое время что-то возбужденно объясняли нам и качали головами — не то удивленно, не то с отвращением. Наконец, видимо отчаявшись что-либо нам объяснить, они ушли, захлопнув за собой дверь.
Скотчи сразу подполз ко мне.
— Как ты думаешь, Фергал выкарабкается? — спросил он.
Я покачал головой:
— У него нет ни полшанса.
Тогда Скотчи вернулся обратно на свое место, и мы долго сидели молча, глядя друг на друга полными ужаса глазами.
Наше здоровье стало еще хуже. Скотчи снова начал кашлять; оба мы были слабыми, точно новорожденные котята. У нас не осталось сил даже на то, чтобы ловить сверчков. Кроме того, Скотчи скрыл от меня, что у него начали клочьями выпадать волосы.
Повезло нам только в одном отношении: Фергал спрятал отмычку в камере, в трещине стены. Я нашел ее там после нескольких часов лихорадочных поисков. К счастью, ему хватило ума не брать ее с собой на прогулку, где он мог легко ее обронить. Слава богу, хоть на это Фергалу достало здравого смысла! Я все думал о нем. Вспомнил, что он был в семье единственным ребенком. Его родители были еще живы, и смерть сына, конечно же, станет для них жестоким ударом. Ну что за идиот!
Скотчи понадобилось чуть меньше недели, чтобы научиться отпирать замки на наручниках и ножных кандалах. Эта работа была ему более или менее знакома: когда-то он вскрывал автомобили и велосипедные замки, но Фергал, конечно, был намного опытнее, ведь для него справиться с таким простым механизмом было раз плюнуть.
Теперь Скотчи уже не думал о фазах луны — он горел желанием как можно скорее выбраться из тюрьмы на волю. Ночи стали заметно прохладнее; после дождей камера высыхала плохо, и в ней всегда было промозгло и сыро. С каждым днем мы все больше слабели, и нам обоим было ясно, что ждать больше нельзя.
Через пять дней Скотчи сумел снять замки на своих ножных цепях, а на следующее утро освободил и меня. Слава богу, это не был третий день и нам не нужно было идти на прогулку. Мы были готовы бежать, как только упали цепи, приковывавшие нас к рым-болтам, но Скотчи все же потратил еще несколько часов, возясь с ручными кандалами. Нам это казалось не особенно важным: мы оба были уверены, что сумеем каким-то образом выбраться даже со скованными руками. Как выяснилось впоследствии, мы не могли заблуждаться сильнее. Скотчи продолжал возиться с замками из чисто спортивного интереса. Примерно к полудню он справился со своим замком, а еще через пару часов освободил и меня, как раз когда в камеру и вошел охранник, принесший нам еду.
В тот момент я все еще сидел, наклонившись к Скотчи. Увидев охранника, я поспешно выпрямился и постарался уложить цепь и замок так, чтобы они выглядели надежно запертыми. Скотчи же громко раскашлялся, стараясь отвлечь внимание охранника на себя.
На этот раз еду нам принес Косой — обладатель двойного подбородка и небольшого бельма на глазу. Из всей шайки он был, пожалуй, самым приемлемым. Иногда — редко — он даже отпускал какое-то замечание на ломаном английском.
Но сегодня, впервые за все время нашего пребывания в тюрьме, ему пришло в голову остаться с нами в камере до тех пор, пока мы не закончим есть.
Скотчи сразу как-то подобрался и напружинил мускулы, готовясь действовать. Замки на наших ножных и ручных цепях были открыты, и не заметить этого было невозможно. Я был уверен, что в мозгу у Скотчи зреет самоубийственный план. Как только Косой увидит, что замки не в порядке, Скотчи сразу же прыгнет на него и прикончит — задушит или ударит в висок тяжелыми ручными «браслетами». После этого нам останется только одно: бежать во всю прыть через двор, каким-то образом одолеть второго охранника, завладеть его оружием, перебраться через ворота, захватить машину… Одним словом — верная смерть.
Косой тем временем практиковался в своем ужасном английском:
— Бейсбол — не есть хорошо. Fitbol — si.[33] Бейсбол — плохо. Лучше играть футбол. Футбол все играть!
Обычно я старался подольститься к Косому, надеясь выцыганить у него добавочную порцию риса, но сегодня я желал только, чтобы он убрался как можно скорее, пока Скотчи не сделал какую-нибудь глупость. С другой стороны, я чувствовал, что должен вести себя как обычно, чтобы охранник не насторожился.
— В Ирландии, — громко, с расстановкой сказал я, — все играют в футбол. Мы из Ирландии, понимаешь? Не американцы, а ирландцы. Ирландцы играют только в футбол. Бейсбол — ерунда. Ферштейн?
Косой ухмыльнулся и, задрав голову, посмотрел на потолок.
И показал на него пальцем.
Открытых замков он не заметил, но большую дыру в крыше не заметить невозможно. Вот сейчас он ее увидит и…
— Твою мать! — прошептал я. Скотчи начал приподниматься.
Косой опустил руку и сделал вид, будто дрожит от холода.
— Huracan, — сказал он. — Ураган. Большой ветер.
— Будет ураган? — переспросил я и, встретившись взглядом со Скотчи, попытался внушить ему, чтобы он сидел на месте и не рыпался.
— Ураган, — подтвердил Косой и еще раз улыбнулся. — Сильно ветер.
— Может быть, он сдует тюрьму и мы все окажемся на свободе, — сказал я с принужденным смехом.
Косой ничего не понял, но рассмеялся в ответ и, забрав наши миски, вышел за дверь.
Как только щелкнул ключ в замке, Скотчи наклонился ко мне и хлопнул по плечу:
— Здорово ты его, Брюс.
Все оставшиеся дневные часы я потратил на то, чтобы удержать съеденный рис в желудке, и мне это в основном удалось.
Наконец наступил долгожданный вечер. Как только темнота достаточно сгустилась, мы начали действовать. Вылезти в дыру в потолке, когда мы были втроем, было достаточно просто. Сейчас нас осталось только двое, но мы знали, что делать.
— Готов? — спросил я.
Скотчи кивнул.
Я подсадил его к себе на плечи, и он занялся битумной пленкой. Скоро в крыше зазияло отверстие, сквозь которое мы увидели яркие звезды. Выбраться из камеры вдвоем было нелегко, но мы все обдумали и надеялись, что сумеем это сделать. Скотчи не полез в расчищенную дыру. Вместо этого он спрыгнул на пол, а я сел к нему на плечи. Скотчи едва выдерживал мой вес, поэтому я старался подтягиваться побыстрее. Снаружи оказалось немыслимо светло — все небо было сплошь усеяно крупными южными звездами. Лучи прожекторов на занятых охранниками вышках беспорядочно скользили по двору, по воротам и по крыше тюрьмы.
Когда я вылез из дыры настолько, что смог упереться в крышу локтями, Скотчи внизу подпрыгнул и схватил меня за ноги. Он оказался тяжелее, чем я думал, и мне пришлось напрячь все силы, чтобы не сорваться назад, в камеру. Стиснув зубы, я продолжал подтягиваться, таща за собой Скотчи. Гнев, который я испытывал, придал мне сил, и хотя стоявшая передо мной задача была почти невыполнимой, я сумел с ней справиться. Когда мои бедра оказались снаружи, я лег на крышу и пополз прочь от дыры, изо всех сил стараясь держать ноги прямо, чтобы они играли роль рычага. Скотчи, не имея возможности ничем мне помочь, висел на мне мертвым грузом, но я все полз и полз к краю крыши. В какой-то момент Скотчи выпустил мои ноги и уцепился за край дыры. Почувствовав это, я развернулся и, схватив ублюдка за остатки майки, рывком вытянул наружу.
Мы были на крыше. Никто нас не заметил, и несколько мгновений мы лежали, переводя дух. Прожекторы лениво прорезали темноту у дальнего конца нашего блока, к тому же они были не слишком мощными.
— Как просто! — шепнул Скотчи.
Я ухмыльнулся.
— Для кого как, — ответил я.
Потом мы подползли к противоположному краю крыши (пробиваться через ворота было бы безумием, и мы решили, что попробуем перелезть через ограду за тюрьмой) и посмотрели вниз, чтобы понять, как мы будем спускаться. До земли было футов пятнадцать — намного больше, чем высота потолка в камере. Очевидно, тюрьма стояла на довольно мощном фундаменте, и я порадовался, что мы не стали делать подкоп.
Пора было спрыгнуть, но я понимал, что если мы сделаем это, то назад уже не заберемся. Как только мы окажемся внизу, обратного пути не будет. Мы не сможем обследовать ограду и вернуться в камеру, чтобы на следующую ночь повторить попытку, точно зная, на что можно рассчитывать. Значит, сегодня или никогда…
— Здесь высоко, — шепнул я Скотчи. — Если мы спрыгнем, то уже не сможем вернуться.
— А на хрена нам возвращаться? — удивился он.
— Не знаю.
— То-то и оно, что не знаешь. Давай прыгай, девчонка!
Я пополз прочь от дыры к самому краю крыши, потом еще раз взглянул вниз, развернулся и начал осторожно сползать с крыши ногами вперед. Наконец я повис на руках, сгруппировался и прыгнул. Едва коснувшись земли, я сразу повалился на бок, и приземление прошло удачно. Удар смягчила и солома, которую я запихал под футболку и в джинсы, чтобы лезть через колючую проволоку. Как бы там ни было, я ничего себе не отшиб, не сломал и встал на ноги. Поднявшись, я поспешил отойти в сторону, чтобы освободить место для Скотчи. Буквально через три ярда мне стало ясно, почему другие узники не додумались до столь блестящего плана. Земля под ногами заколыхалась, и я по колено провалился в болото. Оглядевшись, я увидел, что здание тюрьмы почти со всех сторон окружено топью. Теперь мне все стало ясно: тюрьму выстроили на небольшом, вдававшемся в болото наподобие полуострова каменистом участке, еще и укрепленном бетоном. Ворота с караульным флигелем разместились на узком перешейке, соединявшем полуостров с твердой землей, однако в десяти футах от северной, восточной и западной стен тюрьмы лежала самая настоящая трясина. Возможно, так задумывалось с самого начала (болото и в самом деле могло служить дополнительной гарантией от побегов), но я в этом сомневался. Похоже, вся местность была сплошным болотом и тюрьму выстроили на единственном более или менее сухом участке земли, болото же вокруг явилось добавочным плюсом. Достаточно было обнести тюрьму забором из «колючки», чтобы сделать побег и вовсе невозможным. Единственным входом (и выходом) из тюрьмы оставалась дорога у ворот, но именно там были сосредоточены главные силы охраны. Одним словом, для отсталой страны третьего мира тюрьма была устроена достаточно искусно и с выдумкой, и если бы не ужас и отчаяние, владевшие мной в эти минуты, я мог бы даже похвалить строителей.
Насколько я мог судить, у нас со Скотчи оставался только один выход: добраться до караульного помещения, каким-то образом вернуться во двор и попытаться перелезть через ворота. Но как Фергал, этот безмозглый кретин, после всех наблюдений ухитрился не понять, что перед ним топкое, непроходимое болото, а не поросшая сочной травой лужайка? Это было просто уму непостижимо! Надо же было уродиться таким идиотом!
Скотчи тяжело приземлился в траву передо мной. Сначала он, как и я, с кряхтением повалился на бок, но сразу поднялся.
— Как, жив? — спросил я.
— Ага.
— У нас неприятности, друг, — сказал я.
— А в чем дело?
— Вся эта поляна — сплошное болото. Думаю, оно тянется до самой проволоки, а может быть, и дальше. Ограда держится на сваях. Отсюда до самых зарослей нет ни клочка твердой земли…
Я старался не поддаваться панике и говорить так, чтоб голос мой не дрожал. Скотчи тоже приложил все силы, чтобы сохранить спокойствие.
— Подумаешь — болото! — сказал он небрежно. — Не бойся, Брюс, крошка; я думаю, мы сумеем одолеть его.
— Но на это понадобится чертова уйма времени, — возразил я. — И если мы не завязнем в грязи и не утонем, то рано или поздно охрана все равно нащупает нас прожектором. Нет, ничего не выйдет!
— А разве у нас есть выбор, Брюс? Ты же сам сказал, что вернуться назад мы не сможем, значит, нам остается только одно — идти вперед! — яростно зашипел Скотчи.
Я покачал головой, хотя и понимал, что он прав. Вернуться в камеру мы не могли. Если бы мы пошли мимо караулки, нас бы наверняка заметили и пристрелили. Оставалось только болото…
Скотчи первым двинулся через трясину. Болото густо поросло травой, образовавшей на поверхности плотный ковер, но под весом человеческого тела ковер этот легко прорывался, а под ним плескалась холодная, вязкая жижа. Почти сразу же Скотчи провалился по пояс, и я испугался, что его засосет с головой. К счастью, Скотчи вырос в деревне и, вероятно, умел ходить по болотам, хотя поначалу казалось, что дело это ему в новинку. Взмахнув руками, он потерял равновесие и сразу ушел в трясину по грудь, но уже в следующую секунду сделал рывок и выплыл, однако при попытке сдвинуться с места снова проваливался по шею. Увы, чем больше удалялся он от стен тюрьмы, тем более жидкой становилась грязь. Она больше не держала его, и Скотчи то карабкался с кочки на кочку, то вплавь двигался вперед, но трясина все еще оставалась слишком густой, и он несколько раз окунулся с головой. Казалось, еще немного — и он захлебнется зловонной грязью и пойдет ко дну.
Я почти не сомневался, что наша затея кончится крахом и мы оба погибнем, но, не желая отставать от Скотчи, тоже сделал несколько шагов вперед. Сначала я погрузился по пояс, потом — по шею. Так и не достав дна, я попытался плыть, но из этого ничего не вышло. Правда, болотная грязь была не такой плотной, как зыбучий песок, но плыть сквозь нее оказалось совершенно невозможно. Ноги то и дело выскакивали на поверхность, а голова погружалась в тину и ил. Руки с трудом рассекали эту густую жижу, путались в водорослях и траве, так что каждое движение отнимало уйму сил. Жидкий ил, тина, комки водорослей, песчаная взвесь… Все это напоминало мне эпизод из детства, когда я, удрав из дома, купался в густо заросшем всякой дрянью карьере, на дне которого ржавели остатки автомобилей и другой железный лом, превращавший водоем в смертельную ловушку. Но здесь было еще хуже. В болоте нельзя было плыть даже по-собачьи, потому что при каждом гребке верхняя часть туловища уходила под воду, точнее — под травяной ковер, пробиваясь сквозь который я успевал нахлебаться воды пополам с илом и песком. Я попробовал и кроль, и брасс, но они тоже не помогли: я не столько плыл, сколько бултыхался на одном месте, то и дело уходя под воду головой и плечами, тогда как мои ноги неизменно стремились оказаться на поверхности. Как следует глотнув воды, я выныривал, и все начиналось сначала. Бессмысленная борьба с трясиной постепенно истощила мои силы, и, в очередной раз выдравшись из вонючего ила, я повернул назад к тюремной стене. Я был уверен, что преодолеть двадцать с лишним ярдов болота мне не по силам, и готов был сдаться. Обернувшись к Скотчи, я жестом показал ему, что хочу вернуться, но он затряс головой и громко зашептал:
— На спине, Брюс! На спине!
Я остановился и посмотрел внимательнее. Движения Скотчи действительно напоминали плавание на спине, и надо сказать, что продвигался он гораздо успешнее, чем я. Словно ледокол он разрывал покров из травы и водорослей головой и руками и одновременно отталкивался ногами, благодаря чему его тело, располагаясь почти горизонтально, довольно быстро скользило в нужном направлении. Почему этот способ срабатывает лучше кроля или брасса, я так и не понял; главное — он срабатывал, и, не тратя времени даром, я тоже перевернулся на спину и поплыл назад по дорожке, пробитой среди травы Старым Добрым Волшебником Скотчи. Густая грязь по-прежнему колыхалась вокруг с отвратительным хлюпаньем, разорванный покров из травы и тины снова смыкался позади нас, и все же мы медленно, но верно приближались к проволочной ограде. Несколько раз нас почти настигал шаривший по болоту луч прожектора, но он двигался так неторопливо, что каждый раз мы успевали еще издали заметить его приближение и погрузиться с головой. Вынырнув, мы без опаски продолжали движение, хорошо зная, что луч никогда не возвращается к точке, где только что побывал, — во всяком случае, не сразу.
Так мы сначала плыли, потом некоторое время шагали вброд и наконец добрались до проволочной ограды. Увидев ее вблизи, я возблагодарил Бога за то, что у Скотчи хватило терпения снять замки и с наших ручных кандалов. Если бы мы остались скованными, у нас бы не было ни малейшего шанса перебраться через ограду.
Впрочем, шансов и так было немного. Мы вымотались, и ни один из нас еще не верил до конца, что мы сумели одолеть первую часть пути.
Скотчи что-то говорил, но он запыхался и был так возбужден, что я не понял ни слова.
— Погоди… Нужно… Отдышаться… — сказал я. Скотчи кивнул, и некоторое время мы отдыхали, держась за проволочную сетку. Мы оба тяжело дышали, мускулы на руках и ногах словно налились свинцом и болели.
— Как тебе кажется, — спросил я, когда мы оба немного пришли в себя, — сможем мы пролезть под сеткой?
Чтобы проверить, как глубоко уходит в болото ограда, Скотчи нырнул. Снова появившись на поверхности, он отрицательно покачал головой — он так и не нащупал нижний край.
— Но не может же она идти до самого дна, — раздраженно сказал я. — Или ты думаешь, что ее устанавливали здесь долбаные водолазы?
— Дело не в этом, Брюс. Просто сейчас сезон дождей, и уровень воды в болоте поднялся. Говорю тебе — я так и не дотянулся до нижнего края. Мне показалось, эта хренова ограда уходит прямо в ил.
— Ладно, — буркнул я, — я сам проверю.
Перебирая руками сетку, я начал опускаться вниз и футов через пять или шесть достиг дна. Мне показалось, что сетка немного не достает до него. Может быть, подумал я, нам и удастся протиснуться в щель под проволокой. Но только может быть…
Задыхаясь, я вынырнул на поверхность. Несколько секунд я отплевывался, потом рассказал Скотчи о том, что мне удалось обнаружить.
— Нет, — сказал он, — с этим делом у нас ничего не выйдет: один из нас обязательно потонет. А то и оба. Придется лезть через верх.
И скорее всего, Скотчи был прав. Застрять, завязнуть в грязи было легче легкого. Захлебнуться илом, бр-р! Ужасная смерть. Подумав об этом, я кивнул. Лезть поверху мне тоже не улыбалось, но нырять под сетку было слишком опасно.
Отдохнув как следует, мы начали подъем. Сразу выяснилось, что карабкаться по проволочной ограде не в пример легче, чем брести по болоту. Отверстия в сетке были достаточно большими, чтобы в них свободно пролезала нога, к тому же сама ограда почти не раскачивалась и не прогибалась под нашим весом. Поднимались мы не торопясь, чтобы ненароком не сорваться вниз и не наделать шума. Скотчи был слева: мы решили подниматься вместе, хотя разумнее, наверное, было лезть через ограду по очереди.
Добравшись почти до самого верха, мы остановились, чтобы перевести дух. Нам предстояло преодолеть еще две спирали из «высечки», а мы уже выбились из сил.
— Ну, что дальше? — спросил Скотчи, пока мы висели на сетке, стараясь отдышаться.
— Нужно как-то перебраться через проволоку, вот и все, — ответил я. — Ничего другого просто не остается.
С этими словами я схватился за проволоку и попытался подтянуться. Сильная, резкая боль пронзила мою ладонь. Одного прикосновения к проволоке, казалось, было достаточно, чтобы порезаться: в мякоти под большим пальцем у меня появилась глубокая рана.
— Черт! — пробормотал я. — Господи Иисусе, пресвятая Мария и Иосиф!
Все же мне удалось приподнять корпус и навалиться на первую проволочную спираль. Большая часть соломы, которую я напихал под футболку, давно высыпалась, и теперь острые проволочные колючки резали мне кожу на руках и на груди. Не обращая внимания на боль, я подтянулся повыше и заработал несколько глубоких порезов на правой руке и на ногах. К счастью, на мне были джинсы, которые хоть немного, но защищали кожу от острых как бритва колючек; бедняге Скотчи, который был в шортах, приходилось гораздо хуже.
— О, дьявол!
Я подтянулся еще немного и располосовал себе грудь.
Мною начала овладевать паника. Боль была страшная, а мысль о том, что надо продолжать двигаться, казалась еще страшнее. Проволочная спираль растянулась под моим весом, и я запрокинулся назад, зависнув над самым болотом.
Мои ноги едва не соскальзывали с ограды, и я содроганием думал о том, что нужно поставить босую ступню на колючки. Вот если бы нащупать гладкий участок!
Собравшись с силами, я поднял одну ногу и осторожно опустил на проволоку между двумя шипами. Потом набрал полную грудь воздуха и рывком перенес на нее тяжесть своего тела. К счастью, нога не соскользнула, но вся спираль подалась назад еще больше, и на мгновение мне показалось, что я сейчас сорвусь и полечу обратно в болото.
— А-а, блин!
Спираль ходила ходуном и извивалась как огромная металлическая змея. Опереться на нее, чтобы сдвинуться с места, было совершенно невозможно.
— Что ты там застрял? — прошептал Скотчи.
Я не ответил. Вместо этого я сделал еще один глубокий вздох. Мне было ясно, что в таком положении оставаться нельзя — через пару секунд я неминуемо сорвусь. Все мое тело отклонилось далеко назад, пальцы судорожно вцепились в проволоку.
Скотчи говорил что-то еще, но я его не слышал. На мгновение я застыл, собираясь с силами, хотя сам еще не знал толком, что буду делать дальше.
В следующую секунду я чуть качнулся назад, а потом рванулся вперед и вверх. Мой маневр удался — спираль вернулась в первоначальное вертикальное положение.
Я убрал ногу с «колючки» и снова встал на сетку.
Потом с силой толкнул грудью и животом проволочную спираль, так что она подалась вперед и натянулась.
Скотчи все еще висел на сетке, до проволоки он пока не добрался. Я был рад этому, потому что если бы мы оба оказались на проволочной спирали, когда она растянулась и отошла назад, мы неминуемо бы сорвались. С другой стороны, нельзя же было висеть на заборе до утра!
— Давай, Скотчи, не спи! — шепнул я.
— Я не сплю, кретин, просто мне нужно немного отдышаться, — откликнулся он.
Это были последние слова, которые я от него слышал.
Я снова поставил ногу на проволочную спираль. Я старался действовать осторожно, и мне повезло — моя ступня попала на ровный, без колючек, участок проволоки. Опираясь на нее, я приподнялся, насколько мог, и навалился на спираль грудью. Потом я поставил на проволоку другую ногу и оттолкнулся. На руках у меня не осталось живого места, но я почти перевалился через первую спираль. Если бы «высечка» была натянута сильнее, сделать это было бы проще, но она висела почти свободно, так что мое тело и руки буквально проваливались в проволочные витки, разрезавшие плоть чуть не до костей. Боль и ужас перед новой болью в промежутках между судорожными глотками воздуха.
Еще рывок. Мне удалось отвоевать новый дюйм, но потом я снова провалился в витки спирали, которые обвили меня со всех сторон, кромсая кожу в лохмотья и вырывая из тела куски мяса. И в следующее мгновение меня вывернуло наизнанку.
«Колючка» задрожала, завибрировала, и я понял, что это Скотчи наконец отдышался и лезет через первую спираль.
Все дальнейшее случилось очень быстро.
Луч прожектора, который лениво шарил по трясине слева от нас, внезапно приподнялся выше и двинулся вдоль проволочной ограды. Мы ничего не могли поделать — не могли даже спрыгнуть вниз; нам оставалось только надеяться, что в последнюю секунду прожектор снова опустится и упрется в топь.
Но он не опустился.
Луч света скользнул по нам.
Остановился.
Вернулся и застыл.
От ворот донеслись громкие голоса, кричавшие что-то по-испански.
Я совершил отчаянный рывок через вторую спираль. Острые кромки оцинкованной «высечки» впивались, резали мне руки и ноги, а одна колючка проехалась по моему лицу. Грянул залп из дробовика — мимо. Второй залп пришелся по ограде слева от нас. Я слышал, как зазвенела сетка. Тюрьма, словно огромная, старая караульная собака, просыпалась и, встряхиваясь, готовилась броситься в погоню за нами. Снова донеслись крики на испанском, потом послышалась короткая автоматная очередь (из М-16, скорее всего), и я увидел, как дернулся Скотчи, когда пуля попала ему в спину.
— Скотчи! — закричал я, но его тело уже обмякло, глубоко провалившись в первую спираль. Острые шипы едва не обезглавили его, впившись в шею, удерживая на месте, и Скотчи повис на проволоке. По рукам пробежала последняя дрожь, губы приоткрылись, словно он пытался что-то сказать, но вместо слов изо рта хлынула кровь.
О господи!
Несколько мгновений я смотрел на него как громом пораженный. Потом я что-то выкрикнул, отчаянно забарахтался и, едва не теряя сознание от острой боли, пронзившей тело подобно электрическому разряду, бросился на штурм второй спирали. Разумеется, я сразу же провалился между витками. Проволока бешено раскачивалась, рвала меня в клочья не только снаружи, но, казалось, и изнутри, однако как только очередной шип входил в мою плоть достаточно глубоко, я использовал его как точку опоры, чтобы продвинуться вперед хотя бы на десятую часть дюйма.
Пока я сражался с проволокой, лежа животом на второй спирали, какая-то часть моего сознания фиксировала резкие хлопки одиночных выстрелов и треск по меньшей мере двух автоматических винтовок. Я рванулся снова, перевалился через вторую спираль и, оставляя на шипах клочья кожи и волос, головой вперед полетел в болото с тридцатифутовой высоты.
Погрузившись в воду, я поплыл прочь от ограды, лишь время от времени поднимаясь на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Минуты через две я обнаружил, что не удаляюсь от ограды, а двигаюсь параллельно ей и теперь нахожусь слева от места своего падения.
Вся тюрьма к этому времени уже проснулась. В караулке звонили в колокол, два прожектора вышек шарили по болоту в том месте, где я сорвался с ограды. Охранники стреляли наугад, но пули ложились далеко в стороне. Нырнув в последний раз, я еще дальше отплыл от освещенного места, а потом, плывя на спине, двинулся к темневшим вдалеке деревьям. Оглушительная стрельба продолжалась, но охранники не догадывались подвигать прожекторами. Очевидно, они решили, что я сломал шею и утонул или был смертельно ранен. Так, во всяком случае, я говорил себе.
В конце концов я почувствовал под ногами дно и вскоре был уже среди деревьев. Лес был заболочен и сплошь зарос ползучими лианами, о которые я спотыкался через каждые несколько ярдов. Постепенно земля стала тверже, и я побежал, хотя кровь заливала мне глаза, а боль пронзала ступни при каждом шаге. Мои руки, грудь, бедра, икры горели так, словно с них содрали кожу. Я ободрал два или три пальца на ноге и заработал глубокий порез под глазом.
Я бежал всю ночь. Когда наступил день, я спрятался в яму между корнями какого-то гигантского южного растения и заснул как мертвый. С приходом ночи я проснулся и побежал дальше.
8. Sur de la frontera[34]
На этих пустынных просторах, заливаемых проливным дождем, ничто не движется, не дышит, не живет…
Безжизненная, первозданная бездна, выжженная и затонувшая земля. Пустая, покинутая страна. Место из ночных кошмаров. Слой жидкой грязи под ногами, непроницаемое, затянутое тучами небо над головой. Ночи и дни неотличимы друг от друга, словно все происходит в ином мире, не имеющем конца и лежащем вне времени. Струи дождя холодны как свинец; они хлещут землю с такой силой, что в месте падения каждой капельки в глине образуется небольшой кратер. Ветер свистит и щелкает как хлыст, забирается в каждую выемку, в каждую щель в земле. Он произвольно меняет направление, и дождевые капли летят то под косым углом к поверхности, то параллельно ей, а то — словно в насмешку над законами тяготения — снизу вверх. Порой кажется, что природа примеряет на себя роль разрушителя и палача. Так Шива стирает с грифельной доски все написанное, чтобы создать мир заново. И на этих пустынных просторах мир снова рождается из воды, как миллиарды лет назад…
Ураган.
Птицы имеют гнезда, звери имеют норы…
И только мне негде укрыться.
Надо мной нависла громада черных туч, которая полыхает ослепительным светом и обрушивает вниз потоки воды, смывающие на своем пути все цвета и формы. Ураганный ветер несет брызги соленой морской воды, камни, ветки, обломки велосипедов. Горизонта не видно. Рельеф превратился в лишенное перспективы чередование неглубоких ложбин и пригорков. Безбрежная пустошь, где нет ничего живого — ни насекомых, ни даже растений, — лежит вокруг. Под тонким слоем жидкой глины только острые камни и куски вулканической лавы. Время от времени попадаются остовы мертвых деревьев и — изредка — брошенный, словно во времена голода, разрушенный дом.
Все это напоминает Ирландию — ее северо-западные районы, горы Сперринс, заболоченные пустоши у подножия легендарной горы Слемиш.
Тонкий, как пыль, земляной слой. Ландшафт до боли знакомый и одновременно настолько чужой, что кажется — это галлюцинация, случайная прихоть больного сознания. Блестящие мокрые камни похожи на гробницы, на красной глине отпечатались легкие следы ангелов и исчезающие буквы древних алфавитов.
И, как фон к картине, ветер и дождь, дождь и ветер.
Особенно дождь.
Еще одна миля… Еще десять. За очередным холмом возникают древние каменные столбы, которые, словно грибы, растут из земли вдоль натянутой в несколько рядов стальной проволоки. Чем дальше — тем меньше расстояние между столбами, и на гребне следующего холма они уже сливаются в одно размытое пятно, указывая… куда? Вероятно, где-то там находится поселок. Почему бы нет? Небольшой, культурный поселок или бидонвиль с крышами из консервных банок и ржавого железа. Какая разница, ведь там живут люди! Но я бежал из тюрьмы, и туда, где могут быть люди, мне дорога закрыта.
Куда же теперь? На запад. В страну жидкой грязи и зеленой тины — в затерянный мир на краю света. Подъем на гребень, долина… Еще несколько часов ходьбы, и вот передо мной озеро, которого еще на прошлой неделе не существовало вовсе. Низкорослый кустарник, чахлый тростник, трупы утонувших деревьев… Мир сразу после потопа — вода еще не сошла, и на поверхности не видно ни ящериц, ни змей, ни даже жуков. Их дома затоплены, уничтожены стихийным бедствием; теперь они существуют только в отчетных документах страховых агентов и инспекторов-консультантов, определяющих сумму страховой премии. И ничего не попишешь — Марс разгневался и ободрал с нашего шарика все лишнее, оставив только твердую скальную основу.
Ураганный ветер вместе с дождем никак не успокоятся. Но мне теперь многое ясно. Я различаю знаки и знамения. Дождь, как святое крещение, дарует очищение и обновление, и в холоде водяных струй — небесная чистота и прозрачность. Своя роль и у ветра. Он говорит, и в извергаемой им симфонии звуков слышатся голоса мертвых. Они шепчут обещания и требуют клятв. Их слова просты и внушали бы покой, если только забыть, что это — голоса призраков, которым некуда спешить. Они свободны от всего земного, плотского, в их распоряжении все время вселенной — гораздо больше, чем есть у меня. Именно поэтому они пугают меня, торопят, подгоняют. Давят. Намекают. Это не баньши,[35] и я могу не бояться смерти. Пока не бояться. Это просто голоса. Они говорят со мной по-испански, по-ольмекски, на языке майя и на других, давно исчезнувших языках, аналоги которых до сих пор существуют где-то на Камчатке, в Монголии и на Алеутских островах. Призраки тихо бормочут, дергают за бороду, заставляют спотыкаться.
Рисовые поля в пойме реки, обрушенная каменная стена, за которой можно кое-как укрыться от ветра. Натужный кашель и прерывистые удары сердца. Веки тяжелеют и опускаются сами собой; усилием воли я открываю глаза, но в них уже поселился сон. Трава готовит мне постель.
Реки вспучились от дождя, ветер и дождь шумят так, что я окончательно теряюсь. Деревья кажутся теперь едва ли (если не окончательно) мертвыми: они превратились в камень, в ископаемые останки. Рядом с ними остро и сильно пахнет шалфеем. Этого достаточно, чтобы разбудить воспоминание о джунглях и желание вновь оказаться под пологом леса. Но лес еще будет. Я его еще увижу.
Шаг. Еще шаг. Машинально ставлю одну ногу впереди другой и иду. Боли больше нет. Она исчезла, потому что человеческое существо просто не создано для того, чтобы чувствовать боль такой силы и такой глубины. Оказывается, это просто: перейти на иной уровень бытия и избавиться от боли и мук голода. Это так просто — подняться над повседневностью и стремительно нестись куда-то на спокойной щепочке.
Так движется тень. Призрак.
Сколько дней прошло?
Неделя? Меньше?
Живой скелет, бесплотный дух плавно скользит по поверхности.
Холм. Река. Место, где были люди. Доказательство тому — мертвое дерево телеграфных столбов. Древние сосновые бревна, почерневшие от времени и источенные ветром и дождями. На столбах — номера и какие-то знаки, а может — это просто глубокие трещины, оставленные холодом и жарой.
Но ни на проводах, ни на самих столбах нет птиц. Все живое исчезло, уцелели только растения, да и то самые примитивные: шалфей, трава, низкорослый кустарник, голубые лишайники и черные мхи, которые тонким слоем покрывают твердую, бесплодную землю и камень скал.
Где же сострадательные звезды? Куда девались поколения людей? Что случилось с их дружелюбными спутниками — лошадьми и коровами? Неужто ураган напугал их и они в панике покинули ковчег, оставив после себя только шум и следы?
Косогоры, холмистые долины — одна за другой…
Кустарники, которые в конце концов уступают место высокой траве.
Затопленные поля и повсюду в грязи — следы животных, пробиравшихся куда-то к возвышенностям. Затоптанное на корню кукурузное поле. Маис. Картофельная делянка. Выкапываю голубовато-белые клубни.
Вокруг по-прежнему ночь. Вечная ночь. Не видно ни луны, ни Ориона и вообще ничего. А может быть, я уже и не на Земле? Может быть, я оказался в каком-то другом, новом мире, рожденном из чрева бушующего океана? Вот возможные ответы на невероятные вопросы.
Еще день проходит. Горизонт съеживается, придвигается еще ближе, и я различаю впереди пальмы. Еще немного, и передо мною непроходимой стеной встает лес. Густой, переплетенный лианами, он едва выдерживает удары ветра и дождя. Деревья шепчутся друг с другом на языке, который не способен понять ни один человек. Они говорят о дожде, о бурой вулканической почве между своими похожими на скрюченные пальцы корнями, о ветре, который проносится сквозь их вершины, ломая молодые ветки и добивая старые.
Я не понимаю всего, но к этому времени я сам в достаточной степени превратился в первобытное существо, чтобы уловить главное — беспокойство и тревогу бледных созданий с тысячью глаз и ушей. Лес становится гуще и мрачнее, но в нем, по крайней мере, можно укрыться от непогоды. В темноте под непроницаемым пологом листвы обитают демоны. Свернувшиеся черными кольцами змеи. Оцелоты, ягуары, обезьяны и твари из детских кошмарных снов. Огромный el tigre, затаившийся в ветвях над головой, порождения фантазии вроде грифона и человека с головой ястреба, гуингнмы и йеху из последней книги о Гулливере.
Рыжеватая вода в лужах, дикие фрукты, бананы. Половина из них ядовиты. Я падаю на колено, и съеденное извергается из меня фонтаном. Несколько глотков относительно чистой воды, сохранившейся в пазухе листа. Потом я поднимаюсь и иду дальше.
Долина, по которой я шагаю, представляет собой оплывший, почти исчезнувший кратер в две сотни миль шириной. Это след от удара метеорита, упавшего на полуостров Юкатан шестьдесят пять миллионов лет назад. Мощность того давнего взрыва во много раз превышала возможности самых совершенных ядерных устройств, созданных изощренным человеческим умом. Миллионы тонн пыли и пепла были выброшены в атмосферу; они на многие месяцы закрыли солнце и навсегда изменили климат Земли. Большой взрыв уничтожил не только динозавров; вместе с ними исчезли добрых две трети прочих живых существ, населявших нашу Землю. Но, как говорится, нет худа без добра: космическая катастрофа освободила место для небольших лемуроподобных млекопитающих, многомиллионолетняя эволюция которых привела к моему появлению.
Ослабевший и больной, я иду по дну кратера. Мои раны не заживают, под бледной кожей начинают селиться колонии каких-то живых существ. Я хромаю. Ногти на пальцах ног выпали. Шаг, еще шаг… Я брежу на ходу, и в конце концов мне приходит в голову, что я, вероятно, уже умер. Умер и попал в ад. Все, что происходит со мной сейчас и что произойдет в будущем, — только плод моего воображения, выдумка, странная фантазия. Обязательный ритуал, сопровождающий переход из одного мира в другой. На самом деле я никуда не иду. На самом деле я, смертельно раненный, повис на колючей проволоке или сошел с ума и сижу в своей камере в тюрьме.
От этих мыслей мне становится не по себе, и я пытаюсь, как раньше, сбежать в соседнюю вселенную, перебраться на высший уровень бытия, но у меня ничего не получается. Окружающая действительность кажется единственно возможной. Что ж, придется пользоваться тем, что есть.
Моя кожа похожа на мешок, натянутый на кости скелета. Клочьями выпадают волосы. Остатки одежды покрыты засохшей коркой из крови и грязи. Я — юродивый. Одержимый. Во мне — Сам Господь. Я — святой Антоний в кишащей бесами пустыне. Я — Диоген, которого забросали грязью афиняне. Я — Будда. Я — голый джайнистский монах с метлой, подметающий перед собой дорогу, чтобы ненароком не раздавить какое-нибудь живое существо. Я свят, и мне открыто будущее. Я его вижу. Мои видения предельно сжаты, лишены подробностей и просты. Их непреложная истинность очищает меня словно кислота. Я вижу себя. Я выздоровел. Я окреп и научился терпению. Я выжидал, оставаясь в городе. Никто не знает, что я здесь, но я здесь. Я наблюдал. Следил. И я готов. Заткнув за пояс добытый пистолет, я сажусь в поезд подземки. Доезжаю до места. Пробираюсь в дом. Нейтрализую охранников и телохранителей. И вот я в его рабочем кабинете. Он просит не убивать его, сбивчиво объясняет, как все получилось. Он говорит, что не знал, что кто-то погибнет. Но мне не хочется слушать его объяснения, они мне не нужны. Мне хочется только одного — нажать на спусковой крючок, повернуться и уйти. Что я и делаю. Я ухожу, и на этом все заканчивается. Все, что происходит потом (если вообще происходит), к делу не относится. Круг замыкается, будущее соединяется с настоящим. Недвусмысленная четкость моего видения — вот то, что заставляет мои ноги двигаться, а легкие — дышать. Только это управляет каждой моей мышцей, каждым сухожилием, каждым нервом. Я уже говорил, что сумел отрешиться от боли и голода, и теперь я знаю — почему. Я одержим, и мой разум и моя воля направлены только на одно — на то, чтобы мой договор с будущим не оказался нарушен.
Что вообще за чувство — месть? Обычно о нем говорят с насмешкой и пренебрежением. Те, кто наблюдает за казнью, впоследствии признаются, что она не вызвала в них ничего, кроме отвращения, и, главное, не принесла желаемого удовлетворения. Что никакой разницы они не почувствовали. Недаром иудейский бог оставляет за собой право на месть. «Мне отмщение и аз воздам…» Идиотизм! Насилие, начавшись в Западном Белфасте или на пустошах в Южном Армаге, словно круги по воде распространяется все шире, захватывает все новые и новые области. Зуб за зуб, око за око… но разве не сказал кто-то, что это превращает нас всех в слепцов? Только как быть, если кроме мести у меня ничего не осталось? О да, конечно, существуют и другие побудительные мотивы… Когда-то и мною двигали любовь, честолюбие, алчность, но я сам отказался от них, и теперь мне осталось только одно. И выбора нет. Либо месть, либо дальнейшее погружение в мир духов и призраков, в котором я скоро сгину, растворюсь, не оставив следа. Нет, уж лучше месть. Пусть никто не назовет ее возвышенным, благородным чувством — я не возражаю. Для меня и это сгодится.
Только не надо думать, будто у меня начал складываться в голове какой-то план. Это отнюдь не так. Мои мысли даже нельзя было назвать сколько-нибудь связными. Просто в заполнившей голову холодной, неспособной чувствовать пустоте оставался крошечный тлеющий уголек, который один не давал мне сдаться, заставляя худо-бедно идти вперед.
Лианы хватают меня за ноги, деревья зловеще шепчутся, но пропускают меня. Ягуар неподвижен — он спит. Змеи даже не поднимают головы. Зачем? Я такой же, как они. Один из них. Я не вижу их, но они здесь, рядом, и они узнают меня. Я — часть их мира. Существо из леса, которое едва бредет, продираясь сквозь густой подлесок. Трясина чавкает и хлюпает возле моих дрожащих коленей, и я ясно слышу эти звуки, потому что ураган внезапно стихает — над джунглями проносится «око бури». Скоро все начнется сначала, но худшее уже позади. Полуостров сломал хребет урагану, и хотя ветер и дождь могут продолжаться еще долго, в них уже не будет первоначальной свирепой ярости. Они выдыхаются… На мой остров Рэтлин на один день пришла поздняя осень, и я сплю на лесной поляне, про которую в графстве Антрим сказали бы, что она зачарована феями. А когда я просыпаюсь, то вижу над собой серое небо; дождь окончательно ослабел, а моя мечта, напротив, набрала силу и получила ясные и четкие очертания.
Ураган ушел дальше на северо-восток и стих, превратившись в легкий и теплый дождичек. Я устроился спать под каким-то мостом, но вода в реке поднялась, и на берег выбралось множество маленьких крабов. Я размозжил одного ударом камня и попытался есть, но мясо краба оказалось отвратительным на вкус и совсем не годилось в пищу. Вода между тем продолжала прибывать, и оставаться под мостом становилось опасно. Меня могло унести течением; я мог застрять в каком-нибудь из выступов и захлебнуться, но я слишком устал от бесконечного дождя, и мне необходимо было какое-то убежище. Крабы продолжали вылезать из крошечных норок в размытой земле, и вскоре бетонные откосы у основания моста были сплошь усеяны этими существами. Карабкаясь друг на друга, они бочком подкрадывались ко мне, чтобы проверить, жив ли я или уже нет. У меня не было ни малейшего представления о том, где я нахожусь; тогда я не знал, что бывают и пресноводные крабы, и поэтому поначалу я решил, что где-то совсем рядом должно быть море, но, попробовав речную воду, я убедился, что она пресная. Все предыдущие дни — сколько их было? кто знает! — я шел практически наугад, поэтому не исключено было, что я описал круг и вернулся примерно к тому же месту, откуда начал свое путешествие.
Несколько раз я отгонял крабов, но проклятые пакостники снова возвращались; в конце концов их стало слишком много, и я выбрался из-под выступа настила и двинулся по дороге. В лучшие времена (до потопа) эта дорога, несомненно, представляла собой неплохое двухполосное шоссе, пересекавшее джунгли и равнины, но сейчас его состояние оставляло желать лучшего. Жидкая грязь, сломанные ветки, оползни и промоины сделали шоссе почти непроходимым, и на то, что меня кто-нибудь подвезет, можно было не рассчитывать. Да и, откровенно говоря, идти по джунглям было не в пример легче.
Чувствовал я себя просто на удивление хорошо. Я давно ничего не ел, меня трепала лихорадка, к тому же я подозревал, что на ноге, которую я поранил, перелезая через «колючку», начинается гангрена, и все же я испытывал небывалый подъем душевных и физических сил.
Когда дождь совсем ослабел, из джунглей снова начали доноситься знакомые звуки, а вскоре я увидел и живые существа. Первыми были муравьи, которые принялись расчищать грязь и мусор словно настоящие санитары. За ними появились мухи, москиты и ящерицы, а потом, откуда ни возьмись, — птицы. Я видел птиц с голубым оперением, видел одну птицу в алом убранстве, видел двух или трех попугаев. Это еще больше ободрило меня, и я съел несколько плодов с росших вдоль дороги деревьев. К этому времени я путем проб и ошибок выяснил, от каких фруктов меня почти наверняка не будет тошнить. Зеленые, чуть колючие плоды были лучше всего; годились и красные, отдаленно похожие на апельсины. Жевал я и кору, на ходу срывая ее со стволов, но истина состояла в том, что ни сейчас, ни раньше мне не хотелось есть по-настоящему. Поразмыслив, я решил, что это, пожалуй, не очень хороший признак.
Наступила ночь. Я вскарабкался на дерево и, устроившись в нескольких футах от земли на могучем, развесистом суку, попытался уснуть. Больше всего я наделся, что мне помогут песни: разумеется, я пел их не вслух, а про себя.
Девушки и женщины… Бриджит. Рэчел. Кузина Лесли, деверь которой был большой шишкой в строительном бизнесе. Кажется, он работал бригадиром или кем-то вроде этого. «Не беспокойся, Майкл, мистеру Уайту не нужны громилы. Он ищет смышленых ирландских парней, которые не боятся работы, не опаздывают и довольствуются скромным вознаграждением». Как же, держи карман! Именно поэтому я оказался сейчас здесь, в долбаных мексиканских джунглях!
Ночные шорохи, звуки… Мой разум блуждал, и я никак не мог уснуть.
Что ты сказал? Месть? Ты имел в виду месть? Но хватит ли одной мести, чтобы не сломаться, не спасовать перед трудностями? Продержится ли это чувство в тебе достаточно долго, не угаснет ли? Месть должна пылать, должна жечь сердце; не остынешь ли ты со временем? Нет, не остыну. Одной мести достаточно. Пусть это не много, но мне хватит. Я обещаю. Клянусь.
Вот что я говорил сам себе той ночью. Быть может, это звучит глупо, не знаю, но так было. Я много думал, быть может, слишком много, и удары сердца отдавались у меня в ушах словно барабанный бой. А левую ногу ниже колена охватывало непонятное онемение.
В конце концов мне все же удалось заснуть. Когда рано утром я проснулся, затекшие мускулы ныли и я весь дрожал.
Дождь окончательно прекратился. Я думал было залезть повыше, чтобы оглядеть окрестности, но у меня не хватило сил. Я еще не окреп, и даже простая ходьба давалась мне с трудом.
На завтрак я съел несколько плодов, отдаленно напоминавших груши, и запил скопившейся на листьях росой. Ночью меня навещали муравьи, которые, похоже, решили принять меня в свое землячество, счистив запекшуюся корку с многочисленных ран и исследовав общее состояние моей кожи. Они, однако, не разбудили меня, поэтому я склонен был считать их визит дружеским.
Подкрепившись, я отправился дальше. Идти по мягко пружинившей под ногами лесной подстилке, состоявшей из укрытого опавшей листвой перегноя, было довольно легко, хотя я очень устал. Главным моим врагом были вездесущие лианы, которые перекидывались через тропу, норовя оплестись вокруг ног. К счастью, день выдался не жаркий, и для меня по крайней мере это служило большим облегчением. Большую часть времени я шел куда глаза глядят и остановился только ближе к вечеру. Моя левая нога совсем онемела, и это меня беспокоило больше всего, присев на землю, я попытался ее обнюхать, но ничего не учуял. Не зная, хороший это признак или дурной, я попробовал встать, но не смог. Сев, я совершил ошибку — усталость нескольких часов бесцельных блужданий навалилась на меня, и я был не в силах пошевелиться. Все же я кое-как поднялся и, отыскав на ближайшем дереве подходящую развилку, забрался в нее, свернулся калачиком и заснул.
На следующий день я понял, что у меня начались галлюцинации. Наверное, они были у меня с самого начала, но только теперь я осознал, что голова у меня не совсем в порядке. Проснулся я от того, что какие-то большие хищные птицы терзали мою левую ногу, отрывая от нее большие куски мяса. Резко выпрямившись, я попытался отогнать их, но дерзкие твари только покосились на меня с бесконечным презрением, а потом вернулись к своему омерзительному занятию. Я кричал, махал руками, но птицы продолжали как ни в чем не бывало клевать мою ногу. Тогда я бросился на них с кулаками, но потерял равновесие и свалился с дерева на землю. К счастью, я устроился на ночлег не очень высоко, да и лесная подстилка смягчила удар. Очнувшись, я первым делом огляделся по сторонам и, конечно, не увидел никаких птиц.
Это была последняя капля. Я не выдержал и несколько раз всхлипнул. Потом я еще долго сидел под деревом, предаваясь невеселым размышлениям. Бежать из тюрьмы, пройти пешком десятки миль, пережить ураган — и все только для того, чтобы загнуться в джунглях от лихорадки! Это казалось чудовищно несправедливым.
А как же я попаду в Штаты, чтобы привести в исполнение мой план?
В самом деле — как? Не стоило обманывать себя — я заблудился. Я был болен. Я едва мог ступить на больную ногу. И самое главное, мой мозг отказывался мне служить! Я пытался что-то придумать, но ничего путного мне в голову так и не пришло. Господи, неужели я действительно схожу с ума?!
С трудом справившись с приступом паники, я сделал несколько глубоких вдохов и постарался собраться с мыслями. Я мог остаться на месте и надеяться, что кто-то пройдет мимо, или же я мог отправиться дальше и попробовать найти помощь. Я был готов даже сдаться властям — уж конечно, этот вариант был намного лучше, чем безумие и смерть в сыром тропическом лесу.
Подумав так, я попытался встать, но это оказалось невозможно.
Тогда я нашел подходящую палку. Опираясь на нее, я с грехом пополам поднялся и двинулся вперед. Моя скорость заметно упала — теперь я шел чуть не втрое медленнее, чем в предыдущие дни, к тому же мне приходилось постоянно смотреть себе под ноги, чтобы выбирать дорогу полегче. Так я шел полдня, потом, обессиленный, упал и заснул. Ночью прошел дождь, он разбудил меня, и я лежал, ловя открытым ртом дождевые капли и стараясь напиться.
На следующее утро я не смог подняться даже с помощью палки и решил, что теперь буду ползти. Это оказалось намного проще, чем ходьба, так что я преодолел, пожалуй, даже большее расстояние, чем накануне. Кроме того, на четвереньках было гораздо легче перелезать через упавшие деревья и клубки лиан.
Так я передвигался весь этот день и часть следующего. Уже ближе к вечеру я вдруг с удивлением заметил, что джунгли стали редеть — в сплошной завесе листвы появились прорехи, сквозь которые проглядывало небо.
В ту ночь меня особенно мучили галлюцинации. Мне мерещились змеи, которые то кусали меня за лодыжку, пытаясь сожрать мою ногу целиком, то обвивались вокруг меня и душили. Всю ночь я корчился и кричал, умоляя их оставить меня в покое, но они исчезли только с рассветом.
Все еще холодея от пережитого ужаса, я пополз прочь от места, где провел ночь. Теперь я двигался вслепую, потому что мои глаза не желали открываться. Я полз несколько часов, а потом упал лицом вниз и в таком положении отключился. Проснувшись за несколько часов до рассвета, я снова пополз, сам не зная куда, но не сомневаясь, что конец уже близок. По складу характера я никогда не был склонен опускать руки и сдаваться, но я был реалистом, и сейчас мне было совершенно ясно: дела мои плохи. Я знал, что скоро умру, и полз вперед совершенно машинально, каждую минуту ожидая наступления последних судорог и смерти.
К счастью, я ошибался. В этот раз старушка Атропос[36] вовсе не собиралась со мной покончить, и, надеюсь, подобная идея не придет ей в голову еще долго. Была ночь, и меня, должно быть, направляли сами дочери Никты,[37] ибо, отклонись я немного влево или вправо, я бы никогда не наткнулся на загон для свиней; вместо этого я бы заполз глубоко в джунгли и наверняка умер там в ближайшие несколько дней. Но, как я уже говорил, боги судьбы или какие-то другие сходные существа, прослышавшие о печальной истории моей жизни, о моей незавидной судьбе и о моем плане, поняли: чтобы шоу продолжалось, им придется оставить меня в живых. Именно они организовали мое спасение, поставив в самом сердце джунглей небольшой загончик с сараем, в котором обитали небольшие, дружелюбные свиньи черной масти, позволившие мне заползти в ограду, упасть на теплый навоз и ждать.
Ждать пришлось недолго. Вскоре где-то в стороне послышались детские голоса. Сначала дети беззаботно болтали и распевали какие-то веселые песенки, потом последовала длинная пауза, тревожный шепот и быстрый топот ног, свидетельствующий о поспешном бегстве. Прошло еще немного времени, и я услышал голос взрослой женщины. Сначала она тоже шептала, потом заговорила громко и властно, по-видимому отдавая какие-то распоряжения. И я почувствовал, как не меньше десятка рук отрывают меня от земли. Поначалу я решил, что опять брежу, но эта галлюцинация мне определенно нравилась. Крошечные, слабые ручки наполовину несли, наполовину тащили меня куда-то в темноту, и я знал, что конец моим странствиям близок.
Несколько минут спустя я почувствовал у губ чашку с водой и услышал голос, спрашивавший по-испански:
— Quen es usted? De donde ha venido usted? Que sucedio a su pie?[38]
Мне снова дали воды, потом к первому голосу присоединилось еще несколько. Какой-то мужчина спорил с двумя женщинами; речь, вне всякого сомнения, шла обо мне. Насколько я понял, мужчина был против моего появления, но сопротивлялся он вяло. Кто-то начал снимать с меня одежду и обмывать тело, а крошечные детские пальчики выбирали вшей у меня из волос. Одновременно женский голос ласково уговаривал меня выпить воды, в которой было разведено немного толченого маиса. Наконец меня вымыли и закутали в одеяло. Меня еще немного трясло, но вскоре я заснул.
Ночью я несколько раз просыпался от собственного крика, и сначала мужчина, а потом обе женщины сидели со мной, держали за руку и смачивали мне губы водой.
— Estamos consiguendo а un buen hombre, el es medico,[39] — говорила женщина. Слово «medico» я понял.
— Позовите Бриджит, — сказал я. — Бриджит! Она мне поможет.
Но женщина снова заговорила со мной по-испански и даже спела колыбельную песенку. Думаю, я все же заснул, а не потерял сознание. Утром я услышал еще один мужской голос; он показался мне суровым, почти сердитым. Пришедший о чем-то разговаривал с женщинами и первым мужчиной. Потом он стал задавать мне вопросы, но я ничего не понимал и не мог ответить. Внезапно он с силой ткнул чем-то в мою больную ногу, и я вскрикнул. Наверно, мой крик только подтвердил его худшие опасения. Мужчина вздохнул и вышел.
Потом меня накормили вареными бобами, дали воды, молока и снова выкупали. Вытерев меня каким-то тряпьем, меня укрыли одеялом. Одна из женщин все время что-то говорила мне; ее голос успокаивал, утешал, хотя я по-прежнему не понимал ни слова. Больше того, я ее почти не слышал — я то впадал в забытье, то снова приходил в себя. В один из таких моментов я услышал, что вернулся сердитый мужчина. Кажется, он привел с собой еще несколько человек. Я по-прежнему балансировал на грани между бредом и явью; я ничего не видел, но мои уши уловили произнесенное несколько раз слово «medico».
— Мне нужна Бриджит. Позовите Бриджит, она прекрасная сиделка. Позовите ее, прошу вас… Я хочу ее видеть. Бриджит ухаживала за Энди, и он поправился. Правда, потом он все равно умер, но не поэтому… Мне нужна Бриджит, позовите ее скорее…
Ко мне подошел сердитый мужчина. Сейчас, впрочем, его голос звучал совсем не сердито, а напротив, был мягким и добрым.
— Все о'кей, — сказал он по-английски.
Я попытался открыть глаза, и на секунду или две мне это удалось, но вокруг все расплывалось, и я видел только бесформенные движущиеся тени. Сильные руки прижали меня к койке и сняли с меня одеяло. Под одеялом на мне не было никакой одежды, и, смутившись, я попытался прикрыться, но чужие руки крепко удерживали меня, не давая пошевелиться. Я почувствовал, как мне в рот льют крепкое бренди. Я уверен, что это было именно бренди; я узнал вкус… Но где, черт побери, они взяли бренди? Когда мне разжали зубы и вставили между ними крепкую деревяшку, я догадался, что они задумали. Я завопил и попытался сопротивляться, но меня держали слишком крепко. Минуту или две я боролся, но потом успокоился и покорился неизбежному. Мои плечи удерживал первый мужчина — тот, который спорил с женщинами. Сейчас он целовал меня в лоб и, наклонившись к моему уху, шептал мне что-то по-испански. Все будет хорошо, понял я, все будет о'кей. Только пусть я буду храбрым, и все будет хорошо.
Сердитый мужчина тоже пытался успокоить меня на ломаном английском:
— Пожалуйста, не волноваться. Я будет быстро.
Старшая женщина объяснила мне, что и как будет. Она говорила медленно; чувствовалось, что она подбирает самые простые слова, и хотя я по-прежнему ничего не понимал, ее голос и ласковый тон помогли мне взять себя в руки.
— Si, si, — сказал я и кивнул, чтобы показать, что я готов. В ответ раздался одобрительный гул голосов. По-видимому, я лежал в какой-то очень маленькой хижине, и все эти мужчины и женщины стояли совсем рядом, так что я чувствовал тепло их дыхания. Сжав деревяшку зубами, я еще раз кивнул. Теперь я действительно был готов.
Они воспользовались обычной ножовкой, впрочем, предварительно заточив ее как следует. Почувствовав, как пила вошла в мою плоть чуть выше лодыжки, я испытал огромное облегчение — я-то боялся, что мне отхватят ногу по колено. Вся операция заняла меньше двадцати минут, а сам процесс ампутации — около двух. Что еще делал с моей ногой врач, я не знаю, знаю только, что он остановил кровь, зашил рану и успокоил болящие нервные окончания. Потом мне дали какое-то сладкое питье и велели спать, и через несколько минут я действительно уснул.
На следующее утро я смог открыть глаза. Я увидел, что лежу в хижине с соломенной крышей и утоптанным земляным полом. Политый водой и чисто выметенный, он, однако, вряд ли был стерильным, да и сама хижина совсем не походила на палату реабилитационного отделения, куда обычно кладут больных, перенесших серьезную хирургическую операцию. Правда, у меня была воля к жизни, но никакая воля не может заменить антибиотики — это может засвидетельствовать любой безвременно скончавшийся адепт «Христианской Науки».[40]
Впрочем, если доброта чего-то стоит, то я был окружен ею в полной мере.
Старая женщина была страшна как смертный грех. Женщина помоложе — ее дочь — тоже не отличалась красотой: как говорится, яблочко от яблони недалеко падает. Обе они, однако, были так добры и так обо мне заботились, что я от всего сердца полюбил обеих. И мужчину я полюбил тоже. Все трое что-то рассказывали о себе, о деревне, в которую я попал, и задавали множество вопросов, но я по-прежнему не понимал ни слова и не мог им ответить. Я сообщил только, что меня зовут Майкл, а они назвали свои имена: мужчину звали Педро, молодую женщину — Марией, а ее мать — Хасинтой.
Скоро ко мне стали пускать и детей, и они научили меня считать — сначала до двадцати, а потом и до ста. Еще мы играли в игру, в ходе которой я называл английское название того или иного предмета, а они — испанское, и мы спорили, какое из них правильнее. Боль все еще беспокоила меня, но каждый раз, когда она становилась невыносимой, Хасинта давала мне выпить какой-то молочно-белый настой или сок, вызывавший онемение членов и приносивший благодатный сон.
Я пролежал в хижине чуть больше недели, когда одним ясным утром Педро вдруг помог мне одеться и встать с кровати. При этом он объяснял мне что-то весьма серьезное и, по-видимому, важное. Я кивал, но понять, о чем идет речь, так и не смог. Мария тем временем перебинтовала мою культяпку и, загнув штанину, закрепила ее булавкой. Надо сказать, что она и ее мать довольно искусно починили мои джинсы, поставив на них множество заплаток из плотной хлопчатобумажной ткани, которую они покрасили в светло-голубой цвет. К концу моего путешествия через джунгли джинсы превратились в форменные лохмотья; во всяком случае, дырок в них было явно больше, чем ткани; теперь, со всеми этими заплатками, они выглядели довольно экстравагантно, и я сказал женщинам, что за такие джины любой распатланный хиппарь из Нью-Йоркского университета, не торгуясь, выложит сотню баксов.
Педро приготовил для меня замечательный костыль — самодельный, но легкий, удобный. Он был даже украшен резьбой — орнаментом из листьев и геометрическим узором, а на верхней перекладине я разглядел три человеческие фигурки. Несомненно, они изображали самого Педро и его семью, и я почувствовал, как у меня перехватило горло.
Потом Педро помог мне выйти из хижины и доковылять до деревенской площади. Вся деревня состояла из дюжины небольших хижин, между которыми бродили козы, дети, женщины и небольшие собаки с бурой шерстью и длинными хвостами. С трех сторон к деревне подступали джунгли; с четвертой — небольшая расчищенная поляна и проселочная дорога.
Педро внимательно наблюдал за тем, как я управляюсь с костылем. Видимо, что-то было не в порядке, поскольку, забрав у меня костыль, он побежал назад, чтобы немного его укоротить, а я остался стоять посреди площади, опираясь на плечи Марии и ее матери. Очевидно, это было прощание, так как у дороги меня дожидался красный «фольксваген-жук» — старенький, но в приличном состоянии. Водитель подошел ко мне, чтобы помочь сесть в машину, но я отрицательно покачал головой. Я чувствовал, что должен что-то сказать. Слегка откашлявшись, я повернулся к небольшой толпе, собравшейся к тому времени на площади.
— Я хочу, — начал я, — поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Вы были очень… добры. Muchas gracias, muchas gracias![41]
В ответ послышался негромкий, дружелюбный гул и аплодисменты, а Мария поцеловала меня в щеку. Вернулся Педро с костылем; я попробовал сделать несколько шагов и обнаружил, что он стал еще удобнее.
Я направился к машине, но прежде чем я успел забраться в нее, я заметил какого-то человека, который спешил к нам из джунглей. Высокий, полный, бородатый, одетый в голубую рубашку и белые хлопчатобумажные брюки, он не был похож на индейцев — обитателей деревни. От быстрого бега он запыхался, а его лицо приобрело багровый оттенок. Глядя на него, я догадался, что это, должно быть, тот самый «сердитый мужчина», который сделал мне операцию.
Подбежав ко мне, он остановился и вытер лицо огромным носовым платком.
— Я хотеть повидаться с тобой до отъезд, — сказал он.
— Да, — ответил я, — я вас помню.
— Моя английская плохой, я не говорить.
— Да нет, все нормально. Я же вас понимаю, — сказал я.
— Нет, очень плохая английская, — повторил он, глядя мне прямо в глаза.
— Дети научили меня считать по-испански от одного до ста, — сказал я.
Он улыбнулся.
— Я не хотеть не увидеть тебя, — проговорил он. Я кивнул.
— Я хотел поблагодарить вас за все… — начал я, но он перебил:
— Слушать меня, пожалуйста. Я знаю, кто ты. Тот americano… Здесь опасно. Было безопасно, но теперь — нет. Мы отправить тебя другое место. Ближе к границе. Там тебе неопасно. Люди, с которыми ты там жить, — хорошие, но не все умеют держать рот на замок. Поэтому ты не говорить никому, кто ты и откуда. Если кто спросить, говори — у тебя быть неприятности из-за женщина, понимать?
Все это показалось мне немного смешным, но он говорил серьезно, и лицо его тоже было серьезным и торжественным. Я посмотрел на него, глаза у него были старые и очень голубые.
— Вы все — и особенно вы, доктор, — вы спасли мне жизнь, — сказал я, — а я даже не знаю вашего имени.
Он протянул руку, и я пожал ее.
— Принсипе, — сказал он. — Надеюсь, ты понимать, что у нас не быть выбор? Мы знали, что тебя нельзя везти в больницу, потому что ты быть знаменитый беглец-гринго. Известный убийца.
— Значит, они говорят, что я — убийца?
— Убийца, насильник и так далее. Мы слышать много всякое.
— Это неправда.
Принсипе покачал головой с таким видом, что я понял — я мог бы ничего не говорить. Меня разыскивала полиция, и этого было достаточно и для него, и для всех остальных тоже.
— Спасибо, Принсипе, — сказал я.
— Не за что. Поблагодари лучше la Virgen nuestra, nuestra madre, que se echa la culpa de nuestras pecados.[42] А сейчас, мой друг, ты пора идти…
— О'кей.
Он помог мне усесться в машину. Я опустил стекло и еще раз поблагодарил Педро, Марию и ее мать. «Фольксваген» тронулся, и я обернулся, чтобы в последний раз помахать им рукой. Вся деревня махала мне в ответ, и я почувствовал, как на глаза у меня навернулись слезы. Я вытер их кулаком и долго смотрел в заднее стекло, пока деревня не скрылась за поворотом.
Водитель «фольксвагена» со мной не разговаривал, но был настроен достаточно приветливо и даже предложил мне сигарету. Мы курили, слушали по радио ужасную музыку в исполнении марьячос и не менее ужасный мексиканский рок. Маленький «жучок» оказался не в такой уж замечательной форме, как мне казалось: в салоне сильно пахло выхлопными газами, которые просачивались откуда-то со стороны заднего сиденья, а двигатель хрипел и рычал так громко, что мне оставалось только недоумевать, как такому маленькому автомобилю удается производить столько шума. Поначалу дорога была прекрасной, но потом мы свернули на ухабистый проселок, и несчастный «фольксваген» начал сотрясаться и угрожающе громыхать на каждой рытвине. От тряски, а также от скопившихся в салоне выхлопных газов меня мутило, и нам пришлось останавливаться каждые полчаса, чтобы я мог отдышаться. Чтобы отвлечься, я старался сосредоточиться на линии горизонта или глазел на попадавшиеся по сторонам дороги поля и редкие плантации, однако мысли мои раз за разом возвращались к левой ноге. И каждый раз я с ужасом думал о том, что со мной произошло и что могло произойти… По крайней мере, я больше не страдал от боли — Мария дала мне с собой какие-то корешки, которые я должен был жевать; кроме того, они раздобыли в последний момент и сунули мне с полпригоршни каких-то таблеток на крайний случай. Впрочем, корешки помогали, хотя я и не знал, было ли это самовнушением или они действительно обладали какими-то болеутоляющими свойствами.
До наступления темноты мы успели добраться до предгорий, стало прохладнее, и мы остановились в какой-то деревушке. Водитель помог мне вылезти из машины и отвел в пустующую хижину. Там он знаками показал мне, чтобы я раскатал на полу циновки и ложился. Я так и поступил, а водитель вернулся к машине и уехал. Ночью я так и не сомкнул глаз, и вовсе не из-за того, что хижина кишела клопами. Мое сердце стучало часто-часто, а кровь шумела в ушах, но я знал, что это не болезнь и не приступ лихорадки. Дело было в чем-то другом. Вероятно, я просто нервничал, страшась неизвестности, а может быть, мною овладела паника. Уж не начало ли это нервного срыва? Не знаю. Я постарался, как мог, успокоить себя и все равно пролежал без сна до самого рассвета, напряженно вглядываясь в темноту.
Незадолго до того, как солнце встало над горизонтом, за мной приехали. Их было несколько человек, они смеялись, хлопали меня по плечу и что-то говорили по-испански. Потом они посадили меня в джип и повезли дальше. Мы проехали мимо городка под названием Теносике-де-Пино-Суарес и начали подниматься в горы. Стало по-настоящему холодно, и один из моих спутников дал мне теплую куртку, в которую я тут же закутался.
До лагеря мы добрались только к вечеру. Это был именно лагерь — никак иначе его нельзя было назвать. На поляне возле реки стояло несколько палаток и горели костры. У костров собралось примерно два десятка человек, которых я сначала принял за рудокопов или старателей, но скоро мне стало ясно, что это — такие же, как я, беглецы, скрывающиеся от правосудия преступники и прочие маргинальные элементы. Они не были бандитами, потому что они никого не грабили; они просто жили здесь, собравшись вместе, чтобы легче было помогать друг другу и защищаться от врагов. Высокий, худой мужчина с нелепыми усами а-ля Сапата[43] первым подошел ко мне и, обнажив в улыбке крупные, желтые зубы, сказал что-то по-испански, пожал мне руку, дал кусок жевательного табака и познакомил с еще двумя или тремя молодыми парнями. Я понял, что он здесь босс, и сказал, что очень рад знакомству.
Вероятно, он объяснял, что это за лагерь и кто и почему здесь живет.
— О'кей, приятель, все это очень здорово, только я ни хрена не понял, — кивнул я, улыбнулся и похромал к свободному месту у костра.
Приняли меня на удивление тепло и усадили под брезентовым навесом рядом с небольшой скалистой площадкой, где мне предстояло ночевать. Там уже лежали грубые шерстяные одеяла, а если бы мне понадобилась подушка, я мог набить соломой холщовый мешок. Несколько человек помогли мне очистить площадку от камней. Когда все было готово, я постелил на землю одеяло, лег и сразу заснул.
По утрам мы завтракали бобами, вечером ели те же бобы и вареный рис, иногда — с тортильей. Откуда бралась еда, я не знал; такой же тайной было и на что все они жили, поскольку обитатели лагеря ровным счетом ничего не делали. Некоторые из них немного говорили по-английски, но так неправильно и с таким чудовищным акцентом, что я мало что понимал. Похоже, старина Принсипе, наплел здесь обо мне бог знает что, так по-доброму отнеслись ко мне обитатели лагеря. Впрочем, все мы оказались в одинаковом дерьме, а это сближает. Несомненно было одно: лагерь кто-то финансировал, и впоследствии, когда я взглянул на карту и понял, что он располагался в горах штата Чиапас, мне многое стало ясно. Я побывал там в девяносто втором, а примерно год спустя американские газеты запестрели тревожными сообщениями о росте напряженности в этом самом южном и самом бедном из мексиканских штатов, населенном преимущественно индейцами.
По вечерам двое парней постарше доставали гитары и пели длинные, грустные песни о любви. Тогда я слышал эти песни впервые, но довольно быстро запомнил мелодию и кое-какие слова. Впоследствии я напел их своим испанским друзьям, и выяснилось, что они эти песни хорошо знают. Как-то один из гитаристов начал играть «Ирландский север наш вовек» — старый футбольный гимн, который частенько исполнялся на стадионе в Виндзор-парке. Вернее, это я подумал, будто он играет гимн; на самом деле это оказалась «Гуантанамера», которую знал, наверное, каждый человек на Земле, кроме меня. Заметив, как сильно взволновала меня эта песня, парни стали исполнять ее каждый вечер, и скоро я выучил наизусть все семь куплетов.
Так шли дни за днями, и каждый день был как две капли воды похож на предыдущий. Небо оставалось голубым и безоблачным, и только на горизонте изредка появлялись редкие облачка. До полудня было холодно, потом на несколько часов устанавливалась жара, а к вечеру снова холодало. Вокруг лагеря расстилалась типичная высокогорная пустыня, унылое однообразие которой оживляли лишь мясистые кактусы, несколько низкорослых деревьев и разбросанные там и сям валуны. Однажды, отправившись на прогулку, я заметил лису.
Прожив в горном лагере чуть больше недели, я начал ощущать зуд в ногах (или, если угодно, в ноге). Другие парни распевали песни, играли в шашки или в кости, по вечерам жевали табак из своих скудных запасов, а днем норовили поспать подольше. Они балагурили, мне же даже поговорить было не с кем: я ел чужую еду и не мог добавить в общий котел даже пары забавных историй. Кроме того, мне казалось, что шум, поднявшийся в связи с моим побегом, уже улегся и ничто не мешает мне двигаться дальше. И я хотел двигаться дальше. Пора было пробираться на север. Меня ждал Нью-Йорк.
И вот в воскресенье утром (с полдюжины парней соорудили в лагере нечто вроде церкви) я собрал свою одежду, взял костыль в руки и попытался объяснить (по большей части знаками), что мне нужно уехать. Наш главный понял меня довольно быстро и — при помощи нескольких английских слов и рисунков, нацарапанных на глине, — объяснил, что я должен подождать до завтра. Завтра, добавил он, придет машина, которая подбросит меня до шоссе.
Я стал ждать, и машина действительно пришла. Это была зеленая «тойота-камри» с оторванной передней дверцей. Когда водитель выгрузил из багажника мешок риса и небольшой пакет кофе, наш предводитель что-то ему сказал, и водитель кивнул, словно ему все было ясно. Во всяком случае, когда я сел в машину, он не задал мне ни одного вопроса, а просто отвез меня на равнину. Остановившись на перекрестке двух асфальтированных дорог, он затормозил и протянул мне несколько мексиканских долларов. Я не хотел их брать, но он настоял и к тому же показал, в какую сторону мне следует ехать.
— Гватемала, — сказал он, указывая рукой куда-то вдаль.
— Соединенные Штаты? — спросил я.
— El norte,[44] — ответил водитель и показал на едва видневшуюся на горизонте цепочку голубых горных вершин. Потом он завел мотор и знаками спросил, точно ли я не хочу ехать с ним на восток.
Я покачал головой. Он тоже покачал головой и укатил.
Я немного постоял на перекрестке, потом сел. Незадолго до наступления темноты вдали показалось облако пыли. Это был автомобиль — первый автомобиль за весь сегодняшний день. Опираясь на костыль, я поднялся с земли и выставил палец. Грузовик с открытым пустым кузовом приближался. Водитель увидел меня еще издали и затормозил. Открыв дверцу кабины, он спросил что-то по-испански.
— Не подбросишь? — спросил я.
Он кивнул, и я вскарабкался на сиденье рядом с ним.
— Habla espanol?[45] — спросил водитель. Я покачал головой.
— Bueno,[46] — сказал он и завел мотор.
Мы ехали всю ночь. Незаметно я заснул, а когда поздним утром водитель растолкал меня, мы как раз подъезжали к какому-то небольшому городку. Я понял, что это конечная остановка, и спросил водителя, в какой стороне север. Он показал мне направление. Я выбрался из кабины и поблагодарил его, как умел, а он ответил в том смысле, что, мол, не стоит благодарности или что-то вроде того.
В городке было очень многолюдно, должно быть, я попал сюда в базарный день. На одну из банкнот я купил воды, фиников, апельсинов и лепешек и получил еще целую пригоршню сдачи. Тут же, на рыночной площади, у стены маленькой церквушки я с аппетитом поел. С помощью уже привычного языка жестов мне удалось узнать, что за церковью есть водоразборная колонка и что там можно мыться. Отправившись туда, я разделся до трусов и как следует вымылся, доставив немало удовольствия стайке ребятишек, игравших поблизости в мяч (если бы не дети, я бы сполоснул и интимные части тела). Обсохнув на солнышке, я натянул свои заплатанные джинсы и просторную хлопчатобумажную рубаху, которую мне дали в лагере. На здоровой ноге у меня была сандалия, а на больной — бинт, который к этому времени превратился просто в грязную тряпку, но я прикрыл его, заново загнув штанину и заколов ее английской булавкой, так что обе мои ноги имели вполне приличный вид.
Приведя себя таким образом в порядок, я вернулся на рыночную площадь и обнаружил на ней автобусную станцию. Призвав на помощь нескольких прохожих, я кое-как втолковал кассиру, что мне нужно в Соединенные Штаты. Это оказалось непросто. Как я понял, прямого автобусного маршрута до границы не существовало. Мне следовало либо отправиться в Мехико, либо сесть на автобус, идущий на север вдоль побережья. Если бы я остановился на этом последнем варианте, я бы сумел доехать почти до самой границы, но затратил бы намного больше времени, однако меня это устраивало: в Мехико я бы в любом случае не поехал из боязни попасть в лапы полиции.
Вскоре подошел и автобус местного сообщения. Я сел на него, но мне пришлось ждать почти три часа, пока он наполнился пассажирами. Наконец мы тронулись. Сидевшая рядом со мной внушительных габаритов сеньора тут же открыла огромный саквояж с необходимыми в дороге мелочами и предложила мне какой-то напиток, отдаленно напоминающий шербет. Сама она тоже выпила бутылочку, потом достала из саквояжа банку джема и бисквит «мадера» с лимонной цедрой. Ловко орудуя складным ножом, она отрезала мне кусок бисквита и щедро намазала его джемом. По такому же куску получили и другие пассажиры, так что самой хозяйке достались лишь какие-то жалкие крошки. Нимало не смущаясь тем, что я ее совершенно не понимал, она принялась развлекать меня рассказом о себе и о своих детях.
В целом поездка на автобусе оказалась приятной — особенно потому, что мое место было на теневой стороне. Довольно продолжительное время мы ехали по поросшей низкорослым кустарником пустыне, миновав по дороге несколько небольших городков и хвойную рощу. Никаких признаков близости моря я не видел и уже начал волноваться, что каким-то образом умудрился все перепутать и сесть не на тот маршрут. Так или иначе, ехали мы уже семь или восемь часов; большинство пассажиров, включая мою соседку, успели сойти по пути, и их место заняли другие. Наконец автобус прибыл на конечную остановку — в небольшой городок, как две капли воды похожий на тот, из которого я выехал, но за одним исключением: это действительно был приморский город, стоявший на берегу удобно расположенной естественной гавани. Назывался он Пуэрто-Аррахо.
И все же я, видимо, что-то перепутал. Как вскоре выяснилось, из Пуэрто-Аррахо в северном направлении никакие автобусы не ходили. Напрасно я возмущался, доказывая служащему автобусной станции, что мне непременно нужно попасть к границе; с не меньшим раздражением он объяснял, что мне нужно вернуться в Вера-Крус и ехать на север оттуда.
Автобус на юг отходил только завтра. Между тем наступил вечер, и я поужинал в крошечном, грязноватом ресторанчике, где подавали тортильи и жирное свиное рагу, которое показалось мне самым вкусным блюдом, какое я только пробовал за всю мою жизнь. Ночь я провел на верхнем этаже какого-то недостроенного дома. Наутро я поднялся рано и позавтракал в какой-то забегаловке яичницей-болтуньей. Автобусная станция открывалась в одиннадцать, поэтому я несколько часов бродил по городу (надо сказать, что к этому времени я научился довольно ловко управляться со своим костылем), посетил загаженную общественную уборную, а потом спустился к пляжу. Я решил было искупаться, но от соленой воды мою культяпку зверски защипало, и я поспешил вернуться на берег.
Ровно в одиннадцать я был на автобусной станции. И опять неприятность. Очевидно, накануне я неправильно понял, что говорил мне кассир, так как автобус до Вера-Крус отправлялся не сегодня, а завтра.
Сначала я разозлился до чертиков, но потом взял себя в руки. Что тут поделаешь! Я побрел на окраину города и, встав на перекрестке, снова стал «голосовать».
Вскоре появился какой-то грузовик. Заметив меня, водитель остановился и распахнул дверцу, а я поднялся в кабину, даже не спросив, куда мы едем. Весь день и большую часть вечера водитель болтал о всякой ерунде, очевидно обретя во мне благодарного слушателя. Незаметно я задремал, а когда проснулся, то увидел восходящее солнце. Вот только всходило оно почему-то не с той стороны, и я сообразил, что это не восход, а закат и что едем мы совсем не в том направлении, какое мне было нужно. Водитель объяснил, что мы подъезжаем к пригородам Мехико, и я заснул снова.
Когда я проснулся во второй раз, мне сразу захотелось, чтобы как можно скорее наступила ночь. В воздухе было синё от дизельных выхлопов; повсюду летали хлопья жирной сажи, и даже небо казалось грязновато-бурым, как брюшко саранчи. Мы находились на довольно большой высоте над уровнем моря, и сквозь завесу смога я различал внизу трущобные кварталы, бидонвили и районы муниципальных жилых домов, спроектированные каким-то безумным архитектором.
В книге о завоевании Мексики, которую я читал, Мехико предстает совсем другим. Бернал Диас описывает город, выстроенный на озере. Парят в лазури небес чайки, небольшие барки скользят по воде между храмами и деревянными домами на сваях… Нарисованная им картина очень напоминает Венецию, но увы — она не имеет ничего общего с действительностью. Не знаю, куда подевалось озеро, но ко времени моего прибытия город представлял собой настоящий кошмар: сгусток стали и бетона, сумасшедшего уличного движения и отравленного воздуха.
На то, чтобы проехать город транзитом, у нас ушел не один час. Объезжая «пробку» на одной из центральных магистралей, мы случайно заехали в относительно приличный район, и, посмотрев в окно, я вдруг увидел двух американцев, которые сидели в уличном кафе у стены высокого готического храма.
Это были мужчина и женщина. Одетые в шорты и бейсболки, они читали «Интернэшнл геральд трибьюн». Настоящие американцы. Английские слова в газете… Мне отчаянно захотелось опустить стекло и окликнуть их. Пообщаться. Снова почувствовать себя одним из них. Но я сдержался, а в следующую же минуту сменился сигнал светофора, и мы проехали мимо.
В местности под названием Эль-Оро водитель остановился у швейной фабрики. Порасспросив других водителей, он вскоре нашел машину, которая шла на север.
Водителем этой машины был рослый парень, заядлый курильщик, немного говоривший по-английски. Он был не против того, чтобы взять попутчика. Звали его Габриэль. Когда я сказал, что меня зовут Майкл, он засмеялся и сказал, что мы — два архангела и что это хороший знак.
На протяжении двух дней я делил с ним его еду и спал на его крошечной койке за сиденьем. Мы жевали черствые лепешки и говорили о футболе и женщинах. Габриэль рассказывал мне длинные и запутанные анекдоты, которые я никак не мог понять, что, впрочем, не мешало мне смеяться и нахваливать его чувство юмора. К сожалению, корешки, которые дала мне с собой Мария, давно закончились, и нога болела нестерпимо. Сжалившись надо мной, Габриэль угостил меня каким-то термоядерным пойлом домашнего изготовления, от которого у меня буквально глаза на лоб полезли, а в желудке еще долго полыхал лесной пожар.
В Чиуауа Габриэль неожиданно сказал, что здесь наши пути расходятся. Он вез партию рубашек в Калифорнию и должен был сворачивать на запад. Я же направлялся в Нью-Йорк, а от Чиуауа до техасской границы было, по его словам, чуть больше двухсот километров. От Техаса до Нью-Йорка гораздо ближе, чем из Калифорнии, рассудительно добавил Габриэль.
Я понимал, что он прав, но мне не хотелось расставаться со своим говорливым коллегой-архангелом. В кабине его грузовика, где было вдоволь черствого хлеба и кукурузного виски, я чувствовал себя уютно и безопасно, но меня ждал Нью-Йорк. И я должен был туда вернуться. Мне предстояло сыграть заглавную роль в пьесе со стрельбой, где будет и боль, и ужас, и дрожащие коленки, но еще не сейчас, не скоро…
— Я поеду с тобой до границы с Калифорнией, — сказал я.
Габриэль не возражал, и мы вместе отправились на запад, к Тихуане.
Как известно, Тихуана порядочная дыра, а тогда, в девяносто втором, городишко этот был еще хуже. И тем не менее у него имелось преимущество перед другими мексиканскими городами и поселками, в которых я успел побывать: достаточно было только зайти в первый попавшийся бар и напустить на себя таинственный вид, и спустя некоторое время к тебе подходил человек с предложением помочь переправиться через границу.
Вид у меня был достаточно таинственный, но вот беда — у меня не было денег, поэтому мне пришлось «подоить» двух американских студентов, разъезжавших в микроавтобусе марки «фольксваген». Они обследовали побережье, покатались на доске, и, разумеется, у них накопилось немало вопросов. Студенты угостили меня пивом, а я рассказал им наскоро состряпанную историю о том, как я несколько лет путешествовал автостопом по обеим Америкам, работал, бродяжил и многое повидал. Они решили, что для инвалида это было круто, — в моих словах они даже не усомнились. Моя выдумка увлекла и меня самого, и я упомянул о Колумбии, Эквадоре и вечных снегах на вершинах Мачу-Пикчу.
Потом я объяснил им, что собираюсь нелегально пересечь границу Соединенных Штатов, так как несколько месяцев назад потерял свой паспорт. Это они тоже сочли достаточно крутым и предложили спрятать меня в своем автобусе, но я отказался, сказав, что так дела не делаются и что на самом деле мне нужны только деньги.
Они дали мне пятьдесят долларов. Я поблагодарил и проводил взглядом их автобус, катившийся к массивному зданию таможни на пропускном пункте через границу.
Деньги и мое очевидное нетерпение помогли мне убедить двух подростков, что я не шпик и не агент иммиграционной службы США, и переход был назначен на ближайшую ночь.
Нас было двенадцать человек. Мы встретились у бара неподалеку от главной улицы, в тихом месте. Ждать пришлось довольно долго, и я уже начал думать, что меня элементарно надули, однако в конце концов долгожданный фургон все же появился. Мы погрузились в него и некоторое время ехали, забираясь все дальше в пустыню.
Потом мне пришлось карабкаться через забор из колючей проволоки, что в моем состоянии было хоть и не просто, но все же возможно. Следующим препятствием оказался сплошной забор из гофрированного металла, преодолеть который было раз плюнуть: желобки металлических листов образовывали удобнейшие ступени, как будто специально предназначенные для одноногих нелегалов.
Границу я перешел где-то к юго-востоку от Сан-Диего. Со мной было еще около десятка человек всех возрастов. Некоторое время мы брели по нейтральной полосе, потом в темноте впереди замигал фонарик — это был либо парень, с которым мы должны были встретиться, либо сотрудники службы иммиграции и натурализации.
Это оказался наш парень — молодой, низкорослый, в черных джинсах, черной хлопчатобумажной куртке и черном «стетсоне». Он громко окликнул нас, хотя мы и так прекрасно его видели, и я, не сдержавшись, проворчал, что этого идиота слышала, наверное, добрая половина штата Калифорния.
Когда мы подошли, то увидели фургон с погашенными фарами и работающим на холостом ходу двигателем. Каждый из нелегалов отдавал водителю деньги и садился в кузов. У меня никаких денег уже не осталось, но мне все равно разрешили ехать вместе со всеми. Компания, кстати говоря, подобралась хорошая. Большинство нелегалов были сезонными сельскохозяйственными рабочими и ходили через границу каждый год. Правда, сезон сбора фруктов уже закончился, зато в Лас-Вегасе начинался новый строительный бум.
Мы ехали всю ночь и половину следующего дня и остановились в промышленной зоне к югу от Лас-Вегаса. Здесь требовались руки, чтобы разрушать старые отели и строить новые, и я невольно подумал, что с моим опытом я мог бы многого добиться на этом поприще. Если бы не моя нога, я мог бы заработать целое состояние. Увы, в моем положении думать о работе иной, чем в кофейном баре, не приходилось, поэтому я просто поблагодарил парней за приятную поездку и отправился на шоссе, чтобы двигаться дальше автостопом.
Я простоял на обочине полтора часа, когда меня заметил сотрудник шерифской службы. Остановив машину, он сказал, что передвигаться на попутках в этих местах запрещено законом. Я честно ответил, что слышу об этом впервые. К счастью, помощник шерифа узнал мой акцент и спросил, из какой части Ирландии я родом. Я ответил — из Белфаста и он сказал, что его бабушка по отцовской линии тоже была ирландкой и тоже из Белфаста.
Я никогда не питал особых симпатий к легавым и прочим служителям закона, но помощник шерифа Флинн оказался действительно славным малым. Крупный, рыжеватый, с очень светлой кожей, он едва не заплакал, слушая мою печальную историю. Я рассказал ему, что приехал в Вегас, надеясь подзаработать на строительстве, но сорвавшееся корыто с раствором раздробило мне ногу, а поскольку я был нелегалом, я не мог обратиться к властям и получить соответствующую компенсацию за увечье. Теперь, объяснил я, мне необходимо как-то добраться до Нью-Йорка — у меня, мол, есть адрес одного дальнего родственника, проживающего в Бруклине, который может одолжить мне денег на обратный билет на родину, куда мне предстоит вернуться пережившим крушение всех надежд и вконец отчаявшимся инвалидом.
— Что ж, Шеймас, — начал Флинн (ибо в этой маленькой вселенной меня звали Шеймасом Мак-Брайдом), — история твоя — хуже не придумаешь. Пожалуй, я дам тебе немного денег, чтобы ты мог ехать на «грейхаунде».[47] Нет, не возражай, пожалуйста! Я знаю, вы, ирландцы, гордые парни, но в данном случае я абсолютно настаиваю. Ты меня очень обидишь, если не возьмешь денег.
Но я, конечно, не хотел брать у него деньги, сказав, что коли я сам вляпался в это дерьмо, сам должен и выпутываться, а не полагаться на благотворительность, пусть она и продиктована самыми добрыми чувствами.
Но Флинн недаром был на четверть ирландцем, и переспорить его было непросто. В ответ на мои возражения он объяснил, что никакая это не благотворительность, что он предлагает мне деньги в долг и что потом я должен буду их вернуть. С моей стороны было бы глупостью не взять у друга несколько долларов в долг; в конце концов, разве не то же самое я собирался проделать, добравшись до мифического родственника в Бруклине? Коль скоро Флинн поставил вопрос таким образом, отказываться и дальше мне было не с руки, поэтому я поблагодарил и записал его имя и адрес (и я действительно вернул ему деньги примерно месяц спустя, когда по невероятному стечению обстоятельств попал на работу к Району и начал носить тысячедолларовые костюмы и ублюдочный «узи» под мышкой).
Флинн вручил мне две двухсотдолларовые банкноты, довез до автобусной станции в Лас-Вегасе и крепко пожал руку на прощание.
Я купил билет до Нью-Йорка и вскоре уже сидел в автобусе. Я рассчитывал выспаться, но так и не смог заснуть. В Денвере мне и вовсе пришлось выйти, чтобы размять мускулы и немного собраться с мыслями после долгого и не слишком приятного путешествия через Юту и Скалистые горы в излишне кондиционированном салоне автобуса. В Денвере я нашел недорогой мотель, купил бутылку виски «Джек Дэниэлс», разделся и часа полтора стоял под горячим душем. Телевизор я смотрел так, словно он был изобретен буквально на днях. Пока я был в Мексике, в США шла президентская предвыборная гонка, которая как раз близилась к своей кульминационной точке. Губернатор Арканзаса имел все шансы обойти президента Буша. Скучища была смертная, и я посмотрел «Колесо Фортуны», викторину «Риск!», а потом просто обалдевал от бесконечных дневных сериалов.
В мотеле я прожил два дня. За это время я не только истратил все остававшиеся у меня деньги, но и сдал грейхаундовский билет. На деньги, которые мне вернули, я пил пиво и заказывал пиццу одну за другой. В какой-то момент мне пришло в голову перебинтовать свою культю. Сняв бинты, я несколько секунд стоял как громом пораженный, глядя на уродливый, синевато-багровый обрубок. Хорошо еще, что я был в сосиску пьян, иначе я мог бы грохнуться в обморок.
За два дня я спустил все, что досталось мне с таким трудом. Признаю, с моей стороны это было форменное идиотство. Я просто не имел права поступать подобным образом — особенно после того, как дочери Никты чудесным образом вытащили меня из тюрьмы, спасли меня в джунглях и подослали ко мне помощника шерифа с двумя сотнями баксов.
Но, как говорится, что сделано, то сделано. Между тем я по-прежнему стремился вернуться в Нью-Йорк, чтобы увидеть, как кровь пятнает стены и собирается в лужицы под трупами врагов. Я хотел видеть слезы вдов, хотел слышать жалобные стенания и мольбы о пощаде… И именно поэтому я не хотел туда возвращаться.
От двухсот долларов Флинна у меня осталось буквально несколько центов, и я решил обратиться за помощью к ирландским обществам и землячествам Денвера. Как ни странно, в телефонном справочнике отыскалась только одна подобная организация. Я позвонил туда и объяснил ситуацию, но парень, с которым я разговаривал, чуть не расхохотался, когда я смиренно добавил, что хотел бы получить взаймы некую сумму. После этого мне ничего не оставалось, кроме как собрать свои немногочисленные пожитки и в очередной раз отправиться «голосовать» на дорогу. Пройдя по местному Бродвею, я встал у выезда на федеральное шоссе И-70, но мне не везло. Водители не хотели меня брать, а легавые гнали прочь (слушать историю об удивительных похождениях Шеймаса Мак-Брайда у них не было ни времени, ни желания). В ту ночь я кое-как переночевал под мостом через ручей Черри-крик, из которого напился и умылся, а утром стал «голосовать» снова. Для засады я опять выбрал выезд на федеральную магистраль, и на этот раз мне повезло. Всего какой-нибудь час спустя на дороге появился трейлер. Водитель заметил меня, наши взгляды на мгновение встретились, после чего он ткнул большим пальцем себе через плечо: садись, мол…
Я не стал медлить.
Владелец огромного желто-белого «уиннибейго» самой последней и дорогой модели был мужчиной лет пятидесяти — седым, с серым, унылым лицом клерка или директора похоронного бюро. «Питер Дженнинг, — представился он, — тезка якоря, только без «с» на конце». Мне такое прозвание якоря было внове, но, услышав это, я решил, что имею дело с бывшим моряком.
Ему я тоже рассказал печальную историю Шеймаса Мак-Брайда, и морячок, похоже, заглотил наживку. Потом я спросил, нравилась ли ему морская служба.
— Видишь ли, Шеймас, я никогда не служил в вооруженных силах, — сказал он. — Проблемы со слухом, знаешь ли… Зато мой сын побывал на войне в Заливе. Не в передовых частях, слава богу! Он служил радистом в подразделениях обеспечения и обслуживания. Только не думай, что там ему ничто не угрожало, потому что это не так. Свою медаль он получил и сейчас числится в запасе.
— Я вовсе не говорю, что там было безопасно, ведь они же пускали эти штуки… Ну, ракеты… — сказал я.
— СКАДы, — уточнил он. Похоже, одного этого слова хватило, чтобы разбудить в нем прежние эмоции.
— Да, да, верно… — Я кивнул. — Чертовски опасные штуки! Я сам в это время служил в британской армии, только нас не отправили в Залив. А жаль, честное слово жаль, — добавил я. Я не стал упоминать, что пока шла война в Заливе, я уже не служил, я отбывал срок на гарнизонной гауптвахте на острове Святой Елены, а когда вышел, меня ждал еще один облом. Пока я сидел, наш полк решили переформировать, объединив с другим полком, и многих новобранцев увольняли, положив им в качестве компенсации довольно солидную сумму. Увы, никому почему-то не пришло в голову давать компенсацию таким, как я, поэтому я считал, что пострадал дважды.
— Тебя действительно расстраивает, что ты не попал на фронт? — спросил меня Питер.
Я рассеянно кивнул.
— Не жалей, сынок, та война была паршивой войной. Обычная наземная операция. Не знаю, известно ли тебе, что война в Заливе была точной копией сражения при Каннах? Такой же фланговый охват, позволивший разгромить противника, применил когда-то Ганнибал. Его победа при Каннах была поистине блистательной, но разве он выиграл войну? Нет. Разве мы победили Саддама? Тоже нет. Вот что я тебе скажу, сынок: Vinse Hannibal, et non seppe, гм-м… usar poi. Ben la vittoriosa sua ventura. Я прочел это в одной книге и запомнил.
Я глубокомысленно кивнул и сказал:
— Да, конечно, все верно. Здорово сказано.
Питер улыбнулся, явно довольный собой:
— Ты, наверное, учил языки, Шеймас? Ведь эту традицию ввели у вас в школах еще иезуиты, — добавил он с ухмылкой, из которой явствовало, что он питает отвращение к папизму, но одобряет систему телесных наказаний.
— Да, мы изучали разные языки, но мне они как-то не очень давались…
— Ганнибал одержал победу, но не знал, как правильно ею распорядиться — вот что значит это изречение. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду? Ни Бушу, ни Пауэллу даже не пришло в голову воспользоваться победой в Заливе, чтобы вышвырнуть Саддама из Ирака пинком под зад. Ганнибал не двинул войска на Рим, понимаешь?
Честно говоря, я абсолютно не понимал, что он хочет сказать, но говорить ему об этом мне не хотелось. Хич-хайкеры живут по своим законам, один из которых гласит: пассажир должен соглашаться со всем, что говорит водитель. Поэтому я сказал, что он совершенно прав, и Питер продолжил подробный разбор стратегических ошибок и промахов, совершенных президентом и его окружением.
— Попомни мои слова, сынок, нам еще придется повоевать в тех краях, ох как придется! Ты помнишь, что говорил Катон?
— Это который все время нападал на инспектора Клузо в мультике про Розовую Пантеру?
— Carthago delenda est — вот как он говорил! Карфаген должен быть разрушен. А мы что сделали? Разве мы довели дело до конца? Этот Ирак еще достанет нас до печенок; вот увидишь — через пару лет снова придется посылать туда войска, — уверенно заявил мистер Дженнинг и тут же набросал примерный план кампании, которая должна привести к окончательной победе демократии на Ближнем Востоке. Покончив с этим, он принялся вспоминать все мало-мальски известные сражения во всех войнах начиная с 1860 года, подробно объясняя, в чем была ошибка того или иного полководца и как можно было добиться победы меньшими силами и практически без потерь. Почему-то я не особенно удивился, когда мистер Дженнинг сообщил, что он — большой любитель истории. Упомянул он и о том, что почти сорок лет занимался торговлей, но и это не стало для меня большим сюрпризом: я уже понял, что он способен заговорить зубы даже осьминогу. Как я узнал, Питер много лет работал в фирме, которой принадлежат кафе быстрого обслуживания «Кентукки фрайд чикен», и ушел в отставку с должности регионального вице-президента по маркетингу.
Я всегда считал, что все кафе «Кентукки фрайд» — обычные франшизополучатели.[48] Слова мистера Дженнинга настолько меня удивили, что я имел неосторожность спросить, зачем им нужен региональный вице-президент по маркетингу. В ответ Питер громко расхохотался — до того поразила его моя детская неискушенность, и принялся подробно разъяснять мне корпоративную стратегию, информировании каковой (стратегии) он играл весьма важную роль. В чем именно заключалась эта роль, мне было растолковано на устрашающе-бесконечном множестве примеров.
И все же, по большому счету, мне повезло. Как я узнал, мистер Дженнинг ехал в Вермонт, чтобы полюбоваться «балом осенних красок», как он выразился. И если у меня есть такое желание, добавил мистер Дженнинг, он может заехать в Нью-Йорк и высадить меня там, благо крюк получается совсем небольшой. Желание у меня было; ради того, чтобы как можно скорее попасть в Нью-Йорк, я готов был слушать его болтовню несколько дней кряду — на мой взгляд, это была не бог весть какая жертва. Мистер Дженнинг с увлечением толковал мне Ливия, Клаузевица и Бисмарка, а при малейшем проявлении интереса с моей стороны принимался развивать и конкретизировать свои теории относительно устройства Вселенной. Он был вдовец, но по своей покойной жене вовсе не скучал, а однажды, когда мы спали в просторном кузове «уиннибейго», он довольно отчетливо произнес во сне: «Поделом тебе, старая корова!» — что послужило мне отправной точкой для нескольких собственных теорий.
Пару раз мистер Дженнинг все же спросил, не заплачу ли я за бензин, но в ответ я только вывернул пустые карманы. Это его убедило. Вести машину он мне не позволял, зато я развлекал его рассказами из ирландской жизни, которые сочинял на ходу. Особенно ему нравились пикантные истории о женщинах, а у меня как раз было в запасе несколько таких, которые были почти правдивы.
Когда мы подъехали к мосту Джорджа Вашингтона, была ночь и лил холодный дождь. Выйдя из машины, я от души поблагодарил мистера Дженнинга, и он поехал куда-то в сторону Пэлисейдс-парка, очевидно собираясь пересечь Гудзон где-то в Другом месте.
Под непрекращающимся дождем я перешел мост. Слава богу, с пешеходов не брали платы, так как у меня остался всего один доллар семьдесят пять центов, которые я заначил от мистера Дженнинга. Я потратил их на билет и, сев на поезд маршрута «А», добрался до 125-й улицы.
Сойдя с поезда, я оказался на знакомых до боли улицах Гарлема. Часы показывали два ночи. Тротуары были грязными, мокрыми и скользкими от дождя, и прохожие немилосердно толкали меня плечами и локтями. Опираясь на костыль, я прошел вдоль 125-й и поднялся по Амстердам-авеню.
Свой старый дом я нашел на прежнем месте. Замок на входной двери оказался, по обыкновению, сломан, что в данных обстоятельствах пришлось как нельзя кстати. Войдя в подъезд, я подошел к двери, ведущей в подвал, и позвонил. Звонить пришлось довольно долго, наконец я услышал громкую брань на сербохорватском языке, и на пороге возник Ратко с увесистым обрезком свинцовой трубы.
— Мне нужно где-то перекантоваться день-другой, — сказал я.
Несколько секунд Ратко изумленно таращился на меня, потом взял под локоть и помог войти.
Лестница в подвал была очень крутой.
Каждая ступенька причиняла мне неимоверную боль, но я даже радовался этому. Я сдюжил, справился, выжил — выжил, черт меня побери! Все муки, все страдания были записаны у меня в памяти — день за днем, минута за минутой, — и я знал, что уже очень скоро они будут оплачены твердой валютой страха.
9. На углу Мальколм-Икс и Мартина Лютера
В те первые дни я чувствовал себя астронавтом, исследующим город, только что открытый на Марсе. Люди не были похожи на людей. Они казались мне инопланетянами, которые с сопением втягивали носами холодный воздух и, бормоча что-то непонятное, с какой-то зловещей целеустремленностью ныряли под землю, чтобы войти в громыхающие, плюющиеся электрическими искрами вагоны. Люди разговаривали, делали покупки, волокли в школы свои уменьшенные копии, а я наблюдал за ними из укромных уголков, изо всех сил стараясь остаться незамеченным, чтобы никто, не дай бог, не признал во мне чужака, существо из другого мира. Я боялся, что в любую минуту кто-нибудь может крикнуть обычные в таких случаях слова: «Протестант!», «Уитлендер!»,[49] «Еврей!», «Прокаженный!». Или нет — скорее всего, это будет что-то, что они поймут, а я — нет, потому что теперь даже их язык казался мне странным. Их манера… нет, нельзя сказать, чтобы они держались откровенно враждебно; скорее в их поведении сквозило безразличие. Они шли мимо меня, выпрямив спину и размахивая длинными руками, шли быстро, потому что для них улица была всего лишь промежуточным этапом, связующим звеном между домом и работой. Впрочем, существовали и другие — те, что жили в парках и просто на улицах. На пространстве от Маунт-Моррис до Морнингсайда и Риверсайда они попадались буквально на каждом шагу; оборванные, настороженные, с шаркающей походкой, они — как и я — скрывались от закона. При встречах мы как будто обменивались тайными знаками, по которым они узнавали во мне своего — человека, оказавшегося за бортом, дрейфующего по воле волн и течений. Мы не произносили ни слова, но между нами существовал молчаливый сговор, и вся территория от 125-й улицы до собора Святого Иоанна, где мы бродили между церквами и зеленеющими лужайками, принадлежала нам, нашему тайному ордену. Впрочем, я не унывал: шатался по улицам, а вечерами возвращался к Ратко, где я мог поесть и выспаться.
И все же порою на меня находило, и я не верил, что самое страшное позади. Что-то во мне как будто ожидало возвращения кошмаров. Мне чудились странные звуки и бледные огоньки, а деревья казались живыми; иной раз я, как наяву, видел раненых птиц и зверей из джунглей, а то мне мерещились чудовища, которые, словно яркое карнавальное шествие, приближались со стороны Квинса — великаны; марширующие оркестры; живые мертвецы; слоны в праздничных попонах; колесные платформы; дети, переодетые крысами или крокодилами. Их видел только я. Только я мог засвидетельствовать их реальность. Я один был настроен на волну кошмаров. Прочие обитатели Гарлема пребывали в блаженном неведении, совершенно не замечая шумной процессии, которая текла и текла через мост Трайборо. Они ее не видели; впрочем, они вообще мало что видели. Все они были слепы и не замечали ровным счетом ничего — совсем как оглушенные ударом пассажиры огромного корабля, который на всем ходу врезался в прибрежные скалы.
Однажды утром, пользуясь тем, что из-за туч проглянуло солнце, я поехал в сторону Квинса, чтобы взглянуть на Атлантический океан. В Рокэвее было холодно, а путешествие от станции под землей до побережья заняло у меня целую вечность. Там я сел на песок и стал смотреть на серую воду. Она казалась непроницаемой, непостижимой и враждебной. Ветер здесь был намного сильнее, чем в городе: завывая, он гнал по поверхности воды белые барашки пены. Песок холодил даже сквозь джинсы. Впрочем, несмотря на холод, с полдюжины серфингистов в черных гидрокостюмах пробовали свои силы на волнах прибоя. Я наблюдал за ними больше часа: мне было любопытно следить, как они терпеливо ждут подходящего водяного вала, а потом бросаются вперед и скользят с волны вниз, одновременно и разрезая воду, и опираясь на нее. Глядя на них, я невольно подумал, что раньше я тоже мог бы кататься, как они. Раньше, но не теперь. Черт…
Я прошел по пляжу чуть дальше — туда, где никого не было. Там я снова сел и, глядя на воду, стал молить океан открыть мне свои тайны. Я ждал какого-то откровения, знака свыше. И совершенно забыл, что океан никогда ничего не дает, никогда ничем не одаривает, что он — всего лишь вместилище, зеркальное подобие тебя самого, но когда я взглянул на него, то не увидел никакого отражения или образа. Так ничего и не узнав, я решил возвращаться.
Маршрут «А» подземки ведет к самому аэропорту Кеннеди. Там обычно садится много разных людей, которые очень оживляют толпу в вагоне, делая ее более пестрой и яркой. Для них поездка в подземке — это конец пути, поэтому, несмотря на усталость, они испытывают облегчение. В тот день в вагоне тоже было много сошедших с самолета пассажиров, которые громко и оживленно переговаривались, резко выделяясь на общем угрюмо-молчаливом фоне. Но чем больше они шумели и смеялись, тем тяжелее становилось у меня на душе и тем сильнее мне хотелось вжаться в пластик сиденья. Эти хомо сапиенсы… Я не мог их видеть, не мог слышать их беззаботные голоса, но главное — они стояли слишком близко ко мне и друг к другу. Как только люди могут это выносить?
К счастью, авиапассажиры почти все сошли в центре; когда поезд подошел к 125-й, от них не осталось и воспоминаний, и я вздохнул с облегчением. Я был уверен — еще немного, и со мной случилось бы что-то вроде нервного срыва.
На 125-й я тоже вышел и зашагал по платформе к турникетам. Здесь мне все было знакомо и привычно: заплеванная лестница, «черные мусульмане» в рубашках и галстуках-«бабочках», легкий дождь, «черные израильтяне» перед магазином «Рикорд рипаблик». Обычно они выкрикивали какие-то оскорбления в адрес «белых дьяволов», но в моем лице было, по-видимому, что-то такое, что заставило их сделать вид, будто они меня не замечают.
«Белый дьявол», который идет убивать других «белых дьяволов»… Что-то в этом роде.
Улица идет в гору, и я, отдуваясь, ковыляю по замусоренному тротуару. Повсюду разбросаны пустые пятидолларовые пакетики из-под крэка. Возле фальшивого бакалейного ларька, где на самом деле идет торговля наркотиками, собралось несколько мужчин и женщин. Прохожу мимо магазинчика «99 центов», мимо лавки, где продаются светильники и электрические лампочки… Дети в куртках из искусственного меха перекидываются баскетбольным мячом. Бесплатная муниципальная школа на углу оборудована железными ставнями на случай расовых волнений и революций.
А вот и моя 123-я улица. Она нисколько не изменилась. Дэнни-Алкаш еще жив и продолжает пить (первое удивительно, второе — нисколько). Он и его собутыльник Винни сидят на крыльце и глазеют на черных девочек из католической школы. Остановившись, я разглядываю панораму великого города и вдыхаю прохладный осенний воздух. Понемногу силы начинают возвращаться ко мне, а силы мне нужны, чтобы осуществить задуманное.
Но если моему телу еще только предстоит вернуть себе прежнюю форму, то мысленно я уже созрел для выполнения плана. Я знаю, есть люди, которые побеждают в себе жажду мести; есть люди, которые говорят — тот, кто полюбил своего врага, сделал ему стократ больнее, а некоторые и вовсе утверждают, будто разорвать цепь насилия значит обрести дорогу к счастью. Но я не стремлюсь к духовному совершенству. И счастье мне тоже не нужно. Нет.
Я сплюнул. Дверь по-прежнему была сломана. Я толкнул ее и спустился в подвал.
Жена Ратко, дебелая, светлокожая, метала на стол одно блюдо за другим, надеясь хоть таким способом заставить нас молчать. Английского она совсем не знала и относилась с крайним подозрением ко всему, что говорил мне Ратко. Она боялась, что он может сравнивать ее со своей любовницей, жившей в соседнем доме, или даже советоваться, не сообщить ли в иммиграционную службу о более чем сомнительном гражданском статусе миссис Ялович. Отправить жену назад, в раздираемую войной Югославию, — для Ратко это был, пожалуй, лучший способ избавиться от законной половины.
Колбаса, которую она нам подавала, была не-прожарена и так и сочилась кровью. Я не сомневался, что это что-то вроде мести, но Ратко уплетал ее с завидным аппетитом, так что не исключено было, что это какое-то сербское блюдо. Несколько привычнее выглядела разваренная картошка и пирожки с почками, приготовленные на медленном огне. На сладкое жена Ратко готовила то хлебный пудинг, то бисквиты, то непропеченный шоколадный кекс, до того тяжелый, что он придавливал тебя к стулу. Сам Ратко щедрой рукой подливал мне водку и неуклюже намекал, хорошо бы вечер этот оказался последним и, учитывая все обстоятельства, оставаться мне у него долее неудобно. В своей квартире Ратко отвел мне место в кладовке, так как в единственной свободной комнате жила собака. Поначалу я попытался поселиться вместе с ней, но она начала выть и всячески донимать все семейство. В принципе, я ничего не имею против собак, но если хочешь, чтобы голова варила как следует, нужно, чтобы последняя и отдыхала как следует; поэтому в конце концов я уступил комнату псу. Кладовка была крохотной и душной, но я высыпался даже лучше, чем какой-нибудь прославленный адепт дзен в своей монастырской келье.
Когда мы с Ратко говорили в первый раз, он сообщил мне хорошие и плохие новости, а также кое-какую любопытную информацию. Информация эта была следующая: через неделю после нашего отъезда в Мексику к Ратко явился Лучик. Он расплатился с ним за квартиру, которую я занимал, присовокупив, что Темному она больше не понадобится. Я всегда нравился Ратко, мы с ним были друзьями, поэтому он ненароком поинтересовался, что со мной случилось, на что Лучик ответил, что я, мол, навсегда вернулся в Ирландию. И все это произошло ровно через неделю после нашего отъезда! Плохие новости заключались в том, что Лучик приходил к Ратко в сопровождении какого-то кучерявого блондина, который забрал мой чертов телик, радиоприемник и рюкзак с разными мелочами. Остатки моего имущества Ратко продал за двадцать баксов жильцу из квартиры напротив. Хорошие же новости состояли в том, что он выудил из мусора и сохранил мои водительские права, карточку социального страхования и кредитку, полагая, что я могу позвонить или написать ему (из Ирландии) и потребовать их назад. На кредитке у меня лежало что-то около сотни баксов. Я получил их в банкомате и отдал Ратко за еду и ночлег.
Мы завтракаем.
На столе — тосты, колбаса, яйца, поджаренный черный хлеб, водка, кофе.
Жена Ратко просит Ратко спросить у меня, что случилось с моей ногой и что вообще со мной стряслось, но в ответ я лишь многозначительно смотрю на него. Мы говорим о последних спортивных новостях, о косоварах, о Тито и о том, почему Загреб красивый город, а Белград — нет (все дело, я полагаю, в сотрудничестве с оккупантами).
Да, и, конечно, мы говорим о футболе. У команды Северной Ирландии нет шансов пробиться в финал Кубка мира, но я могу утешаться успехами восемьдесят второго и восемьдесят шестого годов. Что станет теперь со сборной Югославии — бог весть.
— Сильнейшая на Балканах команда превратится теперь в шесть или даже восемь национальных сборных, — печально говорит Ратко.
Некоторое время мы жуем тосты и пьем кофе.
— Скажи, дружище Майкл, как ты вообще себя чувствуешь? — спрашивает он после блюда, в котором я после некоторых колебаний опознаю кровяную колбасу.
— Вообще? — уточняю я.
— Да, вообще. В целом.
— В целом — неплохо, хотя иногда мне мерещатся толпы живых мертвецов, которые идут сюда через мост Трайборо.
Ратко подмигивает.
— Понимаю, это ты так шутишь, — говорит он, но в глубине души Ратко рад, что его жена не понимает английского.
Я заканчиваю завтрак, встаю, беру свою подпорку, иду пройтись, возвращаюсь.
Вечером за ужином жена Ратко громко ворчит над кастрюлей с солянкой. Все ясно — мне действительно пора убираться. Впрочем, Ратко заговорил об этом только за водкой и очень деликатно, поэтому я не обратил на это внимания.
— Знаешь, Майкл, я серьезно, — сказал он. — Боюсь, скоро тебе придется подыскать себе другую квартиру. По мне, так живи здесь хоть сто лет — ты мне нравишься, но вот Ирина… В общем, ты понимаешь…
— Понимаю. О чем разговор! — жизнерадостно ответил я, не переставая работать челюстями.
С тех пор тема моего отъезда неизменно возникала в наших застольных беседах, но я пропускал любые намеки мимо ушей, поскольку податься мне было совершенно некуда. Бедняге Ратко приходилось нелегко, он буквально разрывался на части. С одной стороны — славянское гостеприимство и долг перед другом, с другой — подозрительность злобной мегеры — жены, хотевшей, чтобы я съехал до того, как преследующий меня злой рок настигнет меня в ее квартире. А злой рок, несомненно, имел место: питбуль Ратко перестал есть и никого к себе не подпускал, чего до моего появления никогда с ним не случалось.
Как известно, Бенджамин Франклин отводил рыбным блюдам и приему гостей не больше трех дней, но его друзьями были в основном квакеры и джентльмены. Я же прожил у Ратко около двух недель. Я был уверен, что он меня не вышвырнет — Ратко нравилось мое общество, но старая калоша, которая пилила его днями и ночами напролет, в конце концов его достала. Бедняга сломался. В один прекрасный день он отлепился от кухонного табурета, прихватил несколько бутербродов и отправился на охоту. Вернулся он вдугаря пьяный и весело напевая; прервав пение, Ратко объявил, что нашел мне подходящую квартиру.
Как выяснилось, Ратко знал одного русского, который дружил с одним ямайцем, а тот, в свою очередь, был старшим в ремонтной бригаде, работавшей в доме на углу 125-й и Ленокс-авеню. Ямайцу нужны были люди на время ремонта, чтобы охранять пустующие квартиры от наркоманов и бродяг. По словам Ратко, я мог жить там совершенно бесплатно в течение месяца или двух, пока не определюсь со своими дальнейшими планами.
Потом Ратко накормил меня до отвала, втиснул в свой «хёнде» и на бешеной скорости отвез на новое место. Там, тараторя как безумный (должно быть, чтобы я не заметил, сколько вокруг черномазых), он помог мне подняться по лестнице, сунул мне ключ и мои сто баксов, сердечно пожал руку на прощание и исчез до того, как я успел что-то возразить.
Оставшись один, я огляделся. Сказать, что квартира была в ужасном состоянии, значило бы не сказать ничего. Правда, мне предстояло прожить в ней всего две или три недели (именно столько времени понадобилось Району, чтобы выйти на меня), однако в первые минуты мне сделалось нехорошо. Тараканы, клопы, сквозная дыра в полу ванной комнаты, через которую просматривались два нижних этажа, и прочие прелести… Электричество, конечно, не работало, зато из крана текла холодная вода. Всего в здании было шесть этажей, и на каждом жил по крайней мере один человек. Обязанности этих временных жильцов заключались в том, чтобы отгонять бездомных, пока здание стоит на ремонте, — задача не слишком сложная, особенно если учесть, что квартиру на втором этаже занимал мулат с Ямайки — здоровенный громила из самого жуткого района Кингстона, способный до полусмерти напугать любого нормального человека одним своим видом. Кроме того, у него было ружье, и один раз он уже пустил его в ход. Слух об этом распространился довольно быстро, и бродяги обходили наше здание стороной — в конце концов, в Гарлеме хватало полуразрушенных домов, где можно было переночевать, не подвергая себя смертельной опасности.
Сейчас Ленокс-авеню выглядит вполне пристойно, и странно даже представить ее такой, какой я ее застал, но тогда, можете мне поверить, картина была убийственная. Каждое второе здание представляло собой выжженную внутри и исписанную граффити руину; впрочем, уцелевшие дома выглядели немногим лучше: окна в них напрочь отсутствовали, и обитатели квартир вынуждены были жечь костры прямо в комнатах, чтобы немного согреться. На тротуарах громоздились горы мусора, лестничные клетки провоняли отбросами, а помои и дерьмо — совсем как в Лондоне елизаветинской эпохи — выливались на улицу через пустые оконные проемы. Проемы эти, кстати, не были даже заколочены, потому что все доски давно пошли на убогую мебель, а наименее дальновидные или вконец отчаявшиеся жильцы просто пустили их на дрова. Канализационные трубы пребывали в плачевном состоянии, поэтому после дождя или оттепели улица превращалась в клоаку. (Примерно так же выглядел Белфаст году этак в семьдесят третьем, но на Ленокс-авеню не бушевала гражданская война, которая могла бы оправдать все эти разрушения.) Стоит ли говорить, что приятно провести время здесь было совершенно негде. На всей улице не было ни одного мало-мальски спокойного бара, ни одного кинотеатра. Единственным очагом культуры мог считаться разве что театр «Аполлон», но чтобы пойти туда субботним вечером осенью девяносто второго года, нужно было быть очень храбрым белым парнем. Наверняка не всегда улица эта имела такой вид: ведь где-то здесь жили в свое время Дюк Эллингтон и Лэнгстон Хьюз,[50] а интеллигентного вида старик в очках, которого я часто встречал в винной лавочке на углу, запросто мог оказаться Ралфом Эллисоном,[51] но мне почему-то не верилось.
Кстати, об Аполлоне… Насколько я помнил, этот греческий бог не только покровительствовал музам, но и обладал даром предвидения. Должно быть, это он подсказал мне, как все будет дальше — во всяком случае, я знал, как будут развиваться события чуть не с той самой минуты, когда перешел мост Вашингтона и ступил на землю Гарлема. Я видел это в своих мыслях — видел, чувствовал, предощущал — и не испытывал никаких сомнений, что будет именно так. В то же время мне было совершенно ясно, что торопиться не следует. Я должен ждать и не высовываться. Правда, Ратко был в курсе того, что я вернулся в Нью-Йорк, но он был единственным и к тому же умел держать язык за зубами. Мог ли кто-то еще знать, что я выжил? Едва ли. Я в этом сомневался. Охранники в тюрьме видели, как после их выстрелов я погрузился в болото и больше не показывался, так что если Лучик решит навести справки, ему, скорее всего, скажут, что я погиб. Правда, до него и до Темного могли дойти слухи, что меня, мол, встречали там-то и там-то, однако я сомневался, что они поверят такому явному бреду. Нет, конечно же, они ничего не подозревают и спокойно спят в своих уютных постелях…
Идиоты.
Итак, у меня было жилье, я сохранил инкогнито и мог быть уверен, что ни один человек, — если только он не говорит на сербохорватском наречии и не вращался в узкому кругу болтливых славянских иммигрантов Верхнего Манхэттена — не знает о моем возвращении. Я мог, таким образом, спокойно приходить в себя и тщательно обдумывать свои планы, но прежде, чем предпринимать какие-то серьезные шаги, мне нужно было что-то сделать с моей ногой. Нет, мне не снились кошмары, и фантомные боли меня тоже не беспокоили. Проблема заключалась в том, что с костылем я двигался слишком медленно и неуклюже, да и подниматься по любой лестнице мне было труднее, чем Скотту[52] возвращаться с Полюса.
К счастью, теперь я не был затерян в глуши, вдали от цивилизации, и мог получить помощь. Если идти по 125-й улице, в конце концов попадешь к мосту Трайборо и Ист-Ривер. Перед мостом надо повернуть направо. Там, в переулках, находится ножная клиника, официально называемая Нью-Йоркский ортопедический колледж. В клинике можно получить протез, который надевается на культю, а врач покажет, как с ним управляться (на то, чтобы научиться ходить с искусственной ногой, уходят недели, иногда месяцы упорных тренировок). Кроме того, в клинике пропишут лекарство, помогут советом и вручат глянцевую брошюрку-проспект с портретами улыбающихся чемпионов Параолимпийских игр. Все это, разумеется, доступно только тем, у кого имеется страховка. Но даже если у вас нет страховки, а ваше письмо к Джину Келли[53] с описанием несчастного случая на танцевальной репетиции осталось без ответа, отчаиваться не стоит. Как я узнал, существует еще один способ.
Для начала нужно просто прийти на прием. Поскольку ваш случай не требует срочного медицинского вмешательства, вам придется подождать, так что стоит захватить с собой газетку. Девяносто второй — год президентских выборов, так что почитать в газетах есть что, но в политике вы мало смыслите, и так как вам будет непросто понять, в чем состоит разница между кандидатами (у меня на родине, к примеру, оба были бы консерваторами), читать вы будете в основном спортивные страницы, посвященные американскому футболу, нормальному футболу и такой противоестественной вещи, как хоккей на льду. Правда, приближается ежегодный чемпионат США по бейсболу, но нью-йоркским командам в этом году ничто не светит. Короче говоря, вы читаете, читаете, читаете и уже готовы плюнуть и уйти, когда вас наконец приглашают в приемную, где сонная как муха медицинская сестра меряет вам температуру (она клюет носом, даже пока вы держите градусник). Потом вам дают планшетку с прикрепленным к нему розовым бланком, и вы вписываете в него выдуманное имя, а также фальшивый адрес и номер карточки социального страхования. Пока вы занимаетесь этим важным делом, сестра усилием воли прогоняет недоверие к вам, после чего берет вас под руку и ведет по коридору в комнату, где сидит молодой мужчина, который вполне может сойти за доктора. Мужчина осматривает вашу культю и, покачав головой, бормочет что-то об антибиотиках и о «грубой работе». Он спрашивает, где вас оперировали, и вы выдаете ему очередную жалостливую историю. Единственная правдивая информация в заполненной вами розовой карточке — это ваша группа крови, и когда врач спрашивает вас об этом, вы называете свою настоящую группу крови. Потом он начинает расспрашивать, жалуетесь ли вы на то-то и то-то и болели ли вы такой-то болезнью, и вы отвечаете «нет» на все его вопросы. Наконец врач велит вам прийти на будущей неделе к специалисту такому-то, и вот тут-то вам следует прозрачно намекнуть, что на будущей неделе вы, возможно, уже не будете проживать по указанному в розовой карточке адресу. Весь этот загадочный спектакль, похоже, просто дань традиции, поскольку вскоре появляется еще один мужчина (санитар? фельдшер?), который ведет вас в просторную, ярко освещенную комнату, которая напоминает обувной магазин. Сходство с магазином придает ей множество коробок, похожих на обувные, только вместо башмаков в них лежат искусственные ноги. На первый взгляд это достаточно уродливые конструкции — ступни присоединены на шарнирах, на верхней части — грубые ремешки, которыми протез крепится к культе. Здесь есть ноги любых форм, размеров и цветов (впрочем, черных ног больше всего) — есть даже детские ножки пятнадцатого размера, которые остро пахнут новенькой пластмассой и смазкой. Санитар примеряет вам несколько протезов и наконец находит подходящий — грязно-белого цвета, после этого санитар разражается небольшой речью о «правилах ухода за культей» и роняет что-то о многонедельном курсе физиотерапии, хотя вы оба отлично знаете, что видите друг друга в первый и последний раз. Наконец лекция закончена, вы кладете искусственную ногу в пластиковый пакет и несете домой. Там вы надеваете протез и тренируетесь, тренируетесь несколько часов подряд, пока от усталости, злости и боли в стертой до мяса культе не валитесь с ног в буквальном смысле слова.
Освоив движение по ровной поверхности, вы начинаете учиться ходить вверх и вниз по лестнице, падаете, встаете, снова падаете. Каждый раз, когда ваш взгляд останавливается на ремнях, которыми пристегнут протез, вы просто не верите собственным глазам. Дыхание перехватывает от ужаса, но, сжав зубы, вы опять и опять пристегиваете протез к свежим ранам; распухшая, посиневшая культя едва влезает в гнездо из розового пластика, ступня болтается на шарнире — нелепая, чужая, и только когда вы надеваете джинсы, носки и ботинки, ваша нога начинает выглядеть сносно.
Иногда вы даже можете на несколько секунд забыть о том, что с вами случилось, и вообразить себя целым и невредимым.
В общем, процесс привыкания к протезу доставляет уйму физических и моральных страданий, но примерно через неделю вы начинаете ходить — пусть прихрамывая, но ходить. Если не знать наверняка, то со стороны бывает довольно трудно догадаться, что вы — инвалид. К тому же в Гарлеме множество хромых, так что вы ничем не выделяетесь из общей массы.
Когда по прошествии некоторого времени я снова начал чувствовать себя уверенно и физически, и морально, я поехал в центр, чтобы начать слежку за Бриджит. Я ждал уже достаточно долго и проявил поистине нечеловеческое терпение, но теперь оно истощилось. Того, что она может меня узнать, я не боялся: к этому времени у меня отросли густая борода и длинные, неопрятные волосы, которые я прятал под вязаной шерстяной шапочкой. На ногах у меня были грубые матросские башмаки, на плечах — длинный клеенчатый плащ, так что со стороны я мог легко сойти за одного из тех проспиртованных субъектов, чей характер сформировался на палубе рыболовного траулера, приписанного к Архангельску, Мурманску или еще какому-нибудь столь же симпатичному местечку. А почему, собственно, нет? Допустим, распад Советского Союза и окончательный крах социалистической экономики вынудили меня бежать на Запад в поисках легкой жизни и я теперь ищу подходящее судно, чтобы наняться на него палубным матросом. Неясно, правда, почему я, моряк, ищу работу в сухопутной части Бронкса, но я как-то не думал, что кто-нибудь даст себе труд задаться этим вопросом.
Для своей поездки я воспользовался Межрайонной скоростной линией. Сойдя на остановку раньше, чем мне было нужно, я поднялся с платформы на поверхность, и не успел я опомниться, как оказался перед домом Лопаты. К этому моменту Лопата уже давно отошел от преступного промысла и спокойно ковал крепкое семейное счастье со своей любящей и сговорчивой миссис. Ему, разумеется, было невдомек, что судьба отомстила мне за него сполна.
Минут двадцать я бродил вокруг дома Лопаты, потом потихоньку двинулся на север, к «Четырем провинциям».
Уже почти добравшись до бара, я сообразил, что поблизости от него нет ни одного мало-мальски подходящего места, где я мог бы укрыться: в этом отношении район, где находились «Четыре провинции», был хуже некуда. Моя затея со слежкой сразу же показалась мне неудачной и просто глупой; теперь я не сомневался, что если мне встретится кто-нибудь из завсегдатаев бара, я буду мгновенно раскрыт, несмотря на мой наряд.
Замедлив шаг, я незаметно огляделся по сторонам. Многоквартирные дома, автомобили, несколько особняков, прохожие (белые) и небольшой пустырь ярдах в пятидесяти дальше по улице, где иногда гоняли в баскетбол мальчишки… Занятия в Школах уже начались, так что на пустыре никого не было, однако я понимал, что это далеко не самый лучший наблюдательный пост. Единственным местом, которое могло бы мне подойти (с большой натяжкой, впрочем), был узкий проулок между двумя соседними зданиями через пустырь от бара. Укрывшись в этом проулке, я мог следить за улицей и за «Четырьмя провинциями».
Стараясь не спешить, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, я пересек пустырь, чтобы проверить выбранное место. Оно было далеко не идеальным. Если Бриджит выйдет из «Четырех провинций» и повернет налево, я могу вовсе ее не заметить; если она свернет направо, я, пожалуй, сумею ее разглядеть, но для этого мне придется как следует напрячь зрение. Да и торчать в этом проулке бесконечно тоже было нельзя: рано или поздно кто-нибудь из жильцов взглянет в окно ванной комнаты, увидит меня и что-нибудь скажет — или вызовет полицию.
Я еще раз огляделся. Вокруг валялись пустые бутылки, презервативы и разбитый телевизор, а из мусорного контейнера тянуло густой вонью. Что ж, бывают наблюдательные посты и похуже, рассудил я. Главное, чтобы мне удалось спрятаться в тени под стеной — тогда все будет в порядке. Разумеется, я не считал себя многоопытным профессионалом, но и бестолковым новичком я тоже не был. Когда я служил в британской армии (очень недолго, как я уже упоминал), сержант-шотландец, под началом которого мы проходили начальный курс военной подготовки, шепнул мне по секрету, что меня прочат в офицеры или войска специального назначения, потому что, как он выразился, я был хитрым пронырой и порядочной сволочью.
На курсы подготовки офицеров я так и не попал, потому что буквально на следующей неделе угнал штабной «лендровер» и махнул из Олдершота в Кембридж к знакомой девчонке. Как легко догадаться, за этим дисциплинарным нарушением стояла присущая большинству ирландцев любовь к крепким напиткам. Мне, правда, удалось вернуть машину в целости и сохранности, однако мое личное дело стало втрое толще против прежнего, и впоследствии я так и не сумел выбраться из армейских «черных списков». Правда, за самоволку меня не наказали — настолько хорошо ко мне там относились, однако разочарование, которое мои капитан и сержант даже не пытались скрыть, я переживал тяжелее любых нарядов. После этого случая я старался не допускать промахов, и вскоре — хотя я не отслужил еще и года — мне предложили пойти на курсы подготовки капралов. Курсы я так и не закончил, однако сам факт того, что меня туда направили, свидетельствовал, что мои командиры еще не окончательно поставили на мне крест. Вероятно, им казалось, что если я каким-то образом продержусь первый год или два, впоследствии я могу исправно нести службу где-нибудь в захолустье — Западном Тироне или на неудобьях Южного Армага. Во всяком случае, они не оставляли надежды сделать из меня человека и по истечении первого года службы отправили меня на Святую Елену, где мне предстояло пройти курс разведывательной подготовки. Там я не только учился ползать по грязи на брюхе, но и постигал основы полицейской работы, включая тактику наружного наблюдения и принципы планирования спецопераций. Должен сказать, что занятия мне нравились, и не исключено, что в итоге из меня и вышло бы что-нибудь путное, но увы — помешали моя крайняя незрелость. Контракт я подписал, когда мне только-только исполнилось семнадцать, и я был еще слишком молод, чтобы подчиняться дисциплине и безоговорочно уважать начальство, да и всю британскую армию, так ее и растак. Драка в баре, когда я чуть было не прикончил местного овцевода, рыбака, или чем они там, на Святой Елене, занимаются, стала последней каплей, переполнившей чашу терпения командования. Меня посадили на гауптвахту, а потом дали под зад коленом.
В итоге на курсах разведчиков я проучился совсем немного, но кое-что все же усвоил. Меня научили, как закалять тело и душу, научили метко стрелять и показали (что было сейчас весьма кстати), как устраивать засады и выжидать. Капральские курсы пригодились мне несколько недель спустя, когда я обнаружил за собой слежку, но сейчас полезнее оказались навыки разведывательно-оперативной работы. Преподавал их штаб-сержант Специального военно-воздушного полка, уроженец Нортумберленда, что явствовало из его чудовищного выговора: свое дело он знал, но понять его было совершенно невозможно. Впрочем, если поднапрячься, кое-что полезное разобрать все-таки удавалось. Штаб-сержант научил нас, как не заснуть в засаде и как покемарить, когда есть такая возможность, а заодно поведал, что святая Елена была англичанкой и что все легенды о мужских возможностях Наполеона — брехня. В числе этих разнообразных и идиллически-неторопливых отступлений, которые нам приходилось выслушивать на продуваемых всеми ветрами скалистых берегах восточной оконечности острова, было и то, согласно которому не стоило верить фильмам, где легавые ведут наблюдение, держа в одной руке чашку с кофе, а в другой — свежий пончик. «Никогда, — предупреждал сержант, — не бери в засаду мочегонное, особенно если идешь на задание один. Можно забыть о чем угодно, но нельзя забывать как следует помочиться перед выходом». Это было главное и основное правило; все прочее касалось выбора места и умения ждать.
Ну что ж, спасибо, сержант, за науку… Я прошел вдоль проулка подальше, основательно помочился, потом нашел подходящее место и стал ждать. Я был совершенно неподвижен и исключительно терпелив. К счастью, я успел бросить курить, и теперь мне было легче выносить долгое ожидание. Легче и проще. У меня осталось всего две заботы: дышать и глядеть в оба. Примерно час я просидел под стеной на корточках, потом изменил положение и сел по-турецки; спустя еще какое-то время я встал. Все мои движения были неторопливы и четки. За все это время — даже когда я менял позу — мой взгляд ни на секунду не оторвался от улицы и оставался зорким и пристальным.
Я был все так же собран и насторожен и пятью часами позднее, когда в поле моего зрения появилась Бриджит. На ней было полупальто из верблюжьей шерсти, черные джинсы и черные туфли ручной работы. Волосы она убрала назад, а через правое плечо перекинула небольшую изящную сумочку. Бриджит слушала плеер, и я решил, что это упрощает мою задачу. Я дал ей дойти до конца улицы и повернуть направо и только потом покинул свое укрытие и быстро зашагал через пустырь. Впрочем, мне с моей ногой было не развить третьей космической скорости, поэтому когда я завернул за угол, то увидел, что Бриджит преодолела половину следующей улицы и снова повернула направо. Она явно шла не к станции подземки, и я попытался угадать, куда она направляется. Ну-ка, что там у нас есть на этой улице? Я пытался вспомнить. Еще один бар, ирландский продуктовый магазин, писчебумажный магазин, мясная лавка, булочная… что еще? Я никак не мог сообразить, куда она идет. Станция подземки и парк Ван-Кортленд располагались чуть дальше, у подножия холма, но если бы Бриджит шла туда, она бы свернула налево еще у «Четырех провинций» и сократила свой путь на несколько кварталов.
Когда я уже был готов выйти на улицу, на углу передо мной появился какой-то человек. Это был крупный и сильный мужчина лет под шестьдесят, явный «бык». На нем была черная куртка и клетчатые брюки-гольф, и выглядел он в точности как долбаный Борис Карлофф, который отправился слегка прошвырнуться. Шел он быстрой, целеустремленной походкой, и я прикинул, что если я пристроюсь за ним, а Бриджит обернется, то увидит она его, а не меня.
Тем временем Карлофф свернул за угол, и я двинулся следом.
Вместе мы дошагали до следующего поворота, но Бриджит нигде не было видно. Пройти целый квартал и скрыться за углом она могла бы только бегом, и я смекнул, что она куда-то зашла. По обеим сторонам улицы я насчитал что-то около дюжины лавок и магазинчиков. Быть может, Бриджит направилась в булочную, потому что у ее мамы сегодня день рождения или что-то в этом роде?
Карлофф тем временем зашел в мясную лавку, а я остался на углу, изо всех сил стараясь изображать непринужденность и равнодушие (надо сказать, что когда следишь за кем-то, это едва ли не самое трудное). Я и простоял-то там каких-нибудь пять минут, но мне показалось — целую жизнь.
Бриджит вышла из химчистки, держа в руках платье, упакованное в пластиковый пакет. Это было одно из тех коротеньких, темных платьев с блестками, которые ей так шли. Такие платья обычно надевают по какому-нибудь важному поводу. Платье типа «сегодня вечером мы трахнемся, милый»… На улице Бриджит повернула в ту сторону, откуда пришла. Она двигалась легко и быстро, лишь слегка покачивая бедрами. Оживленная… Я осторожно убрался из поля ее зрения и, спустившись по ступенькам, ведущим в подвал многоквартирного дома на углу, прижался к двери. Если Бриджит останется на той же стороне улицы, она пройдет совсем близко от меня, и я увижу ее лицо. Меня она вряд ли заметит — тень надежно скрывает меня. На всякий случай я плотнее прижался к двери и стал ждать. Я не исключал, что когда она будет проходить по тротуару над моим укрытием, я что-нибудь скажу — может быть, окликну ее. «Бриджит, — шепну я, — я здесь. Только тише, тс-сс! Это я, Мышка, не бойся, я не умер, я жив. Только не вскрикни ненароком… Сделай вид, будто ты уронила что-то, и наклонись ко мне…»
Она, конечно, будет потрясена. Может быть, она даже потеряет сознание, закричит или начнет плакать. «Мне сказали, что ты погиб, — будет всхлипывать она. — Они сказали — ты погиб, и я поверила… Господи, святая Мария и Иосиф! Господи Боже мой, Майкл…»
Когда она немного успокоится, я прошепчу ей указания, и сегодня же вечером мы встретимся в парке. Бриджит соврет матери, будто хочет прогуляться после ужина — дело обычное, иногда она действительно отправлялась пройтись, прежде чем начиналась вечерняя смена в баре. Мы встретимся, и я все ей расскажу. Господи, Бриджит, ты просто не поверишь! Дыши глубже. Главное, я выжил. Я угодил в настоящую мясорубку, и она меня немножко помяла, но я вернулся. Это первое свидание будет очень коротким, и я предупрежу ее, что и впредь нам придется действовать осторожно, по-умному. Ведь мне грозит нешуточная опасность. Если Лучик что-то узнает, если Темный что-то пронюхает, им придется меня убить, просто убить — и все. У них не будет другого выхода, Мышка. Они меня знают. Знают, на что я способен.
Нет, не надо, не звони ему… Не звони, потому что это будет ошибкой. Большой ошибкой. Ложь. Разве они не сказали тебе, что я умер? Нет, и Лучику не надо ничего говорить, потому что он еще хуже. Намного хуже. Да, я клянусь чем хочешь: все, что я тебе рассказал, — правда. Не надо, не плачь, моя девочка, моя Мышка… Они заметят, что ты плакала. Нужно быть мужественной. Послушай лучше меня, Бриджит, я все продумал. Мы уедем, уедем совсем… Тебе придется заказать для нас обоих билеты на ближайшее воскресенье. К этому времени, я думаю, я сумею обзавестись какими-нибудь подходящими документами. Это, конечно, обойдется недешево, но я сделаю это. Так или иначе, я достану деньги и куплю себе документы на чужое имя. Главное, не собирай никаких вещей, не разглядывай карты и атласы и вообще не делай ничего такого. И стричься тоже не надо — все как обычно. В субботу утром ты встаешь и говоришь, что едешь за покупками, только, ради бога, не бери никаких лишних сумок. Ты должна будешь сесть в поезд и доехать до 181-й улицы. Там мы с тобой встретимся, пересядем на маршрут «А» и отправимся в аэропорт Кеннеди. Куда мы полетим? Куда-нибудь. Хочешь, махнем в Австралию? Там, в Квинсленде, живет мой троюродный брат. А можно полететь в Англию — у меня есть пара надежных парней в Лондоне и Ковентри. Ну а уж в Ирландии найдется не один десяток человек, которые с удовольствием нас спрячут. Что бы ты сказала, к примеру, насчет коттеджа в Донеголе? О, Бриджит, если бы ты знала, как там красиво: голубые горы, холмы, озера, океан, который с грохотом бьется о пустынные берега… Я уверен, тебе там понравится. Я найду работу в Дерри, а если ты тоже захочешь работать, мы что-нибудь подыщем и для тебя. Обзаведемся детьми и, может быть, купим лодку — маленький рыбацкий баркас — и будем учить их грести и ловить рыбу. А если нет, так теперь у нас в Ирландии есть и серфинг и все, что захочешь, мы не какие-нибудь отсталые. Нет, Мышка, если мы назовемся выдуманными именами, они никогда нас не найдут. Я знаю — у Темного и мистера Даффи есть знакомства, связи, но мы сумеем их перехитрить. Мы будем счастливы вместе, Бриджит, очень счастливы…
Я слышу ее шаги по мостовой. День стоит холодный и ясный, и звук разносится далеко. У нее целеустремленная походка. Она приближается…
Это все ты, Бриджит. Пожалуйста, верь мне. Я спасся только благодаря тебе. Я думал о тебе, и ты давала мне силы. Я едва не сошел с ума, но ты меня спасла. Господи, это был настоящий кошмар — то, что с нами случилось, но я справился. Я выжил, и это была не просто случайность. Я выжил только потому, что у меня была ты, Бриджит. Неужели не понятно? Я просто уверен в этом. Да, я знаю, знаю, что я лжец и бабник, что у меня были другие девушки, только давай не будем говорить об этом сейчас, хорошо? Это все в прошлом; сейчас я даже не помню ни их лиц, ни их имен, я их забыл. Все это время для меня существовала только ты, ты одна. Ты веришь мне, Бриджит? Только ты, клянусь!
Она подошла совсем близко; еще десяток шагов — и она дойдет до угла. Я слышу, как она что-то напевает. Она весела и довольна. Счастлива. Ее туфли чуть поскрипывают. Вот она заворачивает за угол, и я вижу ее лицо. Ее щеки чуть припудрены. Губы улыбаются. Волосы чуть темнее, чем я их помню, и убраны на затылок. В плеере играет кассета Ю-2, и она подпевает какой-то веселый мотив. Улыбается и поет. Теперь я отчетливо вижу, что не ошибся: платье, которое она несет, перекинув через руку, действительно выходное. Нарядное коктейльное платье… Должно быть, Темный куда-то пригласил ее сегодня. И не в кино… В Метрополитен-опера, на благотворительный базар, в шикарный ресторан в Трайбеке или в Сентрал-парк-саут, а может, еще куда-нибудь.
Бриджит прямо напротив меня. На мгновение она замирает (или мне это только кажется), потом я слышу ее удаляющиеся шаги. Стук ее каблучков все тише, и я уже собираюсь покинуть свое укрытие, как вдруг глядь! — на улице откуда ни возьмись появляется мой Борис Карлофф. Он торопится догнать Бриджит и почти не прячется, очевидно не зная, был ли заход в химчистку ловким маневром или нет. Так-так, вот, значит, где он — предел доверия Темного! Даже теперь, когда я, по его мнению, мертв. Боже, помоги тому парню, который случайно встретится с Бриджит! Что с ним будет? Он тоже выиграет туристическую поездку в Канкун, или в запасе у Лучика есть что-то еще, кроме вульгарного шпионства, драки за гаражами и слов: «Держись от нее подальше, ублюдок!», подкрепляемых ударами.
Карлофф скрывается за углом, и я выбираюсь из своего укрытия и жду. Если бы это происходило в кино, сейчас я бы закурил сигарету и долго стоял на углу, подняв воротник плаща; ошеломленный, потерянный. Но курить я бросил — дополнительный объем легких мог хотя бы отчасти компенсировать мои физические недостатки. Сопровождать Бриджит обратно к «Четырем провинциям» я не собираюсь (это бессмысленно, да и опасно), зато меня очень интересует, куда отправится мой друг Борис. Я сворачиваю за угол как раз вовремя, чтобы увидеть, как он садится в синий «форд». Смотрю на цифры на номере и пытаюсь сравнить их с теми, что были на номерном знаке такого же синего «форда» несколько геологических эпох назад. Но тот номер стерся из моей памяти; вернее, его вытеснили воспоминания о множестве страшных событий, которые произошли со мной так недавно и так давно.
Некоторое время я смотрю вслед синему «форду», потом все-таки поднимаю воротник плаща, надвигаю на лоб шапочку и, повернувшись, медленно бреду по длинной и пустой улице к остановке подземки.
У меня не осталось буквально ни гроша; я страдал от холода и питался холодной консервированной фасолью. В квартире на Ленокс-авеню не было ни газа, ни отопления, и, подобно людям, над которыми я в свое время так потешался, я всерьез подумывал о том, чтобы развести на полу в комнате небольшой костер. Пытался я подружиться и с ямайцем с верхнего этажа, но ничего путного из этого не вышло. К счастью, иногда я все же могу забежать к Ратко и поесть по-человечески, хотя его жена по-прежнему меня недолюбливает.
Несмотря на это, я все же не впал в уныние. Даже наоборот. Я знал, что делаю. И я не просто сидел в своей квартире и наращивал сало на боках — я морально готовился к тому, что мне предстояло, укреплял решимость и волю.
Однажды, чтобы проверить, чего я достиг, я некоторое время медитировал на крыше нашего здания. Раньше мне никогда не удавалось сесть в позу лотоса, но сейчас я обнаружил, что сделать это намного проще, если одна нога у тебя отстегивается. Стояла середина октября, морозный воздух был неподвижен и тих. Покой позднего вечера лишь изредка нарушали проносившиеся по 125-й такси, завывания какого-то психа на станции подземки и раздававшиеся где-то в районе 130-х улиц звуки выстрелов, но я сумел отключиться от всего, что мешало мне сосредоточиться. Мой мозг работал как часы. Он работал, подсказывая мне необходимые решения и выводы. Главное — терпение. Все складывается отлично, но торопиться не следует. Мне необходимо время. Нужно вернуть себе приличную форму. Нужно научиться бегать на протезе (пока что я даже не ходил, а ковылял на нем). Нужно быть сильным, ловким, хитрым.
Я уже упоминал бога Аполлона, который среди прочего открывал желающим будущее. В Дельфах, где находился его знаменитый оракул, Аполлон ввел весьма полезную практику под названием «Познай себя». Именно этим я и занялся. Я попытался заглянуть в себя. Пусть осуществление моих планов займет столько времени, сколько потребуется, решил я. Я был абсолютно уверен в том, что я один из тех счастливцев, чьи мечты в конце концов сбываются. И стоило мне прийти к такому выводу, как все остальные заботы растаяли или отступили на второй план.
Первым делом мне необходимо было раздобыть денег, а поскольку я никогда не умел воровать, выход оставался один — поступить на работу. Но на какую? Некоторое время я сидел, обдумывая различные варианты, потом пристегнул ногу и спустился к себе в квартиру.
На следующее утро я отправился к бару «Голубая луна», расположенному неподалеку от северного выхода из подземки на 125-й. Некогда это было шикарное заведение с просторной сценой в глубине зала, где в тридцатых играл джаз-банд и танцевали расфранченные парочки, но теперь для него настали трудные времена. Как и вся 125-я улица, бар стал свидетелем многих перемен, причем большинство из них были переменами к худшему. Постоянных посетителей в «Голубой луне» было совсем мало: в основном туда ходили люди в возрасте, которые не создавали серьезных проблем. Кристаллический кокаин слыл здесь высшим злом, по сравнению с которым алкоголь казался чуть не лекарством, оказывающим на организм благотворное и успокаивающее действие. Когда-то очень давно, когда бар еще назывался «У Карла», я проработал там одну неделю. Вернее, мне казалось, что это было давно, но когда я подсчитал дни, выяснилось, что это было ровно девять месяцев назад. За этот срок, который, кстати, равен полному циклу внутриутробного развития человеческого существа, я успел родиться заново, превратившись в совершенно другого, более жесткого человека, способного заставить окружающих считаться с собой. За то же время бар «У Карла» сменил не только название («Голубой луной», впрочем, он уже назывался лет пять тому назад, и это была едва ли не лучшая пора в его истории), но и владельца. Изменилось и его окружение: магазин пластинок рядом с баром перепрофилировался в центр по продаже лотерейных билетов, а лавочка, торговавшая кустарными поделками и сувенирами в африканском стиле, закрылась вовсе. Конечно, мелкие предприятия в Гарлеме постоянно разоряются и вылетают в трубу, а на их месте открываются новые, но начало девяностых было, наверное, едва ли не самым трудным временем для района в целом и для мелкого бизнеса, в частности.
В тот первый раз я получил работу «У Карла» благодаря нашему почтальону Фредди. Тогда я ждал, пока Лучик и Темный Уайт соблаговолят встретиться со мной. Правда, Скотчи уже нашел мне комнату, но пока Лучик проверял, подхожу я Темному или нет, я чуть не околел от голода. Фредди порекомендовал мне обратиться в бар к «Карлу», добавив, что в качестве единственного белого мойщика посуды в радиусе десяти кварталов я имею все шансы стать там настоящей звездой.
Теперь я решил повторить этот свой давний опыт.
Время я рассчитал так, чтобы подойти к бару в обеденное время, надеясь, что буду не слишком выделяться в толпе посетителей. «Толпа», однако, состояла из двух молодых парней, каждый из которых занимал отдельный полукабинет, бармена и пьяной девицы на табурете возле музыкального автомата. Зал был темным и оттого казался тесным — на виду оставались только стойка и несколько столиков напротив. Эстрада на заднем плане (с опущенным занавесом), а также несколько кабинетов и мужской туалет тонули в полутьме. Женского туалета здесь вообще не было, как не было никаких украшений, кроме нескольких зеркал и плаката с изображением какого-то боксерского поединка.
— Мне, пожалуйста, пива, — сказал я, и бармен ответил, что если я турист, то лучше мне убраться отсюда поскорее; если же я не турист, а один из тех типов, которые ищут неприятностей, то с разрешения полиции он держит под прилавком обрез, достать который ему не составит труда.
Я ответил, что я не турист и не ищу неприятностей и что мне просто хотелось бы выпить пивка. Бармен окинул меня подозрительным взглядом, налил в кружку «Будвайзера» (почти одной пены) и спросил пять долларов.
Должно быть, в тот день я был склонен к занудству, потому что сказал, что готов заплатить пять баксов, но за свои деньги хочу получить нормальное пиво.
После этого я и бармен некоторое время мерили друг друга взглядами. Он был пожилым чернокожим малым, очень похожим на Майлса Дэвиса,[54] только потолще. Прошла примерно минута; наконец он ухмыльнулся, налил мне новую кружку пива и сказал, чтобы я дал ему два доллара. Следующие четверть часа мы премило болтали об американском футболе (в котором я совершенно не разбирался); когда же бармен спросил, не подать ли мне еще пива, я перешел к делу, ради которого пришел.
— Послушай, Джим, — сказал я (потому что человек за стойкой был владельцем бара и звался Джим), — я знаю, времена сейчас тяжелые, но мне позарез нужна работа. Я работал в нескольких барах здесь, в Нью-Йорке, а еще раньше я несколько лет проработал в барах в Ирландии, и скажу прямо: я хороший работник — трудолюбивый, честный. Я готов выходить в любую смену, в какую скажешь. Кстати, я работал и в этом баре — это было меньше года назад, тогда он еще назывался «У Карла».
Джим рассмеялся:
— Да, приятель, сам видишь — с таким наплывом посетителей без тебя нам никак не справиться!
Я тоже рассмеялся. Несмотря ни на что, я знал, что дочери Никты все еще играют на моей стороне. На всякий случай я оставил Джиму свой адрес, и мне действительно повезло: буквально в тот же день его сменный бармен уволился, получив выгодное место дублера в разъездном составе шоу «Неуловимый Макавити». Позвонить мне Джим, естественно, не мог, поэтому он пришел ко мне сам, и ямаец со второго этажа едва не изрешетил его из своего ружья. К счастью, я услышал шум и успел вовремя спуститься вниз с намерением оторвать ямайцу башку. С моей стороны это было довольно опрометчивым поступком: я совершенно забыл, что парень еще не усвоил наши континентальные обычаи и способен без колебаний разорвать на куски нас обоих. Лишь с большим трудом нам с Джимом удалось разрядить ситуацию с помощью бутылки рома, которую мы распили в его квартире, оказавшейся значительно уютнее, чем мои насквозь промерзшие апартаменты со сквозной дырой в полу.
Короче говоря, Джим дал мне работу в баре.
Сначала он, правда, сказал, что поставить за стойку белого парня будет в нашем районе делом неслыханным, но поскольку я показался ему достаточно честным и заслуживающим доверия, он решил, что попытка не пытка. Потом Джим спросил, не страдаю ли я какой-нибудь зависимостью, и я совершенно искренне ответил, что у меня болит нога и поэтому я пью довольно много «тайленола». В ответ он рассмеялся и сказал, что, похоже, он во мне не ошибся и что я — отличный парень; впрочем, он тут же добавил, что если я вздумаю обчистить кассу, он меня из-под земли достанет и собственноручно кастрирует. Работать мне предстояло по вечерам в четверг, пятницу и субботу. Плата составляла два доллара в час плюс чаевые.
Как я узнал, бар редко наполнялся народом даже по выходным, и все же зрители, покинувшие театр «Аполлон», оставляли кое-что и в нашей кассе, так что вместе с чаевыми я зарабатывал за вечер до сорока долларов — совсем не так плохо. Правда, в первую рабочую смену мне пришлось вытерпеть немало обидных подначек и грубых шуток, связанных с цветом моей кожи, однако дня через три клиенты «Голубой луны» почти перестали обращать на меня внимание; если кто-то и отпускал в мой адрес обидное словцо, делалось это вскользь и скорее от скуки, чем из желания оскорбить. Зато в первый же мой вечер мы с Джимом вышвырнули вон одуревшего от крэка наркомана, который ворвался в бар с кухонным ножом и довольно неубедительно попытался разыграть вооруженное ограбление.
Я был хорошим барменом; Джим, во всяком случае, был мною доволен, но, как я уже сказал, в «Голубой луне» я проработал недолго. Мое барменство закончилось, когда я получил более выгодное предложение и начал работать на Рамона. Случилось это так.
Я как раз отрабатывал вечернюю смену, когда в бар вошло несколько доминиканских парней. Их было шестеро. В бар, подобный нашему, доминиканцы явились бы только во множественном числе. С первого взгляда было ясно, что это не просто компания, а команда: настороженные взгляды, рубашки-поло, пиджаки пастельных тонов а-ля «Полиция Майами»,[55] кашемировые пальто до пола, толстые золотые цепи, которым позавидовал бы и Мистер Т,[56] и прочее, и прочее. Держались они плотной группой, причем двое были явными «качками» — крепкими ребятами, готовыми с безоглядной решимостью и даже бесшабашностью сеять смерть и разрушение, если в этом возникнет необходимость, чего, конечно, не могло произойти, потому что средний возраст наших клиентов составлял лет этак шестьдесят пять.
Доминиканцы заказали мексиканское пиво и сели за столик подальше от стойки. Сразу было видно, что ребята они умные и не ищут лишних неприятностей — во всяком случае, сейчас. Тогда я еще не знал, что с недавних пор Джим им платит. Доминиканцы как раз расширяли свою охотничью делянку; начали они от Вашингтон-Хайтс и понемногу вторгались в Гарлем, двигаясь главным образом вдоль Бродвея и Амстердам-авеню. Джим слышал о них много плохого, но пока они вели себя тихо, да и требовали немного, так что даже для такого захудалого бара дань, которую приходилось ему выплачивать, была не слишком обременительной.
Главарем банды доминиканцев был Рамон Борхес Эрнандес — смуглый, наголо бритый красавец ростом пять футов и шесть дюймов, — уравновешенный и опасный большой босс. Он выглядел лет на сорок, хотя был моложе.
Впоследствии я узнал, что Рамон вырос в Санто-Доминго, а около пяти лет назад перебрался в Нью-Йорк. На Вашингтон-Хайтс у него было полно родственников, так что практически сразу после приезда Рамон оказался в шайке. Трижды его арестовывали, причем в последний раз легавые пришили ему что-то очень серьезное, от чего Рамон не сумел отвертеться и угодил за решетку. Срок он отбывал в «Рикерс-айленд», а надо сказать, что в те времена эта тюрьма была совсем не такой, как сейчас. Даже среди заключенных-доминиканцев там ежедневно происходили дикие ссоры, процветали поножовщина, драки и разборки, не говоря уже о вражде между этническими группами и различными группировками, которая проявлялась в изнасилованиях, кастрациях, заказных убийствах. Иными словами, в «Рикерс-айленд» преступник получал «высшее образование», а если ему удавалось уцелеть, соответствующую репутацию и связи.
Рамон уцелел. Выйдя из «Рикерса», он — в соответствии с новопровозглашенным «жестким» курсом по отношению к преступникам-иностранцам — был депортирован на родину в Доминиканскую Республику. Стоит ли говорить, что Рамону понадобилось совсем немного времени, чтобы приобрести новый паспорт и новую внешность, с которыми он собирался вернуться в Штаты, но тут произошла некая заварушка. Он снова угодил в тюрьму, и на этот раз его угораздило попасть на Гаити. Я предполагаю, что Рамон оказался замешан в деле о контрабанде, но ни он сам, ни кто-либо из его окружения никогда не говорили со мной о тех временах. Похоже, моя маленькая порция мексиканского ада не может идти ни в какое сравнение с тем, что пережил Рамон за четырнадцать месяцев, проведенных в Порт-о-Пренсе.
Говорят, что страдания иногда укрепляют характер (мой случай не в счет), поэтому когда Рамон вернулся на Манхэттен, он снова был полон энергии и готов был приложить все силы, чтобы прибрать к рукам северную часть города. Он присоединился к банде, действовавшей к востоку от парка Сент-Николас, и чувствовал себя довольно неплохо, пока не попался в очередной раз. Ему, как рецидивисту, был уготован «Рикерс-айленд», но, как видно, Рамон родился (точнее, был задержан) под счастливой звездой.
Если вы принадлежите к людям, верящим в предопределение, в роковые совпадения или же в юнговскую теорию коллективного бессознательного и тому подобную чушь, вам было бы любопытно узнать, как изменилась судьба Района Эрнандеса и какую незаметную, но важную роль сыграл в этом ваш покорный слуга, раскрутив колесо Фортуны. Никакая Ванна Уайт[57] не сделала бы лучше! Тогда я не знал, конечно, что мои и Района дорожки пересекались уже дважды — один раз, когда он подтолкнул Дермота Финюкина совершить глупость, в итоге стоившую ему жизни, и другой, когда он послал одного из своих подручных к Питеру Беренсону — пожилому господину из Восточной Европы, у которого возникли неожиданные проблемы с Санта-Клаусом. Со стороны это действительно может показаться просто цепочкой совпадений, но если бы Рамон до сих пор был жив, я бы сказал — нет, это не простое совпадение, а результат какого-то его сверхчувственного видения, благодаря которому он узнал о моем существовании еще до того, как узнал обо мне на самом деле. Но бедняга Рамон, конечно, не был волшебником или магом — во всяком случае, не настолько, чтобы помешать Морено Фелипе Кортесу всадить в себя девятнадцать пуль (то есть больше одной пистолетной обоймы) примерно через год после моего отъезда из США. Это, впрочем, случится еще не скоро; сейчас же было бы небезынтересно взглянуть, как Рамон совершил свой прыжок из Ассоциации атлетов-любителей в профессиональную лигу.
Итак, Рамон был арестован и попал в «Рикерс». Там он познакомился с чернокожим колумбийцем из Бронкса, которого звали Биллом. Негры и доминиканцы обычно не особенно ладят, но Рамон был очень обаятелен и к тому же обладал редкой способностью замечать способных ребят. Билл оказался не последним человеком в наркобизнесе: он встречал «мулов»-перевозчиков в аэропорту Кеннеди и хранил товар, пока боссы договаривались о сделке. Как правило, Билл вел сразу несколько серьезных дел одновременно; в частности, к нему попала крупная партия кокаина, которую колумбийская мафия собиралась обменять на оружие, чтобы вооружать своих боевиков. Все, что требовалось от Билла, это спрятать наркотик понадежнее да держать рот на замке. Казалось, что может быть проще? Увы, Билл был парнем не особенно везучим. Наркотик уже находился у него дома, когда он ударил полицейского на параде, в честь Дня Пуэрто-Рико. (Менее подходящего места он, конечно, найти не мог!) Разумеется, его сразу же арестовали и после короткого судебного разбирательства отправили в тюрьму.
Несомненно, домовладелец давно мечтал вышвырнуть Билла из квартиры в Ривердейле, потому что тот, во-первых, был черным, а во-вторых — колумбийцем, однако сделать это раньше было сложно: вздумай Билл обратиться в суд по урегулированию жилищных споров, и его права, скорее всего, были бы восстановлены. Но, оказавшись за решеткой, Билл не смог — а может, просто забыл — заплатить за квартиру (как всякий уважающий себя наркодилер, Билл снимал несколько квартир в разных районах), поэтому домовладелец с чистой совестью вышвырнул его немногочисленные пожитки, а освободившуюся площадь сдал мистеру Беренсону, который давно хотел перебраться с первого этажа на четвертый, чтобы любоваться из окна панорамой парка Ван-Кортленд.
Я не знаю, какие именно проблемы были у Билла в то время; возможно, их просто оказалось чересчур много и он элементарно не успел послать кого-то к себе на квартиру в Ривердейле за кокаином до декабря. А в декабре в его квартиру уже вселился мой старый приятель Пит Беренсон. Человек, который вломился к Питу под Рождество, ничего не нашел, и Билл решил, что займется этой проблемой самолично, как только выйдет на свободу.
Вы, вероятно, помните, что в день, когда Лопата якобы отметелил нашего большого Энди, Пит Беренсон перехватил меня на лестнице на выходе из подземки и рассказал, что к нему забрались какие-то странные воры, которые ничего не взяли. Это был старина Билл, который разыскивал свой склад кокаина, спрятанный в тайнике под половицей. В тот раз он его почему-то не нашел — то ли потому, что был слишком пьян, то ли по какой-то другой причине. В любом случае это кончилось для него скверно, потому что всего несколько дней спустя он встретился на улице с Районом, который сразу вспомнил, что рассказывал Билл в тюрьме. Не тратя времени даром, Рамон заманил своего бывшего кореша в укромный уголок, где Билл выложил все необходимые подробности. Вскоре после этого Рамон или один из его людей снова забрался в квартиру Беренсона, убил хозяина и вытащил из тайника спортивную сумку, набитую первосортным колумбийским кокаином.
Ах, если бы в тот день я отнесся к словам мистера Беренсона чуть более внимательно! Возможно, я бы прямиком направился тогда к старому нацисту, устроил там засаду и выяснил, что за таинственный Санта-Клаус шастает к нему не только под Рождество, но и летом. Не исключено, что я сумел бы найти тайник раньше Района, и тогда многое было бы по-другому. Если бы я принес Темному полную сумку кокаина, он смог бы если не простить, то уж, по крайней мере, не отправлять нас в Мексику. И тогда Энди, Фергал и Скотчи до сих пор были бы живы. Но кокаином завладел Рамон. Его «толкачи» начали понемногу распродавать наркотик, и деньги потекли рекой. Благодаря этим деньгам Рамон довольно быстро превратился из мелкой рыбешки в крупную рыбину, к тому же, выбросив на рынок большую партию кокаина, он на корню подрезал конкурентов и одним махом оказался на коне.
Я уже говорил, что впервые я столкнулся с Ра-моном и его людьми (хотя тогда я этого не знал) в Бронксе и на Вашингтон-Хайтс. Теперь я часто думаю, что это произошло отнюдь не случайно. Ирландцы как раз покидали эти районы, а доминиканцы, напротив, спешили прибрать их к рукам. Соответственно, авторитет Темного и его присных понемногу слабел, а власть молодых, шустрых испаноговорящих парней укреплялась день ото дня. Рамон и доминиканцы были будущим этих районов, Темный и ирландцы — прошлым. Со временем, разумеется, на смену Рамону мог прийти еще кто-то, но, в конце концов, ничто не вечно под луной.
В тот вечер, о котором я рассказываю, Рамон был одним из шести; он пришел в бар специально, чтобы встретиться со мной, но тогда я этого не знал.
Многие думают, что Нью-Йорк — большой город, в котором легко затеряться, но это не так. Здесь человек соприкасается с другими людьми теснее, чем где бы то ни было. Люди постоянно разговаривают друг с другом; глядь, в самой обычной болтовне ни о чем возьмет да и проскочит какая-то важная информация. В Америке все болтают. Сохранить здесь что-либо в тайне практически невозможно. Правда, ирландцы тоже не великие мастера хранить секреты, но янки еще хуже. Если бы НЛО на самом деле разбился под Розуэллом, сейчас там уже открылся бы музей внеземных цивилизаций. Или долбаный парк развлечений «Розуэлл Уорлд».
Короче говоря, насчет меня кто-то трепанулся, а Рамон услышал. Услышал и разыскал меня. И поначалу мне показалось, что с тех пор, как я вернулся в Нью-Йорк, это была моя самая большая неудача. В самом деле, до этого все было как будто в порядке: у меня была работа, было жилье, я затаился и мог спокойно готовиться к тому, что мне предстояло. Честно скажу — на этом этапе мне меньше всего хотелось, чтобы мною заинтересовался такой крупный авторитет, как Рамон, но сейчас мне иногда кажется, что если бы не он, у меня могло вообще ничего не получиться. Без него, без его связей я мог истратить несколько лет только на то, чтобы выяснить, где живут мои враги, да и Лучик, пожалуй, добрался бы до меня раньше, чем я до него.
Рамон держался спокойно и сдержанно. Его спутники все еще пили «Корону» в кабинете, когда он встал и, подойдя к бару, сел на табурет напротив меня. Надо сказать, что он хорошо знал многих бейсболистов доминиканского происхождения и умел угадать, кто из них имеет шанс подняться выше среднего уровня. И чаще всего Рамон оказывался прав: я смутно помню, как он предсказывал, что Педро Мартинес, Мэнни Рамирес и Сэмми Coca станут звездами первой величины, хотя наверняка были и другие, кто так и не сумел добиться известности. Как бы там ни было, разговор Рамон начал именно с бейсбола и с игроков-доминиканцев. Я знал о бейсболе довольно мало, но, как мог, поддерживал беседу в расчете на щедрые чаевые. Так мы болтали минут пятнадцать, потом Рамон заказал для всей компании еще по бутылке пива. По-английски он говорил превосходно, хотя жил в Штатах сравнительно недолго. Овладеть языком ему помог родной дядя, который вернулся в Доминиканскую Республику, после того как лет тридцать прожил в Нью-Йорке на 171-й улице. (Любопытно, что, расставшись с криминальным бизнесом, он стал известным, даже знаменитым доминиканским поэтом.) Когда умерла мать Рамона, дядя взял племянника к себе и воспитывал практически в одиночку, если не считать череды сменявших друг друга женщин, особой привязанности к которым Рамон не испытывал.
Обо всем этом он рассказал мне, когда тема бейсбола была исчерпана.
— Да-да, очень интересно, — поддакивал я.
Рамон продолжал болтать о всякой всячине, и мне казалось — я отлично справляюсь с ролью благодарного слушателя. Я даже начал задумываться, не испытывает ли этот парень ко мне гомосексуального влечения, когда Рамон неожиданно замолчал, моргнул и сказал:
— Ладно, хватит ерунды, давай поговорим о деле. Я ведь знаю, кто ты.
— Знаешь?
— Да.
— О'кей, и кто же я? — спросил я и рассмеялся.
— Ты — Майкл Форсайт, один из тех парней, что застрелил Дермота Финюкина в баре на Вашингтон-Хайтс, рядом с залом Одюбона.
— Понятия не имею, о чем ты…
— Я был там в тот день, и я тебя узнал. Я хочу предложить тебе работу, Майкл. Видишь ли, я собираюсь перенести свой бизнес в эту часть города, и мне нужен надежный человек, который умеет обращаться с оружием.
— И все-таки, приятель, я думаю, что ты обознался. Принял меня за кого-то другого… — возразил я. Мне пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы не показать, насколько я напуган.
— Только, пожалуйста, не надо играть со мной в прятки, — негромко сказал Рамон.
«О господи! — подумал я. — Кажется, я засветился. Что же теперь делать?! Может, это легавый? Нет, вряд ли. В этот район они не заходят — слишком опасно. Что он там говорил насчет работы? Ах да, этот тип предлагал мне работу, потому что я ведь, черт его дери, меткий стрелок!»
— Послушай, дружище, ну зачем я тебе? У тебя в команде небось одни доминиканцы, а я совсем не говорю по-испански. No hablo espanol.
Он улыбнулся:
— Ничего страшного, Майкл, испанский ты выучишь. Мне нужны не нахлебники, а нормальные, классные парни. Кстати, за работу ты будешь получать пятьсот баксов в неделю, а то и больше. Твоя задача — личная охрана. Ну, согласен?
— Ты говоришь как легавый. Откуда ты так хорошо знаешь английский? — спросил я с подозрением.
— Выслушай меня внимательно, Майкл: я не какая-нибудь дешевка, которая балуется наркотиками и спускает всю прибыль на машины и шлюх. Моя команда состоит пока из тех, кого я смог заполучить, но это не значит, что они меня устраивают. Качество — вот что я ищу, и если то, что я о тебе слышал, верно, то ты как раз тот человек, который мне нужен.
— Хотел бы я знать, что ты слышал… И от кого. Как ты вообще узнал, где меня можно найти?
— Не беспокойся, это было довольно легко.
Именно это меня и беспокоило, но я постарался скрыть тревогу и изобразить безразличие. Улыбнувшись, я покачал головой и вздохнул.
— Ну, хорошо, — сказал я. — А почему ты решил, что я захочу на тебя работать? Какие у меня для этого причины?
— Кроме денег?
— Кроме денег.
— Я могу тебе помочь.
Я посмотрел на него. Рамон был не крупным, но обладавшим весьма внушительной внешностью мужчиной — этакий доминиканский Род Стайгер.[58] Казалось, он заполнял собой почти все свободное пространство, но даже это не было главным. В его присутствии даже самый воздух в зале как будто наэлектризовался. Тяжелый, с прищуром, взгляд видел насквозь всех и вся в радиусе пистолетного выстрела.
— Помочь мне в чем? — попытался уточнить я.
— Я могу помочь, — повторил он.
Я покачал головой, прикидывая, в чем все-таки дело. Этот парень что, умеет читать мысли? Что ему обо мне известно? Что-то было неправильно, но я никак не мог понять — что. Если это ловушка, то какого рода? Может, это Темный подослал его?
— Видишь ли, дружище, — сказал я, — работа мне не нужна, она у меня есть. И как раз сейчас мне лучше лечь на дно и не высовываться, если ты понимаешь, что я имею в виду…
— Понимаю. — Он кивнул и многозначительно улыбнулся. — И в этом я тоже могу тебе помочь.
Тут я почувствовал уже настоящий страх и мысленно измерил количество шагов, которые мне придется сделать, чтобы достать спрятанный под стойкой обрез. Два шага — и оружие будет у меня в руках, но…
Мы оба довольно долго молчали. Я не выдержал первым.
— Я хочу, чтобы ты рассказал, как ты узнал обо мне, — медленно сказал я.
Он кивнул:
— Законное желание.
Пока он говорил, я пытался получше разобраться, что за человек передо мной. Легкая полуулыбка, часы «Ролекс», золотая цепь, дорогая рубашка — стандартный, в общем-то, набор, но мне показалось, что все это нужно Рамону только для своих. В целом же он не производил впечатления человека, склонного к показухе.
— Пару дней назад один парень увидел тебя в этом баре и рассказал мне. А я ведь слышал, что ты умер…
— От кого ты это слышал?
— Пронесся слух, будто бы тебя и твоих дружков завалили в Мексике за то, что вы пытались снять сливки с чужого пирога. Говорили также, что если такое случилось со своими, то что же будет с врагами…
— Вот как, — сказал я. Ничего более умного мне просто не пришло в голову. Соображай я быстрее, я бы уже тогда понял, какую игру затеял Рамон, но увы — информации было слишком много, и я не мог переработать ее сразу. Я чувствовал, что что-то затевается, но что именно, оставалось неясным. На месте Рамона я бы в жизни не взял на работу человека, который не был бы моим соотечественником или близким другом. Он сказал — я буду заниматься личной охраной, но с такими предложениями к посторонним обычно не обращаются. Чужака трудно узнать до конца, понять, что у него на уме. Наглядный пример — Индира Ганди, которая погибла от рук своего телохранителя-сикха. Еще один пример — персидский царь Дарий… В общем, мне нужно было соображать как можно быстрее, и я честно пытался это сделать. Главное, я должен был понять, грозит ли мне чем-то его предложение. Иными словами, настучит ли Рамон Темному, если я откажусь? Во-вторых, мне хотелось разобраться, что за всем этим стоит, зачем я ему нужен? Ну-ка, попробуем разобраться… Почти сразу мне стало ясно, что ответ на вторую загадку я получу не в один день. Рамон был слишком умен для этого. Что касалось первого вопроса, то тут дело было проще. Лучше всего, решил я, не ходить вокруг да около, а действовать напрямик.
— Послушай, мистер, э-э-э… Рамон…
— Что?
— Ответь мне вот на какой вопрос: ты мне угрожаешь? К примеру, если я откажусь — ты не раззвонишь всем, что Майкл Форсайт воскрес и работает в баре «Голубая луна»?
Его лицо стало очень серьезным, губы сжались, глаза смотрели не мигая.
— Мне кажется, — медленно проговорил он, — ты не хотел меня оскорбить. Вот как мы поступим: я дам тебе свою визитную карточку с Телефоном. Ты подумаешь над моим предложением и позвонишь мне. Только не забудь, что мы с тобой действительно можем помочь друг другу.
И Рамон протянул мне визитную карточку — простой белый прямоугольник, на котором не было ни имени, ни фамилии — только номер телефона. Потом он отвернулся от меня, и пятеро его спутников одновременно поднялись. Не сказав больше ни слова, Рамон и его парни вышли из бара.
Когда дверь за ними закрылась, я сразу понял, что выбора у меня нет. Если я хотел остаться в Нью-Йорке, я должен был работать на этого парня. Даже если Рамон не собирается никому ничего говорить, рано или поздно слухи о моем возвращении распространятся по всему Гарлему. Людей и возможностей у Темного более чем достаточно. Тот же Лучик первым позаботится о том, чтобы мистер Даффи узнал о возникшей проблеме. А уж у мистера Даффи наверняка найдется не один десяток людей, которым он может поручить убрать досадную помеху в моем лице.
Словом, в течение каких-нибудь тридцати минут, что я болтал с Рамоном, ситуация изменилась самым решительным образом.
У меня не осталось выхода. Я понял это сразу. Медовый месяц окончен.
Через час я набрал его номер:
— Рамон, я…
Но он перебил меня. Он велел мне ничего не говорить, сказав, что предпочитает обсуждать важные вещи не по телефону и что он сейчас приедет.
Опуская трубку на рычаг, я чувствовал, что манера Района вести дела меня и раздражает, и одновременно нравится.
Рамон появился без чего-то два. Бар был пуст. Приехал он один, без парней. Как и несколько часов назад, Рамон сел на табурет напротив меня.
— Ты решил, — сказал он.
Я протянул руку.
— Рамон, — сказал я, — «где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом; и твой Бог — моим Богом».[59]
Он улыбнулся и пожал мне руку.
И это было все. Потом я поехал домой. Разделся, принял холодный душ и забрался под одеяла. Дело было сделано. С Районом все пойдет быстрее. Я лежал на кровати. За стенами раскинулся в ночи живой и прекрасный Гарлем. Я не спал и прислушивался.
— Рамон — это путь, который они избрали, — сказал я в темноту. — Последний отрезок пути.
Я заложил руки за голову и закрыл глаза. Вытянувшись в холодных объятиях Немезиды, я готовил себя к ударам, которые неминуемо обрушатся на меня в ближайшем будущем.
10. В Ойстер-Бей на краденой машине
Рамону суждено было оставить в моей жизни короткий, не до конца понятный, но глубокий след. Казалось, он излучает очарование и харизму. Рамон был спокойным, мягким и умел убеждать, но ведь так в свое время говорили и о Гитлере, к тому же не следует забывать, что банда Рамона совершала в среднем одно убийство в неделю (хотя в свое оправдание он мог бы заявить, что это была чистой воды самооборона). Я, впрочем, тоже не был невинным младенцем (если вспомнить Дермота), да и в любом случае, как оправдать убийства, которые я собирался совершить?
Люди Рамона нашли мне квартиру на 181-й улице — на шестом этаже здания, выходившего на мост Вашингтона и Гудзон. Квартира показалась мне роскошной: паркетный пол, высокие окна, современная кухонная техника, да и размерами она чуть не вдвое превосходила мое прежнее жилье на 123-й улице. Район мне тоже понравился. Это был небольшой еврейский квартал, затерявшийся в самой середине доминиканской части Вашингтон-Хайтс. В основном здесь жили люди в возрасте, которые прекрасно ладили друг с другом.
Квартира была просторной и красивой. По вечерам, когда я не работал, я сидел и смотрел в большие панорамные окна гостиной. В фильме «Гражданин Кейн» есть эпизод, когда одного из друзей Кейна допрашивают в лечебнице; в этот момент на заднем плане видны мост Джорджа Вашингтона и река. Точно такой же вид открывался и из моих окон, только у меня он был к тому же цветным.
Номинально я принадлежал теперь к избранному кругу ближайших сподвижников Рамона и был его «лейтенантом». Как я уже говорил, он взял меня к себе в качестве телохранителя, и вертлявый, маленький доминиканец по имени Хосе вручил мне пистолет-пулемет «узи» и армейский полуавтоматический пистолет «кольт» калибра.45. Мне уже приходилось иметь дело с кольтом: это было громоздкое, громкое и очень мощное оружие, которое оставалось на вооружении армии США на протяжении почти семи десятков лет, так что, возможно, у него и были какие-то хорошие качества. И все же стрелять из него мне было неудобно. На расстоянии до двадцати футов я, наверное, мог бы отстрелить башку кому угодно, но на больших дистанциях, как мне казалось, кольту катастрофически не хватало точности. Кроме того, обойму то и дело заедало в рукоятке, а могучее дульное пламя каждый раз заставляло меня вздрагивать. Что же касалось «узи», то с ним я раньше не сталкивался, но, зная, что британская армия никогда бы не стала использовать такое нелепое и вульгарное оружие, я с самого начала проникся к нему недоверием. Оба «ствола» я носил в наплечных кобурах под специально сшитым для меня пиджаком, но «узи» я разместил с правой стороны и часто даже не вставлял в него магазин, чтобы было удобнее.
Рамон так и не сказал, для чего я понадобился ему на самом деле; купиться же на басню, будто ему просто нужны «надежные парни», я не мог. На следующий день после нашей встречи к моему дому подъехал фургон, чтобы забрать вещи, каковых оказалось очень немного. Самого Рамона я не видел еще несколько дней: о снятой для меня квартире он сообщил мне по телефону, намекнув, что, возможно, я встречусь с ним там. Я ждал, но он так и не появился. Квартиру показывал мне смотритель дома, который, кстати, держался со мной очень почтительно и даже отказался от двадцати долларов, которые я хотел дать ему в качестве чаевых.
Наутро ко мне приехали Хосе с портным, снявшим с меня мерку, после чего Хосе вручил мне пять сотенных бумажек, велев купить на них несколько приличных рубашек и ботинки. За ними явился некто, установивший в квартире телефон и кабельное телевидение. Мебель мне привезли со склада компании «Пайр».
Следующие два дня меня никто не тревожил; а на третий за мной пришла машина, которая отвезла меня в ресторан неподалеку от штаб-квартиры Рамона. Был ранний вечер, и Рамон представил меня остальным лейтенантам, которые держались вежливо, но не особенно дружелюбно. Во всяком случае, между собой они говорили только по-испански, а ко мне почти не обращались. После взаимных представлений мне вручили оружие, и весь остаток вечера я просидел, молча потягивая «Корону».
Честно говоря, чувствовал я себя крайне неловко, хотя Рамон и пытался развлечь меня, время от времени заговаривая со мной то о спорте, то о погоде. В одиннадцать часов то, что, видимо, должно было означать «вечер знакомства», наконец завершилось, и я на такси вернулся в свою новую квартиру.
На следующий день меня снова вызвали — на этот раз в пентхаус Рамона. Лейтенанты обходили свои участки, поэтому нас было только пятеро: я, сам Рамон, Хосе и еще двое телохранителей. О том, в чем же все-таки заключается моя работа, снова не было сказано ни слова. Рамон не мог не догадываться, что я отлично понимаю: моя должность телохранителя только прикрытие, ширма для чего-то более важного. Больше того, он знал, что я это знаю, и тем не менее продолжал молчать.
— Если я твой телохранитель, — спросил я его, — почему ты не поселил меня здесь, рядом с собой?
— Потому что ты мой телохранитель для особых случаев, — ответил он. — У тебя своя роль, Майкл.
Судя по всему, это был конец разговора, и Рамон вернулся к газете, которую читал.
В штаб-квартире я провел весь день. После обеда Рамон ушел к себе в кабинет и закрыл за собой дверь. Ближе к вечеру вернулись его лейтенанты с деньгами.
Если вы когда-нибудь смотрели фильмы восьмидесятых и девяностых годов о негритянских гетто и о наркобаронах, то у вас наверняка сложилось совершенно неправильное представление об образе жизни таких людей, как Рамон. Он действительно занимал очень неплохой пентхаус, но и только. У него была только одна девушка — миниатюрная, изящная и довольно некрасивая. Звали ее Кармен. Она жила вдвоем с матерью и всегда ночевала дома, лишь изредка навещая моего патрона по вечерам. Рамон не устраивал шумных вечеринок или оргий и не разрешал никому из своих пробовать «товар». Обстановку пентхауса составлял большой белый диван, с десяток белых кожаных кресел, огромный стереокомплекс, множество полок для компакт-дисков, несколько кофейных столиков. Целую стену занимал вместительный книжный шкаф красного дерева, в котором стояли книги на английском, испанском и французском языках. Сама гостиная была размером с баскетбольную площадку, и на этом обширном пространстве мебель как-то терялась, что производило аскетическое, чуть ли не убогое впечатление. Как мне думается, Району нравилось разрушать стереотипные представления окружающих о своем стиле жизни. Всякий, кто ни бывал у него, оказывался обманутым в своих ожиданиях. Начать с того, что располагался пентхаус в районе 150-х улиц: в массивном и далеко не новом здании бывшей муниципальной школы близ реки на краю угрюмого, темного парка, где качали голыми ветвями черные деревья. Пентхаус представлял собой надстройку над третьим этажом школы, поэтому подниматься туда приходилось по наружной пожарной лестнице. Вероятно, это было сделано из соображений безопасности, но не исключено, что Рамон решил сберечь деньги до той поры, когда он будет в состоянии приобрести все здание целиком и перестроить по своему вкусу.
Большинство людей Рамона предпочитало общаться между собой на очень быстрой доминиканской скороговорке — варианте испанского, поэтому я с самого начала ощущал себя среди них чужим. Никаких попыток познакомиться со мной поближе никто из них не предпринимал: у меня даже сложилось впечатление, что они считают мое появление чем-то вроде странного каприза босса и не сомневаются, что через пару-тройку недель я ему надоем, и он не замедлит от меня избавиться. Поскольку никто со мной не разговаривал, то, когда Рамон удалялся в спальню или в свой рабочий кабинет — единственные комнаты, куда путь большинству был заказан, я коротал время, разгуливая по всему остальному пентхаусу. Частенько я выходил на балкон, чтобы подышать свежим воздухом; впрочем, качество последнего оставалось под большим сомнением ввиду наличия поблизости (на 138-й улице) мощного очистного сооружения. Больше на балконе делать было совершенно нечего — разве только курить, но я оставил эту привычку и не собирался к ней возвращаться. Пытался я заняться и книжным шкафом Рамона, в котором оказалось около тысячи томов, однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что большинство книг ни разу не открывали. Несомненно, Рамон приобрел эти книги оптом, когда разбогател, но для меня так и осталось загадкой, собирался ли он их читать или покупка книг была лишь эффектным жестом.
Так проходили дни. Я торчал на балконе и потихоньку почитывал книги из шкафа, Рамон с Хосе работали в кабинете, а лейтенанты обходили точки или раскладывали наркотик по целлофановым пакетикам. И хотя каждый день походил на другой, я так и не привык к подобному времяпрепровождению и чувствовал себя словно новичок в школе: одиноко и неловко.
Шайка или, лучше сказать, организация Рамона состояла из трех-четырех десятков человек. Ближайшими его помощниками были пятеро лейтенантов: Сэмми, Яго, Педро, Морено и Хосе, который считался вторым человеком после самого босса. Постоянными членами организации были и двое телохранителей — девятнадцатилетний кубинский паренек Дево (как название группы), хотя все звали его просто «Кастро», и доминиканец Гектор. Кроме этих семерых и меня (формально я считался третьим телохранителем), все остальные были просто «шестерками», пушечным мясом.
По вечерам лейтенанты обычно фасовали «товар» в маленькой, отделанной белым кафелем лаборатории, в которой стоял довольно отчетливый запах кокаина. Лаборатория располагалась в глубине пентхауса рядом с кабинетом Рамона; заходить туда не запрещалось, но лейтенанты считали ее своей территорией и старались не пускать туда не только телохранителей, но даже Хосе. Утром они отвозили расфасованный «товар» посредникам, или дилерам, которые хранили у себя небольшие партии. После этого на улицы выходили продавцы-«толкачи». Человек, купивший дозу, отдавал деньги «толкачу», а за товаром шел к дилеру, обычно стоявшему в ближайшем переулке или в фальшивой лавчонке, торговавшей какой-нибудь дребеденью. Если все было в порядке, дилер выдавал покупателю вожделенный пакетик. На каждого «толкача» с его пяти- или десятидолларовыми пакетиками «товара» приходилось двое или трое «смотровых», которым полагалось следить за общей обстановкой на улице, предусмотрен был и «паровоз», провожавший клиента от «толкача» к дилеру. В среднем каждый продавец зарабатывал около трехсот долларов в час или от двух до трех тысяч долларов в день. Самому продавцу — в зависимости от прихоти Рамоновых лейтенантов — доставалось пять—десять процентов от выручки, все остальное шло в кассу. По моим подсчетам, Рамон зарабатывал в неделю тысяч шестьдесят или около того. Не знаю, платил ли он кому-то и каковы были его собственные издержки; в любом случае его бизнес был настоящим золотым дном.
Никто из команды Рамона, похоже, не испытывал никаких угрызений совести, продавая крэк наркоманам, которые ради дозы готовы были торговать собой, воровать, грабить и даже красть вещи, принадлежащие их собственным детям. Рамон со своей стороны тоже никогда не давал своим людям указаний не продавать наркотики детям, бродягам и явным психам; впрочем, тогда я не знал испанского и не могу сказать точно — может быть, что-то такое он и говорил.
Ездил Рамон на «мерседесе», но за рулем он всегда сидел сам. Что касалось дополнительных расходов, то их было немного и они были небольшими.
Так прошло десять дней, и каждый день я являлся на работу после обеда и торчал в пентхаусе до вечера, ни черта не делая, а по вечерам возвращался домой. Деньги, которые я получал от Рамона еженедельно, я явно не отрабатывал, и мне приходилось утешаться тем, что у меня отложено уже больше тысячи долларов. Кроме того, на диете из бананов, бобов и риса я набрал около десяти фунтов и стал заметно сильнее и здоровее.
Скоро, говорил я себе, придет время, когда я распрощаюсь с этим никчемным существованием и вплотную займусь делом, ради которого вернулся в Нью-Йорк, но каждый раз мне казалось, что мне нужно окрепнуть еще немного. Рамон по-прежнему даже не заикался о том, для чего я ему понадобился, и я тоже начал подозревать, что это просто идиотская причуда человека, которому я по совершенно непонятной мне причине приглянулся.
Постепенно у меня выработался собственный распорядок ничегонеделанья. Обычно я являлся в пентхаус около часа или двух пополудни; утренние часы оставались полностью в моем распоряжении, и иногда я тратил их на то, чтобы посетить места, где мне когда-то приходилось жить. О том, что мне предстояло исполнить, я не забывал, но продолжал ждать… нет, не знамения и не голоса свыше. Просто мне хотелось быть уверенным, что момент я выбрал правильно.
Чаще всего я ездил на 125-ю улицу. Я был уверен, что не столкнусь ни с кем из парней Темного — там им просто нечего было делать. Мне же все там было привычно и памятно, и теперь, приезжая туда со своей 181-й, я казался самому себе этаким гребаным туристом. И все же эта сомнительная улица, обитель отчаяния, была мне родным домом. Один вид китайской забегаловки мистера Хана будил во мне легкую ностальгию, но, конечно, я никогда не позволял себе заходить внутрь и лишь изредка навещал Джима в «Голубой луне».
В дни, когда я чувствовал себя особенно бодро, я ставил перед собой некую задачу — побывать в пяти городских парках в течение дня, пройти пешком от реки до реки или найти самую высокую точку Манхэттена. Однажды я без какой-либо видимой цели прошагал из конца в конец всю Пятую авеню — просто мне так захотелось. Правда, потратил я на это столько времени, что пришлось позвонить Району и предупредить, что сегодня я не приду (Рамона, как и следовало ожидать, сообщение это ничуть не озаботило и не заинтересовало). На меня же прогулка произвела довольно сильное впечатление. Пятая авеню начинается в Гарлеме, среди разрухи и нищеты, но уже в районе Центрального парка она превращается в улицу миллионеров и остается таковой до самой Виллидж. Я проделал весь этот путь, но нигде задерживаться не стал: запасшись бутылкой воды и шляпой, я просто шел и шел, глядя, как постепенно раздвигаются узкие и темные ущелья улиц, как все ярче и дороже становится одежда людей на улице, как белеет их кожа. Бродячие коты, бездомные собаки и вездесущие крысы исчезли, остались только голуби; школьники сменили джинсы и бесформенные куртки на строгие блейзеры и галстуки, а звуковой фон, состоящий из шума машин, стрекота отбойных молотков и включенных радиоприемников, с каждым шагом становился все громче.
Но главное, весь путь я преодолел на протезе.
Вдохновленный успехом, я решил пройти таким же образом весь Бродвей, но на это мне пришлось потратить целых два дня, да и то я преодолел только ту часть улицы, которая расположена на Манхэттене. Дальше Бродвей пересекает Бронкс (идя дальше уже к Уэстчестеру), и я оказался бы недалеко от «Четырех провинций», а это было слишком рискованно.
На Бродвее нет такой четкой постепенности перехода от хаоса к цивилизации, как на Пятой авеню. Бедность здесь то появляется, то исчезает, образуя как бы ломаную линию. Бродвей начинается от побережья; здесь еще можно увидеть лодки и даже домашний скот. Далее улица идет на юг, пересекая парк и район муниципальных жилых домов, за которым начинаются негритянские и испанские кварталы, снова негритянские, снова испанские… Мелькают винные лавочки и подозрительные кинотеатрики. Концертный зал «Одюбон». В мормонской церкви идет заупокойная служба: из окон несутся горестные рыдания, а самые стены, кажется, сочатся слезами. Дальше, в районе 120-х улиц, Бродвей приобретает более пристойный вид — чувствуется облагораживающее влияние Колумбийского университета. Улица как будто оживает, но это продолжается недолго: за 99-й начинается Верхний Вест-Сайд, и Бродвей словно сужается, протискиваясь между театрами и театриками, штабелями кирпича, строительными площадками, порнографическими заведениями и вырытыми в земле ямами, над которыми витает легкий запах сероводорода.
Да, в течение трех дней я был почти счастлив.
На следующий вечер после покорения Бродвея я спросил Рамона, могу ли я что-нибудь для него сделать.
— Ничего, — ответил он, но меня этот ответ не удовлетворил. Я был в форме и чувствовал себя готовым к… к чему-нибудь. К неприятностям. К драке. Может быть, даже к небольшой операции по усмирению конкурентов. Но Рамон был само терпение, и это действовало мне на нервы.
— Отдыхай. Набирайся сил. Я скажу, когда ты мне понадобишься, — сказал он. — Гуляй побольше. Двигайся.
Мне оставалось только подчиниться.
Я ходил везде, где только мог. Я несколько раз прошел от реки до реки, совершил путешествие с острова на континент и обратно, ездил в подземке, на поездах транспортной системы «Транс-Гудзон» и на автобусах маршрута М4.
Я побывал в церкви Святого Патрика, в Риверсайдской церкви и даже в величественной церкви Святителя Иоанна — несомненно, самом культовом месте Нью-Йорка после Галереи Славы на стадионе «Янки». (Даже ирландец, который никогда не видел бейсбольного матча, слышал о Гериге, Малыше Руте, Мантле и Димаджио.) Потом я отправился на юг и пережил несколько неприятных минут, когда на Третьей авеню столкнулся со знакомым парнем по имени Родди Макги, который как раз выходил из какого-то бара. С тех пор я стал избегать не только ирландских кварталов, но и нейтральных районов, посвятив свой досуг исследованию большого Гарлема. Но это меня не особенно огорчало. Мне здесь нравилось. Я дышал воздухом Гарлема, впитывал его каждой клеточкой своего тела, в свою очередь становясь его неотъемлемой частью. Достаточно сказать, что в своих скитаниях я исходил все пространство от Вестсайдского хайвея до моста Трайборо, от Шугар-Хилл до Манхэттенвилла и от Вашингтон-Хайтс до Инвуд-парка.
Ходьба сделала меня сильнее и выносливее, но однажды Рамон увидел, как сильно я хромаю, и, ни слова не говоря, дал мне какой-то телефонный номер.
Я позвонил по этому номеру и попал к врачу, который специализировался на реабилитации инвалидов с ампутированными конечностями.
Договорившись о приеме, я отправился к нему в клинику, которая разместилась в очень симпатичном особнячке неподалеку от 48-й улицы, что, по всей вероятности, должно было указывать на обширную и успешную практику.
Врач оказался военным хирургом, ветераном Вьетнама. Правда, непосредственно в боях он не участвовал, зато отслужил два срока в Сайгонском госпитале Военно-морского флота США в 1966–1967 и 1969–1970 годах.
Осмотрев мою культю, врач сделал рентген и отправил меня на «бегущую дорожку». Когда с этим было покончено, он предложил мне корректирующую операцию по укорочению культи, которая в результате должна была стать более подвижной и лучше пригнанной, не говоря уже о том, что операционные шрамы приобрели бы более эстетичный вид.
Но я отказался. Мысль о том, чтобы укоротить мою ногу еще больше, казалась мне абсурдной.
К счастью, такого человека, как доктор Хэвер-кемп, было трудно переубедить — особенно презренному гражданскому, который к тому же был чуть не втрое моложе его. Усадив меня в кресло, он объяснил мне все еще раз — и подробно.
Это будет легкая операция, сказал он. Одна ночь в клинике плюс неделя на реабилитацию. В течение еще нескольких месяцев я должен буду раз в неделю являться в клинику для прохождения курса физиотерапии, и тогда, обещал Хэвер-кемп, через год я смогу бежать Нью-Йоркский марафон.
Он убеждал, подначивал, поддразнивал, и в конце концов я понял, что в его словах есть смысл.
Я сказал Рамону, что мне понадобится неделя отпуска, и он ответил, что я могу отсутствовать столько, сколько мне необходимо. О своих планах я ничего ему не говорил, но вечером накануне операции он явился ко мне в палату с десятком книг и журналов, коробкой конфет и огромной банкой витаминов компании «Джи-Эн-Си».
— Принимай их каждый день, — сказал он, показывая на витамины.
— Хорошо, — ответил я.
Тогда Рамон попросил Кастро выйти на минуточку, и когда мы остались одни, добавил доверительным тоном:
— Теперь тебе будет проще, вот увидишь.
И — как и во многих других случаях — Рамон оказался прав.
Операция осталась позади, но мне все еще снятся морфиновые сны. Старый кошмар тут как тут. Я вижу залитый водой мир. Нью-Йорк обезлюдел и медленно утопает в джунглях, как Мачу-Пикчу или Ангкор-Ват. Девственный лес захватывает одно здание за другим, рассыпает семена, вытягивает корни и побеги, пока весь город не превращается в сплошное переплетение лиан и бетона, ползучих растений и стекла. Фламинго кормятся на Джамайка-бей, ягуарунди охотятся на этажах «Крайслер-билдинг», вся станция подземки у 125-й сплошь поросла орхидеями, на пожарных лестницах прорастают одуванчики, возносятся к небу акажу, араукарии и раскидистые ильмы. Ист-Ривер превратилась в топкое болото, каждый тоннель — река, каждая ветка железной дороги — звериная тропа. Гудзон замерзает, и его переходят по льду олени, койоты и медведи. Между корнями копошатся змеи, мелькают ящерицы и синие языки игуан. В пруду Центрального парка завелись пираньи и аллигаторы, на Таймс-сквер гнездятся грифы, оглядывают горизонт с крыши бесплатной муниципальной школы № 125.
Да, это старый кошмар, ставшее привычным искажение реальности. Место, куда можно скрыться, уйти… Где этот привидевшийся мне город — в доисторическом прошлом или в апокалиптическом будущем? Этого я не знаю, знаю только, что думать о нем надо очень осторожно. Архангел Рафаил в «Потерянном Рае» (во всяком случае, в книге, которую я нашел в шкафу Рамона) предостерегает Адама от подобных мыслей. Думай, говорит Рафаил, только о том, что касается тебя и твоего существования. «Мечтать опасно о других мирах»…
Впрочем, эти полеты фантазии помогли мне справиться с собой. Альтернативный Нью-Йорк казался подчас куда лучшим местом, чем мои воспоминания.
Через пару дней я был уже на ногах. Я ездил в клинику, ходил «на работу» к Рамону, гулял и вообще убивал время как мог, но я не бежал от главного. Я знал свое будущее и не сомневался, что оно уже близко. Рядом. Я мечтал, я грезил наяву, но я не забывал о своей ответственности — о том, что я должен сделать.
Былая сила почти вернулась ко мне. Каждое утро я сотню раз отжимался от пола, делал сотню «уголков» и большие концы пешком. Я съедал сытный завтрак — яичница, бананы, коричневый рис и черные бобы. Во второй половине дня я отправлялся к Рамону, до вечера плевал в потолок и получал за это деньги.
Недурно.
Рамон, насколько я мог судить, тоже не волновался и не нервничал, а вот его парни немного меня побаивались. Я чувствовал это, но не знал, в чем дело. Очевидно, Рамон рассказал им обо мне что-то такое, что их тревожило. Впрочем, они и без того были людьми суеверными, подозрительными, переменчивыми и склонными к паранойе. Они не задирались и не дразнили меня. Правда, к их страху примешивалась легкая тень пренебрежения, но страха все равно было больше. В данной ситуации наилучшим выходом было держать дистанцию, что они и делали. Правда, один раз Морено попытался смутить меня пристальным взглядом, но не выдержал и первым отвел глаза. Больше подобное не повторялось. Пожалуй, лишь Кастро уделял мне внимание; остальные держались холодно, отчужденно, и мне оставалось только сожалеть об этом, поскольку в моих представлениях доминиканская культура была очень схожа с ирландской.
Кастро говорил по-английски намного лучше остальных; когда, сидя у окна, я листал какую-нибудь книгу из Рамонова шкафа, он иногда подходил ко мне и заводил разговор. Бывало, мы болтали с ним до самого вечера. Кастро был еще очень молод и имел довольно смутное представление о том, чего он хочет добиться в этой жизни. Чаще всего он заговаривал о том, что хочет завербоваться в Корпус морской пехоты. Беседовали мы и о женщинах, о фильмах и даже о политике, хотя это случалось сравнительно редко. Несмотря на молодость, Кастро был крупным и сильным парнем: весил он, должно быть, фунтов двести двадцать, а то и больше. Режим своего тезки Фиделя он ненавидел лютой ненавистью, и однажды, когда я — просто для того, чтобы немного поддразнить его, — сказал, что мне нравятся майки с портретом Че, он прочел мне длинную и страстную лекцию о том, какое зло несут коммунистические идеи последователей Фиделя и Ге-вары. Насколько я понял, это был пересказ того, что говорил отец, и при этом он многое перепутал и переврал. Не меньше, чем коммунистов, Кастро ненавидел Рики Рикардо из шоу «Я люблю Люси», но почему — этого он так и не сумел объяснить внятно. С Кубы он бежал вместе с отцом еще в 1984 году, причем сначала они отправились в Испанию и только оттуда перебрались в Штаты.
Кроме ненависти к коммунистам, еще одной излюбленной темой Кастро была тупость и ограниченность доминиканцев. Доминиканцы покупали крэк на деньги, украденные у своих детей, доминиканцы не имели собственной музыкальной культуры, доминиканцы не знали, что такое настоящая литература, доминиканцы воображали, будто могут играть в бейсбол, хотя всем давно известно, что лучшие бейсболисты в мире получаются из кубинцев. В общем, это пропащие люди, говорил он и добавлял шепотом, что даже Рамон не исключение из правил.
Иногда мы затаскивали в свою компанию третьего телохранителя Гектора и резались в упрощенный вариант покера с четырьмя открытыми и пятой «слепой» картой. Кастро превосходно играл в эту игру, и хотя ставки были пустяковыми, к концу игры ему удавалось выиграть у нас центов по семьдесят пять, а то и целый доллар, чему он очень радовался. Мне потребовался день или два, чтобы понять, что карты меченые, но я не бросал игру, играя за компанию.
В девяносто втором году в Нью-Йорке ежемесячно происходило свыше двухсот убийств, причем большая часть из них была так или иначе связана с наркотиками. Иногда мы слышали доносящиеся с улицы звуки выстрелов даже днем, когда после обеда резались в карты в пентхаусе. Мы — это я, Кастро, Гектор и Рамон (последний, впрочем, с нами не играл, а, запершись в кабинете, занимался какими-то своими таинственными делами). Но нас это не касалось: на разборки никто из телохранителей не ходил, во всяком случае — при мне. Защищать свой участок вменялось в обязанности лейтенантам. По этой причине они и один-два «смотровых» постоянно носили с собой оружие. В районе оставалось еще много независимых наркоторговцев, и время от времени то одному, то другому из них начинало казаться, будто он, как наш Господь Иисус Христос, может ходить по водам и воскресать из мертвых, вклинившись на территорию, с таким трудом отвоеванную Рамоном. Однако все попытки вытеснить людей Рамона с завоеванной территории заканчивались для претендентов плачевно. «Смотрители» или лейтенанты просто убирали зарвавшихся барыг. Я слышал о нескольких таких случаях, хотя ни разу не присутствовал при расправе. У нас, в Ирландии, желающим урвать кусок чужого пирога перебивали ноги. Здесь, в Нью-Йорке, их просто убивали.
Но нас эти дела не касались. Мы были телохранителями, и наша задача заключалась в том, чтобы охранять Рамона, а не патрулировать улицы. Так, во всяком случае, Морено сказал Кастро, а тот сказал мне, чем немало меня смутил. Лейтенанты рисковали своими жизнями, зарабатывая для босса деньги, а что делал я? Какова была моя роль?
Мне было невдомек, что Рамон незаметно наблюдает за мной, дожидаясь, когда я, по его мнению, буду готов. Даже не знаю, что подтолкнуло его к действиям. Быть может, мое столкновение с Морено, произошедшее вскоре после моего возвращения из клиники, а может быть, и нет.
Однажды Рамон, Хосе, Гектор и Кастро погрузились в желтый «мерседес» и куда-то уехали. Я остался в пентхаусе совершенно один. Решив, что это своеобразная проверка лояльности, я не стал заходить ни в кабинет, ни в спальню Рамона, доступ в которые был закрыт практически для всех. Вместо этого я скучал на балконе, разглядывая панораму Гудзона. Около шести вечера начали возвращаться с дневной выручкой лейтенанты. Конечно, уличные «толкачи» работали и ночью, но Рамон настаивал, чтобы деньги для подсчета привозились в одно и то же время. Сегодня, однако, Рамона не было, был только я. С подозрением на меня покосившись, лейтенанты достали из холодильника пиво и, рассевшись на белых кожаных креслах, стали ждать.
Так они сидели довольно долго, потягивая пиво и вполне успешно притворяясь, будто меня вовсе не существует. Потом они включили стереокомплекс и принялись рыться в Рамоновых дисках и кассетах.
Тогда я поднялся и, подойдя к ним, попросил положить все на место.
Кем, интересно, я себя вообразил, спросили лейтенанты чуть ли не хором. Морено — тот даже поднялся с кресла и принялся костерить меня на чем свет стоит. Как видно, я уже давно стоял у него как кость поперек горла. Нахлебник, дармоед, паршивый янки, в которого Рамон втюрился, что ли… Он выкрикивал эти и другие подобные вещи прямо мне в лицо (кончик его носа находился меньше чем в дюйме от моего), и я подумал: «Вот и конец, причем бесславный. Предположим, я даже сумею выхватить пистолет одновременно с Морено, но мне это все равно не поможет, потому что стоит мне сунуть руку под пиджак, и от меня, как от сыра, останутся одни дырочки, ибо другие лейтенанты с радостью воспользуются предлогом изрешетить меня из своих пушек».
Морено тем временем, продолжая всячески обзывать меня, ткнул пальцем в плечо, демонстрируя мне шрам от пули, которым его наградили за верность Рамону.
— Это все херня, — сказал я. — Хотите, парни, я покажу вам настоящую рану?
Сначала они ничего не поняли, но мои слова заставили их притихнуть. Тогда я наклонился, закатал штанину и отстегнул протез.
Они не знали… Никто из них ничего не знал.
Разумеется, они заткнулись. И Морено, и все.
Я все еще стоял на одной ноге, держа в руках протез и чувствуя себя довольно глупо, когда вернулся Рамон.
Он вошел в гостиную, по обыкновению одетый в длинное мешковатое пальто. Несколько томительных мгновений он разглядывал нас, но ничего не сказал. Хосе и оба других телохранителя тоже молчали. Наконец Рамон обернулся к Хосе и что-то тихонько пробормотал ему, а Хосе что-то сказал лейтенантам по-испански. После этого все парни дружно отправились в лабораторию, а Рамон опустился на диван и знаком велел мне сесть рядом.
Постаравшись усилием воли вернуть себе спокойствие и четкость мышления, я принялся пристегивать ногу обратно. Дождавшись, пока я закончу, Рамон сказал негромко:
— Скучаешь?
Я покачал головой.
— Как тебе кажется, ты в форме?
Я кивнул.
Тогда он перешел прямо к делу, из предосторожности понизив голос до шепота:
— Вот что, Майкл, кое-кто начинает раскачивать лодку, и мне это не нравится. Они очень осторожны и каждый раз собираются в разных местах, но нам удалось узнать, что сегодня они будут в баре, который ты хорошо знаешь.
Мне не надо было объяснять, кто такие «они» и зачем они собираются. Мое время пришло.
— О'кей, — сказал я.
Рамон сам отвез меня. По дороге мы не разговаривали. Он курил сигару и слушал какую-то идиотскую доминиканскую музыку, доносившуюся из его автомобильной сидиолы. Высадив меня в десяти кварталах от «Четырех провинций», Рамон поинтересовался, не нужно ли мне что-нибудь. Я ответил, что все в порядке, и не торопясь двинулся к тому месту, где в прошлый раз караулил Бриджит, — к узкому проулку между двумя соседними домами, откуда неплохо просматривалась входная дверь.
Я ждал три часа, пока время не перевалило за полночь. «Ну давай же, Темный, давай!» — шептал я снова и снова, но Темный не появлялся.
В бар заходило и выходило довольно много людей, но никого из них я не знал. Правда, Рамон предупредил меня, что место встреч постоянно менялось, но я не понимал, как это может повлиять на постоянных посетителей «Четырех провинций». И все же мое терпение было вознаграждено: незадолго до закрытия я заметил пару знакомых, которые в мое время часто бывали в баре, а вскоре после этого в боковой двери возникла миссис Каллагэн с мусорной корзиной, но это было все. Я уже начал думать, что Рамоновы осведомители что-то напутали, когда в поле моего зрения появился долбаный вишист-коллаборационист-аболиционист Боб собственной персоной.
Я узнал его громоздкую тень еще до того, как он потихоньку выскользнул из боковой двери и зашагал прочь, слегка покачиваясь и что-то напевая. От нескольких часов неподвижного сидения у меня затекло все тело, но я все-таки поднялся и двинулся следом. Большой Боб шел по переулку рядом с «Четырьмя провинциями», направляясь к пустырю, который посетители бара часто использовали в качестве автомобильной стоянки.
Держа его в поле зрения, я перебежал пустырь и вытащил кольт. К счастью, Боб не замечал меня, хотя я так грохотал на бегу, что мог бы разбудить и мертвого. На углу Боб замедлил шаг, но когда я, прихрамывая от волнения больше обычного, добрался до переулка, он уже садился в красную «хонду-аккорд», собираясь отъехать. Я поднял пистолет и прицелился, но Боб был слишком далеко. В темноте, да еще с оружием, с которым я почти не был знаком, вряд ли можно было рассчитывать на точный выстрел, поэтому я поспешил на ближайшую улицу и махнул рукой первой же попавшейся машине. Это оказался кремовый «кадиллак», который притормозил у перекрестка, вероятно собираясь свернуть на ту же площадку у «Четырех провинций». Водитель либо вовсе меня не заметил, либо не обратил на меня внимания, поэтому я наддал и, подбежав как можно ближе, направил кольт на лобовое стекло.
— Эй, ты, мудак! — крикнул я.
За рулем «кадиллака» сидел лысый мужчина лет сорока, одетый в темный, как у адвоката, костюм. Как раз в этот момент он проделывал какие-то манипуляции с ремнем безопасности, одновременно пытаясь завершить поворот. Меня он снова не увидел и не услышал; «кадиллак» продолжал движение и едва не зацепил меня крылом.
Я стукнул рукояткой пистолета по стеклу водительской дверцы и тотчас снова направил кольт на толстяка.
— Вылезай из машины, не то я убью тебя, к чертовой матери! — сказал я с чистейшим белфастским акцентом.
Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь его внимание. Побледнев как смерть, мужчина резко затормозил и взглянул на меня. По-моему, он в буквальном смысле обделался с перепугу.
Я рывком распахнул дверцу.
— Вылезай, ублюдок! — гаркнул я.
От страха мужчина едва не плакал.
— Ремень заело, заело, отстегнуть не могу… — в панике забормотал он.
Я наклонился и нажал кнопку на ремне.
— Вылезай! — прорычал я, но водитель по-прежнему не двигался, поэтому мне пришлось ухватить его за лацканы и сильно дернуть.
Он вывалился из машины и распластался на асфальте.
Я приставил пистолет к его башке:
— Заявишь в полицию не раньше утра, понял, придурок? Иначе пришью тебя, твою жену и твою долбаную собаку! — сказал я и, не дожидаясь ответа, прыгнул за руль. Стекло пассажирской дверцы заслоняла громадная упаковка «Хаггис». Я вытолкнул ее наружу, врубил передачу и рванул с места. Красной «хонды», разумеется, уже нигде не было. О боже!
Я ехал по улице. Несмотря на поздний час, движение было оживленное, даже слишком. Машины Боба по-прежнему нигде не было видно, и я свернул в сторону Бродвея. На перекрестке я притормозил, теперь куда — налево или направо? Я решил ехать налево. Торопливо прибавив газу, я поехал быстро как только можно и вскоре заметил Боба на перекрестке у парка Ван-Кортленд. В кои-то веки повезло!
Сбросив скорость, я двинул вперед уже с большей осторожностью, но не слишком медленно, чтобы не привлечь к себе внимания. Большой Боб ехал на восток, но куда именно, я понятия не имел. Добравшись до побережья, Боб мог либо повернуть на юг, либо направиться через мост на Лонг-Айленд, либо вообще развернуться и отправляться назад в Манхэттен. Напрягая память, я пытался вспомнить, не говорил ли кто-нибудь при мне о том, где живет Боб. Увы, похоже, речь об этом вообще никогда не заходила.
Между тем Боб попытался проскочить светофор, готовый переключиться с желтого на красный, но в последний момент передумал и затормозил так резко, что мотор «хонды» заглох. Должно быть, он немного растерялся, так как дважды попытался запустить двигатель и оба раза неудачно. Кто-то засигналил ему сзади, и я увидел, что Боб расстегивает ремень безопасности, словно собираясь выйти и поговорить с нахалом по душам.
Я поймал себя на том, что как молитву шепчу слова:
— Оставайся в машине, Боб, не выходи. Оставайся в машине, дерьмоед проклятый, не то тебя арестуют!
К счастью, Большой Боб передумал и, оставив ремень безопасности в покое, с грехом пополам тронулся с места. Раз-другой он сворачивал на боковые улицы, но потом возвращался назад, и я спросил себя, уж не заподозрил ли он, что его кто-то преследует. Впрочем — нет, Боб никогда не был настолько хитер или осторожен. Скорее всего, он путался по пьяной лавочке.
В конце концов Боб свернул на шоссе, пролегавшее через Южный Бронкс, но в итоге мы оказались где-то в Квинсе. Здесь он притормозил у газетного ларька и купил пачку сигарет, банку кока-колы и номер «Пентхаус». Ларек располагался в довольно пустынном районе, и я уже готов был действовать, но, поразмыслив, понял, что для моего дела это место вряд ли подходит. Кроме того, перед тем, как начать сводить счеты, я собирался серьезно поговорить с этим амбалом. Словом, я не стал его трогать и дал спокойно сесть за руль. Боб двинулся дальше. По дороге он выпил коку и слегка протрезвел — во всяком случае, его манера езды заметно улучшилась.
Когда мы проехали мимо аэропорта «Ла Гуардиа» и стадиона «Ши», у меня появилась уверенность, что Большой Боб живет где-то на северном побережье Лонг-Айленда. Было уже совсем поздно, дороги опустели, и мне приходилось держаться от Боба на порядочном расстоянии, чтобы он не увидел в зеркальце мой громоздкий кремовый «кадиллак». Шоссе, по которому мы ехали, было ярко освещено, но машины мчались слишком быстро, и с непривычки я начал уставать, так как после возвращения из Мексики еще ни разу не садился за руль. К счастью, у «кэдди» была автоматическая коробка передач, и мне не приходилось нажимать на сцепление своим протезом, ремешки которого и так ослабли, когда я бежал через пустырь. Хорошо еще, что протез вообще не отстегнулся, потому что не хотелось бы изображать из себя Долговязого Джона Сильвера. Впрочем, мысленно я сделал заметку на память посетить доктора Хэверкемпа и спросить насчет уроков бега, о которых он упоминал.
Нью-Йоркский марафон и все такое…
Н-да.
В моей крови уже давно бушевал адреналин. Такое часто случается, когда просидишь в засаде несколько часов и вдруг увидишь цель. Кроме того, я слишком давно мечтал о встрече с Бобом и о таком вечере, как сегодня…
Между тем мы все больше углублялись на территорию острова. Серое асфальтовое полотно шоссе сменилось дорогой с желтоватым, цвета глины, покрытием, а четыре полосы превратились в две. Я опустил оконное стекло, и прохладный ночной ветер холодил мою разгоряченную кожу.
Осветительные мачты, грузовики, заправочные станции, городское зарево позади… Сквозь пелену смога видны звезды над головой. Сегодня они расположились особым образом, и мой путь направляют Сатурн, Венера и хитросплетение случайностей. Они ведут меня вперед, навстречу неизбежному. Наверное, это звезды решили, что сегодняшняя ночь должна стать ночью Боба, а не Темного. Последней ночью… И меня вдруг охватило уныние. Я почти не хотел, чтобы свершилось то, о чем я мечтал так долго. Ах, если бы только Боб мог ехать не останавливаясь, все дальше и дальше — через Нассау и Саффолк, до самого дальнего побережья Лонг-Айленда, где все еще сохранились картофельные поля и где стоял особняк Великого Гэтсби. Ах, если бы только нам перелететь через океан… да-да, через весь Атлантический океан. Тогда, как Элкок и Браун,[60] мы приземлились бы где-нибудь под Клифденом. Там, в Голуэе, я знаю один замечательный паб; мы бы завалились туда, заказали большой кувшин настоящего ирландского пива, и я сказал бы Бобу: «Если ты думаешь, что в «Четырех провинциях» подают приличный «Гиннесс», то ты ошибаешься. А ведь полтора доллара за пинту дерут».
Посидим и отчалим. Налюбовавшись на тюленей и сорванные ветром лепестки роз, мы полетим через Большое Болото навстречу загадкам и тайнам долины Война и побываем в Ньюгрейндже на празднике зимнего солнцестояния, когда язычники просят солнце поскорей возвращаться из далеких краев. Потом мы спустимся к реке, старина Боб, к той самой реке, из которой пили короли Яков и Вильгельм, или поднимемся на вершину холма под названием Тара и станем глядеть на раскинувшиеся внизу поля. Оттуда мы полетим дальше, еще через одно болото, и попадем… даже не знаю, куда мы попадем. Может быть, в Камбрию или к озерам и долинам Йоркшира. Мы пролетим над морем, над нефтяными вышками с их горящими прожекторами, пролетим через Прибалтику и через русский Север и встретим где-нибудь рассвет на бескрайних просторах Восточной Сибири.
Боб, пожалуйста, поверь мне: настоящая боль — это не страдания тела, нет! Быть может, ты так думаешь, но это не так. Поверь тому, кто знает. Эта боль не имеет никакого отношения ни к мукам плоти, ни к мукам разума. Настоящая боль — это боль души.
Ты поймешь… Скоро.
Грузовики, машины…
Переполненные муравейники городов и поселков, луна, брызги горящих во мраке окон. Заправочная колонка. Американские девчонки в белых блузках и голубых джинсах. Заливай свой бак, Боб, и дальше, дальше… Только ради всего святого — не останавливайся! Только не останавливайся, если хоть немного дорожишь жизнью.
Я вижу его черную рубашку, его маленькие глазки, его руки, похожие на клешни скорпиона.
Amigo, despierta![61] Я здесь. Близко.
Я иду.
Его жирная лапа ложится на рукоятку торгового автомата. Он опускает в прорезь ровно десять долларов и чертыхается, когда на табло высвечивается сумма: десть долларов и один цент. Побереги себя, Боб, тебе нужно следить за своим давлением. Ты должен учиться расслабляться, овладевать соответствующими техниками… Йога, тай-ши, медитация… Попробуй в течение часа читать «ом мани падме хум». «О, жемчужина в лотосе!» Может быть, хоть это тебе поможет. Посмотри на себя: ты так напряжен, взвинчен…
Боб поворачивается и глазеет на девушек. Говорит что-то. Одна из девушек смеется, но над ним или с ним? Кто знает… Боб выворачивает шею, растирает ее. Да, это стресс. А может, просто совесть, а? Может, в кои-то веки ты услышал, что говорит тебе Джимини?[62] Впрочем, что это я? Тебе пора. Спеши, Боб. Расплатись, и в путь. Забирай свои сладкие батончики и катись… Сигареты ты уже купил. Плати и уезжай. Садись в машину… Побыстрее. Ну же!
Amigo, despierta! Я близко.
Я иду…
Он вышел из магазинчика, качая головой и что-то бормоча. Сел за руль, повернул ключ зажигания, но мотор снова заглох. Он попытался заговорить с женщиной в черной «королле», но она не обратила на него внимания. Наконец Боб тронулся с места, и я потихоньку выехал из-под прикрытия автомойки.
Еще через четверть часа пути я увидел, что Боб включил сигнал поворота. Сначала он, потом я свернули с дороги, но куда? Место неизвестное, но, несомненно, обитаемое. Поселок или городок — улицы, большие, солидные дома. Где-то на побережье, но я понятия не имел, где именно. Куда завлек меня Боб? На шоссе, когда мы ехали, я заметил щит-указатель: какое-то место, связанное с именем Теодора Рузвельта, но это было раньше по шоссе. А здешний городок не пойми что, но тихий, аккуратный, красивый. Мне он понравился.
Боб тем временем миновал лавочки и магазины центральной площади и катил по обсаженной деревьями улице. К счастью, на деревьях совсем не осталось листвы, и я его отлично видел. Вот он остановился и запарковал машину у тротуара, вышел и двинулся по дорожке к дому — белому одноэтажному бунгало с небольшим палисадником, огороженным железным заборчиком. На крыльце бунгало лежала сморщенная тыква с вырезанной на ней мордой. Тыква? Значит, Хэллоуин уже был? Но когда?! Я не помнил. Каким-то образом я оказался вне времени. Может быть, и выборы уже закончились? И если да, то кто стал президентом? Я попытался восстановить в памяти хоть что-то, но недели сливались в одну, и каждый день был похож на вчерашний.
Я осторожно припарковал «кадиллак». Я вообще не очень хороший водитель, но парковка — мое самое слабое место, а мне не хотелось задеть чью-нибудь машину, чтобы все эти чертовы соседи высыпали на улицу гурьбой и начали интересоваться моими водительскими правами. Каким-то образом мне все же удалось втиснуть «кэдди» между двумя автомобилями. После этого я выбрался из салона и пересек улицу.
У дерева, росшего перед калиткой Боба, я остановился и огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что никто из страдающих бессонницей не вышел подышать свежим воздухом или погулять с собакой. Но на улице никого не было.
Потом я посмотрел на дом.
Занавески были открыты, и я видел, как Боб вошел в гостиную и включил телевизор. Вот он снова куда-то вышел — вероятно, в кухню, чтобы достать из холодильника упаковку пива. Вернувшись в комнату, Боб сел в кресло, откупорил банку и начал переключать каналы. Неужели не отправится в душ? Нет. Судя по всему, Боб хотел немного прийти в себя после того, как проехал полгорода в нетрезвом состоянии. Сейчас выпьет банку-другую, передохнет и только после этого займется обычными делами: примет душ, достанет свой журнальчик с девочками и ляжет с сознанием честно исполненного долга. Еще бы! Ведь он крепко выпил, но все-таки сумел добраться до дома и не попасть в аварию. Впрочем, я был уверен, что Боб проделывает подобное не в первый раз и для него это не представляет серьезной проблемы.
Я увидел, как Боб допил банку и швырнул ее через голову в мусорную корзину, но не попал. Что-то я слишком замешкался… Я еще раз оглядел улицу и снова никого не увидел. Да, Боб, сегодня ты будешь единственной жертвой. Прости, старина. Выпей еще пива, приведи голову в порядок: трудно небось ворочать делами, имея в качестве помощников лишь нескольких новичков, у которых еще молоко на губах не обсохло. Ах ты бедняга! Особенно если учесть, что Рамон и его люди не дремлют. Бедняга Темный, бедняга Лучик, бедный старина Боб…
Я открыл калитку и прошел по дорожке. Небольшой палисадник перед домом выглядел неухоженным, запущенным, заросшим. В саду валялся мусор. Несколько мгновений я разглядывал тыкву, которая была вырезана умело и со знанием дела. Похоже, не Бобова работа, если, конечно, у него нет скрытых художественных способностей, о которых я ничего не знал.
Потом я открыл сетчатую дверь и немного постоял на крошечном крыльце. На полу валялись несколько писем, счет, предвыборный буклет и большой желтый конверт из налогового управления. Подобрав всю эту макулатуру, я бегло ее просмотрел и снова бросил на пол. Взявшись за ручку входной двери, я начал осторожно ее поворачивать, но она оказалась заперта. Черт! Оказывается, Боб был не настолько пьян, чтобы забыть запереть входную дверь. Что ж, очко в твою пользу, приятель. Хоть на это ты еще способен.
Я спустился с крыльца и пошел в обход дома. Вскоре я оказался на заднем дворе. Здесь было еще больше мусора, валялись старые покрышки, стояла бочка с цементом, облепленная засохшим раствором. Я попробовал отворить заднюю дверь, но и она была заперта, зато в кухонном окне я увидел приоткрытую форточку. Прижавшись лицом к стеклу, я заглянул внутрь, но все было спокойно. Тогда я привстал на цыпочки, просунул в форточку руку, повернул ручку большой створки и отворил окно. Дверь в кухню была закрыта, но в щели под ней виднелись голубоватые отсветы работающего в гостиной телевизора.
Я влез на подоконник, оперся на раковину и уже собирался спуститься на пол, когда услышал, что Боб встает. Вытащив кольт, я приготовился встретить его здесь, но он только задернул занавески в гостиной и снова сел. Передернув затвор, я загнал патрон в патронник, открыл кухонную дверь и двинулся в гостиную. Там горел свет, и я несколько секунд помедлил на пороге, чтобы дать глазам привыкнуть. Боб сидел ко мне спиной и смотрел по телевизору местную программу новостей.
— Эй, Боб! — негромко окликнул я его.
Он выронил жестянку с пивом и начал подниматься…
— Руки за голову, Боб, это я, Банко![63] — сказал я.
Он поднял руки, но соль моей шутки явно до него не дошла.
— Что за… — проговорил Боб. Когда он обернулся, чтобы взглянуть на меня, его лицо было совершенно белым от ужаса, а руки непроизвольно опустились в умоляющем жесте.
— Руки на затылок, Боб, иначе я тебя убью.
Он снова поднял руки, и я жестом велел ему сесть в кресло, предварительно развернув его так, чтобы Боб сидел ко мне лицом. Сам я опустился на плетеный стул напротив. Дрожащие губы Боба растянулись в жалкой улыбке, и мне стало муторно, хотя я и помнил, кто передо мной.
— Господи, Майкл, я чертовски рад тебя видеть! Значит, Лучик в конце концов вытащил вас, как и обещал?! А зачем тебе пистолет, Майкл? Неужели ты думаешь — это я вас подставил? Нет, Майкл, это не я. Спроси Темного, спроси кого хочешь… О господи! Ведь ты же знаешь меня, Майкл!
Это его бессвязное бормотание подтвердило все мои подозрения. Ну и дурак же ты, братец!
Я кивнул.
— Послушай, Боб, скажи мне одну вещь… Мне важно знать, когда Лучик рассказал тебе об этом плане? — спросил я негромко и спокойно.
— О каком плане?
— Просто скажи, Боб: это было задумано давно, за несколько недель, или все решилось в последние дни перед нашим отъездом?
— Нет-нет, Майкл, ты неправильно понял! Я вас не подставлял. Это была самая обычная сделка, но что-то сорвалось, что-то пошло не так. Да ты и сам знаешь… Просто чертовы легавые что-то пронюхали, — выпалил Боб, обливаясь потом.
— Ты прав, Боб, я все знаю. Или почти все… Вот что, возьми-ка себе пивка и мне тоже брось баночку. Нет, не бросай, а кати… — сказал я, и мы оба засмеялись. Боб катнул в мою сторону жестянку с пивом и открыл одну для себя. Свое пиво я открывал левой рукой; в правой я держал пистолет, который по-прежнему смотрел Бобу в грудь. В банке оказался «Будвайзер». Я никогда его не любил, но он был таким холодным, что вкуса почти не чувствовалось.
Боб немного успокоился и даже откинулся на спинку кресла, но его лицо по-прежнему блестело от пота. В Бобе было чуть больше шести футов, а весил он, наверное, фунтов двести пятьдесят. Мне приходилось видеть людей и потолще, которые, попав в сходную ситуацию, держались вполне прилично, и на мгновение мне стало почти жаль старого знакомого.
— О'кей, Боб, мы промочили горло, а теперь выслушай меня… Только, пожалуйста, не надо вешать мне лапшу и говорить, будто Лучик не приказывал тебе заманить нас в ловушку. Глупо злить человека, который держит тебя на мушке, ты не находишь?
— Да, но…
— О'кей, я задам тебе всего несколько вопросов. Когда Лучик сказал тебе, что собирается послать нас в Мексику?
— Гхм, он… Он не…
— Хватит, Боб. Иначе я пришью тебя прямо сейчас.
— Да для меня самого это была такая же неожиданность, как и для вас. Может, и раньше что замышлялось, но я узнал это лишь за неделю.
Я кивнул. Итак, за неделю… Значит, мое свидание с Бриджит стало последней соломинкой — или недостающим звеном в цепи доказательств. Интересно, почему Темный не приказал просто пристрелить меня и сбросить в реку? Я этого не понимал и потому позволил себе ненадолго погрузиться в задумчивость. Правда, для Боба эти несколько секунд были, наверное, самой настоящей пыткой, но он был здоровенный бугай и вполне мог потерпеть. Ничего путного я, впрочем, так и не придумал. Единственный ответ, который пришел мне на ум, это что Темный избрал столь сложный путь только из-за Бриджит. Я хочу сказать, что Бриджит была умной девушкой; быть может, по виду и не скажешь, но на самом деле это было так. Если бы я просто исчез, она бы мигом смекнула, кто меня убил и за что, а это — как правильно предположил Темный — могло серьезно подпортить их романтические отношения. Другое дело, если вся, именно вся наша команда сгинет, сгниет в чертовой Мексике! Все будет похоже на несчастный случай, и Бриджит решит: «Эге, Темный не стал бы жертвовать всей командой только для того, чтобы убрать Майкла. Нет, он умный, он так не сделает. Думать так — это бред какой-то».
Я улыбнулся, но улыбка моя была печальной. Я был уверен, что угадал правильно. Несомненно, этот план придумал Лучик. Он все рассчитал. Он знал, что когда вся команда исчезнет, Бриджит, конечно, огорчится и будет тосковать по мне, но со временем она успокоится и все пойдет как надо. А подозрения и дурные предчувствия заставят ее впредь быть поаккуратнее с Темным и больше щадить его чувства.
Да, так оно и было. Я все понял, понял теперь уже до конца.
События развивались лавинообразно и по нарастающей, как во время самой настоящей катастрофы. Сначала кто-то — предположительно Лопата — делает из Энди отбивную. Скотчи не сомневается, что это именно Лопата, и мы всей командой устраиваем бедняге «шесть банок по-ирландски». Я настолько потрясен расправой (и своим успешным в ней участием), что прошу Бриджит о свидании. Она приходит ко мне, не удосуживаясь проверить, нет ли за ней хвоста, а между тем за ней по пятам следует мой новый знакомый Борис Карлофф. Он докладывает, что подозрения подтвердились, и Лучик начинает разрабатывать и осуществлять свой план. К несчастью для его вонючей совести, пока он просто проворачивает это дело, я спасаю его задницу во время перестрелки с Дермотом, но даже это не в силах поколебать Темного. Он по-настоящему крут, наш Темный. Если он что-то решил — то так и будет!
Что ж, план был превосходен, события следовали одно за другим точно по сценарию, так что мне не оставалось ничего другого, кроме как выйти на сцену в последнем акте и сыграть свою роль до конца.
— Сколько вы им заплатили? — спросил я. — Сколько вы заплатили мексиканцам, чтобы они помогли избавиться от нас?
— Послушай, Майкл, ты все не так понял! Я…
— Сколько, Боб? — перебил я.
Он снова вытер покрытый испариной лоб и посмотрел на меня:
— В пакете было сто тысяч долларов. Я должен был взять двадцать тысяч и… — начал он, но я не дал ему договорить.
— Неужто я стою так дорого? Господи, да я должен быть польщен!
В гостиной у Боба было тепло, почти жарко. На подоконниках росли в горшках папоротники. Мне всегда нравились папоротники. Листья на их длинных, похожих на перья ветках располагаются в строгом порядке в соответствии с последовательностью Фибоначчи.[64] Привстав, я вытянул из-под себя лежавшую на сиденье стула подушку и свернул ее так туго, как только можно было свернуть ее одной рукой. Боб пристально следил за моими действиями; он даже слегка подался вперед, но на лице его был написан не страх, а скорее любопытство, словно я пытался сложить из подушки оригами или что-нибудь в этом роде. Возможно, он даже думал, что дела пошли на лад.
— Ну а как объяснил Лучик наше исчезновение? — спросил я.
Боб отпил глоток пива.
— Он ничего не говорил. Просто велел забыть о вашем существовании, и все, — ответил он.
— Господи, неужели тебе не было интересно? Ну просто ни капельки, Боб?
— Ты ведь сам должен понимать, Майкл: есть вещи, которых лучше совсем не знать.
— Да, я понимаю, — кивнул я.
Потом я приставил ствол пистолета к свернутой подушке, и Боб поглядел на меня с куда большим беспокойством.
— Слышь, Майкл, ты же не хо…
Я выстрелил ему в грудь. Потом поднялся, подошел поближе и выстрелил еще раз — в голову. Первый выстрел был смертельным, но я не хотел рисковать. Даже с подушкой грохот вышел ужасный, но я надеялся — соседи решат, что это пальнул неисправный глушитель или разорвалась петарда. Кстати, празднуют ли американцы Ночь Гая Фокса[65] или нет? Я не помнил.
Гордо, в открытую я вышел из дома и небрежной походкой вернулся к «кадиллаку». На улице по-прежнему было безлюдно, и, насколько я мог судить, ни одна живая душа не следила за мной из-за тюлевых занавесок. Уже выезжая из поселка, я заметил, что стрелка датчика бензина стоит почти на нуле. Свернув к заправке, я залил бензина на пять долларов и снова двинулся к шоссе.
Я трижды сбивался с пути, пытаясь проехать на Манхэттен. Только в начале пятого утра я оказался наконец у своего дома на 181-й улице, но останавливаться не стал. Проехав еще несколько кварталов, я бросил «кадиллак» в таком месте, где, как я твердо знал, им непременно кто-нибудь заинтересуется, потом спустился к набережной и швырнул пистолет в Гудзон.
Завтра я попрошу Рамона достать мне новый «ствол».
11. В Вудсайд на поезде № 7
Смысл, во всяком случае, был такой, хотя сказано, конечно, было другими словами.
У Скотчи, однако, уже был готов ответ. Тогда скажи-ка, умник хренов, проговорил он, какие есть еще хреновы варианты?
Я задумался, но так ничего и не придумал. Никакой альтернативы или, как выразился Скотчи, «хренова варианта». Ответа я не нашел до сих пор. Ни он, ни я не имели сколько-нибудь значительного опыта общения с той или иной религиозной конфессией, и мы оба были смущены и растеряны. Разговор растревожил что-то внутри нас, и Скотчи, к нашему взаимному облегчению, поспешил сменить тему, заговорив о девочках и шоколаде.
Сейчас я глядел на набережную и вспоминал о нем. К Бобу я не испытывал ни ненависти, ни сожаления — ничего. Как-то раз Скотчи потребовал, чтобы мы с Фергалом принесли клятву верности, и потом, повиснув на «колючке» тюремной ограды, заставил меня повторить свое обещание. Нет, не словами… Слова ему были не нужны. И я пообещал — тоже без слов, — и это обещание, связавшее меня и Скотчи, оказалось теперь сильнее, выше любых нравственных норм. Нет, не то чтобы моральные проблемы вообще не стоили того, чтобы над ними задумываться, — дело в общем-то было не в этом. Дело было в том, что наш со Скотчи спор с самого начала имел не отвлеченное, а вполне конкретное содержание.
И вот теперь Боб был мертв; осталось еще двое, и горе тому, кто попытается помешать справедливому мщению.
На следующий день я остался дома, заказав из «Каридад» на 180-й улице яичницу с бананами, рис и тушеные бобы. День выдался туманный и пасмурный, а потом начался дождь; он заслонил своим колышущимся покрывалом угрюмый Гудзон и серые очертания нью-джерсийского побережья, оставив на виду лишь ближние опоры подвесного моста, и пейзаж сразу стал как-то уютнее. Глядя на туман, в котором тонул призрак моста, легко было представить себя где угодно. Вашингтон-Хайтс с его серо-голубыми красками на глазах истаивал, превращаясь в замшелые скалы. Огни караванов спускались к реке. Позвякивая колокольцами, брели в темноте стада буйволов. На дальнем берегу угадывалось присутствие невидимой крепости. Паломники собирались на отмелях, чтобы поклониться исчезнувшему солнцу и омыться от грехов: садху[66] неспешно погружались в илистые волны, а дети, зайдя в воду по пояс, плавали и плескали друг на друга водой и осколками разбитой луны. Еще дальше горели на берегах погребальные костры из сандала, и плотный дым, который, застилая небо, поднимался над их четкими, словно нарисованными тушью на золотом фоне решетчатыми остовами, казался физическим доказательством истинности учения о переселении душ. От костров на берегу Гудзона доносился аромат благовоний и табака.
На третий день меня навестил Кастро. Он приехал рано утром с термосом кофе и пакетом доминиканского печенья. Привез он и настоящую еду: в кастрюльке, прикрытой фольгой, лежало приготовленное его теткой рагу — сосиски и рубленое мясо с картофелем, морковью, луком и смесью сладкого и острого перца. Мы подогрели рагу на плите и съели с тортильями, а потом выпили кофе с печеньем.
Я спросил Кастро, как он поживает, и он ответил, что все, в общем, нормально, если не считать некоторого разочарования, которое он испытывал в последнее время. Жизнь обыкновенного «быка», стоящего на нижней ступени в иерархии бандитской наркогруппировки, была ему не по душе. Она казалась Кастро и скучной, и одновременно чересчур нервной. Доминиканцы, сказал он, просто сумасшедшие, и еще раз пророчески заметил, что, несмотря на весь ум и изворотливость Рамона, дни его на этой земле сочтены и исчисляются месяцами, а может, годами, которых никак не больше десяти, причем Кастро боялся, что босс потянет за собою и его.
— Что ж ты, такой молодой, а уже так мрачно смотришь на вещи, — шутливо пожурил я Кастро, но тот ответил, что на самом деле он ненамного моложе меня. Мы сравнили даты нашего рождения, и оказалось, что он прав. Я, конечно, сразу сказал, что я гораздо опытнее, потому что мне в жизни довелось пересечь Атлантику и экватор, посидеть в тюрьме и побывать на военной службе. Мои последние слова неожиданно привели Кастро в хорошее настроение, и он признался, что буквально вчера ездил на Таймс-сквер, чтобы поподробнее узнать об условиях приема на службу в Корпус морской пехоты. Кастро был тяжеловат и вряд ли мог сдать экзамены по физической подготовке, но я подумал, что его, наверное, подтянут. Поэтому я сказал, что это превосходная идея и что, на мой взгляд, морская пехота США почти не уступает британской Королевской морской пехоте и находится всего лишь одной-двумя ступенями ниже наших парашютно-десантных подразделений, Специального военно-воздушного полка, пяти-шести полков шотландских горцев, полка «Черная стража», ирландских рейнджеров, гуркхских стрелков и нескольких лучших гвардейских бригад. Кастро, впрочем, не понял, что я смеюсь, а я не стал развивать эту тему дальше.
Кроме еды, Кастро захватил с собой шахматы. Играть его учил отец, и сейчас он спросил, не хочу ли я сгонять с ним партию-другую. Я прекрасно понимал, что и шахматы, и вообще вся идея этого визита принадлежала Рамону, но мне было все равно. Мы стали играть на мелочь, и я выиграл у Кастро десять раз подряд; даже когда я начинал без ферзя и разрешал ему брать назад каждый ход, мне не составило труда справиться с ним.
Ближе к вечеру Кастро ушел, пообещал зайти завтра и привезти жареную курицу. Уже стоя в дверях, он вдруг спросил, не возражаю ли я, если Рамон тоже заглянет ко мне чуть попозже.
Главное в армии — это терпение. В армейской жизни встречается слишком много дерьма, поэтому, чтобы стать хорошим солдатом, нужно быть по-настоящему терпеливым парнем. Кастро просидел со мной чуть ли не весь день, но только сейчас упомянул об истинной цели своего прихода, и я не мог им не восхищаться.
— Знаешь что, Кастро, — сказал я, — мне кажется, ты будешь прекрасным морским пехотинцем.
— Спасибо, приятель, — ответил он, и мы смущенно посмотрели друг на друга. Кастро даже покраснел.
— Так ты не против, если Рамон заедет к тебе вечерком? Ему не хочется причинять тебе неудобство, и он не знает, как ты себя чувствуешь после… после того, как тебе пришлось убить своего друга.
— Откуда он знает, что я убил Боба? — насторожился я.
— Рамон многое знает, Майкл. Один человек видел, как ты выбросил пистолет. Ну а в каких случаях лучше избавиться от ствола, известно, наверное, и малым детям. Кроме того, Рамон прочитал нам заметку в «Ньюсдей». А еще он сказал, что… в общем, не важно.
— Что же он сказал? — спросил я.
— Прямо не знаю, можно ли мне…
— Рамон не велел тебе говорить?
— Нет, он ничего такого не сказал, но я все равно не знаю, должен ли я рассказывать…
— Скажи, что он сказал! — не отступал я. Кастро явно было не по себе от того, что он проболтался. Стоя в дверях, он переминался с ноги на ногу; чувствовалось, что ему очень хочется уйти.
Взяв Кастро за рукав, я втащил его обратно в квартиру. Не грубо, но все-таки…
— Присядь-ка на минутку, — сказал я.
Он послушно сел. Больше он не сопротивлялся, успокаивая свою совесть тем, что попытка сопротивления с его стороны была.
— Ну? — спросил я.
— В общем, Рамон сказал, что он в тебе не ошибся и что ты — именно такой человек, который был ему нужен. Еще он добавил, что теперь ты займешься Бланко[67] и остальными. Мы, мол, сами увидим… Рамон сказал — ты уберешь их всех одного за другим и к Новому году весь Бродвей от Северного Гарлема до Инвуда будет нашим. Бланко будет крышка. Конечно, он сказал это другими словами, но в целом смысл был такой. Даже не знаю, Майкл, быть может, мне все-таки не следовало тебе это говорить, но… Скажи, ты и правда убил того парня?
Я кивнул.
Кастро тоже кивнул.
— И он действительно был твоим другом?
— Да. Когда-то…
— О'кей, приятель, пожалуй, я лучше пойду. Курицу принесу завтра, если ты не против.
Я снова кивнул, и Кастро ушел, а я вернулся на свой футоновый матрасик и стал ждать. Не прошло и получаса, как в дверь постучали.
Я открыл.
Это был Рамон. Он был в кроссовках «Эйр Джорданс», черных хлопчатобумажных брюках и голубой рубашке-поло, которая была мала ему как минимум на один размер. Поверх рубашки он надел черную куртку. На шее Рамона болталась толстая золотая цепь. Он протянул мне руку, я пожал ее, и мы вместе отправились на кухню. На улице совсем стемнело, и над Нью-Джерси и мостом Вашингтона зажглись многочисленные огни. Туман рассеялся, и я почувствовал сожаление.
Рамон привез бутылку «Бушмиллза».
— Ирландское виски, — сказал он.
— Спасибо за внимание, Рамон, но я, честно говоря, не большой любитель виски, — с улыбкой сказал я, изо всех сил стараясь его не обидеть. По правде говоря, я немного покривил душой: не любил я только ирландское виски, в тех же случаях, когда я все-таки его пил, я предпочитал темное, как торф, виски с Айлея или Джуры, которое чуть заметно отдавало запахом торфа.
Рамон пожал плечами и достал из кармана кубинскую сигару. Он собственноручно обрезал кончик, закурил сигару и протянул мне. Я затянулся — и едва не слетел с кухонного табурета, до того она оказалась крепкой.
— Черт побери, Рамон, это что — сигара с «травкой»? — спросил я, прокашлявшись.
— Нет, это просто хорошая сигара, — ответил он и добавил: — Я хочу, чтобы ты меня понял, Майкл, мы ничего не празднуем и я пришел не для того, чтобы поздравить тебя с успехом. Не скрою: я рад, что ты сделал то, что сделал, но я понимаю — это твои дела, которые не имеют ко мне никакого отношения.
— Да, пожалуй, — согласился я.
— Но с другой стороны, и цели наши совпадают, и, следовательно, ты невольно помогаешь мне. Поэтому не сердись, если я тоже захочу тебе помочь.
— Я вовсе не сержусь, Рамон.
Он кивнул и едва заметно улыбнулся.
— Ладно, плесни мне немного, — сказал я. — Только без льда.
Рамон налил нам по полному стакану, и мы перешли в гостиную, где могли смотреть в окно и разговаривать.
— Мне не нравится другое, — продолжил я. — То, что ты разговариваешь обо мне со своими парнями, обсуждаешь мои дела. Они — не ты, и я им не доверяю. Кастро и Хосе, быть может, неплохие ребята, но остальные… Словом, мне не хочется, чтобы ты говорил обо мне с кем бы то ни было.
Лицо у Района сделалось недовольное и одновременно расстроенное.
— Извини, Майкл, это была моя ошибка. Но пойми и ты: мне нужно было сказать им что-то, чтобы они не думали, будто я совершил глупость, когда взял тебя на работу. Ты прав, порой они действительно ведут себя несдержанно, но я им полностью доверяю, потому что они — семья. Кузены, троюродные братья и так далее… Не беспокойся, они будут молчать.
— Уж ты позаботься, чтобы они молчали, Рамон, — сказал я, пристально глядя на него. — Позаботься как следует.
— О'кей, — ответил он после небольшой паузы.
— О'кей? — повторил я. — Я должен раствориться в этом городе, исчезнуть, и мне совершенно ни к чему, чтобы десятки людей… — Не договорив, я сделал глоток из своего стакана.
— Ты действовал очень хорошо, — мягко сказал Рамон. — Честно говоря, я не думал, что ты возьмешься за дело так круто, но… Это действительно было хорошее начало.
— Хотел бы я знать, как много ты знаешь… — проговорил я.
— Я знаю достаточно, Майкл. Знаю, что наши пути пересеклись лишь на время, потом ты снова пойдешь своей дорогой. Еще я знаю, что ты поможешь мне и ничего за это не попросишь. Но я сам хочу помочь тебе, Майкл, и вовсе не за твои услуги, не за хорошо выполненную работу, а по-дружески. Хочу поддержать тебя и дать тебе денег, чтобы потом ты мог отправиться куда пожелаешь…
— Спасибо.
— Времена меняются, Майкл, и я это чувствую. Перемены буквально носятся в воздухе. Теперь, чтобы выжить, придется действовать во много раз хитрее и осторожнее. Попомни мои слова: еще до конца девяностых все изменится, все будет другим, новым. Я это знаю, и ты тоже знаешь… Билл Клинтон как раз такой человек, что…
— Кто это — Билл Клинтон?
— Черт побери, Майкл, что с тобой?! Клинтон — это президент.
— Соединенных Штатов?
Рамон уставился на меня. Похоже, он никак не мог поверить, что я не шучу, а говорю серьезно.
Мы еще немного посидели у окна, потягивая виски и глядя в темноту за окном. На улице было холодно и дул резкий ветер, от которого стекла в рамах дрожали. Почему-то я чувствовал раздражение.
— Вот что, Рамон, — сказал я наконец, — давай договоримся раз и навсегда: я тебе не лакей и не мальчик на побегушках, и ты не должен говорить твоей шпане, твоим долбаным доминиканским молокососам, будто я на тебя работаю, потому что это не так, понял?
— Майкл, я думал…
— Понял или нет, черт возьми? — перебил я, повысив голос.
— Да, — грустно сказал Рамон.
Он поставил стакан и провел ладонью по макушке. Макушка его была почти что лысой, и жест этот, по-видимому, сохранился у Рамона с прежних времен, когда волосы у него на голове еще росли. Потом Рамон глубоко вздохнул, явно собираясь произнести речь. Я откинулся в кресле и расслабился.
— Я вот что хотел сказать, Майкл: я ничего не знаю о твоем прошлом, а ты ничего не знаешь о моем, но уверяю тебя: моя жизнь — не банальная история о мальчике, который убежал из дома и приехал в Нью-Йорк, чтобы торговать на улицах кокаином. Я — не какой-нибудь бандит с большой дороги. Меня воспитывал дядя, а он был образованным человеком. Правда, было время, когда я делал что хотел и никто мне был не указ, но к шестнадцати годам я уже твердо знал, что на черном рынке сумею заработать гораздо больше, чем любым законным способом. Я занялся контрабандой, наркотиками… Но для меня наркотики только средство для достижения цели, способ накопить первоначальный капитал, не больше. Когда у меня будет действительно много денег, я займусь чем-нибудь доходным: недвижимостью, строительством и так далее. Вот увидишь — у меня все будет как сейчас у Бланко…
— Мы называли его Темным, — сказал я, чтобы прервать поток его красноречия. У меня не было настроения выслушивать исповедь Рамона.
— Почему? — удивился он.
— Так… Просто кличка.
— В общем, я буду как он — уважаемый человек без единого пятнышка на репутации. У меня будут дома, земельные участки… Может быть, буду баллотироваться на выборах в законодательное собрание штата. Видишь ли, я хотел бы принести пользу своим землякам, городу. Не знаю, что ты обо мне думаешь, Майкл, но самому себе я кажусь неплохим человеком. Ей-богу, неплохим! Во всяком случае, я не эгоист, который все гребет под себя.
— Да ты крэк продаешь тем, кто дошел до точки.
Рамон поморщился и слегка отпрянул:
— Я же объяснил: это только средство… А как говорили иезуиты, если цель хороша, то для нее и все средства хороши.
— Не стоит себя обманывать, Рамон.
— Я и не обманываю. Я все продумал, все рассчитал… Конечно, могут быть и жертвы, но это, так сказать, неизбежное зло.
— Когда я служил в армии, там было несколько человек, похожих на тебя. Сержантов, инструкторов… Разыгрывали из себя добряков и тоже сокрушались о жертвах… Чушь все это.
— Ты служил в армии? — переспросил Рамон с таким видом, словно я только что сообщил ему нечто поразительное.
— Да.
— В Ирландии?
— Нет, в Англии.
— Тебя замели?
— Я сам пошел.
— Но зачем?
— А черт его знает! Слушай, Рамон, ты меня лучше не отвлекай. Я хотел сказать, что такие люди, как ты — они все говорят совершенно правильно, но на деле…
— Минуточку, Майкл, ответь мне сначала на один вопрос. Почему ты пошел в армию, если тебя никто не заставлял?
— Говорят же тебе — не знаю! Давай не будем об этом, ладно?
— У тебя что-то случилось, — грустно сказал Рамон. — Какая-то беда. Вот ты и завербовался в армию.
— Ничего у меня не случилось.
— Нет, случилось.
— Со мной ничего не случилось, Рамон. В любом случае это не имеет никакого отношения к гребаной армии.
Он улыбнулся очевидной противоречивости моего заявления и покачал головой.
— Дело не только в том, что ты из Ирландии. Наверное, я никогда не пойму тебя до конца, — сказал Рамон.
— Я тоже никогда не пойму тебя и, честно говоря, не думаю, чтобы мне этого очень хотелось, — парировал я.
Рамон рассмеялся и встал, чтобы принести из кухни бутылку виски. Владевшее нами напряжение несколько спало.
— Слушай, Рамон, не в службу, а в дружбу расскажи мне о Дермоте. Он был чем-то вроде пробного шара, правда? Ведь это ты все подстроил… Я хочу сказать — это ты убедил его пойти против Темного, правда?
Рамон сел в кресло и снова налил мне полный стакан. Несколько секунд он раздумывал над вопросом, потом слегка наклонил голову.
— Скверно это все получилось, — промолвил он наконец. — У меня, конечно, был свой интерес, но дело было не только во мне… Сказать по правде, я был уверен, что мы сумеем защитить Дермота. Я не думал, что его убьют. Это была моя ошибка.
— Но ты уже тогда положил на меня глаз, верно? Ты выслеживал меня… ходил за мной кругами… И я мог опередить тебя с этим кокаином, очистить весь тайник, если бы… О господи! Нет, Рамон, так дело не пойдет. Ты, наверное, думаешь, что я никуда от тебя не денусь, но это не так. Я не твоя собственность!
— Мне бы хотелось, Майкл, чтобы ты считал меня своим другом, — великодушно сказал он, но я не желал отступать.
— Ты, Рамон, чертовский лицемер. Ты много и красиво говоришь, но все твои слова — дерьмо собачье! Чудовище, бесчувственное и грубое чудовище — вот что ты такое! Наверное, ты считаешь себя охренительно умным, но это не так!
Рамон ничего не сказал, да и к выпивке не притронулся. Тяжело вздохнув, он сказал:
— Ты чем-то расстроен, Майкл. Расстроен и устал. Ты все думаешь, а мне кажется, что тебе нужно больше отдыхать. Если хочешь, я мог бы прислать девочек… — невесело добавил он.
— Девочек? Господи, Рамон, это… Блин, нет! Хотя почему — нет? Девочка была бы кстати, причем любая девочка… Впрочем, не надо. Это все виски сказывается. Виски и сигара. Я ведь сигар не курю. Да еще время года такое! Дело не в тебе, не во мне, не в чем-то еще, это просто паршивое время года, Рамон, понимаешь?
Рамон озабоченно взглянул на меня и покачал головой. Я был уже немного пьян и стал заговариваться.
— Сейчас ноябрь, понимаешь? Все дело в этом. Ноябрь — самый поганый месяц в году! Возьми хоть январь — весь год впереди, и человек может смотреть в будущее с оптимизмом. В феврале бывает День святого Валентина. Март — начало весны. Апрель и май — самые лучшие месяцы, как ты знаешь. С июня по сентябрь продолжается лето. В октябре листопад и бывает Хэллоуин; в декабре празднуют Рождество, а в ноябре что? Ничего! Совсем ничего, потому что у нас в Ирландии не отмечают День благодарения. Правда, у нас есть Поминальное воскресенье…[68] Тот еще праздничек! В этот день меня всегда заставляли дудеть в рожок, представляешь? Холодно, рожок свистит и хрипит… Кошмар, одним словом! Нет, ужасный месяц ноябрь, просто ужасный!
Рамон кивал, но я видел — он понятия не имеет, о чем это я толкую.
— Может, принести тебе воды? — спросил он.
— К чертям воду! К чертям твою воду, твое виски и твои сигары, Рамон! — заорал я и выпустил из пальцев стакан. Он упал на пол, но не разбился. Сжав руками голову, я зарычал: — Зачем ты пришел? Какого черта ты рассказал своим парням, что я убиваю для тебя этих вшивых ублюдков? Я никого не убиваю для тебя, Рамон! Чертов лжец, трепло! Все, что ты тут говорил, — просто брехня. Ты еще хуже Темного — тот, по крайней мере, не обманывает себя всякими бреднями, не прикрывается заботой о людях!
— Постой, Майкл, я…
— Больше никогда и никому не рассказывай обо мне, Рамон. Никогда, слышишь?!! Да как ты только посмел… В общем, убирайся отсюда! Проваливай!
Рамон неуверенно улыбнулся. Возможно, он считал, что я просто морочу ему голову. Или что я издеваюсь над самим собой. Он чувствовал неловкость. Встав во весь рост, я крикнул, чтобы он убирался отсюда к такой-то матери и оставил меня в покое. В голове у меня шумело, но я не был пьян. Как говорят в тех же «Анонимных Алкоголиках», у меня наступил момент истины, поэтому я схватил бутылку и швырнул в оконное стекло. Стекло было толстое, двойное; оно выдержало, и бутылка, отскочив, целой и невредимой упала на грубый ворс ковра.
Это меня доконало.
— Ну все! — взревел я и бросился на Рамона, но зацепился ногой за ковер и повалился на пол.
Падая, я успел схватить Рамона за руку и увлечь за собой. Лопата, Дермот, Мексика, Большой Боб — все это выплеснулось наружу сразу, как вулкан, как ураган беспорядочных ударов и хриплых воплей.
Боже мой!
Удар, еще удар, вопли, искры из глаз… Вот она, разрядка, наконец-то! Крича что-то невнятное и брызжа слюной, я попытался прижать Рамона к полу, но он тоже был не из слабых и сумел меня сбросить. С полминуты я невнятно бранился, пытаясь ухватить его за одежду и швырнуть на стекло кофейного столика, но Рамон ударил меня локтем в горло и, проворно вскочив, сунул руку за отворот куртки. Он не достал оружия, но угроза была достаточно ясной.
— Ну давай же, давай, сделай это! — с хохотом кричал я, лежа на полу.
— Успокойся, Майкл, — сказал Рамон и слегка попятился, но руки из куртки не вынул.
Примерно секунду я смотрел на него снизу вверх, прикидывая, броситься мне на него или нет, и решил оставить все как есть.
Я выдохся.
Еще с полминуты мы настороженно следили друг за другом, потом я сказал:
— Убирайся из моего дома. Не знаю, что тебе от меня нужно. Ты вампир, вот ты кто. Стервятник. И Кастро тоже больше ко мне не подсылай…
— Бога ради, не знаю, что это на тебя нашло… Честное слово, если я что сказал…
— Ты, кажется, оглох? Убирайся, — устало повторил я.
Рамон открыл входную дверь и, выйдя, бесшумно прикрыл ее за собой.
— Сволочи! — громко сказал я, корчась посреди комнаты. Я ждал слез, но слез не было. Тогда я попытался вызвать их нарочно, но так и не сумел заплакать.
Весь следующий день я оставался в постели. Никто ко мне не пришел. Кастро не принес свою курицу. А я даже не читал. Я вообще ничего не делал — только лежал, глядя в потолок, да пил ржавую воду из-под крана.
В конце концов я все же оделся и отправился в ресторан на углу Бродвея и 189-й улицы. Меню было целиком на испанском, и я выбрал блюдо, название которого, как мне казалось, означает что-то вроде тушеного мяса. Но это оказался суп из потрохов, в котором плавали кусочки чего-то, напоминавшего разрезанный на части человеческий эмбрион. Я так и не смог заставить себя притронуться к нему; расплатившись, я попытался уйти, но оскорбленный в лучших чувствах официант задержал меня, обещая принести что-нибудь особенное, что мне наверняка понравится. Поскольку в зале я был единственным клиентом, из кухни вышел даже шеф-повар, который стал уговаривать меня попробовать суп. Я пытался отговориться ссылками на библейские запреты, но ни повар, ни официант не были с ними знакомы. Хуже того, ни один из них не владел ни одним сколько-нибудь удобопонимаемым вариантом английского, и мы никак не могли договориться. Они только хотели любезно меня накормить, но я повел себя как последний зануда и в конце концов добился того, что в их речи стало все чаще повторяться слово puta.[69] Тогда я поспешил вернуться домой и на обратном пути купил в ларьке пакет доминиканского печенья.
Вечером я достал из холодильника упаковку «Короны», включил телевизор и, вооружившись пультом, принялся переключать каналы. Но ничего интересного я так и не нашел, и неудивительно, поскольку доступа к кабельным программам у меня не было. Правда, в одной из передач я услышал, что в Ирландии опять произошли какие-то волнения, но это вряд ли можно было считать новостями.
Я лег спать довольно рано, а проснувшись утром, решил немного прогуляться. Я быстро натянул джинсы, футболку, свитер и черный плащ. Дойдя до моста Джорджа Вашингтона, я зачем-то потащился на другую сторону. Примерно на середине моста я остановился и стал смотреть вниз, на Гудзон и оконечность Манхэттена. Кроме меня, пешеходов на мосту не было, хотя автомобильное движение со стороны Нью-Джерси было довольно плотным. Интересно, подумал я, который сейчас час, но, поскольку часов у меня не было, я мог только догадываться, что было часов семь-восемь. Интересно, перевели уже часы на зимнее время? И вообще, переводят ли часы в Америке? Кажется, весной мы стрелки вперед переводили, поэтому логично было предположить, что осенью их переводят назад.
Прилегающий к мосту район на другой стороне Гудзона показался мне унылым и неинтересным. Тем не менее я решил немного побродить там и вскоре набрел на бакалейную лавочку, где купил несколько меренг с кремом. Меренги оказались вполне приличными. В бакалее готовили и кофе, и я взял чашечку. К сожалению, кофе был жидким и отвратительным, а самое обидное заключалось в том, что он смыл изо рта вкус меренг.
Выйдя из бакалейной лавки, я снова направился к мосту, гадая на ходу, как мне попасть в зеленую рощицу, которой я так часто любовался из окон своей квартиры. Полагаясь на свое умение ориентироваться, я несколько раз свернул и вскоре заметил небольшой указатель, на котором было написано «Пэлисейдс-парк». Похоже, это было именно то, что я искал. Из моих окон поросшие зеленью гранитные скалы, живописно спускавшиеся к самой воде, выглядели весьма привлекательно, почти красиво, но сейчас, когда деревья облетали, парк наверняка утратил большую часть своего очарования. И все же я не повернул назад, надеясь, что мне там понравится. Не спеша шагая по дороге, которая, петляя, шла вниз к парку, я сам не заметил, как оказался в какой-то глуши под мостом — совсем как в сказке о трех козлятах и злом тролле.
Двое мужчин следили за мной от самой бакалейной лавки, а возможно — от самого Манхэттена. Сначала они ехали в синем «форде», но сейчас они оставили машину где-то на дороге и двигались пешком. Держались они на порядочном расстоянии от меня, но я был уверен, что их именно двое и оба — крупные и сильные ребята. По всей видимости, они сели мне на хвост, как только я вышел из подъезда, и больше не выпускали из виду. Ехать по мосту со скоростью пешехода они не могли из-за плотного движения, поэтому им, вероятно, пришлось обогнать меня и поджидать где-нибудь в укромном уголке в надежде, что я не поверну с полпути обратно. Если бы дело происходило в час пик, мне было бы легче затеряться, но им повезло, и сейчас они шли за мной по дороге. К счастью, они были достаточно далеко, так что речь пока не шла о жизни и смерти.
Но только пока…
Не все в их поведении было мне понятно. Если они знали, где я живу, то почему не поднялись ко мне в квартиру еще утром, чтобы без труда расправиться со мной? Правда, в здании существовала кое-какая система безопасности, но справиться с ней профессионалу было раз плюнуть. Дверь моей квартиры тоже не могла служить серьезным препятствием — вскрыть ее ничего не стоило. А сейчас их вряд ли интересовало, куда я направляюсь, потому что дорога в Пэлисейдс-парк заканчивалась тупиком и вернуться назад я мог только тем путем, которым пришел. В подобном случае любая пара соглядатаев поступила бы одинаковым образом: один шпик остался бы у машины, а второй попытался бы тайно проследить за мной, чтобы увидеть, что я делаю в парке: встречаюсь с кем-нибудь, достаю из тайника контейнер с инструкциями и т. д. и т. п. Но они поступили иначе. Бросив машину, они отправились за мной оба. Это было странно, поскольку, если бы я повернул и двинулся им навстречу, им тоже пришлось бы разворачиваться и, пропустив меня вперед, начинать все сначала, а это было бы слишком грубо и очевидно. Другое дело, если бы они разделились… Если за объектом отправляется только один из пары, то в случае, подобном описанному выше, он продолжает идти в прежнем направлении, а его напарник, не возбуждая подозрений, «ведет» объект из машины. Но эти парни поступили не так, а между тем я не сомневался, что в синем «форде» сидело только двое шпиков. Вряд ли они успели каким-то образом добраться до телефона и вызвать вторую машину, а раз так, то оставалось только одно объяснение: эта парочка спускалась по холму, чтобы перехватить меня внизу и убить. Скорее всего — убить. Все остальные предположения были лишены здравого смысла, и я их отбросил.
Придя к этому малоутешительному выводу, я снова спросил себя, почему все-таки они не попытались прикончить меня утром сонного в моей квартире. Не исключено, подумалось мне, что они наблюдали за несколькими домами одновременно. Они не знали точно, где я живу, и следили за определенным участком улицы. Может быть, зная, что меня видели где-то в этом районе, они курсировали по Бродвею и им повезло — они заметили меня. В этом случае логично было бы застрелить меня на месте, но что, если они увидели меня не сразу, а, скажем, где-то на подходе к мосту Вашингтона? В том районе почти всегда дежурит дорожная полиция, а даже на Вашингтон-Хайтс нельзя застрелить человека на глазах у дюжины полицейских и надеяться, что это сойдет тебе с рук.
Должно быть, эта охота казалась им увлекательным занятием. Вот они медленно едут вдоль тротуара, а в их ушах звучит голос Лучика: «Мне доложили, что он живет в районе 180-х рядом с Бродвеем. Покатайтесь по тем местам, мальчики, и если увидите его — стреляйте, а вопросы задавать будете потом. Только смотрите не наделайте глупостей». И вот один из них замечает меня… Ага, вот он. Ну-ка, посмотрим поближе… Взгляни, похож? Он самый! Точно, он! Правда, у него борода, да и волосы длиннее, ну и что? Дай-ка сюда ту старую фотографию из профсоюзной карточки… Ну точно, одно лицо. Интересно, куда это он направляется? Черт, пошел через мост… Ничего, ничего, не переживай, никуда он не денется. Дуй через мост, подождем его с той стороны…
Да, я представлял себе, как они возбуждены, как горят нетерпением. Вот они переезжают через мост, останавливаются, проверяют оружие и ждут, пока им представится подходящая возможность. А вот и «объект», который, как по заказу, сам спускается под мост, в глухомань, где нет ни единой живой души. Надо же случиться такому: как раз в это время по мосту над нами проезжает и проходит, наверное, добрая половина населения Нью-Джерси, но здесь, внизу, тихо и безлюдно. И никаких свидетелей.
На мгновение я почувствовал, как во мне нарастает злость. Двое убийц шагали как на параде; неужели они думали, что я их не услышу? Потом я подумал, что, может быть, я ошибся и за мной следила не одна машина, а больше. Может быть, они все-таки вызвали подкрепление. Справиться с четырьмя профессионалами будет трудновато, особенно если они решат побеседовать со мной, прежде чем всадить мне пулю в затылок.
Что ж, придется как следует поработать головой, тем более что шпики, конечно, вооружены, а я, как назло, не успел попросить у Рамона новый ствол.
Мне оставалось только одно: соображать, думать, вспоминать… Хорошо еще, что у меня был кое-какой опыт и знания. Я побывал в мясорубке в Белфасте, в мясорубке в Мексике, а кроме того — быть может, самое главное, — в армии я прошел два весьма полезных курса подготовки: разведывательный курс на Святой Елене (когда я избил того парня и в результате с треском вылетел оттуда) и курсы подготовки младшего командного состава в Блайти, которые я так и не сумел закончить, чего, впрочем, почти не стыдился. Я объясню, в чем тут дело: в последнее время приходится много слышать о высоких требованиях, предъявляемых к американским военнослужащим. В каждом вербовочном пункте вам скажут, что американские армейские части специального назначения — это войска элитные, а вот о том, что при приеме на курсы базовой подготовки у них почти нет отсева, здесь предпочитают помалкивать. Как помалкивают и о том, что даже «Морские львы» ВМС США испытывают настолько острую нехватку личного состава, что берут на службу больше половины желающих. Честно. Иными словами, служба службе рознь. Я учился на капральских курсах в Западной Шотландии и не справился, но ведь недаром курсы подготовки младшего командного состава британской армии считаются самыми трудными в мире. Все дело в принципах комплектования. Британцы считают капралов и сержантов становым хребтом своих вооруженных сил. Именно младшие командиры у нас отвечают за все, поэтому, естественно, они должны быть блестяще подготовлены и многократно испытаны. Не удивительно, что учеба в капральской школе — это тебе не баран чихнул. За какие-нибудь четыре-пять дней в тебя вдалбливают дистиллированный и процеженный опыт нескольких поколений военнослужащих. Этакий британский И-Цин…[70]
Одной из дисциплин, которую я изучал на курсах, была «пешая разведка лесистой местности дозорной группой в темное время суток». Практическая отработка этого навыка заключалась в том, что две дозорные группы разыскивали друг друга в лесу и «уничтожали». Должен сказать честно: в разведывательном дозоре, даже учебном, бывает страшновато, и, скрытно приближаясь к макету деревни, будущий капрал невольно учится не торопиться самому и не торопить своих людей, наблюдать, слушать, делать выводы. В наши дни большинство людей разучилось слушать, но кое-кто это еще умеет.
И сейчас, стоя на склоне холма в Нью-Джерси, я в одно мгновение вспомнил этот свой опыт и впервые попытался исполнить все, что говорили мне тогда: «Слушай, ты, ирландский тупица. Вытряхни дерьмо из ушей и слушай. Напрягись. Ну, давай же!»
Опустившись на корточки, я приставил к ушам согнутые ковшиком ладони. Потом убрал руки и сел поудобнее. Сначала я ничего не услышал, но так всегда бывает. Стоило мне сосредоточиться, разобраться в какофонии звуков, отсечь пение птиц, шум движения на мосту и буксиров на реке, и я начал различать шорох их шагов. Вскоре мне стали очевидны три вещи: во-первых, мои преследователи не бежали, а шли обычным шагом; во-вторых, ритм их шагов был неравномерным; в-третьих, они старались ступать осторожно, чтобы производить как меньше шума. Они были уверены, но не самонадеянны. Из этого я сделал два важных вывода. Первое: шпики достаточно глупы, раз думают, что я их не услышу (старушка Хелен Келлер[71] услышала бы их за милю с плеером на голове). И второе: никакой подмоги они, скорее всего, вызвать не успели. Их было только двое, вот они и старались не шуметь, хотя это и получалось у них довольно хреново. Итак, двое против меня одного…
Я выпрямился во весь рост и спустился по тропинке, шедшей параллельно засыпанной листьями дороге вниз, почти к самой реке. Здесь было еще красивее. Меня окружили огромные, голые деревья со скрюченными, узловатыми ветками; под ногами шуршал золотой ковер из листьев, между стволами просвечивал Гудзон, а за ним маячил гигантский призрачный город, который, казалось, балансировал на своем острове у самой кромки воды.
Следующий виток тропы вывел меня на самый берег, вдоль которого тянулась полоска травы, переходившая в каменистый пляж. Напасть на своих преследователей я мог либо на этом витке, либо на предыдущем. Предыдущий поворот был удобнее, так как там было проще спрятаться, и я ринулся назад и присел за кустом у тропы. Я поплотнее закутался в плащ и стал ждать, радуясь, что оделся в темное. Преследователи теперь прибавили шагу; они по-прежнему старались соблюдать осторожность, но в их походке чувствовалось возбуждение: видно, парни предвкушали решительный момент.
Если бы у меня были целы обе ноги, мне следовало бы пропустить обоих мимо, потом прыгнуть на них сзади и повалить одного из них ударом в спину и в голову (обеими ногами разом). Пока бы он падал, я мог нанести удар и второму противнику, который, несомненно, будет ошеломлен внезапностью нападения. Но коль скоро на свою левую ногу я полагаться не мог, от этого плана мне пришлось отказаться. Я решил, что брошусь на того из врагов, что покрупнее, и постараюсь толкнуть его на напарника, а там видно будет.
Дожидаясь своих преследователей, я глубоко дышал и старался сохранять спокойствие, но мне было трудно не думать о том, что на самом деле я не проучился на курсах капралов и трех дней. Господи Иисусе, кого я хотел обмануть?! Дистиллированный, процеженный опыт, как же! И-Цин, твою мать. Я напился, и меня вышвырнули — вот как было дело! И теперь любой новобранец американской армии, прослуживший хотя бы пару недель, был, наверное, раз в десять лучше меня…
Я все еще предавался самобичеванию, когда они появились на тропе. Один из них был высоким и жирным, второй — высоким и худым. Оба курили, что было с их стороны крайне неосторожно: я мог бы учуять запах дыма издалека. Правда, сейчас я почему-то ничего не чувствовал, но я знал, что мне это вполне по силам. В высоком и жирном шпике я узнал Бориса Карлоффа, который следил за Бриджит. Второго я видел впервые. Бледный, наголо бритый, он вполне мог оказаться еще одним гастарбайтером из родной моей Эрин. Интересно, заставлял ли его Темный петь «Дэнни-бой», чтобы узнать, годится ли он для дела?
Толстый и тощий шли довольно быстро, причем оба уже вынули оружие, что меня вполне устраивало.
Тропа была довольно узкой. Тощий шел с ближайшей ко мне стороны, так что волей-неволей я должен был обрушиться на него первого. Мне было ясно, что я должен проделать все максимально быстро и жестко. Малейшее промедление означало для меня смертный приговор. Я задержал дыхание, напрягся, изготовился и, когда оба шпика миновали меня, прыгнул, оттолкнувшись здоровой ногой.
Я приземлился Тощему точно на спину, ударил коленом в позвоночник и разом вышиб из него весь дух. Правой рукой я обхватил его шею и запрокинул ему голову. Тощий покачнулся и, падая, врезался в Карлоффа. Воспользовавшись моментом, я силой вывернул ему голову, и прежде чем мы трое распростерлись на земле, Тощий был мертв.
Свернув врагу шею, я поспешил подобрать его оружие — небольшой шестизарядный револьвер неизвестного калибра. Карлофф все еще шарил в листве, разыскивая свой пистолет. Он сидел на земле, и его ноги были придавлены телом товарища. Я перевел дух и, направив на него револьвер, взвел курок.
— Не надо, — сказал я.
Карлофф на мгновение замер, потом поднял руки.
— Ключи от машины, — приказал я.
— У н-него в кармане, — ответил Карлофф грустным, старческим голосом. Похоже, ему было уже под семьдесят. Какого черта его послали на дело, требующее быстрой реакции, крепких мускулов и железных нервов? Говорил Карлофф с легким акцентом, который отдаленно напоминал ирландский, но был уже сильно смягчен многими годами, прожитыми в Америке или, точнее, в Бостоне (его выговор показался мне похожим на бостонский).
Я сунул руку в карман брюк Тощего и вытащил ключи и бумажник, в который я, впрочем, не заглянул.
— Почему вы не пришили меня в квартире? — спросил я Карлоффа, продолжая целиться из револьвера ему в лицо.
— М-мы не знали, где ты живешь. Искали тебя по всему району, но заметили, только когда ты подошел к мосту.
— Значит, вам повезло?
— Д-да.
— Вы сообщили кому-нибудь, что засекли меня?
— Н-нет, у нас в машине нет ни р-рации, ни радиотелефона. Ничего такого…
— Кто вас послал? Лучик?
Карлофф кивнул.
— Где он живет? У тебя есть его адрес?
Карлофф странно улыбнулся, и мне стало не по себе. Что такого смешного он увидел в моем вопросе?
Подавшись вперед, Карлофф сказал шепотом (как будто нас кто-то мог подслушать):
— Лучик всегда встречался с нами только в «Четырех провинциях», но я знаю, где он живет. Джеки Мак однажды выследил его — хотел посмотреть, уж не приударяет ли он за малолетками.
Теперь я тоже улыбнулся. Странно, как я сам не подумал о такой элементарной вещи. Я знал, что
Лучик никакой не извращенец, но выследить его было бы делом нелишним. Так же просто было бы выяснить и адрес Темного, так что мне оставалось только удивляться самому себе, вернее — своему умению создавать трудности на пустом месте. Причиной, должно быть, была обычная лень.
— О'кей, приятель, давай адрес.
Карлофф продиктовал мне адрес, но у меня в карманах не нашлось ни ручки, ни карандаша, и мне пришлось его просто запомнить. Потом я обыскал Бориса и, не найдя ничего интересного, забрал его семнадцатизарядный полуавтоматический пистолет «глок» — действительно прекрасное оружие, которое с этого дня стало моим любимым.
Покончив с этим, я велел Карлоффу встать. Мы вместе подняли его мертвого напарника (он за ноги, я за плечи) и оттащили с дороги подальше в лес. Там я приказал Карлоффу забросать труп листьями. Когда он закончил, я выстрелил ему в голову, проделав это ловко и без излишнего драматизма. Я действительно не имел ничего против него лично. Упавшего я, как мог, забросал ветками и листвой, а потом проверил, не попали ли брызги крови мне на одежду, но все было в порядке.
Машину они оставили в полумиле выше по дороге. Это был уже знакомый мне старенький синий «форд» с ручным переключением передач, и мне потребовалось довольно много времени, прежде чем я сумел завести его и сдвинуть с места. Я уже говорил, что никогда не умел водить машину как следует, а с протезом это стало еще труднее, и я порядком измучился и изматерился, прежде чем мне удалось проехать мост и вернуться в Нью-Йорк. Впрочем, все на свете относительно, и хотя я точно заработал пару лишних мозолей на своей культяпке, я бы не хотел поменяться местами с Лучиком — человеком, которому при удачном (для меня) стечении обстоятельств теперь предстояло не дожить до вечера.
Мне понадобилось меньше десяти минут, чтобы понять, что за синим «фордом» следят. Старый черный «линкольн» я заметил, когда, преодолев трудности и опасности пути по мосту Вашингтона, собирался свернуть, чтобы через Верхний Манхэттен попасть в Квинс. В Квинсе тоже существовала ирландская колония, но это была не наша территория, и мне еще не приходилось там бывать. Во всем Квинсе я знал как следует только район аэропорта и Рокэвей-бич.
«Линкольн» следовал за мной, держась от меня на расстоянии четырех-пяти машин. В салоне я разглядел двоих мужчин, одетых в темные костюмы и плащи. Возможно, впрочем, что они следили не за мной, а за синим «фордом», полагая, что за рулем по-прежнему сидит либо Карлофф, либо второй шпик. Когда именно они сели мне на хвост, я точно не знал. Ясно было одно: если они видели, как я пришил Карлоффа и его напарника, мое дело труба. Полная труба, если точнее, потому что это были легавые. Все говорило за то, что я не ошибся: они и машину-то вели в своей легавой манере, и вид у них был легавый, и разило от них — легавыми.
Почему они следили за парнями из шайки Темного, догадаться тоже было нетрудно. Темный вел отнюдь не безгрешную жизнь, поэтому, несмотря на все таланты Лучика, рано или поздно его деятельность должна была привлечь внимание законников. Смерть Боба на Лонг-Айленде тут тоже могла сыграть свою роль. Похоже, Отдел по борьбе с организованной преступностью Нью-Йоркского полицейского управления решил наконец вплотную заняться махинациями Темного.
Я понимал, что стряхнуть копов будет делом нелегким. Я никогда не ездил по Манхэттену и плохо представлял себе, на каких улицах движение одностороннее и где там объезды. Единственной улицей, которую я знал по-настоящему хорошо, была 125-я, и я чуть мозги себе не вывихнул, гадая, как было бы мне сподручнее бросить машину и удрать.
Первым делом я постарался не показать копам, что знаю о слежке. Ехал я не спеша, без рывков и внезапных ускорений. О своем намерении попасть в Квинс я уже забыл — теперь я просто тащился по направлению к центру города в плотном потоке других машин. Наконец я свернул на Бродвей, и где-то в районе 130-х улиц у меня созрел план. Я вспомнил, что в кафе «Кентукки фрайд чикен» на углу Бродвея и 125-й было два выхода. Если я остановлюсь у «Макдональдса» на южной стороне 125-й, перейду через улицу и войду в «Чикен» (у этого входа как раз не было стоянки), то самым разумным для легавых будет припарковаться рядом с моей машиной и ждать, пока я перекушу и вернусь. В конце концов, они же копы, поэтому им и в голову не придет, что я мог их заметить и бросить машину.
Сказано — сделано. Я продолжал ехать все так же неторопливо и вскоре затормозил у «Макдональдса» напротив «Кентукки фрайд чикен». Припарковав машину, я тщательно ее запер и стал терпеливо дожидаться сигнала светофора, чтобы спокойно перейти улицу, которая здесь весьма широка и небезопасна (особенно в это время дня). Стараясь выглядеть как можно непринужденнее, я подошел ко входу в кафе. Дверь мне придержал какой-то бродяга, надеявшийся, что на обратном пути я отдам ему сдачу. Я был голоден, а в кармане у меня было несколько долларов, поэтому я заказал сандвич с цыпленком и кофе. Сандвич я съел быстро, но кофе оказался чересчур горячим, а у меня не было времени ждать, пока он остынет. К сожалению, окна кафе запотели и были сплошь залеплены объявлениями и рекламными постерами, поэтому я не видел, на месте ли полицейские или нет. Впрочем, я думал, что на месте.
Выйдя через вторую дверь, которая вела на Бродвей, я первым делом огляделся по сторонам, ища взглядом черный «линкольн», но, как я и рассчитывал, он остался на стоянке возле «Макдональдса» за углом. Тогда я пробежал один квартал до станции подземки. Возле эскалатора я остановился и оглянулся, чтобы посмотреть, не преследуют ли меня легавые. Они не преследовали — несомненно, они все еще ждали, пока я закончу завтракать и вернусь к своему «форду» на 125-ю. Верно говорят: легавого могила исправит.
Сверившись с планом подземки, я выяснил, как лучше добраться до Вудсайда. Самый короткий путь предполагал две пересадки в самые оживленные утренние часы, но я решил, что ничего со мной не случится.
В кассе я купил жетон и на обратный путь. Уже в вагоне я подобрал оставленную кем-то на сиденье «Дейли ньюс» и убедился, что выборы действительно прошли и что на них победил кандидат от Демократической партии Билли Клинтон из Арканзаса. Только сейчас я понял, что «Акэнсоу» это и есть штат Арканзас. Мне, правда, приходилось слышать, как говорят «Арканзас», но каждый раз я недоумевал, что это за место такое. Я был настолько взбудоражен своим маленьким открытием, что мне захотелось немедленно поделиться им с другими пассажирами, но в подземке разговаривают вслух только сумасшедшие, а мне необходимо было держаться как можно незаметнее.
Когда на Вудсайде я поднялся наверх, выяснилось, что ирландская община занимает всего несколько кварталов, окруженных куда более обширной территорией, населенной поляками. Крошечный кусочек родины буквально кишел моими земляками, которые праздно болтались возле кафе, пабов, ирландских хлебных лавок и тому подобных очагов национальной культуры, и, по-видимому, были не прочь почесать языки. Я, впрочем, надеялся, что на такой небольшой площади отыскать жилище Лучика будет сравнительно легко. Купив в ларьке пакет чипсов с луком и сыром, я отправился разыскивать адрес, который под дулом пистолета назвал мне Карлофф.
Лучик жил в трехэтажном деревянном доме, выкрашенном голубой краской. Выглядел дом не особенно шикарно: сада не было, краска кое-где облупилась, к тому же рядом проходила довольно оживленная улица. К железной ограде прибился ворох опавших листьев. С эстетической точки зрения дом ничего хорошего собой не представлял, но я был уверен, что благодаря удачному расположению стоит он очень недешево. В самом деле, до станции подземки было рукой подать; кроме того, в этом районе селились только белые, благодаря чему он считался престижным и сравнительно безопасным.
Мне и в голову не приходило, что Борис Карлофф мог меня обмануть — для этого он был слишком… Как бы это сказать? Добропорядочен, что ли… При мысли о том, что мне пришлось его застрелить, меня как будто что-то кольнуло, но я постарался справиться с непрошеной жалостью. Я все равно не мог оставить его в живых: он мог сколько угодно клясться, что не проговорится, но я был уверен, что его бы заставили выложить всю правду. Кроме того, это Карлофф выслеживал Бриджит в тот день, это Карлофф передал информацию Темному, это он пустил в ход машину, которая перемолола уже стольких, включая меня. Неужели ему было так трудно сказать, что в то утро Бриджит ходила по магазинам? Ладно, хватит об этом.
С первого же взгляда мне стало ясно, что в дом придется пробираться с черного хода. Болтаться перед крыльцом среди бела дня, на глазах у множества людей, было глупо и опасно.
Открыв калитку, я обогнул дом и оказался на заднем дворе. Здесь я обнаружил крошечную лужайку и детский плавательный бассейн, залитый дождем, засыпанный опавшими листьями. Детский бассейн… Разве у Лучика есть дети? Ну, это вряд ли. А вот племянники наверняка есть. Он мог быть хорошим дядюшкой — умным, щедрым, заботливым…
Сетчатой рамы на задней двери не оказалось. Замок был заперт. В замках я никогда не разбирался, поэтому мне оставалось только лезть в окно, но если Лучик дома, он, конечно, услышит мою возню, и я должен быть готов его встретить.
Чтобы проникнуть в дом, я выбрал окно кухни. Высадив локтем нижнее стекло, я просунул в дыру руку, повернул запорную ручку, влез в кухню, достал «глок» и притаился за дверью. Я был уверен, что Лучик вот-вот ворвется в кухню с оружием на изготовку, но его все не было. Наскоро обыскав комнаты, я убедился, что в доме никого нет. Что ж, придется подождать…
Из любопытства и от скуки я еще раз обошел комнаты, но нашел очень мало примечательного. Только в спальне, где стояла застеленная лиловым покрывалом кровать и висели подобранные в тон занавески, я обнаружил стенной сейф, но в цифровых кодах я тоже мало что понимал, поэтому содержимое сейфа так и осталось мне неизвестным.
Книг у Лучика не было совсем, зато я обнаружил внушительное собрание видеокассет. Никак не меньше тысячи, а может быть, и больше. Похоже, Лучик пересмотрел все фильмы, которые выходили на экран в последние десять лет и пользовались сколько-нибудь значительным успехом. Насколько я мог судить, порнографии здесь не было, но большинство фильмов оказались полной ерундой. Я поставил пять кассет подряд, прежде чем нашел что-то более или менее сносное. Приглушив звук, я сел поближе к телевизору. Фильм был об андроидах, которые потом оказались хорошими парнями, и о плохом легавом, который гонялся за ними в Лос-Анджелесе не то в третьем, не то в пятом тысячелетии. Надо сказать, что в пятом тысячелетии в Лос-Анджелесе постоянно шел дождь — почти как в Белфасте в семидесятых.
Когда фильм кончился, я некоторое время просто сидел, откинувшись на спинку кресла. Дом Лучика нагонял на меня тоску. Здесь не было ни картин на стенах, ни каких бы то ни было безделушек. Ничего личного, как в какой-нибудь долбаной гостинице. Я даже подумал, что это, возможно, только городская квартира, а постоянно Лучик живет где-нибудь в Уэстчестере, Нью-Джерси или на Лонг-Айленде. Может быть, он здесь вообще не бывает. Может быть, он сдал дом кому-то еще или вообще продал. Может быть, здесь живет его женщина… Устав гадать, я поставил еще одну кассету. На этот раз фильм оказался о вьетнамской войне, но и там тоже лило будь здоров.
Я посмотрел меньше половины фильма, когда услышал, как открывается калитка. Мгновенно выключив телевизор, я сел в гостиной в самое большое кресло, держа «глок» наготове.
Лучик вошел в дом, прижимая к груди большой бумажный пакет с продуктами. От порога он сразу направился в кухню, но увидел меня и выронил пакет. Я жестом пригласил его войти. Лучик чуть заметно подался назад, словно собираясь ринуться вон, но входную дверь он закрыл, к тому же я целился из пистолета прямо в него, и он передумал.
Лучик был в кожаной куртке и синих джинсах. Я никогда не видел на нем подобной одежды (раньше Лучик всегда ходил в костюме и при галстуке), но в целом он почти не изменился; во всяком случае, он все так же зачесывал с затылка на лоб остатки волос, которые были теперь немного длиннее. Загорелый, благополучный, выглядел он очень неплохо, но я не сомневался, что мое появление напугало его чуть не до обморока. Шагнув в мою сторону, Лучик открыл было рот, чтобы заговорить, но я приложил палец к губам. Прижав ствол пистолета к его виску, я быстро обыскал его. Оружия у него не было, и я приказал ему встать на колени и положить руки на затылок. Лучик было запротестовал, но я велел ему заткнуться.
Вырвав из подвернувшегося мне под руку блокнота чистый листок, я протянул его Лучику вместе с карандашом.
— Напиши-ка адрес Темного, — сказал я.
— Подожди, Майкл, ты не понимаешь…
— Еще одно слово, Лучик, и мне придется отстрелить тебе башку, ясно?
Он кивнул и, взяв у меня бумагу и карандаш, записал адрес.
Я забрал листок и бросил на него быстрый взгляд. Темный жил в Пикскилле, ближнем пригороде.
— Это ведь в северном направлении? — небрежно поинтересовался я.
— Да. — Лучик кивнул. У него все еще был такой вид, словно он собирался проблеваться, но я видел, что он начинает понемногу приходить в себя.
— Знаешь, Лучик, мне неохота слишком затягивать наш разговор. Скажи мне одну вещь: ты послал за мной двух парней…
— Нет, нет, я никого не посылал, — перебил он. — Я вообще не знаю, о чем ты!
— Брось, старина, не придуривайся. Итак, сколько человек ищет меня по всему городу?
Лучик судорожно сглотнул и сделал попытку взять себя в руки. Он понял, что я видел его людей и что отпираться бесполезно.
— Четверо.
— Им известно, где я живу?
— Только приблизительно.
— Что это значит?
— Мы нашли тебя, Майкл. Я нашел. Тебя видели в районе 190-х. Господи, ты мог бы быть у нас в руках уже сегодня вечером, в крайнем случае завтра или послезавтра. Одним словом — скоро. Нам не хватило одного-двух дней… Нет, не думай — мы не собирались тебя убивать. Поверь мне, Майкл!
Я бы велел им доставить тебя ко мне. Ты всегда мне нравился, и я рад, что ты сумел вырваться на свободу. Ты, наверное, хочешь знать, что бы я с тобой сделал? Я бы дал тебе денег и помог исчезнуть из города — вот что я хотел сделать; видит бог — хотел! Мой план в том и состоял, чтобы перехватить тебя, привезти сюда и помочь… Темный ничего бы не узнал, к тому же сейчас его все равно нет. Ты смог бы уехать навсегда, скрыться, начать новую, нормальную жизнь. В конце концов, я твой должник, Майкл, я бы никогда не причинил тебе вреда.
— На каких машинах они работают?
— Кто?
— Твои люди. Кто-нибудь из них ездит на черном «линкольне»?
— Э-э… нет. Нет. Насколько я знаю, черного «линкольна» ни у кого из них нет.
— Так на каких же машинах они ездят?
— На «форде» и на «шевроле».
— Ясно… Как ты сумел найти меня, Лучик?
— До меня дошли слухи… примерно неделю назад.
— Какие именно слухи? Ну-ка, поподробнее.
— Когда ты застрелил Большого Боба, ты разбудил соседей. Один старик даже выглянул в окно и увидел отъезжающий «кадиллак». Он знает всех на своей улице, но ни у кого из них нет кремового «кадиллака». За рулем сидел молодой парень с бородой… Запоминающаяся деталь.
— И это все?
— Не совсем. Я просмотрел полицейские сводки и выяснил: в день, когда убили Боба, рядом с «Четырьмя провинциями» был угнан кремовый «кадиллак». Значит, кто-то украл машину, чтобы проследить за Бобом, понимаешь? А буквально на следующий день «кадиллак» нашли брошенным в районе 190-х улиц… Тогда я спросил себя: кому мог помешать Боб? Как я говорил, до меня дошли кое-какие слухи… Я показал старику твою фотографию, и он сказал — да, очень похоже. Если бы ты знал, Майкл, как я обрадовался! Я понял, что ты жив, что ты вернулся и связался с какой-то влиятельной группировкой, чтобы посчитаться с нами. Может быть, с русскими, не знаю… Но главное — ты был жив. Ты уцелел и сумел вернуться в Штаты…
— Темному ты что-нибудь рассказывал?
— Ничего я ему не сказал, Майкл, ничего, клянусь! Зачем бы я стал? А кроме того, его сейчас нет, он уехал с Бриджит. Они вместе отправились на пару-тройку недель на Багамы, а я остался за главного.
— Когда он вернется?
— В декабре. Думаю — в начале декабря. Если хочешь, я могу уточнить… Слушай, пока его нет, мы могли бы прибрать к рукам все дело! Ты и я, Майкл, а Темного побоку, а? Что скажешь? — Он облизнулся, но не с жадностью, а со страху.
— Все-таки как ты разыскал меня, а? И кто еще знает, что я вернулся?
— Все было, как я тебе сказал. Я не вру, Майкл. Этот «кадиллак», который ты бросил в районе 190-х улиц… Конечно, ты мог уехать оттуда и на подземке, но я почему-то так не думал. Ну кому, скажи на милость, может прийти в голову пересесть с машины на общественный транспорт? Особенно после того, как пришил кого-то? Ведь ты же так не сделал? Нет, человек, который сотворил убийство, в первую очередь стремится избавиться от оружия и привести себя в порядок. Это инстинкт.
— Хотел бы я, чтобы ты был моим советником, Лучик.
— Что ж, все в наших руках, — ответил он и улыбнулся, но лоб его по-прежнему блестел от пота. Что ж, надо отдать ему должное — заговаривать зубы Лучик умел. Всю жизнь он только этим и занимался, и его живой ум и хорошо подвешенный язык могли спасти его даже сейчас. Во всяком случае, Лучик на это очень рассчитывал.
— Ну а потом что было? — поинтересовался я.
— Я установил, что ты живешь где-то недалеко, но где? По моим прикидкам, ты бросил бы машину не дальше чем в двадцати кварталах от своего дома, то есть ты жил где-то между 170-ми и 200-ми улицами. Определив район, я послал туда четверых парней, которые раньше работали на нас в центре города, и, следовательно, ты не мог их узнать. Я сам все организовал, разбил их на две пары, наметил примерные маршруты… Но ты, конечно, их засек, иначе бы не спрашивал… Неумехи чертовы! А ведь я так старался! Да и ты тоже хорош, Майкл, не человек, а просто стихийное бедствие! Я хочу сказать — неужели хотя бы на этот раз ты не мог проявить хладнокровие?! Господи ты боже, Майкл… Я бы все устроил, и все было бы шито-крыто. Я дал бы тебе денег, чтобы ты смог уехать, и сейчас не было бы никакого пистолета…
— Значит, обо мне знаешь только ты и те четверо ребят? А Темный не знает?
— Нет. Господи, Майкл, если бы ты только немного подождал! Они бы привезли тебя ко мне, и, поверь, мы бы договорились! Все было бы о'кей, а теперь…
— Наверное, я просто невезучий.
— Везенье или невезенье тут ни при чем, — сказал он, часто моргая и слизывая пот с верхней губы.
Должен признаться, беседовать с Лучиком было приятно — особенно после столь большого перерыва. Мне нравился его подход к серьезным проблемам. Он был умным парнем, наш Лучик. Рядом с ним я всегда чувствовал себя спокойнее.
— Это верно, — согласился я. — И все-таки, согласись, Лучик, что пять человек, которые знают, где ты, — это чертовски много, если хочешь затеряться в этом гребаном городе, — добавил я самым скорбным тоном.
Лучик ухмыльнулся:
— Да, пожалуй. С тобой нелегко, Майкл. И должен сказать откровенно — ты всегда меня беспокоил.
— Это почему же?
Он пожал плечами:
— Ребята в Белфасте дали тебе самые лучшие рекомендации; ты служил в армии и не был гребаным вором, который норовит обчистить своего босса, и все же… С одной стороны, ты никогда не лез за словом в карман, а с другой — знал, когда лучше промолчать. Иными словами, ты был слишком умен. Уж во всяком случае, умнее Скотчи. В вашей команде мозговым центром был именно ты, а он…
— Не смей говорить о нем плохо! — пригрозил я.
Лучик всегда отличался сообразительностью, поэтому он виновато улыбнулся и поспешил сменить тему:
— В общем, я только хотел сказать, что ты был слишком умен и действовал порой сгоряча, ну вот хотя бы сегодня…
— Именно поэтому я и оказался в Мексике? — спросил я.
— Нет, не поэтому. Совсем не поэтому. Ты сам знаешь, почему случилось то, что случилось…
— Это было решение Темного?
— Да, его. Я был против. Ты мне всегда нравился, Майкл. Помнишь, я советовал тебе держаться подальше от Бриджит? Господи, Майкл, о чем ты только думал! Я тебе верил, а ты!
— А я верил тебе.
— Нет, Майкл, кроме шуток: ты мне нравился. Ты проработал у нас девять месяцев и показал себя человеком, на которого можно положиться — в отличие от этого вороватого ублюдка Скотчи. Словом, и я и Темный были тобой довольны.
— Еще раз скажешь хоть слово про Скотчи, и я тебя убью, — предупредил я.
— О'кей, ладно. Не кипятись. Я жалею, что все так вышло. Ты, конечно, можешь мне не верить, но я был против. Ты был ценным работником — лучшим из всех.
— До поры.
— Пожалуй, можно и так сказать.
— И когда ты узнал?
— О чем?
— О Бриджит.
— Лишь за неделю до вашего отъезда. А ведь обычно я узнаю все новости первым!
— Ясно. Кому принадлежала идея отправить нас в Мексику? Не сомневаюсь, что тебе.
— Нет, Майкл, что ты! Это все Темный. Он сам придумал этот план от начала до конца. Я возражал. Я говорил ему — мы не должны так поступать. Ни под каким видом. Я предлагал Темному отправить тебя обратно в Ирландию, сделать тебе серьезное внушение, может быть, даже попробовать выбить из тебя эту дурь, но…
Лучик держался теперь намного спокойнее, чем вначале, и мне это нравилось гораздо больше. Похоже, он действительно считал, что сумеет договориться со мной. Но я старался сохранять спокойствие и прислушиваться к голосу здравого смысла.
— Ради того, чтобы отделаться от меня, вы пожертвовали всей командой, — перебил я. — Вы принесли в жертву четырех отличных парней и потратили сто тысяч баксов. С ума сойти! То есть я хочу сказать — идея была просто блестящей, и навряд ли она принадлежала Темному. У тебя, должно быть, были хорошие контакты с мексиканской полицией.
— Майкл, ты все понял не так. Я… — перебил Лучик, но я не дал ему говорить.
— Пожалуйста, Лучик, не надо… Мы оба отлично знаем, как все было на самом деле.
Он кивнул и глубоко, тяжело вздохнул. Смирился? Как бы не так. Только не Лучик.
И действительно, набрав в грудь побольше воздуха, он снова заговорил:
— Ты должен поверить мне, Майкл, это не я. Это Темный. И контакты с мексиканской полицией были налажены не у меня, а у мистера Даффи. С полицией Канкуна, если точнее, ведь это туристский район и, следовательно, отличный рынок для торговли наркотиками… Вот Темный и предложил этот план. Полиция получала четырех человек, которых можно осудить за торговлю наркотиками, а кроме того, легавым достаются все деньги. Это была идея Темного, я не имел к этому никакого отношения!
— Значит, Боб все устраивает, сам скрывается, а мы получаем по десять лет. Бриджит ничего не подозревает и выходит за Темного. В самом деле, ведь не станет же он жертвовать всей командой, чтобы убрать меня! Честное слово, Лучик, это был умный план. Очень умный! А ты говоришь, что ты здесь ни при чем.
— Уверяю тебя, Майкл, я возражал, как только мог. Я говорил Темному — давай отправим его обратно в Ирландию, но он не хотел ничего слушать.
— А если бы что-то пошло не так и Боб загремел вместе с нами — что ж, это всего лишь Боб, правда?
— Почему ты не веришь мне, Майкл?! Я знал, что эта затея — настоящее безумие. Я так и говорил Темному: это, мол, глупость несусветная, опасная глупость…
— Да, конечно, ты так и говорил…
— Ты ведь не убьешь меня, Майкл? — спросил Лучик, неожиданно приняв озабоченный вид.
— Не хотелось бы, но придется. Извини. Даже если бы я тебе поверил, это ничего бы не изменило: я обещал…
— Кому?
— Духам тропического леса.
— Черт тебя побери, Майкл, ты всегда любил говорить загадками, — сказал Лучик. До этого момента он стоял на полу на коленях, положив руки на затылок, но сейчас он наклонился вперед и начал всхлипывать, а потом зарыдал. Он задыхался от рыданий, вздрагивал, трясся, но никак не мог справиться с собой. По-моему, это была настоящая истерика, и Лучик был не в себе. Уронив руки, он начал подниматься, часто и тяжело дыша.
— Ну давай, кончай, что же ты тянешь, ублюдок! — крикнул он прямо мне в лицо, наступая на меня. Он был так близко, что мне пришлось попятиться.
— О'кей, — сказал я.
Тогда Лучик поднял ладони к груди, и я понял, что сейчас он начнет клянчить, умолять и это будет хуже всего. Его глаза округлились от ужаса. Упав на колени, Лучик протянул ко мне руки:
— Пожалуйста, Майкл, не надо! У меня есть деньги. Пятьсот тысяч… Полмиллиона, Майкл! Я отдам их тебе, если…
Я выставил ладонь, чтобы остановить его. Лучик повалился ничком на пол и, ломая руки, начал биться головой о ковер. Он рыдал, всхлипывал, хрипел, задыхался. Я буквально чувствовал исходящий от него острый запах страха. Потом Лучика начало рвать. Его плешь, узкий подбородок и рукав куртки были испачканы рвотой, в потемневших глазах стояли слезы… Что ж, я знал, что это будет непросто.
— Майкл, ты же добрый парень, я знаю, что ты добрый! Я исчезну, навсегда исчезну, ты никогда больше обо мне не услышишь. Господи, я дам тебе полмиллиона, подумай только! У Темного есть целый миллион, даже больше — несколько миллионов. Все это может быть твоим, Майкл! Не убивай меня, ты ведь хороший, добрый малый. Я знаю это. Ты же хороший человек!
Я покачал головой:
— Нет, Лучик, я должен довести это дело до конца. Передавай привет Скотчи, скажи, что я заступался за него.
— Что-что?
— Что слышал, — ответил я и, прежде чем Лучик успел сказать что-нибудь еще, выстрелил ему в сердце.
12. В северном направлении
С утра прошел дождь, потом начался снег, потом — снег с дождем, и, наконец, словно исчерпав все возможные варианты, осадки прекратились. Небо, однако, оставалось серым, и размытое, неяркое пятно солнца лишь изредка проглядывало в тех местах, где облачный слой был тоньше. Такая погода характерна для Ирландии, а вовсе не для Нью-Йорка, да и холод стоял такой, что по радио сказали — при таком морозе снега не жди. Что ж, декабрь есть декабрь.
Потом я вспомнил, что в Америку я приехал тоже в декабре. Это было ровно год назад, а казалось, что больше. Слишком много событий вместилось в эти двенадцать месяцев.
Я думал о бабуле. Я не вспоминал о ней уже довольно давно — в феврале я послал ей немного денег да несколько раз разговаривал с ней по телефону, но в последний раз я звонил ей прошлой весной. Телефона у бабули не было, поэтому процедура звонка была довольно сложной: приходилось звонить соседям и просить их сходить к бабуле и позвать ее. Каждый раз она подходила к телефону запыхавшаяся и слишком взволнованная, чтобы говорить внятно. Одна и та же история повторялась из раза в раз, но я понимал, что это, конечно, совсем не повод, чтобы мне ей не звонить.
В Белфасте сейчас было три часа пополудни и уже начинало темнеть. Позвонить туда в это время дня было равнозначно тому, чтобы дать объявление в газету о том, что я жив, но я полагал, что мои враги знали это и так. И все же звонить мне не хотелось, и не только из-за того, что пришлось бы беспокоить соседей. Каждый разговор с бабулей неизбежно превращался в ссору или в фарс. Кроме того, мне не хотелось впаривать бабулиным соседям сказки о моей счастливой жизни в Америке.
Одевшись как можно теплее, я вышел на улицу. Неторопливо шагая по тротуару, я выглядывал в потоке автомобилей черный «линкольн», «шевроле» или любую другую подозрительную машину, но все было спокойно. Пока спокойно… Я знал, что разумнее всего было бы перебраться в Хобокен или куда-нибудь еще, но мне нравился этот район, нравился вид из окна и к тому же я не терял бдительности.
Я поехал в торговый центр «Фейруэй». В тот самый, что находится неподалеку от 70-х улиц. Его выстроили на берегу Гудзона — в месте, куда мы когда-то возили тех, кому собирались преподать урок. В месте, куда — как я подумал однажды — Скотчи и Темный хотели отвезти меня, чтобы пристрелить и швырнуть в воду. Произошло это, насколько я помнил, в тот далекий вечер, когда в моей жизни появилась Рэчел Наркис, — появилась, чтобы сразу исчезнуть, и я часто думал, что, сложись все иначе, она могла бы занять в моей жизни значительное место. Да и сама моя жизнь была бы тогда совсем другой. Впрочем, есть вещи, которым с самого начала не суждено сбыться.
В «Фейруэе» было не протолкнуться; многие пришли сюда, чтобы сделать покупки к Рождеству, но я проявил сдержанность, ограничившись картофельными лепешками, пресным хлебом, кровяной колбасой и сосисками. Это, конечно, была не настоящая ирландская еда, но я не хотел рисковать, отправляясь в ирландские кварталы за импортными продуктами. Чтобы вспомнить родину, мне достаточно «ольстерской поджарки», рассудил я. Вернувшись домой, я раскочегарил старый гриль и приготовил себе довольно вкусную «поджарку»; правда, мне пришлось воспользоваться растительным маслом, так как ни свиного сала, ни топленого масла у меня не было, но получилось все-таки неплохо.
После обеда я примерно час посвятил физическим упражнениям, потом перешел к йоге и медитировал два часа подряд. После медитации я лег спать, а когда проснулся, то увидел, что на мосту Джорджа Вашингтона вспыхнули огни. Некоторое время я наблюдал за проносящимися по мосту машинами, но скоро мне это наскучило, и я заснул снова.
Следующий день тоже оказался пасмурным и серым.
Я встал, как следует потянулся и полчаса медитировал. Потом снова сделал несколько силовых упражнений и упражнений на растяжку и перешел к «бегущей дорожке». Основательно вспотев и утомившись, я отправился в душ, но ничто не помогало. Проклятый Белфаст по-прежнему стоял перед глазами.
Я заглянул в холодильник. Там еще оставались картофельные лепешки, и я спросил себя, не излечит ли меня от ностальгии еще одна порция «поджарки». Достав сковородку, я вскрыл пакет с лепешками и, вдохнув знакомый запах, снял телефонную трубку и набрал номер.
Миссис Хиггинс было уже за восемьдесят, поэтому она была слегка рассеянна и к тому же глуховата, и мне понадобилось не меньше минуты, чтобы втолковать ей, кто звонит и зачем.
— Миссис Хиггинс, здравствуйте, это Майкл Форсайт говорит… Вы ведь помните Мики, правда? Я звоню из Америки… Из Америки!!! Будьте добры, позовите мою бабушку, если она дома…
Миссис Хиггинс ответила, что бабушка дома и что она видит из кухонного окна, как та развешивает белье во дворе. Потом миссис Хиггинс добавила, что вот сейчас бабушка не вешает белье, а разговаривает с миссис Мартин.
Миссис Мартин я отлично помнил. Эта скандалистка нагоняла ужас не только на меня, но и на половину нашего прихода, но к бабуле она почему-то питала слабость. Несмотря на это, я без колебаний включил ее в число недоброжелателей, которые могли позвонить в министерство социального обеспечения и настучать, что я подрабатываю на стороне, хотя официально числюсь безработным.
— Скверная женщина эта Одри Мартин, очень скверная… — продолжала скрипеть мне в ухо миссис Хиггинс.
— Да-да, конечно, совершенно с вами согласен, — сказал я с поистине ангельским терпением. — А теперь не будете ли вы так любезны позвать к телефону бабушку?
Я услышал, как миссис Хиггинс положила трубку на стол и стала кричать. К несчастью, она сама собиралась стирать, поэтому перед тем, как упомянуть о звонке из другого полушария, миссис Хиггинс выбранила бабулю и миссис Мартин за то, что те вздумали развешивать белье, когда вот-вот польет дождь. С ее стороны это был серьезный промах, потому что следующие несколько минут все три женщины горячо спорили о погоде, причем у каждой имелось свое собственное авторитетное мнение. Громкие голоса миссис Хиггинс и миссис Мартин с легкостью преодолевали несколько тысяч миль подводного кабеля и были слышны даже по другую сторону океана, в Америке. Я ждал — с самого начала я знал, что пройдет порядочно времени, прежде чем я услышу голос бабули. Откровенно говоря, я уже начал жалеть, что позвонил. Переключив телефон на громкую связь, я налил в сковородку немного масла и начал потихоньку его разогревать, гадая, когда же миссис Хиггинс наконец перейдет к главному. Собака Пентландов вчера опять лаяла — не иначе как к граду, но бабуля уверяла, что, коли подгнившие капустные листья так и не развернулись, дождь начнется только к вечеру. Миссис Мартин, предсказывавшая погоду по полету птиц, была согласна с таким прогнозом, но миссис Хиггинс только что смотрела телевизор, а в программе новостей Би-би-си передали, что в Белфасте, оказывается, всю ночь шли дожди. Больше того, по сведениям всезнающих телевизионных синоптиков, дождь продолжался сейчас, а между тем, хотя небо и затянуло облаками, никакого дождя не было ни ночью, ни сейчас, так что миссис Хиггинс вынуждена была с жаром опровергнуть это поразительное по своей сложности утверждение.
Потом миссис Мартин начала орать на двух подростков, взобравшихся на забор через два участка от нее, и я невольно подумал, что ей, чтобы докричаться до Америки, не нужны никакие кабели. Прислушиваясь к гулким раскатам ее могучего голоса, я невольно вздрогнул. По причинам, которые так и остались тайной (даже суду не удалось установить их с полной достоверностью), на благотворительной распродаже подержанных вещей в Госпел-холле миссис Мартин раскроила голову собственному мужу ударом каминной кочерги. Местный суд в Ньютонэбби вынес ей условный приговор, однако большинство соседей сходились во мнении, что если бы миссис Мартин не была такой крупной и грозной женщиной, а мировой судья не жил бы от нее буквально через улицу, ей почти наверняка пришлось бы отбывать свои шесть месяцев за решеткой. Когда она только начала кричать, мальчишки на заборе наверняка наложили в штаны от страха, и я усмехнулся, услышав донесшиеся из динамика далекие панические вопли и звуки, сопровождающие стремительное бегство, после которых три достойные женщины еще минуту-другую совещались о нравах современной молодежи.
Должно быть, размышления о современной молодежи все-таки пробудили у миссис Хиггинс воспоминание о том, что еще один представитель этого «бесстыжего племени» ждет у телефона. Как бы там ни было, она велела бабуле поскорее идти в дом, потому что ей «звонят из самой Америки».
Я услышал, как бабуля торопливо шагает по дорожке, потом раздался ее взволнованный и запыхавшийся голос.
— Привет, ба!
Бабуля негромко ахнула:
— Майкл, это ты?! Я уж думала, ты умер. Имей в виду, я очень сердита на тебя. Почему ты так долго не звонил? Недавно ко мне заезжал этот пьяный идиот, который у тебя заместо отца, но когда я сказала, что уже несколько месяцев ничего о тебе не слышала, даже он забеспокоился…
— Ну извини, ба, ты же знаешь, как это бывает.
— Ты, конечно, не приедешь на Рождество?
— Нет.
— Я так и думала. И Одри Мартин тоже сказала, что теперь ты наверняка не будешь приезжать.
— Миссис Мартин?
— Да.
— Я бы на твоем месте ей не доверял. Я уверен, что это она настучала в министерство социального обеспечения насчет той фотографии в «Белфаст телеграф». Фактически я лишился пособия из-за нее.
— Что ты такое говоришь, Майкл! Одри Мартин и мухи не обидит.
— Вот тут ты права. Мухам действительно ничто не грозит, но согласись, что более крупным существам есть чего опасаться, — сказал я. Я хотел пошутить, но с бабулей такие вещи не проходили. Она просто не умела понимать шутки.
Между тем масло на сковороде зашипело, и я начал бросать в него куски лепешек и сосиски. Как я и ожидал, разговор складывался не слишком удачно.
— Ты простудился, Майкл? — строго спросила бабуля. — Наверное, опять ходил по улице без шарфа!
— Но, ба, я уже давно потерял свой шарф!
— Вот поэтому-то ты постоянно простужен.
— Я предпочитаю придерживаться вирусной теории заражения.
— Вот погоди, простудишься насмерть, будет тебе вирусное заражение, умник! — ответила бабуля с несвойственной ей грубостью, и я подумал, что ее, похоже, что-то основательно расстроило. Может быть, даже я…
— Послушай, ба, извини, что не звонил, ладно? Не сердись!
— Ладно, я не сержусь, Майкл… Больше не сержусь, только ты так больше не поступай. Обещай мне, что будешь звонить почаще.
— Обещаю.
— То-то же. Кстати… — начала она, но вдруг замолчала. Возникла пауза, в течение которой к шипящим на сковородке компонентам «ольстерской поджарки» присоединились колбаса, пресный хлеб и яйца. Теперь оставалось только дождаться, пока аппетитный запах поднимется к потолку и заполнит всю квартиру, сосиски потемнеют, а кровяная колбаса покроется хрустящей корочкой.
Бабуля наконец заговорила:
— Скажи правду, Майкл, у тебя все в порядке?
Я с жаром закивал, но для телефонной связи этого, пожалуй, недостаточно.
— Все в порядке, ба, а что? Что-нибудь случилось?
— Это я должна тебя спросить, что случилось, Майкл. Миссис Мартин сказала, что ты больше не будешь приезжать, потому что тебя ищут.
— Кто?! Кто меня ищет?
— Буквально на днях она видела здесь двух полисменов, которые расспрашивали о тебе. Меня-то не было — я ездила в город за продуктами, и они спрашивали у нее, не видела ли она тебя, и все такое. Миссис Мартин, конечно, им ответила… Ты знаешь, как она умеет, а ты так плохо о ней отзываешься! Но когда она рассказала об этом мне, я сразу поняла, что ты, наверное, попал в беду. Полицейские больше не возвращались, поэтому я ничего им не сказала, но…
Я сдвинул сковороду с «поджаркой» в сторону и выключил газ.
— Послушай, ба, а ты не могла бы позвать к телефону миссис Мартин? — сказал я. — Мне хотелось бы самому расспросить ее об этих… полицейских.
Бабуля положила трубку рядом с аппаратом и пошла звать миссис Мартин — женщину, с которой за всю мою жизнь я едва ли обменялся парой слов, — до того я ее боялся. Вскоре я услышал шаги и шушуканье, потом миссис Мартин взяла трубку.
— Добрый день, молодой человек.
— Здравствуйте, миссис Мартин.
— Как тебе там живется, в Америке?
— Неплохо, спасибо.
— Понятно…
— Послушайте, гм-м… миссис Мартин, я хотел спросить: вы уверены, что те двое мужчин, которые меня искали, действительно были из полиции?
— Как бы не так, Майкл! Правда, твоя бабушка со мной не согласна, но она их не видела, а я видела. Эти двое были совсем не похожи на легавых. Во-первых, стрижка слишком короткая, а во-вторых, они были в джинсах! Конечно, это могли быть и полицейские детективы, но я так не думаю.
— А что конкретно они у вас спрашивали?
— Они интересовались, не видела ли я тебя в наших краях, а я ответила, что, насколько мне известно, ты давно уехал в Америку. Тогда они стали задавать мне всякие каверзные вопросы, но я просто послала их куда подальше. Я уверена: если бы они были из полиции, они бы предъявили свои удостоверения, или что там у них есть, но они ничего мне не показали и не представились.
— А как они говорили? Был у них какой-нибудь акцент?
— Да, пожалуй. Я бы сказала — они говорили как местные, только ужасно неграмотно. Полицейские так не разговаривают.
— Вы правы, миссис Мартин, это не полиция, — сказал я. — О'кей, огромное вам спасибо. А теперь не могли бы вы еще раз дать трубку бабуле?
Бабуля снова взяла трубку, и я велел ей отвечать всем, кто будет меня разыскивать, что она уже давно не имеет от меня никаких известий. То же самое я попросил передать миссис Мартин и миссис Хиггинс, и бабуля пообещала. Она не стала спрашивать, в чем дело, должно быть почувствовав, что я вляпался в какую-то темную историю. Это было совершенно очевидно, и она предпочитала не знать подробностей. Я еще немного поболтал с ней, наврав, будто у меня теперь новая работа и новая девушка. Не сомневаюсь, что бабуля мне не поверила.
Повесив трубку, я вдруг подумал, что будет, если мои враги попытаются отомстить мне через нее? От страха за бабулю у меня затряслись поджилки, но я быстро пришел в себя. Конечно, этот вариант нельзя было исключить полностью, но мне казалось, что это маловероятно. Район у нас беспокойный, и нужно быть по-настоящему крутым, чтобы отправить по этой улице с односторонним движением наемных убийц. Человек, который осмелился бы поднять руку на пожилую женщину, никогда бы не выбрался из Белфаста живым. Нет, девяносто девять шансов из ста, что Темный и мистер Даффи если и будут искать, то меня самого.
Скорее всего, решил я, они просто связались с кем-то из местных, чтобы те проверили у бабули, известно ли ей что-нибудь обо мне или нет. Потом мне в голову пришла еще более интересная идея. Что, если Лучик действительно никому не рассказывал о том, что ему удалось разведать? Вдруг Темный и мистер Даффи до сих пор в точности ничего не знают о моей судьбе? Возможно ли подобное? Неужели Лучик сказал правду и его боссы по-прежнему пребывают в полном неведении? Нет, грустно подумал я. Это было бы слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Во всяком случае, теперь, когда Боб, Лучик и оба шпика мертвы, Темный и мистер Даффи наверняка о многом догадались.
Мне казалось, я поступил совершенно правильно, заставив Темного и мистера Даффи дрожать от страха. Я лег на дно и ждал, пока представится подходящий случай. Никаких глупостей я себе не позволял, только терпел и ждал. Со дня гибели Лучика миновала уже не одна неделя, но я знал, что время еще не пришло. Пока не пришло. Я должен заставить врагов расслабиться и потерять бдительность.
И я стал жить так, как определил для себя.
Я ни с кем не знакомился, ни с кем не встречался.
Разговор с бабулей был моим единственным продолжительным разговором за много, много дней.
Каждую неделю Рамон посылал мне деньги с кем-то из парней. Я не был трехнутым аскетом, поэтому я брал деньги и тратил на всякие нужные вещи. Я приобрел специальные кроссовки и «беговую дорожку», я нарастил мускулы и стал здоровее и крепче. Из дому я почти не вылезал, а когда возникала такая необходимость, я делал это с крайней осторожностью. К счастью, была зима и я мог ходить, надвинув на глаза отороченный мехом капюшон куртки. Все свое время я тратил на медитацию и физические упражнения. В свободные часы я смотрел телевизор и учил испанский по самоучителю, а еду заказывал на дом.
Когда я все же покидал квартиру, то садился в подземку и отправлялся в какие-нибудь отдаленные районы, где меня никто не мог узнать даже случайно. Безопаснее всего было выходить утром, в час пик, чтобы, если что, иметь возможность затеряться в толпе. Мне надо было проявлять осмотрительность, потому что, кроме людей Лучика и людей мистера Даффи, существовали двое неизвестных в черном «линкольне». Легавые могли о чем-то пронюхать, как, собственно, им и полагается — за это им и деньги платят. Источников информации у них могло быть несколько. К примеру, они могли поставить «на кнопку» телефон Лучика, могли найти в квартире Боба мою фотографию, да и лейтенанты Рамона тоже могли трепануться. Но, насколько я понимал, ни до одного из этих источников легавые так и не добрались; в противном случае они бы так или иначе заявили о себе.
Потом я задался вопросом, когда вернется из отпуска Темный, но быстро сообразил, что он должен был приехать, как только обнаружили тело Лучика. Темный и Бриджит уже наверняка дома.
Иначе и не могло быть. После того как Темный остался без помощника, у него наверняка дел невпроворот.
Да, он вернулся домой. И наверное, поджидает меня, так что даже разведка окрестностей была бы сейчас делом рискованным. На его месте я бы поставил возле железнодорожной станции человека, чтобы тот дежурил там двадцать четыре часа в сутки. С десяток охранников патрулировали бы подступы к моему дому, а еще пятерых я бы посадил непосредственно в доме. Кроме того, я бы послал нескольких шпиков в район моего предполагаемого местожительства, чтобы они курсировали по нему в автомобилях и, может быть, даже останавливали прохожих и показывали им мою фотографию… Нет, последнее вряд ли возможно: Рамон бы ничего подобного не допустил — это была его территория. В любом случае им пришлось бы работать предельно осторожно, так как местная полиция, к этому времени наверняка купленная Рамоном, могла задержать их, придравшись к какой-нибудь мелочи.
Как я уже говорил, в собственной безопасности я мог быть уверен только до тех пор, пока сидел в своей квартире, но иногда мне все-таки приходилось покидать ее.
На следующий день после разговора с бабулей я проснулся от собственного испуганного крика и вынужден был выйти на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха и прийти в себя. После нескольких проверок, которые уже вошли у меня в привычку, я сел в автобус, идущий в Клойтерс, и провел там почти все утро, едва не замерзнув насмерть. На следующий день я со всеми предосторожностями добрался до делового центра, а оттуда маршрутом «Трансгудзона» отправился в какую-то богом забытую дыру на нью-джерсийском побережье. Никто за мной не следил, а нет слежки — нет и проблем.
Настроение у меня было приподнятым. Я все-таки перехитрил всех: легавых, Темного, мистера Даффи. Молодец, Мики, мальчик, сказал я себе, ты их сделал! Уложил на обе лопатки. Ты просто умница. Самородок. Долбаная кельтская лиса. Только ради всего святого, не забудь еще один урок своей ирландской юности. Не забудь про главное ирландское проклятье, которое, конечно, слабее проклятья американских индейцев, но все же достаточно сильно, чтобы ты на хер все испортил.
Короче, я решил, что мне нужно напиться, но не сомневался, что все кончится хорошо. Что я справлюсь. Черт побери, я чувствовал в себе столько сил, что мог справиться с чем угодно!
На следующее утро я вышел из дома, как только рассвело, и сложным кружным путем добрался до кубинского кафе на 112-й улице. Там я позавтракал тушеной фасолью, рисом, яичницей-глазуньей и тостами, а также выпил большую кружку кофе «con leche»[72] и сок. Кофе оказался отличным, он меня взбодрил. Я был почти готов начать осуществлять свою программу, но все еще слишком беспокоясь о безопасности, продолжал сидеть у окна, глядя на улицу и фиксируя лица прохожих. Потом я пешком добрался до бара на 79-й улице. Там я тоже сел у затемненного окна, но не увидел ни одного лица, которое показалось бы мне хоть смутно знакомым.
Прошедшая неделя далась мне нелегко. Начиная со звонка домой, бабушке… Мне просто необходимо было расслабиться. Освободиться от всех отрицательных эмоций.
«Дублин-хаус» — порядочная дыра, стилизованная под ирландский бар. Не слишком хорошее место, особенно для начала, — слишком много людей, слишком много разговоров. Пинту пива — и вон отсюда.
Бар «Кухня». Бар «Ныряльщик». Бар «Пушка». Бар «Вест-энд». По пинте в каждом. В «Вест-энде» я хотел пообедать, но там было слишком много студентов, и я снова отправился в южную часть города.
На улице трещал самый настоящий мороз. На мне были мой толстый моряцкий бушлат и вязаная шапочка, и все равно я мерз.
Паб «Эбби». Пивной зал «Бруклин». Там я скверно пообедал пережаренной картошкой фри с кетчупом, зато едва не познакомился с очаровательной официанткой — голландкой по происхождению, которая жила в молодежном общежитии на углу 103-й и Амстердам-авеню. Я знал тот район и был очень удивлен, узнав, что она до сих пор не подверглась ограблению (или чему-нибудь похуже) со стороны Les Enfants Brillants — «Блестящих», как называла себя гаитянская уличная банда, контролировавшая Амстердам начиная с 100-х улиц. Мы разговорились, и я посоветовал ей перебираться на доминиканскую часть Бродвея. Когда она спросила, какие у меня планы на будущую неделю, я честно ответил, что мне нужно прикончить одного парня. После этого официантка старалась ко мне не приближаться, и чаевые в двадцать долларов я ей оставил на столике.
К этому времени я, похоже, был уже на хорошем взводе. Шагая на восток по направлению к Центральному парку, я заглянул в попавшуюся по дороге библиотеку, чтобы немного согреться. Там я просмотрел подшивки «Тайм» и «Ньюсуик» за последние несколько месяцев и узнал много нового — такого, о чем никогда не слыхал: об урагане Эндрю, о шоу Мерфи Брауна и прочем. В конце концов охранник сделал мне замечание за то, что я напеваю, и попросил меня выйти. Я отправился к ближайшей станции подземки, но по дороге остановился у витрины винного магазина. Я так долго смотрел в стекло, что продавец за прилавком бросил на меня раздраженно-нетерпеливый взгляд. «Заходишь или нет?» — говорил этот взгляд. Я зашел и купил пол-литровую бутылку бренди, которую продавец вручил мне в коричневом бумажном пакете. Благодаря этому пакету я мог чувствовать себя абсолютно защищенным Конституцией США от незаконного обыска, в случае если бы мне вздумалось пить бренди прямо на улице.
Скажу прямо, меня этот пакет только раззадорил.
Я решил, что дойду до дома пешком, а по дороге буду согреваться бренди. Тем временем пошел снег, свою шапочку я где-то потерял и теперь буквально дрожал от холода. Бренди я выпил гораздо раньше, чем рассчитывал, и зашел в другой магазин, чтобы купить новую бутылку. Ее я тоже почти опустошил. Примерно в районе 106-й улицы мне пришло в голову, что было бы неплохо вздремнуть. Не обращая внимания на метель, я устроился на скамье на островке безопасности и закрыл глаза.
Пока я спал, мимо проезжала полицейская машина. Сердобольные копы не могли спокойно смотреть, как я замерзаю насмерть на их участке, поэтому они недолго думая решили меня задержать. Вероятно, на самом деле они только хотели оттащить меня в какое-нибудь более подходящее для сна место, но, к несчастью, спросонок я этого не понял. Реакция моя была мгновенной. Как только они взялись за меня, я открыл глаза и, увидев синюю форму, с силой ударил одного из них в грудь.
Легавые действовали быстро. Старый добрый баллончик с едкой жидкостью был у них наготове, и, должен сказать, что жжет эта штука ужасно. Я рухнул как подкошенный, и они навалились на меня. Их было двое. Всего двое. Думаю, я не смог справиться с ними только потому, что был еще пьян. Они сковали мне руки за спиной наручниками, подняли и подвели к патрульной машине. Внутри уже сидело трое каких-то подозрительных субъектов, поэтому один из копов вызвал по радио подмогу. Второй быстро обыскал меня и нашел водительские права, которые сберег для меня Ратко. Строго говоря, права эти никогда не были мне особенно нужны, а теперь они сослужили мне и вовсе плохую службу. Стоя у патрульной машины, я даже сквозь вызванные действием баллончика слезы видел, как меняется выражение лица говорившего по рации копа. Несомненно, мое имя и фамилия были кому-то хорошо знакомы, но кому? Я подумал о парочке из черного «линкольна». Может, это были федералы? Второй коп по-прежнему стоял рядом со мной. Дверца машины была закрыта. К счастью, едкая жидкость попала мне только на левую половину лица; если бы легавые действовали точнее, я вообще перестал бы видеть и соображать.
Впрочем, я и так почти отключился. Я едва стоял и, хватая ртом воздух, пытался проморгаться. Хорошо еще, что снег и ветер никак не стихали; от холода моя кожа потеряла чувствительность, и боль немного отступила. Легавый в машине все еще говорил по рации: он кивал, как заведенный, с каждой секундой приходя во все большее возбуждение, зато легавый номер два начинал притопывать ногами и крутить головой, высматривая вторую патрульную машину. Мои руки были скованы наручниками за спиной, так что требовалось придумать что-нибудь особенное, но особенное трудно выполнить, если у тебя вместо одной ноги — протез. Впрочем, попробовать все равно стоило.
Я попятился от машины и наклонился, сделав вид, будто собираюсь блевать. (До этого момента я старательно раскачивался и лил слезы, как сделал бы это каждый, кто еще в состоянии оценить свои силы и сравнить их с предстоящей задачей.) Второй полицейский отвернулся, чтобы сплюнуть. Я изготовился, и когда он поднял голову, собираясь что-то сказать, высоко подпрыгнул и вытянулся так, что мое тело оказалось почти параллельно земле. Здоровой ногой я изо всей силы ударил легавого в пах. Он был, конечно, в «раковине», но я почувствовал, как она вмялась и треснула. Задохнувшись от боли, полицейский опустился на корточки, привалившись спиной к дверце машины.
Я тяжело упал на бок, вскочил (попробуйте-ка сделать это с одной ногой и со скованными за спиной руками!) и бросился бежать.
Я знал, что первому легавому потребуется минуты полторы-две, чтобы открыть дверцу, которую блокировало скорченное тело его напарника. Он мог, конечно, выбраться из машины через пассажирскую дверцу, но на это потребовалось бы еще больше времени.
Полутора минут мне было достаточно.
Я припустил по Амстердам-авеню, а потом стал кружить, сворачивая то налево, то направо, пока не оказался возле Морнингсайд-парка. Немногочисленные свидетели моего стремительного бегства вели себя как настоящие ньюйоркцы — так, словно ничего особенного не происходило. Растерзанный, плачущий мужчина в наручниках что было духу несся по тротуару, но никто даже не повернул головы, чтобы проводить его взглядом. Никто не обратил на меня внимания, даже когда я пробегал мимо Колумбийской юридической библиотеки, хотя, казалось бы, уж там-то люди должны быть наделены большим чувством гражданской ответственности.
На вершине холма я приостановился, наскоро отдышался, с жадностью глотая морозный воздух, а потом бросился по лестнице вниз. Несколько раз я поскользнулся на широких заснеженных ступеньках и едва не полетел головой вперед (если бы это случилось, я бы наверняка сломал себе шею), но каким-то чудом мне все же удалось сохранить равновесие. Я бежал и бежал, пока не оказался в парке, возле баскетбольных площадок, где мог чувствовать себя в безопасности. Погони за мной не было, и я вздохнул с облегчением. Е-мое! Кажется, мне действительно удалось удрать.
Рассмеявшись в голос, я проделал несколько танцевальных па. Я убежал! Спасся! Убежал от «легавого Пита» и его свиноподобных приятелей!
— Ублюдки гребаные! — в восторге заорал я.
Да, я убежал от полицейских, но происшествие совершенно неожиданно разбудило во мне страх Божий. Черт побери, я был на волосок от того, чтобы потерять свободу! И самое худшее заключалось в том, что мое имя фигурировало в полицейских ориентировках. Мое настоящее имя… Будь проклято долбаное ирландское проклятье! Из-за пристрастия к бутылке я едва не загремел за решетку!
Углубившись в парк, я вскоре отыскал какого-то типа, у которого был лишний четвертак и который оказался настолько любезен, что набрал за меня номер в автомате. Он был неплохим парнем, этот шестидесятилетний, костлявый старикан; к сожалению, он закидывался какими-то транквилизаторами, но иметь с ним дело было приятно. Мой вид ему не особенно понравился, но поскольку я был в наручниках, он решил, что отпетым негодяем я быть не могу. Когда через полчаса за мной приехал Рамон, я первым долгом попросил дать моему знакомому двадцать баксов, что он и выполнил, на задавая лишних вопросов.
Потом мы с Рамоном поехали к нему в пентхаус. Там его парни сняли с меня наручники, на что ушло не больше пяти минут.
— Давненько мы с тобой не виделись, — сказал Рамон, когда его ребята уехали и мы остались одни. Я сидел на диване и потягивал горячий шоколад со сливками, тростниковым сахаром и крепким доминиканским ромом.
— Да, — ответил я.
— Но мы по-прежнему друзья?
— Да.
— Это хорошо.
Он протянул мне руку, и я ответил тем же. Мы обменялись «фирменным» гангстерским рукопожатием, потом Рамон спросил:
— Хочешь чем-нибудь глаз промыть?
— А что у тебя есть?
— Одно домашнее средство.
— Давай.
Он вышел на кухню и сделал какую-то примочку, которую приложил к моему левому глазу, пострадавшему от едкой жидкости. Я поблагодарил, и Рамон ответил — нет проблем. После этого мы некоторое время сидели молча. Мне было нечего ему сказать, а он, очевидно, боялся разозлить меня снова. Я первым справился с неловкостью.
— Думаю, — сказал я, — мы с тобой больше не увидимся. Все будет кончено, наверное, уже на этой неделе. Я и так слишком долго откладывал. Ребята Темного ищут меня, а теперь и легавые тоже. Так что приходится поторапливаться. Сделать дело и исчезнуть.
— Куда думаешь податься?
— Не знаю. В Австралию, в Ирландию, еще куда-нибудь…
Рамон долго смотрел на меня, но я никак не мог понять, о чем он думает. Угадать его мысли мне никогда не удавалось. Он был умным парнем, который занялся глупым бизнесом; впрочем, как я уже говорил, даже этот незаурядный ум оказался бессилен помешать Морено Кортесу (двоюродному брату и одному из доверенных лейтенантов) нажать на спусковой крючок пистолета и всадить в своего патрона девятнадцать пуль. Кстати, всего месяц спустя Морено застрелил Хосе Рамирес, которого, в свою очередь, прикончил… В общем, вы и сами знаете, как это бывает.
Некоторое время мы разговаривали о передвижках и контрактах, которые обычно происходят именно в межсезонье. Рамон упомянул, что во флоридской «Тампе» появился интересный парнишка из Мичигана, который обещал в скором времени стать замечательным защитником. Еще Рамон предсказал, что грядущий одна тысяча девятьсот девяносто третий год станет годом «Янки». Либо девяносто третий, сказал он, либо следующий, в общем — очень скоро… К сожалению, он не дожил до завершения чемпионата США и не видел Сосу в знаменитом «Победном дерби» — думаю, он был бы рад узнать, что не ошибся.
— Итак, Майкл, ты вынужден спешить, потому что тебе в затылок дышит враг.
— Да.
— Но ты обещаешь быть осторожным?
— Конечно.
— Помощь нужна?
— Нет.
Я поднялся, и мы обнялись. Я не попрощался с Районом, а больше мы не виделись. Его гибель стала лишь еще одной строкой в кровавом списке убийств, произошедших в северной части города в начале девяностых.
На следующий день я отправился в магазин «Спорт и туризм» и долго рассматривал выставленное там снаряжение. В особенности меня интересовали спальные мешки, так как я решил обойтись без палатки. В конце концов я оставил заказ на пуховый спальник, который мне обещали доставить со склада в течение двух дней. Меня этот срок устраивал, и я сказал, что зайду за покупкой в указанное время. Кроме того, я купил рюкзак, отдаленно напоминавший модель «Берген», которой пользовались морские пехотинцы Ее Величества. По моим расчетам, в нем должно было поместиться все необходимое.
Вернувшись домой, я выкрасил волосы в черный цвет и сбрил бороду, оставив только усы, которые я тоже подчернил. Натянув джинсы, высокие армейские ботинки и куртку из овчины, я вышел из дома и, сев на северную ветку Метро-Норт на 125-й улице, поехал в Пикскилл. Там я сошел и отправился в ближайший бар. В баре я выбрал место, с которого просматривалась вся платформа. Я просидел там до вечера, но, насколько я мог судить, шпиков поблизости не было, а если и были, то они вели себя крайне осторожно и ни разу не попались мне на глаза.
Вернувшись на Манхэттен, я взял собаку из приюта Американского общества защиты животных на Юнион-сквер. Правда, там меня попросили сообщить мое имя и адрес, но меня это не беспокоило. Пса я отвел к себе на 181-ю и назвал его Гарри. Это была обычная дворняга — глуповатая, ленивая и к тому же приученная к жизни в доме, а не в квартире. В чем заключается разница между этими понятиями, я узнал довольно скоро.
Карту Пикскилла я купил, когда ездил в туристский магазин; тщательно изучив ее, я нашел на ней особняк Темного. Я сбрил усы, а волосы перекрасил в рыжевато-каштановый цвет, осветлив несколько прядей. Потом я переоделся в черную куртку, коричневые вельветовые брюки и мокасины из коричневой замши с бахромой. В аптеке я купил очки с простыми стеклами и тросточку. На этот раз я сел в поезд Метро-Норд на вокзале Гранд-Сентрал, прихватив с собой Гарри: выйдя в Пикскилле, я сделал вид, будто выгуливаю собаку. Вскоре я обнаружил и дом. По карте до него было не больше тридцати — тридцати пяти минут неторопливой ходьбы, но карта не учитывала рельефа местности и на самом деле из-за подъемов и спусков дорога заняла у меня больше часа.
Возле дома я маячить не стал, а лишь прошел мимо, чтобы хотя бы приблизительно оценить систему безопасности. У ворот, преграждавших въезд на участок, не было будки охраны, да и на самой территории я не заметил ни одной живой души. На подъездной дорожке стояли джип и «форд-бронко». В раскрытой двери гаража я разглядел передок «ягуара».
Миновав участок, я оказался среди деревьев и спустил Гарри с поводка. Вскоре мы с собакой убедились, что деревья вплотную примыкают к участку с задней стороны и что сюда редко кто захаживает, так как рядом протянулось топкое болотце глубиной примерно по колено. За болотцем виднелась небольшая роща с подлеском из густого, колючего кустарника. Если перейти через болотце и залечь в кустах с хорошим биноклем, то лучшего наблюдательного пункта и желать нельзя. Я был уверен, что среднестатистическому охраннику из частного агентства и в голову не придет проверять рощу, потому что среднестатистический охранник — это ленивая, жирная задница, которая вряд ли захочет по собственному почину лезть в болото, рискуя промочить ноги. Кроме того, рощица располагалась довольно далеко от дома и не возбуждала особых подозрений. Мне могло что-то грозить только в случае, если бы среднестатистический охранник по чистой случайности оказался толковым и старательным парнем, у которого к тому же была обученная собака. Вот тогда дело мое было б дрянь.
Вернувшись на платформу, я доехал до Гранд-Сентрал. На подземке я добрался до Юнион-сквер и сдал Гарри обратно в приют под предлогом того, что он-де писает в комнатах. В качестве компенсации за беспокойство я пожертвовал приюту пятьдесят баксов.
Дома я смыл с волос краску и упаковал рюкзак, уложив в него недельный запас галет и свиной тушенки с бобами (семь банок тушенки и семь пакетов с галетами). В рюкзак попали также баночка мультивитаминов, упаковка сухого печенья «Мария», которое я купил, чтобы разнообразить свой рацион, упаковка таблеток для обеззараживания воды и две пластиковые литровые бутылки. Я приобрел большую воронку с надевающейся на носик гибкой пластиковой трубкой, чтобы можно было мочиться не вставая с земли.
Я купил и портативный навес, какие обычно входят в комплект спасательного снаряжения, и потратил почти целый день, соскребая с него сигнальную оранжевую краску и перекрашивая его в белый цвет. Кроме очень дорогого водонепроницаемого спального мешка на гагачьем пуху, я приобрел бинокль с электронно-оптическим преобразователем для наблюдения в темноте, теплые лыжные рукавицы и к ним — тонкие нижние перчатки из натурального шелка, кальсоны с начесом, брюки от тренировочного костюма, комплект армейской формы, секундомер и еще один бинокль на треноге. Я купил белую камуфляжную куртку, лыжные очки, черную шерстяную шапку, черный фланелевый шарф, ветровку, две пары теплых шерстяных носков и одну пару простых, утепленные ботинки, фонарик и, не сумев найти нож, который бы мне понравился, заточил длинную отвертку. Еще я купил офисный резак «Стэнли», пару футболок, безрукавку, черный свитер, блокнот, ручку, несколько карандашей, пластиковые пакеты для мусора, веревку, широкую липкую ленту и тонкие кожаные перчатки. Сгоряча я купил пневматический молоток, но, поразмыслив, решил не брать его с собой. Вместо него я дополнил свой набор спичками, большой бутылью питьевой воды, банкой арахисового масла и зубной щеткой. Последним я приобрел плеер, аудиоверсию «Войны и мира» и упаковку запасных батареек. Некоторые считают, что для такой работы, какая предстояла мне, необходимы также направленные микрофоны, инфракрасные датчики, детекторы движения и оборудование для подслушивания мобильных телефонов, но эти люди просто дураки и ничего не понимают.
Дом Темного стоял на тихой проселочной дороге на участке площадью около двух акров. Слева и справа от него стояли другие дома — такие у нас в Ирландии называют особняками. Только сзади к участку примыкал густой, заболоченный лес, спускавшийся к самому Гудзону. Думаю, что именно из-за болота этот лес до сих пор не был застроен. Зимой он служил, конечно, не таким хорошим укрытием, как летом, но мне показалось, что спрятаться здесь не проблема, так как все пространство между стволами высоких лиственных деревьев, среди которых попадались и ели, заросло высоким кустарником и почти не просматривалось. Но главным преимуществом выбранного мною наблюдательного пункта я продолжал считать то обстоятельство, что грязь, тина и незамерзающие лужи служили серьезным препятствием для каждого, кто вознамерился бы отправиться в этот лес погулять или вывести собаку.
Пикскилл расположен на берегу Гудзона сразу за Синг-Сингом и знаменит тем, что здесь родился Мел Гибсон. Кроме того, в пятидесятых здесь происходили расовые волнения, а в восьмидесятых снималась популярная «комедия положений». Одно время в Пикскилле жил губернатор Патаки и существовали одна-две коммуны социалистов-хиппи. Темный жил практически рядом с одной из таких коммун, но зимой почти все ее члены перебирались во Флориду. Иными словами, в Пикскилле было очень немноголюдно, и я был уверен, что, если я найду подходящую яму, установлю в ней свой навес и закидаю снегом, меня не обнаружат ни через неделю, ни даже через месяц. В хорошо замаскированном укрытии я мог бы скрываться хоть до весны.
Да, я нашел себе превосходный наблюдательный пункт. Единственный его недостаток заключался в том, что он был расположен довольно далеко от дома, поэтому для полноценной слежки мне понадобился бы как минимум двенадцатикратный бинокль, а лучше — подзорная труба или телескоп. Я, однако, остановил свой выбор на бинокле, так как он был менее громоздким.
События развивались как по писаному. Наполеон вторгся в Россию, где ему пришлось туго.
Один-два героя книги погибли, чему я только обрадовался, так как успел запутаться в многочисленных персонажах со странными фамилиями. Кроме этого никаких проблем у меня не возникло. Я приехал в Пикскилл с первым утренним поездом и зашагал прочь от станции, потом незаметно вернулся назад и, пробравшись через лес, еще до света успел оборудовать свой наблюдательный пункт. На рассвете пошел легкий снежок, что тоже было мне на руку. Снег шел всю неделю, и меня это устраивало. Я лежал в глубокой ложбинке, которая полностью скрывала меня от чужих глаз. Если бы я захотел, то мог бы мочиться стоя, но я все же предпочел этого не делать. С водой не было никаких проблем — когда мои запасы подошли к концу, я мог использовать либо снег, либо болотную воду, которая имела вполне сносный вкус. Обеззараживающие таблетки, которые я купил, оказались новейшей разработкой фармацевтической промышленности и обладали совершенно замечательными свойствами: после них вода не пахла ни хлоркой, ни йодом, чему я был очень рад. Свинина с фасолью тоже была отличной. Правда, мне приходилось есть консервы холодными, но я не жаловался, так как совсем не мерз. Напротив, у меня в укрытии было достаточно тепло, почти уютно. Но главное, с помощью своего бинокля я мог держать под контролем почти весь особняк.
Раза два я видел Бриджит, которая входила и выходила из дома, и каждый раз мое сердце начинало биться чаще. Мне приходилось прилагать большие усилия, чтобы не вскочить и не помахать ей рукой. Темного я видел каждый день; рано утром он уезжал куда-то в город, а поздно вечером возвращался. Как правило, он пользовался «бронко», а Бриджит — джипом; если же они отправлялись куда-то вместе, то садились в «ягуар». В поездках Темного сопровождали два телохранителя; еще двое охранников оставались в доме. Время от времени охранники сменяли друг друга. Кроме охранников, в особняке было двое слуг: мужчина лет шестидесяти с небольшим и женщина примерно того же возраста.
То, что у Темного было всего четверо охранников, меня удивило, но не слишком. В конце концов, он не мог знать наверняка, что Боба и Лучика убил именно я, к тому же со времени их смерти прошло уже порядочно. Несомненно, Темный рассчитывал и на то, что его адрес мало кому известен, но главное, он был уверен, что в случае необходимости сможет сам за себя постоять. Он был крутым парнем, наш Темный; разве он не доказал это, более двадцати лет оставаясь одним из авторитетов криминального мира?
На то, чтобы получить представление о порядках в доме, мне понадобилось около трех суток. Еще трое суток я потратил, проверяя и уточняя результаты своих наблюдений. Двадцать третьего декабря я был готов действовать, но как раз в этот день Темный и Бриджит уехали куда-то на всю ночь и вернулись только утром. Близился рождественский сочельник, и это меня серьезно беспокоило. Не исключено, думал я, что в этот предпраздничный вечер они снова куда-нибудь отправятся, однако в час пополуночи «ягуар» все еще стоял на подъездной дорожке, и я понял, что они никуда не поедут.
Формально Рождество уже наступило.
Последние батарейки в плеере окончательно сели. За время своего дежурства я одолел примерно три четверти «Войны и мира» и начал наконец врубаться, о чем шла речь в этом великом романе. Жаль, что я не успел дослушать его до конца, потому что если бы все закончилось, как я хотел, то в ту же ночь мне предстояло вернуться к своему убежищу, разобрать палатку, уничтожить все следы своего пребывания там, а разные мелочи забрать с собой, чтобы выбросить где-нибудь подальше. Впрочем, выбрасывать кассеты и плеер было вовсе не обязательно. В конце концов, я мог дослушать «Войну и мир» и в самолете.
Все же мне казалось, что в час ночи еще слишком рано переходить к активным действиям. К счастью, в батарейках еще оставалось достаточно мощности, чтобы слушать встроенное в плеер радио. Осторожно крутя маленькое колесико, я настроился на волну классической музыки, чтобы успокоить нервы. Передавали девять бетховенских симфоний. Моих трех классов немецкого оказалось достаточно, чтобы после «Alle Menschen werden Bruder»[73] отключить плеер.
Пора.
Я убрал плеер и прислушался к безмолвию ночного леса.
Потом я снова взялся за бинокль, но в доме все было по-прежнему. На сегодня слуги получили выходной, поэтому кроме Темного и Бриджит в особняке оставались только четверо охранников: один патрулировал участок, остальных не было видно. Свет в окнах не горел, и я предположил, что Темный и Бриджит легли спать. Вероятно, спали и двое из трех остававшихся в доме охранников. Так обычно и делается — ночь делится пополам, и пока одна пара отдыхает, вторая стережет дом: один человек обходит его снаружи, а второй дежурит внутри с рацией. Таким образом, я мог надеяться, что мне придется иметь дело только с двумя бодрствующими охранниками. Всего с двумя, если только я не идиот. Впрочем, я был почти уверен, что угадал правильно. Сменное дежурство было самой естественной вещью. Итак, Темный и Бриджит ограничились только четырьмя охранниками. Им даже не пришло в голову завести собак! Похоже, сами напросились.
Я быстро натянул черный свитер, ботинки, тонкие перчатки и брюки от армейского комплекта обмундирования, потом рассовал по карманам заточку, моток липкой ленты и резак. «Глок» тоже был при мне, но я надеялся, что мне не придется пускать его в ход в самом начале операции.
Покинув свой наблюдательный пункт, я перебрался поближе к дому, откуда мне был хорошо виден обходящий участок охранник. Временной зазор мне оставался небольшой, так как в ночное время двое дежурных связывались друг с другом по рации каждые четверть часа, по крайней мере, на это предусмотрительности им хватало. Заметив шатавшегося по территории охранника, я обогнул взгорок и, следуя за ним, решил, что нападу на него сразу после очередной радиопроверки. Этого парня — охранника Б, я успел хорошо изучить и знал его привычки. Со своим напарником он связывался не слишком аккуратно, должно быть, потому что был сравнительно молод: минимальный промежуток между двумя сеансами связи составлял у него тринадцать минут и пятнадцать секунд, а максимальный — семнадцать минут и пятьдесят секунд.
Ночная темнота мне не мешала — к ней я уже привык. Вот охранник Б взял рацию и, вызвав напарника, сказал что-то насчет похолодания. Дав отбой, он пробормотал себе под нос что-то о «чертовском морозе».
Пока это происходило, я одним рывком достиг ограды. Она была примерно восьми футов высотой и утыкана поверху битым стеклом. Не страшно. Мне не понадобилась даже веревка. Подтянувшись, я перекинул тело через ограду и спрыгнул в мягкий снег с другой стороны.
В такой ситуации обычно задаешься вопросом: хватит ли решимости, не испытываешь ли колебаний? Могу честно сказать, что колебаний я не испытывал. Колебаться я мог перед тем, как убил Лучика, но не сейчас, не в тот день…
Не с Темным.
Приземлившись, я тотчас выпрямился, готовясь действовать, если б охранник меня услышал. Но нет, он вообще ничего не слышал. Радиопроверка только что закончилась, а это означало, что у меня в запасе чуть ли не семнадцать минут, прежде чем второй человек в доме почувствует неладное. Семнадцать минут — это уйма времени.
Охранник был одет в куртку с большим капюшоном, заглушавшим звуки и ограничивавшим поле его зрения примерно девяноста градусами непосредственно перед лицом. Шагая по заметенной снегом тропинке, он что-то бормотал. На руках у охранника были теплые вязаные перчатки — такие толстые, что быстро нажать на спусковой крючок револьвера, который он держал в руке, ему было бы затруднительно. Поверьте, я знаю, что говорю.
Охранник тем временем повернулся, лунный свет упал на его лицо, и я с удивлением узнал Дэвида Марли — одного из наших парней, с которым я, впрочем, в последний раз виделся давным-давно. С тех пор он заметно пополнел. Напевая себе под нос мелодию из «Контрабандиста», он отбивал ритм, постукивая себя рукояткой револьвера по бедру. Не заметив меня, Марли отвернулся, и я подкрался к нему сзади. Коротко размахнувшись, я всадил заточку ему в горло и одновременно, упершись коленом ему в поясницу, зажал его рот свободной рукой. Оставив заточку торчать в ране, я вынул револьвер из его ослабевших пальцев. Оружие было у меня в руках еще до того, как Марли осел в снег. Я упал сверху, придавив его всей тяжестью. Марли хрипел, но не шевелился — только кровь струйкой стекала из раны на снег.
Убедившись, что он мертв, я выдернул заточку и проверил его револьвер. Механизм был исправен и хорошо вычищен, и я решил, что в случае крайней необходимости револьвер (калибра 38) может пригодиться мне в качестве резервного оружия. Поставив курок на предохранитель, я опустил револьвер в боковой карман и взглянул на часы. У меня оставалось пятнадцать минут, чтобы разыскать и нейтрализовать второго охранника. Я от души надеялся, что смены караула в ближайшее время не будет и что мне предстоит лишь связать двух охранников, пока они спят, таким образом избежав лишней крови, но все зависело от того, повезет мне или нет.
Стеклореза у меня не было, а в сигнализации я ничего не смыслил. На всякий случай я все же обыскал Марли, но, как я и думал, никаких ключей при нем не оказалось: дверь ему открывал остававшийся в доме напарник. С самого начала я планировал проникнуть в особняк через гаражные ворота. Если бы и они оказались оборудованы сигнализацией, вся затея пошла бы к черту, но я был почти уверен, что сигнализации там нет. Ворота в гараже не были автоматическими, и я несколько раз видел, как их открывали для Темного, когда он возвращался очень поздно и сигнализация в доме, уж конечно, была включена. Тогда ничего не происходило; не мигали лампочки, не выли сирены, как бывало в тех случаях, когда Темный оставлял «бронко» на подъездной дорожке и входил через парадную дверь, однако по большому счету это не было стопроцентным доказательством того, что гаражные ворота к сигнализации не подключены. Я только желал этого, но если б желания были лошадьми, все мы давно бы ездили верхом, как любил говаривать Скотчи. Впрочем, другого выхода у меня все равно не было: либо гаражные ворота, либо я мог прямо сейчас поворачиваться и убираться восвояси.
И я скользнул за угол дома. Гаражные ворота я сравнительно быстро взломал с помощью своей универсальной отвертки, благо они были сделаны из жести, которая легко гнулась. Вскоре я проделал в них достаточно большую щель, в которую можно было протиснуться. Взламывая ворота, я так увлекся, что и думать забыл о сигнализации, и вспомнил о ней, только когда оказался внутри.
Из гаража в дом вела дверь, которая не только не была заперта, но и вообще не запиралась. Это была уже какая-то супербеспечность, если хотите знать мое мнение. За дверью находилась небольшая комнатка, в которой стояли стиральная машина и сушилка. Повсюду горели ночники, так что я вполне мог обойтись без фонарика. Скорчившись на полу, я замер и прислушался, но все было тихо. В эту ночь перед Рождеством во всем доме царила полная тишина — ни Темный ни Мышка не шевелились.
Я прошел в большую, просторную кухню с мраморными рабочими столами и разнообразной кухонной техникой. Стоя посреди кухни, я огляделся по сторонам, ища кошачью или собачью миску или, может быть, птичью клетку, но не заметил никаких следов присутствия в доме каких-либо домашних животных, способных поднять шум и разбудить хозяев.
Из кухни я попал в застланный ковром холл и снова прислушался. Негромко гудели трубы парового отопления, да из комнаты напротив доносились какие-то слабые звуки. Я подошел к самой двери и разобрал звук включенного телевизора. Кто это мог быть? Второй охранник? Почти целая минута ушла у меня на то, чтобы осторожно повернуть ручку и чуть-чуть приоткрыть дверь. Охранник сидел перед маленьким переносным телевизором и смотрел передачу с Джимми Стюартом. Судя по всему, он был полностью поглощен тем, что происходило на экране. Охранник сидел ко мне спиной, отвернувшись от двери, и я невольно подумал о том, что Судьба снова играет на моей стороне; в противном случае мне пришлось бы броситься на него и попытаться ударить заточкой в сердце или в шею, что, конечно, сопровождалось бы изрядным шумом.
Скользнув в дверную щель, я на цыпочках подкрался к охраннику и, зажав ему рот ладонью, свободной рукой приставил пистолет к его уху.
— Кх-то? — только и успел произнести охранник.
— Дед Мороз, едрена вошь. А теперь слушай меня внимательно: я пришел сюда не по твою душу, но если ты хоть пикнешь или трепыхнешься, я вышибу тебе мозги. Понял? Только, пожалуйста, не надо кивать — и вообще не шевелись, иначе я могу вышибить тебе мозги по ошибке — я, знаешь ли, очень нервный. Сделаем так, приятель: если ты меня понял, то помычи, только негромко, ладно?
У бедняги, наверное, горло перехватило от страха, потому что вместо мычания он только тихо заскулил. Не опуская пистолета, я обошел кресло, чтобы разглядеть охранника. Он был совсем молодым, рыжеватым, веснушчатым, и убивать его мне совсем не хотелось. Одет он был в футболку и обвислые джинсы, рядом на столе лежало шерстяное полупальто с капюшоном. Оружия при нем не оказалось, и я, достав моток клейкой ленты, приказал ему снять ботинки, но действуя одной левой и не резко. Когда с этим было покончено, я сказал, чтобы он связал себе липкой лентой ноги в щиколотках, разрешив ему использовать обе руки, но по-прежнему не делая резких движений. Охранник взмок, руки его дрожали, но в конце концов он все же справился. Все это время он сидел спиной ко мне, но по большому счету мне было все равно, увидит он мое лицо или нет. Хотя по самому большому счету я бы, пожалуй, предпочел, чтобы он его не видел.
— Как тебя зовут? — спросил я. — Только отвечай шепотом.
— Ж-ж… Джон.
— О'кей, Джон, теперь слушай. Сейчас ты заведешь руки за спину, а я склею тебе запястья все той же липкой лентой. Для этого мне понадобятся обе руки, поэтому пистолет мне пока придется положить. Но он все время будет рядом, поэтому, если ты сделаешь хоть какое-то резкое движение, я могу чисто автоматически схватить его и прострелить тебе башку. Тебе понятно? Помычи, если понятно…
Он помычал, потом протянул запястья, и я надежно связал их у него за спиной. Подобрав пистолет, я заклеил ему глаза и, взявшись за спинку стула, слегка накренил его.
— Сейчас, Джон, я уложу тебя на пол. Я буду делать это очень осторожно, чтобы не шуметь, поэтому мне необходимо, чтобы ты расслабился и помог мне, о'кей? Теперь можешь кивнуть.
Он кивнул, и я уложил его на пол вместе со стулом.
— Еще несколько слов, Джон… Там, наверху, у меня есть одно важное дело, но я хочу избежать лишних смертей. И однако можешь не сомневаться, что я убью тебя, если ты попытаешься поднять тревогу или хотя бы пошевелиться. Обещаешь мне, что не выкинешь какой-нибудь глупости? Кивни, если согласен лежать смирно.
Джон снова кивнул.
— Отлично. А теперь скажи мне, только шепотом, когда должна заступить на дежурство вторая смена?
— Ч-через п-полчаса.
— Хорошо. Пока все в порядке. Вы их будите или они просыпаются сами?
— Б-будим.
— Прекрасно, Джон, осталось совсем немного. Расскажи мне, где находится спальня Темного и Бриджит и где находится комната охранников. Ведь, кроме тебя, в доме только двое из ваших парней, верно?
— Да, двое…
Джон рассказал мне, где спят его коллеги и где находится комната Темного и Бриджит. Когда он закончил, я заклеил ему липкой лентой рот и еще раз напомнил о необходимости ни под каким видом не шуметь и не пытаться сдвинуться с этого уютного местечка на полу. Оставив телевизор включенным, я тихо вышел из комнаты и стал подниматься по застланной ковром винтовой лестнице, уходившей вверх под углом не больше тридцати градусов. С нее был виден практически весь дом, и надо сказать, выглядел он очень мило. Правда, мне он показался чересчур нарядным и перегруженным деталями, но это, без сомнения, была вина не Бриджит, а Темного.
Поднявшись на верхнюю площадку, я на мгновение остановился. За всю ночь это был единственный раз, когда я заколебался. Спальня Темного располагалась в конце коридора слева, комната охранников была второй справа. Как сказал Джон, все они спали в одной комнатке на двухъярусных койках. (Ну разумеется, на двухъярусных! Темный всегда был прижимист.) Самым разумным было бы потихоньку пробраться туда и перерезать им горло, пока они спят, но я уже пообещал себе, что, если получится, я оставлю охранников в живых. То есть раньше я думал, что мне все равно, каким образом я смогу достичь своей цели, но оказалось, что нет — не все равно. С другой стороны, несмотря на то, что я решил обойтись без лишней крови, это вовсе не означало, что я откажусь от своего плана, если для его осуществления мне потребуется кого-то убить. Не мог же я, в самом деле, позволить троим вооруженным мужчинам разгуливать по дому, пока я буду приканчивать их босса! Гм-м… Я задумался. А что, если я потихоньку войду в комнату и попытаюсь оглушить спящих охранников ударом по голове? Этот план выглядел вполне осуществимым, но я не знал, не разбудит ли первый удар второго из них.
На обдумывание у меня ушло не больше секунды. В конце концов, я все же решил рискнуть. Возможно, я выбрал самый опасный путь, но какое-то решение принимать было надо, иначе я бы проторчал на этой чертовой лестнице до утра!
Дальше я действовал быстро, но осторожно. Подкравшись на цыпочках к комнате охранников, я бесшумно отворил дверь. Внутри стояли две двухъярусные койки, одна напротив другой. Мне снова повезло — оба оставшихся охранника спали на одной койке: один наверху, другой внизу.
«Ну, поехали!» — подумал я и, шагнув вперед, оглушил спавшего на нижней полке охранника, ударив его за ухом рукояткой отвертки. Не проверяя, что вышло из моего удара, я стремительно выпрямился и таким же образом ударил второго мужчину. Офисный резак я держал в левой руке, готовясь перерезать им глотки, но, к счастью, он мне не пригодился. Оба моих удара достигли цели: охранники потеряли сознание. Включив настольную лампу, я достал моток липкой ленты и принялся за дело. Я связал им руки и ноги, заклеил им глаза и рты и уложил обоих на бок. У человека без сознания мышцы расслаблены, и ворочать его с боку на бок очень нелегко, но я справился с охранниками меньше чем за десять минут. Больше всего меня, однако, обрадовало не это, а то, что мне не пришлось их убивать. Пощадил невинных! Ай да я! Настоящая мать Тереза, блин…
Убедившись, что оба охранника надежно связаны и опасности не представляют, я вышел из комнаты и прошел в конец коридора к спальне Темного. Приоткрыв дверь, я убедился, что в кровати лежат двое. Так… Я на цыпочках приблизился и пошарил под подушками в поисках оружия. Под руку мне сразу попался револьвер, и я осторожно вытащил его. Мои уши напряженно ловили каждый звук, но ничего особенного я не услышал. Темный храпел, Бриджит посапывала во сне. Пока все шло как по маслу.
Я включил светильник на ночном столике.
Бриджит с распущенными волосами была прекрасна. На ее левой руке блестел перстень с таким большим камнем, что он мог бы потопить и «Куин Элизабет-2». Темный — загорелый, умиротворенный — спал крепко и безмятежно.
Бриджит проснулась первой. Увидев меня, она вскрикнула.
Темный сразу открыл глаза и сунул руку под подушку, но оружия там уже не было. Револьвер — компактная, но мощная модель калибра.38 — был у меня, и сейчас я направил его на Темного.
— Ты! Живой! — ахнула Бриджит.
— Да, живой, — подтвердил я.
И Бриджит и Темный были одеты в одинаковые фланелевые пижамки с зайчиками. Почему-то мне казалось, что он заставляет ее носить вульгарную рубашку с глубоким вырезом, но я ошибся. Пижамки выглядели по-домашнему уютно и мило, и я подумал, что Темный не такой уж мерзавец.
Казалось, Бриджит вот-вот хлопнется в обморок, но она лишь несколько раз судорожно сглотнула. Что касалось Темного, то он смотрел на меня без тени страха. Как я уже говорил, что-то хорошее в нем все-таки было.
— Ты убил Лучика, — сказал он. Это не был вопрос, просто констатация факта.
Я кивнул.
— И Большого Боба тоже? — спросил Темный. На этот раз он действительно не знал.
— Да, и Большого Боба, — подтвердил я.
— О господи! — выдохнул он, но я видел, что Темный все еще не чувствовал ни малейшего страха.
— В чем дело? — спросила Бриджит. — Объясни, пожалуйста, что случилось? Что вообще происходит, дорогой?
Только когда она произнесла это последнее слово, я понял, что она обращается не ко мне.
Темный посмотрел на нее, потом на меня. Очевидно, на моем лице он прочел все, что хотел знать. Свой приговор.
— Нам с Майклом нужно обсудить одно важное дело, милая, — сказал он с завидным самообладанием. — Я думаю, тебе лучше ненадолго выйти в ванную.
— Да что происходит?! — истерически взвизгнула Бриджит.
Мне хотелось заговорить с ней, рассказать ей, что за человек Темный, рассказать об Энди, Скотчи, Фергале, о том, через что мне пришлось пройти и почему, объяснить ей, что Темный — гребаное чудовище, жестокий негодяй, хитрая и опасная тварь, которая заслуживает смерти, смерти, смерти! Что без него ей будет гораздо лучше. Что ей будет лучше со мной. Мне хотелось произнести маленькую речь и объяснить ей, что Бог избрал меня орудием своей мести, но… в который раз Темный был прав. Бриджит не следовало видеть того, что должно было произойти. Так будет лучше.
— Темный прав, Бриджит, — сказал я. — Нам нужно кое-что обсудить, так что ступай в ванную.
— Ты ведь не убьешь его, Майкл? Имей в виду, в доме четверо вооруженных охранников, они не дадут тебе уйти. Они убьют тебя, Майкл, они… О господи, ты жив! Но как тебе удалось? Мы не знали. Мы ничего не знали! Ведь речь идет о деньгах, правда? Обещай мне, Майкл, что ты не сделаешь ничего… сгоряча. Обещай мне!
Она смотрела на меня, но прижималась — к нему.
— Все вопросы можно решить, — лепетала она. — Обещай, что не сделаешь ничего сгоряча! Обещай же!
— Обещаю, — сказал я.
Темный не отрываясь смотрел на меня.
— Я все объясню тебе позже, Бриджит, — проговорил он. — А теперь, дорогая, сделай мне одолжение — выйди на минутку в ванную. На минутку, не больше…
— Но почему? В чем дело? — снова спросила Бриджит, сев в кровати и подавшись вперед так, что при желании могла бы коснуться меня.
— Есть дело, детка, — твердо сказал Темный. — А теперь — иди.
Я с любопытством посмотрел на него. Темный смело встретил мой взгляд. Его лицо было сосредоточенным, но спокойным, и я почувствовал что-то вроде восхищения. Что за человек! Вот что значит старая школа. Даже сейчас он оставался великим Темным Уайтом!
— А зачем ему револьвер? Здесь же нет воров! Как хорошо, что ты жив, Майкл! Я ужасно рада, что ты жив. Господи…
Темный повернулся к ней. Он видел, что я начинаю терять терпение, и хотел во что бы то ни стало избавить Бриджит от ужасного зрелища.
— Выйди в ванную на пару минут, — сказал он громко, настойчиво. — Нам с Майклом нужно поговорить о делах.
Бриджит посмотрела на меня.
— Зачем тебе револьвер, Майкл? — повторила она.
Боже, какие у нее были глаза! Ну как можно было ей солгать? Как можно было ворваться сюда среди ночи и так ее напугать? Какому негодяю могла прийти в голову мысль причинить вред ей или тем, кого она любила? Это было совершенно невозможно.
— Я не вполне доверяю Темному, только и всего, — сказал я и улыбнулся. Думаю, это ее немного успокоило.
— И ты не причинишь ему вреда? — снова спросила Бриджит.
— Я? Ему?!!
— Да… — сказала она тихо, но в ее голосе по-прежнему звучала тревога. Сжатые руки Бриджит сами собой поползли к груди, словно она молилась. Это зрелище подействовало на меня так сильно, что револьвер запрыгал у меня в руке. Я был потрясен до глубины души.
— Я его и пальцем не трону, — пообещал я. Она опустила руки и закрутила волосы узлом.
Темный шумно перевел дух.
Я сделал то же самое. Похоже, последние несколько секунд я вообще не дышал.
— О'кей, — произнесла Бриджит с неожиданным спокойствием. Она мне поверила. Она решила, что произошло какое-то недоразумение, и теперь ей хотелось, чтобы оно осталось в прошлом, как дурной сон. Ведь завтра Рождество.
Потом Бриджит взглянула на Темного. Он кивнул.
— Две минуты, детка, — сказал он. — Иди в ванную.
Бриджит моргнула. Она поднялась, вышла в смежную со спальней ванную комнату и закрыла за собой дверь.
— Ушла, — шепотом сказал Темный. — Ну, давай, говори, что хотел сказать, и кончай с этим. Я готов.
— Ты — крепкий орешек, Темный, — сказал я, стараясь скрыть свое восхищение.
— Ты тоже.
— А разве ты не хочешь спросить — за что? — Меня все еще тянуло выложить ему все, что случилось со мной за последние несколько месяцев, но я уже понял, что просто не смогу этого сделать.
— Мне кажется, я знаю, — ответил он, сохраняя поистине сверхъестественное спокойствие.
Если бы в свой смертный час я мог быть хотя бы вполовину так спокоен, это было бы здорово. Я присел на краешек кровати.
— После того как Скотчи подстрелили, я дал ему слово, — проговорил я, ни к кому в особенности не обращаясь.
— А если б я сказал, что никто из вас не должен был умереть? — быстро спросил Темный.
— Ты и вправду собирался говорить нечто подобное мне? — ответил я.
— А ты бы поверил?
— Честно говоря, Темный, я не думаю, что это имеет какое-то значение, — сказал я.
Темный покачал головой, потом глубоко вздохнул. На его виске пульсировала жилка. Неожиданно он улыбнулся мне, и я почувствовал, как растет мое недоумение. Неужели это тот же самый человек — порывистый, горячий, до безумия предприимчивый? Или мне наконец-то довелось увидеть настоящего Темного Уайта?
— Что я могу сделать, чтобы ты передумал? — спросил он. — Если бы, скажем, я предложил тебе деньги, много денег… или еще что-нибудь?
Я покачал головой:
— Ты знаешь правило: кровь за кровь. По-другому не получится.
Он вздохнул и откинулся на подушку. Сначала Темный отвел глаза, потом взглянул прямо в лицо.
— О'кей, ублюдок, в таком случае делай то, за чем пришел. Надеюсь, ты понимаешь, что Даффи этого так не оставит? Куда бы ты ни спрятался, он тебя везде достанет, пусть и через пятьдесят лет!
— Знаешь, Темный, я в общем-то никогда не надеялся дожить до преклонного возраста, — сказал я.
Он поглядел на меня и сглотнул, потом сжал руки в кулаки и вытянул их по швам.
— Ну, кончай, — нетерпеливо бросил он. — Теперь я точно готов.
Я поднял револьвер и прицелился ему в голову, но прежде чем я успел нажать на спусковой крючок, раздался грохот. Что-то ударило меня в бок и с силой швырнуло на дверцу платяного шкафа. Ударившись о нее затылком, я откачнулся обратно на кровать, но не удержался и сполз на пол. Оглушенный, я попытался тут же вскочить, но больная нога подвела, и я снова рухнул на пол. Приподняв голову, я увидел Бриджит, которая стояла у двери ванной, держа в руках небольшой никелированный револьвер.
— Черт тебя возьми, Бриджит! — проговорил я. Она сделала несколько шагов в мою сторону.
Она дрожала, глаза были широко раскрыты, прекрасное лицо побелело, но в нем читалась решимость. Холодная решимость и ярость. Подобного выражения я еще никогда у нее не видел. Господи, да знал ли я ее вообще?!
Ее губы сурово сжались.
— Прости, Майкл. Я не знаю, что между вами произошло, — я вообще не знаю, в чем дело, — но я люблю Терри и…
Я сбил ее с ног подсечкой, и Бриджит повалилась навзничь. Револьвер вылетел из ее руки и упал на кровать. Темный и я одновременно бросились к нему, но Бриджит успела перехватить меня. Револьвер провалился между кроватью и ночным столиком.
Выпустив из рук свой револьвер, я схватил Бриджит за волосы, с силой ударил ее головой о дверцу шкафа. Раздался тупой удар. Ее голова неестественно запрокинулась назад, тело обмякло. Я схватил с пола свое оружие и поспешно нырнул под прикрытие кроватной спинки, так как Темный уже нащупал на полу револьвер и открыл огонь. Он слишком волновался, и три выпущенные им пули попали в стену. Прежде чем он успел выстрелить в четвертый раз, я перекатился на бок и трижды нажал на спусковой крючок, попав ему в грудь, в лицо и в шею.
Револьвер Темного выстрелил в последний раз и замолк. Кровь хлестала из его ран, левой половины лица вообще не было. Одна из моих пуль, ударившись о челюстную кость, изменив направление, прошила щеку и прошла в мозг. Глазное яблоко стекало по скуле на подушку. Лицевые мускулы обмякли, а то, что осталось от рта, сложилось в бессильную гримасу. Несколько мгновений Темный еще сидел, потом повалился головой вперед. Я подполз к нему на коленях и взял за руку. Пульс еще прощупывался. Формально он был еще жив, и я воспользовался этим как предлогом, чтобы запрокинуть ему голову и перерезать горло от уха до уха.
Потом я удостоверился, что с Бриджит все в порядке. Бриджит… О господи!
Она любила его. Любила, и Темному вовсе не нужно было устраивать всего этого. Он мог просто убить меня и сказать ей. Она бы, наверно, пришла в ярость, но ненадолго. В конце концов она бы как-нибудь примирилась с этим, потому что любила его, черт возьми. И наверное, так было бы лучше, много лучше. Энди, Фергал, Скотчи — никто бы из них не погиб. Бриджит любила его, она могла бы понять. Простить. Темный перемудрил. Он хотел принять все меры, застраховаться от любых случайностей — и перестарался. Боже мой, Темный, тебе, оказывается, не хватало элементарной уверенности в себе!
Впрочем, что это я? Темный Уайт — и неуверенность в себе? А я-то, дурак, едва в это не поверил. Меня ввело в заблуждение брюшко, которое он отрастил, его крашеные волосы… Но для Бриджит это не имело значения. Ему следовало просто прикончить меня и решить проблему раз и навсегда. И Скотчи был бы жив, но Темный не был уверен в Бриджит, вот в чем дело. Он не верил ей, и это в конце концов его погубило.
— Кретин чертов! — сказал я ему. Сказал и вспомнил, что хотел спросить, не он ли велел тогда избить Энди. Сейчас это уже не имело значения; что было, то прошло. Сев на кровать, я поправил протез. Бриджит по-прежнему была без сознания, и я приподнял ее. На ночном столике я нашел бумажник Темного, а в нем не меньше пяти тысяч долларов крупными купюрами. Они могли мне пригодиться, и я сунул деньги в карман, потом отыскал ключи от «ягуара». Только после этого я решил заняться своим раненым боком. Выглядел он скверно. Я знал, что в боку у человека расположены жизненно важные органы. Какие именно — я не помнил, но был уверен, что не ошибся. Хорошо еще, что рана почти не болела и я мог кое-как двигаться. Отрезав от простыни лоскут своим «Стэнли», я сложил его в несколько раз, прижал к ране и закрепил клейкой лентой. Остатками клейкой ленты я надежно связал Бриджит. Она все еще не пришла в себя, и я решил, что это, пожалуй, к лучшему. Немного подумав, я прикрыл Темного простыней, чтобы он не был первым, что она увидит, когда очнется. Из шкафа я достал свитер и кожаную куртку и натянул на себя. Дамский никелированный револьвер я сунул в карман, чтобы легавым было труднее установить происхождение пули, которую врачи вытащат из моих кишок.
Покончив с этим, я спустился вниз и заглянул в дежурку, чтобы проверить, как поживает мой приятель Джон. Он лежал в том же положении, в каком я его оставил, и я пожалел, что пришлось убить Марли. Без этого моя операция прошла бы чище, но изменить что-либо было уже нельзя.
Мне хотелось пить, и я выпил воды. Включив в гараже свет, я вручную открыл ворота, вышел на улицу и завел двигатель «ягуара». Развернувшись на подъездной дорожке, я закрыл ворота гаража и поехал к выезду с территории. Там мне снова пришлось вылезать, чтобы отпереть ворота. Если бы я не был ранен, я бы вернулся к своему наблюдательному пункту и уничтожил все следы своего пребывания там, но сейчас мне было не до того.
Съехав с холма, я достиг шоссе. Там я увидел указатель со стрелкой на Нью-Йорк. Машина слушалась прекрасно, но прежде чем двигаться дальше, я посмотрел на себя в зеркальце заднего вида. Я был бледен — очевидно, кровь из раны продолжала идти, но не сильно, и я свернул на шоссе. Все дальнейшее я помню как в тумане. Кажется (я не совсем уверен), я останавливался у будки, чтобы заплатить дорожный сбор. Шоссе плыло и раскачивалось перед глазами, но я все же не забыл остановиться на придорожной стоянке и зашвырнуть подальше в заросли три револьвера и «глок». Потом я снова сел в «ягуар».
Примерно через час я добрался до Бронкса, а вскоре был уже в Манхэттене. «Ягуар» я бросил на углу 123-й и Амстердам-авеню, оставив ключи в замке зажигания и распахнув дверцу. У меня не было никаких сомнений, что максимум через десять минут его там уже не будет, но также я думал и о «кадиллаке», поэтому в качестве дополнительной приманки я оставил работающий мотор.
Дальше я отправился пешком. Пройдя почти целый квартал, я присел передохнуть, и тут я начал терять сознание. Я почти вырубился, но, на мое счастье, меня заметил… Кто бы вы думали? Дэнни-Алкаш, который как раз шел в круглосуточный магазин за спиртным. Он был здорово под мухой и шатался, но я каким-то образом уговорил его проводить меня хотя бы до Колумбийского университета. В конце концов он согласился и даже подставил плечо, чтобы я мог на него опереться. Как мы доковыляли до университета — не помню, помню только, как Дэнни орал на охранников у университетских ворот. Там я снова остался один, но все же сумел пройти остаток пути до медицинского центра Святого Луки. Я был на грани обморока, и мне приходилось часто останавливаться, чтобы перевести дух. Наконец я оказался перед дверью приемного отделения и вошел.
В приемном покое все было как всегда. Толкотня, шум, толпа травматиков, доктора и сестры носятся туда и сюда, хрипящее радио орет «Мир на земле».
Медицинская сестра протянула мне планшетку с бланком.
И тут я все-таки на пару минут вырубился.
Голоса. Голоса. Негромкие, успокаивающие…
— Всегда одно и то же, что под Рождество, что под Новый год.
— Да.
— Просто не знаю, что творится с людьми. С ума посходили…
— Да.
— Ладно. Что с вами случилось?
— Не хотелось бы углубляться в детали…
— Ясно. Давайте посмотрим, что там у вас…
— Ай!
— Вас ранили?
— Повторяю, доктор, я не хочу…
— Надеюсь, вы понимаете, что о каждом случае огнестрельного ранения мы обязаны сообщать в полицию?
— А как же врачебная тайна?
— Давно направлена на х…
— Очень смешно!
— Так, сейчас поглядим… Где больно?
— Вот здесь, в боку.
— О'кей, о'кей. Нет, просто приподнимите… Ого! Сильвия, ну-ка, быстро сюда! Помоги мне…
Меня положили на носилки. Когда с меня сняли куртку, стало ясно, что дело очень серьезное, и вот уже на мне разрезают свитер и футболку, и я чувствую, как в вену вонзается игла капельницы.
Один доктор был черным, второй — индейцем, все сестры и сиделки были цветными. Я был в Гарлеме. Я был дома. Повсюду на стенах были развешаны рождественские гирлянды, и я вдруг вспомнил, что сегодня — Рождество.
— Эй, счастливого Рождества! — сказал я.
— Побереги-ка силы, сынок.
Я не знал, что они там делают, но боль была адская.
— Знаете, доктор, по-моему, ваше обезболивающее не действует, — сказал я.
— Оно действует, иначе бы ты давно на стенку полез, — ответила сестра, державшая мою голову, пока ее напарница вставляла мне в нос какие-то пластиковые трубки.
— Нет, мне правда больно. Очень…
— Тебе повезло, что ты жив остался, — раздраженно откликнулся врач и начал что-то делать с моей грудной клеткой, отчего новая волна неимоверной боли прокатилась по всему моему телу. Потом мои веки отяжелели, перед глазами поплыл разноцветный туман.
— Дуракам… всегда… везет… — ответил я врачу и даже успел улыбнуться, прежде чем мне наконец-то удалось потерять сознание.
Эпилог: Лос-Анджелес. Одиннадцать лет спустя
Капает вода. Негромко урчит на холостом ходу автомобильный мотор. Лает собака. Издалека доносится мерный гул автострады, да время от времени в небе проплывает самолет. Жара. Гудит кондиционер. Синеет вода в бассейне. Стакан сока стоит невыпитым — вместо апельсинового сока в него налили грейпфрутовый, а грейпфрут горчит. Кожаный диван у стены. Компьютер. Книжные полки. Жалюзи на окнах наполовину опущены. На жалюзи — пыль. Пыль поднимается от поддельного ацтекского ковра на полу. Длинный волос пристал к моей руке. Это ее волос. На журнальном столике номер «Экономиста» и несколько писем. На картине на стене — лань в лунном свете. Картина тоже ее. Точилка для карандашей в форме крейсера «Виктори». Пепельница. Сигарная гильотинка. В мусорной корзине — смятые листы бумаги и несколько жестянок из-под содовой. На столе кофейная чашка и кроссворд. Поникшие растения. Голубое небо за окном исчерчено белыми самолетными трассами. Подстриженная, хорошо политая лужайка перед домом, кажется, никогда не зазеленеет по-настоящему — слишком уж жаркое здесь солнце.
В комнате тихо, неподвижно, сонно. Я смотрю на старую дедовскую фотографию, на желтовато-коричневые лица давно умерших людей. Капает вода. Собака заходится лаем. В животе урчит, но обед я начну готовить только через час, когда она вернется с работы. Впрочем, все будет зависеть от того, попадет ли она в пробку или нет. Слава богу, мне не нужно никуда ездить. Город напоминает мне крепость в огне, когда люди, как безумные, мечутся с ведрами вдоль стен. Стресс, на каждом шагу стресс… На дворе третье тысячелетие, но транспорт остается наземным и по-прежнему приводится в движение двигателями внутреннего сгорания. Это разочаровывает; впрочем, все двадцатое столетие выдалось довольно мрачным.
Я открываю «Экономист». Иногда лучше не знать… Моя рука начинает дрожать, я роняю журнал и закрываю глаза. Черные поля в далекой, далекой стране. Взгляни и увидишь святого Патрика, молящегося под сенью дерев; увидь и нас, бредущих сквозь лес, воззри на наши раны, на изрезанные колючей проволокой руки, на трясину, в которой с хлюпаньем тонут наши скатки. Холодный дождь льет с небес — к счастью, в мягком климате острова он никогда не бывает слишком холодным. О господи! Я несколько раз моргаю и прихожу в себя. Я смотрю на монитор компьютера — на фотографию звездного неба, сделанную в обсерватории «Хаббл». Несколько секунд спустя включается «скринсейвер», и передо мной возникает Земля из космоса — половина освещена солнцем, половина тонет в ночном мраке. Гудит кондиционер. Гудит негромко, монотонно. Из отводной трубки тонким ручейком бежит вода. Конденсат. Издалека доносятся звуки, напоминающие карнавальные хлопушки. Я встаю с дивана и заглядываю в мини-бар. Никакого грейпфрутового сока там нет, и я снова ложусь. Я думаю. Капает вода. Лает собака. Урчит на холостом ходу двигатель. Ну и конспирация! Она налила мне сок в одиннадцать утра, перед тем как уехать на работу в свое маркетинговое агентство. Странно. Панели из фальшивого красного дерева на стенах, тень от вентилятора на потолке… Думаю. Снова встаю с дивана, беру в руки стакан и осторожно нюхаю.
Звук шагов, скрип калитки. А-а, теперь понятно… Что ж, этого следовало ожидать. Сейчас меня попытаются убить.
Через час или два солнце сядет и настанут сумерки. Лучшее время дня — по крайней мере, в этом городе. Желтые, золотые, медные нити пронзят, свяжут в единое полотно облака… Легендарные лос-анджелесские закаты. Но так было не всегда. В девяностых годах забытого осьмнадцатого века отец Энрике Ордоньес из католической Миссии Святой Варвары писал, что ночь в этих краях наступает быстро, а солнце скрывается в пучине Великого океана в одно мгновение ока. Говорят, современные закаты столь живописны по той простой причине, что загрязненный воздух разлагает солнечный свет, поглощая синие, фиолетовые и зеленые цвета спектра и оставляя красные, оранжевые, желтые… Что ж, похоже на правду. Скорее всего, так и есть.
Стакан сока стоит нетронутый. Я только пригубил его и сразу отставил. Кондиционер начинает выть и плеваться. Еще самолет… Собачий лай становится громче. Картина с изображением какой-то пустынной местности. Банан. Апельсины. На полке подборка компакт-дисков: «Андертоунз», «Эш», «Терапи», Ю-2, Ван Моррисон, ирландские оркестры. Диагноз? Ностальгия. Самая обыкновенная ностальгия.
Сок… Собака… Засыхающее лимонное деревце на подоконнике. Я пытался его реанимировать: подкармливал, поливал, не поливал, ставил в тень и снова выносил на солнце, но все мои усилия ни к чему не привели. Лимон медленно, но верно гибнет.
Кап-кап-кап — капает вода.
Он приближается. Замок на калитке он взломал, а не открыл, потому что с каждым разом они действуют все грубее, все напористей. Он — среднего роста, нормального телосложения. На нем серый костюм в тонкую полоску, дешевые, но с претензией туфли со скользкими подметками. Белые спортивные носки. Зеркальные очки и коричневая фетровая шляпа. Лицо рябое, особенно нос. Ему около тридцати, но скверная кожа и беспокойная, суетливая повадка делают его старше. На ногах стоит крепко, но по всему видно, что в свободное время крепко зашибает. Закончив эту работу, он, скорее всего, пойдет в бар и опрокинет пару стаканчиков и только потом отправится с отчетом к тем, кто его послал. Оружие он прячет в кобуре под мышкой. Это длинноствольный пистолет, может быть даже — пистолет-пулемет, но не исключено, что необычная длина оружия объясняется присоединенным глушителем. Кстати, с глушителем может быть и пистолет-пулемет. К лодыжке прикреплен резинкой второй ствол. Это небольшой револьвер. Брюки коротковаты, и кобуру видно. Коротки не только брюки; маловат весь костюм. Будь пришелец латиноамериканцем, я бы сказал, что это костюм его брата, но он — белый. И шагает он по левой стороне дорожки. Британец? Ирландец? Или просто левша? Нет, пистолет у него слева… Значит, ирландец. Я в этом почти уверен.
Города он наверняка не знает. Он одурел от жары и духоты, да еще эта идиотская шляпа… Справиться с ним будет сравнительно легко. Он не очень осторожничает и идет почти не скрываясь, хотя это не его город. Интересно, что ему сказали? Что мне подсунут наркотик и я буду крепко спать? Странно, но Кэролин почти не настаивала на том, чтобы я обязательно выпил свой сок. Может быть, она нервничала? Боялась, что, если она проявит настойчивость, я могу что-то заподозрить? Но доза оказалась слишком большой. Бедная, неумелая девочка! Ничего-то ты не можешь сделать как следует!
Я встречался с Кэролин уже около полугода. Мы познакомились в фирме, в которой я некоторое время состоял консультантом по безопасности. Кэролин — ее настоящее имя, но она хочет, чтобы все называли ее Линии, и, похоже, здесь следует искать первую подсказку. Она, конечно, не Бриджит, но все же довольно красива: стройная, светловолосая, изящная, со светлой кожей. Линии родом из Джорджии, но группа «Б-52» нравится ей больше, чем «Р.Е.М.». Еще одна подсказка.
Это был умный шаг — выйти на меня через нее. Они легко могли запугать ее так, что она ничего бы мне не сказала. Ни мне, ни полиции. Когда они добрались до нее? Может быть, вчера? Как она держалась вчера вечером? Были ли в ее поведении какие-то странности? Не помню. И все-таки как им удалось? «Мы пришьем твою маму, пришьем брата, пришьем тебя»? Трудно сказать. Ясно другое: они наверняка задавали ей вопросы. Как он ведет себя дома? Каков его распорядок дня? Привычки? О'кей, детка, тебе придется сделать одну очень простую вещь. Перед уходом на работу положи эту таблетку в его стакан с соком. Старайся держаться как обычно. Веди себя естественно. Избегай необычных слов, поступков… Она и избегала; я, во всяком случае, ничего не заметил.
Да, они решили действовать через Кэролин. Они боялись меня — человека, убившего Темного Уайта. Казалось, легче всего было бы подстрелить меня прямо на улице, но это хотя и самый простой, но не самый верный способ. И они решили действовать наверняка. Найти уязвимое место. Застать меня врасплох, когда, одурманенный наркотиком, я не смогу оказать сопротивление.
Нет, нельзя сказать, чтобы я был недостаточно терпелив. Я проявил просто ангельское терпение.
Я ждал десять лет, даже одиннадцать. Конечно, я сыграл с ними грязную шутку, но у меня не было выхода. Когда легавые взяли меня за бока, я сдал им всех долбаных ирландцев, которых только знал. Всех, кто еще не был убит или умерщвлен иным способом — как Бриджит, как я сам. И все-таки мне пришлось ждать слишком долго. В мыслях своих я умолял их сделать первый ход. Я мечтал, чтобы они приехали сюда. Я воображал, будто я приехал к ним. Шеймас Патрик Даффи, встань! Довольно спать. Пора исполнить свой долг!
Да, ты уже не молод, но это только отговорка. Займись делом. Твои предки чтили закон кровной мести и в Ольстере, и в войнах с индейцами. Господи, если тебе нужен образец — загляни в биографию Эндрю Джексона. Помни, честь превыше всего. Внемли голосу сирены. Разве он не нарушил своей священной клятвы? Только трус «стучит» в полицию. Да, прошло много времени, но мы все равно должны убить его. Это наш долг. Пока Майкл жив, мы не можем…
Но они не появились. Они меня не нашли. Правда, четыре года назад в Чикаго, в поезде надземки, на меня напал вооруженный мужчина. Было поздно, вагон был пуст, и он был один. Он направил на меня пистолет, но поезд дернулся, и он, не удержав равновесия, качнулся вперед. Я перехватил его руку с оружием и выкрутил так, что сломал ее. На следующей остановке я выскочил из поезда и затерялся в ночном городе. Была ли это обычная попытка ограбления? Не знаю. Мне следовало проверить, но вместо этого я поспешил скрыться. Сейчас, впрочем, я склоняюсь к версии заурядного грабежа.
Тем не менее я не расслабляюсь. Я читаю газеты и слежу за новостями.
Шеймас Патрик Даффи умер в прошлом году. Ему было семьдесят восемь лет, и он мирно скончался в своей постели. Он был последним из поколения ирландских ветеранов, последним персонажем давно забытой истории. В некрологе, опубликованном «Нью-Йорк Таймс», упоминалось, что в девяностых годах ирландская мафия — как несколько ранее итальянская и русская — прекратила свое существование. Сейчас, разумеется, нью-йоркские профсоюзные боссы честны и неподкупны, азартные игры забыты, «гринкарты» никому не нужны, наркомания побеждена…
Убийца-ирландец снимает свою нелепую шляпу и вытирает лицо. Он взмок и нервничает, а ведь он пока прошел только несколько шагов от машины до дома.
В предчувствии чего-то важного я смотрю на календарь, на часы. Долго, слишком долго… Намного дольше, чем я думал. Мне уже начинало казаться, что ты так никогда и не сделаешь решительного шага. Что ты поймешь, какая это страшная пытка — просто ждать. К сожалению, ты не настолько умна. Тебе не проникнуть в глубь моей души.
Интересно, кто нынче босс? До меня доходили разные слухи, но информация поступает скудная. Может, это твоих рук дело? Может, босс теперь ты?
Ты, наверное, мечтала об этом дне. Представляла его во всех деталях. Ты все спланировала, продумала, посоветовалась со специалистами. Что ж, я тоже не сидел сложа руки. Сегодняшний день станет квинтэссенцией всего, что было с нами. Кульминацией нашего с тобой жизненного пути. Время спрессовалось, превратившись в одно лишь «сейчас». Окружающий мир двигался дальше, но мы с тобой — нет. Все вокруг нас стало другим, и только мы с тобой по-прежнему скованы одной цепью — ты и я. Да, я это знаю. Не беспокойся, я тебя не разочарую. Я готовился. Репетировал. И не один раз. И прежде чем опустится занавес, каждый из нас сыграет свою роль до конца.
Я бесшумно скатываюсь с дивана и ползу на четвереньках к столу, на котором стоит компьютер. Из ящика я достаю последний шедевр Гастона Глока. Я навинчиваю на ствол глушитель и, выбравшись в холл, прячусь за кадкой с раскидистой юккой. Рябой убийца еще здесь. Он никак не дойдет до крыльца.
Я протягиваю руку к входной двери, готовясь распахнуть ее настежь и встретить убийцу выстрелом в упор. Я почти нажал на ручку, как вдруг у меня внутри все холодеет. Из кухни в глубине дома доносится какой-то шорох. О боже! Кажется, я просчитался и в доме кто-то есть. Шум мотора, работающего на холостом ходу, скрип калитки — все это только отвлекало мое внимание, пока основная группа заходила с тыла. Они приблизились по оврагу, поднялись по склону и прошли через участок соседей. Тот дом, на другой стороне… Их собака — немецкая овчарка по кличке Омар — заметила чужих. То-то она лаяла как сумасшедшая, посылая мне сигналы, предупреждая… Господи, Майкл, да ты никак стареешь, становишься старым и глупым. А старым дуракам место на кладбище.
Черт побери!
Кухня!!!
Все было хорошо рассчитано. Один человек со стороны переднего крыльца, один или несколько со стороны кухни. Все выходы перекрыты, к тому же Линии обещала, что я буду спать. У меня и без того появилась привычка спать после обеда, так что наркотик в стакане с соком должен был послужить лишь дополнительной гарантией от всякого рода неожиданностей.
И все же Линии — прелестная, с очаровательным акцентом, который мог бы и иезуита сбить с пути истинного, — никак не вписывалась в нарисованную мной картину. Чтобы она хладнокровно пособничала моим убийцам? Вряд ли. И все же, если я останусь в живых, нам придется пересмотреть наши отношения.
Вот именно — если… И очень большое «если». Мои враги свое дело знают. Они составили план, нашли информатора и даже не поленились спуститься в овраг, чтобы подойти к дому как можно незаметнее, — все это говорило о том, что мне придется иметь дело как минимум с полупрофессиональной командой. Кроме того, они послали рябого ирлашку сторожить парадное крыльцо. Самая легкая работа, если разобраться; вряд ли они всерьез рассчитывали на то, что я вдруг выскочу на крыльцо и начну палить во все стороны. Нет, я сплю, крепко сплю где-то в доме. Линии наверняка рассказала, что я просто помешался на этом своем апельсиновом соке. Для беспокойства нет никаких оснований — я обязательно его выпью. Скорее всего, я лягу на диване в гостиной, но не исключено, что я буду чувствовать себя настолько усталым, что поднимусь в спальню на втором этаже. Иногда я так действительно делал, и Линии не могла об этом не вспомнить.
Я слышу, как парни в кухне переговариваются громким шепотом. Вообще-то разговаривать им не полагается вовсе; они должны только делать друг другу знаки, но для этого нужна хорошо отработанная система сигналов. Значит, все-таки не профессионалы. В крайнем случае — команда, кое-как собранная из парней, которые хороши поодиночке, но вместе работать не умеют. Что ж, возможно, это и станет причиной их поражения. Будем играть как сборная Великобритании против сборной Норвегии — звезды-одиночки против дружной, спаянной команды. Вот только в моей команде всего один игрок.
Я слышу доносящийся из кухни шепот. Старший отдает приказания:
— О'кей, ребята, сначала проверим первый этаж, и если все чисто — вместе поднимемся наверх. Я останусь в коридоре, вы проверьте комнаты. По идее, он должен спать как сурок, но кто знает… В общем, поосторожнее и не спускайте глаз друг с друга.
Все это главарь произносит, пожалуй, с излишней уверенностью. Ох, не стоило бы ему до такой степени полагаться на Кэролин, но он глуп, как, впрочем, и я… Говорит он с акцентом, который кажется мне смутно знакомым. Он наверняка англичанин, но точнее я сказать затрудняюсь.
— О'кей. О'кей, — отвечают два других голоса.
Значит, в доме трое и один человек снаружи. Что ж, в обойме моего пистолета — семнадцать патронов.
Я пячусь из холла обратно в кабинет и озираюсь по сторонам в поисках какого-нибудь укрытия, но ничего подходящего не вижу. Диван слишком низок, занавесок на окнах нет. Значит, придется спрятаться где-нибудь в тайном уголке и без шума снять первого, кто войдет в комнату.
Я съеживаюсь и поднимаю пистолет. Пот ручьями стекает по лицу, по спине. Господи, неужели я до такой степени потерял форму? Вот что значит спокойная, бестревожная жизнь! В Лос-Анджелесе слишком много хороших ресторанов, а я в последнее время слишком часто ездил на машине вместо того, чтобы ходить пешком. Слишком много курил и…
Дверь кабинета открывается. Он молод. Бледное лицо, белая футболка и очень тесные белые джинсы. Кроссовки. В руках у него дробовик, но палец лежит не на спусковом крючке, а под ним. Его рот приоткрыт; кажется, он буквально загипнотизирован мерным стуком капель, вытекающих из крана моего водоохладителя. Он даже не видит меня, притаившегося в углу, и никогда не увидит. Короткая вспышка пламени, негромкий свист пули, и у него во лбу появляется аккуратная дырка, похожая на третий глаз. Брызги крови летят на плиточный пол. Он начинает падать, но я подхватываю его на лету и осторожно вынимаю из пальцев ствол. Закрыв дверь, я переворачиваю его на спину и быстро обшариваю карманы. Бумажник, ирландский паспорт (кто бы сомневался!) на имя Шона Гласса, двадцати лет, жителя Дублина. Я укладываю Шона головой в камин, чтобы кровь стекала в золу. О'кей, один готов. Теперь в доме только двое: один проверяет бильярдную и гостевую, тогда как старший наверняка сторожит в холле, прикрывая двери и лестницу на второй этаж. Так, во всяком случае, поступил бы я сам. Хотя нет. Во-первых, я бы не стал разговаривать в кухне чуть не в полный голос, а во-вторых, я бы не стал разделять команду, но на его месте… Он пошлет одного парня туда, другого — сюда, и для него самого самым естественным будет остаться в холле, чтобы страховать обоих. А раз так, то он сразу заметит меня, стоит мне только вылезти из кабинета. Так что же, черт меня возьми, мне делать дальше? Гм-м… Может, стоит затаиться и подождать, пока главарь потеряет терпение и отправится посмотреть, что это Шон Гласс так долго копается?
Я слышу, как главарь тихонько стучит в стекло входной двери. Это он подает сигнал Рябому — мол, все в порядке. Потом он идет назад, но у самой двери кабинета вдруг останавливается. Зайдет или не зайдет?
— Эй, Шон, давай поживее, — слышу я его голос, который доносится с того самого места, где, как я и думал, он стоит. Этот парень — бывший военный, а не я. Акцент я тоже узнал. Этот парень из Бирмингема. Элементарно.
— Ага, уже иду! — откликаюсь я, старательно копируя дублинский акцент.
— Здесь все чисто, я — наверх, — говорит второй голос, и главарь соглашается, чего на его месте я бы тоже не делал.
— Пошевеливайся, Шон, мы идем на второй этаж, — торопит главарь.
— Да иду я, иду! — говорю я и, держа пистолет наготове, чуть приоткрываю дверь кабинета. Глядя в глубь холла, я вижу, что он спокойно стоит у лестницы и, запрокинув голову, смотрит вверх. Под носом у него усы, кожа дряблая, нездорового голубовато-белого оттенка, на голове — бейсболка с эмблемой «Астон виллы». Невысокий, нервный.
До него футов пятнадцать. Я тихо выхожу в холл и, вытянув руки, поднимаю в них пистолет. Привет, это я, Вестник Смерти…
Прицелившись в его обрюзгшее лицо, я нажимаю на спусковой крючок. Как и следовало ожидать, в последний момент ублюдок поворачивается, очевидно заметив меня уголком глаза. Моя пуля лишь слегка задевает его щеку и разбивает стекло входной двери.
В руках у главаря автомат «узи» или какое-то другое оружие подобного типа, которое так любит мелкая шпана. Я стреляю снова и попадаю ему в грудь и в шею. Главарь опрокидывается навзничь. Его автомат стукается об пол и самопроизвольно стреляет. На него надет глушитель, но звук все равно получается достаточно громким, поэтому я быстро иду к входной двери, распахиваю ее и стреляю в Рябого, который как столб стоит на дорожке, широко раскрыв глаза и раззявив рот. Рябой покорно падает. Я закрываю дверь и жду, пока четвертый кретин не крикнет сверху «Эй, босс, что там у вас происходит?!» или еще какую-нибудь глупость.
— Спускайся-ка сюда, жы-ы-ыво! — кричу я в ответ, подделываясь под бирмингемский акцент и натягивая на голову бейсболку «Астон виллы», чтобы ввести его в заблуждение. Сверху доносится топот торопливых шагов, и на верхней площадке появляется человек, который начинает быстро спускаться. Пуля сносит ему полголовы и заодно лишает всякого контроля над собственным телом, так что оставшуюся часть ступенек он пролетает по воздуху.
Что ж, до братьев Маркс[74] эти ребята не дотянули, но совсем, совсем немного. А я-то, болван, едва не принял их за профессионалов только потому, что кому-то из них пришла в голову идея подойти к дому по дну оврага!
Я прячу «глок» в карман и вытираю вспотевшие ладони о штаны, но старая привычка заставляет меня снова достать пистолет. Не стоит убирать оружие, если ты не абсолютно уверен, что опасность миновала.
Потом я смотрю на два тела в коридоре и чувствую, что могу быть уверен: эти парни никогда больше не встанут. На часах главаря срабатывает будильник. Я поднимаю его руку и смотрю на циферблат. Часы настроены на восточное поясное время. Должно быть, эти ребята прилетели в Лос-Анджелес только сегодня, думаю я, и мне становится грустно. Не умнее ли было приехать сюда хотя бы за несколько дней, чтобы успеть акклиматизироваться?
Я выключаю будильник и, присев на корточки, вынимаю из кармана главаря бумажник. Открываю — и не верю своим глазам. Такого я не ожидал. Только полный идиот мог взять с собой на дело «шпаргалку» — листок бумаги с моим адресом, фотографией и подробным описанием. А если бы всю команду сцапали с поличным или, еще лучше, по пути к моему дому? Как бы главарь объяснил наличие подобной инструкции?
Если нас что и погубит, то дилетанты, а вовсе не ядерная война.
Я не спеша разглядываю «шпаргалку» и вдруг замечаю нечто такое, что, без преувеличения, потрясает меня до глубины души. Сама инструкция отпечатана на принтере, но пометки на полях сделаны от руки неровным, неустоявшимся почерком, который я сразу узнаю. Это ее рука. Это она внесла некоторые дополнения в план моего убийства, изменив порядок оплаты и уточнив, как ее наемникам следует избавиться от оружия. Значит, это все-таки она… Она сумела пробиться на самый верх, и я — ее главная забота. Недоделанное дело.
То, что не закончил мистер Даффи, хочет закончить она.
Да, я слышал о том, что Бриджит поднялась на вершину. Я не включил ее в свой донос, и она осталась незапятнанной. Чистенькой. Но где это слыхано, чтобы женщина возглавляла крупную преступную организацию? Тут я не выдержал и улыбнулся. Ты отстал от века, сынок, сказал я себе. С тех пор как ты покинул Ирландию, там уже дважды президентами становились женщины.
Господи, спаси мою грешную душу! Сколько раз я представлял, как Бриджит сама приезжает, чтобы свести со мной старые счеты, но это были просто фантазии. Видеть же ее руку на моем смертном приговоре, черным по белому… О, это было совсем другое дело. При мысли об этом меня замутило, и я понял, что мне необходимо выпить.
Но нет, сначала надо закончить с делами. Убрать дерьмо и сделать один звонок.
Я открываю парадную дверь, быстро оглядываю улицу и уже собираюсь втащить в дом Рябого, пока соседи не увидели его и не подняли шум, как вдруг в голове у меня возникает тревожная пульсация. Не сразу я понимаю, что слышу скрип половиц, который может означать только одно из двух: либо юный Шон Гласс, труп которого я оставил в кабинете, воскрес из мертвых, либо существовал пятый член команды, которого я не заметил. Вот не повезло так не повезло! Впрочем, поделом мне, старому дураку, который вообразил, будто все на свете знает и умеет, а о такой элементарной вещи не подумал. Конечно же был пятый — шофер или оставленный караулить, который пришел посмотреть, почему его товарищи так долго не дают о себе знать.
Я падаю на четвереньки и, пару раз выстрелив наугад себе через плечо, бросаюсь под прикрытие лестницы. Увы, моя бейсболка никого не обманула; одна пуля попала мне в ногу, а во входной двери появились две дырки довольно крупного калибра.
— Попался, ублюдок! — кричит он.
Лестница крутая, поэтому я пока в безопасности. Чтобы стрелять наверняка, моему противнику придется обойти мое укрытие между стеной и лестницей, и я был уверен, что сумею завалить его первым. Ну, почти уверен… Я закатываю штанину. Пуля попала не в меня, а в протез. Я все равно громко смеюсь.
— Побереги воздух в легких, приятель, — советует мне пятый. — Издыхать будешь — пригодится.
Я сплевываю и качаю головой. Я не отвечаю, только жду. Теперь до меня не долетает ни звука, если не считать стука мерно падающих капель, урчания двигателя и собачьего лая. Сняв бейсболку с эмблемой «Астон виллы», я бросаю ее с таким расчетом, чтобы она накрыла ему глаза, но моя уловка не срабатывает. Между тем я чувствую, что противник приближается, и, сжав «глок» обеими руками, готовлюсь встретить его градом пуль.
И тут я замечаю какой-то черный предмет, который катится в мою сторону. Я узнаю его сразу. Это зажигательная фосфорная граната, которая когда-то состояла на вооружении британской армии. Твою мать! Господи Иисусе и святой дух!
БФГ! В первую же неделю моей армейской службы от взрыва такой гранаты погиб капрал-инструктор, который должен был показывать нам, насколько опасны эти штуки. С тех пор я побаивался ручных гранат, а гранат, начиненных белым фосфором в особенности, уж больно они мерзкие. Сейчас, по-моему, их запретили.
С моим треснувшим протезом я не могу двигаться быстро. Я бросаюсь к ступенькам, но граната взрывается, прежде чем я успеваю добраться до верха. У меня за спиной вспыхивает кипящий, ослепительно-белый огненный шар. В таких случаях полагается прятать голову, но закрывать ее руками не следует. В бою руки нужны, чтобы стрелять, и солдат не может допустить, чтобы они оказались обожжены или, того хуже, сгорели к чертовой матери. Спина моя охвачена огнем, но я сбиваю пламя, покатавшись по площадке, и срываю с себя футболку, прежде чем она успевает расплавиться. Не так уж я обгорел, и я приободряюсь. Теперь главное не горячиться. Я знаю, что секунда-другая — и мой враг будет рядом, но я все еще в укрытии под лестницей, и он будет действовать осторожно — особенно если видел в холле трупы своих товарищей. Вероятно, он думает, что граната сделала свое дело, но, не услышав моего крика, не станет рисковать.
Штаны на мне тоже тлеют. Я торопливо хлопаю себя по ляжкам и быстро ползу в ванную на втором этаже. Там я открываю окно, выбираюсь наружу и на руках осторожно опускаюсь на крышу кухни, а оттуда, повиснув на водосточной трубе, спрыгиваю в небольшое патио с задней стороны дома. Протез чуть ли не подламывается подо мной, но каким-то образом мне удается сохранить равновесие. Припадая на увечную ногу, я быстро ковыляю к задней двери, вхожу в кухню и бесшумно приоткрываю дверь в холл. Он все еще здесь — осторожно крадется к подножию лестницы. Высокий, кудрявый, в черных джинсах, грубой хлопчатобумажной куртке и солнечных очках, он держит в руках пистолет — оригинальную по конструкции и изящную по исполнению современную бельгийскую модель. Рисковать он явно не хочет. Он думает, что я мертв, но продвигается вперед медленно, как черепаха. Увы, чрезмерная осторожность тоже может довести до беды.
— Ну-ка, брось эту штуку, — негромко говорю я, и он стремительно оборачивается. Старина «глок» улыбается своей огненной улыбкой, и вот у него в груди уже сидят четыре пули. Мой противник падает, и я наконец могу перевести дух.
— Благодарю тебя, Ганеш,[75] Устраняющий Препятствия, — говорю я, обращаясь к статуе в холле. Это наша с ним шутка, и Ганеш улыбается в ответ своим слоновьим лицом. Мы оба знаем: главное препятствие не в моих врагах и не во мне. Главное препятствие — это прошлое, которое нельзя ни изменить, ни забыть.
На этот раз я не позволяю себе расслабиться, пока не закончу самую тщательную разведку, которая, впрочем, показывает: больше никаких сюрпризов меня не ждет. Что ж, и на том спасибо. Сегодня у меня было пятеро противников, но они, как последние идиоты, разделились, позабыв о самой элементарной страховке. Придется ей примириться с этим — после стольких лет, после стольких событий… но бывает, в следующий раз не экономь, детка, найми профессионалов. И вообще, Бриджит… Ты в Нью-Йорке, я — в Лос-Анджелесе: разве само по себе это не достаточное наказание?
Шучу.
Будет ли он, этот следующий раз? Я уверен — будет. Я знаю тебя. Я хочу сказать — теперь знаю. Тогда не знал, а теперь знаю.
Прихрамывая, я подхожу к холодильнику, открываю бутылку «Короны» и делаю большой глоток. Потом я придвигаю к себе телефон и набираю номер, который я помнил все эти десять лет, — помнил с тех самых пор, когда они извлекли пулю и спасли мне жизнь, а потом пришли и стали угрожать, так что мне пришлось заключить сделку, чтобы спасти свою задницу. Когда на том конце берут трубку, я называю свое кодовое имя и имя своего куратора.
В конце концов мой звонок попадает к нему на мобильник. Он где-то на природе, около воды. Я слышу, как она плещется, но шума прибоя не слышно. Значит, это озеро.
— Как рыба, ловится? — спрашиваю я.
— Откуда ты… — начинает он, но я перебиваю. На пустую болтовню у меня нет времени. Скоро появится полиция, и мне срочно нужна помощь.
— Слушай, — говорю я, — ты был прав, а я ошибался. Я хочу вернуться.
— О'кей.
— В некоторых местах существует такая вещь, как времена года.
— Времена года? — повторяет он. — В Лос-Анджелесе есть времена года, просто все они одинаково хороши.
— Зато в других местах бывает больше дождей.
— Больше дождей? — озадаченно переспрашивает он.
— Да.
— Думаю, это можно устроить, — говорит он после небольшой паузы.
— Но сначала мне придется лечь в больницу.
— Тебя сильно поцарапало?
— Небольшой ожог. Жить буду.
— Повезло нам…
— Вам — повезло.
— А как те, другие? Есть потери?
— Поэтому и звоню.
— Сколько?
— Пятеро.
— Ничего себе!
— Вот именно.
— Не беспокойся, мы о тебе позаботимся, — говорит он.
— Это было бы очень неплохо, — отвечаю я. Ложь дается мне легко — легче даже, чем глотать пиво.
Я кладу трубку, выхожу на крыльцо и наконец-то затаскиваю Рябого в дом. Внезапно срабатывает пожарная сигнализация, и некоторое время я бегаю по дому с огнетушителем. Потом я иду в кухню, смазываю мазью обожженную шею и голову и смотрю на себя в зеркало. Ожог выглядит совсем не страшно, и я достаю из холодильника еще одну «Корону». Кроме того, я беру бутылку джина и аспирин. Пить мне, наверное, не стоило бы, но… Я выхожу на задний двор и сажусь у бассейна.
От соседского дома ко мне несется Омар. Затормозив у ограды, он облаивает меня через щели.
— Хороший, мальчик, хороший… — говорю я, и Омар, довольный, убегает.
Я допиваю «Корону» и роняю бутылку. Глотаю две таблетки аспирина и запиваю джином с водой. Потом я окидываю окрестности долгим, долгим взглядом…
Южный ветер чуть покачивает гибкие стволы сосен. Солнце садится за ограду, и глиняные скульптуры в саду начинают бормотать на разные голоса. Первая звезда мерцает в вышине, недоуменно дожидаясь, пока птицы и самолеты поделят между собой безбрежную синь вечернего неба.
Вдалеке поют моторы машин. С чуть слышным шелестом растет трава в парках и на кладбищах. Я спокоен, свободен от всех посторонних чувств, собран и умиротворен. Я чувствую под ногами сосновые иголки и нагретую пыль дорог, вижу ярких бабочек, слышу плач шакалов, рыскающих в этих обильных жизнью холмах.
Сегодняшний день — один из последних в этом городе. Когда суматоха уляжется и мне ничто не будет грозить, я снова исчезну. И найти тебя мне будет много легче, чем тебе — меня. Я уже знаю, как все случится. Я и ты, моя любовь… О да, Бриджит, я хорошо представляю, каким будет твое лицо, когда мы окажемся вместе во мраке и безмолвии. И в этот торжественный час, в этом таинственном месте Смерть назовет имя… имя, которое почему-то звучит совсем не так, как мое.
Я закрываю глаза.
Миг — и нет кого-то.