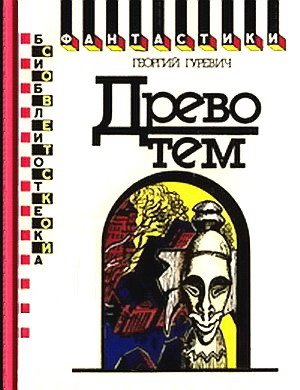
Георгий Гуревич
ДРЕВО ТЕМ
КНИГА ЗАМЫСЛОВ
Лучшие из моих книг — ненаписанные. Не помню, чьи слова, не мои, но правильные. Могу присоединиться, поставить свою подпись. Замысел обычно лучше исполнения, это естественно. О ненаписанном мечтаешь, думая только о выигрышном, а в готовой вещи все должно быть пригнано — глава к главе, реплика к реплике. В замысле нет невыразительной соединительной ткани, только кости и мускулы, только плоть, только суть. И иначе скажу: замысел это фасад. Но, к великому сожалению архитекторов, одни только фасады не строятся; в доме должны быть еще лестницы, комнаты, полы и потолки, передние, кухни и даже туалеты, желательно несовмещенные. Вот и пристраиваешь к нарядному фасаду замысла необходимые переходы, грубо оштукатуренные иногда.
А как же фасады без комнат?
Но, между прочим, архитекторы не стесняются, публикуют проекты невыстроенных зданий. Среди них есть классика, например баженовский проект перестройки Кремля. Очень интересное решение… хорошо, что не осуществили. Снесли бы неповторимый Кремль, сделали бы некое подобие Петербурга. Но не о том речь. Оказывается, в других видах искусства охотно демонстрируют замыслы. Архитекторы выпускают альбомы проектов, у художников — этюды, эскизы, наброски, драматурги пишут либретто…
Альбом литературных проектов! Возможно такое?
Почему тянет меня публиковать замыслы? Во-первых, возраст подстегивает — не молоденький, за семьдесят перевалило. Силы убывают, впереди считаные годы. Сколько? Не будем загадывать. А книги у нас издаются неторопливо — от первой строчки до переплета проходит лет семь. Значит, что же я успею? Один роман, от силы — два, если повезет.
И тут начинается трагедия выбора. «Ди Вааль ист ди Кваль», — говорят немцы, что означает: «Выбор — это мучение». И огорчение, добавил бы я. И отречение. Выбрал одно — все остальное — уже не твое. Каждый знает это с детства. Добрые взрослые тети подводят тебя к вазе с пирожными: «Выбирай, деточка, любое!» Но что значит «выбирай!». Если я возьму эклер, следовательно, я откажусь от корзиночки, от заварной картошки, от песочного, миндального, бисквитного, от слоеного наполеона, кремовой трубочки, безе. Отречение, сплошное отречение. А откусишь, уже поздно передумывать.
Так и у взрослых. Выбор жены — отказ от всех прочих девушек. Выбор местожительства — отказ от всех остальных квартир, городов и сел. Выбор профессии — отречение от других профессий. Если я стану врачом, значит, никогда не буду географом, геологом, геодезистом, генералом, артистом, юристом, машинистом… Правда, я могу стать еще писателем и написать про всех: про врача, геолога, географа… артиста, юриста и машиниста.
Но и здесь меня подстерегают страдания выбора.
А про кого? И на какую тему?
250 тем накопилось у меня в черной папочке. Какой же посвятить свои годы, как отречься от прочих 249?
Нет, конечно, не все стоящие. Иные устарели, иные использованы другими авторами. Не вижу я одной-единственной, все затмевающей. А если мне в голову придет еще что-нибудь получше? Ведь мысли-то наслаиваются на мысли. Придумывается. Откликается на новшества.
Видимо, нельзя увесистым романом откликаться на движение. Отложить на семь лет? Какая-то другая форма нужна, пооперативнее. Как появился замысел, так сразу же и…
И что сразу?
Написать и опубликовать!
И замыслилась у меня «Книга замыслов».
Вот сколько доводов в ее пользу. Первый: ненаписанная книга лучше написанной. В ней еще недостатков нет. Второй: архитекторы публикуют проекты, художники выставляют этюды, драматурги пишут либретто, чем хуже литераторы? Третий: выбор — мучение, огорчение и отречение. Не обещаю 250, но хоть десяток—другой получат слово. Четвертый довод: идеи стареют, не срабатывают вовремя, не овладевают массами, не становятся силой. В лучшем случае без меня высказываются, да и не всегда у нас.
Еще один довод есть: пятый, личный, для меня индивидуальный. Мне нравится выстраивать замыслы. По душе такая работа.
Один из знакомых писателей говорил мне, что он терпеть не может составлять планы. Для него это тяжкая и нудная работа. Он торопится, расставив главы, приступить к выписыванию деталей. Вот перед глазами главная комната в деревенском доме, так называемая зала, томный дух от протопленной печи, косые трещины в бурых брусьях стены, короткое платье Аленки в синий горошек, исцарапанные коленки, косички, как кисточки для бритья. И он, мой добрый знакомый, гордится этими кисточками, считает их удачной находкой. А для меня косички эти — проходная деталь. Мне важно понять (и объяснить читателю), почему эта Аленка любит Ваню, а замуж выходит за Васю, как это в ней уживаются великодушие и притворство, как это она в один и тот же день бывает бескорыстна и скупа, слепа и прозорлива, благородна и подла. И я одену ее как попало, может быть, предоставлю вам самим выбирать мануфактуру, но пройду сорок километров по комнате от угла до угла и обратно, размышляя о психологии Аленки, продумывая ее биографию, связывая ниточками «почему?» и «потому». Я даже напишу, прежде чем сесть за первую главу, трактат об аленках, их происхождении, развитии и роли в экологии, и трактат этот, так бывало у меня не раз, окажется интереснее всего романа об Аленке.
Возможно, имеет смысл в литературе спаривать рисовальщиков и толковальщиков. В кино так и делают, там не гнушаются разделением труда. Но мы пока что универсалы. Друг мой скрепя сердце корпит над перечнем глав, а я скрепя сердце одеваю аленок, испытывая глубочайшее равнодушие к их тряпичным интересам. Неумело одеваю, наверное, не по моде.
Так, может быть, в том и состоит решение, чтобы вовремя остановиться, выложить свое умение, а неумение замолчать.
Именно так советовал мне Борис Горбатов на заре моей литературной юности.
Вот я и хочу поручить вам недосказанное. Довообразите!
И наконец, самый главный довод — не мой личный, ваш — читательский.
Мы с вами живем в эпоху высоких темпов и наводнения, потопа информации, впрочем, водянистой, как и должно быть при потопе. В XIX веке принято было читать романы вслух, глава за главой, долгими зимними вечерами у камина или у камелька, вчитываться, смаковать детали, обсуждать поведение героев, даже гадать об их судьбе в ожидании завтрашнего чтения. Мы же читаем урывками, в метро, в очередях. Газеты привыкли просматривать, ловя смысл по заголовкам. Мы привыкли ловить суть. Так, в самом деле, дорогие читатели, неужели вы не можете сами придумать платье для героини. Давайте работать вместе. Подсобите автору, довообразите!
Как раз вчера, то есть это для меня пишущего «вчера», для вас, держащих книгу в руках, — лет семь тому назад… итак, семь лет назад вчера я рассказывал товарищу тему моей новой печатающейся в журнале повести. И он включился сразу: «А я бы на месте героя…» Задело, значит.
Вот я и пробую вас задеть, дать схему для размышлений. Дан герой, вот его проблема. А вы бы на его месте?..
Попробуем?
Начинаю.
ЕСЛИАДА
И снова мучения выбора.
Перелистываю черную папочку с замыслами. И этот привлекает, и этот, и этот. И в том изъян, и в том, и в том. Ну хорошо, договорился я с ними, с замыслами, не буду превращать их в романы, повести и рассказы, не успею, не сумею. Просто изложу.
Да, но с которого же начинать?
Спорят они между собой, толкаются, лезут без очереди. Свежие хвалят свою свежесть, давнишние — стаж.
Эх, не буду сортировать, пойду по порядку записи. Какая за номером первым? Четвертое измерение? Пусть так и будет.
1. ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Откуда пришла эта тема? Вероятно, из фантастики же. Сам я знакомлю читателей с миром через фантастику и знакомился с миром через фантастику. А в ту пору, когда я был юным читателем, авторы частенько посещали четвертое измерение. Уэллс использовал его не раз. Через четвертое измерение переслал зрение своего героя в антиподы. Едет человек по Лондону, а перед глазами дно Тихого океана. Или же едут-едут герои по шоссе, пересекли невидимую черту, и — трах — они в идеально совершенном мире («Люди как боги»).
На меня же, 12-летнего потребителя фантастики, больше всего впечатления произвел рассказ В. Орловского. Был такой автор, ныне почти забытый современник Беляева, бесследно исчезнувший со страниц в 1930 году, в эпоху первой аннигиляции фантастики. В отличие. от Беляева Орловский был мрачноват, к успехам науки относился без доверия, полагал, что ученые склонны выпускать джинна из бутылки, еще в 20-х годах написал роман об атомном взрыве — «Бунт атомов». И рассказ Орловского о четвертом измерении тоже повествует о джиннах. Помню иллюстрацию: идут по лаборатории наискось полупрозрачные остроголовые монахи, непонятные, угрожающие, равнодушные; мечутся в ужасе испуганные ученые.
В юношеские годы написал я повесть о четвертом измерении, боюсь, под сильным влиянием Орловского. Была и у меня орловская грозная таинственность, была и присущая мне лично (в юности) надрывная сентиментальность. Была и еще одна черта, которую я сохранил доныне: жажда подлинности в чудесах, антипатия к условности. Уже тогда я был реалистом в фантастике. Пусть загадочное, пусть таинственное, пусть грозное измерение, но изучим его камерой Вильсона, сделаем спектральный анализ, измерим, рассчитаем, предложим и проверим логичные гипотезы. В результате одна молодая филологиня, прочтя это сочинение, долго уговаривала нашего общего друга убедить меня не тратить время на литературу. Но я проявил упрямство, свойственное начинающим авторам… и маститым тоже. И до старости сохранил в списке тем четвертое измерение. И писать о нем буду только всерьез.
Итак, что это за штуковина — четвертое измерение?
Изобрели его математики с помощью простой логики и не очень сложной алгебры.
Линия имеет одно измерение — длину. Простейший пример — отрезок прямой с длиной, равной а.
У фигур два измерения — длина и ширина. Простейшая фигура — квадрат. Он ограничен четырьмя прямыми с длиной а, а площадь его — а^2.
У тел — три измерения: длина, ширина и высота. Простейшее тело — куб. Его ограничивают 12 ребер с длиной а, шесть квадратов площадью а^2, а объем его равен а^3.
Теперь предположим, что где-то, неведомо где, мы имеем дело с четырехмерными гиперпредметами. Вообразить их себе нельзя, наш трехмерный мозг не способен на такие подвиги, но логика без запинки рапортует, что объем гиперкуба равен а^4, что он ограничен восемью кубами, у него 24 плоские грани и 32 ребра.
Можно подсчитать, что объем четырехмерной гиперпирамиды равен а^3h/4 (продолжая ряд: треугольник — а^2h/3, пирамида а^2h/3). Объем же пятимерной — а^4h/5, а шестимерной — а^5h/6, а девятнадцатимерной… подсчитайте сами.
Точнейшие формулы для невообразимого неизвестно чего!
Но существует ли это невообразимое?
Если бы существовало, тут открылись бы замечательные, поистине фантастические сюжетные возможности. Четвертое измерение, как разрыв-трава: для него не существует ни стен, ни замков, ни запоров. Понять это можно по аналогии. Скажем: рельсы одномерны. Если на одном пути встретились два поезда, продолжать путешествие невозможно. Паровозы не способны перескакивать друг через друга. Но машинисты и пассажиры могут сойти с рельсов на поле, то есть во второе измерение, поменяться местами и ехать в нужном направлении.
Поверхность воды двухмерна, и лодка плывет по ней в двух измерениях. Если река перегорожена плотом от берега до берега, для лодки пути нет. Но человек может перешагнуть через плот или нырнуть, то есть перейти в третье измерение и продолжать движение куда нравится.
Так вот, из четвертого измерения можно нырнуть в любую запертую комнату, в любой запертый стол и запертый сейф (сюжеты с таинственными пропажами, кражами, исчезновениями и появлениями, побегами, похищениями, внезапными перемещениями на край света). Для четвертого измерения открыты все погреба, все пещеры, все подземные пласты, хоть прямо из жил выковыривай самородки. Открыты все недра до центра Земли и до центра Солнца, до самого ядра, где давление 20 миллионов атмосфер и невесть что творится с атомными ядрами (сюжеты с кладами, находками археологическими и геологическими и с исследованиями космографическими). Кроме того, может быть, это и есть наиважнейшее: в четвертое измерение открыты внутренности человека, можно заглянуть в мозг и в желудок, украсть сердце, даже кожи не оцарапав, починить сердечные клапаны, заклеить язвы желудка, убрать опухоль из мозга, пулю из живота (сюжеты с чудесными исцелениями и необъяснимыми преступлениями).
Увлекательно и привлекательно! Но существует ли это четвертое измерение?
Может быть, и нет, поскольку никакие коготки и лапки не царапают наши сердца и мозги. Впрочем, может, и царапают. Разве мы знаем причины всех инфарктов и инсультов?
Три! Почему у нас только три измерения? Вопрос не такой уж простой. Тройка не самая естественная цифра для природы. Проще единица или же бесконечность. Единица — это результат действия одной силы, одной причины, единичны температура, давление, время (впрочем, до квадратного времени я докопался в «Темпограде»). Бесконечность же означает беспрепятственное развитие во всех направлениях. Тройка как бы намекает, что в трех направлениях пространство может расти, а четвертое запрещено.
Запрещено или отсутствует?
И в самом деле, почему у нас только три измерения пространства. Еще Кант задумался об этом три века назад. И высказал предположение, что трехмерность зависит от закона тяготения. Распространяясь, поле тяготения образует трехмерный шар. Сумма полей тяготения — трехмерное пространство.
Логично на первый взгляд, но боюсь, что логика здесь «гегелевская», стоящая на голове. Поле тяготения действительно подобно распухающему трехмерному шару… но в трехмерном пространстве ему больше некуда расти. Глядишь, в четырехмерном распухало бы иначе.
Вопрос открыт.
Есть ли четвертое измерение, нет ли его, наука не знает. Но помнит о нем, держит в резерве. И вспоминает время от времени, наткнувшись на нечто необъяснимое. В середине прошлого века химики не могли разобраться в строении молекул, предлагали и четырехмерные схемы. Недавно один мой добрый знакомый уверял меня, что свойства гена можно объяснить, если допустить, что он (ген) расположен в четырех измерениях. Может быть, и так. Судить не могу.
На полке у меня книжечка, изданная полвека назад, — «Четвертое измерение». Автор ее был щедр, все непонятное объяснил четырехмерностью. Математика и механика понятны, стало быть, трехмерны, химия и биология у него частично выпирают в четвертое измерение. Разум и логика трехмерны, а чувства, искусство, музыка, поэзия в четвертом измерении по самую макушку.
Я иронизирую, стало быть, не убежден. Зачем же все на свете непонятное объяснять сложной геометрией? Вот если бы геометрия какого-нибудь тела была непонятна, тогда бы стоило говорить о четвертом измерении.
Итак, в науке четвертое измерение где-то в запаснике, как резерв для объяснения непонятного.
А для фантастики?
Для фантастики это резервное место действия, его стоит использовать, если космос почему-либо непригоден. Четвертое измерение даже удобнее иногда, потому что оно где-то тут, под рукой или под ногой, нырнул… и сразу чудеса. Но зато планеты и звезды действительно существуют, а четвертое измерение — фу-фу, то ли есть оно, то ли нет.
И поэтому со времен Уэллса (и Орловского) мы не возили читателей в четвертое измерение. В крайнем случае ныряли в гиперпространство, чтобы шутя преодолеть световые годы до нужной звезды. И я тоже не возил… И тема четвертого измерения лежала у меня в литературном запаснике, по списку первая, но неиспользованная. Лежала потому, что я обходился космосом. Хватало звезд и планет.
Но сейчас я подумываю о запасном измерении. Маячит тема, которую космос не решает, — тема вариантов нашей земной истории. И машина времени тут не слишком удобна, в прошлое она вносит путаницу, даже литературоведческий термин ей дан — «хроноклазм». Представьте: я приехал в прошлое, поссорил собственных родителей, расстроил их свадьбу, кто же меня породил? Четвертое измерение избавляет от таких несуразностей.
2. МИР ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРОВ
Итак, я хочу пригласить читателя в поход по параллельным мирам.
Но прежде чем начать литературную игру, надо условиться о правилах. На шахматной доске можно играть в шахматы, в шашки, в поддавки, в уголки, в «волки и овцы». В шашки играют на 64-клеточной и на 100-клеточной досках. Какая у нас доска, какие фигуры, как они ходят?
Ведь четырехмерный мир может быть устроен по-разному.
Может быть, четвертое измерение почти пустое. И наш мир плавает в нем, как листок, сорвавшийся с ветки. Такая схема удобна для игры с таинственным проникновением в комнаты, подвалы, сейфы, сердца и желудки.
У многих авторов наш мир заплетен как канат или закручен жгутом в четвертом измерении. Это удобно, чтобы из близкого перелетать в далекое. По жгуту трехмерному звезды невероятно далеки, а по четвертому измерению — рядышком. Так у Ефремова в «Часе быка», у Энтони в «Микрокосме», у Нивена в романе «Сучок в глазу»…
Я-то лично думаю, что наш мир в четвертом измерении — граница раздела. С одной стороны более плотное, с другой — менее плотное. Думаю так, потому что в нашем трехмерном пространстве двухмерны границы раздела: поверхность воды, поверхность земли, поверхность стены, поверхность бумаги… Думаю, что четырехмерный мир действительно существует, наш — трехмерный — граница раздела. В нашем пространстве свет летит со скоростью в 300 000 км/сек, в соседнем — более плотном, точнее, более напряженном — медленнее, а в другом — разреженном — быстрее. И там можно лететь быстрее — быстрее нашего света, экономя годы пути.
При условии, что разница большая в напряженности.
Но сейчас я предлагаю разыграть другой вариант. Пусть у нас будет четырехмерность, туго набитая трехмерными мирами. Пусть будут миры, лежащие вплотную, как листы бумаги, еще лучше, как тонкие стальные листы (ведь то, что мы называли пространством, много тверже стали, об этом еще Ньютон догадался). Тогда удар, грозный и плодотворный «Бах», подаривший нашему миру 10 киловатт-часов, будет передаваться от листа к листу и в каждом породит точно такие же атомы с точно таким же движением, и из тех атомов пусть возникнут точно такие же звезды, в том числе желтый карлик — звезда спектрального класса СО, а возле нее — девять планет, и на третьей жизнь, более или менее разумная, тысячи две наций, тысячи две языков, полторы сотни государств, самое обширное со столицей Москва, и где-то под Москвой пусть стоит, глядя на яркий снег и березы, оранжевые от зимнего солнца, и размышляя о параллельных мирах, еще, и еще, и еще, и еще один писатель с моей фамилией.
Натяжка здесь — в безупречнейшем соответствии. Но какая же игра без условности, какая же — без натяжки? Слоны ходят только по диагонали, а пешки (пехота) обязательно вперед и не больше чем на два шага! Разве в жизни бывает такое?
Впрочем, безупречное соответствие миров и не нужно нам. Зачем повторять и повторять самого себя до умопомрачения? Пусть будет некоторое различие в трехмерных листах. Скажем, нижние листы поплотнее, а верхние поразреженнее. Чуть-чуть. Тогда в верхних частицы будут лететь чуть быстрее, а в нижних — чуть медленнее. И за 15 миллиардов лет накопится разница. Миры одинаковые, но наверху уже завтрашний день, а внизу только вчерашний. Так что в смежном вчерашнем мире мой двойник еще не любуется на синеющий снег, он лежит в кровати с температурой, уставившись на однообразные сухарики и ионики под потолком. А в смежном завтрашнем… Что я буду делать завтра? Вот заглянуть бы и узнать.
Итак, путешествие по времени получается с такими параллельными мирами.
Но путешествие во времени, избавленное от рокового противоречия этой темы, в котором путается фантастика, начиная с Уэллса, когда автор вынужден выбирать либо рок, либо хроноклазм.
Рок, предопределенность, беспомощность, покорность судьбе, если герой не имеет права вмешиваться ни в прошлое, ни в будущее. Так получается, например, у О.Ларионовой — в ее «Леопарде»… Люди летают в будущее, списаны даты смерти с памятников, героиня доживает месяцы назначенного срока. Доживает мужественно, вызывая уважение. Все это интересно психологически. Но остается недоуменный вопрос: в самом деле, существует ли предопределение? Если ты предупрежден, если названа опасная дата, неужели никак нельзя увильнуть?
Еще сложнее получается, если герою дано право воздействовать через прошлое на будущее. Это и есть хроноклазм — временной парадокс, путаница из-за вмешательства в историю.
Вот у Брэдбери неосторожный турист нечаянно раздавил доисторическую бабочку. И пошла-пошла цепь событий, так что, вернувшись домой, герой видит, что вся история сдвинулась. И орфография противоположная, и на выборах победила противная партия — ястребы вместо голубей. Рассказ надо понимать символически: будь осторожен, думай о будущем, малейший шаг ведет к тяжелым результатам. Символика вполне устраивает лириков. Физики же начинают придираться: куда девался прежний мир, откуда взялся новый, из каких атомов построен, за счет какой энергии? Читал я фантастический роман, написанный совместно лириком и физиком, там эти несоответствия выпирают наружу, нарочно колют глаза. Герой отправляется в прошлое, чтобы убить самого себя. И убивает. Но кто кого убил, кто выжил после убийства? От каждого действия рождается новая мировая линия, то есть — еще один мир, копия города, копия героя — мертвая или живая. Читателю разобраться уже невозможно, авторы рисуют пунктиры от одного мира к другому, указывая, в какой точке какая копия встречается с которой и кто кого где убивает.
Параллельные миры снимают и хроноклазмы, и рок. Мой герой отправится не в наше будущее (и не в прошлое), а в параллельное. Такое же, как наше, но изменяемое. И изменит… или не сумеет изменить. Рок необязателен. Читатель не знает заранее, что же получится.
Итак, приглашаю вас в будущее, где можно учиться уму-разуму на чужих ошибках; приглашаю в прошлое, где можно учить уму-разуму на наших ошибках.
3. ТРЕБУЕТСЯ ГЕРОЙ
И вот уже тема диктует профессию героя. Либо он физик, открывший параллельные миры, либо — историк, мечтающий сравнить историю миров. Можно двух героев — историка и физика. Можно физика, который забрел в дебри истории, можно историка, который забрался в формулы физики. Пожалуй, для сюжета предпочтительнее последний вариант. Остановимся на нем. Герой — историк!
Подберем фамилию для него… скажем, Тихомиров. Звучит солидно, достойно, академично даже. Тихо и мирно работает, мирит миры, утихомиривает. Договорились: Тихо-миров! Но в романе он будет Я-рассказчик. Я — автор — предпочитаю эту лирическую форму, позволяющую уклоняться в сторону, рассуждать о том о сем, что в голову взбредет. Правда, есть и недостаток у такого приема: снято частичное напряжение, читатель заранее предупрежден, что герой, благополучно преодолев смертельную опасность, окажется жив-здоров, сумеет написать литературные воспоминания. Но в данном случае я этого не обещаю. Оставляю за собой право написать роман по разрозненным заметкам безвременно погибшего.
Тихомиров — Я, не потому что он — мое второе Я. Он — кропотливый историк, а мне никогда не хотелось быть историком. Со школьных времен запомнил слова Маркса о том, что все прошлое — предыстория; сознательная история человечества — впереди. И хотелось делать ее… сознательно, принимать участие в разумных усилиях.
Кроме того, я не люблю копаться в архивах, ломать голову над начертанием буквы, значением того или иного слова. Не придаю такого уж большого значения отдельным словам… И отдельным личностям. Впрочем, о значении личности в истории будет еще много сказано здесь.
А Тихомиров любил архивы. С наслаждением вчитывался в старинные манускрипты, размышлял о словах, буквах, почерках. Радовался, установив, кто именно входил в посольство, сосватавшее Софью, принцессу Ангальт-Цербсткую за цесаревича Петра. Гордился, сумевши доказать, что курносый Павел I был не сыном этого богом убитого Петра и даже не сыном графа Салтыкова, а вовсе — ребенком, привезенным из деревни. С пренебрежением говорил о тех, кто рассуждает о XVIII веке вообще, не раскопав ни единого неопубликованного документа.
Так бы и трудился он мирно в архиве, разбирая чужие письма двухсотлетней давности, если бы не вмешался директор института, человек активный, речистый, любитель не писать, но давать советы, из таких, кто, выходя на трибуну, еще не знает, что скажет, а сходит под гром аплодисментов. (Всю жизнь завидовал такому таланту.) И вот в одной из своих импровизаций он разгромил Тихомирова, попрекнул в том, что он увлекается публикацией давнишних сплетен в ученых записках, зря занимает печатные листы, вообще отклоняется от исторического материализма. Ведь всем известно, что личность — песчинка, а история — могучий поток, песчинку она уносит в своем течении, даже не замечая.
Тихомирову пришлось отстаивать свое право на публикацию документов, доказывать, что личность не песчинка, особенно если ей дана власть, что Петр, например, вздернул Россию на дыбы, и неведомо, куда бы он загнал ее, если бы скакал еще десяток лет.
А директор стоял на своем. Директор говорил, что история идет своим чередом, конь вечно на дыбах стоять не может, его и опустили на четыре ноги наследники Петра… может быть, и гарцевать незачем было. Река течет под уклон, история движется своим чередом, закономерно.
Тихомиров все упрямился. Он уважал детали, искал важные детали. И сравнение с рекой его не убедило.
Да, река течет под уклон, но по какому руслу. Русла-то разные.
К сожалению, доказать он не мог ничего. История однозначна. Река себе течет… могла ли свернуть? Не свернула.
Как хорошо было бы, если бы где-то разыгрывались варианты.
И вот в популярном журнале, рядом со своей статьей о наследниках Петра, Тихомиров читает о четвертом измерении, о многомерности, о варианте таком и другом. Историку нужны слоистые, параллельные миры. Он дотошно шарит по журналам физиков, ищет доказательства, что параллельные миры могут быть, должны быть, надо искать их, надо ставить опыты, предлагает, какие именно.
И даже делает доклад об этом физикам, специалистам… Тут я — автор — передаю слово герою.
4. Я У МЕНЯ
Сырой январский вечер. Сыро в Москве зимой с тех пор, как счищают снег с мостовых. Плетусь домой шаркающей походкой, ноги волочу, загребаю подошвами лужи. Устал. Не от возраста, не только от возраста. Устал, потому что отвергнут и опровергнут. Столько времени добивался, чтобы поставили доклад, персональные приглашения рассылал заинтересованным — и физикам, и историкам. Ну, выслушали. Физики сказали, что я напрасно придумываю: мир трехмерен, потому что нетрехмерного быть не может. Сослались на ленинградского профессора Гуревича (не писателя, другого Гуревича). Тот объяснил, что в четырехмерном мире не будет ни атомов, ни квантов. Историки же сказали, что параллельные миры искать незачем, потому что в прошлом и будущем все закономерно. Прошлое таково, каким оно и должно быть. И незачем искать ответы в космосе, все они даны в «Исторической энциклопедии».
Ах, не в свое дело полез! Валентина Иванова вспоминаю: он говаривал, что после заседаний не может две недели сесть за стол. У меня нервы крепче: я сяду. Завтра же пойду в архив. Ждет меня переписка с послом в Потсдаме. И кажется, там есть что-то о Вольтере, может быть, даже автограф Вольтера… неопубликованный.
Пыхтя, плетусь по лестнице. Плетусь, потому что на первом этаже к проволочной сетке прикреплена бумажка: «Лифтерша больна до 24 часов». Вот кто точно знает свою судьбу: до полуночи будет больна, в четверть первого выздоровеет. Наконец вскарабкался на мой шестой этаж. Ворочая ключом в скважине, слышу за дверью истошные вопли, всхлипы и мяуканье магнитофона. Стойкая у нас молодежь, стальные нервы. Слышат только медные тарелки у самого уха. А я уже начал завидовать Мариэтте Шагинян. Как хорошо: надо послушать, вставляешь аппарат, надо поработать, вынул аппарат, никто тебе не мешает.
Из оркестрового грохота выглядывает рыжий бородатый молодец лет восемнадцати, мой единственный.
— А ты куда ходил, отец? — спрашивает он строго. — Я же сказал, что принесу хлеб… позже.
Реплика какая-то странная. Но от усталости я не замечаю странности, не вдумываюсь. — Мать дома?
— Мать при тебе же ушла. — Он подозрительно вглядывается в меня. Но тут магнитофон начинает квакать и бормотать. И парень забывает обо мне, кидается спасать музыку.
Я снимаю шубу… шубу снимаю — это имеет значение даже в сокращенном повествовании. И вижу: одна шуба у меня в руке, другая на вешалке, на крючке. Но это неудивительно. Главное, что шуба в точности такая, как у меня: серовато-синяя, воротник серого каракуля, пуговицы черные, верхняя болтается на ниточке. Нарочно, что ли, отрывали для сходства?
— Сынище, кто у нас?
Не слышит, увлечен магнитофоном.
Прихожу в свою комнату, синей она называется в семье, потому что стены выкрашены маслом, чистейший ультрамарин с белилами, сам я выбирал этот задумчивый цвет вечерней синевы. Прихожу и вижу… себя.
Встает мне навстречу грузный мешковатый дядя лет под шестьдесят, лобастый, с мохнатыми черными бровями, левая торчком. Словно в зеркало гляжусь.
— Ну здравствуй, Я, — говорит он.
— Простите, кто вы?
— Дорогой мой, с каких это пор ты к себе обращаешься на вы? Я это ты. Я твое Я из ближайшего параллельного мира. Разве не похож? Между прочим, наша жена не сомневалась, что я это ты. Вот оставила нам с тобой список поручений на вечер.
— Слушайте, дорогой товарищ, я устал и не склонен к шуткам. Вы прекрасно загримированы под меня… но я не понимаю, какой смысл в этом маскараде.
— Друг мой, дорогое Я, тебе же сказано, что я это ты из параллельного мира. Ты же сам придумал параллельные миры и еще гордился этой выдумкой. Вот на этажерке лежит у тебя розовая папка с гербом города Риги и готическими буквами. И там черным по белому в трех экземплярах напечатано: «…нижние слои поплотнее, а верхние поразреженнее. В верхних время идет побыстрее, а в нижних чуть медленнее. И за 15 миллиардов лет накопится разница, миры одинаковые, но наверху уже завтрашний день, а внизу только вчерашний… А что я буду делать завтра? Вот заглянуть бы и узнать».
Так напечатано. Твоими собственными руками на твоей собственной машинке.
— Ну это вы могли прочесть сидя здесь, — вырвалось у меня.
Он вздохнул.
— До чего же упрямо-недоверчивы мы — ученые. Даже собственные гипотезы считаем выдумкой. Друг мой, я примчался спасать тебя от верной гибели, а ты заставляешь меня тратить время, доказывая, что ты это я, а я это ты. Пойми же, как ни странно, параллельные миры действительно существуют. Я сам узнал это только сегодня, часа два назад по моим ощущениям, и тоже потребовал доказательств. А ты поверишь мне, если я расскажу, в каком ящике что у тебя лежит и что подразумевается под надписью «Пл. пар.»? Поверишь, если я расскажу, о чем ты думал по дороге сюда? Ты клял себя за то, что впутался в дискуссию с физиками. И вспомнил Валентина Иванова, который две недели не садится за стол после пустых заседаний. И утешал себя, что завтра пойдешь в архив, поищешь автограф Вольтера. Но в архив ты не пойдешь, потому что минут через десять позвонит Еремеев и предложит тебе вместо него поехать в Махачкалу на семинар. И тебе очень захочется проветриться. Но ты откажешься. Откуда я знаю это? Потому что все пережил. Потому что в вашем мире 24-е число, а в моем уже 31-е.
Все-таки странно было смотреть на него, словно перед зеркалом стоишь. Морщины мои, брови мои, шрам на лбу тот же. Никогда не пробовал ораторствовать, глядя в зеркало. Значит, такие у меня жесты, такая мимика. Пожалуй, он активнее держится. То ли он возбужден, то ли я устал больше? А может быть, он увереннее, знает, чего добивается, а я присматриваюсь настороженно.
И в самом деле, откуда он знает все это, о чем я думал по дороге?
— Ну, слушай меня, Я, не будем терять времени. Я, собственно, прибыл, чтобы спасать тебя. Часа два назад в моей комнате, такая же у меня комната, цвета вечерней синевы, вдруг появился этакий экран, трубка экранная. Из нее вышли двое в какой-то цветной пене: парень и девушка, очень хорошенькая девушка, кстати, вышли и сразу сказали: «Мы из параллельного мира, у нас 2004 год. В нашем мире известно, что автор идеи параллельности, ваш двойник, трагически погиб поздним вечером 31 января. Он мертв, его не воскресить, но вас-то мы спасти можем. Вечер только начинается, собирайтесь быстро, мы переправим вас в будущее». И они торопили, торопили: «Собирайтесь, собирайтесь, мы не знаем точно час и минуты смерти». У меня голова закружилась… но я сообразил все-таки, что долг платежом красен. Меня предупредили, надо бы и моих предшественников предупредить. Мне объяснили, как обращаться с этой белой трубкой, и я переправился не в будущее, а в прошлое, к тебе. Итак, знай, срок твоей жизни отмерен, 31-го парки обрывают нить, так что собирай манатки, и двинем в гостеприимное будущее.
Но я уселся в кресло глубже. При всем сходстве была и разница между нами. Он-то сорвался из своего мира, был взволнован, деятелен, а я сидел в своем доме, предупрежденный загодя, за неделю.
— Сегодня только 24-е, — сказал я.
— Ну и что? Ты согласен умереть через неделю?
— Обсудим, — продолжал я. — Почему же это я умру через неделю? Лично я не верю в рок. Вероятно, ты тоже?
— В рок я не верю, но верю в причинность. Человек утонул, потому что был пьян; или же был трезв, но не умел плавать, или умел плавать и переоценил свои силы, самонадеянно полез в большую волну, а волну развел ветер, а ветер поднялся из-за низкого давления, потому что надвигался циклон, а циклон возник потому… Были причины. И сплелись в одно — в трагический конец.
— Согласен. И правда, одинаково думаем. Все определено, но не предопределено.
— Ну хорошо, а тебе легче, если тебя погубит непредопределенная определенность?
— Я просто думаю, что предупреждение отменяет неизбежность. Мой двойник утонул, а я не полезу в воду. Наш двойник трагически погиб 31-го, а я не выйду из дому…
— А может быть, обвалится потолок?
— Разве наш двойник погиб дома?
— Я не знаю. И те ребята не знали точно. Знали только дату — вечер 31-го.
— А может быть, твое бегство и воспринято в вашем мире как гибель?
— В третьем мире наш двойник погиб и похоронен. Не понимаю, почему ты упираешься вообще? Хочешь подчиниться судьбе?
— Сейчас я хочу поужинать и лечь. И я твердо помню, что впереди у меня неделя. Незачем горячку пороть.
Он посмотрел на меня с сочувственной иронией.
— Узнаю себя. Прежде всего надо прилечь.
И тут зазвонил телефон:
— Еремеев, — сказал Он-я, показывая пальцем на трубку.
И правда, звонил Еремеев. Уговаривал поехать в Махачкалу на семинар. Рассыпался в любезностях, уверял, что я незаменим, только ко мне можно обратиться. Билет у него в кармане, командировку мне вышлют вдогонку авиа…
— Скажи, что перезвонишь ему через четверть часа, — посоветовал Он-я. И добавил, когда я повесил трубку: — Вот решение. Я за тебя еду в Махачкалу. Гостей там умеют встречать по кавказскому обычаю. Или ты хочешь поменяться: сам поедешь, меня оставишь дома… с нашей женой.
— Поезжай, поезжай, остряк, — сказал я мрачно.
На том мы и порешили. Сообща сложили мои рубашки в его чемоданчик, такой же, как у меня, серый в полосочку, с «молнией» вместо замочков. Денег подкинул я ему на дорогу. Затем мы созвонились с Еремеевым и расстались, обнявшись дружески… или братски, или по-родственному. Какие чувства испытываешь к своему близнецу из чужого мира, о существовании которого узнал только что? То ли кровный родич, то ли чужеземец.
— Вернусь 31-го днем, — сказал он на прощание. — Посмотрю, как ты увернешься от костлявой. Может, и придумаем что сообща. Так или иначе будем знать, что же нам угрожает.
5. СЛОВО ПЕРЕД КАЗНЬЮ
Он-я ушел. Я-я лежу и думаю.
Думаю, что осталось семь дней до какой-то страшной опасности… всего семь дней жизни, возможно.
Думаю, что человек энергичный на моем месте бежал бы на край света сломя голову. Но я медлительный… и не знаю, от чего бежать, собственно говоря. Может быть, опасность сидит во мне, инфаркт мне угрожает или тромб. От себя не убежишь.
Нечего метаться. Срок подойдет, проявим внимательность. Пока что отпущено семь дней на прощание.
Как прожить их?
Как вы прожили бы?
Семь суток ломали бы голову, вспоминая все возможные опасности, от всех на свете угроз старались бы спрятаться?
Хуже смерти представляется мне такая суетливая нервотрепка.
Кутили бы, веселились: пили, за женщинами ухаживали?
Но я пожилой человек с больным желудком, мне утомительно кутить, пить вредно, от обжорства у меня живот болит.
Лучше бы не знал ничего. Или лучше знать, как по-вашему?
Время от времени на страницы газет выплескивается старинная медицинская проблема: говорить ли больному, если он болен неизлечимо? Неизлечимому не поможет, но последние месяцы отравит. Пусть надеется хотя бы.
«Смотря кому», — сказал бы я после долгого житейского опыта.
Я встречал людей, умиравших от ужаса смерти задолго до смерти, упавших духом, панически кричавших «спасите меня, спасите!». И гнавших мысль о неизбежном, обманывавших самих себя. Встречал и других, готовившихся к смерти деловито, занятых устройством жизни своих вдов и детей, расчетливо распределяющих последние силы.
Мне бы хотелось, чтобы меня предупредили, так мне кажется сегодня. Так казалось в юности. Шестнадцать лет мне было, когда я написал для себя и о себе рассказы «Идеальная жизнь» и «Идеальная смерть».
Жизненного идеала тех лет не помню. Кажется, там было много странствий, приключений, внезапных поворотов судьбы. По-мальчишески жизнь хотелось прожить авантюрную. А смерть идеальная описывалась так: врач честно предупреждает, что жить осталось недолго, неделю всего лишь. На что употребить последние дни? Я — писатель (тогда я хотел быть писателем), и я решаю написать последний рассказ, аккорд творчества, лебединую песнь. И успеваю. И с сознанием исполненного долга закрываю глаза.
Ставши старше, я узнал постепенно, что в жизни так не бывает. Как правило, силы покидают человека постепенно, умственные силы также. Последние годы и месяцы мы обречены влачить растительную жизнь, цепляться за мир коснеющими пальцами, вкладывать все силы в пищеварение и дыхание, воздух втягивать хотя бы. Душно, больно, в голове муть, где там думать о лебединых песнях? Если же смерть приходит в расцвете сил, она не имеет обыкновения предупреждать: выскакивает из-за угла на четырех колесах, пулей впивается в сердце, валится на голову куском штукатурки… или изнутри нападает: затыкает аорту тромбом… и конец.
Вот такие правила у жизни: сильных увольняют без предупреждения, слабым предупреждение не на пользу.
Знаю редкие исключения: Кибальчич и Галуа. Первый был приговорен к повешению, второй вызван на дуэль. И оба потратили последние часы, чтобы завещать человечеству лучшие из своих мыслей. Но ведь это исключения. Смертную казнь я едва ли заработаю, дуэли вышли из моды.
И вот сейчас я оказался в таком удивительном положении: предстоит дуэль с судьбой. Вывернусь или нет, неведомо. Даже не знаю, кто мой противник. И дан срок — одна неделя.
Что же сообщу я человечеству за эту неделю? Готовой теории, как у Галуа, нет. Были находки — они опубликованы. О параллельных мирах доклад сделан, он был написан предварительно. Добавить подтверждение, описать появление двойника? Получаса хватит.
Завещание сочинять, семейство обеспечивать? И так по закону все достанется жене и сыну. Люди приличные, друг друга любят, не перессорятся из-за барахла.
Каяться? Нет преступлений на совести. Мелкие глупости были, но зачем же копаться в своем грязном белье?
Оправдываться? Но меня не обвиняет никто.
Хвалиться? Так нечем, собственно говоря.
Последняя, последняя, последняя неделя! В общем, надоедает думать о смерти. То ли будет она, то ли не будет еще? В неизбежный рок я не верю. Предупрежден, буду осторожен, увернусь как-нибудь. Двойник увернулся же. Через неделю явится, имеет возможность посмотреть на мои (свои собственные) похороны. А если я пропаду где-то без свидетелей, семья даже не заметит подмены. Или заметит? Куда же он денется тогда, двойник похороненного?
Наверное, отправится в следующий параллельный мир, предупреждать тамошнего Тихомирова. Так и будет скакать из мира в мир. Его спасли, он спасает по справедливости. А жаль. Стоит ли разменивать на одну какую-то личность великолепную возможность выручать целые народы, предупреждая исторические ошибки в параллельных мирах… к сожалению, только в параллельных. В нашем мире ошибки уже сделаны, не переделаешь.
Удивительная перспектива! Стало быть, и я, если уцелею, могу переиграть историю где-то, узнать, что было бы, если бы такой-то герой или народ взял свои слова и дела назад, словно начинающий шахматист, еще не играющий по правилам.
Могу снова и снова взвешивать случайность и закономерность. И обсуждать роль личности. Может ли личность повернуть колесо истории, даже если ее вовремя предупредят… из параллельного мира?
Конечно, для этого нужно бы подобрать личность, облеченную всей полнотой власти, крепко держащую руль в руках.
И какую-то развилку, на которой история могла бы повернуть и направо, и налево.
В двадцатых годах три советских автора выпустили в свет книгу с лихим названием «Бесцеремонный роман». Герой ее на машине времени отправляется в 1815 год (не в параллельный мир, а в наш собственный), перехватывает Наполеона на пути к Ватерлоо и сообщает ему о предстоящей промашке исполнительного и бездарного маршала Груши. Преследуя пруссаков, Груши потеряет их, они-то поспеют на поле битвы, а Груши будет маршировать в стороне, и без него Наполеон окажется в меньшинстве. Надо срочно вернуть блуждающий корпус, навалиться на англичан всеми силами.
Следуя совету, Наполеон выигрывает битву, история идет иным путем. Благодарный Наполеон награждает своего спасителя титулом князя Ватерлоо, тот становится приближенным, советником во всех делах, управляет судьбами мира, вооружив французскую армию пулеметами, танками и газами…
Вот этот второй момент мне не хотелось бы впутывать в историю. Это уже хроноклазм, тема, введенная в литературу Марком Твеном в романе «Янки при дворе короля Артура»: прошлое получает от будущего высокую технику. Меня интересует «если» в чистом виде: если бы в свое время люди поступили иначе. Условимся, что в параллельном мире должно давать только организационные советы, выполнимые для той эпохи: например, вернуть корпус маршала Груши.
Но без новейшей техники, думается, победа Наполеона под Ватерлоо не сыграла бы такой большой роли. Франция была обескровлена еще в походе на Москву; в 1815 году Наполеон подчистил все резервы, кинул в бой новобранцев-подростков. Он пошел ва-банк и, проиграв ставку, проиграл империю. Стало быть, его дела все равно были безнадежны. Даже если бы он разбил англичан под Ватерлоо, даже если бы отогнал пруссаков, за ними в тылу стояла победоносная русская армия, уже побывавшая в Париже. Нет, в данном случае предупреждение не сыграло бы роли. После Москвы поражение Наполеона было закономерным и неизбежным.
Мне нужно подыскать другой пример в истории, где случайность сыграла бы заметную роль.
К тому же какой мне интерес спасать параллельного Наполеона?
Мысленно шарю по годам, перебираю события, даты. Где тут были развилки?
Естественно, прежде всего вспоминаю о своей узкой специальности: середине XVIII века. Сватовство Петра III, подмена наследника. Это было в 1754-м…
А, вот оно! Кажется, нашел то, что нужно. Конец Семилетней войны.
6. РАЗВИЛКА 1761-го
В истории России Семилетняя война не была решающей. Читатель имеет право и забыть о ней. Для забывших напоминаю основное.
Война продолжалась с 1756-го до 1763 года. Воевали Англия и Пруссия против коалиции, в которую входили Австрия, Франция, Россия, Швеция, Саксония и всякая немецкая мелочь. При этом с Россией Англия не воевала, поддерживала отношения, даже торговала. Так что шли как бы две параллельные войны. В одной из них Англия решительно разгромила Францию на море, отобрала у нее Канаду и владения в Индии, утвердилась как колониальная держава с заморскими рынками — и вступила на путь промышленного развития. Франция осталась же без рынков, без территорий для эмиграции, вынуждена была вариться в собственном соку. Французские буржуа и феодалы продолжали жать и жать на собственный народ. И терпение лопнуло. Последовала революция 1789 года, за ней — Наполеон.
Пруссия же, отбившись от Австрии, главного своего соперника, утвердилась как самое крупное немецкое государство, чисто немецкое, в отличие от Австро-Венгрии, рыхлой, многонациональной, населенной и венграми, и чехами, и румынами, и поляками, и словаками, и итальянцами. Ставши национальным центром, Пруссия культивировала национализм, воинственность, милитаризм, агрессивность. И Европа получила Бисмарка через сто лет, Вильгельма — через 150 и Гитлера через 170.
Как разумно было бы повернуть руль вовремя!
И похоже, что была такая возможность… в 1761 году.
Пруссии пришлось плохо. Хотя союзники действовали разрозненно и бестолково (а может быть, неискренне, потому что каждый хотел сохранить свои силы, загребая жар чужими руками), хотя прусская армия, обученная палками капралов, считалась самой дисциплинированной, лучше сказать — вышколенной, хотя во главе ее стоял энергичный полководец Фридрих, позже наименованный Великим, хотя Фридрих одержал несколько побед, используя свое центральное положение и маневрируя на небольшой территории… но со всеми державами справиться ему не удалось. Русские войска вошли в Восточную Пруссию, разбили вдребезги пруссаков на Одере, даже Берлин заняли временно (Суворов участвовал в этом рейде), увезли ключ от города и миллион марок контрибуции. Фридрих был в отчаянии, Фридрих думал о самоубийстве.
И тут вмешалась судьба. Умерла русская царица Елизавета Петровна. На престол вступил Петр III, сын ее старшей сестры и герцога Голштинского, мелкого немецкого государя.
Висит в Третьяковке его портрет. Бледный золотушный дохляк с вывороченными губами. Увлекался псарней, увлекался куклами, увлекался игрой в солдатские парады. Был русским императором, но чувствовал себя Голштинским герцогом. Перед Фридрихом преклонялся. И спас Фридриха, взойдя на престол, немедленно заключил мир, затем даже союз. Договорился только, чтобы Фридрих помог ему присоединить к Голштинии Шлезвиг. Шлезвиг — это та шейка, на которую, как шапка, нахлобучена Дания.
Через полгода Петра свергла его собственная жена Екатерина. Но Фридрих был спасен… И Пруссия была спасена, начала свою полуторавековую подготовку к завоеванию мира.
А если бы Елизавета прожила еще года два?
Вот тут и мог бы вмешаться пророк из XX века. Явился бы ко двору под видом чужеземного врача, вылечил бы царицу…
Итак, экскурсия в 1761-й. Санкт-Петербург. Нева та же, но без мостов, конечно. Силуэт города не совсем такой. Петропавловский собор без шпиля, Зимний без Эрмитажа, не так высока и светла адмиралтейская игла, нет громады Исаакия, Медный всадник еще не вздернул коня. И в Зимнем вместо экскурсантов, повзводно приобщающихся к прекрасному, кавалеры в пудреных париках с косичками, дамы с голой грудью и подолами, подметающими пол. Сюда и являются два «заморских» врача, которые берутся вылечить царицу.
Чем она болела, кстати говоря? Умерла в возрасте 50 лет, с нашей точки зрения рановато, по тогдашним понятиям — на склоне лет. Смолоду была расположена к танцам и любовным утехам, к концу жизни любила сладко покушать, подремать, наслаждаться ничегонеделанием. Стала тучной, малоподвижной. Обмороки были у нее какие-то, многочасовые.
Видимо, общее ожирение, ожирение сердца, сердечная недостаточность, надеюсь, не диабет.
Погонять бы ее как следует: теннис, лыжи, гребля, альпинизм. Какие горы были тогда русскими? Только Урал?
Дрова пилить тоже полезно.
Царицу не заставишь.
Значит, лекарства: валокордин, кардиамин, кардиовален, дигиталис, камфора, нитроглицерин… ну и гипотиазид для похудения. Авось удалось бы протянуть года три.
Царице лучше. Министры чувствуют себя увереннее. Командующие действуют энергичнее. Салтыков, Фермор, Румянцев не боятся навлечь гнев наследника неумеренными победами. Фридрих разгромлен, в отчаянии принимает яд. В потсдамском дворце Сан-Суси (тоже в Потсдаме) союзники делят его владения. Австрии достается Силезия, Швеции — Померания, России — желанная Курляндия и Кенигсберг. Наследникам Фридриха оставляют Бранденбург — клочок земли без руд, без выхода к морю, военно-бесперспективный — солдат проживает мало. Прусский милитаризм уничтожен в зародыше. Не будет ни Бисмарка, ни Гитлера. Как же развернется история?
Подумаем за ленивую Елизавету, за ее активных министров хотя бы — за Шуваловых и Разумовских, за Салтыкова и Румянцева.
Европа под властью королей. Во Франции расточительный и развратный Людовик XV, интриги фавориток, знаменитая мадам Помпадур, заявившая: «После нас хоть потоп», настроения пира во время чумы, пира на тонущем корабле. В Австрии постная Мария-Терезия, набожная католичка, в Англии — невыразительный Георг III (чем он отличался от второго? Номером?). В Саксонии Август, он же король польский по совместительству. О Фридрихе, друге Вольтера, просветителе, солдафоне и гомосексуалисте, речь уже шла. Разные характеры, но у всех единая идея: нужно захватить как можно больше земель, как можно больше подданных, безразлично какой национальности. Подданные — это сила и богатство, солдаты и налоги.
Но для жадности ставит предел «можно»: не хватает своих солдат и денег, чтобы завоевать все на свете земли. Идет дипломатическая игра, составляются и рушатся союзы. И тут вступают в действие обстоятельства, не зависящие от всевластных государей, экономические и географические.
По причинам экономическим Россия с Англией не воевала, стало быть, англо-французский спор надо рассматривать отдельно. На него смерть Елизаветы не оказала влияние. Та война велась на море и в колониях, в обоих случаях победа вероломной «англичанки» закономерна. Англия жила морской торговлей, а Франция баловалась… и английский флот был сильнее. Англичане заселяли свои заморские колонии, уже набралось миллиона два поселенцев, а французы ездили в Канаду за мехами, там было тысяч шестьдесят колонистов. Естественно, что два миллиона разгромили 60 тысяч, несмотря на пресловутую доблесть галантных потомков д’Артаньяна, несмотря на важную помощь индейских следопытов. Опять-таки естественный союз: французы покупали у индейцев меха и не очень их теснили, а английские фермеры захватывали земли, выселяли и истребляли индейские племена.
Так или иначе, победа Англии была закономерна. Тут Елизавета ничего не могла изменить. Англичане получили свою Канаду и Индию, а французов подтолкнули к Бастилии и Наполеону.
Вернемся к проблеме Пруссии.
О причинах географических точно сказал Анатоль Франс. Пингвины пуще всего ненавидели ближайших соседей… поскольку с соседями больше всего споров и столкновений на меже. Главным противником России в ту пору была Турция, некогда грозная, чуть не проглотившая всю Европу в XVI веке, но к XVIII — дряхлеющее, отсталое средневековое государство. Россия хотела отобрать у турок берег Черного моря (к концу века это удалось), а также освободить порабощенные турками Балканы. И тут-то русские императоры сталкивались с Австрией, которой тоже ужасно хотелось «освободить» порабощенные Балканы и к себе присоединить. При дележе турецкого наследства Австрия становилась ближайшей соперницей. Русские цари предпочли бы эту соперницу слегка ослабить. Как ослабить? Угрозой с севера. А кто угрожал? Прусский король.
Враги наших врагов — наши природные друзья. От Семилетней войны и вплоть до 1914 года Россия почти не воевала с Пруссией. Русские поддерживали прусских против Вены. Полтораста лет Петербург дружил с Берлином.
Так что же получается? Не только самодурство Петра III, сама расстановка сил толкала русских царей к союзу с Фридрихом. Не выход России из войны с Фридрихом, а скорее участие в этой войне — случайный зигзаг истории. В нашем мире русские цари всегда поддерживали прусских королей. После Семилетней войны совместно сражались против Наполеона. Когда русские теснили Турцию, пруссаки соблюдали нейтралитет; когда пруссаки громили Австрию и Францию, русские соблюдали нейтралитет… Ну и вырастили на свою голову Вильгельма.
Но ведь и в параллельном мире та же география, то же соотношение сил. Вне зависимости от выздоровления Елизаветы те же стремления пробиться на Балканы, то же соперничество с Австрией и тоже полезно держать в тылу у Австрии воинственного Фридриха. А если так, устранение Петра III из истории (подобно победе Наполеона под Ватерлоо) не изменило бы ход событий. Увы, и в параллельном мире победив Пруссию, русские цари склонны были бы восстановить прежнюю противницу, так же, как после поражения Наполеона, союзники решили сохранить сильную Францию (Австрия против Пруссии, Англия против Австрии), так же, как в 1919 году и еще раз в 1945 году союзники принялись восстанавливать Германию… против Советской страны.
Пожалуй, экскурсия в 1761 год лишний раз убеждает, что в истории закономерность сильнее случайности. Личность, даже с короной на парике, играет не такую уж большую роль, как представляется ей лично.
Но ведь развилка 1761 года — не единственная.
7. ЕЩЕ ОДНА РАЗВИЛКА — 1774-го
Читатели, не окончательно забывшие школьное учение, сразу припомнят. Годы 1773–1775 — это Пугачевщина. Читатели, учившиеся в школе на пятерку, припомнят еще, что в этой крестьянской войне было три этапа. Дважды разбитый Пугачев оживал, словно Антей, прикоснувшийся к земле. Первый этап войны — оренбургский. Восставшие яицкие пограничные казаки осаждают город, надеясь наказать местные власти. Это бунт против губернатора, не против царского строя, бунт против местного судьи неправедного.
Потерпев поражение под Оренбургом в марте 1774 года, летом Пугачев оживает на Урале. Здесь его поддерживают горнозаводские рабочие, в ту пору — крепостные рабочие, чья жизнь была еще тяжелее, чем в деревне, не лучше каторжной. И поддерживают недавно при Елизавете покоренные, еще не смирившиеся с покорением башкиры.
Вторично разбитый в августе 1774 года под Казанью Пугачев переправляется на правый берег Волги и вдруг оказывается сильнее и опаснее, чем прежде.
Дело в том, что до сих пор он действовал на окраинах государства, малонаселенных, недавно завоеванных, не очень русских. В войско его шли казаки — вольные пограничники, возмущенные урезкой льгот, а также завоеванные инородцы, возмущенные потерей воли. Все народ воинственный, легкий на подъем, привыкший к коню и сабле. Но для русских они были чужими, и русский солдат стойко сражался против этих «бунтовщиков».
На правобережье Волги Пугачев оказался в коренной крепостной России. В сущности, только здесь бунт непокорной границы превратился в крестьянскую всенародную войну, во всеобщее восстание натерпевшихся рабов. От искр занялся пожар. Пугачева ждали деревни, ждали города, ждали купцы и попы, ждали Нижний, Тула и Москва с оружием и оружейными заводами. Трон заколебался. Перепуганная Екатерина задумалась о бегстве на кораблях за границу. Сподвижники советовали Емельяну немедля идти на Москву.
Пугачев поколебался… и повернул на юг: через Саратов — Царицын — на Дон.
Подстреленный зверь ползет в нору зализывать раны. Пугачев был донским казаком, домой побежал после неудачи. Казакам он верил, крепостные были чужды ему, и он недооценил всю силу крепостного возмущения.
На Москву или на Дон? — вот он, поворотный момент, развилка истории.
Пугачев выбрал Дон, был разбит под Царицыном в третий раз, окончательно… и выдан сподвижниками на казнь.
Итак, предупреждать его надо было где-то между Казанью и Симбирском, когда еще можно было повернуть на Москву. Трудная миссия. Опасная миссия. Опаснее, чем визит ко двору Елизаветы в облике чужеземных врачей. Какой облик принять, идя в стан Пугачева? Как пробраться через пеструю толпу мужиков с вилами, каторжников с рваными ноздрями, бесшабашных казаков, белозубых башкирских конников в меховых шапках, с колчанами за голой спиной? Переодеться? Притвориться своим? Не получится. Тогда и язык был не совсем такой, не пушкинский и даже не державинский.
Конечно, лучше бы на танке приехать… но это не по правилам игры. По правилам, надо убедить Пугачева, пусть он повернет на Москву, а мы посмотрим, что выйдет из этого.
Допустим, убедили. Повернул.
Запылал пожар всеобщего крестьянского восстания. Занялись огнем дворянские усадьбы: пензенские, нижегородские, владимирские, подмосковные. Отряды солдат в мундирах и париках с косичками — жалкие островки в бушующем море. Да и сами они, рекруты из бывших крепостных, все чаще, чаще, чем до Казани, переходят на сторону восставших. Тут же идет война со своими, не с бунтующими инородцами. И к Рождеству колокольным звоном встречает первопрестольная белокаменная государя Петра.
Белокаменной была тогда еще Москва, со стенами на Бульварном кольце, с воротами у Никитских ворот и у Петровских. Василий Блаженный украшал Красную площадь, но вся она была заставлена лавчонками. Спасская башня была такая же, и Иван Великий высился над Кремлем, и царь-колокол лежал у его подножия. Все соборы были налицо, дворцов еще не выстроили. В старых покоях поселился царь Емельян-Петр, в покоях Алексея Михайловича.
А испуганная Екатерина, нагрузив корабли драгоценностями, плывет за море выпрашивать помощь. Куда именно? Едва ли в родное свое герцогство Ангальт-Цербсткое, захудалый удел, немецкое захолустье, где только прозябать на хлебах у родни. Может быть, к Фридриху в Потсдам — ведь он же сватал ее за русского наследника. А может быть, в Англию, извечную покровительницу всех свергнутых монархов.
Тут у автора (не у героя, не у историка Тихомирова) благодарная, но тяжелая задача определить судьбу всех исторических лиц. Благодарная, потому что лица эти хорошо известны, столько выразительных характеров, никого не надо выдумывать. Тяжкая и трудоемкая, поскольку много этих известных лиц, и судьбу надо определить в соответствии с характером. Как поведут себя, куда денутся фавориты Екатерины — во главе с Григорием Потемкиным, еще не князем Таврическим? Конечно, верный матушке-государыне Суворов до последней капли крови будет защищать подступы к Санкт-Петербургу. Как будут действовать молодые, прогрессивные, Новиков например? Едва ли встанут на сторону восставшего народа. На счет Державина известно, он пытался изловить Пугачева; Суворов его опередил. Боюсь, что все исторические лица окажутся в армии царицы или же в эмиграции. А Радищев? Ведь он уже написал, что «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние».
Но это уже развитие событий. Основной вопрос: мог ли Пугачев остаться царем на Москве? И что было бы после?
Общеизвестно, что все крестьянские восстания в Европе кончались разгромом. Крестьянское войско непрочно. Недаром деревенская община называется словом «мир». Символический омоним. Мир земледельца — это его деревня. За свою деревню он сражается самоотверженно, чужая губерния его уже не волнует. В дальних походах он теряет пыл, норовит удрать в свою избу, в свою семью. И с восставшими рабами было подобное: они восставали, чтобы вернуться на родину. Войско Спартака таяло после побед — целые полки покидали его.
Но планета велика, у человечества тысячелетняя история, всякое бывало, любые найдешь примеры. Были победоносные восстания рабов, в Египте и в Финикии. Были крестьянские цари в Индии и Китае. В истории они не оставили никакого следа. Неведомо, почему их победа не дала ощутимых результатов.
Именно это интереснее всего в нашей если-истории.
Допустим, Пугачев укрепится в России. Что произойдет? Вся история свернет или, поколебавшись туда-сюда, выберется на привычный путь?
Поход на Москву — только первый этап в трудном восхождении царя Лже-Петра. Хорошо, вот он въехал в Кремль, отпраздновал победу. Дальше что?
Мы понимаем, что предстоят большие трудности, внешние и внутренние.
Внешние трудности — это прежде всего интервенция.
По всей вероятности, без интервенции не обошлось бы.
Во всяком случае, за революцией во Франции — в 1789 году, то есть вскоре после пугачевского времени последовала дружная интервенция Англии, Пруссии, Австрии, Испании, Голландии, Сардинии. Правда, последовала только через три года — в 1792-м. И еще можно заметить, что Россия в той интервенции не участвовала. Русская императрица при всей своей ненависти к восстаниям предпочла обделывать свои дела — теснила Турцию (именно тогда Суворов штурмовал Измаил) и кромсала Польшу.
А что могло произойти в параллельном мире после победы Пугачева? Пожалуй, обстановка была более или менее благоприятна для него. Англия не смогла бы принять участия в интервенции. У Англии восстали свои собственные американские колонии, это произошло в апреле 1775 года. Ближайшие соседи России — Швеция, Турция и Польша — находились в упадке. Швеция так и не оправилась после разгрома при Петре I, в самом худшем случае попыталась бы захватить только Петербург. Польшу раздирали междоусобные споры своевольных панов. Турция только что потерпела поражение в войне с Россией, рада была заключить мир. Кто же мог собраться выручать Екатерину? Пруссия и Австрия? Но они столько воевали друг с другом. Именно в те годы соперничали из-за влияния на Саксонию и Польшу. Право, умный дипломат мог бы их перессорить. Были у Пугачева умелые дипломаты? Нет, пожалуй. Возможно, какие-нибудь карьеристы перекинулись бы к нему в Москве. Ненадежный народ. Может быть, мне взять на себя миссию посла, отправиться в Берлин или в Вену? Но это не по правилам игры. Разыгрываем варианты истории, а не влияние на судьбы народов всезнаек из будущего.
Нет, пускай Пугачев обходится своим умом. Уж коли взялся за роль царя…
Кстати, о роли царя. В Москве придется играть ее всерьез, чтобы и народ видел государя, привыкшего жить во дворце, чтобы и послы являлись к монарху на церемониальный прием, с придворными, фрейлинами, балами, как в Петербурге бывало при подлинном Петре III.
Деньги нужны на эту показную роскошь.
Впрочем, не показное решает. Послы могли делать вид, что принимают Пугачева за Петра, если свои европейские споры были для них важнее усмирения чужих холопов. Тогда расстояния были длиннее, казалось, что Россия на краю света. Не вмешивается в европейские дела, и прекрасно. Австрия снова могла затеять свару с Пруссией, Франция — с Англией.
Но всех не перессоришь. Через год—другой, оправившись, могли бы накинуться на Россию шведы или турки.
Значит, нужна регулярная армия, хорошо вооруженная, нужны ружья, пушки, порох… И заводы, льющие пушки, и рабочие на заводах. И умелые офицеры, способные бить шведов и турков. И рекруты. И деньги. Золото. Серебро. Медь.
Восставшая армия кормит сама себя. Победоносная кормится за счет противника. Обороняющуюся нужно кормить. Хлеб. Лук. Капуста на щи. Мясо на приварок. Вино. Лошади. Телеги. Сбруя.
Бунт кормится реквизициями. Но отобрать можно один раз. Регулярную армию надо содержать, заводы и рабочих надо содержать.
Московскому царю приходится думать об устройстве государства.
Где брать золото? В рудниках? Кому работать в рудниках? Как их кормить? Откуда хлеб? Откуда щи и мясо?
Налоги. Налоговая система. Сборщики налогов. Транспорт. Дороги. Дорожная повинность. Приход. Расход. Экономика.
Пугачев вынужден подумать. И обязан подумать за него историк-консультант. Если не обдумает, не стоит и вмешиваться, советы подавать: «Не на Дон идти, на Москву!»
В самом деле, какой экономический строй установит победоносная крестьянская революция?
Хронологически к Пугачеву близки две революции: Великая французская и американская.
Французская, как известно, обернулась Наполеоном. На то были две причины. Французская буржуазия, оттесненная англичанами от рынков, жаждала завоеваний, хотя бы в Европе. И охотно пошло на завоевание французское крестьянство, жившее в густонаселенной, перенаселенной стране. Рядовой французский капрал тоже зарился на чужие земли. Наполеон сказал перед итальянским походом: «Солдаты, вы голодны и босы, я поведу вас в земли, где все в изобилии». Французские бесштанники кинулись грабить Италию под лозунгом освобождения от королей, под лозунгами свободы, равенства и братства.
Но у русских земли хватало, рядом лежали нераспаханные степи — заволжские, причерноморские, сибирские, приазовские… Зачем России Наполеон?
Американская революция тоже не породила Наполеона. Перед подвижной «границей» колонистов находились целинные прерии и леса, индейские. И на свой риск и страх самодеятельные американские наполеончики «освободили» эти земли, истребляя гуронов, ирокезов и могикан.
Неужели Пугачев повел бы Россию по американскому пути?
Между прочим, он казак был, уроженец русской «границы», «пионер» по-заокеански.
Конечно, не должен забывать консультант о существенном различии между Старым Светом и Новым.
В Америке было два миллиона колонистов, а русских — сорок миллионов. Потруднее разместить. И перед пионерами — индейцы, а перед нами — турки, противник посерьезнее. На кого же тогда напирать? Теснить башкир и казахов — первых союзников Пугачева? Непредвиденный получается поворот.
Что-то чувствую я, не успею разобраться за неделю. Сложная получается развилка. Рискованная. Даже первый шаг страшит. Вот являюсь я — иноземный лекарь — в стан Пугачева… Болтаю на ломаном, с их точки зрения, языке. Не будут разбираться. Срубят гололову… и конец историческому опыту. На поле боя не прислушиваются к разумным советам. Для обсуждения мирная обстановка предпочтительнее.
Мирная обстановка, мирная обстановка? Какая же развилка была в мирное время?
Листаю даты в памяти. 1801-й — Павла придушили. Ну и черт с ним, велика ли разница — один царь, другой царь! 1799-й — англичане прозевали Наполеона, плывущего из Египта во Францию. Предупредить? Но у Франции были и другие кандидаты в диктаторы, например удачливый генерал Моро. 1805-й — Аустерлиц. Да разве от случайностей зависела неудача? Кутузов сделал все, что мог… Лев Толстой убедил нас, что это была чуждая война, ненужная русскому солдату.
А, вот оно: 1825-й!
8. МНОГООБЕЩАЮЩАЯ РАЗВИЛКА
19 ноября в Таганроге умирает «властитель слабый и лукавый» бездетный император Александр. Путаница с престолонаследием. У ближайшего наследника — Константина — непригодная для трона жена, не из царского рода. Он отказался от престола, но это семейная тайна. Неурядица, момент благоприятный для восстания. И есть в стране молодые силы, готовые поднять восстание, позже их назвали декабристами. У них есть организация — «Союз благоденствия», у них есть программа — «Русская правда», они намерены учредить республику, отменить крепостное право, наделить крестьян землей. Правда, не все настроены решительно, они спорят между собой, некоторые в последний момент спасуют. Но мы-то, задним числом, знаем поведение каждого. Трубецкого выбрали диктатором, и он спрятался… Возглавить мог бы решительный Пестель, его арестовали накануне. В Петербурге войска вышли на площадь, бездействовали, теряли время. На юге — выступили в поход, направились не туда…
Электрического телеграфа еще не было; даже в столице о смерти императора узнали через неделю. До тайных обществ весть дошла еще позже… Юг и Север не успели связаться, действовали разрозненно, упустили время, упустили инициативу.
Вот она — развилка. Вот она — случайность истории.
20 ноября поутру я предупреждаю Пестеля. В нашем мире он был арестован 13 декабря, а в параллельном мире ему дается три недели форы. Пестель в Тульчине — ныне это Винницкая область; неподалеку под Киевом — в Василькове — решительный Муравьев-Апостол. Эти готовы действовать. Занять Киев, за две недели они свяжутся с Петербургом. Впрочем, и эту миссию можно взять на себя. Допустим, Я-я отправляюсь к Пестелю, а мой двойник Он-я к Рылееву. Предупредим, что Трубецкой ненадежен, не следует ставить его диктатором. Лучше поведут себя Оболенский, Бестужевы, Щепин… Эти не подвели на Сенатской площади.
Итак, продумаем беседу с Пестелем. Тоже не простенькая задача. Властный был человек, резкий, решительный. Мог и подозрительность проявить, мог и за провокатора принять. Максимальная нужна убедительность. Как начну?
«Милостивый государь, Павел Иванович!..»
Может, безделушки какие-нибудь захватить: шариковую ручку, электрический фонарик, какие-то приметы будущего быта… Транзистор? Ах да, принимать там неоткуда Магнитофон? Только на батарейках…
— Милостивый государь, Павел Иванович…
9. ДУЭЛЬ С СУДЬБОЙ
Он-я ввалился, когда я дописывал седьмой вариант письма к Пестелю.
— Ну где спасаться будешь?
А я и забыл о спасении. Я все еще агитировал декабристов мысленно. И ответил скучно:
— Нигде, дома отсижусь. Что может случиться дома?
— Мало ли что. Газ взорвется, потолок обвалится.
— Вот посажу тебя в свое кресло, на тебя и обвалится.
Пока я грел ужин, не без опаски (газ не вспыхнул бы), он принял ванну. За ужином мы раскупорили дагестанский, чокнулись, повеселели.
— Все-таки интересно, что угрожает нам, — заметил Он-я. — Очевидно, не инфаркт. Я уже прожил лишнюю неделю после срока. Значит, внешнее что-то.
— А что ты собирался делать в своем мире 31-го? У меня-то все переменилось.
Он потер лоб, припоминая.
— Кажется, в забегаловку взял билеты на 21.20.
Забегаловкой без всяких на то оснований называют в нашем доме соседний клуб. Очень приличный клуб и с просторным кинозалом. Туда удобно ходить: близко и места есть всегда, потому что наш район центральный, тут все меньше жителей с каждым годом.
— Что может угрожать в забегаловке?
— Пожар, например.
— Вероятнее уличное происшествие. Магистраль надо переходить. Машины несутся как бешеные.
— Или пьяные хулиганы.
— Какие же хулиганы? Центр Москвы.
— А твою сестру не грабили в подъезде?
Я скрипнул зубами. Было такое мрачное происшествие года четыре назад. Сестра моя приехала из Одессы, днем по магазинам, вечером в гости, всех надо обойти, рассказать родственные сплетни, посоветоваться, обсудить, осудить, обновки примерить. Женщины — народ коммуникабельный; в старину говорили — «болтливый». Вот она обещала прийти в 11, я ждал ее до полуночи, ждал до половины первого, еще четверть часа стоял у окна, смотрел, кто проходит через двор, зевая во весь рот. Позвонить в чужой дом постеснялся: почти час ночи, хозяева — люди пожилые, зря перебудишь. Без пяти минут час я проклял всех на свете коммуникабельных болтух и лег… И заснул. Ровно через десять минут раздался звонок. За дверью стояла растерянная сестра.
— Меня ограбили, — пролепетала она.
И все это произошло в те минуты, пока я засыпал и заснул.
Она приехала в троллейбусе, почти пустом, еще два пассажира было. Один свернул в переулок, другой пошел по нашему бульвару. Она вошла во двор, он за ней, она ускорила шаг, кинулась в свой родной подъезд («Подъезды — это самые ловушки, — говорили потом в милиции. — Лучше на площадь выбегайте, стойте на самом виду»). Преследователь тоже вскочил в подъезд, обогнал, встал поперек лестницы. Что он хотел, неведомо, может быть, на пол-литра попросил бы. Но в следующую секунду она уже колотила ногами в ближайшую дверь, крича: «Спасите, спасите!» А грабитель бил ее по лицу, приговаривая: «Тише, тише!» И пока за дверью думали, стоит ли открывать, грабитель вырвал сумочку, сорвал часики и удрал, кинув на прощание: «У меня нож».
Ну что бы стоило мне простоять у окна еще пять минут? Что бы стоило выйти во двор, встретить сестру у калитки? Такая хорошая погода была, морозец бодрящий, градусов двадцать всего. Что бы стоило вовремя приоткрыть дверь на лестницу, услышав вопли, галопом ринуться вниз… Уж я бы… Уж я бы, поступившись интеллигентным происхождением… Сколько раз переигрывал эту сцену в своем воображении, в самых свирепых вариантах. Вообще-то я человек отходчивый, тут я злопамятен на всю жизнь. Вот и сейчас скрипнул зубами, вспоминая. И тот Я тоже скрипнул. Все в точности повторялось в наших мирах. Он был такой же, как я, и сестра его — такая же болтушка. И лег он, не дождавшись ее, без пяти минут час.
Ну что бы ему предупредить меня своевременно? Я бы в своем параллельном мире расправился бы с бандитом… Я бы…
(Тоже тема: исправленные мемуары, жизнеописание в сослагательном наклонении: «…И тогда я бы…» Еслибыада! Биографии без вопиющих оплошностей, без упущенных возможностей! Сплошное удовольствие — писать такие мемуары!)
(Это автор вторгся в текст. Тихомирову мемуары ни к чему.)
— Давай пойдем в кино, — сказал я (Я-я). — Возьмем с собой палки на всякий случай. Палки — это не холодное оружие. Если что, отобьемся вдвоем.
Палок в доме не нашлось, тросточки нынче не в моде. Я-я взял с собою лыжную, алюминиевую. Ему-я дал рукоятку от геологического молотка.
Мы приняли все меры предосторожности, чтобы обмануть судьбу. Проспект пересекать не стали, перешли на ту сторону под землей по станции метро. Пятак за переход, невелики деньги, но нормальному человеку такое и в голову не придет. В кино сели на крайние места у самого прохода, возле двери с надписью «Запасной выход». Тоже не делаю это в обычных обстоятельствах, как все люди, предпочитаю середину ряда. Шла французская комедия в духе «весело о гангстерах»: убивают направо-налево, но все в пародийной манере, с шуточкой. Впрочем, мы на экран смотрели невнимательно, больше носом тянули: гарью не пахнет ли? И выскочили раньше всех, все старались делать наперекор самим себе. В метро второй раз не спустились, но долго стояли на углу, дожидаясь, чтобы не было ни единой машины. Дождались. Москва — деловой город, Москва засыпает рано, в двенадцатом часу пусто на улицах: ни прохожих, ни проезжих.
— Ну вот мы и дома, — сказал Я-я, когда мы перебрались на ту сторону. Какие могут быть еще приключения? Через двадцать минут полночь, конец рокового дня.
— Может, нам суждено поскользнуться, голову разбить о тротуар? — сказал он, беря меня под руку.
И тут же я поскользнулся. Но не упал. Лыжная палка была в руках, в лед воткнул острие.
— Ну вот и последняя опасность, — заметил Он-я. — Неужели суждено было голову разбить? Пошлость какая!
В переулке совсем было пусто, ни единой машины. Одинокая девушка спешила, стуча каблуками, стук отдавался в темных окнах. Какие-то парни вышли из нашего двора, остановили ее, спросили что-то. Знакомые, что ли? Девушка махнула рукой и ускорила шаг. Парни повернули за ней.
Мы с двойником переглянулись. Каждый вспомнил о своей сестре. Тоже прибавил шаг. И успели заметить, какая дверь хлопнула.
Подъезд! Ловушка!
Еще мелькнуло: «Стоит ли вмешиваться? Может быть, знакомые, выясняют отношения в темноте. Высмеют. Девушка нас же обругает». А что, если они хулиганы все-таки? И брат этой полуночницы уже лег спать, проклиная ее коммуникабельность.
Он-я распахнул дверь решительно. Из темноты донеслось сдавленное: «Помо…» Один парень держал девушку за руки, другой совал ей свою варежку в рот.
— Стой! — взревел Я-я. — Стой, руки вверх. — И выставил лыжную палку как копье.
— Милиция! — крикнул Он-я. — Сюда, скорей! — И взмахнул рукояткой молотка.
У одного парня блеснуло что-то в руке. Блеснуло и звякнуло. Я-я трахнул его по руке своим лыжекопьем. Нож упал на пол.
Дальше рассказывать трудно. Меня двинули в живот, головой или коленкой, не знаю. Пока я воздух ловил, две темные массы метнулись мимо меня наружу.
— Стой! — Он-я устремился вдогонку.
— Стой! — Я-я тоже выскочил на улицу.
Но парни были молоды, проворны и не ленясь спасались от суда. Они уже перескакивали через железный забор. Для нас — радикулитчиков — неодолимое препятствие.
Мы поглядели друг на друга. Расхохотались.
— Свиреп ты, товарищ кандидат наук из чужого мира.
— А где спасенная? — Он-я оглянулся. — По справедливости она обязана влюбиться. В меня. Поскольку у тебя своя жена в соседнем доме.
Мы заглянули в подъезд-ловушку. Девушки и след простыл. А на полу поблескивал кухонный нож, короткий, широкий, с простой деревянной ручкой и отвратительно острый — холодное оружие моей судьбы.
И если бы я был один, и если бы мы не запаслись палками, и если бы не заорали дружно…
Нож мы принесли домой, положили на стол и выпили рюмку дагестанского за победу здравого смысла над роком.
— За полновластных хозяев собственной судьбы! — сказал Я-я и чокнулся с ножом.
— Ну-с, и как ты собираешься строить судьбу? — спросил Он-я.
— А ты?
— Некогда было подумать. Сам представляешь кавказское гостеприимство. Что буду делать? Вероятно, в следующий мир поспешу, третье Я предупреждать. А он меня опять погонит в Махачкалу. Тебе-то проще. Ты у себя дома.
И тогда Я-я заговорил о визите к Пестелю.
Сначала Он-я загорелся. Расхвалил меня: «Какой молодец, ну и молодец же. Занялся делом, времени не терял. А я — то изощрялся в изобретении тостов, все хотел гостеприимных хозяев превзойти. Молодец, одно слово — молодец!»
Потом задумался. Совсем иным тоном произнес:
— Но имеем ли мы право вмешиваться? Рядовые люди, не боги же. Разве предусмотрим все последствия на века вперед. Сам ты рассудил — Елизавету не стоило лечить, с Пугачевым все неясно…
И напомнил классическую бабочку Брэдбери.
Я, правду сказать, не ожидал возражений. Думал, что мы — двойники и думаем одинаково. Но вот неделю прожили врозь и уже разошлись. Настроение разное: я доживал последнюю неделю, а он проживал очередную. И еще подозреваю, что Он-я позавидовал мне немножко. Я-то додумался до исправления истории — не он.
— Советы давать мы не имеем права, но почему не предупредить?
— И между прочим, мир тот не наш, только копия нашего, — продолжал Он-я. — Чужой мир делаем экспериментальным.
— Так рассуждать, и наш мир ты сделал экспериментальным. Забрался сюда, палкой размахался, девушку спас от насилия. Может, от тех насильников она понесла бы и родила какого-нибудь гения.
— Ну уж это мало вероятия.
— Вот и в бабочке мало вероятия. История — широкий поток, обтекает она песчинки, бабочек всяких. Но декабристы-то — не песчинки. Хоть в одном мире спасем их. Спасем? Или дадим повесить, чтобы историю не портить? Берешь на свою совесть пятерых повешенных?
10. ЕСЛИАДА
Здесь, отобрав перо у героя, снова берет слово автор. О многом надо подумать, прежде чем взяться за роман о победивших декабристах.
Возьмусь ли?
Снова тяжкая проблема выбора. Увы, выбор — это отречение. Если выбрал жену, отверг всех других девушек. Если стал инженером, значит, не буду географом, геологом, генералом, дипломатом, артистом, водолазом, космонавтом…
Если остановился на декабристах, значит, отверг все другие «если».
А так много интересного было в истории.
Может быть, мне предупредить Юлия Цезаря, что Брут («И ты, Брут!») хочет заколоть его на форуме.
Или это ничего не изменило бы? Ведь сенаторы — «бояре» все равно были разбиты. И римским императором стал внук Цезаря. Не Юлий, так Август. В честь обоих названы месяцы.
Предупредить президента Кеннеди, чтобы не ездил он в Даллас 22 ноября?
Пушкину сообщить (вот это обязательно надо сделать!), что он будет смертельно ранен на Черной речке.
Может быть, японцев предостеречь в 1945 году, что на них сбросят две атомные бомбы — на Хиросиму и Нагасаки. Предлагали же в свое время физики пригласить японских генералов, продемонстрировать им взрыв на уединенном острове. Трумэн отказался. Решил, что демонстрация не будет достаточно внушительной.
До сих пор американские литераторы рассуждают: какой был бы результат приглашения? Говорят: чванные генералы не поверили бы, решили бы, что их пугают инсценировкой.
А по-моему, надо бы попробовать.
А может быть, может быть, важнее всего было наше командование предупредить, что Гитлер нападет на нас 22 июня в 4 часа утра.
Но предупреждали же. Зорге, например. Были разведчики, были перебежчики. Наверное, в 1941 году было сто донесений тревожных и сто успокоительных.
В результате Сталин сам должен был решать, будет нападение или не будет.
Неужели думал, что не будет? Да мы все были уверены, что войны не избежать. Я отлично помню, я в армии был тогда рядовым, ну, не совсем рядовым — чертежником в штабе. И шел разговор, что на очереди война с Германией. Только я по самомнению своему настаивал, что она начнется в 1942 году. Но полковник наш, начальник оперативного отдела, поправил: «А может, и раньше». Он-то знал, что нашу 16-ю армию уже перебрасывают из Забайкалья на западную границу. 21 мая ее грузили в эшелоны — в мае, не в июне.
Ох, боюсь, без внимания отнесся бы Сталин (в параллельном мире) к нашему сто первому серьезному предупреждению.
Но вот приходит в голову другой поворотный пункт и другой человек, который, так мне кажется, прислушался бы. Задумался бы.
Был такой, седой, лохматый изгнанник, великий мыслитель и любитель игры на скрипке. К нему-то 2 сентября 1939 года пришли бежавшие от Гитлера физики, явились с просьбой подписать письмо к президенту Рузвельту о том, что Германия может создать атомную бомбу, необходимо ее опередить.
Эйнштейн попросил ночь на раздумье… и подписал.
Вот тут бы и прорваться к нему, красочно рассказать обо всех последствиях, о том, что Германия не успеет создать атомную бомбу, советские войска раньше войдут в Берлин, а бомбы сбросят на японские города, и затем начнутся десятилетия атомного страха и атомного соревнования.
Двадцатый век без атома?
Или все равно, не подпиши Эйнштейн, обратился бы к Рузвельту другой физик — Ферми, Оппенгеймер?.. Убедил бы кто-нибудь президента строить урановые котлы.
Все тот же извечный вопрос: роль личности в истории, роль случая и закономерность.
Выберу ли я этот момент истории?
Выберу ли? Выбор — это отречение. А мне так хочется всю историю просмотреть, узел за узлом, узел за узлом, проследить все возможные ответвления, продумать все варианты. Где можно было свернуть и можно ли было свернуть хоть где-нибудь? И стоило ли сворачивать? И что повторится неизбежно, а что повторять нет необходимости?
Я-то знаю, что все не охвачу. Но я не собака на сене. Идея не запатентована. Пусть и другие пишут квазиисторические романы. Пусть будет серия КИР — квазиисторических романов.
Если читателю придется по вкусу Еслиада.
ДЕВЯТАЯ КАЗНЬ
1. ТЕМА
Я долго не мог понять, почему «летающие тарелки» вызывают такой ажиотаж («Ажажиотаж», — язвили остроумцы).
Конечно, любопытно, каковы они — братья по разуму, поучительно сравнить их историю и нашу, их мораль и нашу. Но право же, как мне казалось, есть у науки и научной фантастики гораздо более важные, насущные темы. Энергия будущего. Пища будущего. Опасность войны и самоуничтожения. Старость неизбежная. Недостатки людские. Счастье для каждого.
И не сразу понял я, что именно об этом насущном и хотим мы спросить у пришельцев.
Надоумил меня Мензел — скептик, противник «тарелочек», приведший очень наивный и трогательный пример. Среди писем, полученных им после первого издания его разочаровывающей книги, было одно от девушки из Вашингтона.
«Зачем вы разрушаете надежды? — спрашивала она. — Вы же знаете наш город, в нем нет никого, кроме негров и чиновников, порядочной девушке не с кем познакомиться. И вот я начала писать для себя роман о том, как из «летающей тарелки» вышли симпатичные блондины небольшого роста…»
Вот оно что: пришельцы — это феи двадцатого века.
Фея, принеси мне жениха на летающем блюдечке с голубой каемочкой — симпатичного блондина небольшого роста!
Фея, верни мне молодость! Фея, накорми моих голодных детей, фея, спаси меня от атомной войны, подскажи, прикажи, посоветуй, открой тайну, убери, подари!..
Зарабатывать — трудно, найти решение — головы не хватает, ученые медлят, политики что-то путают… Так хочется получить готовые подарки от небесного гостя.
Но одновременно подняли голос и скептики:
— Полно, с подарками ли явятся гости из космоса? Не с пистолетом ли лазерным: «Кошелек или жизнь?»
Герберт Уэллс был если не самым первым, то самым известным из скептиков. Англичанин родом, соплеменник самых удачливых в истории пиратов и колонизаторов, он и марсиан изобразил колонизаторами — кровопийцами.
Но его «Война миров» вышла еще в конце прошлого века, с той поры накопилось много сведений в астрономии и новые аргументы в споре. Ныне мы знаем почти наверняка, что марсиан на Марсе нет, по всей вероятности, нет разумных инопланетян и во всей нашей Солнечной системе. Звезды же так далеки, что вторжение злых пришельцев оттуда маловероятно… энергетически.
Меня лично цифры убеждают больше всего.
В самом деле: взрослому человеку нужно, как известно всем читателям журнала «Здоровье», примерно 3000 калорий ежесуточно, а за всю долгую жизнь около ста миллионов, что составляет в пересчете на щедрую эйнштейновскую энергию вещества примерно 4 миллиграмма энергии. Чтобы переправить же живое существо, человека допустим, со звезды на звезду, нужно затратить минимум два кило на кило живого веса, не считая одежды, аппаратуры, оружия и всего прочего. Так какой же дурак станет выливать потоки энергии на каждого переселенца или солдата, если можно прокормиться капелькой из пипетки?
Повторяю для ясности сравнение:
Атомная бомба — это около грамма энергии — наперсток. Термоядерная — стопка, стакан или кружка. Всемирное производство энергии — сотни три килограммов — триста литров, ванна из солнечного пруда.
— Все равно ждать подарков нечего, — настаивают скептики. — Едва ли где-нибудь вообще есть эти самые щедрые и могучие. Видите же, какими темпами развивается земная техника: вся ее история укладывается в двести лет — От паровой машины до выхода в космос. Еще через двести лет мы обязательно будем на соседних звездах. Цивилизация, опередившая нас на тысячу лет, обследует всю Галактику. А в Галактике есть солнца, которые старше нашего на миллиарды лет. Видимо, нет нигде братьев по разуму. Мы — редчайшие, может быть, и единственные. Драгоценное исключение!
Сегодня эта точка зрения — самая распространенная в науке.
Энтузиасты не согласны:
— Гости из космоса обязательно должны были прилетать к нам. И прилетают сейчас… на «тарелочках».
— Прилетают гости? Почему же они не знакомятся, не представляются? Это даже невежливо.
По-разному объясняет фантастика странную некоммуникабельность пришельцев.
— Гости равнодушны к нам, — говорят скептики. — Они не добры и не злы, а просто безразличны. Мы для них как муравьи — малоинтересное проявление низкоразвитой природы. У гостей свои дела, недоступные нашему пониманию.
Позиция эта ярко выражена в повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Да, были пришельцы, пролетали, остановились, намусорили, бросили какие-то банки, детальки. Земным ученым работенка — разбираться на сотню лет.
Неубедительно все-таки. Даже и на нашем уровне ученые уделили бы внимание муравьям чужой планеты.
Тем более «муравьям», уже отчалившим от планеты, способным в контакт вступить.
— Пришельцы нарочно избегают контакта с нами, — говорят другие энтузиасты. — Они изучают нас и наблюдают, оценивают.
Но сколько же можно наблюдать? Шум о «тарелочках» идет уже больше сорока лет.
— Существует закон космического невмешательства в развитие, — говорят третьи. — Если пришельцы подскажут нам решение всех проблем на тысячу лет, они же нас думать отучат.
Я и сам написал это несколько лет назад и сам же нашел опровержение.
Атомная угроза! Накоплено достаточно бомб, чтобы уничтожить жизнь на Земле. Этак пронаблюдаешься. И между прочим, даже по несовершенным законам грешной Земли попустительство преступнику, неоказание помощи жертве считается подсудным. Могучие пришельцы, растрачивающие центнеры и тонны энергии на свой космический туризм, и могут, и обязаны погасить наши кустарные бомбочки — доли грамма, граммы энергии в них.
Вот и тема!
Пришельцы прибывают на планету, а там война. Погасить ее надо. Как?
2. ГЕРОИ
Тему эту можно излагать двояко: изнутри и извне. Изнутри — с позиции воюющих, извне — с точки зрения пришельцев.
Можно писать и так, и этак. Однако заранее понятно, позиция «изнутри» требует большого романа — о поджигателях войны и их противниках, об обманутых и обманщиках, о генералах, офицерах, солдатах, их семьях, убитых, искалеченных, о врачах, сестрах, вдовах, о газетчиках и священниках, о философах и политиках, о монархистах и революционерах. Требуется целый роман… и он не имеет права быть хуже многочисленных и великолепных романов о войне.
Сюжет «извне» можно уложить и в небольшую повесть, даже в рассказ — научно-фантастический. Поскольку сам сюжет фантастический, я предпочитаю такой подход.
Только внесу одну, довольно обычную для фантастики перестановку: пришельцы — это мы. Люди! Люди будущего, могучие и доброжелательные. Это они прибыли на другую планету, а там война… скажем, на уровне 1914 года — империалистическая, с обеих сторон несправедливая, война за передел колоний.
Следовательно, герои — люди будущего.
В третий раз повторяю: они могучи и добры. Доброта у них от могущества, естественная, не жертвенная, не ущемляющая себя, не вымученная и не навязанная муштровкой. Они добры, потому что у них есть все… по потребности. Необходимое дается через три минуты, а особенное, редкостное — немного погодя. Дается… незачем биться, добиваться.
Они добры от избытка сил, от жажды и привычки к деятельности. У них принято стараться помочь, опекать детей, больных, старых, заботиться о женщинах. Даже здороваясь, не здоровья желают, спрашивают «Надо ли помочь?»
Теперь подберем героев. Люди будущего, но какие именно? Конкретности требует литература.
Помощь истекающей кровью планете я не хотел бы поручать профессионалам — этакой межзвездной пожарной команде, натренированной и умелой. Да и едва ли будут на Земле эти астропожарники. Похоже на то, что цивилизации и в звездном мире редки и уж совсем редкостны живущие в кратковременном периоде (каких-нибудь пять тысячелетий) крупных войн. Да и вообще неинтересно писать о специалистах, действующих по инструкции. Этакая беллетризация пожарного устава! Ни проб, ни ошибок, ни сомнений, ни оплошностей. Нет уж, предпочитаю неопытных героев, пусть ищут и размышляют у читателя на глазах.
Откуда же неопытные в космосе? Допустим, это туристы. Могут же в наше время мальчишки забраться в неизвестную пещеру, извлечь оттуда кувшины с кумранскими рукописями. А в те далекие времена туристы забредут на неведомую планету. Звезд на небе предостаточно: в одной только нашей Галактике сто миллиардов — по 20 штук на каждого жителя Земли. Сто миллиардов экспедиций не снарядишь, стало быть, предоставляется возможность желающим: «Выбирайте себе звездочку по каталогу. Хотите АВС 123456, хотите — XYZ 987654».
Нужно, конечно, чтобы уже была создана возможность посетить любую звездочку без особого труда… как в пещеру залезть.
Итак, туристы. Не дети, совершеннолетние… но и не слишком старые, сверхопытные. Допустим, школьники-старшеклассники. Еще лучше — окончившие школу. Восемнадцать — возраст любви, для литературы оптимальный. Ребята сдали экзамены, получили аттестат, празднуют вступление в самостоятельную жизнь, отмечают его… рейдом к звездам.
Четверо их — одна девушка, трое юношей.
Была еще одна девушка, но отказалась. Самый нужный для нее не склонен был ехать, а без него праздник не в праздник. Та отказалась, а свободная, еще не выбравшая, выбирающая, охотно отправилась в путь с тремя, даже не очень знакомыми юношами. Конечно, каждого из них она примеряла подсознательно: годится ли в мужья?
Вы морщитесь? «Фу, пошлость какая! Девушка будущего перебирает женихов. А где же подлинная любовь? И это люди будущего?»
Товарищи, только не надо бояться слов! Конечно, любовь будет. И сердцу не станут приказывать. Девушки будут чистосердечно, с полнейшей искренностью, без всяких меркантильных расчетов, свободно выбирать по сердцу отца своих детей. Разве это маловажное дело: выбирать отца своих детей. Разве уместно в таком деле легкомыслие, минутное увлечение? Семь раз надо отмерить, проверить… свое собственное сердце. Право же, очень ответственную задачу решают шушукающиеся девушки, разборчивые невесты.
Пусть же привередничает наша героиня. Пусть присматривается внимательнее. Это хорошо, что у нее трое на примете. Девушка должна иметь выбор! Как назовем мы единственную нашу героиню? Если не возражаете, Женей — Евгенией. Этимологически: Евгения — хорошего рода, с хорошим наследием (генами), хорошая родительница. По созвучию Женя — жена, жизнь дающая. Не случайно сходно звучат в русском языке слова «жизнь — жена — жито». Жизнь от хлеба, жизнь от жены. Нет претензий, если сознание женственной жены занято любовью, подсознание же озабочено наследственностью: какому ребенку даст она жизнь?
Пусть его отец будет здоровым, крепким, сильным, мужественным и отважным, надежным защитником жене и детям.
Но ребенку нужна не только хорошая наследственность и даже не только защита. Заботы нужны. Пусть его отец будет добрым, заботливым, хлопотливым домоседом, терпеливым, трудолюбивым, умелым мастером на все руки!
А в мире будущего, где окончательно стерлась грань между физическим и умственным трудом, каждому гражданину нужна способность к умственной работе. Так пусть же его отец будет умным, знающим, талантливым! Пусть талант передаст по наследству, а знания и опыт словами!
Собственно, в этом рассуждении уже намечены три героя — сильный, добрый, умный. Назовем их по первым буквам: Селим, Дмитрий, Устин.
Максималисты спрашивают: «А разве нельзя сделать Селима и заботливым, и добрым, и умным заодно?»
Можно. К тому и будет стремиться воспитание. Но ведь люди, даже и в далеком будущем, детей своих будут рожать, а не штамповать. И каждому ребенку родители передадут свои задатки, нестандартные способности и наклонности. Вообще для развития общества нужны разные люди. Пусть и у нас будут неодинаковые: трое смелых, добрых, умных, но Селим — самый смелый, Дмитрий — самый добрый… Пусть!
Предыстория человечества — до коммунизма — знала еще одно «пусть!». Пусть у отца будет положение — социально-экономическая сила! И это четвертое «пусть!» было самым весомым. Недаром о прекрасных принцах мечтали девушки при феодализме и о прекрасных миллионерах — при капитализме. Но поскольку мы забираемся в отдаленное будущее, там это «пусть!» даже и не всплывает. Трое парней, обеспеченных по потребности, Женя сама обеспечена. Принц-миллионер не требуется.
Трое юношей вокруг одной девушки. Все стараются привлечь ее внимание, показать себя с лучшей стороны. Разве предосудительно?
Можно, конечно, и на жалость бить, но я как-то не уважал этой манеры ухаживания. И героев своих не хочу наделять ею.
Мужественный Селим собирается стать космонавтом. Он смел, на опасность выходит первым, старается заслонить девушку, немножко бахвалится своим безрассудством. Прямолинеен, резковат, чуточку топорен. Грубоватая напористость кажется ему отличительным достоинством мужчины.
Дмитрий намерен сделаться конструктором, любит мастерить хитрые приспособления из автоматических блоков. Три раза в день преподносит Жене игрушки собственного изготовления. Придумывает, чем одарить, как устроить, как угостить. Но заслуги свои не выпячивает. Играет роль доброго домового.
Устин увлечен историей. Не влюблен в романтическое прошлое, не вздыхает об ушедшей героике. История для него трамплин. Он хочет понимать логику человеческого развития. Не считает, что «понять это простить». Кто придумал это бездумное изречение? Придерживается более новой истины: «Если хочешь менять, надо понять». Он тоже неравнодушен к Жене, но не торопится соперничать, да и не может: не такой напористо-смелый, как Селим, не такой хлопотливо-умелый, как Дмитрий. Но надеется, что девушка сама оценит его.
Возможно, и оценит. Девушки будущего очень самостоятельный народ. Могут подойти и объявить громогласно: «Я хочу, чтобы ты был отцом моего ребенка». И не придут в отчаяние от тактичного отказа. В наше время мужчины не вешаются же, если им говорят «нет».
Впрочем, иногда и вешаются.
Смонтировав эту любовную пирамиду (тетраэдр, если быть точным), я несколько засомневался. Уместна ли история выбирающей девушки в данной теме. Ведь, в сущности, сюжетная роль Жени состоит в том, чтобы, увидев льющуюся кровь, воскликнуть в ужасе: «Ребята, что они делают! Они же с ума сошли: калечат друг друга, понятия не имея о регенерации. Как растащить их, мальчики, придумайте скорее!»
Но ведь после этого мальчикам надо придумывать и хочется, чтобы это были живые люди, а не ЭВМ № 1, № 2 и № 3. Пусть останется как есть.
Итак, Жене полагается выбирать. И в Бюро Космического Туризма спутники ей предоставляют право выбирать планету. Она называет наугад СДУ-181818 — инициалы «мальчиков» и их возраст, Есть такая планета в каталоге? Есть, оказывается, и никто не побывал на ней. Отправляйтесь, посмотрите.
Четверо отправляются. Смотрят. И видят — война!
«Что же делать, мальчики, придумайте скорей!»
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Некогда в нашей фантастике уважались технические идеи. Можно было писать романы о голубом угле — энергии ветра, или же о синем угле — энергии прилива, вести страстный спор, который цвет лучше — синий или голубой. Ныне же в фантастике у нас господствуют поборники высокой нравственности, с презрением относящиеся к технике. Выписываю из очередного под руками оказавшегося предисловия похвалу: «Писатель видит интересность фантастики не в нагромождении техницизмов, сочинений экзотической терминологии, этакой «роботизации» прозы. Нет, человек, человеческие страсти — вот что главенствует и составляет главную ценность… И лучше работы мирового научно-фантастического потока идут в этом русле…»
И я бы в угоду критикам с удовольствием держался главного русла мирового потока. Человеческие страсти! Да где же больше страстей, чем не на войне? И тем не менее все-таки не обойтись без презренных техницизмов, ибо герои мои — не боги.
Бог, как известно, всемогущ. Это звучит внушительно, не очень понятно, а для чтения — скучновато. Всемогущий может все, для него не существует проблем. Мир создать? Пожалуйста. Вызвать войну, голод и мор? В одно мгновение. Прекратить войну? Раз, и прекратил. Прекратил, и читать не о чем.
Пришельцы не всемогущи наверняка, в том числе пришельцы с Земли — наши герои. Они находятся на техническом уровне XX… XXII… XXV… XXX века… или же по Кардашову — на I, II, III энергетических уровнях, что означает: распоряжаются энергией всей планеты, всего Солнца, всей Галактики.
А от этого зависит, что именно могут придумать «мальчики».
Итак, волей-неволей, глава, посвященная оборудованию.
Сколько энергии?
Выше говорилось: чтобы долететь до звезды на субсветовой фотонной ракете, надо затратить два кило энергии на кило живого веса и еще два кило на возвращение. Тонна энергии на четверых героев, десятки тонн на кабину, аппаратуру, инструменты, припасы. Десятки тонн энергии в распоряжении моих героев, как бы миллионы атомных боеголовок. Так и условимся. Энергетический уровень номер I.
Правда, расчет этот очень приблизительный. Поскольку герои летят к какой-то отдаленной звезде, за десятки, сотни или тысячи световых лет, явно отправляют их не на пресловутой фотонной ракете, слишком уж тихоходной для межзвездных полетов. Вероятно, используется «телепортаж» — способ, бытующий только в фантастике. Телепортаж — некое подобие радио. Принято говорить, что по радио передается музыка, на самом деле не передается, а копируется. На радиостанции звуковые волны переписываются на электромагнитные, те уже распространяются в эфире, а в приемнике у вас дома воспринимаются. И возбуждаются звуковые волны в воздухе вашей комнаты, из местного материала изготовляется копия звуков. Такое чудо ежедневно происходит в комнатах современных людей. Телепортаж — подобие этого чуда, только записываются и передаются не звуковые волны, а предметы, тела, человеческие тела в том числе. На передающей станции каждое, атом за атомом, переписывается на некие волны, явно сверхсветовые; со светом не получится, и скорость мала, и мало волн в секунду. Где-то у другой звезды волны эти превращаются в атомы. Человек передается по радио.
Наука совершенно серьезно обсуждала эту возможность. Норберт Винер отметил, что едва ли телепортаж возможен, очень уж велика необходимая информация. Но он имел в виду волны, знакомые физике, подобные световым. Мы имеем право применить неведомые… быстрее света. Насколько быстрее? В два раза, в сто или в тысячу раз? Нужно договориться, ибо от скорости зависит продолжительность самой передачи… а также и связи. Допустим, не сутки и не год, две недели туда, две недели обратно. Для сюжета это имеет значение.
Допустили, договорились, условились! В фантастике неизбежен этот договор с читателем. Автор предлагает условия, но в дальнейшем обязан придерживаться их, соблюдать неукоснительно. Условились, что перемещение с Земли к чужой звезде продолжается две недели. Мог быть и другой срок, но будем придерживаться условия. Условились, что в распоряжении героев тонны энергии. Могло быть и другое количество — в сотни раз больше или в сотни раз меньше. Ведь при телепортаже передается не тело человека, а информация о строении тела. Но хотя телепортаж еще не существует, он уже имеет несколько вариантов, здесь неуместно перечислять их. Я выбрал тот, где человек весь целиком превращается в сигналы — в информацию. Не записывается буквами, а становится буквами, потом монтируется заново из этих букв. Так условились, будем придерживаться такого условия.
Если же можно передавать и копировать человека, стало быть, и любой предмет возможно скопировать, был бы образец или же лента с записью. Поэтому герои мои не берут с собой бесконечные банки с припасами, а только ленты: одна лента — жаркое, другая — теплая шапка, третья — лучевой пистолет. И могут заготовить по ней сколько угодно пистолетов.
Некогда я целый роман написал об этих чудесах. Сейчас важно одно: любые вещи герои могут изготовить, если у них есть образчик.
Далее, проблема контакта. Высадиться на планету они способны, для этого нужно совсем мало энергии — миллиграммы из имеющихся в их распоряжении тонн. Но, вероятно, им не рекомендуется, даже не разрешается вступать в контакт самостоятельно. Однако оборудование для наблюдения имеется наверняка: киноавтоматы, фоноавтоматы… ну и приставка для автоматического анализа языка и перевода.
Перевод необходим. Иначе герои не поймут, как же реагируют воюющие на все их усилия.
И, наконец, проблема безопасности. Не только от пуль и снарядов, героев нужно оградить от космического обстрела: от лучей, хромосферных вспышек тамошнего солнца, от радиоактивных и всяческих потоков частиц. Фантастика рекомендует защитное поле. Какое именно? Некое, этакое: поле, отражающее все лучи, все частицы, все пули и все снаряды, вплоть до бронебойных. Выглядеть оно будет как зеркало на освещенной стороне, а на противоположной — как глухой черный силуэт.
Ну и все. Оборудование перечислено, технические условия даны. Можно приступать к решению задачи.
4. РЕШЕНИЕ
С точки зрения землян, людей будущего, творится нечто нелепое. Такой тяжкий труд — вырастить человека, сберечь его, воспитать, обучить! А тут, изощряясь в выдумках, «собратья по разуму» стараются друг друга искалечить.
Срочно надо прекратить эту бессмыслицу! Срочно! Минута промедления — четыре трупа (беру статистику Первой мировой войны), сутки промедления — шесть тысяч в братской могиле. И сколько еще изувеченных, безруких, безногих, слепых, контуженых! И сколько рыдающих вдов, голодных сирот!
Герои не имеют права медлить. Что тут ждать, наблюдать, регистрировать? Вернуться на Землю за наставлениями? На это время нужно, туда и обратно месяц, как мы условились. Промедление не подобно смерти, оно чревато смертями, смертельно для четверых каждую минуту; за месяц 180 тысяч трупов.
— Мальчики, придумайте же что-нибудь!
Призвать к миру — первое, что приходит в голову. Составить этакое воззвание, огласить его громогласно.
Жак Тибо, герой «Семьи Тибо», хотел сделать подобное. У него-то репродукторов не было, он листовки хотел разбросать с самолета. Самолет его разбился… да если бы и не разбился, разве листовки переубеждают сразу? Мы-то знаем, что войны затевают не солдаты, а жадные монополисты, алчущие новые рынки или сырье. Но солдаты Первой мировой войны этого не знали… и прозревали медлительно. Три года понадобилось русским, чтобы воткнуть штык в землю. А у прочих терпения хватило еще на полтора года, так и не дозрели. Объясняли им правду. Не слушали, не услышали. Говорят, что слово — слишком слабый раздражитель. Лучше кнут или пряник.
Добросердечным потомкам нашим, конечно, кнут не придет в голову. О прянике подумают в первую очередь.
Устин вспомнит, что разные бывали в истории войны, не только империалистические, но и грабительские походы… за рабами, за новыми подданными, за их землями, за их богатствами, за золотом, за стадами даже. И в те походы воины шли с охотой, рассчитывали на долю добычи. Иногда даже получали долю… в бессовестной истории бывало всякое. Но, нахапав чужого добра, грабители теряли вкус к риску, переходили к защите награбленного. Правда, не сразу это получалось. Железные когорты Александра Македонского запросились домой через восемь лет, дойдя от Греции до Индии. Там уже заявили: «Хватит, наполнили мешки добром. Весь мир не хотим завоевывать». Татаро-монголам хватило пыла на полвека, а арабам на целый век. За это время они добрались от Мекки до Франции.
И сами французы, спустя тысячу лет, ограбив Москву, потянулись с обозами к дому. Это потом уже их отход превратился в паническое бегство. Турки же целых три века покоряли Африку и Восточную Европу, только после этого, приустав, предались восточной неге.
Но согласятся ли гуманные гуманоиды (и даже негуманоиды) сидеть на орбите сложа руки и бесстрастно наблюдать триста, сто, пятьдесят, даже восемь лет смертоубийства?
Я бы вмешался на их месте.
Каким же пряником выманить солдат из окопов? Осыпать золотом? Аппаратура корабля позволяет изготовлять сколько угодно монет. Был бы образчик.
Ничего это не даст, только обесценит деньги. Не купишь ничего.
Завалить окопы вещами — хрусталем, серьгами, кольцами, шубами? Что еще в цене на той воюющей планете?
Все равно, то, что сегодня в цене, обесценится от изобилия.
Притом жадность не имеет границ. Еще, еще, еще давай! Земных грабителей — турков, татар, арабов, французов охлаждал отпор. Когда дадут по лбу, начинали задумываться; так ли романтично махать саблей? Могут и на тебя замахнуться. Не лучше ли умерить аппетит, пока не поздно?
А здесь умерять не надо. С неба сыплется.
Еще, еще, еще!
Ну, завалишь окопы золотом и брильянтами, обесценишь золото и брильянты. Будут воевать за дома, за земли. Гектары-то не наготовишь, участки не насыплешь.
Во всяком случае, это не в возможностях юных туристов.
По лбу дать? Можно бы с техникой будущего. Но не хотят никого убивать гуманисты будущих веков.
Обезоружить?
Читал я недавно американский фантастический роман, где заговоршики, решившие предотвратить войну, издалека, некими лучами взрывают атомные бомбы на складах. И бомбы взрываются. И гибнут города, где они хранятся. «Пусть миллион жертв, но во имя спасения человечества», — рассуждают заговорщики. В общем, им удается устрашить Пентагон. Но в финальной главе главный герой выносит на руках одну из пожертвованного миллиона — маленькую девочку, обожженную очередным пожаром. Стоило ли? Можно ли такое было взять на свою совесть?
Не возьмут на свою совесть тысячи жертв Женя и три ее друга.
Как же обезоружить не убивая? Надо бы, чтобы бомбы не взрывались.
Я не знаю, как сделать, чтобы не взрывались бомбы, снаряды и патроны. Но надо полагать, за три-четыре века ученые до этого додумаются. Допустим, непробиваемое защитное поле заодно гасит горение и детонацию. Бойки бьют по капсюлю, а порох только шипит. Патроны лениво вываливаются из дула, снаряды застревают в стволе.
Но ведь войны начались еще до пороха. Всего сто лет назад солдатам долбили: «Пуля дура, а штык молодец».
Ах, ружья не стреляют? В атаку, ребята! Штыком коли, прикладом бей!
Не применить ли корродирующий газ какой-нибудь? Пусть железо тает, рассыпается ржавыми комочками.
Дубинками станут лупить, за горло хватать.
Главная беда: ведь в 1914 году ревнители войны сидели-то не в окопах. Они из тыла убеждали солдат сражаться бескорыстно — за царя или за демократию, за свободу или за веру — православную, католическую, магометанскую…
Веру, может быть, использовать?
Спроектировать на облака стереопортрет — этакого бородача с нимбом или в чалме — запустить магнитную ленту, пусть гремит над всеми фронтами:
— Люди, одумайтесь, куда вы стреляете? Здесь же люди!
Пусть падут ниц, подавленные, пристыженные!
Пожалуй, солдаты падут, потому что им домой охота. Но падут ли императоры и банкиры? Они-то от пуль далеко, небесные голоса их не испугают и не очень понравятся. Император прикажет генералам, генералы призовут офицеров, велят разъяснить, что голос с неба не глас божий, а штучки вражеской пропаганды. Конечно, и церковь поддержит императора. Для церкви безмолвный бог удобнее. А говорящий это же бедствие, безработица для толкователей воли божьей. Если бог Дает указания самолично, к чему же его служители?
Иллюзия! Лживый бог! Козни дьявола!
И впрямь ведь козни. Не дьявола, но пришельцев.
К тому же изъян в их замысле. Хорошо, если все солдаты послушаются голоса. А если некоторые не поверят. И поднимутся все же в атаку со штыками наперевес? Тогда надо поддержать божественный авторитет, покарать ослушников, испепелить их, что ли?
Но пришельцы, мои герои, категорически не хотят испепелять никого.
Долго придется им размышлять. Я сам долго раздумывал за них, в конце концов остановился на девятой казни из «Книги Исхода».
Конечно, «Книги Исхода» вы не знаете, имеете право на это. Но, возможно, читали Томаса Манна «Иосиф и его братья», это уже полагается культурному человеку. Так вот, размножившиеся потомки Иосифа и братьев, если верить Библии, стали рабами в земле египетской, и Ягве, их национальный бог, наконец раскачался им помочь. Хотя позже его называли всемогущим, но, очевидно, даже вообразить себе всемогущество авторы мифов не сумели. Вместо того чтобы взять всех своих приверженцев в охапку и мгновенно перенести их в Землю Обетованную (чего бы проще?) с чадами, домочадцами, женами, волами и ослами, Ягве долго и упорно запугивал фараона. Сначала он поручил своему пророку превращать жезлы в змей. Но, оказывается, жрецы фараона и сами умели делать такой фокус. Тогда Ягве стал творить всякие напасти: насылать жаб, москитов, чесотку, чуму… всего десять бедствий. Фараон, однако, упрямился, поскольку жабы, москиты и чесотка мучили не его, а подданных; подданными же он привык жертвовать в интересах трона.
Уступил лишь тогда, когда разозлившийся бог перебил всех первенцев: старших ослят, старших верблюжат, старших щенят, старших детей… и наследника престола тоже.
А почему, кстати, справедливый бог перебил всех первенцев у подданных? Ведь они же не отвечали за упрямство фараона.
Нет, конечно, я не посоветую милым моим героям заниматься детоубийством. Я предложу им остановиться на предпоследней, девятой казни — на тьме египетской.
Не знаю, каким способом Ягве окутывал тьмой долину Нила. Возможно, имеется в виду затмение… но затмения продолжаются минуты три, а не трое суток. Впрочем, легенду могли и приукрасить в назидание потомству.
Тьма — это внушительно. Пусть мои герои, используя свое защитное поле, поставят заслон против их солнца. Утро приходит, не светает; вечер приходит, нет звезд. Черно, как в погребе. Попробуй повоюй.
Думал я и о том, чтобы поставить защитное поле вдоль линии фронта. Но это технически сложнее. Планета вращается, линия фронта извилистая и без жертв не обойдешься: кого-то непроницаемый заслон придавит, кого-то разрежет, какие-то части окажутся на чужой стороне, их окружат, уничтожат. Нет уж, удобнее манипулировать в космической пустоте. Ставь заслон над всей планетой!
Да будет тьма!
Основательная, непроглядная, густейшая!
На всей планете ночь — сутки, вторые, третьи…
Воевать практически невозможно. На уровне 1914 года с освещением было бедновато. И даже если бы генералы заупрямились, продолжали артиллерийские обстрелы вслепую, не обязательно же ограничиться трехдневной тьмой. Можно растянуть ночь на неделю, на недели. А там и похолодает, снежинки завьются, посевы начнут вымерзать, застынут реки, моря оденутся ледяной коркой.
Долго ли планета продержится на собственном тепле? Это подсчитать можно. Мы на Земле знаем — укороченный осенний день за три месяца превращает лето в зиму. А там не укороченный — нулевой.
Пусть будет тьма!
5. СЮЖЕТНАЯ ТАБЛИЦА
Мой недруг, ставший другом (редкостное превращение, чаще бывает наоборот), написал некогда в пародии, что я сочиняю романы в таблицах. По-видимому, так оно и есть. Вот и сейчас, ничего не поделаешь, сама собой складывается таблица: четыре героя, шесть предложений (листовки, пряники, голос с неба, взрывающееся оружие, нестреляющее оружие, тьма). Герои на одной оси, по другой — предложения, итого 24 клетки в таблице, в клетках роль каждого, кто внес идею, кто возражал, кто выполнял. Конечно, не все предложения осуществлялись, некоторые браковались на корню.
Представляю себе, что Селим все время рвался действовать. Особенно пришлась ему по душе операция «Пряники». Ради нее надо было спуститься на планету, добыть образчики ценных вещей: деньги, цветные камни, меха, расписную посуду (незаметность, ловкость, риск!). Затем, наготовив копии, раскидывать их по окопам. Все активные действия, и результат виден сразу. Вообще делать подарки приятно, вы не согласны со мной?
Представляю, что добрый Дима будет мало вносить предложений, но сразу же думать о выполнении. Ему понравится, безусловно, операция «Голос с неба». Она технически занимательна: создать экран, спроектировать на него изображение, мало-мальски отвечающее верованиям воюющих, голос сделать внятный и убедительный.
Что же касается Устина, видимо, ему, как знатоку истории, придется быть скептиком. И Женя будет сердиться на него, потому что легче всего сказать «ничего не выйдет». Станет сердиться, потому что предлагать будет в основном она (Селим склонен активно действовать, Дима — готовить оборудование), ее идеи будет развенчивать Устин. Но опасения его, основанные на знании уроков прошлого, увы, оправдаются, Женя не сможет не признать правоту скептика. Ну, естественно, и операцию «Тьма» предложит Устин, припомнит читанное в «Мифах народов мира».
Как обычно, в замысле и в повествовании пропорции противоположные. Сказанное здесь на одной предыдущей страничке в окончательном тексте займет почти всю площадь. Там будут долгие споры: «она сказала, он сказал, она усмехнулась, он нахмурился…» Там слова и описания, здесь — объяснения и обстоятельнейшие: почему именно он нахмурился, когда она усмехнулась, почему она сказала именно так, а не иначе, почему не наоборот. Здесь решение, а там действия. Сколько увлекательных страниц, сколько глав целых займут опасные приключения Селима при добыче ювелирных изделий того мира, его усердные попытки завалить окопы жемчугами и алмазами… и старания Дмитрия понять восклицания солдат и горькое разочарование: «Не подействовало, дерутся!»
6. И ПРОДОЛЖЕНИЕ НЕ СЛЕДУЕТ!
«Да будет тьма!»
Такой ударной фразой собирался я закончить рассказ.
Тьма, страх, холод, смятение, сражаться невозможно, обе стороны капитулируют, отзываются войска. Мир!
Чего и добивались герои.
Однако среди читателей всегда есть неуемные. Сначала они торопятся узнать, чем кончилось, а потом вздыхают, почему так быстро перевернута последняя страничка. «А дальше что? — вопрошают они. — Автор не написал продолжения?»
Неуемные читательницы спрашивают, была ли свадьба… если не свадьба, то объяснение в любви хотя бы? И кого выбрала Женя, кого она полюбила? Девочки, но зачем же торопиться? Жене самой только восемнадцать, друзьям ее по восемнадцати, не рано ли им жениться? Личинки еще не оформились в имаго, расти им и расти. К тому же так хорошо они взаимодействовали: Женя требовала, Устин обдумывал, Дима обеспечивал, Селим рвался действовать. Право же, жалко разрубать эту слаженную четверку, двоим дарить счастье, двух выгонять за дверь, разочарованных, обиженных.
Если уж вам так хочется выбирать, выбирайте сами по своему вкусу. В этом замысле для меня женитьба не самое главное. Главное — смертоубийство прекратить. И потому: Да будет тьма!
— А дальше что? — настаивают неуемные.
И в самом деле, нельзя не согласиться, сам я не раз писал, что самое богатое месторождение тем в эпилоге. Напрашивается продолжение и здесь.
Обе стороны капитулировали. На каких условиях?
Просто прекратили стрельбу!
Прекратили? Сразу ли? Добром ли? Свергать не пришлось ли?
Правителей воюющих стран надо еще придумать, каждого в отдельности.
Легче всего вообразить их по аналогии с Землей. Выше условились: ситуация на той чужой планете примерно такая, как у нас в 1914 году. Вот и попробуем представить, как поведут себя, оказавшись во тьме кромешной, воинственный Вильгельм, усы пиками, дряхлый Франц-Иосиф австрийский, наш Николай II, английский парламент с невыразительным пятым Георгом, королем, который царствует, но не правит, и Французская республика с шумными, громогласными и мимолетными кабинетами министров.
Допустим, престарелый Франц-Иосиф склонился бы сразу, Вильгельм долго хорохорился бы, Николай молился бы и постился, царица захотела бы советоваться с Распутиным, а парламентарии спорили бы и друг друга обвиняли бы в измене и предательстве…
Любопытный складывается вариант. Не было такого в истории, а описать бы занятно. Что было бы, если бы пришельцы устроили тьму в августе четырнадцатого, еще до мазурских болот и «чуда на Марне»?
Но вернемся на чужую планету.
Сдались, стрельбу прекратили. Тамошние англичане выжидательно молчат на своем острове, надеются еще перехитрить небесных пришельцев, а тамошний Вильгельм, дисциплинированный германец, запрашивает инструкцию, на каких условиях заключать мир. При этом торгуется, все твердит, что Германия была ущемлена, ужас, как обижена и демобилизацию оттягивает, уверяет, что транспорт не справляется, притом же надо устроить бедных солдатиков, разместить их в казармах с удобствами.
Какие там казармы? Домой! Домой!
А солдаты в шинелях серых, в мундирах голубых, болотно-зеленых и ржавых, и матери их, отцы, невесты и жены взывают, воздевая руки к небу:
— Новые боги! Подайте нам глас, как нам жить теперь?
Новые же боги, вчерашние школьники, сами не знают, какие давать указания. Им известно, что есть на Земле двадцать — ихнего века астродипломатия — специальная наука об отношениях с другими цивилизациями, но в школах она не проходится, только упоминается. Конечно, хорошо бы обратиться к специалистам, но для возвращения нужны две недели, еще две недели для прибытия опытных знатоков, даже для получения совета от них. Не передерутся ли за эти две плюс две недели оставленные без присмотра армии? Ночь им устроить месячную? Заморозишь.
Как им жить теперь? Какие дать указания?
— Сами они должны решать, — говорит Дмитрий, самый добросердечный и в добро верящий. — Всем народом.
Устин, живой справочник по истории, напоминает:
— У них тут не народ решает, а правители: император, царь, президент, парламенты из числа богатых. На Земле мир объявила революция. Но еще отбиваться не один год пришлось, прежде чем мирные решения принимать.
— Объявим: «Передайте власть революционерам!» — предлагает решительный Селим.
— Революции не навязывают. Революция должна созреть в душах сначала.
— А война их ничему не научила?
Дмитрию все хочется решить по-доброму, по-хорошему:
— Ребята, была же какая-то причина у войны. Земли не поделили, земли им не хватает, значит. Мы же, не мы лично, — земная техника может все это уладить. Понаделаем им новые острова, архипелаги, в их большом океане место есть для целого материка. Можем даже планету сделать искусственную неподалеку. Давайте научим их строить планеты.
— Да им не территория нужна, нужен хлеб и нефть, пища, энергия. Дадим им наш энергоблок, научим копировать обеды и ужины.
Опять Устин возражает:
— Ребята, это не разрешается. Высокая техника вредна, даже опасна без высокой культуры. Ведь у здешних в голове одно: труд — труд ради сытости. От сытости, добытой без труда, бездельничать начнут, томиться, дурость показывать. В голове-то у них нет ничего, голову еще наполнить надо, культуру прививать всем поголовно.
— Вот и объявим: «Всем приступить!..»
— Культура за один день не прививается.
Мальчики распалились, руками размахивают, друг друга перекрикивают. Женя с трудом вставляет свое слово:
— Ребята, не нам решать судьбу чужой планеты. Надо сообщить на Землю.
И снова:
— Но они же передерутся!
И все-таки принимают решение: разделиться. Народам объявляют, что помощь с неба придет через месяц. Мальчики остаются на орбите присматривать за порядком, если мир будет нарушен, выключат их солнце, покажут свою силу. Тут все нужны — и активный Селим, и Дмитрий с золотыми руками конструктора, и Устин со своими историческими справками. Женю же переправят на Землю сообщить о беде в дальнем космосе.
И через две недели по земному счету жители Земли двадцать какого-то века увидят на своих домашних экранах лицо девушки с расширенными глазами, красными пятнами на щеках, немножко даже растрепанную от волнения.
— Ужас! — закричит она с экрана. — Люди, вы поймите, какой там ужас. Тамошние сапиенсы терзают друг друга, как хищные звери. На части рвут, кромсают, протыкают насквозь, жгут, подрывают. Всюду трупы, трупы, трупы в мокрой грязи, в кровавых лужах. Валяются оторванные ноги, руки, головы, кишки, вырванные из живота. Это рассказывать страшно, а видеть невозможно, наизнанку выворачивает. Озверели, с ума сошли, гордятся, если многих убили, покалечили. Четыре убийства каждую минуту, и еще сколько-то безруких, безногих, слепых на всю жизнь.
Пожалуй, с этого абзаца я и начну, когда соберусь превращать замысел в рассказ:
Ну а потом уже последуют все подробности: туристы выбирают планету для прогулки. Женя указывает по каталогу СДУ-181818…
ВСЕЛЕНЕЦ
1. ИДЕЯ
Этот замысел из поздних. Он пришел в голову совсем недавно, когда я уже дописывал «Книгу замыслов». На замыслах было сосредоточено внимание, я сразу же ухватился за новую идею, записал первые очертания, первые соображения, первые возражения и могу, пожалуй, проследить ход собственной мысли. Ведь это же тоже интересно — проследить, как складывается мысль.
Итак, 12 февраля поутру, лежа на полу, я занимался гимнастикой. Когда я был молодым, я утренней зарядкой пренебрегал, и так был здоров. Сейчас же не пропускаю ни одного дня, но, увы, упражнения не помогают ни на диване, ни на полу. Это брат мой, истовый поклонник йоги, настаивал на том, чтобы я делал упражнения на полу, по его мнению, пол повышает эффективность оздоровления на сорок процентов, так как через пол из матушки-земли на пятый этаж проникают в мою спину отрицательные заряды. Я слушаюсь, хотя результата не чувствую.
Правда, брат мой, как истый йог, кроме того, умеет еще и не думать. Умеет не думать не только лежа на полу, но также и на прогулке, в троллейбусе, в очереди, в любой обстановке отключается, сосредоточенно дышит и глубокомысленно не думает. Вот это у меня не получается. Дышать-то я дышу, с самого детства дышу, каждую минуту раз пятнадцать, но при этом мысли у меня все-таки бродят, никак их не утихомирю. В результате зарядка растягивается на полчаса. Вдруг я обнаруживаю, что в голове что-то занятное, вскакиваю, чтобы записать, не забыть. А на чем же я остановился? Ногами махал или руками?
Вот и в то утро, лежа на полу (на коврике) и поднимая ноги поочередно, я не сумел обуздать мозг и думал о коэффициенте цефализации. Термин этот обозначает отношение веса мозга к весу тела животного, человека, в частности, процент нервной ткани в организме, иначе говоря. Само собой разумеется, высокий коэффициент — признак высокого развития, правда, у дельфинов он выше, чем у человека, а также, по мнению некоторых биологов, — признак долголетия, в чем я решительно сомневаюсь, по-моему, у срока жизни другие причины, но об этом будет еще сказано в другом замысле. Итак, сомневаясь, я перебирал мысленно виды, нет ли высокой цефализации у низших животных. И подумал (подтягивая коленки к подбородку), что, в сущности, самый высокий коэффициент у вирусов. Вирус на редкость экономно устроенное существо. Это гены, чистые гены, завернутые в белковую оболочку, живой шприц, набитый наследственным веществом. Вирус впрыскивает свои гены в клетку, они проникают в ядро и заставляют клетку работать на себя, плодить сонмища паразитов. Клетка питается, клетка обороняется, клетка копит энергию и тратит ее на монтаж молекул, клетка живет, но только ради вируса. Это молекулярный паразит заставляет ее работать на себя. Клетка — живое тело, а вирус — мозг без тела. Без тела! Естественно, процент цефализации у него очень велик. Больше, чем у человека, и больше, чем у дельфина.
Вообще в мире низших животных великое множество чудес, которые нам, млекопитающим, кажутся нелепыми и невозможными. Трепанги в минуту опасности выбрасывают внутренности хищнику: «На, подавись!» Морская звезда через рот выворачивает желудок, чтобы переварить устрицу, которую проглотить не в состоянии. Осьминог щупальцем преподносит подруге свои сперматозоиды в пакете, словно букет с цветами. Паучихи после свадьбы съедают на закуску молодого мужа. И вот еще один фокус: наследственность без тела, наследственность в чистом виде.
Но почему природа сработала такое только на самом низшем, на клеточном уровне? Почему не изобрела паразитов, которые, проникая в тело крупных животных, заставляли бы их действовать на пользу своего вида?
И если природа не изобрела такого на Земле, может быть, в космосе где-нибудь зародилось подобное? Ведь писали же мне йоги — не мой брат, настоящие йоги, индийские, была у меня в свое время переписка насчет долголетия с доктором трансцендентальных наук Бхактиведанта. И тот доктор прислал мне свою брошюру, где утверждалось, что умелые йоги могут летать на чужие планеты и там приобретают тело, пригодное для жизни на той планете. Никаких скафандров!
Чего же лучше? Прибыл на планету, поселился в теле местного животного.
На Земле природа не изобрела такого. Но космос безграничен.
Вот и тема.
Прибыли к нам пришельцы, этакие разумные вирусы. Никакие не нужны им «тарелки», скафандры, маски. Вселились в человека, ходят по Земле, рассматривают.
Вселились! Вселенцы — из Вселенной и вселились. Подходящее название придумалось.
Стоит написать?
В мыслях все это было короче, я же не объяснял сам себе то, что читателю непонятно. Мелькнуло: «Коэффициент цефализации. У кого всех больше? Да у вируса, пожалуй. Выходит, что он самый умный. Почему же нет разумного вируса? У нас нет, а во Вселенной? Прекраснейший способ для звездоплавания. Пожалуй, идея!»
2. ВДОХНОВЕНИЕ
«Идея!» — сказал я себе. И шлюз приоткрылся в мозгу. Хлынули картинки и сценки. Отрывочные. Пока не увязанные, друг на друга набегающие, как волна на волну, ниспадающая на стекающую.
Чужое сознание в мозгу человека! Голова с двумя сознаниями? Вспомнилось: сознание раздваивается у психически больных. Был случай: в больном жили как бы двое. Один ничего не знал о другом, о двойственности узнал от посторонних. Потом двое писали друг другу письма и даже не очень одинаковым почерком, оставляли поручения, напоминали, наставляли.
Представалось: ночью встаю, сажусь за свой письменный стол, покрытый исцарапанным плексигласом, локти кладу на теплое органическое стекло, и моими руками он — вселенец — пишет мне… научился уже писать по-русски…
Свою комнату вижу мысленно, свой стол, себя представляю за своим столом. Почему себя? Потому что в отношениях с пришельцем любой герой прежде всего человек, потом уже мужчина, женщина, старик, ребенок. Позже я подумаю о конкретном герое, вылеплю его. Но сейчас я рассуждаю об отношениях чужака с человеком… и проще всего мне думать о себе, как о рядовом представителе человечества.
Но каким образом вселенские вирусы могли попасть в мою рядовую голову? Обыкновенный москвич, пожилой, неспортивный, несмотря на получасовую зарядку. Таких к космосу и близко не подпускают.
К космосу не подпустят, конечно. А к космонавтам? Космонавты традиционно бывают в нашем клубе после полета, делятся впечатлениями. Однажды я сам сидел в президиуме рядом… не буду хвалиться, называть фамилии слишком уж известные.
Значит, можно описать знакомую клубную сцену, продолговатый стол, покрытый красной скатертью, справа от меня трибуна, там выступает с поздравлениями видный журналист с одутловатым лицом, постоянный космический корреспондент. Я во втором ряду рядом с космонавтом, тем самым. Он самый знаменитый и потому опоздал («на части рвут»). Мне, случайному соседу, он показывает реликвию, камушек, подобранный… Где подобранный? На Луне, на Венере? Нет, лучше всего на комете. Редкая посетительница, не из числа заурядных… Я благоговейно щупаю частицу кометы, нюхаю, к уху подношу, даже лизнуть согласен. Легкий укол! Заражение произошло!
Ночью кошмары. Видится зал заседаний, скамьи амфитеатром, на них какие-то пузыри безголовые, пузатые, как синьор Помидор из «Веселых картинок». Невнятные слова. Указка скользит по звездному небу…
Сейчас стараюсь честно описать то, что тогда в голову пришло. Схематичная картина была, черно-белая. С трудом удерживаюсь, чтобы не дорисовать ее и не раскрасить.
Наутро свирепая головная боль. Весь череп налит болью, при каждом движении боль переливается с одной стороны на другую. А во лбу, в одной точке сверлит, сверлит, сверлит. Это незваный гость располагается в чужом доме, врастает, вплетает свои синапсы в мои клетки. Но пока я не знаю ничего. Опустив занавески, лежу с закрытыми глазами. И пирамидон не помогает, и анальгин не помогает, сколько ни глотай.
Боль отпускает дня через два, следует очередное мучение. Не высыпаюсь. Как только ложусь, отключаюсь от дневных забот, закрываю глаза, он — незваный — начинает распоряжаться. Он поднимает мое тело, водит по квартире, заставляет перебирать вещи, для меня обыденные, для него любопытные, рассматривает книги, перелистывает самые мне ненужные, вслух читать требует, это он учится читать по-русски, язык изучает. На улицу выводит меня под утро. Улицы ему любопытны, дома, витрины. Днем что-то заметил, теперь тащит меня, хочет рассмотреть подробности.
Я этого ничего не понимаю, свои ночные похождения воспринимаю как сны, капризы, мне самому непонятные, как нервное напряжение или же как духоту в комнате. Весь в поту, невозможно улечься удобно. Спишь, но «сны» изматывают.
И от соседей узнаю, что брожу по ночам, мычу что-то несвязное, на вопросы не отвечаю. Лунатиком стал? Доктор прописывает снотворное Глушу себя тройной дозой.
И сплю. И мозг не работает. И вселенец в мозгу мечется, не может меня поднять, воспользоваться моими глазами, моими ногами для осмотра нашей планеты.
Вот тогда-то он и вступает со мной в переписку. Он диктует моим рукам, я диктую своим.
Начинаются переговоры. Я объясняю, что я разумное существо (более или менее разумное с точки зрения житейской), что, как личность, я имею право на независимость, вполне самостоятельное поведение, даже на уединение. Мало ли что мне понадобится, вздумается делать без свидетелей. Может быть, мне захочется речь репетировать, выражение лица отрабатывать, для этого гримасничать потребуется перед зеркалом. Может быть, мне захочется в ванне понежиться, мозоли соскребать с подошвы. Зачем мне свидетели, рассматривающие мои пятки? Или… мало ли что бывает… целоваться буду. И надо будет помнить при этом, что тут же присутствует посторонний наблюдатель, который потом будет допытываться: «А зачем ты прикладывал губы к ее губам и еще причмокивал? А почему она покраснела и глаза опустила? А почему ты разволновался и залепетал что-то невразумительное? Объясни».
Не хочу я никакого мозгового сожительства. Пусть убирается в свой космос, пусть выселяется вселенец непрошеный!
Он же старается меня прельстить, уверяет, что в умственном внутричерепном сожительстве нет ничего плохого, даже определенные преимущества. Вдвоем веселее, всегда есть возможность пообщаться, посоветоваться, поспорить, развлечь друг друга, помочь, предупредить об опасности, на мир смотреть общими глазами, двумя умами обсуждать. Обмен вселенским опытом, взаимообогащение. Они — вселенские вирусы — обследовали столько планет, в стольких телах пожили, столько накопили приключений. Тысяча и одна ночь! А если уж я такой неуживчивый, могу же я проявить вежливость, поделиться с гостем, уступить ему свое тело на три часа в день, на два часа… ну на один час хотя бы. А он мне за это…
Но я требую полного немедленного и безоговорочного выселения.
Он пытается бороться со мной. Психологическое истязание. Все время раздвоенность желаний: хочется спать и хочется встать. Надо работать, невозможно усидеть. Велю родным связывать меня, велю запирать и не слушаться, если я буду в дверь колотить, требовать, чтобы меня выпустили.
Где я возьму материал для описания раздвоенности? Ну это проще всего. Ведь все же мы во внутреннем борении. «Надо» против «хочется», «хочется» против «надо»! Требования тела, требования привычек, требования интересов, требования моды и приличий… и при всем при том, будь добр, в восемь утра снимай табель в проходной.
Он меня терзает, я стою насмерть… И в конце концов начинаю думать о смерти, об альтруистическом самоубийстве. Ведь, по-видимому, я один такой зараженный вирусом. Убью себя и пресеку эпидемию вселенчества.
Он слышит мысли или догадывается. Он идет на уступки. Просит три дня сроку, чтобы подыскать себе другое тело. Я опишу красочные перипетии этого переселения. Вдруг лохматый жизнерадостный и простодушный пес по имени Чоп (Чомбе — полное имя), встав на задние лапы, начинает когтями скрести страницы «Занимательной физики». Вдруг годовалый сынишка (лучше внук), мощно сотрясающий свою кроватку, раскрывает ротик и непослушным языком «мня-мня» пытается объяснить, что я неправильно понимаю, что такое черные и белые дыры. И я, всполошившись, кричу, пугая молодую маму: «Оставь младенца в покое, ребенок должен нормально развиваться!»
— Но у этого малолетка нет еще никакого сознания, у него пустой мозг, незанятая жилплощадь, — доказывает вирус.
— Уходи, уходи сейчас же!
В конце концов я добиваюсь своего. Вселенец сообщает, что он покидает Землю окончательно. Где-то в созвездии Трапеции его товарищи нашли другую планету с совершенно пустоголовыми (то есть «пустомозгими») существами, там вселение ничему не повредит. Он прощается, благодарит за гостеприимство, если можно назвать гостеприимством мое поведение, обещает никогда-никогда-никогда не трогать Земли и землян.
— Счастливого пути, удачи тебе, сговорчивый вирус!
Даже жалко. Даже грустновато расставаться. Тесно было в одном черепе, а ушел — утрачено что-то.
Словно после развода. Была жена — ссорились, покинула — пустота осталась.
Хочется сказать: «Но ты пиши все-таки, присылай открытки из космоса, сообщи, как там устроился».
И с трудом удерживаюсь, чтобы не добавить:
— В гости приходи время от времени. Для тебя всегда найдется уголок в черепе. Не чужой уже.
3. УВЯЗЫВАЮ
Все это промелькнуло в первое утро. Казалось: все готово, хоть сейчас садись и строчи.
Однако я давно уже знаю: это иллюзия готовности.
Как только начинаешь писать, тут же выпирают огрехи: какие-то неувязки, противоречия, провалы. Ничего не поделаешь, таково свойство психики. Когда грезишь, рисуется интересное, приятное, ясное, выигрышное. Как только начинаешь излагать на бумаге, лезет то, о чем и не думал. На бумаге, как и в практической жизни, должно быть все полностью, не только приятное.
Начинаю увязывать. Это уже процесс основательный, медлительный.
Прежде всего — правила игры. Я — автор — имею право предложить любую фантазию, самую бредовую, если она требуется для моей темы, моей идеи. Но, использовавши свое право, «сбрендив» бредовое, я обязан в дальнейшем придерживаться этого бреда, а не другого. Правила игры читателю предложил я, но вынужден эти правила не преступать. Если в моих фантастических шахматах король ходит конем, а конь, как король, — на одну клетку, так они и должны ходить от пролога до эпилога… а иначе «чур — не игра». И если фея в волшебной сказке обещает выполнить три желания, это любимые желания, но только три, а не тридцать три, не семь и не семьдесят семь. Три желания — это правила игры. Если не три, игра уже другая.
Сказочная фея не всемогуща, у нее хватает заряда на три желания. Даже черти не всемогущи, все мы отлично помним, как их легко обманывали на хуторе близ Диканьки.
Что же касается фантастики научной, в ней могущество ограничено еще и логикой науки, поэтому правила игры еще жестче. Ведь вирус мой — явно материальное существо, у него конкретные размеры и конкретные ограниченные возможности. И я обязан себе уяснить эти возможности прежде, чем читателю их объяснять.
Вселившись в мозг, этот нахальный паразит использует материальные возможности мозга, командует его клетками, питается кровью хозяина, растет за его счет. Стало быть, по химическому составу он близок к хозяину, во всяком случае, состоит из таких же атомов. Будучи ограничен в размерах (не больше микроба), вселенец ограничен и в содержании, в количестве наследственной информации, принесенной с собой.
Конечно, информацией он набит туго, так же как и земные вирусы. Записано в нем немало. Компактность генетической информации давно уже потрясает и ученых, и учеников. Ведь в одной-единственной зародышевой клетке животного записана вся программа построения организма и почти вся (а у низших животных вся целиком) программа поведения, так называемая наследственная память. Многие фантасты, а также и некоторые ученые полагают, что в той же клетке отпечатаны молекулярной азбукой не только инструкции поведения, но и наследственные воспоминания, события жизни прапра — и прапрапрапра… прапрапредков. (Читайте, например, «Межзвездный скиталец» Джека Лондона). Но я лично, извините за нескромность, сомневаюсь, что зрительные мемуары поколений могут уместиться на генах. Соображение простейшее: если несколько биографий можно было бы целиком записать в одной клетке, к чему же сооружать мозг, где этих клеток около 15 миллиардов. Ну не все они отданы разуму, большая часть ведает физиологией, а из числа разума не все отведены памяти. Но все равно для знаний, воспоминаний и личного житейского опыта человеку требуются сотни миллионов нервных клеток, а не одна. На одну всю биографию не запишешь.
По-видимому, в моем новоизобретенном вирусе может быть программа развития и действия для подавления и освоения чужого мозга… но готового сознания и высшего космического образования в нем нет. А откуда же берется это образование? Как он узнает вообще, что он не человек, а пришелец?
Допустим, в программе его развития предусмотрено построение этакого телепатического приемника-передатчика, даже, может быть, и радиопередатчика для связи с родной планетой или с кораблем-кометой. Первым долгом, укоренившись в чужой голове, он выращивает этакий биологический телеприемник, миниатюрную шишечку где-нибудь за ухом… и к нему идут картинки звездной жизни, которые он размещает в моих нервных клетках, свободных или даже занятых, беспардонно вышвыривая мои воспоминания, словно новый жилец, получивший ордер на квартиру уехавшего неведомо куда. Не спорю, в голове у меня много макулатуры, но я предпочел бы сам наводить порядок. Может быть, мне дороги некоторые мои ошибки и заблуждения.
Конечно, все подряд пришелец не станет выбрасывать, не решится ломать подряд. Ведь я нужен ему как гид и как извозчик. От беспамятного гида пользы мало.
Далее. Заставляя хозяина ходить, смотреть, читать, вселенец рассматривает мир его глазами, его ушами слушает. Стало быть, должен подключиться к органам чувств человека. Проще всего: вдоль его нервов проложить свою проводку подслушивания. Смотреть будет его глазами, трактовать по-своему. Два разума и два глаза. Видят одно и то же, оценивают по-разному, записывают каждый в разных местах мозга.
И наконец, еще и третья задача стоит перед вселенцем — подчинить себе хозяина, подавить его волю.
Подавить-то проще всего. Это умеет делать даже современная медицина. И делала на Западе самым варварским способом — там вырезали или выжигали лобные доли мозга у слишком буйных или непослушных, неподатливых. Получали покорные безвольные полуавтоматы. Но я не дам такой мощи вселенцу. Пусть он спорит с героем, пусть герой борется, сопротивляется, отстаивает свое я, побеждает внешнее влияние иногда, а иногда и уступает. Здесь для фантастического сюжета я смогу использовать житейский материал. Кто же из нас не испытал внутренней борьбы между долгом и желанием, между своими желаниями и чужим влиянием? И для литературы эта внутренняя борьба интересна.
А если бы вселенец побеждал безусловно, тогда и сюжет был бы иной — не психологический, а медицинский: другие герои, врачи, очевидно, боролись бы за выздоровление обезличенного героя.
В общем, вроде бы все увязалось: и физиология вселенца, и психология хозяина мозга. Я даже спросил себя, почему же природа не изобрела разумные вирусы? Такое экономное существо!
Может быть, не успела?
Тут надо подумать об истории паразитов.
Вирус — паразит. Паразиты, естественно, появляются позже, чем кормильцы. Сначала добытчики, а потом уж нахлебники. Сначала должна была сформироваться жизнеспособная клетка, сложная, самостоятельная, поглощающая пищу, перерабатывающая, изготовляющая свои органеллы, запасающая и расходующая энергию, размножающаяся, а потом уже к ней мог пристроиться паразит-вирус, который садится ей на шею (то есть в клеточное ядро), заставляет себя кормить и размножать.
Сначала клетка, потом паразит клетки.
А клетки-паразиты (микробы) могли появиться только после того, как сформировались многоклеточные животные и растения.
А многоклеточные паразиты (глисты, например, а также вши, блохи, комары) после того, как сформировались крупные животные-кормильцы…
Кстати, у червей и комаров нет уже стопроцентного паразитизма. Кормятся они за чужой счет, но все-таки размножаются сами, не заставляют, подобно вирусам, изготовлять свое потомство.
Почему же природа не изобрела на Земле разумные вирусы?
Не успела? Все-таки и разум существует не так давно.
Впрочем, не обязательно же залезать в мозг, чтобы распоряжаться чужим телом. Как мы знаем, на белом свете встречаются очень даже «разумные» паразиты, так называемые «далеко не дураки». В череп они не втискиваются, но пудрить мозги умеют… А не столь разумные гнут горб, чтобы прокормить их, одеть понаряднее. Все необходимое получают человекообразные паразиты, правда, подобно глистам и комарам, разножаются они самостоятельно.
Видимо, разумный вирус не прижился бы на Земле. У него нет никакого преимущества перед человекообразными. Но вот для расселения по космосу он явно был бы полезен. Перефразируя Вольтера, можно было бы сказать: «Если бы этого вируса не было, надо было бы его изобрести».
И уж, во всяком случае, следовало выдумать в фантастике, которая так много усилий и бумаги потратила, описывая межпланетные переселения.
Как хорошо: «…прилетаешь на чужую планету, приобретаешь тело, пригодное для жизни на той планете».
И тут я запнулся.
И застрял.
Надолго, на несколько лет.
4. БЫЛО УЖЕ!
Застрял я потому, что начал припоминать что-то похожее в фантастике.
Прежде всего я подумал о «Жуке в муравейнике» братьев Стругацких. Там непонятные грозные и опасные Странники оставляют зародышевые клетки, из которых вырастают люди, неотличимые от земных, но запрограммированные на какую-то невнятную диверсию. Авторам и их осторожным героям с трудом удается избавиться от этих звездных диверсантов. Не совсем такое, но близкое. У Стругацких нет проникновения в мозг, но вселение на Землю осуществляют зародыши.
Несколько раньше вышла в свет повесть Снегова «Посол без верительных грамот». Здесь вселенцы не подсылали зародыши, а воздействовали на гены людей. И рождались люди как люди по внешности, но подчиненные инопланетянам, их задания выполняющие.
А у Александра Мирера — вселение в мозг без оговорок. Его пришельцы, чтобы завоевать Землю, невидимо проникают в человеческие мозги, целиком подчиняют себе, так что видишь знакомых людей, а на самом деле это инопланетяне. К счастью, и у этих оборотней было свое ограничение: взрослых они подчиняли безоговорочно, но дети до 16-летнего возраста были им неподвластны. Так что с помощью этих несовершеннолетних, еще не развращенных кинофильмами, удалось справиться с вторжением.
Тут уже прямое сходство… и вселенцы, и вселение.
А потом стала припоминаться еще и классика. Я имею в виду «Орля» — рассказ Мопассана. Орля — невидимое существо, правда, не космического происхождения, а бразильского. Оно сильнее и мудрее человека, вообще грозит вытеснить людей. Орля целиком подавляет рассказчика, против воли своей он подчиняется диктату… все-таки взбунтовавшись, пытается сжечь угнетателя в своем доме…
Биографы видели в этом рассказе признаки надвигавшейся психической болезни, которая через несколько лет свела Мопассана в могилу.
Однако чем больше вспоминал я примеров, сходных и не очень сходных, тем больше убеждался, что тема моя все-таки заслуживает написания. В литературе такое правило: если подражаешь одному кому-то, это почти плагиат, а если десяткам и сотням, значит, вышел на вечную тему. В данном случае волнующая тема независимости своей воли, стойкости воли, борьба с чужой волей. И если тема волнует, не исчерпана она Мопассаном и Мирером, имею право и я писать при условии… при условии… при условии, что могу сказать новое и свое.
Есть у меня свое?
Есть, пожалуй.
И заключается оно в одном слове: «Жалко!»
5. ЖАЛКО!
«Даже жалко, — написал я на 587-й странице. — Даже грустно расставаться. Тесно было в одном черепе вдвоем, а когда гость ушел — потеряно что-то.
Словно после развода. Была жена — ссорились, покинула — в сердце пустота.
И хочется сказать, не жене — вирусу: «Но ты пиши все-таки, присылай открытки из космоса, сообщи, как там устроился. И в гости приходи время от времени. Для тебя всегда найдется уголок в черепе. Не чужой».
Жалко! — это и есть мое в знакомой теме. Умудренный возрастом, я знаю, что в нашем трехмерном мире односторонности не бывает. У всякого лица есть изнанка, а у всякой изнанки — лицевая сторона. Любые отходы для кого-то сырье, даже навоз и тот — ценное удобрение. Нагревание проводов — потеря тока, растрата энергии, на нагревании проводов работают электроплитки. Непрошеный мозг в мозгу — великое бедствие: всегда ли бедствие гостит в мозгу? Какое-то добавление к собственной жизни, вторая жизнь, свои впечатления, но и не только свои.
Так пускай же мой космический пришелец убирается прочь из моей головы… но не окончательно! Пусть оставит там свой биологический телеприемник, выращенный из ткани моего мозга! Пусть посылает мне время от времени открытки, кадры из своих странствий, так чтобы, стоя в метро на монотонном пути из центра в Медведково или же сидя в еще более монотонной очереди за медицинской справкой о том, что я совершенно здоров, мог бы я развлекаться, разглядывая горы и скалы или заросли неведомой планеты или кометы, очередного автобуса вселенца.
Стало быть, часть вторая в повести о вселенцах будет называться «Чужими глазами». И хорошо бы вселенцам попалась планета с занимательными тайнами, с человекоподобным населением. Но ведь на самом-то деле Галактика так безлюдна. Обидно будет, если гость моего мозга будет годами демонстрировать все одни и те же звезды на небосводе, а потом, когда мы с ним дождемся наконец прибытия на планету, покажет бурый туман и скалы, скалы в буром тумане.
Не лучше ли мне отправить его в путешествие по нашей Земле, такой разнообразной и многокрасочной? В сущности, именно это и продиктовано логикой игры.
Вселенец попал на нашу планету случайно, как спора, летящая по ветру. Наверное, такие споры вселенцы раскидали по всей Галактике, большая часть их и не проснется никогда. Но он удачливый, оказался на жилой планете, должен ее исследовать всесторонне, побывать в мозгах не только людей, но и зверей.
Это еще один сюжет. Представим себе, что вселенец забрался не в мозг человека, а в мозг животного… кошки, например. Разговаривать-то ему с кошкой не придется, она все равно слов не поймет, но жизнь кошачью он проследит, кошачий взгляд на мир представит себе. Право же, любопытный вариант. Меня всегда интересовало, куда это отправляется с дачи мой кот, какие у него были за забором приключения, почему он облизывается, и кто разодрал ему ухо. «Мир глазами кота» — разве не настоящая глава?
И почему только глазами кота? Глазами слона. Глазами тигра. Глазами орла. Глазами дельфина — самого модного из зоологических героев.
Впрочем, о приключениях человека в теле дельфина я уже писал.
Глазами осьминога. Глазами тюленя. Глазами муравья…
Стоп! Тут я увлекся, перехлестнул. Глаза у муравья никудышные, несколько фасеток. Уж лучше бы глаза стрекозы. Но главное — вирус-то мой в голову забирался, мозг для своих нужд перестраивал, а у муравья какой мозг? Четверть булавочной головки, там и перестраивать не из чего.
Да и незачем, пожалуй. Если даже муравей и понимает что-нибудь, а вероятнее-то, не понимает ничего, только ногами перебирает, челюстями-жвалами щелкает, все, что он видит, у него воспринимается по-своему: не нога, а некий ствол, на него карабкаться надо. На неподвижный карабкаться, подвижный кусать, кислотой опрыскивать. Подвижное — неподвижное, большое — малое, вот и все восприятие.
Вероятно, нам достаточно было бы глаза муравья прикрепить к своему мозгу, следить, куда идет, что видит.
А для этого нет нужды внедрять в мозг хитрый вирус, нужно только на лоб муравью наклеить миниатюрный мини-мини-передатчик.
Проблема чисто техническая: телевизионная станция размером с полмиллиметра. Муравьиная антенна в качестве антенны.
На лоб муравью, на лоб червяку, карасю, змее, орлу, волку, слону, дельфину, шимпанзе…
Пусть они странствуют, ползут, плывут, летят, бегают по своим делам, а мой герой, посиживая в кресле перед экраном, будет сопровождать муравья, слона и дельфина, регистрировать их приключения.
Целая серия приключений: приключения муравья, приключения слона, приключения микроба в организме… если техника позволит.
Напрашивается и детективный вариант: враги налепили телепередатчик на лоб мухе, на лоб канарейке, на лоб любимой кошке генерала. Кошечка мурлыкает, ничего не подозревая, а передатчик-то работает. Пойди разгадай, как просачиваются секретные сведения.
Приключения Мурлыки — международного шпиона!
Передатчик можно налепить и на неживой предмет, следить за его перемещениями. Тогда получатся у меня «Приключения пиджака», или «Похождения ботинка», или же «Судьба книги», лучше библиотечной, она по рукам ходит. А еще разнообразнее «Страсти рубля». Вот уж у кого приключений вдоволь: столько раз его обменивают и разменивают, пропивают и заначивают, прячут, ругаются из-за него. Кочует и кочует он, вечный бродяга, из рук в руки, из кармана в карман, в разных кошельках прописывается на временное жительство.
Впрочем, замечаю я, что несколько отклонился от темы. Телепередатчики на вещах уже не вселенцы, а пассажиры бесплатные, зайцы своего рода. Вселенцы сживались со своим носителем, командовали или же спорили, а зайцы только едут непрошеными пассажирами, не с хозяином мозга, а возле него.
Ну что ж, и это интересно по-своему. Серия: «Приключения вещей».
И тема ветвится. Растет и растет список глав для будущей повести… уже не повести, романа. Часть I — «Непрошеный гость». Часть II — «Чужими глазами». Часть III — «Верхом на вещах»: «В чужом кармане», «На чужой одежде». Часть IV — «В чужих головах». Ведь вселенец не удержится, не только в мой мозг залезет… о чужих мыслях расскажет.
6. СОМНЕНИЕ
И тут возникает сомнение. Не техническое, этическое.
Допустимо ли?
Прилично ли без спроса лезть в чужую голову, не постучавшись? И даже постучавшись?
Моя голова — моя крепость. Замок из кости, не слоновой.
Мне доводилось уже разбираться с этой проблемой, когда я писал в свое время повесть об аппарате для чтения мыслей.
Вроде заманчивое изобретение, но невежливое, бесцеремонное, просто сказать. Любопытство тешит, но польза есть ли в нем?
Оказалось, что есть. Нет лица без изнанки, нет изнанки без лица. Три специальности нашел я, где аппарат был бы явно полезен.
Следователям — при допросе уголовных преступников.
Школьным учителям, особенно в младших классах. Вот объясняют они, втолковывают, но никак не доходит. Почему? Что не понимают малыши, что у них в голове не увязывается?
Ну и врачам-психиатрам, конечно, чтобы разобраться в путанице, царящей в головах больных, или полубольных, неврастеников, истериков, или воображающих себя больными. Вот на Западе принято, даже модно расстилать перед психоаналитиками свое грязное белье, грязные мысли то есть, поручать им угадывать, где пациент измарался впервые.
Но то врачи. Перед врачами все раздеваются догола. А кого попало не впустишь в свою голову… как и в комнату до уборки. При всеобщем чтении мыслей слишком много было бы обид.
Ведь мыслим-то мы начерно, грубее, чем говорим, топорно мыслим, грязно мыслим иногда, потом сами себя редактируем, можно ли сказать вслух и так ли мы хотели сказать. И тут нечего казниться, себя обвинять в неискренности. Ведь и я не пошлю в редакцию исчерканный черновик, постараюсь подобрать точные слова, выразительные слова, не первые попавшиеся, поищу, поправлю, перепишу начисто. Так и в житейском разговоре: порядок надо навести сначала. Прежде чем пустить гостей в комнату, убирают хлам; если не убрали — извиняются. Прежде чем пустить гостей в голову, убрать надо, порядок навести. Ту повесть я и назвал «Опрятность ума».
А кроме того, и не всякого пустишь в свою комнату… и в свою голову тоже. Кто знает, какие у него намерения, что он ищет в твоей искренности?
Пускай сначала свою голову покажет.
Но у меня — автора — исключительные права. Я сам создаю литературных героев, знаю их подноготную. И я гарантирую, что в чужой голове буду вести себя деликатно. С детства меня приучали отворачиваться, если вижу что-нибудь неприличное, не ухмыляться, не указывать пальцем на грязь, не вышучивать, не балабонить на всех перекрестках. Увидел лишнее, промолчи.
Никак не мог понять Азимова, который в одном из своих поздних романов посвятил целых две главы уборным планеты Аврора.
В конце концов, все мы ходим в уборную и не один раз в день. Это не самое интересное в жизни. А вот в голове у каждого есть интересное.
Утвердим часть IV — «В чужой голове», но только для деликатного посетителя.
Глава за главой, глава за главой, и столько можно придумать еще. С некоторым ужасом смотрю я на распухающее оглавление. Неужели теперь я обречен всю жизнь до самого конца писать и писать приключения вселенца, приключения с продолжением и продолжение продолжения? Обречен мысленно перевоплощаться в муравьев и слонов, в пиджаки и рубли в карманах, в уголовных преступников, в психически больных, в неразумных детишек и описывать, описывать, описывать, что творится у них в головах.
Когда же это я успею все?
Вот потому я и обращаюсь к читателям, не в первый раз обращаюсь: подсобите мне, включайтесь, вообразите то, что пришло мне в голову…
И то, что не пришло.
Ветвистая оказалась тема. Сама диктует новые разделы. Вот еще один! Как же я упустил его раньше? Ведь интересный, самый интересный, возможно.
Какая программа была заложена в гены того вируса? Программа построения приемника из тканей моего мозга. Он и выстроил его и первым долгом получил воспоминания своего прежнего Я, потом программу исследований на новой планете.
Но этот приемник он же оставил в моем мозгу. В других мозгах строил заново.
Я получил все воспоминания звездожителя, а также возможность слушать их передачи о своей планете (или комете, или звезде, или газовом облаке). Могу слушать, могу им вопросы задавать.
Отныне я межзвездный справочник.
Человек-приемник.
Человек-радиостанция.
Связной двух миров.
Тема?
УЧЕБНИКИ ДЛЯ ВОЛШЕБНИКА
1
Сначала я искал ее в колючем кустарнике, раздвигая руками шипастые ветви, потом в кочках, в жесткой, пыльной от сухости траве, потом нырял за ней в омут, без маски нырял, масок не было в те времена, глаза резало от взбаламученного ила; потом на складе шарил руками по неструганым занозистым доскам, переставлял мятые банки с олифой; в лавчонках букинистов, что у Китайской стены, сидя на корточках, перебирал ветхие книги, кашлял от застарелой пыли. И отчаялся найти, но откуда-то она взялась все-таки, оказалась у меня в руках, завернутая в тряпку эта желанная книга, и я прижимал к груди увесистый том, нянчил его в руках, как младенца.
Носился и нянчил, никак не удавалось пристроиться почитать. Куда-то я спешил, опаздывал и не успевал сложить вещи. В гостях был, хотел уйти, никак не мог распроститься. И какой-то урок должен был сделать, людно было вокруг, меня окликали, отвлекали, торопили, давали поручения, упрашивали, книгу вырывали, не было отбоя…
А почитать мне хотелось нестерпимо, потому что в руках у меня была особенная книга, волшебная, учебник для начинающих колдунов с общей теорией чародейства и описанием правил, приемов и учебных упражнений. Вот прочту я внимательно, потренируюсь немножко и начну творить чудеса, подряд, все описанные в сказках: буду исчезать и появляться, мгновенно переноситься на край света, «по щучьему веленью, по моему хотенью» превращать воду в вино, ртуть в золото, младенцев в богатырей, стариков в молодых, лягушку в царевну, сам превращусь в шмеля, в серого волка, в кречета и в щуку…
Дергали меня, дух не давали перевести, книгу раскрыть…
Наконец дорвался я до укромного местечка, развернул тряпку, положил том на колени, ласково погладил лакированный переплет, раскрыл со вздохом облегчения. Вот и первая страница, громадная ин-кварто, четкие строки, шрифт крупнее типографского, витиеватые заглавные буквы, как в подарочном издании под старину, дорогая мелованная бумага. Ну-с, почитаем откровения. Сейчас узнаю я…
И тут бумага начинает расползаться у меня в руках, словно водой размоченная. В неровные разрывы бьет яркий дневной свет. Я понимаю, что просыпаюсь. Просыпаюсь прежде, чем прочел хотя бы одну строчку. В отчаянии жмурю глаза, еще вижу расходящиеся обрывки, усилием воли хочу вернуться в сон, стараюсь затвердить слова, хоть один рецепт запомнить. Напрасно! Безжалостно трезвый утренний свет бьет в глаза сквозь порванную страницу. Выхваченные слова еще в памяти. Повторяю их в уме. Увы, бессмыслица!
Вот такой сон приснился мне полвека назад, когда был я школьником-десятиклассником.
2
Но хотя был я школьником, и в те стародавние времена я намеревался стать писателем, потому решил я превратить сон в тему, написать повесть под названием «Волшебная книга». И она была написана. В моем архиве сохранились и первый, и второй, и третий варианты, безропотно перепечатанные терпеливой и самоотверженной матерью. Я перечитал их недавно… и осудил. Все-таки тот юноша, мой тройной тезка — не совсем я. Я смотрю на него издалека, как бы в бинокль, разглядываю в перспективе. Смотрю с завистью — все у него впереди, — с завистью, но снисходительной. Стиль его мне не нравится, какой-то натужно приподнятый: назойливая романтика. И сюжет весь построен на затягивании, на разжигании аппетита, хотя к столу-то подать нечего, все поиски да поиски, а волшебной книги так и нет. Начинались же поиски в несуществующей экзотической стране типа «1001 ночи»; местные волшебники творили чудеса, но когда герой сумел войти к ним в доверие, они признались, что сути чудес они не понимают, механически используют приемы, принесенные из отдаленной страны. Герой с приключениями полгода добирался в ту дальнюю страну, там он раздобыл таинственный компас, стрелка его указывала на клад. Опять он брел за стрелкой, перебираясь через горы и воды, наконец достал со дна морского, ныряя, как в моем сне, не одну книгу, а даже сто одну. В предисловии к первой прочел грустный рассказ о звездоплавателе (сон у меня был сказочный, но читал-то я все-таки не сказки, а научную фантастику), чья судьба была определена при рождении: всю жизнь до самой смерти он должен был провести в звездолете, доставляя на Землю эту самую книгу, добытую его прадедами на планете волшебников. И деды его везли всю жизнь, и родители везли всю жизнь, и он обязан был везти и обязан был жениться на единственной девушке своего поколения, чтобы детям своим и внукам завещать продолжение нудного полета — лететь, лететь, лететь, доставляя звездную мудрость. Пожалевши того пожизненного почтальона, герой хотел приступить к переводу «Волшебной книги» на человеческие языки. Не тут-то было. Оттяжки продолжались. Сто книг из ста одной были покрыты непрозрачной пленкой. Первая же содержала две тысячи (цифр не жалел я) математических головоломок. Только решив их, проявив упорство, сообразительность, ум и культуру, можно было узнать состав, растворяющий пленку, прочесть наконец желанный текст.
Что же касается содержания ста томов звездной энциклопедии, я написал только, что первые пять излагали уже известные на Земле законы природы и общества (опять оттяжка!), далее шли тома производственные, о силах и машинах, за ними — о лечении всех болезней, об искусственных органах и об оживлении мертвых даже (грамотный мальчик, начитался научной фантастики!). Затем следовало описание чудес, но лишь после изучения 41 тома начинающий волшебник мог создавать иллюзию превращений, видимо, гипноз подразумевался… а подлинные чудеса творил, только закончив чтение 101 тома.
И на том рукопись кончалась. А что еще мог сообщить миру десятиклассник о сути чудотворчества?
3
Задним числом оглядываясь на прожитую жизнь, вижу я, что принадлежу к числу везучих счастливчиков, которым удается осуществить юношеские мечты. Мечтал я стать писателем и стал писателем, выстроил на полке стопку книг… все больше фантастика, все о научно-волшебном деле. И вижу, что не оставила меня юношеская тема. Вот и во взрослом рассказе «Функция Шорина» герой так себе рисует идеальное возвращение из звездного путешествия:
«Стремительно сменяются цифры на табло. Сегодня скорость 20 тысяч километров в секунду, завтра — 19 тысяч, послезавтра — 18 тысяч… Желтоватая звезда впереди превращается в маленькое ласковое солнышко, на него уже больно смотреть. Экспедиция возвращается с победой. Удалось дойти до Тау, удалось найти там товарищей по разуму. Их опыт, записанный в толстенных книгах, лежит в самой дальней камере — драгоценнейший клад из всех добытых кладов.
Там сто книг, посвященных разным наукам. Два тома математики. Только половина первого тома пересказывает то, что известно на Земле. Тома физики… химия, геология. Тома науки о жизни. Психология… история, теория искусства, экономика… Производство… производство… производство. И вдруг совершенно неведомые, сказочные науки: омоложение и оживление, наука о сооружении гор и островов Реконструкция климата. Реконструкция планетных систем. Теория любви, теория счастья. Изменение внешности и характера. Искусство превращений…»
Юность ушла, тема осталась. Как видите, и здесь сто томов звездной премудрости, и здесь искусство превращений в конце списка. И я не упрекаю себя в однообразии. В самом деле, что можем мы получить самого ценного у старших братьев по разуму? Не машины, не золото, не лекарства. Информация дороже всего. Дайте рецепт панацеи, мы сделаем ее сами.
4
И раз написал я о превращениях, и второй раз написал, и в третий, а тема не исчерпалась, сидела как заноза. И вот снова, уже на склоне лет открылся новый поворот.
Я работал над научно-популярной книгой о перспективах науки, всех наук; не оставляла меня тяга к всеобъемлющему, всеобзорному, за горизонт уходящему. Так и называлась книга «Виднеется за горизонтом». Я написал главу о горизонтах астрономии, вплоть до пульсаров, квазаров, Вселенной, замкнутой или незамкнутой. Написал главу о горизонтах микрофизики, вплоть до неисчерпаемого электрона, кварков, глюонов и вакуума, который «нечто по имени Ничто». Написал главу о времени, вплоть до начала времен в Большом Взрыве. Написал главу об энергии вплоть до максимальной Е = тс2 и главу о скорости вплоть до предельной — скорости света. Все написал. Потом, как водится, рукопись послали на отзыв. Очень старательный рецензент трудолюбиво сделал мне сто замечаний по первым ста страницам (роковая цифра сто, никак не могу я преодолеть ее). А сто первое замечание как раз и было насчет превращений. Рецензент упрекал меня, что я изобразил природу статически и не дал главу о изменениях.
А в самом деле, почему не дал?
Во-первых, потому, что всякое знакомство с природой начинается с описания неизменных тел. Естественно, прежде чем менять, нужно еще разобраться, что именно меняешь.
А во-вторых… по какому учебнику излагать? Как называется наука об изменениях, превращениях? Я не знаю.
Существует старинная, заслуженная, прекрасно разработанная и точная наука о свойствах, движении и взаимодействии неизменных тел — называется механика. Конечно, в основе ее лежит некое упрощение, неизменности нет в природе, изменения механика выносит за скобки. Все правильно, не стоило сразу окунаться в двойные сложности. Итак, движение неизменных. Но есть ли под пару механике наука об изменениях неподвижных тел?
Нет такой науки!
Почему нет? — первый вопрос. — В голову не пришло? Ну нет, достаточно было умных голов за три века после Галилея.
И материала предостаточно. Вокруг нас и в нас сплошные превращения. Вода превращается в лед, лед в воду, руда в металл, зерна в хлеб, хлеб в мясо (и в плоть человеческую), семена в деревья, гусеница в бабочку, зародыш в ребенка. Все производство — превращения, земледелие — превращения, жизнь — беспрерывные превращения. Превращения простого в сложное, сложного в простое, простого в простое, сложного в сложное, превращения медлительные, превращения взрывные, мгновенные.
А единой науки о превращениях нет.
Может быть, нет потому, что не понадобилась. Ведь все эти превращения осуществляются по-разному и ведают ими разные науки. Лед в воду превращает тепло — это ведомство теплотехники. Хлеб в плоть превращает пищеварение — это физиология. Превращение гусеницы в бабочку — зоология, зародыша в человечка — эмбриология, кислоты в соль — химия, а ртути в золото — алхимия. Везде превращения, а единой науки нет. Возможно, также, что ее и не хотели создавать. В истории науки разные бывали периоды, была эпоха слияния, были эпохи расщепления. Единая механика создавалась в синтетическую эпоху, да и впрямь, не стоило же сочинять отдельные формулы для перемещения хлеба, камней, чемоданов или людей. А мы с вами живем в эпоху расщепления, когда каждая ветвь науки склонна объявить себя совершенно неповторимой, на другие ветви нисколько не похожей, независимой, даже со стволом не очень связанной.
Но вот беда: волшебникам как раз-то и нужна единая наука. Ведь у них-то инструмент универсальный — волшебная палочка. Взмахнул и превратил…
Придется создавать для них науку.
Вообразим, что нам это поручено.
Вообразим!
5
Как мы назовем ее прежде всего?
Можно бы метамеханикой. Это суховато, точно… для рассуждений удобно и даже традиционно — по Аристотелю. Правда, смущает аналогия с метафизикой. Впрочем, чего смущаться — о волшебстве идет речь.
Можно бы образнее — метаморфикой — наукой об изменении формы. И сразу намекает на метаморфоз — гусеница превращается в бабочку, Юпитер в быка, Дафнис в оленя, Нарцисс в нарцисс, как и описано у Овидия. «Овидиология»? Поэтично, но достаточно ли логично. Превращение руды в металл — при чем тут Овидий? Или метаморфистика? Метаморфика? Метамеханика все-таки?
Колеблюсь я. Выбирайте по вкусу.
Начинаем рассуждать. Даны превращения воды в лед, руды в металл, ртути в золото, земли в хлеб, хлеба в мясо, мяса в уголь, угля в алмазы, Юпитера в быка, головастика в лягушку, а лягушки в царевну?
И обыденные превращения перечислены, и чудесные.
Что же в них общего? Изложим на языке науки.
Тело А превращается в тело В.
Согласимся, что вода и лед, ртуть и золото, царевна и лягушка — тела.
Чтобы превратить тело А в тело В, необходимо совершить четыре действия.
1. Разобрать А на составные элементы (ядра, атомы, молекулы, клетки, органы, кирпичи, блоки, панели).
2. Рассортировать элементы — недостающие добавить, лишние удалить.
3. Переместить элементы на нужные места и…
4. Скрепить их.
Всего четыре действия! Ничего чудесного. Так просто!
А иной раз бывает и проще простого. Чтобы превратить воду в лед, и сортировать ничего не надо, только тепло отобрать. И скреплять не надо, сама природа скрепляет. Немного посложнее превратить ртуть в золото, там надо один протон убрать из ядра, а лишние нейтроны сами осыплются. Чуть посложнее — чуть-чуть!
Конечно, когда гусеница превращается в бабочку, там перестановок больше. Недаром природа тратит на это недели.
Выше метаморфоз назывался метамеханикой. Продолжаем рассуждение по аналогии с механикой. В той науке три раздела: статика, кинематика и динамика. Разделим и нашу метамеханику на метастатику, метакинематику и метадинамику.
Метастатика пусть занимается изучением формы А и формы В, их свойств и строения. При сравнении выяснится, что надлежит добавить и убавить при сортировке, каких именно клеток не хватит в лягушке, чтобы вылепить царевну. И еще должна учесть метастатика — жизнеспособную ли форму В задумал чародей. Может быть, он из двух антилоп задумал слепить тяни—толкая. Но ведь бедняга двухголовый погибнет от заворота кишок через день—другой.
Метакинематике доведется составлять план перемещений — какой элемент откуда и куда переставлять. Этакое расписание перевозок, как для городского транспорта.
Метадинамика же будет ведать силами, необходимыми для разрушения, перемещения и скрепления.
У научной науки должны быть законы. Попробуем и их составлять на основе механики. Например, первый закон Ньютона гласит: «Каждое тело, на которое не действуют силы, сохраняет состояние прямолинейного и равномерного движения».
Первый закон метамеханики: «Каждое тело сохраняет свою форму, свойства, пока на него не действуют внешние или внутренние силы».
Считаете, что закон бессодержательный? Давайте изложим его иначе.
Закон четырех «если». Любое тело А можно превратить в любое, наперед заданное тело В, если:
имеется достаточно материала,
имеется достаточно энергии для превращения,
имеется достаточно времени и если
тело В жизнеспособно.
Ревнители строгой науки возражают. Что означает «достаточно». Неопределенный ненаучный термин. Наука начинается тогда, когда в ней появляется математика. Дайте точные формулы.
Ну что ж, делать нечего, давайте составлять формулы.
Что означает «достаточно времени»?
Если мы признаем, что скорость света предел скоростей в нашей Вселенной, превращение не может совершиться быстрее, чем
t— время, γ — знак превращения, с — скорость света, а L— наибольшая длина тела.
Формула утешительная. Показывает, что на Земле можно все превращать в мгновение ока.
Что такое «достаточно энергии»?
Тут формула посложнее:
Очень солидная формула. В ней и сигма — сумма усилий, знаки плюс-минус, показывающие, что энергия может затрачиваться, а может и прибывать, например, при превращении воды в лед (а как при превращении лягушки в царевну — неведомо). А маленькие «дельты» показывают, что каждый элемент отрывается по отдельности, перемещается по отдельности и прикрепляется по отдельности. И работа трудная, и формула трудная.
Еще сложнее формула трудоемкости, очень сложная, но необходимая. Тут надо учесть и коэффициент измельчения — чем меньше элементы, тем больше возни. Дворцы строить легче из крупных панелей, чем из кирпичей, а царевну собирать из готовых рук-ног проще, чем из атомов или молекул. Важен и коэффициент разнообразия. Кирпичи все одинаковы, клади любой, какой под руку попался, а детали у машин, увы, разные, и у каждой свое место. Клетки же в мозгу хотя и односортные, но не взаимозаменяемы. Перепутаешь их, и исчезнут воспоминания, царевна родных не узнает.
Тем не менее формула трудоемкости очень нужна. Она позволяет сравнивать превращения: какое рациональнее, какое проще?
И, сравнив, постараться упростить, чтобы…
Стоп!
Увлекся я. Сплошной учебник получается, хоть и для волшебников, а все-таки учебник. Даже и закаленным любителям фантастики нельзя предлагать многочлены вместо приключений. Продемонстрировал формулы, и хватит!
Иной подход нужен — попроще.
6
В ту давнюю пору, когда мне приснилась волшебная книга, мы с друзьями вычитали у Бульвер-Литтона поразившую нас мысль.
— Почему все романы пишутся о любви? — рассуждал автор. — Любовь — кратковременный период в жизни, предисловие к женитьбе. А едим мы ежедневно, три раза в день, без еды жить не можем, но в книгах про еду почти ничего, все любовь, да любовь, да любовь.
Много лет спустя задним числом понял я, что автор незаконно сопоставлял несопоставимое. Любовные романы пишутся не о любви, а о том, как любовь добывается, как через препятствия и преграды люди идут к счастливому браку. И недаром свадьба в финале. Это венец делу, венец усилиям по добыче любви. Дальше все само собой понятно. Читать о том, как молодожены целуются и обнимаются и опять, и опять, и опять целуются и обнимаются, было бы нестерпимо скучно. Целоваться может каждый; как завоевать право на поцелуи — вот в чем проблема.
То же и с едой. Жевать может каждый, и было бы нестерпимо скучно читать, как люди жуют, и жуют, и жуют за завтраком, обедом и ужином сегодня, завтра и послезавтра. Едят все люди, но добывают еду по-разному. И о добывании еды с преодолением препятствий, о добывании средств для покупки еды — денег, работы, служебного положения, престижа, имени, наследства, права, земли, чести, о соперничестве и борьбе за средства существования — об этом написаны тысячи и тысячи интересных книг. Были бы деньги, а покупки сделать сумеет каждый. И не бывает книг на тему: «Как я хожу в магазин с деньгами сегодня, завтра и послезавтра».
В общем, пользоваться все мы умеем. Добывать — вот проблема, и она-то интересует нас, она-то и описывается.
Добыча поцелуев, добыча средств… и добыча знаний также.
Значит, не учебник для волшебника, а история составления учебника.
И тогда требуется герой — составитель учебника, инициатор научного чародейства.
Чародейства, но научного. И никакой он не колдун, он наш современник, получивший современное образование, знающий физику и химию и математику… Ведь формулы же он составляет.
Логиным я назвал его, ибо логикой он силен. Боюсь, что в школе дразнили беднягу Ложечкой. Что ж, и в этом есть что-то символическое. Чайными ложечками собирал он знания, неторопливо наполнял «котелок» (голову?), варил и переваривал годами.
Вначале он будет молод, даже очень молод, школьник-десятиклассник. Только в молодости можно затеять создание всеохватывающей науки такого масштаба, как метамеханика — обобщение превращений, слияние физики, химии, биологии и техники. Солидный человек, мой ровесник, взвесил бы свои силы, подсчитал бы годы, вспомнил служебные и семейные обязанности, вспомнил бы про необходимый отдых и обязательное переключение, про недомогания и лечение и со вздохом отложил бы затею с несуществующей наукой. Увы, некогда, увы, не по зубам. Был бы помоложе, был бы посвободнее…
Но юноше жизнь кажется бесконечной и силы необъятными. Все успеешь, не одну науку создашь, десяток…
Логин уверен в себе и даже самоуверен. Однако самоуверенные и уверенные в себе юноши склонны разбрасываться, не ограничиваться одной затеей, хвататься за все подряд, начинать и бросать при первой же трудности. Однако мой герой не отступится. Стойкость — важнейшая черта его характера. Герой еще должен заслужить право стать литературным героем. Логин заслужит верностью мечте.
А почему он так сосредоточенно стоек? Допускаю, что только в мышлении он ощущает себя полноценным человеком. Может быть, у него какой-нибудь недостаток физический? Я даже подумывал сделать его калекой, но пожалел. Думал сделать заморышем, сутуловатым, узкогрудым, подслеповатым, с большущими выпуклыми очками. Нет, это стандарт! Некрасиво измываться над собственным героем. Логин любит думать потому, что он думает основательно. Основательность требует неторопливости. Логин — тугодум, медлительно говорит, делает паузы, подыскивая точные слова, у бойких это вызывает смех. Безжалостные одноклассники высмеивают его, особенно те, кому нечем похвалиться, кроме бойкой речи с готовыми шуточками. Логин беспомощен в споре, он не успевает ответить, приходится брать реванш наедине с собой. На бумаге он опровергает противника, неторопливо шлифуя возражения. Оттачивает мысль, шлифует и полирует, упивается мышлением.
И вот природа — противник достойный и молчаливый. С ним можно спорить часами и годами, неторопливо подыскивая доводы, себя самого опровергая, как бы играя в шахматы и за белых, и за черных. Игра великолепная, бесконечно разнообразная. И уж Логин вопьется в нее, вопьется и не отстанет, всю жизнь будет пить сладкий мед умственных побед.
Кажется, объяснил. Теперь надо изобразить, как Логин будет упиваться.
Это же так прекрасно — разглядеть, разгадать.
Подвижное в неподвижном, единство в хаосе! Лед — вода, ртуть — золото, Вольга — волк, лягушка — царевна, тела неживые, живые, звери и люди. И за всем этим всего четыре слова: четкий закон волшебной палочки: разборка — сортировка — перестановка — сборка. Таинственные «аминь, рассыпься» и «будь по моему веленью» укладываются в формулы с сигмами и дельтами. Что такое колдовство? Это мета-механика: метастатика, метакинематика и метадинамика. И что такое волшебная палочка, разрыв-трава, одолень-трава, заговорное слово, цветок папоротника? Мнимый инструментарий, псевдонимы будущей аппаратуры. И кто такие колдуны, волшебники, знахари, ясновидцы, феи и ведьмы? Всего лишь артисты-иллюзионисты, играющие во всемогущество, в лучшем случае — практики, наугад, вслепую нащупавшие удачные приемы. В лучшем случае, в редких случаях. А как правило, обманщики, самообманщики, несостоявшиеся метаморфисты.
Логин читает книги, Логин коллекционирует знания, Логин мыслит, упивается мышлением, Логин открывает истины, Логин проверяет-поправляет-оттачивает, Логин строит науку превращений. Он увлечен, он счастлив, он уверен в себе…
Он-то уверен, вот я не очень уверен. Мой герой читает-думает-пишет, читает-думает-пишет. Читает-думает-пишет в первой главе, во второй, в третьей…
Сумею я написать интересно о том, как он читает-думает-пишет от пролога и до эпилога?
Меня убеждают, что в литературе обязательно должна быть борьба. Столкновение характеров. Но Логин борется с природой, с незнанием.
Мало! Нужно, чтобы он боролся с людьми.
Приходится вводить и противника, соперника.
7
Назовем его Вячеславом, Славой. Конечно, и в этом имени намек. Это действительно славный парень, талантливый, обаятельный и остроумный, всеобщий любимец, такой выдающийся, что ему даже нет чести побеждать медлительного Ложечку, почетнее защищать его от насмешек. В результате они подружатся. И после многих бесед с глазу на глаз Слава оценит Логина, почувствует даже уважение с оттенком снисхождения, дескать, я настолько силен, такой несравненный, что могу без ущерба и твои достоинства признать.
Есть ли у него недостатки? Не без того, человек же. Слава неусидчив. Знает, что сообразит, догадается, схватит на лету, зачем же штудировать? Логин уверен в себе, но однобоко — уверен, что высидит что угодно, то есть разберется, поймет, придумает, подсчитает, напишет. Однако он безнадежно беспомощен, если нужно кого-то упросить, убедить. Слава также абсолютно уверен, что организует что угодно: упросит, убедит, увлечет, уломает, заставит, вынудит помогать всей душой. Но он теряется в безлюдном кабинете и теряет веру в себя, ему невыносимо скучно в одиночку воевать с мертвыми буквами и собственными мыслями. Человек блестящего ума, но не верит в собственный ум. Зевает, скучает, томится, ищет предлог, чтобы куда-то побежать, позвонить по телефону хотя бы И так как эмоции у него командуют, а разум прислуживает им, Слава задним числом уверяет себя и других, что он поступил наилучшим образом, поменяв книгу на беседу с живым человеком, глупо было бы корпеть, когда к цели вела короткая и легкая дорога.
Слава славолюбив, мечтает о славе и добивается славы. Хочет делать славные дела в жизни, заслужить всеобщее признание, честно заслужить, не добыть, а заработать, найти что-то сверхценное для всего человечества. И вот ему снится сон о волшебной книге. (Я подарю Славе свой сон.) Слава загорается. Вот достойная цель. Конечно, во сне всякое может привидеться, но ведь нет же дыма без огня. Слава никогда не помышлял о волшебных книгах, откуда взялся в мозгу такой образ? Тут же приходит в голову, что сон внушили пришельцы. Таким способом они известили Славу, что «Волшебная книга» оставлена на Земле; очень лестно, что именно ему поручили ее разыскивать. Ему поручили, он не имеет права уклоняться.
Найти учебник волшебного дела! — такой цели не грешно посвятить жизнь. Людям нужны чудеса. Чудеса нужны, и чудеса возможны. Слава не сомневается. Он вырос в эпоху технических чудес. Часа за четыре может перелететь из суровой зимы в лето, например, из Москвы в Ашхабад, может, сидя дома в своей комнате, смотреть, как играют в хоккей в Канаде, может пригласить давно умершего тенора спеть арию (с помощью магнитофона). Каких-нибудь полтора века назад все это считалось сказкой для детей. Но не все еще сказки выполнены, не все мечты воплощены. Есть еще неизлечимые болезни, молодость уходит безвозвратно, тоскуют в одиночестве старые девы, плачут старушки, вспоминая потерянного сына Наука наукой, техника техникой, а в Азии десятки миллионов умирают голодной смертью. Не решена демографическая проблема, и экологические проблемы, и экономические проблемы… и будущее прячется в тумане. Наука не все может, даже не все обещает. И люди мечтают о добавочных чудесах, говорят и пишут о телепатии и ясновидении, о филиппинских хирургах и гаитянских зомби, о всемогущих йогах и таинственном биополе, о «летающих тарелках» и пришельцах, крошечных, долговязых, белых, зеленых, человекоподобных, звероподобных, амебообразных и прозрачных, совершенно невидимых.
Ах, как хорошо было бы посоветоваться с ними о наших проблемах, семейных и глобальных! Как хорошо бы научиться у них всяким сказочным превращениям! И не надо нам превращать царевну в лягушку, а вот старца в молодого хорошо бы или же дурака в молодца, как это сделал Конек-горбунок.
Наверное, все это и описано в «Волшебной книге».
И Слава найдет ее. Если не книгу, то хотя бы пришельцев.
Недаром они подсказали ему сон.
Слава уверен в себе. Ведь он же первый парень в своем классе, несравненный в учении и спорте. Ему все доступно, все, что другим не по плечу. Несравненному и дело нужно выбрать несравненное.
8
Ну вот и сложился сюжет: соревнование двух друзей — искателей чуда. Цель одинаковая, пути разные. Логин идет путем логических умозаключений, создавая научную теорию волшебных превращений. Слава ищет готовые решения, описанные в «Волшебной книге».
Как ищет? Методика предложена астрономами, вполне солидными людьми. Разум склонен переделывать природу, поэтому отклонение от норм в звездном мире, возможно, указывает на деятельность какой-то цивилизации. Наша Земля, например, с точки зрения звездного наблюдателя, была бы такой аномалией: маленькая холодная планета с непомерно мощным радиоизлучением. И недаром, в свое время открыв пульсары, нечто небывалое еще в астрономии, ученые назвали их «зелеными человечками».
Итак, на Земле Слава ищет необъяснимое, из ряда вон выходящее, отклонения от норм природы. Если ненормальное, не от пришельцев ли?
Начинает он поиски в библиотеках, экспедиции не в возможностях школьника. В старых книгах ищет намеки: нет ли указаний на пришельцев в эпосах, эллинском, индийском, вавилонском, в Библии и «Рамаяне», в письменах майя?
И вот, пожалуйста, в наших родных сказаниях!
«Голубиная книга». Пала с неба, размеров необъятных, на каждой странице мудрость. Что хочешь узнать, все описано.
Всем морям море — Океан-море.
Всем рыбам рыба — Кит-рыба.
Всем зверям зверь — Индрик-зверь (индрикотерий назван в честь него).
Всем камням камень — Горюч камень Алатырь (янтарь имеется в виду).
И всем горам горы, и всем городам город… Все есть!
Откуда же взялась эта мудрость? Сказано же: «с неба пала». С неба! Из космоса, стало быть. Пришельцы привезли. Но, конечно, прочесть и расшифровать ту «Голубиную (с голубого неба упавшую?) книгу» наши предки не могли. Наполнили легенду понятными сведениями об океане, китах, камнях… Возможно, что-то усвоили, переняли, сохранили какие-то приемы. Где их искать? Вероятно, там, где и
«Былины» сохранились лучше всего, где их записывали: на Северо-Западе, в Карелии, Архангельской, Вологодской, Новгородской областях.
И Слава отправляется в северные леса. На попутных машинах, на санях, на лыжах, пешком пробирается в самые отдаленные деревни. Вязнет в трясинах, замерзает в сугробах, от волков спасается на деревьях, тонет на порогах, комары его съедают заживо — и все для того, чтобы разыскать древних старух — сказительниц и даже знахарок, не они ли наследники космических рецептов?
И он улещивает злющих бабок (иная скалкой встречает, иная помоями обливает, одна ошпарить норовила), обхаживает, ухаживает, входит в доверие (это он умеет), опрашивает их пациентов, излеченных и недолеченных, тратит на все это года четыре, даже в институт не идет учиться, чтобы время не терять, поиски не откладывать.
А в результате?
— Никаких чудес, только внушение, — признается он другу-сопернику. Внушают, что излечился, в лучшем случае мобилизуют силы организма… если остались у организма силы. А если нет, все идет своим чередом. И дряхлеют эти колдуны и умирают, как обыкновенные люди. А все чудесные превращения — сплошной гипноз. Внушают человеку, что он видит чертей, внушают, что он сам превращается в черта.
— Возвращайся на твердую почву науки, — убеждает его Логин. — Вспомни уроки истории. Лженауку астрологию сменила астрономия, переросла свою предшественницу на десять голов. Алхимию сменила химия, духов ветра, дриад и наяд — естествознание. Лжечародейство сменит научная теория чуда.
И признается, что он думает уже о теории, формулирует первые законы:
«Тело А можно превратить в любое наперед заданное дело В, если выполнены четыре условия…»
И прочее, изложенное выше.
— Ну нет, это ерунда, — отмахивается Слава. — Десять лет на теорию, двадцать на лабораторию, в день по капельке, пипеткой не наполнишь озеро. «Голубиная книга» все-таки существует, через годик я привезу ее, уже знаю, где искать. У меня записано девяносто два варианта сказания, я сличил их все. Разночтения неизбежны, разночтения от искажений, а то, что совпадет, — истина. И все совпадающее указывает на юг и на снежные горы. Снежных гор нет у нас на Севере. К тому же Индрик-зверь, что это такое? Явно — индийский зверь, видимо, слон… кого еще можно поставить в пару киту? И йоги в Индии, и факиры, медитация, левитация, гипноз, самогипноз, временное прекращение жизни, Кайя-Калпа — самоомоложение. Все это в Индии сами изобрели? Почему не в Египте, не в Китае, не в Вавилонии, а только в Индии? Уверен, что там и высаживались пришельцы, в Гималаях где-нибудь. И именно там таинственная долина Шамбала, до сих пор не найденная, где жители бессмертны, умирают, только покинув свою долину. Сказка? Ну нет, дыма без огня не бывает.
И Вячеслав отправляется в Индию. Он обследует заброшенные храмы, изучает санскрит, читает древние рукописи, годы проводит в школах йогов, скрупулезно выполняя все предписания, выспрашивает не спрашивая, терпеливо и настойчиво входит в доверие — это он умеет, — и ему открывают наконец местонахождение долины Шамбала. Он пробирается через джунгли (тигры, змеи, ядовитые цветы), перебирается через перевалы (снег, холод, голод, горная болезнь, лавины, пропасти), добывает яков, добывает вертолет, терпит крушение, тонет в горной реке… и находит все же желанную долину.
Развалины старых храмов, молитвенные колеса, истлевшие рукописи — тоже все молитвы, молитвы… Если и были здесь бессмертные, все они вымерли.
Такое разочарование!
Заново переживая все приключения, надежды и провалы, рассказывает Вячеслав другу-сопернику историю поисков, рассказывает не один час, хватает материала.
— Ну а у тебя что? — спохватывается он под конец, исчерпав воспоминания.
У Логина отчет короткий: на четверть часа. Он и вообще-то немногословен, да и незачем вдаваться в подробности. Все приключения внутри черепа: догадался — понял — проверил — увидел ошибку — исправил — упустил — недооценил — начал сначала — понял, как лучше. И все битвы на ученом совете: опровергли — обдумал — догадался — исправил. Фехтование словами и фактами; доктор такой-то сделал выпад, неделю ищется возражение, отбил сокрушительным расчетом, как вдарил таблицей!..
Но в результате наука прорисовывается. Есть основные законы, есть формулы, достаточно сложные, с интегралами и производными. Первая формула метастатики, первая формула метадинамики… Вопрос о том, как упростить их, чтобы на практике применять…
— Забуксовал я, — признается Логин. — Такое положение: хвост вытянешь, нос увязнет. Волшебной практике простота нужна, некое единообразие. Для единообразия же дробить надо помельче, расплавить, например; расплавленный металл отливается в любую форму. Нельзя останавливаться на блоках, даже мелких, кристаллах, клетках. Лучше все превращать в атомы, еще лучше — в частицы. В конце концов все на свете состоит из протонов, нейтронов и электронов. Но дробить мелко — неэкономно. Жуткие затраты энергии, энергетическое море. Идешь на компромисс — не до предела дробишь, только до молекул или до клеток. Тогда сборка получается сложная. Выигрываешь в энергии, проигрываешь во времени. Вот ломаю голову — как упростить, и облегчить, и ускорить сразу.
— Ерунда это все, — отмахивается Вячеслав. — Найдем пришельцев, получим готовый ответ. Найдем, я гарантирую. Пусть я ошибся, понадеялся на «Волшебную книгу». Теперь понимаю: едва ли звездные гости оставили ее. Я сам не оставил бы атомную бомбу ни знахаркам нашим, ни неумытым ламам. Жратва и молитва — вот и весь их кругозор. И не поняли бы, еще и взорвали бы сдуру, как Трумэн какой-нибудь.
Да, я ошибся, потерял несколько лет, но теперь я на правильном пути. Надо искать не книги пришельцев, а пришельцев самих. Думаю, что именно они прилетают к нам на «тарелочках». Да, я прочел все книги скептиков: преломление света, метеорологические аномалии, иллюзии, воображение, самовнушение, чистое вранье во имя саморекламы. Но слишком уж много этого чистого вранья. Нет дыма без огня. И если пришельцы посещают Землю, они и должны прибывать на космических кораблях, тарелкообразных или ракетообразных, на каких-нибудь кораблях. Буду искать следы кораблей.
И Вячеслав отправляется в самую хлопотливую из своих экспедиций — в погоню за пришельцами.
Откуда приходят слухи, туда и мчится.
Он ищет следы пришельцев у египетских пирамид и в многострадальном Ливане, ищет в штате Орегон, откуда и пошел весь шум о «тарелочках», ищет в Арктике, там их видели чаще всего, ищет на Чукотке и под Москвой. (Я и сам ездил на встречу с пришельцами в Подмосковье, ночь сидел под дождем в компании энтузиастов, делавших цветные снимки каких-то непонятных огней, подмигивающих нам из темного леса. Потом оказалось, что там за лесом была автомобильная дорога, фары мелькали за деревьями.) Иллюзия, обман, ложное солнце, метеор, Венеру приняли за «тарелку». Но вот достоверное сообщение: Австралию посетили пришельцы. Фермер ехал на поле, увидел снижающуюся «тарелку», лошадь его испугалась, свернула с дороги в грязь. Из «тарелки» вышли какие-то нелепые существа, что-то бормотали, но английские слова проникали в мозг фермера. Существа измерили его, ощупали, объяснили, что они — первая разведка, высадка пришельцев последует ровно через год. И приезжали ученые, проверяли, видели следы повозки в грязи, обожженную траву на холме, вдавленные ямки от тяжелого аппарата.
Вячеслав мчится на другой конец света — в Австралию, торопясь, чтобы свежие следы не затоптали. И тут выясняется — все это было мистификацией. Два молодых инженера перекрасили вертолет, приделали уродские нашлепки, чтобы выглядело почуднее, и разыграли фермера. Им, видите ли, важно было узнать, как человечество отнесется к прибытию инопланетян.
Этакое разочарование. Но Вячеслав честно рассказывает Логину обо всех своих разочарованиях, о надеждах и неудачах вплоть до последней, австралийской.
— А у тебя как? — вспоминает он под конец. Надо же проявить вежливость к терпеливому слушателю. — Все формулы составляешь? Не надоело?
— Нет, эта стадия пройдена, — говорит Логин. — К опытам перешли, в лабораторию. Теория создана, стоит практическая задача, как упростить превращения. Разработка требует много энергии, я говорил тебе в прошлый раз. Вот и хочется создать этакую среду, особое поле, где разборка шла бы легче. Тут аналогия с высокой температурой. В горячей среде все молекулы разваливаются, все вещества плавятся и испаряются. Надо найти нечто сверхгорячее для атомов и ядер. И хорошо бы для ускорения сборки еще одно поле, такое, где время идет быстрее.
— Ну, ищи, ищи свои поля. — Вячеслав снисходительно хлопает друга по плечу. — Сто лет будешь искать. А я через год принесу тебе готовые рецепты. Я уже на верном пути. Перу — вот настоящее место. И как я раньше не догадался? Гладкая полоса в горах — явно взлетная, на ней гигантские рисунки, видные только с неба. Шеститысячелетняя цивилизация, не зародилась же она сама собой. И груды золота. Откуда там золото, приисков нет же сейчас? Эльдорадо искали, не нашли. И клады инков до сих пор не найдены. Конечно, там не только драгоценности в тайных пещерах.
Вячеслав отправляется в Перу, пересекает страну с запада на восток. Переваливает через снежные горы, спускается в тропические леса. Мерзнет, задыхается от недостатка кислорода, задыхается от влажного зноя, болеет желтой лихорадкой, умирает от голода, ловит рыбу и охотится, на него охотятся кайманы, анаконды и пираньи; приключения на Амазонке не обходятся без этих кровожадных рыбешек. Вячеслав разыскивает патриархальные индейские племена, живет с ними, изучает язык, перенимает обычаи… входит в доверие, это он умеет. И ему открывают тайну подземелий Тупака Амару, последнего инки, вождя восстания против испанцев.
Груды золота, тонны золота, золотая посуда, золотые сосуды, золотое оружие, украшения. Не от богатства, инки не знали железа, золото было у них основным металлом. К тому же большая часть его досталась испанцам, завоеватели потребовали комнату, полную золота до потолка, в качестве выкупа у Атауальпы. Золото забрали, пленника казнили. Но тонны все же сохранились. Тонны золота… на пришельцев никаких намеков.
— Ну а ты как? — традиционно спрашивает Вячеслав, отчитавшись об очередном разочаровании. — Впрочем, я и сам вижу, как ты. Плохо выглядишь, скверно. Поседел, сгорбился, кашляешь… не на пользу тебе лаборатория, едкие щелочи и кислоты. Слушай, бросай ты свои колбы, пробирки, едем со мной. Дело верное. Золото я отдал, конечно, по принадлежности, оно народу принадлежит, но перуанское правительство дает мне пять процентов заимообразно. Организуем поиски пришельцев в глобальном масштабе. Широким фронтом пойдем. Ни одного намека не пропустим. И ручаюсь, через год-два будет в наших руках «Волшебная книга» или ее подобие. Тогда наладим заводское производство, конвейер превращений: воду в вино, хлеб в мясо, ртуть в золото, между прочим. Расплатимся с перуанцами… и тогда мы люди свободные, волшебники у конвейера…
Но Логин качает головой отрицательно.
— Да ты и пяти лет не проживешь, — убеждает Вячеслав. — Вот уж порастратил здоровье в пробирках. Вижу — термометры вокруг, целая коллекция термометров. Зачем столько? Каждый час температуру меришь? Доходяга!
— Но ведь в термометрах ртуть, — улыбается Логин.
— Ну и что с того?
Тогда Логин берет все термометры, сколько ни есть, вставляет в гнездышки полированного ящика. Вставляет, а затем вынимает один за другим. Желтое сверкает на свету. В капиллярах вместо ртути золото!
9
Вот план и составлен. Можно писать повесть. Есть начало — сон, есть конец — термометры.
И все-таки не уверен я, что буду писать эту историю об учебнике волшебного дела. Вижу литературные трудности, которые трудно преодолеть, едва ли сумею.
Порядок глав такой: кабинет — тайга, кабинет — Гималаи, кабинет — Австралия, кабинет — Амазонка… Успех добыт в кабинете, но ведь главы-то о странствиях занятнее. У Логина рассуждения, у Славы активные действия, чужие страны, разные люди, враги и помощники, борьба, спешка, напряжение. Увы, приключения для нас интереснее теории… даже теории колдовства. Боюсь, что и сам я, будь я читателем, торопился бы пролистать физические главы, скорее перейти к географическим.
Представляю себе, что некий писатель решил бы создать многоплановую эпопею о XVII веке. И в одном плане был бы д’Артаньян, а в другом Галилей. Они же современники. Осада Ла-Рошели датируется 1628 годом, отречение Галилея — год 1633-й. И были бы в том романе четные главы о Галилее, а нечетные о мушкетерах. Нет сомнения, что при всем уважении к великому ученому, читатели бы пропускали астрономические главы, торопясь к фехтовальным.
И незачем даже представлять, воображать такое, пример у меня на полке: детектив братьев Вайнеров о краже скрипки Страдивариуса. Там перемежаются главы о краже с главами о жизни великого мастера. И кража, увы, затмевает творчество, следователь волнует больше, чем мастер.
Видимо, таково свойство человеческой психики. Борьба для нас занимательнее, чем труд, действия интереснее мышления. Даже и Пушкин «читал охотно Апулея, а Цицерона не читал».
Ведь я же задумал повесть о Логине — теоретике волшебного дела. Славу ввел, чтобы немножко облегчить чтение, расцветить, разбавить сухие ученые главы. Но боюсь, что расцветка затмит рисунок. Приключения Славы и придумывать, и описывать легче. Невольно акцент уходит из кабинета в горы и леса.
Пожалуй, и сам Слава как герой привлекательнее Логина. Смелый и находчивый, неутомимый, неунывающий, и с людьми-то он ладит, и в доверие легко входит. Право, и читателю он понравится больше, чем педантичный Логин. И хотя не он одержит победу, хотя не он на правильном пути, читатель ему захочет подражать, а не сугубо положительному Логину.
У Джека Лондона есть известный рассказ «Черепахи Тэсмана». Герои его — два брата, они получают равное наследство. Младший умножает его дома, в Штатах, старший ищет богатство в Южных морях, пускается в авантюры, садится на мели финансовые, сажает на мели суда, терпит крушения, морские и житейские, теряет здоровье и деньги, свои и одолженные у брата, к нему же приезжает умирать. Но крепкого, благополучного, преуспевающего городского бизнесмена никто не любит и не уважает, а о старшем бизнесмене-авантюристе говорят с восторженным почтением: «Клянусь черепахами Тэсмана, это был человек!»
Не будем ли мы с вами, и автор и читатели, сочувствовать авантюристу Славе, вместе с ним надеясь, что в следующий раз он найдет и философский камень, и эликсир жизни, и готовенькую волшебную палочку.
И даже если, литературной логике вопреки, я сделаю его нехорошим человеком, не таким, каков он — общительный, увлекающийся, легкий на подъем и легкомысленный, а злобным, жестоким, нелюдимым, все равно его позиция будет выглядеть заманчивее, потому что — такова уж психика человека, — потому что мы с вами хотим не просто чудес, а чудес легких, легко достижимых.
На то есть причина, психологическое оправдание.
Ведь легкий путь — это путь экономии, быстрый, короткий, всем доступный. Так стоит ли идти по скользкой, извилистой, труднопроходимой тропинке? Не проще ли рискнуть и спрыгнуть с откоса?
Правда, рискуешь, можно и ноги переломать. Но говорят, что риск — благородное будто бы дело.
Каждый понимает: если ежедневно откладывать рубль, то к старости, учитывая еще и сложные проценты, наберешь тысяч тридцать. Но ведь это так скучно и невыразительно, каждый вечер думать о рубле, каждый месяц нести тридцатку в сберкассу, скопидомничать, годы до старости считать. Не лучше ли купить лотерейный билет? Авось повезет. Трах — и машина!
Каждый понимает: если окончить институт, получить диплом, да диссертацию защитить, да стать во главе лаборатории, да помощников подобрать дельных, да целеустремленно работать год за годом, можно в конце концов выдать какое-нибудь техническое чудо. Но так хочется спрямить дорогу. Вдруг повезет: вышел в поле погулять, трах! — приземляется «тарелка». «Здравствуйте, пришельцы, вы привезли мне волшебную палочку7» — «На, держи!» И начинаешь творить чудеса.
Но так как пришельцы что-то медлят; сорок лет уже мир гоняется за «тарелками», никак не удается сервировка, придется, видимо, сесть за стол и задуматься.
В чем суть волшебства?
Нам хочется А превратить в В.
Чтобы превратить А в любое, наперед заданное В, необходимо произвести четыре действия…
Для четырех действий необходимы четыре условия, четыре «если»… и так далее…
Капля за каплей, буква за буквой, цифра за цифрой, страница за страницей учебника для волшебника.
КВАДРАТУРА ВРЕМЕНИ
1. ДЕЛАЕТСЯ ОТКРЫТИЕ
Издавна меня волнует тема рождения открытия. Как это получается: бродит человек по комнате, ерошит волосы, дымит, давит окурки в пепельнице или же под яблоней лежит, травинки покусывает, рассеянно смотрит на тающие облака. Ну, яблоко сорвалось с ветки. Бах! — закон всемирного тяготения.
Читатель пожимает плечами. Ну и что тут нового, что тут фантастического? Об открытиях написаны тонны книг, контейнеры, большегрузные поезда. Есть целая серия: «Жизнь замечательных людей». Почитай про Ньютона, почитай про Колумба…
Как делается открытие? Пожалуй, в серии «ЖЗЛ» самим заголовком подсказан ответ. Замечательные открытия делают замечательные люди. Почему делают? Потому что замечательны. Чем именно? Замечательно трудолюбивы, целеустремленны, усидчивы, преданы науке, требовательны к себе, упорны и т д. и т д. Прекрасный ответ. Чрезвычайно дидактичный. Призывает школьников проявлять усидчивость, прилежание, трудолюбие. Но, как сказали бы математики, это условие необходимое, но не достаточное. Увы, сколько мы знаем намертво приклеенных к стулу, маниакально усидчивых, трудолюбивых и преданных науке заготовителей макулатуры!
На Западе в популярных биографиях иная традиция: счастливая судьба. Открытие сделал тот, кто не растерялся, ухватил жар-птицу за хвост. Один мальчик связал веревки, получилась ременная трансмиссия; другой загляделся на кипящий чайник, увидел в нем паровую машину. Повезло, не растерялся, сообразительность проявил… Очень это укладывается в традиционный тезис предпринимательства: богат тот, кто не прозевал счастливый момент.
И столь же часто: гений был гениален с пеленок. Гениален, вот и сделал гениальное открытие. Почему опередил эпоху на сто лет? Потому что гений. И вопрос снят. И для литературы удобно. Герой ярок, у него характерная черта — гениальность. Читатель его заметит и полюбит. И сюжетные приключения легче строить вокруг гениального героя, единственного владельца откровения, непостижимого, недостижимого для всех прочих рядовых ученых.
Только один недостаток у этого образа — он неправдив.
В одинокого героя еще можно было поверить во времена капитана Немо и «Аэлиты». Читатели тогда редко сталкивались с техникой, для них открытия как бы валились с неба. Легко можно было допустить, что где-то на необитаемом острове таинственный капитан Немо уже строит подводную лодку. Но сейчас научных работников миллионы, с техникой связаны десятки миллионов. Кто поверит, что некий инженер Лось в сараюшке на заднем дворе соорудил корабль для полета на Марс?
Мы-то знаем, как достаются космические корабли.
И часто слышишь такое мнение: «В прошлом веке действительно были изобретатели-одиночки. Но в наше время крупное создают только коллективы».
В этом утверждении по крайней мере половина справедлива — вторая. На самом деле, и в прошлом крупные открытия создавали коллективы. Вся разница: ныне коллективы разветвлены, многолюдны и спрессованы в датах — единовременны. В прежних медлительных веках коллективы растягивались и во времени, и в пространстве, тем легче проследить за ними.
Но как же так коллективы? А кто открыл тяготение? Ньютон! А кто открыл Америку? Колумб!
Однако вспоминается мне, что в детстве я читал книжку, которая так и называлась: «Разоблаченный Колумб». Автор доказывал, что заслуги великого генуэзца не так уж велики. Мореплавание изобрел не он, не он создал кораблестроение, само собой разумеется. Опыт капитанов, продвигавшихся на юг вдоль побережья Африки, Колумб получил в готовом виде. Даже Атлантический океан он пересек не первым. За пятьсот лет до него это сделали викинги. И вероятно, событие это повторялось не раз, потому что среди моряков ходили легенды о плавучих островах Бразилия и Сант-Брандан, хорошо известные Колумбу. Конечно, не плавучие были острова, просто корабли в разных местах натыкались на американские берега. В довершение всего, Колумб так и не понял своего открытия: считал, что нашел морской путь в Индию и Китай, аборигенов Америки назвал индейцами. О новом материке заговорили картографы, получившие сведения от Америго Веспуччи. Действительно, Кубу и Гаити Колумб нашел, но даже к материку он приплыл не первым. Все его дальнейшие плавания дали мало, а остаток жизни он употребил на то, чтобы доход от «Индии» шел ему — Колумбу — лично.
Тогда я не очень поверил автору. Решил, что это какой-то хулитель, злопыхатель. Но вот много лет спустя ко мне в руки попала биография Ньютона, писанная С.Вавиловым, физиком, специалистом… и мне показалось, что я читаю книгу под названием «Разоблаченный Ньютон».
Оказывается, не было падающего яблока и не было озарения. Если и были, роль сыграли ничтожную. На самом деле история складывалась таким образом:
— после того как Коперник выпустил книгу о том, что планеты обращаются вокруг Солнца;
— после того как Кеплер на основании наблюдений Тихо Браге внес поправку: «планеты движутся не по кругам, а по эллипсам»;
— после того как Галилей установил закон инерции: каждое тело, на которое не действуют силы, движется прямолинейно и равномерно;
— после всего этого был сделан естественный вывод: если планеты движутся не прямолинейно, а по эллипсу, стало быть, есть некая сила, сбивающая их с прямого пути.
И несколько десятилетий шел спор о математической закономерности этой силы: убывает ли она пропорционально расстоянию или пропорционально квадрату расстояния. И забытые ныне Буллиальд и Борелли, а также Роберт Гук, разносторонний ученый-энциклопедист, назвавший клетки клетками, автор закона Гука и секретарь Лондонского Королевского общества — тогдашней Академии наук — отстаивали квадрат расстояния. И именно Гук написал Ньютону: «Не хотите ли Вы высказать соображения по этому поводу?» Несколько лет спустя были опубликованы «Математические начала» Ньютона со строгим выводом формулы тяготения. Ньютон не упоминал Гука, тот обиделся, возник сварливый спор о приоритете.
Так что же сделал Ньютон: открыл всемирное тяготение или доказал справедливость формулы?
Можно было бы добавить и историю «Разоблаченный Люмьер» — об изобретателе то ли кино, то ли переключателя с зубчиками, предупреждавшего скольжение ленты. И добавить историю «Разоблаченный Уатт» — об изобретателе паровой машины, или же обособленного конденсатора. Но я вовсе не хочу заниматься разоблачениями. Этак сложилась история, что коллективное деяние было закреплено за одним именем, пусть самым главным… а мне бы хотелось рассказать обо всей плеяде авторов великого открытия, о характерных чертах их характеров.
Характеры же, как выясняется, связаны с этапами открытия.
Прежде всего придется поведать о предшественниках гения. Как правило, это неудачники. Почему? Потому что они забегают вперед, берутся за дело раньше, чем Можно сделать открытие, или делают его раньше, чем Нужно.
Обратите внимание на эти слова «Можно», «Нужно». Их игра определяет всю историю открытия.
Итак, первые черновики будущего открытия появляются раньше, чем нужно, или не там, где нужно, не там, где возможно. Стало быть, авторы их — этих черновиков — люди, переоценившие свои силы или силы техники, вступившие в конфликт с эпохой, наивные мечтатели, утописты, обреченные на непризнание и неуспех.
Но за беспочвенными мечтателями, иногда за несколькими поколениями беспочвенных следует победитель. Взобравшись на плечи предшественников, дождавшись необходимости или возможности, он пробивает косность природы и людей. Как правило, это могучий человек, энергичный, «пробойный». И сын своего времени. Вспомните, что за личность Колумб. Жадный грабитель, иначе не назовешь. А Уатт! Десятки лет провел в судах, отстаивая свои патенты, пороча продолжателей.
Победа одержана. Мост через океан проложен. Теперь следует самый щедрый этап. Не принято, даже непедагогично писать, что на каком-то этапе открытия достаются легко. Но когда наведена переправа через бурную реку, трудно ли перейти на тот берег? Через Атлантику навел переправу Колумб; после него любой корабль, взявший курс на запад, натыкался на неведомую страну или архипелаг или реку. Сами судите: так ли трудно было после Колумба открыть Юкатан, Мексику, Ориноко, Амазонку, Миссисипи, перейдя Панамский перешеек, увидеть Тихий океан?
Получив в руки первый телескоп, Галилей за несколько вечеров открыл горы на Луне, фазы Венеры, спутники Юпитера, кольца Сатурна. Каждое из этих открытий обессмертило бы имя астронома. То же было с микроскопом и с электронным микроскопом, с фотографией, со спектральным анализом. Бывает время, когда открытия валяются на виду, только поспевай подбирать. Тут не гениальность требуется, а энергия и проворство. Успеть надо, пока другие не расхватали самородки.
Но подобрать самородки нетрудно: этап легких находок недолговечен. Эпоха великих открытий в Америке уложилась в полвека, открытие Сибири — в тридцать лет (если исключить первейшего и завершающего — Ермака и Атласова). Затем идут периоды труда, многолетние, многовековые, окрашивающие всю историю науки, создающие впечатление, что вся она — удел тружеников. Естественно, труженики характерны для этой эпохи. Справедливости вопреки природа вознаграждает скромных скромно и с каждым десятилетием все скромнее. Месторождение открытий выработано, остается подбирать крохи. «В грамм добыча, в годы труды». Прииск в таких случаях оставляют, забрасывают, а в науке продолжают трудиться комментаторы, популяризаторы, толкователи, биографы. Потом и крохи подобраны, найти нечего; продолжатели уверяют, что и вообще в науке ничего не найдешь, с возмущением кидаются на прожектеров, предлагающих какие-то дымные паровозы, когда всем известно, что грузы и пассажиров возят лошади, лошади и только лошади, следовательно, серьезный ученый должен заниматься коневодством, улучшать породы, сравнивать их, каталоги составлять, выставки устраивать. От паровозов же у пассажиров будет сотрясение мозга, искры подожгут леса, зрители сойдут с ума от скорости. И вообще в Библии нет ничего про паровозы, значит, они невозможны и богопротивны.
Итак, уже наметилась целая плеяда характеров: неудачливые пионеры-мечтатели, практичные и энергичные победители, продолжатели, хваткие и напористые, скромные труженики, верные последователи, толкователи, почитатели прошлого…
Столько участников открытия. Хватит не на один том.
Что же они откроют у меня?
2. КРАСОЧНЫЙ ПРИМЕР
Требуется красочный пример. Вся литература — это красочные примеры. Вообще мы мыслим примерами. Без фактов рассуждение не убеждает. Представьте себе, что на первых страницах не говорилось бы ни о Колумбе, ни о Ньютоне. Что осталось бы? Общие слова.
Итак, нужен пример открытия, красочного, весомого и фантастического.
Фантастическое нужно мне лично, и не только потому, что я специалист по фантастике. С придуманными героями я свободен, могу хвалить и хулить их невозбранно. А насчет исторических личностей мнения такие устоявшиеся. Попробуй хулить Ньютона, хотя бы ущемлять немножко, заедят дивизии ньютоноведов, этих самых последователей-толкователей, чья жизненная миссия разъяснять молодежи, как же гениален был гениальный Ньютон.
Красочное и весомое нужно читателю. Кому же захочется вникать в подробности изобретения трехниточной шпульки (бывает такая?). Читателю подавай глобальное. Это не упрек. Шпулька понятна и интересна текстильщикам, земной шар — всем жителям Земли. Широкую аудиторию обеспечивает глобальность. Лет тридцать назад я бы выбрал что-нибудь космическое: открытие Марса или марсианской цивилизации. Но в наше время так много открыто, так много измерено и сфотографировано на планетах. Марс уже не совсем фантастика.
Лет двадцать назад я бы выбрал биологическое: продление жизни до тысячи лет, эликсир вечной юности. Но за эти двадцать лет я столько написал на эту тему… съехать с нее пора.
И я обрадовался, когда мне в голову пришла идея управления временем. Фантастично. Масштабно. Красочно. И желательно.
Ведь говорят: «Хуже нет — ждать и догонять». Несправедливо распределено время в этой жизни. У одних — завал, у других — цейтнот. Одни, лежа на кушетке, тоскливо взирают на календарь: «Ох, целых три недели до отпуска, проспать бы!» Другие, ероша волосы, лихорадочно листают учебник: «До экзамена одна ночь, всего одна ночь, а в голове глубокий вакуум, сверхглубокий…»
Как хорошо было бы, если бы в институтах, школах, учреждениях и просто на улицах, возле телефонов-автоматов были бы будочки с реостатом времени: одна — для томящихся ожиданием, другая — для догоняющих. В ожидальной будке время замедляется, часы прессуются в минуты, а в догоняльной — время ускоряется, минуты растягиваются в часы.
Допустим, осталось пять минут перед экзаменом. Студент забежал в будку, перечитал еще раз учебник, формулы подзубрил…
Ночной дежурный за восемь минут хорошенько выспался перед сменой.
Артист повторил роль… или новую выучил за минуту—другую, чтобы товарища заменить.
Заболевший лег в больницу для торопливых. Выздоровел за два—три часа.
Поэт отлучился от праздничного стола. Посидел в будке минуту—другую, сочинил экспромтом поздравительный мадригал.
Это все бытовые примеры. А разве в хозяйстве не с чем спешить?
Искусственные кристаллы. Они же месяцами растут. Как хорошо бы месяцы превратить в часы.
Новые породы выводят годами. Скрещивают, пробуют, выращивают, улучшают, размножают. А тут вывел, и через сутки сортовые семена, через двое суток бычки-производители.
Новое лекарство. Создано… и сразу проверено.
И чтобы ознаменовать успех — выдержанное вино. Густой пахучий нектар через неделю. Выдержанным вином я убедил колеблющихся. Очень нужно нам ускорение времени, очень!
3. СВАИ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАМКОВ
Ну хорошо, скажет читатель. Кристаллы, сорта, породы, лекарства, выдержанное вино за неделю — все это заманчиво… но обоснованно ли? Как управлять временем, вот в чем вопрос.
Собственно говоря, я — литератор — не обязан отвечать на такие вопросы. Я имею право сказать: «допустим»… допустим, черт с рогами существует; мое дело нарисовать его самой черной краской. Но мне не хочется пользоваться легковесным «допустим». Я принадлежу к старшему поколению фантастов, вышколенному дотошными рецензентами, укорявшими автора в неосуществимости фантазий, в надуманности выдумки.
Позже пришло другое поколение, полагавшее, что наука может все, но выдумки ученых — бедствие. Тут уж ничего обосновывать не требовалось. Хватало: «Допустим, на нашу голову ученые бюрократы…» Но я же пишу о стоящем открытии. Вообще в данном случае и невозможно ограничиваться бездоказательным «допустим». Я взялся изобразить, как делается подлинное открытие, я вынужден разобраться, что и как открывали мои герои. Нельзя же рассказать биографию Бора, не упоминая о модели атома Бора, или биографию Менделеева без менделеевской таблицы элементов.
Итак, нужно нам управлять временем: замедлять и ускорять.
Проблема замедления времени теоретически решена Эйнштейном. Согласно теории относительности время замедляется, когда растет скорость. В звездолете, летящем почти со скоростью света, секунды становятся длиннее земных часов, суток, лет и даже тысячелетий.
Но замедление не так уж волнует нас. Чтобы убить время, в конце концов можно заснуть. Сон наркотический, гипнотический, летаргический, гипотермический — вот вам и замедление.
Чтобы ускорить время, видимо, нужен какой-то другой процесс, противоположный разгону ракеты. Но как уменьшить скорость людей и предметов, неподвижно стоящих на Земле? Какую-то донулевую, мнимую скорость им надо придавать.
Мнимая скорость — это что-то мнимое.
Безнадежно?
Вспомним, однако, что в ускоряющемся звездолете не только время изменяется. Растет его скорость, растет, стало быть, энергия, растет масса…
Стойте, забрезжило что-то!
При замедлении времени энергия растет, и масса растет. Для ускорения времени энергия должна бы убывать, и масса тоже должна убывать.
Но масса может убывать и у неподвижного тела. Например, когда атомы соединяются в молекулы. И энергия при этом убывает, правда, ничтожно — на миллиардные доли, на стомиллионные…
Энергия выделяется и при ядерных реакциях. Тут уж масса уменьшается заметно: на тысячные доли.
Выделяется энергия, и когда сгущается газовая туманность, становится звездой. Вероятно, при этом уменьшается и масса: на миллиардные, миллионные, стотысячные доли. Все это за пределами измерений. Ни доказать, ни опровергнуть.
Что общего во всех этих процессах? Нечто соединяется, сплачивается, сближаются ядра, растет положительный заряд.
Стало быть, нужен некий аппарат, создающий положительный потенциал в тысячи раз более напряженный, чем внутри атомного ядра. Помещаем туда… неуспевающего студента: он теряет массу, 99 % собственной массы, он становится крохотулечкой, мальчиком с пальчик, но время его ускоряется раз в сто… и за пять минут он успевает перечитать все шпаргалки.
Ну что ж, для построения сюжета достаточно. Открытие здесь описывается, а не защищается. Научные споры неуместны. Не диссертация — роман.
4. РОМАН В ДЕСЯТИ БИОГРАФИЯХ
И получится у меня роман со множеством главных героев, сменяющих друг друга. Этапы открытия — звенья цепи — эстафета гениев.
Эстафета! Цепь! Звенья цепи! На десять звеньев-этапов разбил я всю историю. Можно и больше, можно и меньше. Не в числе суть. Суть в том, что Москва не сразу строилась, и не один Юрий Долгорукий запланировал всю ее — от Боровицких ворот до кольцевой автострады.
Этап 1. Зарождение идеи.
В самом начале его — мечта. Естественно: главный герой — мечтатель. И естественно, он — зачинатель — далеко опережает свою эпоху. Заводит разговор об управлении временем раньше, чем Нужно, и гораздо раньше, чем Можно. Подумавши, с чистой совестью и с тяжелым сердцем, решил поселить я его в царской России. С «чистой совестью» потому, что талантов было не занимать в России. Вот и мой Иван Аникеев — талантливый самородок из глубинки, такой, как Ломоносов, Кулибин, Черепановы, Циолковский. А с «тяжелым сердцем» потому, что грустна была судьба этих самородков. Жили в стране с передовой научной мыслью и отсталой промышленностью. Отсталая промышленность удовлетворялась западными изобретениями, сама собой толкала передовую мысль на теоретизирование. И обречен был Аникеев на писание ходатайств о ссудах, на которые накладывались резолюции: «Отказать», «В архив», в лучшем случае: «Подготовить справку о состоянии исследований в Европе». Был обречен на писание статей о перспективах управления временем; в них изложено почти все, с чем столкнутся герои следующих ступеней. Мысленно, в уме Аникеев сконструирует схему развития темпоротехники на три столетия вперед. И триста лет, разбираясь в пожелтевших страницах, историки будут спорить, могли или не могли дойти статьи Аникеева до Жерома, Фраскатти и Яккерта. Это я называю фамилии героев следующих этапов.
Этап 2. Факты.
И герой, конечно, собиратель фактов, — парижский библиотекарь и библиофил Жером.
Полная противоположность Аникееву. У того — скудость книг, почтение к книге, долгие размышления над каждой строчкой. У Жерома — бумажное море, не вчитывание, просмотр. Листая том за томом, переплывая потоки книг, цитирующих и пересказывающих друг друга, Жером с трудом вылавливает один факт на триста страниц, одно самостоятельное суждение, хорошо еще, если самостоятельное.
И он решает собирать факты. Выписывает их, составляет картотеку. Тысяча, десять, сто тысяч карточек. Вот уже и карточек горы, нужен каталог, система к каталогу. Жером составляет системные таблицы, они напоминают менделеевскую. На таблицах видны границы знания, бросаются в глаза пробелы, каждое белое пятно — тема будущих открытий. Между прочим, получается возможность управления временем: и замедление, и ускорение.
Жером показывал эти таблицы, но не публиковал. Медлил. Ему нравилось копаться в книгах, коллекционировать факты… укладывать «в сундук, еще не полный…». И неохота было вступать в бой с академической наукой, глаза колоть упущенными открытиями.
А потом в Париж пришли гитлеровцы… Жером оказался в концлагере… а картотека пропала. Может быть, ее увезли, а может — сожгли. Столько людей гибло, где там карточкам уцелеть!
Этап 3. Формулы.
Герой его, само собой разумеется, математик. Фраскатти — итальянец. Это уже третье поколение, он моложе Аникеева лет на сорок и Жерома — на двадцать.
Милый юноша, с юных лет гениальный, мягкий, добрый, музыкальный, совсем невоинственный. Возможно, он бежал в математику от тревог беспокойно-сварливого мира. Чистая абстракция, нечто надежное, достоверное, доказуемое.
Фраскатти занимался абстрактными мнимыми числами… и додумался до мнимых скоростей. И вывел формулы ускорения времени. И опубликовал их.
Этот отважный шаг не доставил ему никаких житейских неприятностей. Аникеев напрасно стучался в запертую дверь, Жером воздержался от стука, чтобы сохранить покой. Но математика в середине XX века была в почете, все говорили, что наука начинается с числа… нередко и кончалась числом. И парадоксальные формулы молодого Фраскатти были приняты легко… легко и не всерьез, как некая условность, игра ума. Нечто подобное произошло с Коперником. Сначала церковники не очень возражали против гелиоцентрической системы, объявив ее удобным приемом для расчета пасхальных праздников. Забеспокоились позже, когда невежливые люди вроде Джордано Бруно сделали антибиблейские выводы.
Но Фраскатти не настаивал на выводах. Его удовлетворяла чистая игра ума. От мнимых чисел он перешел к разнонаправленному времени, неравномерному, квадратному, кубическому… Наполнял специальные журналы парадоксами и никого не задевал: ни физиков, ни техников.
Зато позже слава основателя темпорологии досталась ему. Записки Аникеева желтели в архивах, графики и картотеки Жерома сгорели… а формулы Фраскатти были налицо. И о них вспомнили, когда темпорология победила.
Этап 4 Споры.
Но прежде чем победить, нужно было сразиться. Сражение вел боец: талантливый полемист Людвиг Яккерт, австрийский физик и философ.
Он был бойцом по натуре и начал жизнь как боец-антифашист. Провел несколько лет в концлагере, лежал на одних нарах с французом Жеромом. От него узнал факты, позже, будучи студентом, познакомился с формулами Фраскатти. Остался один шаг: соединить факты с формулами и сделать логический вывод. Яккерт сделал вывод: временем ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖНО управлять.
Слово «действительно» вызвало сопротивление. Оно возмутило физиков и философов, профессоров, доцентов и ассистентов, столько лет учивших, что время от человека не зависит.
Особенно раздражало коллег то, что Яккерт вступал с ними в дискуссии перед непосвященными, не только опровергал, но и высмеивал, уличал в невежестве и недомыслии. Яккерт был резок, его называли скандалистом; упрекали в неуживчивости и выживали; травили и объявляли интриганом. Его обвиняли в пустословии и настойчиво требовали убедительных опытов, хотя у его противников не было опытов, доказывающих, что время нельзя изменить. Но так уж принято в науке: старое принимается на веру по традиции, новое полагается доказывать.
Яккерт кончил грустно: самоубийство. Покончил с собой, когда на него ополчились молодые ученые. Человек, не признанный современниками, естественно, надеется на будущее поколение. Но молодежь отнюдь не всегда прогрессивна (ведь и Гитлер, и Мао опирались на молодежь). В ту пору было модно обвинять науку во всех бедах, порочить разум, логику, причинность, закономерность, превозносить интуицию, подсознательное, случайное, неопределенное. Яккерт строил логические конструкции, его объявили старомодным. «Старомодный борец за ненужное!»
И он ушел из жизни, когда доказательный опыт уже начали делать… супруги Иовановичи: Никола и Лакшми — югослав и индуска.
Этап 5. Доказательный опыт.
В сущности, опыт предложил еще Яккерт. Но он был физик, теоретик, философ, полемист А для эксперимента требовался талантливый экспериментатор.
В XX веке, ослепленном индустриальной мощью, казалось… и писалось повсеместно, что и наука стала индустрией. Только сверхмощные телескопы, ЭВМ, синхрофазотроны размером с Колизей способны делать открытия.
На самом деле, воюют не только числом, но и уменьем. Гигантские синхрофазотроны — величественный памятник человеческого неумения. Можно построить радиотелескоп площадью с Ладожское озеро, это будет впечатлять и потрясать. Но лучше поставить два скромных телескопа — один под Москвой, другой в Австралии — и сравнивать их показания. Шуму меньше, толку больше.
Никола был человек с талантливыми пальцами, мастер тонкого приборостроения. А Лакшми — его жена — восточная женщина с талантом долготерпения. Шесть лет… целых шесть лет они потратили на опыт. А в опыте том в щель между положительными зарядами пропускался поток мезонов. Заряды должны быть максимальными, щель минимальной — в миллионную долю миллиметра. Для заряда брался эка-экарадий, элемент № 184, теоретически предсказанный, слишком громоздкий, чтобы удержать оболочку. И добывался он из морской воды, где есть все элементы. Надо было ее выпаривать, из солей выделять соли бария, от бария отделять радий, от радия — экарадий, от него — эка-эка… И потом наносить крупинки на идеально прямые проволочки и помещать их в идеально пустой вакуум…
Четыре года Иовановичи выпаривали, отделяли, наносили, откачивали, выпрямляли и мастерили хитроумные приборы, манипулирующие под микроскопом.
И однажды, на четвертом году, увидели в своем подвале вишнево-красное свечение. Доказательство пока еще косвенное. Мезоны теряли в щели часть массы, и она превращалась в красные лучи.
А еще через два года Иовановичи выложили на стол ленты фотозаписи. Точки можно было пересчитать. Действительно, распад мезонов ускорялся, ускорялось время.
И мир был убежден. В XX веке наука не верила рассуждениям, ибо толковать факты можно так и этак. Всерьез принимались расчеты, но и цифры оспаривались, ведь для расчетов можно выбрать разные формулы. Но опыт убеждал, опыт Иовановичей мог проверить каждый…
Этап 6. Россыпь.
И тогда открытия посыпались как из рога изобилия. После Колумба все кинулись в Америку, после Рентгена все занялись просвечиванием. После Иовановичей все, кто мог достать хоть крупицу бенгалия (так был назван эка-экарадий в честь родины Лакшми), начали опыты с ускорением времени. А больше всех достал канадский физик Грейвуд, «лорд от сохи».
Он достал больше всех, потому что в Канаде оказалось больше всего бенгалия, из канадской урановой руды он добывался легче, чем из морской воды. Кроме того, Грейвуд ставил больше опытов, в десять раз больше всех, это он тоже умел.
Человек чудовищной работоспособности и чудовищного напора. Носорогом называли его за глаза. Он был фанатиком науки. Фанатики чаще вырастают из тех, кто в науку пробился с трудом, не на серебряном подносе получил диплом. Четвертый сын канадского лесоруба, не имевшего возможности платить за обучение сына, Грейвуд добивался из года в год стипендии, побеждал на конкурсах, потому что работал втрое больше и проходил все предметы за два года вперед. И, захватив запасы заманчивого бенгалия (тоже потребовался напор носорога), ставил опыты быстрее всех и щедрее всех. Выжал из бенгалия и из рамки Иовановичей все, что можно было выжать. И немало. Ведь рамка Иовановичей не только ускоряла время, рамка прежде всего была универсальным уменьшителем массы, а с уменьшением массы связаны химические реакции, и ядерные реакции, и управление силой тяжести. А кроме того, отщепленная масса превращается в лучи: радио, инфракрасные, световые, ультрафиолетовые, рентгеновы, гамма — в любые волны по заказу. У Грейвуда работала целая фабрика опытов, круглосуточно, в три смены. Он один снабжал опытными данными несколько научных городков.
Он был неутомим и безжалостен ко всем сотрудникам и к себе. С даровитыми был нежен, а неумелых и недаровитых изгонял, не считаясь ни с чем. И себя безжалостно уволил в отставку, как только старость вывела его из строя.
Страничка на этакий характер! А прообразу его — смотрю на книжную полку — посвящено пятьсот с лишним. Ну что ж, только прочтя те пятьсот, можно было написать эту одну.
Этап 7. Теория. Школа.
Грейвуд — неукротимый трудяга — поставил материал. Теперь надо было его осмыслить. Требовался талантливый осмыслитель. Эту роль сыграет в моей книге Кнудсен — глава норвежской школы темпорологов.
Разрабатывала месторождение открытий богатая индустриальная страна (Америка на канадской руде), а обдумывать могла и маленькая. Школа создалась в Норвегии.
Кнудсен был тугодумом, как ни странно. Для теории важна не быстрота, а результат. Тугодум Кнудсен обожал споры, хотя ему трудно было спорить, лучшие доводы приходили ему в голову на следующий день. И обладал удивительным для главы школы вниманием к новым мыслям. «Мы ждем, что вы нам расскажете интересного», — так он встречал талантливых юнцов, математических вундеркиндов. И с ними, с мальчишками, строил он теорию темпорологии, выводил формулы линейного времени, квадратного, объемного, многомерного, полосатого, пятнистого, крапчатого… Насчет крапчатого времени — не просто шутка. По-видимому, мы с вами живем в крапчатом времени, где каждый атом — крапинка, а междуатомное пространство — криволинейный фон.
— Мы построили теорию, потому что себя считали самыми глупыми, — говорил Кнудсен.
И теория была построена его школой. Начался следующий…
Этап 8. Окончательная отделка.
Два героя будут в этом этапе: мастер отделки и мастер окончания, два брата Кастелья, математики, аргентинцы родом — Мауричо и Яго.
Светочем был младший — Мауричо, математический гений с младенческих лет. Биографы восхищались им и воспевали его, ставили в пример молодежи, и зря. Гением можно восхищаться, подражать ему нельзя.
У Мауричо были гениальные гены; формулы для него были проще, чем слова; он решал уравнения, как поэты создают стихи. Поэт математики! И решал то, что всех других ставило в тупик. В том было его счастье и несчастье. Он способен был продолжать, когда другие останавливались в бессилии… и не начал ничего фундаментального. Честно признавался: «Не люблю блуждать в потемках», то есть начинать на пустом месте. Искал и предпочитал проблемы, которые могли быстро решиться. При жизни считался виртуозом науки; а после смерти — Мауричо рано погиб в автомобильной катастрофе — биографы с трудом объясняли, что именно он сделал: некие сложные уточнения алгоритма условий дельта-перехода при взаимодействии трех и более сингулярных темпосистем.
Яго — старший — был мастером упорядоченности и усидчивости. Пока был жив Мауричо, Яго работал с младшим братом. Готовил материал для озарений, излагал озарения последовательно. Вместе они написали шеститомную «Темпорологию», где 1 % вдохновения принадлежал Мауричо, а 99 % пота — Яго. Оставшись научным вдовцом в 42 года, Яго дописал шеститомник, исключив из него главы, требующие новых озарений. Дописал. И что делать дальше? По целине идти трудно, но там каждый шаг — откровение. Во времена Грейвуда каждый опыт приносил открытие. Яго работал на вспаханной почве. Сам он открытий делать не мог, другие делали редко, и Яго начал доказывать с полнейшей искренностью, что после его брата вообще ничего не сделаешь. Последние десятилетия жизни провел, пересказывая шеститомник, а также развенчивая и разоблачая самонадеянных юнцов, воображающих, что они способны что-то добавить к трудам Мауричо и его — Яго — разъяснениям. А между тем уже начинался новый этап, даже не этап, а новая ступень развития, новый виток научной спирали. Назрел переход от теории к практике, от лаборатории — к индустрии.
Этап 9. Индустрия.
Конечно, он совершится не в Норвегии, не в Канаде, не в Швейцарии, а в могучей индустриальной стране — я думаю, в Советском Союзе.
И героем его будет талантливый ученый-организатор, сочетающий глубину и размах, энциклопедичность и быстроту ума, энергию командира, красноречие адвоката и прекрасное знание людей, умение каждому найти место и от каждого получить максимум. И сверх того: умение думать о тысяче дел одновременно.
Я назвал этого героя Дмитрием Гурьяновым. Не обращайте внимание, что его фамилия напоминает мою, это чистейшая случайность. Между нами никакого сходства. Я по склонностям своим — нечто среднее между Аникеевым и Жеромом. На таких, как Гурьянов, взираю с почтительным изумлением.
У Гурьянова был свой прообраз, как у большинства героев этой эпопеи. Человека, лично знавшего тот прообраз, я спросил: «Что было главным в Дмитрии Алексеевиче?»
И получил ответ:
«Главным было умение видеть главное. А иначе утонешь в тысяче деталей».
Вот и мне не утопить бы идею в подробностях.
Десятый этап — самый живописный, самый фантастический: первое погружение в быстротекущее время, нечто вроде полета в космос, но навыворот. Там кандидатов отбирали из летчиков-испытателей, здесь — из шахтеров, горновых, спелеологов, водолазов, из людей, привыкших к тесноте, жаре, духоте, давлению, давлению, давлению… В космосе простор и невесомость, легкость невероятная, здесь неподвижное стояние на стенде на глазах у наблюдателей. И ты для них становишься все меньше, меньше, все меньше и как бы суетливее, а они для тебя все громаднее и медлительнее, этакие увальни неуклюжие, засыпают на ходу.
Но жизнь в ускоренном времени настолько своеобразна, тут уж одной биографией не отделаешься. Я посвятил ей целый роман — «Темпоград». Он уже вышел отдельной книгой. Можно прочесть.
5. СТИЛЬ
Тема найдена, этапы перечислены, герои намечены. Как это написать все? В каком стиле подать историю фантастического открытия?
Общеизвестно, никто не оспаривает, что фантастика вышла из сказки. Вышла и вынесла с собой сказочные темы и сказочных героев. Но стиль изменила, переняла последние литературные моды.
В самом деле, не могу же я начать такими словами:
«В некотором царстве, в некотором государстве жил да был великий маг и волшебник, который мог ускорять время, взмахивая волшебной палочкой…»
— Вот ерунда! — скажет читатель. — Бабушкины сказки! — И, хмыкнув, отложит книгу.
А если так:
«В конце октября 1829 года один молодой человек вошел в Пале-Рояль, как раз когда открываются игорные дома…» (цитируется «Шагреневая кожа»)
Это куда убедительнее! Вошел в игорный дом и проигрался — бывает такое с молодыми людьми. Забрел от нечего делать в антикварную лавку — есть такие поблизости. Наткнулся на волшебную шагреневую кожу. Очень может быть — мало ли там в лавках замечательного старья.
В наше время дьявол должен быть одет по моде: пиджак, галстук, все, как полагается. Рогатое, хвостатое, мохнатое чудище без штанов никого соблазнить не сумеет. Только испугает и тут же попадет в милицию за появление на улице в непристойном виде. Моды меняются, потом стареют. Костюм привычный превращается в маскарадный.
Боюсь, что литературный стиль тоже становится откровенным маскарадом со временем.
«Около полудня… вдруг налетел смерч и, закружив наш корабль, поднял его на высоту около трех тысяч стадий… Семь дней и столько же ночей мы плыли по воздуху, на восьмой же увидели в воздухе какую-то огромную землю, которая была похожа на сияющий шарообразный остров… А страна эта не что иное, как святящая вам, живущим внизу, Луна…»
Это Лукиан Самосатский, античный сатирик. Дан пример стиля фантастики второго века нашей эры. Но в двадцатом веке так не напишешь. Пародия!
У нас принято писать так:
«В тусклом свете, отражавшемся от потолка, шкалы приборов казались галереей портретов. Круглые были лукавы, поперечно-овальные расплывались в наглом самодовольстве, квадратные застыли в тупой уверенности… В центре выгнутого пульта выделялся широкий и багряный циферблат. Перед ним в неудобной позе склонилась девушка…» и т д.
Но все понимают же, что это не описание подлинного путешествия. Это фантастический роман («Туманность Андромеды» — в данном случае), а по форме он подражает реалистическому роману.
Но можно подражать и не роману, рядиться в одежды отчета о путешествии:
«…4 мая 1699 года мы снялись с якоря в Бристоле, и наше путешествие сначала было очень удачным… Не стоит утомлять внимание читателя подробным описанием приключений в этих морях; достаточно сказать, что при переходе в Ост-Индию мы были отнесены страшной бурей к северо-западу от Ван-Дименовой земли. Согласно наблюдениям мы находились на 30°2 южной широты…»
Так писались мемуары о путешествиях в XVIII веке, так написаны, в подражание мемуарам, «Путешествия Гулливера».
Не стоит ли и мне писать, подражая научному отчету об открытии, мемуарам специалистов хотя бы.
Беру с полки книгу об истории создания атомной бомбы. Л.Гровс, «Теперь об этом можно рассказать».
«…в июне 1940 года был образован Национальный комитет по оборонным исследованиям (НДРК) под председательством доктора Ванновара Буша. Комитет по урану вошел в него в качестве одного из подкомитетов и сыграл важную роль в развитии атомных исследований. Были заключены договоры с университетами, частными и общественными организациями. К ноябрю 1941 года было заключено 16 договоров на общую сумму 300 тысяч долларов».
Ну что ж, попробуем в таком стиле.
В июне 1999 года была образована Национальная ассоциация по разработке проблем управления временем (НАРПУВ) под руководством выдающегося ученого, профессора Колумбийского университета в период с 1978 по 1983 год, в дальнейшем перешедшего…
И так весь роман? Сдаюсь. Не могу!
Оставим в покое ученых. Разучились они писать в двадцатом веке. Не попробовать ли литературные биографии? Например, серию «ЖЗЛ»:
«Предки его были англичанами и попали в Новый Свет не по большой охоте, а гонимые бурей английской революции. В середине XVII столетия в графстве Эссекс жил в скромном достатке английский священник, преподобный отец Лоуренс Вашингтон. Он славил бога своего и любил крепкий эль. Круглоголовые пуритане, приступившие под водительством О.Кромвеля к развернутому строительству града господнего на земле… в 1643 году во имя чистоты идеалов изгнали распутника из прихода…»
Так, пожалуй, пойдет. Только предки меня смущают. Неужели каждую псевдобиографию начинать еще и с псевдогенеалогии? Десять биографий — десять томов — целая библиотека!
Видимо, десять биографий надо свести в одну повесть.
Каждая глава — биография. И главы эти будут похожи не на том «ЖЗЛ», а на юбилейную статью в популярном журнале.
Скажем, про Аникеева я начну так:
«Этот человек жил в двух эпохах сразу: мысленно — в третьем тысячелетии, а физически — в начале XX века, в царской России, в небольшом городке на Волге…
Напрягите свое воображение, представьте себе жилище того времени, так называемую «избу». Единственная комната — «горница» — чуть ли не вся занята громоздкой, выбеленной мелом печью. Подслеповатое оконце, а за ним простор. Простор! Величественная река, на том берегу заливные луга — луга до горизонта и за горизонт. Толкутся лодки, лодчонки, парусники, баржи разгружаются, баржи нагружаются. На берегу связки соленых вонючих кож, горы полосатых арбузов, бунты бревен. Грузчики вереницей бегут по сходням, неся мешки на склоненном затылке. У кабака дерутся пьяные; упившиеся дремлют в канаве. И надо всем плавает колокольный звон: басы, густые как мед, а мелкие колокольцы, словно мухи над медом…
Дремучая жизнь. Дремотное время. И в такой обстановке зарождалась темпорология — одно из высших достижений XXI века…»
Ну и так далее, в подобном духе. Думаю, что уложу каждую биографию в десять страничек. А детали читатели дорисуют сами. Довообразят.
СОРОК ПОРЦИЙ ЖИЗНИ
1. ТЕМА
Мой гость — обыкновенный гость, не космический, не фантастический — проснулся в десятом часу, сладостно зевнул, потянулся, расправляя лопатки, и сказал сокрушенно:
— Треть жизни тратим на сон. Досадно. Сколько успели бы, если бы не спали.
Как автор доброго десятка сочинений о сроках жизни, о бессмертии даже, я счел нужным возразить:
— Сон не укорачивает жизнь, а продлевает. Сон — это период психологической уборки, наведения порядка в мозгу. Не будь сна, мы изнашивались бы гораздо быстрее, старели бы не к шестидесяти годам, а к сорока, даже раньше.
И тут же в голове возникло:
— А если бы мы спали не восемь часов, а восемь лет, еще лучше — девяносто восемь. Допустим такой план жизни: девяносто восемь спим, два года бодрствуем. Делим нормальный 80-летний срок на сорок порций. В общей сложности — четыре тысячелетия. Каково?
Тема!!!
Лично меня как литератора такой прерывистый вариант жизни привлекает с точки зрения сюжетной. Красочная получается биография: броски из эпохи в эпоху, смена декораций в каждой главе, в каждой острое столкновение прошлого с настоящим. Пестро. И волнительно.
Привлекает этот вариант меня и своей близостью. Он почти осуществим. Это не послезавтрашний день науки, даже и не завтрашний, чуть ли не сегодняшний. Гипотермия уже применяется в клиниках, надо только растянуть ее на столетие. Еще малость, небольшое усилие, и станет явью многолетний сон. Сон станет явью — традиционное обещание.
Итак, для литературы привлекательно, но тут же встает следующий вопрос: «А практический смысл есть ли?» Жить люди будут столько же, только жизнь свою разрежут на ломтики. Да и нужно ли это обществу? За столетие наука и техника уйдут далеко вперед, гости из прошлого будут совершенно беспомощны, работать практически не смогут, может быть, и язык им придется изучать заново. Хотя все мы, рассуждая о будущем, приговариваем: «Одним глазком взглянуть бы», при этом подразумевается: «взглянуть бы и домой вернуться». Здесь возврат исключен, предполагается бесконечное странствие, путешествие сквозь века, и похоже, что это путешествие будет утомительным, трудным и даже безрадостным. Всякий раз, проснувшись в следующем веке, наш странник окажется в чуждом, непонятном, возможно, и в неприятном ему мире. Иные нравы, иные одежды, все непривычно, кое-что неприлично. И сам ты неловкий, неприятный, смешной. Год нужен, чтобы разобраться, как-то приспособиться. И зарабатывать чем? Показывать себя, служить экспонатом в историческом музее? Так-таки и сидеть в зале под стеклянным колпаком, чтобы на тебя тыкали указкой: «Перед вами, дети, человек прошлого века. Он странно одет, странно выражается, он не умеет, дети, вести себя, он никогда не видел того и сего…» И в довершение трудностей смертельный риск: засыпаешь на сто лет (на 98, но не будем придираться всякий раз: «сто лет» произносится проще), мало ли что может случиться за это время. Кто знает, удастся ли проснуться благополучно? Думаю, что, испытав разок такое перемещение, наш темпонавт, путешественник во времени, останется в ближайшем же веке навеки. Больше не станет рисковать. Очень уж серьезная причина нужна, чтобы решиться на такое беспокойное странствие.
Либо жадное ненасытное любопытство: «Хочу все повидать»;
либо глубокое разочарование в современности, надежда на лучшее будущее;
либо азартный спор, и такой вариант возможен;
либо самоотверженность ученого, готового на все ради познания.
И в самом деле, почему это бессмертие (очень неточный термин, правильнее удлиненная, удвоенная жизнь, гигажизнь, сверхдолголетие), итак, почему же это сверхдолголетие рассматривать только с точки удовольствия странника. А может быть, оно полезно было бы человечеству, может быть, следовало бы послать делегата потомкам в их интересах, чтобы он объяснил бы им… Что объяснил бы?
Что спрашивают потомки у визитеров из прошлого? Что говорят эти визитеры? По литературе можно проверить. Достаточно было проснувшихся, начиная с Рипа ван-Винкля. Обычно всплескивают руками, удивляются и удивляются:
Ах, как все изменилось!
А другие говорят, что ничего не изменилось, все возвращается на круги своя, нет ничего нового под Луной. Вот у Эдгара По оживленная мумия ничего примечательного не видит в Америке XIX века. Все уже было, в Египте… кроме патентованного лекарства. Так что же, все меняется или не меняется? А если меняется, к лучшему или к худшему?
Пожалуй, именно такой вопрос задаст миру путешественник по векам. Для решения его стоит взвалить себе на плечи тяжкий крест порционной жизни.
Итак, тема есть, проблема есть. Приступаем к разработке.
2. УСЛОВИЯ ИГРЫ
Чтобы обзор веков получился мало-мальски объективным, нужно ввести какие-то правила. Если мой герой вздумает посещать мир «в его минуты роковые», метаться из страны в страну, получатся одни только роковые минуты, переломы и повороты, провалятся долгие десятилетия и века спокойного развития. Если вздумает посещать только великих людей, получится вариант «Жизни замечательных людей», незамечательные толпы останутся в тени. Холодное беспристрастие требует, чтобы даты были случайными. Допустим, в последний раз герой проснулся сейчас… впрочем, надо еще уточнить: «сейчас», когда книга вышла в свет, или «сейчас», когда вы ее читаете? Условимся, что он проснется одновременно с тем моим гостем. Когда это было? В 1980 году, кажется. В 1980-м проснется, заснет через два года — в 1982-м. И так в каждом столетии.
Не спит в 1980—1982-м с 1 июля до 1 июля,
в 1780—1782-м с 1 июля до 1 июля,
в 1680—1682-м… 1580—1582-м… и т д.
Что же он мог увидеть в эти промежутки?
Сам с собой затеваю игру: испытываю, что способен вспомнить о выбранных годах, не заглядывая в справочники.
1881. Народовольцы убили Александра II. Надеялись вызвать народный бунт, вызвали реакцию. Уходят великие писатели середины века. 1881 — год смерти Достоевского, в 1883-м умер Тургенев.
XVIII век. В России эпоха Екатерины И. Борьба с Турцией. 1783 — присоединение Крыма. 1783 — первый полет на воздушном шаре во Франции. 1783 — признание независимости Соединенных Штатов. Россия помогала им вооруженной блокадой. Назревает Великая французская революция. Идеологическая подготовка ее состоялась. Руссо и Вольтер уже умерли в 1778-м.
XVII век. 1682 — год формальной коронации десятилетнего Петра. Хованщина. Во Франции пышный Людовик XIV — «государство — это я». В Англии времена Ньютона. «Математические начала» вышли в 1687 году.
1580–1582. Последние годы жизни Ивана Грозного. Осада Пскова, завершается неудачная Ливонская война. Кругосветное путешествие пирата Дрейка — второе в истории. Назревает схватка Испании с Англией за господство в Атлантике. 1580 — Испания объединилась с Португалией, она величайшая держава мира. Но впереди крах — гибель ее Великой Армады (1588).
1480 — вот славный год. После «стояния на Угре» сброшено татарское иго.
— 1380 — а это Куликовская битва.
— 1180 — расцвет Владимира на Клязьме. Церковь Покрова на Нерли (1165), заложен Успенский собор (1158), Золотые ворота (1174). А впереди поход князя Игоря из «Слова о полку Игореве» (1185).
980 — на Киевский престол сел князь Владимир Красное Солнышко. Былинные времена. И впереди Крещение Руси (988).
780 — а это былинные времена на другом конце света — в Багдаде при сказочном Гарун аль-Рашиде, герое «Тысячи и одной ночи».
Но «1001 ночь» не самое начало времен. Глубже хотелось бы заглянуть, раньше начать.
280… 180… 80 — это уже история Древнего Рима. О 80-х годах написан роман Фейхтвангера — «Иудейская война». 79 — извержение Везувия, то, что изображено на картине Брюллова, извержение, засыпавшее пеплом целые города — Помпеи и Геркуланум.
Не знаю, удалось ли мне передать чувство, с которым я перебираю эти даты. Любители-то истории меня поймут. Столько интересного, волнующего, красочного. И то, и то, и то можно описать. Ну, вообразите себе человека с толстой пачкой денег в кармане, свободных денег, неожиданных, случайных, выиграл в спортлото. Он еще не потратил их, не распланировал, может купить что угодно. Может зайти в магазин и взять с полки любую вещь… все, что просится в руки. Или, если покупать не любите, представьте себе страстного туриста со справочником маршрутов в руках. Тысяча заманчивых дорог, хорошо бы тысячу отпусков взять, чтобы все перепробовать. Так и у меня получается. Все наугад выбранные годы оказались достаточно красочными. Впрочем, вероятно, и не восьмидесятые не хуже. Итак, я могу повести читателя в Рим, в Багдад, на Куликово поле, в Мадрид и Лондон…
Стоп! Ловлю себя за руку… за пальцы, бегающие по клавишам машинки.
Во имя беспристрастия отказался я от «роковых минут» сего мира, надо отказаться и от метания по самым интересным странам. Иначе я навяжу читателю нарочитый вывод о том, что всегда были успехи, сплошной расцвет… ни застоя, ни увядания. Нет уж, во имя объективности выбрать надо одну страну, по одной проследить, как менялась (или не менялась) в ней жизнь от века к веку.
Какую же страну? Какую выбрать?
Россию хочется, естественно. Но есть литературные возражения. Страна сравнительно молодая, каких-то одиннадцать веков, глубже не заберешься, ничего не известно. К тому же страна с особенной судьбой, она на краю ойкумены, самая северная и самая обширная из цивилизованных. А главное: мне трудно быть беспристрастным, говоря о судьбе Москвы. Я из этой команды родом, я за нее болею, недостатки постараюсь не заметить, оправдать.
Подревнее что-нибудь взять? Например, Месопотамию, древнюю Вавилонию, Багдадский халифат, современный Ирак. Да, древность здесь интересна, почетна, но очень уж невыразительное продолжение, начиная с XIII века.
Индию? Из Индии принесешь вывод, что ничего не меняется.
Северную Америку? И вообще-то куцая история — пять веков.
В конце концов остановился я на Италии. Дважды в истории этот полуостров, похожий на щеголеватый сапог с ботфортами, был на острие прогресса: при древних римлянах и в эпоху Возрождения. Дважды отходил на второй план, начиная с VI века и с XVI. К тому же я побывал в Италии, не слишком долго был — туристская норма — девять суток. Но все же видел собственными глазами, закроешь веки, и встанут перед мысленным взором оглушительно роскошный собор Петра рядом с суровыми монументами Древнего Рима, строгие улицы Флоренции и мост Понто Риальто, обрамленный лавочками, с продавцами сувениров, яростно просаживающих в карты свою жалкую продукцию, разложенную тут же на ковриках. Вижу удивительную Венецию, «удивительную», не нахожу другого прилагательного, город, словно нарочно построенный, чтобы удивить. И Помпеи видел со всеми своими улицами, уцелевшими под толстым ковром пепла, с изразцовыми собаками, выложенными у порога, с порнографическими фресками на стенах, с мраморным чаном бани, где 19 веков тому назад нежились рабовладельцы и рабы. Видел, представляю… не знаю, смогу ли описать.
Но ведь припомнить куда легче, чем вообразить.
Решено. Герой мой отправится в странствие по векам из Италии. Там будет засыпать, там просыпаться.
Но в каком веке будет старт?
Старт подсказывает следующая глава.
3. ФЕИ ИЛИ ПРИШЕЛЬЦЫ
Место действия намечено, проблема названа (меняется мир или не меняется?), даты условлены — 80-е годы, можно шагать из столетия в столетие. Малость осталось: как шагать? Где и как добудет мой герой удивительный дар столетней спячки?
Волшебная сказка решала такие трудности запросто. К везучему счастливчику являлась фея с волшебной палочкой и предлагала загадать три желания (вариант: являлся дьявол с хвостом и рогами и предлагал за три желания продать душу).
— Ну вот, первое желание мое: хочу жить вечно.
Фея отказывает. Бессмертие разрешено только богам.
— Если нельзя жить вечно, хочу жить очень долго — тысячу лет, нет, две, нет, дважды две — четыре тысячи.
Оказывается, и так нельзя. Человеку отпущено сто лет, двадцать герой уже прожил.
— Тогда раздели, фея, мои восемьдесят лет на сорок порций: сто лет буду спать, два — ходить с открытыми глазами.
Взмахнула палочкой, и человек спит уже.
Феи могут все. Палочка у них волшебная, вот и все обоснования. Но еще в прошлом рациональном XIX веке люди перестали верить в фей. В феях разуверились, зато уверовали во всемогущую науку. И фантастика научная одела фею в белый халат, украсила кудри академической шапочкой, поручила этой фее-профессору в тиши таинственной лаборатории, в колбах и пробирках выпаривать чудное снадобье — снотворное для спящих красавиц на сто лет.
Так было на заре научной фантастики. Фея-профессор держалась как герой до середины XX века. Но в наше время, в эпоху индустриализации науки и телевизионной информации всем школьникам и дошкольникам известно, что научные чудеса творят большие батальоны научных работников; сногсшибательные открытия в тиши уединенных кабинетов не появляются. У науки есть планы, задания, очередность ожидаемых чудес обсуждается в газетах. Это некогда в двадцатых годах инженер Лось мог повесить на проспекте Красных Зорь бумажку с приглашением полететь с ним на Марс. Ныне мы знаем: полет на Марс осуществят лет через двадцать и только благодаря совместным усилиям двух великих держав, всей планеты даже. Так что и фея-профессор в наше время выглядит неправдоподобной. В свою очередь, она сошла с арены, уступила место кудесницы внеземным пришельцам. Космос просторен, наверное, всякие там есть цивилизации, в том числе и опередившие нас на тысячелетия. У них небось и волшебные палочки есть давным-давно, а столетнее снотворное у каждого в аптечке. Вынул таблетку — и спи. Пустячок, бирюльки!
Мне, однако, не хочется связываться с пришельцами. Пришельцы — литературный стандарт. Еще не прилетели, но уже надоели. К тому же совершенно непонятно, зачем им наделять моего героя таким странным даром. Другое дело, если бы они сами собрались наблюдать наше развитие. Тогда понятно: сто лет проспали, смотрят, что получилось. Но меня лично этот вариант при всей его оправданности как-то не устраивает. В нем есть неприятный оттенок снисходительного высокомерия. Конечно, пришельцы будут поглядывать на нас свысока, как мы глядели бы на усилия питекантропа. К тому же, зная законы развития, мудрые пришельцы не присматривались бы к деталям. Проснувшись, одним глазом поглядывали: так идет или не так, дошло ли человечество до приемлемого уровня? Не дошло, ну и ладно! И засыпают еще на сто лет. Ни волнений, ни сомнений, сонное ожидание. Нет, мой герой не должен знать будущего. Он к следующему веку обращается с надеждой и вопросами. У меня самого надежды на XXI век, вопросы к будущему. Свои пожелания и догадки не хочу подкреплять авторитетом всезнающих пришельцев.
Решено, гостей из космоса отменили. Пусть героем моим будет человек ищущий, человек вопрошающий — хомо кверилис, хомо квестилис.
Хорошо бы на Земле найти изобретателя векового сна.
И тут вспоминаются индийские йоги. Есть сообщения, что они сами себя умеют усыплять на месяцы и годы. Замедляют дыхание, затем останавливают сердце, снижают температуру тела, этакая самогипотермия. Не знаю, правда ли это, но выглядит правдоподобно. А в фантастике обязательно только правдоподобие, правду же переступать разрешается. Все упражнения йогов начинаются с регулировки дыхания, ведут к замедлению его, к дыханию подстраивается и ритм сердца, снижается кровяное давление (а это даже и я умею, ничего чудесного тут нет). В общем, организм подчиняется воле, воля подает команду: «Спи!» И назначает, когда проснуться.
Индия! — всю жизнь мечтал о ней. Последняя страна чудес на этой трезвой планете. Пусть и то чудо явится из Индии!
4. ЗАВЯЗЫВАЕМ ЗАВЯЗКУ
Разнобой получился, географическое несоответствие. Герой засыпает и просыпается в Италии, а снотворное мастерство должно прибыть из Индии. Для нашего времени не проблема: сел на самолет, прилетел. Но ведь я хотел начать с древних времен, не один век осмотреть. Как же мой итальянец оказался в Индии? Ведь до XV века — до Афанасия Никитина и до Васко да Гамы дороги туда не знали, торговля велась только через посредников.
Кто из итальянцев мог попасть в Индию?
Вот Марко Поло побывал там на обратном пути из Китая. Когда это было? Около 1295 года. Нет, не совпадает с излюбленными восьмидесятыми. И поздновато.
Не хотелось бы начинать историю с XIII века. Как ни странно, дистанция мала для выводов.
Кто же мог попасть в Индию до Марко Поло?
А, вот оно! До Индии довел свои войска Александр Македонский в 327 году до нашей эры. Могли быть в его армии уроженцы Италии? И могли быть, и были, конечно. В Италии полным-полно было греческих колоний: Кумы, Капуя или же Неаполис — современный Неаполь (неа-полис — «новый город» по-гречески). Вся южная часть полуострова называлась тогда Великой Грецией. К победоносному Александру Македонскому направлялись оттуда целые отряды наемников. И мой герой мог быть среди них.
Славно увязывается, логично.
Определился год рождения героя — 347-й до нашей эры, в юные годы отправится в поход, к 20 годам попадет в Индию, заснет в первый раз в 318-м, чтобы проснуться в 220-м. (Надо ли объяснять, что от 20 года до нашей эры до 80-го нашей эры сто лет?) Имя выбирал я долго. Греки любили имена воинственные, победительные: Никодим, Никомед, Никандр, Андроген, Андроник, Александр (Ника — победа, Андрее — муж), часто употребляли и божественные с корнями — Тео, Фео, Дио: Феодор, Феофилакт, Диомед, Дион, Дионисий, Диоген. Но не хотелось увязывать имя героя ни с победами, ни с воинским мужеством, ни с почитанием бога. В конце концов я назвал его Клеонт, что-то напоминающее Клио — музу истории. Нет возражений? Продолжим заполнение анкеты.
Родным городом его будут Сиракузы, что на острове Сицилия. Тогда это был один из крупнейших греческих городов, многолюднее знаменитых Афин, соперник Карфагена в Западном Средиземноморье, претендент на мировое владычество. Сиракузы я выбрал не случайно, на то была своя причина.
Дело в том, что герой мой — человек незначительный, не какой-нибудь владыка, полководец, богач, великий ученый; о великих написано достаточно и без меня. Он шагает из века в век с надеждой, что в будущем будет лучше. Но на его простые плечи ложится тяжкая задача: он должен понять новый век, оценить его надежды… и, хотелось бы, не только быт, но и идеи. А чтобы герой воспринимал идеи, сравнивал их с идеями своего IV века до нашей эры, надо было дать ему подготовку, учебную, сказали бы в наше время. Так вот, Сиракузы для этого самый подходящий город в Великой Греции.
Дело в том, что незадолго до рождения моего Клеонта властителем Сиракуз был Дион, а Дион тот сам был учеником философа Платона, того, от которого мы знаем об Атлантиде, автора рабовладельческой утопии об идеальном государстве философов. Платон и сам пытался построить свое идеальное государство в маленьком городке Фурии в Южной Италии, а Дион — в своих Сиракузах. Чем дело кончилось? Диона свергли и убили. Но, возможно, остались в городе его прежние единомышленники. И вот у одного из них слугой, даже и учеником мог бы быть мой Клеонт.
Помимо Диона, учеником Платона был и Аристотель, философ-энциклопедист, величайший и даже преувеличенный авторитет для всей средневековой науки, арабской и европейской. Аристотель же, в свою очередь, был учителем Александра Македонского и, как полагается учителю, наверное, наивно предполагал, что его царственный питомец, ставши монархом, будет в своих владениях строить государство по Аристотелю, проводить в жизнь наставления философа, умеренно-либеральные взгляды среднего рабовладельца.
Так что вполне возможно, что друг неудачливого Диона мог бы послать нашего героя и к Аристотелю, благословив на поход с Александром, который, победив, устроил бы идеальное государство во всем мире, какое не удалось Диону в маленькой Сицилии.
Вот и протянули мы цепочку от Италии до Индии, протянули с помощью Александра Македонского.
И на этом месте я застрял надолго, на несколько лет.
Смутило меня, что о временах Александра Македонского есть уже недавний роман, недавний и пользующийся успехом: «Таис Афинская» Ивана Антоновича Ефремова.
Правда, я несколько иначе смотрю на ту эпоху и на ее героев.
У Ефремова Аристотель — вздорный важничающий старикан, его легко оставляет в дураках красивая и ловкая гетера. Я же склонен с уважением отнестись к мыслителю и трудяге, который сумел составить полный свод эллинской мудрости. Уж скорее бы я осудил Таис, известную в летописях лишь тем, что на пиру она предложила спалить великолепную персидскую столицу.
Что же касается самого Александра Македонского, я смею думать, что заслуги его сильно преувеличены царедворцами и историками. Безусловно, это был талантливый полководец, храбрый, даже безрассудный, охотно бросался в сечу, самоуверенный, как и полагается монарху и победителю, самовлюбленный, несколько склонный к авантюрам: повел же он армию завоевывать весь мир, не представляя даже, какие страны лежат на пути. Победам же его способствовали и мастерство полководцев, набравших опыт в войнах его отца, завоевавшего почти всю Грецию, и боевой дух воинов, которым очень хотелось сокрушить ненавистную персидскую державу, извечного врага, уже два века нависавшего над маленькой свободолюбивой Элладой. Способствовало, извините за трезвое напоминание, и лучшее вооружение. Персия жила еще в бронзовом веке, Эллада давно перешла в железный. И у греков была фаланга — высшее достижение военной тактики тех времен — живая крепость, прямоугольный строй воинов, вооруженных пятиметровыми копьями, каждое из них держали три человека. Этакий железный еж, щетинившийся в любую сторону. Фаланги были неуязвимы для вражеской конницы, а своей позволяли маневрировать, вырываясь справа и слева или прячась в тылу. И фаланги прошли всю Персию насквозь, как горячий нож сквозь кусок масла, от Эгейского моря и до границ Индии, пересекли нынешние Турцию, Ирак, Иран, Среднюю Азию и Афганистан. Вот в такой фаланге, держась за копье, во втором или третьем ряду, дойдет до Индии и наш Клеонт.
Но в Индии, как известно, поход застопорился. Живая крепость наткнулась на живые танки — военные слоны имеются в виду. Фаланга-то могла выстоять, но конница против слонницы была бессильна. И хотя Александр рвался идти вперед, вперед и вперед, до края земель, но солдаты уперлись. Они устали, да и воевать стало труднее, им хотелось вернуться домой с награбленным добром. Можно только догадываться, что именно из-за этого добра они не стали возвращаться по пройденной надежной дороге, а вместо того поплыли на плотах по Инду, а потом пошли по незнакомой пустыне, там большинство и погибло в песках… как наполеоновские грабители в снегах.
Но эту часть пути Клеонту не довелось пройти. Он остался в Индии. Вырванный хоботом яростного слона из фаланги, брошенный в кусты, потерявший сознание, он был подобран и спасен, излечен, выхожен местным жителем — тем самым йогом — владельцем тайны столетнего сна.
Географическая проблема решена — герой доставлен в Индию. Теперь на очереди проблема сюжетная: почему его одарили чудесным снотворным?
5. СПОР
Почему одарили? Два у меня объяснения — на выбор читателя. Первое — романтичное, второе — философское.
Первое: Клеонт спас, или, вероятнее, пощадил дочь мудрого волшебника. Вероятнее — пощадил. Времена были простые, с убийствами не чинились. Юлий Цезарь, которого считали справедливым и доброжелательным, подавив восстание одного из галльских племен, повелел всем пленным отрубить руки. Можете представить себе эти тысячные толпы калек, умирающих от голода, кору грызущих в лесах. И сам Александр Македонский, дабы индийцы и не помышляли о сопротивлении, в нескольких городах перебил население поголовно — и стариков, и женщин с детьми, всех подряд. Очень боюсь, что и Клеонт, как дисциплинированный солдат, занимался подобным истреблением. Ну, может быть, и пожалел однажды красивую девушку, не пронзил мечом, столкнул в погреб, чтобы уцелела.
Возможно, и так. Но правдоподобнее мне кажется философский вариант. Кстати, у йогов вообще не могло быть дочерей и жен, им предписывалось половое воздержание. Но среди основных принципов их была «ахимса», непричинение вреда живому. Наткнувшись на живого еще Клеонта, хотя бы и врага-завоевателя, йог обязан был оказать ему помощь. А излечение затянулось на многие месяцы. И были беседы, и поучения, и споры — в том числе и о главной теме — изменяется ли мир вообще, может ли измениться к лучшему.
Надо полагать, что эллин, хотя бы и тяжко раненный, верил в изменение. Не мог не верить. Ведь он был свидетелем и даже участником исторического переворота. На его глазах гигантская многовековая персидская империя распалась, раскрошилась, как комочек сухой глины. За несколько лет мир, почти весь известный эллинам мир, оказался под властью Александра. Единство обещало совсем другую жизнь — мирную и культурную. Будучи эллином, Клеонт взирал на варваров свысока, презирал их варварские обычаи, кровожадные жертвы, унизительные обряды, странный стыд — боязнь обнаженного тела. Все это уйдет. Мир станет цивилизованным по греческому образцу.
Индиец же считал, что все эти смены владык и царств — внешний налет, краска на листе папируса. Суть же не меняется: что было, то и будет. К такому выводу приводил его тысячелетний опыт родной страны.
Не первым завоевателем был Александр. Очень давно, веков 12, а то и 15 тому назад, с северо-запада, по тем же перевалам, что и войска Александра, в Индию вторглись арии, скотоводы, воинственные всадники, вооруженные даже и колесницами. Степные кочевники эти легко покорили степной Пенджаб — Пятиречье, затем с гораздо большим трудом постепенно проникли и в бассейн Ганга, до которого Александр так и не добрался. О борьбе за Хастинапуру — нынешний Дели, ворота в долину Ганга — и сложен главный индийский эпос — «Махабхарата».
Индию арии покорили, господство свое навязали, навязали и язык, а вот религию свою древнюю не сохранили. У ариев — индоевропейцев — близкой родни иранцев, славян, греков и римлян — и религия была сходная — природу олицетворяющая. И боги были сходные, даже по именам, например, Бхага — бог даров, бог богатства (чувствуете этимологический корень?), или же Дьява — бог неба. От него, противоречивого, светлого, переходящего в мрак, произошел и «дьявол», он же Люцифер, светоносный ангел, сброшенный с неба в подземную тьму, а также французское слово «дьё» — бог, английское «дэй», русское «день». Арийские боги были просты, могучи и беспринципны как природа (и как вожди арийцев). Их можно было подкупить дарами или лестью, у бога огня выпросить огонь, у бога дождя — дождь, у бога ветра — попутный ветер, у бога богатства — богатство.
Но эта религия «равных возможностей» (выпроси и получишь, невзирая на происхождение и положение) не отвечала новому строю, который установили арии в покоренной стране. Строй был неподвижный, жесткий, кастовый, во главе его стояли жрецы, ниже воины, за ними торговцы и ремесленники, прочие еще ниже, вплоть до презренных неприкасаемых. Верховенство жрецов, само уже признак неподвижности, подразумевает стремление охранять устои, будто бы продиктованные богами. И появилось, утвердилось и закрепилось учение о «карме». Что такое карма? Жизненная судьба, пожалуй. Судьба эта представлялась как цепочка переселения душ — за праведную жизнь в тело хорошего человека, за грехи — в низшую касту, в нищего, в зверя, в мошку, в червяка. Счастьем же считалось избавление от этой утомительной кармы с бесконечными пересадками из тела в тело.
Счастье в избавлении от жизни! Сколько же веков угнетения и унижения, сколько неудачных восстаний и кровавых подавлений требовалось, чтобы внушить это безнадежное мировоззрение!
В романе надо будет рассказать еще и о том, что лет за двести до Александра Македонского появилась еще и ересь, демократическая по своему смыслу, ныне это мировая религия — буддизм. По Будде спасение от кармы уже не прерогатива жрецов: каждый сам себе может обеспечить конец превращений и счастливое слияние с божеством. Но все равно, идея о том, что жизнь — несчастье, остается и здесь.
И поэтому йог с легким сердцем передал эллину средство для продления жизни на века. Он уже продлевал раз или два, убедился, что ничто не меняется в мире (а и много ли тогда менялось в Индии за сто-двести лет) и больше не хочет. Пусть гость тянет и тянет свою карму, если ему так нравится.
Клеонт же, как и все эллины, жадно хотел жить. У эллинов даже и загробного рая не было в их религии. Только немногим героям боги даровали бессмертие и удостаивали почетного права пировать на Олимпе.
Прочие же души отправлялись в сырые и темные подземелья Аида, и там тени тосковали и стенали по ту сторону Леты — реки забвения. Нет, эллину умирать не имело никакого смысла.
Завязка завязана. Средство для пунктирной жизни в руках у Клеонта.
6. РАЗБЕГ
Средство есть, герой есть: можно направиться в будущее.
Нет, сначала надо еще вернуться в Италию, мы же Италию выбрали местом действия. К тому же и сам Клеонт, надо полагать, пожелает прежде всего вернуться домой. Едва ли ему захочется рассматривать будущее в чужой стране. Да кто ее знает, может быть, в этой дремотной Индии ничего не изменится за столетие. Эллада же на подъеме. Эллада в кипении.
Итак, Клеонта надо переместить назад в родные Сиракузы.
А перемещались в те времена люди пешком. Три тысячи километров, четыре миллиона шагов по завоеванной, но враждебной земле, из Индии через нынешний Афганистан, тогдашнюю Бактрию, Персию, Вавилонию, Сирию к берегам Средиземного моря, там наниматься на корабль гребцом. Добрых три года пути, три тома приключений: снежные горы, знойные пустыни, караваны и триеры, разбойники, морские и сухопутные, плен, рабство, бегство из рабства, полновесный приключенческий роман «Возвращение на родину».
Но я его писать не буду, ограничусь одной главой. Этак, уклоняясь в сторону, никогда не дойдешь до конца. Признаю, в молодости литературной грешил я ветвистостью. Пишешь, встречаешь что-то интересное, увлекся, глядь: ветка содержательнее и даже длиннее ствола. Естественно: на ветке плоды, на стволе только кора.
Однако с годами становишься целеустремленнее, просто времени нет уже, чтобы отвлекаться. Так что я не буду изобретать лихие приключения, а вот обеспечение обязан предусмотреть. Всякое путешествие начинается со снаряжения. А тут три года пути, в дальнейшем еще прыжки из века в век. Как будет кормиться Клеонт?
Опять-таки тут есть штамп, хочется избежать его. Штамп — это клад Монте-Кристо, вместительный сундук с драгоценностями. Так приятно было бы перечислять ценности, смакуя, какие громадные были в том сундуке изумруды, рубины, сапфиры, алмазы, топазы, какие великолепные ожерелья, кольца, запястья, серьги, диадемы, подвески, пояса, посуда, сбруя, оружие из золота, серебра, нефрита, яшмы, сердолика, слоновой кости. Но не будем потакать жадности, тем более что клад непрактичен. Как тащить все это на себе из Индии в Сицилию, как сохранить от грабителей, где прятать, как переправлять из века в век двадцать четыре раза, где хранить в вековом сне? А вдруг обнаружат, вдруг украдут? Нет, мудрый йог снабдит Клеонта более надежным даром: научит исцелять внушением — снимать боль, лечить нервные болезни, психические иногда, всегда дарить временное исцеление. Сундук с драгоценностями можно потерять, разбазарить, умение остается. И во все времена больные будут платить, кормить, на худой конец, целителя. К тому же внушение, гипноз не раз избавят Клеонта и от врагов.
Это хороший мотив, это я использую.
Человек, не знающий отказа. В караван-сараях его кормят, дают ночлег, в спутники берут охотно, разбойники его щадят, стража пропускает. Тем более — ветеран, соратники помогают по дружбе, а покоренные боятся завоевателя.
В пути, а может, и раньше, еще в фаланге, Клеонт услышит, что Александр давно уже не тот, что был в Македонии. Начал-то он поход как первый среди равных, предводитель свободолюбивых эллинов, людей отважных, стойких и гордых, себя уважающих. Но, разгромив восточных варваров, Александр прельстился их роскошью, завел себе пышные облачения, гарем побольше, чем у разбитого Дария Персидского, объявил себя потомком богов, заставил поклоняться как богу. Роскошь была приятна, поклонение льстило, и псевдо-бог оправдывал себя тем, что он — победитель — должен выглядеть внушительнее побежденного в глазах новых подданных, иначе его уважать не станут. Чванство это задело прежде всего ближайших сподвижников, не первых, но считавших себя равными. Были заговоры, в том числе так называемый «заговор пажей», молодых слуг из числа знатных македонцев. Но Клеонт и его соседи по фаланге этим «изменникам» не сочувствовали. Если кто и обижал солдат, то никак не император, угнетал их «капрал», его палки они боялись. Простые воины были за Александра, они, как и русские крестьяне, вплоть до конца XIX века, верили, что царь-батюшка радеет за них.
Любопытно, что и три века спустя Юлия Цезаря убили знатные, ущемленные сенаторы, считавшие себя равными полководцу. Это они произносили речи о свободе, но свободе для себя, для сенаторов. А воины-то были за Цезаря, и с их помощью в конце концов наследники Цезаря разгромили «свободолюбивых» сенаторов.
Нет ли закономерности?
Так или иначе, простой воин Клеонт верил, что император, несмотря на всю мишуру, полагающуюся ему по чину, наведет порядок и справедливость во всей своей обширной державе. Не будем упрекать в наивности древнего грека. Ведь и наш современник, английский историк Тойнби, считал, что вся мировая история сложилась бы совсем иначе, если бы Александр не умер на 33-м году жизни в 323 году до нашей эры
То ли умер от малярии, то ли был отравлен по наущению Кассандра, сына тогдашнего наместника Македонии. Фрукт был этот Кассандр, не хранить бы его имя в истории. В дальнейшем он убил вдову Александра и его сына-подростка — формально наследника империи, а заодно и мать Александра Олимпию. Впрочем, и та была не ангел. Ранее, когда ее муж — царь Филипп — вознамерился взять другую жену (пятую), она сама организовала его убийство, потому Александр и оказался на престоле таким молодым.
Такая была нравственность в ту эпоху, в счастливом детстве человечества.
О смерти императора Клеонт узнал в дороге. Позже услышал, что империю его начали делить «диадохи» — бывшие полководцы. Македония досталась Антипатру — отцу Кассандра, Египет — Птолемею, Неарху — флот, где он утопил его, неведомо. Никакого намека на мировой порядок. Десяток государств, воюющих, торгующихся, дробящихся, сливающихся. Вселенская свара. Пожалуй, и в самом деле надо переждать сотню лет, пока выделится среди воителей новый Александр и наведет порядок в новой громадной Элладе.
Да и Сиракузы не принесли радости вернувшемуся. Родители умерли, умер и наставник, друг Диона и Аристотеля. И девушка, которая страстно клялась в верности семь лет назад, не проявила терпения. Вышла замуж, родила троих. Клеонта встретила увядающая толстушка на сносях. Лично я к ней не могу предъявить претензий. В ту пору не было ни телеграфа, ни налаженной почты. Клеонт ушел на семь лет, отплыл, словно в воду канул. Многие ли вернулись? Боюсь, что и сам Клеонт не был анахоретом. Как известно по Гомеру, Одиссей не сохранил верность Пенелопе.
В общем, у Клеонта не было причин держаться за IV век до нашей эры. И он решил отправиться в будущее. Может быть, там через сто лет все наладится: жизнь станет лучше, люди лучше…
И заснул. Как условились: в 318 году 1 июля.
Чтобы проснуться в 220-м — 1 июля.
А что такое 220 год до нашей эры?
7. СОВСЕМ ИНОЕ И ТО ЖЕ САМОЕ
Просыпается и смотрит: что изменилось, что не менялось?
Изменения-то заметить несложно. Изменения сразу бросаются в глаза, ослепляют, оглушают, ошеломляют. Возьмем хотя бы последний прыжок — из 1880 года в 1980-й. Ведь города совершенно иначе выглядели сто лет назад: ни асфальта, ни автомашин, экипажи на улицах, лошади цокают копытами. Ни телевизоров, ни телефонов, даже и электрических лампочек не было в квартирах. Свалившись из девятнадцатого в наш грохочущий век, бедный Клеонт опоминаться будет целый месяц, если сразу с ума не сойдет.
Все-таки удивительно выносливые мы люди.
И даже в те давнишние времена, когда Клеонт совершит свой первый столетний бросок, перемены будут потрясающие. Одежда другая, язык не совсем такой же, политическая карта совершенно иная.
Конечно, прежде всего Клеонт заинтересуется: разобрались ли диадохи, кому командовать империей Александра. Нет, не разобрались. На ее обломках добрый десяток монархий выкроился из бывшей Персии: Египет, Селевкия, Понт, Вифиния, Пергам, Каппадокия, Пафлагония, о некоторых из них никто и не слыхал сто лет назад, и в каждой свой царек, старающийся превзойти всех прочих пышностью. Среди всех них Македония — рядовое государство, ничем не выделяющееся. И Греция перестала быть светочем культуры, Афины держатся только на былой славе, средоточие же мысли, пожалуй, в Александрии, Александром основанной новой столице нового Египта
Все иначе.
А Сиракузы? Сиракузы ведут борьбу за владычество в Западном Средиземноморье. Борьбу ведут с Карфагеном и этрусками. И ведут чужими руками, в английском духе (насчет Англии это я забежал вперед). Этрусков разгромили римляне, дикари в недавнем прошлом, но дикари, привлекательные своим мужеством, стойкостью, неприхотливостью и — главное — гражданственностью, — такая противоположность изнеженному, эгоистичному, равнодушному к судьбам империи персидскому Востоку, противоположность и безвольно покорному, подавленному и приниженному индийскому.
Так вот, за сто лет, пока Клеонт спал, «дикари» эти создали могучее государство. И всю Великую Грецию проглотили, и большую часть Сицилии, и уже победили один раз Карфаген, а сейчас вступили в решительную борьбу. Кто кого? Карфаген или Рим? Вышколенная армия или дружный народ? И Сиракузы мечутся в этой борьбе. Стоит вопрос: не чьими руками воевать, а на чью сторону встать?
Пожалуй, Клеонт сочувствовал римлянам. Дикари, но близкие по духу, учились у эллинов, в колониях, обсидевших берега Южной Италии, у тех же Сиракуз. А Карфаген — финикийский город, форпост восточной угрозы, против которой Клеонт столько лет сражался, крепко держась за пятиметровое копье. В 220 году еще нельзя было сказать, кто победит. Но из истории нам известно, а Клеонт узнал об этом при следующем пробуждении, что Сиракузы прогадали. Им показалось, что Карфаген возьмет верх, они выступили против Рима и горько поплатились за свою ошибку. Римляне взяли город, разрушили, вывезли все ценное… От того грабежа приобрели вкус к греческому искусству.
Впрочем, в дальнейшем все города они проглотили, враждебные и союзные, покорные и непокорные. И Карфаген целиком, и Грецию всю, и Македонию всю, и Эпир, и половину Малой Азии.
Но об этом Клеонт узнал уже в 120 году.
Все изменилось за сто лет!
Все? Все ли меняется?
8. ВЕЧНОЕ
В самом деле, все ли меняется? Даже у нас разве ничего не осталось от бестрамвайного, бестелеграфного, бессамолетного XIX века?
Что же осталось? Да так ли трудно найти? Вот беру я с полки книгу прошлого века. Что попалось? Классика, Тургенев, том шестой, «Повести и рассказы»… «Первая любовь».
Первая любовь юноши, вернее, подростка. На даче он жил, на Воробьевых горах, ныне Ленинские. Вчера я туда на метро доехал за десять минут. Прогулки описаны по окрестным полям, ныне это Черемушки; какие там поля? Кварталы и кварталы! Прогулки верхом? Где в Москве увидишь лошадь, на бегах разве? Но не в лошадях суть и не в маршрутах. Рассказана нам история первой чистой любви мальчика, еще не мужчины, и о соперничестве с мужчиной, о светлом порыве против опытности, о соревновании жаждующего и умеющего, обещающего и достигшего.
У Тургенева сын — соперник отца. Но сын-соперник — это крайность, редкий пример (не будем подтверждать Фрейда с его комплексом Эдипа!), но зато как часто младший соперничает со старшим, молодой с пожившим!
Волнует? Значит, осталось это в нашем веке, пришло из предыдущего, прошло сквозь века. Извечный треугольник: Она и два претендента — юный и зрелый, набирающий силы и набравший, сильный.
Извечный треугольник. Вершина его почти неизменна: Она — свежая, только что распустившаяся, готовая к любви, трепетно мечтающая о любви, ждущая любви, жаждущая отдаться, зачать, стать матерью, сделать наиважнейшее в мире дело: подарить человечеству человечка.
В основании треугольника два угла, условно назовем их «левым» и «правым». Левое в нашей стране считается прогрессивным, стало быть, в левый угол поместим влюбленного юношу. Пожалуй, не так уж он изменится от эпохи к эпохе: безумный от любви, пылкий, неопытный, не скажу «чистый», не очень уверен я в безгрешной чистоте чувств половозрелого парня. В правом же углу — сильный мужчина. Вот он, пожалуй, наиболее изменчивая фигура в вечном треугольнике. Ведь «сила» различна в разных веках: мускулы, оружие, власть, земля, деньги, заслуги, слава, положение, должность… Конечно, привлекательный юноша очень верит в себя, клянется любимой, что он добьется успеха, приобретет мускулы, оружие, власть, землю, деньги, заслуги и все прочее. Обещает, в сущности, переместиться в правый угол… где уже обитает достигший успеха.
Так есть ли смысл ждать? Бери готовое!
Кого предпочтет заневестившаяся?
Родители-то ее за правого. У правого достоинства налицо, синица в руках. Надежный муж, жену прокормит, детей обеспечит.
Рассудок за правого. Нередко и сердце за правого. Настоящий мужчина, опора, силу чувствуешь в нем.
Но мечтает Она с самого детства об идеале, сочетающем левый и правый угол: о юном и прекрасном принце в старых сказках, о юном и прекрасном миллионере в голливудских киноподелках.
Литература же всегда… почти всегда за левого — за юного и бедного. Всегда за юного! Написал и сам себе удивляюсь: вот я же давно не юноша, но никогда, ни в каком возрасте не посочувствовал бы я девушке, которая предпочла бы студенту сорокалетнего профессора с залысинами. Даже если это любовь, что-то расчетливое есть в такой любви.
Почему же обещающие нам приятнее исполнивших обещания?
Почему надежда заманчивее надежности?
Жажда перемен? Естественная тяга к лучшему от хорошего? Стремление к движению и обязательно вверх?
Так или иначе мы сопереживаем растущему. Сочувствуем солдату, который собрался стать генералом. И на стадионе болеем за слабых, одолевающих чемпиона.
Хотя, собственно говоря, что замечательного в таком успехе? Вместо одного генерала другой, вместо одного чемпиона другой. Человек перебрался из левого угла в правый по основанию треугольника, все на том же уровне. Личная судьба изменилась, а треугольник тот же. К тому же очень немногие уроженцы левого угла добираются до правого. Большинство застревает, пройдя полпути, четверть пути, один процент, долю процента. Зачем же мы все в литературе ориентируем девушек на напрасные надежды? Не потому ли, что в том левом углу прячутся еще и такие, которые не направо пойдут, а вверх, весь мир переиначивать будут. Не только личная надежда, надежда века в том левом углу.
Но вот беда: они, эти бунтари, — прескверные отцы. Эти беспокойные юнцы склонны жертвовать благополучием, любовью, собой и даже женой во имя каких-то туманных идей. Зато история надежд идет именно через их сердца и головы. Клеонт сам из таких, неуемных, таких он и будет искать во всех эпохах.
И стоит ли любить таких, оплодотворяющих мир, для семьи бесплодных? Ненадежных носителей надежд на далекое будущее?
Так что, дорогие читательницы, если у вас хватило терпения добраться до этой страницы, я вынужден буду разочаровать вас. Не обещаю вам двадцать пять новелл о любовном треугольнике в IV, III, II, I веках до нашей эры, в I, II, III, IV… X… и XXI — нашей. Обещаю роман о надеждах.
9. ПРОЛОГ
А начнется он с испуганного крика девушки:
— Криминале! Преступление!
Вот такой строчкой хочу я начать роман.
В подлинной жизни так кричала некая девушка на Корсо, центральной магистрали Рима, когда проезжая машина опрокинула ее мотороллер. Нет, ничего страшного не произошло. Девушка ушиблась, очень испугалась и, испуганная или возмущенная, кричала: «Криминале!»
Читатель в наше время пошел торопливый. Ему (вам) некогда, ему (вам) не хватит терпения, если я начну последовательно и обстоятельно описывать детство Клеонта, беломраморный город Сиракузы, что на островке у берегов Сицилии, теперь этот остров слился с берегом, изложу подробно учение Платона, которое исповедовал сподвижник Диона, и после рассуждений о точке зрения древних на идеальное государство посажу, наконец, где-нибудь на сотой странице Клеонта на триеру, чтобы плыть в армию Александра через Эфес или Сидон, а еще лучше, через Афины, а потом шагать, и шагать, и шагать через пустыни и горы четыре тысячи километров.
Тем более не хватит у вас терпения, если я начну с обстоятельной и вдумчивой истории надежд и теоретических формул соотношения бесплодного пессимизма и беспочвенного оптимизма, начиная со времен Гильгамеша. Я сам читатель фантастики, я знаю, что вы не выдержите длительного философствования, поэтому я сразу приведу вас в финал романа, в современный Рим на улицу Корсо, и в первой же строчке:
— Криминале, — закричит девушка, — преступление!
— Какое преступление? Кто совершил? Кто жертва? — И вам деваться некуда. Надо же узнать. Попробуйте теперь оторваться.
Итак, и в XX веке будет у меня треугольник, а в вершине его девушка Джина, высокая, статная, черноволосая, волосы с синеватым отливом. Для нас это стандарт итальянской красавицы, хотя далеко не все итальянки такие, в Риме, пожалуй, даже меньшинство. Джина — дочь врача, значит, из благополучной семьи, студентка, учится на историческом, девушка современная, независимая, сильная, самостоятельная. Однако даже и сильной девушке хочется найти могучего мужчину, настоящего героя, поэтому и в истории она ищет героев. Вот Александр Македонский, какой был мужчина! Недаром сама царица амазонок за тридевять земель приехала, чтобы иметь от него ребенка. История умалчивает, родился ли наследник, и мальчик это был или девочка, очередная царица. Джина, не задумываясь, согласилась бы быть на месте той амазонки. Она влюблена в Александра, просто влюблена, превозносит, гневно возмущается, когда кто-нибудь напоминает о его недостатках («Гнусная клевета!»), рассуждает о нем повсюду, в университете, в библиотеках… И однажды в разговор вмешивается странноватый старик, иностранец, судя по акценту. «К» произносит вместо «и». Старик тот оказывается удивительным знатоком античности, рассказывает такие подробности, которые нигде не вычитаешь, и притом с апломбом, будто сам присутствовал.
И, случайно встретив старика на Корсо, Джина останавливает его, чтобы выспросить источники. Ей же в дипломе понадобятся ссылки на использованную литературу.
Тогда-то и происходит «криминале».
В те годы в Италии в моде были мотограбители. Они «работали» парой. Один управлял мотоциклом, а другой, сидящий сзади, на полном ходу срывал сумку у прохожих. Нас — приезжих — даже предупреждали, чтобы не носили сумку на том плече, которое ближе к мостовой.
И вот, когда старик галантно обернулся к Джине, чтобы описать ей во всех подробностях простецкую одежду македонского воина, как раз сумка у него оказалась за спиной, и лихой молодец ухватил ее с ходу. Ремешок был крепче, чем надо, старика поволокло по мостовой.
— Криминале! — закричала Джина.
Ремешок все-таки лопнул, Клеонт с разбитой головой лежал на асфальте.
— Криминале! — кричала Джина.
А тут как раз оказались молодые люди из левого угла треугольника. Они потащили расшибленного старика к папе-врачу.
С того началась дружба… за дружбой последовали рассказы Клеонта о его многоступенчатой жизни.
Теперь о левом угле. Сложноватый он у меня получился. Не один молодой человек, а целых пять. Все они из Сиракуз, все сицилийцы, все бросили свой бедный остров, захолустье современной Италии, чтобы в столице — на чужбине найти свое место в жизни.
Пятеро.
Уго — от его имени ведется рассказ. Студент, увлечен науками, мечтает открыть что-нибудь такое этакое сногсшибательное, чтобы осчастливить разом человечество.
Теодоро — художник, юноша милый, наивный, простодушный и восторженный. Уверен, что мир облагородит красота.
Люченцио — в мечтах он будущий священник. Религиозен без философской глубины. Родители верили, приучили верить. К тому же так приятно всегда быть сытым, при чистом деле, еще добро делать по возможности.
Паоло — человек практичный. Работает в траттории, моет, носит, подает, делает грязную работу, зато сыт ежедневно. Мечтает стать хозяином собственной траттории… пока что при случае подкармливает друзей: даже может поставить «вино бьянка» (белое) или «вино росса» (красное), если есть недопитые бутылки.
И Карло — всех цементирующий, хлопотун, организатор, иногда рабочий, чаще безработный, участник всех организаций и митингов. Верит в организацию. Он-то и уговорил всю компанию перебраться в Рим.
Зачем мне понадобилась эта пятерка, столько народа в левом углу? В романе просто представил бы и догадайтесь зачем. В замысле все приходится оправдать, обосновать.
Ребята эти не просто хотят карьеру сделать, переместиться из левого угла в правый (за исключением Паоло, пожалуй), им этот мир не нравится, они хотят его обновить.
На героическую личность уповает Джина. Явится некто мудрый, могучий, светозарный и всех поведет к счастью.
Люченцио верит в веру.
Теодоро — в облагораживающее искусство.
Уго — в разум, все понимающую науку, все создающую технику.
Карло — в единение.
А Клеонт отвечает им: «Было уже, было, было…»
И рассказывает Джине про Александра и про Августа…
Люченцио — историю христианства.
Теодоро — про времена Возрождения.
Итак далее…
Но хотя я пригласил эту пятерку на подсобную роль: задавать вопросы, получать от Клеонта ответы, молодцы эти уже зажили самостоятельно. Собираются после полуночи в траттории, когда Паоло полагается чистить котлы, кастрюли и сковородки, усаживаются в передней комнате, откуда ведет коридорчик мимо застекленной кухни к столикам (посетителям полагается видеть, как аккуратно для них готовят), жуют, пьют, чувствуют себя хозяевами, горланят, перекрикивая друг друга.
— Всех накормить можно, — твердит Уго, — только подойти научно…
— Наука без души ничто. Душу надо осветить красотой, — уверяет Теодоро. — Когда я гляжу на Мадонну Боттичелли…
— Не хлебом единым, — вставляет Люченцио. — Есть низменное, есть возвышенное.
— А каково без хлеба? — кричит Карло. — Где твой бог? — Карло тычет пальцем в грудь Люченцио. — Пусть накормит одним хлебцем пять миллионов голодных! Пусть накормит, потом потолкуем о душе. А пока что-то без сотни лир порцию не дадут.
— Деньги — все! — убежденно изрекает Паоло.
Карло кидается и на него:
— Ах, деньги — все? Хорошо, я при деньгах сегодня. Сколько я должен тебе за эту собачью отраву?
Паоло невозмутим:
— Отдашь через двадцать лет. И с процентами. У меня свой расчет, ребята. Ты, Люченцио, расплатишься, когда будешь кардиналом, ты, Уго, когда станешь профессором, Теодоро расплатится картинами, а ты, Карло, устроишь революцию, всем раздашь поровну, я тоже получу свою долю. Валяйте, ребята, приступайте. Кому добавить макароны?
— Думаешь, не забудут тебя эти профессора-кардиналы? — спрашивает Карло.
— Хоть один из четверых не забудет. Есть же один честный среди вас. Или ни одного?
И посматривает на Джину при этом. Все они посматривают на Джину. Чье остроумие она оценит?
Однако я боюсь, что эти обитатели левого угла не герои ее романа. Милые мальчики, хорошие товарищи. Нет среди них достойных восхищения.
А кто же в правом углу? Надо и правый угол заполнить.
Сильный мужчина, то есть сильный по европейскому критерию XX века — богатый делец, владелец земель в Сицилии, домов в Риме, виллы в Неаполе с видом на залив, чуть повыше старого замка, похожего на корабль, выброшенный на берег, там, где цена квартиры миллион лир в месяц (не пугайтесь, тысяча лир — это около рубля. Все равно дорого).
Не старик и не мальчик, зрелый мужчина лет под сорок в расцвете лет. Не урод собой, плечистый крепыш, среднего роста с густыми усами, густым голосом, привыкшим отдавать распоряжения, уверенный в себе человек. Я-то таких не люблю, с маслянистым голосом и маслянистой смуглой кожей, но боюсь, что он не противен Джине. С ним спокойно и интересно. И банкеты, и театры, и сплетни новейшие из мира знаменитостей. Этот не поведет тебя в захудалую тратторию, не посадит за шаткий столик у самой кухни. Отвезет в ресторан, домой привезет на собственной машине.
Тут еще напрашивается сюжетный ход. Когда грабители вырвали сумку у Клеонта, они лишили его возможности продолжать путешествие по векам. Вероятно, там было какое-то индийское средство, обеспечивающее засыпание. Как вернуть? И вот, пожалуй, синьор Правый угол, при его сицилийских владениях мог иметь какие-то связи с мафиози. И добыл сумку. Это же подвиг в глазах Джины. Возможно, она даже обещала ему выйти замуж, если такой подвиг совершится.
Как не выйти? Доказал же, что он настоящий мужчина. Все может.
Рассуждая трезво и скептически, я опасаюсь, что Джина выйдет за этого воротилу. Но мне, автору и болельщику юности, ужасно не хочется отдавать эту незаурядную, независимую, красивую и властную девушку (я сам в нее влюблен немножко) маслянистому богачу, еще с мафией связанному. Тоже мне Александр Македонский XX века!
Может быть, лучше сумку со снадобьем отыщет Карло, активный, шустрый парень с тысячью друзей. Не такой он талантливый, как Теодор или Уго, но он свойский парень, компанейский, надежный.
10. ВЫВОДЫ
И тут выясняется, что Клеонт вовсе не склонен переселяться в год 2080-й. Он стар, он разбит, он устал. Все труднее даются ему прыжки из века в век, все труднее приспособиться к новой эпохе. И от XX века голова идет кругом, в XXI вообще ничего не разберешь. На старости лет трудно перестраиваться. Хочется уже угомониться, дожить там, где приткнулся. Если его молодым друзьям хочется в будущее, он охотно отдаст им свое снадобье, обучит, подготовит.
Кто решится?
Кого отправили бы вы?
Мысленно опрашивал я своих героев. Уго — преданный поклонник науки, неужели он не захочет увидеть достижения XXI века? Нет! Оказывается, он сам хочет искать, исследовать. Теодоро? Теодоро влюблен в красоту сегодняшней земной природы, даже опасается, что через сто лет природы будет меньше, искусственности больше. Джина? Да не дурнушка же она, чтобы искать спутника жизни в чужом веке. И никого не привлекает перспектива ходить два года по музеям, чтобы разобраться в чужой жизни, а потом самому стать музейным экспонатом, ценным консультантом для режиссеров исторических фильмов:
«В наше время на Виз Вента пестро одетые девушки стояли вот так. И это означало, что…»
Джина говорит:
— Вас никто не может заменить, Клеонт. Вы очевидец двух тысячелетий. А мы кто? Кое-как будем пересказывать услышанное от вас.
— Через сто лет жизнь наладят, — подбадривает Уго. — Города станут чистыми, технику усмирят. А людей научатся омолаживать, вам вернут силы.
— Обещаю, наладим, — говорит Карло. — Но мы не хотим на готовенькое. Я знаю, нас, сицилийцев, упрекают, что мы бежим с родного острова. Не бежим. Уезжаем потому, что работы нет. Но, поправив дела, возвращаемся, такой мы народ. Конечно, женщины — другое дело. Я не буду презирать тебя, Джина, если ты выйдешь замуж за американского миллионера или даже за своего паразита. Девушка должна заботиться, чтобы дети были сыты. Презирать не буду, но не буду и уважать. А мужчины должны налаживать жизнь у себя дома. Если все сбегут в Америку или в XXI век, кто украсит Сицилию? Мы остаемся все. А ты, Клеонт, с чистой совестью продолжай свой маршрут. Там через сто лет расскажешь о нас правнукам.
И тогда Клеонт скажет:
— Вы меня невнимательно слушали, друзья. Мое путешествие закончено. Я уже сделал выводы. Понял, что йог был не совсем не прав, но понял и в чем он был не прав.
11. ЭПИЛОГ
Выводы Клеонта и будут изложены в эпилоге. Признаюсь, я их уже написал. Но это целая статья. Не в первый раз начинаю работу со статьи. Однако выводам надо предпослать доводы — роман. И тут дело застопорилось. И материалы я уже собирал, и распределял по частям, но так и не решился приступить. Очень уж трудоемко, невероятно масштабно.
Историческая литература у нас необъятна, куда обширнее фантастики. Есть прекрасные книги о Греции и о Риме, об Александре Македонском, об Иудейской войне и ранних христианах, написанные великолепными знатоками эпохи… одной эпохи. Как правило, автор выбирал век, созвучный современности. Так в тридцатых годах у нас охотно писали о строгих государях — Петре I, Иване Грозном, а в семидесятых — о нетерпеливых народовольцах, благородных, но непрактичных декабристах. Аналогию видели.
А о тысячелетиях не писал никто. Материал необъятен, бегло получится, поверхностно. Герои недолговечны, слишком быстро стареют, в каждом столетии надо сменять три поколения. Хроника поколений! Не роман, серия романов.
Но только тысячелетнее повествование позволило бы почувствовать течение истории. Роман об истории задумал я, а не исторический роман, не кадр, вырванный из развития, а повесть о развитии. И в этом единственное преимущество и единственное оправдание темы сорока порций жизни.
Честное слово, если я не успею написать, кто-нибудь должен взяться.
Попробовать, что ли?
ДРЕВО ТЕМ
1. ПОРОДЫ
— Откуда берутся темы для фантастики? — спрашивают читатели почти на каждой встрече.
Лично я знаю пять месторождений, можно назвать их и потоками. Талантливые купаются в них, творят, не думая, откуда приходит вдохновение, для усидчивых же трудяг это залежи, там темы ищут, выкапывают, промывают, обогащают, даже из отходов извлекают… ведь и в отходах остается что-то.
Первое месторождение — старые сказки. Ковер-самолет, скатерть-самобранка, шапка-невидимка, разрыв-трава, говорящее зеркальце, живая вода, мертвая вода, цветок папоротника. Ведь это же все мечты наших предков, обряженные в волшебные одежды. Мечты жили веками, мечты передавались от дедов к внукам, техника же, стараясь воплотить их, одевала старые сказки в металл и стекло. Конечно, на ковре летать неуютно и опасно, ветром продувало бы, могло и сдуть. И на ковер были поставлены удобные кресла с откидными спинками, кресла окружены надежным герметическим фюзеляжем, добавлен мощный мотор, чтобы тянуть сооружение, крылья для равновесия и подъемной силы, рули глубины и поворота, приборная доска, рычаги, шасси, колеса. Но что перечислять? Каждый знает, как выглядит ковер-самолет, одетый по технической моде XX века. От ковра там осталась только дорожка между креслами.
Типичная история супа из топора.
Но если мечта еще не воплощена инженерами, она остается в ведении фантастики. И, описывая ее, литератор занимается мысленным переодеванием сказки в современные одежды. Я сам это делал. В свое время меня взволновала заманчивая сказка о цветке папоротника. Будто бы распускается этот дивный цветок раз в год в летнюю полночь, а кто сорвет его, для того земля становится прозрачной: видны сундуки и горшки с кладами, старинные амфоры и статуи, зарытое, потерянное, затоптанное, богатства, спрятанные людьми, а также природой: золотые россыпи, нефть, уголь, руды цветных металлов, серебро — металл наинужнейший и наидефицитнейший — основа фотографии. Ну вот я и взял цветок за основу, поместил его в отполированный ящик, добавил проникающие лучи, генератор лучей, батареи для питания генератора с трансформатором и усилителем, поставил экран, чтобы рассматривать недра было бы удобнее, ручки настройки глубины, резкости, чувствительности, фокусировки, как в приличном телевизоре, как и полагается по технической моде XX века. (А любопытно, какая будет мода в XXI веке? Может быть, тогда смешными и наивными покажутся наши рычажки, кнопки, клавиши и болты с гайками, все наши аппараты — эрзацы волшебных палочек. Голосом будут подавать команду: «Ярче. Краснее!»)
Цветок же я за ненадобностью выбросил. Оставил только название аппарата ЦП и эмблему над экраном — веточку папоротника.
Месторождение второе — наука: научные книги, научно-популярные, учебники. Такое иной раз встретишь, никакая фантазия не изобретет. Черные дыры, например, страшные невидимые капканы на космических путях. Провалился и канул. Падаешь вечность, остаешься навечно, не вырваться никакими силами. И еще какие-то белые дыры: неизвестно откуда сыплются атомы и льется энергия в наше пространство. Чем не тема? Представим себе: у человека будущего две дырочки в карманах, в правом черная, в левом белая. Все ненужное, неприятное суется в правый и там исчезает. Все нужное извлекается из левого.
Месторождение третье — свои собственные главы, преимущественно последняя — эпилог. Еще Марк Твен заметил, завершая «Приключения Тома Сойера», что, когда пишешь роман о взрослых, точно знаешь, где остановиться — на свадьбе, когда же пишешь о детях, приходится ставить последнюю точку там, где тебе удобнее. История Тома Сойера кончалась американским счастливым концом — герои нашли клад золотых монет — 12 тысяч долларов. Для научной же фантастики типовой конец — исполнение мечты. Мечта воплощена, победа одержана. Но ведь научно-техническая победа — это всегда ступенька к новым победам, высота-плацдарм, высота-трамплин. Зачем же останавливаться на трамплине?
Так и с цветком папоротника. Описал я, как геологи просвечивают недра, ищут драгоценный минерал… воду. Нашли они у меня подземные реки в пустыне. А что бы еще просветить? Не стоит ли осмотреть нутро вулкана, разобраться, когда он намерен начать извержение, людей предупредить заблаговременно. Просветили! Предупредили! Но можно ли смириться с катастрофой, спасаться бегством, а поля, и села, и города отдавать прожорливой лаве? Нужна не только геологическая тревога, но и геологическая оборона. Отрегулируем вулкан, пристроим к нему клапаны, а к клапанам — тепловую электростанцию с паровыми турбинами и завод литья из лавы. Укротили и приручили вулкан. Победа! Но хорошо бы и землетрясения предсказывать, укрощать и приручать. Написал повесть и об усмирении землетрясений. Там у меня искусственные вулканы играют роль клапанов. Земная кора вскрывается как нарыв, снимается подземное напряжение, излишек лавы выливается наружу. Победа! И опять трамплин, новая тема. Ведь из тон лишней лавы можно бы возводить плотины, даже новые острова. Тут уж я не собрался новую повесть писать, ограничился главой в романе.
Месторождение четвертое — чужие эпилоги, чужие позиции. Допустим, прочли вы чью-то восторженную книгу о ковриках-самолетах или лучше о крыльях — чаще фантастика пишет о крыльях. Вот они уже сконструированы — легкие индивидуальные крылья, продаются в спортивных магазинах «Динамо», любого размера, любого фасона, любой расцветки, как зонтики — полосатые, пестрые, узорные для девушек, черные и темно-синие для солидных мужчин. Летают все! Небо в цветках, как при салюте.
А вы морщитесь. Вы возмущены и пишете фантастику-фельетон. Небо засижено — противно смотреть. Пролетуны заглядывают в окна, с утра до вечера спущены занавески. На твоем балконе пристроилась парочка, воркует до часу ночи. Скамейки на бульваре им неудобны, видите ли. С неба сыплются бумажки и гайки, по улицам ходить надо в шлеме. Регуляция воздушного движения — штраф за пролет на неположенной высоте. «Граждане, не бросайте окурки при полетах! Граждане, не разрешайте детям играть в воздухе! Граждане, не летайте над аэростанциями! Граждане, проверяйте крылья, прежде чем бросаться с крыши!» Ревут рупоры в каждую форточку. Ужасно! Невыносимо! Необходимо разоблачить.
И наконец, пятое, самое важное, по мнению некоторых авторов, даже единственное месторождение тем — современность: проблемы, люди, их переживания, отношения. Это неисчерпаемое месторождение надо отметить особо, оно поставляет темы всем жанрам, не одной лишь фантастике.
2. ПОЧВА
Мне доводилось разрабатывать все пять месторождений тем, обо всех будет сказано здесь… но больше всего, пожалуй, о третьем — о месторождении в эпилогах.
И потому волей-неволей мне придется нарушить свое же собственное правило: прежде чем говорить о ненаписанных книгах, рассказывать о написанных. Как же иначе? Ведь ненаписанные рождались в эпилоге, а эпилог непонятен без предыдущих глав.
Итак, главная тема. Сейчас даже трудно припомнить, как она пришла ко мне… как я пришел к ней, точнее. Тема общеизвестная, у всех стоит перед глазами.
Было это четверть века тому назад. Незадолго перед тем я выпустил упоминавшуюся повесть о покорении вулкана. Тема представлялась мне такой живописной: грозный вулкан, гору-чудище люди приручают, взнуздывают, засупонивают и запрягают в электрическую сеть, превращают в рядовую термическую электростанцию. Молодцы же! Повесть прошла легко, ее переиздавали, подхваливали, но никто не захлебывался от восторга. И тогдашний мой соавтор — геолог по профессии — сказал:
— Они же никого не волнуют, ваши вулканы. Пыхтят себе где-то на Камчатке. Там и деревень-то поблизости нет. За всю историю исследований две с половиной жертвы. Да и те — вулканологи — сами в пасть лезли.
Не пугают нашего массового читателя огнедышащие горы-чудища. Далеки, книжны. Может быть, исландцы, итальянцы, индонезийцы читали бы об усмирении вулкана с жадным интересом. Такие у них страны, там вулканы — бедствие, там вулканы волнуют.
А что волнует нас? Что волнует всех людей на свете? Говорят, три вечные темы есть на свете: любовь, война, смерть.
Война! Зарубежная фантастика с удовольствием эксплуатирует, смакует даже эту тему. У нас, в прежние десятилетия во всяком случае, как-то не получалось. Кому вручать сверхоружие? Врагу? Стоит ли пугать его силой? Нашему воину? Но стоит ли умалять его героизм? Сверхоружием легко воевать, снижает оно и риск, и мастерство.
Любовь? Можно и о любви, но мне лично кажется, что фантастика только мешает описанию чувств. Двое любят, ревнуют, ссорятся, мирятся, объясняются, к чему тут припутывать еще планеты и ракеты? Впрочем, иногда и любовь хорошо увязана с космосом. «Аэлита» — прекрасный пример. Он на Земле, она на Марсе, летят слова любви через пространство; десятки миллионов километров — не препятствие.
И третья вечная тема — смерть! Но неприятно писать о смерти. Об исцелении не лучше ли? Еще лучше омоложение, даже полная отмена старости. И сколько же люди будут жить без старости?
3. КОРНИ
Во времена моей литературной молодости считалось, что научная фантастика, поскольку она называется «научной», и обязана быть сугубо научной, то есть безупречно правильной с точки зрения школьного учебника. Поэтому каждую рукопись давали на рецензию доктору или кандидату наук, спрашивали, считает ли он вполне научными замену сердец или дрессировку вулканов. Постепенно я привык к такому порядку, заранее готовился к защите фантазии на самом серьезном уровне, с доказательством своих построений, опровержением формул оппонента. И еще я узнал на опыте, что с вычислениями спорить не надо. Специалисты хорошо знают арифметику, перемножают и делят правильно. Но стоит проверить, уместна ли формула в данном фантастическом примере.
И в специальных, и в популярных книгах читал я, что от природы человеку дано сто пятьдесят лет. Только по неразумности своей: курением, алкоголем, нервотрепкой, невыдержанностью, круглосуточным сидением в затхлых душных комнатах, жизнью в пыльных городах сокращаем мы естественный срок. Надо только взяться за ум, переселиться в тайгу или в горы…
Приятная точка зрения. Утешительная. Обнадеживающая.
Но неуемная фантастика допытывалась: почему же только сто пятьдесят? И дотошный автор взялся за поиски: откуда взялась эта роковая цифра?
Оказалось: получена с помощью домашней кошки. Кошка растет одну шестую часть своей жизни, пять шестых бывает взрослой. Человек растет до 25 лет, помножаем 25 на 6, получаем 150.
Но почему же пропорция у кошки и у человека должна быть одинаковой? У разных животных она различна. У овец — 1:3, у слона — 1:10, у попугаев — 1:100. Не помножить ли нам 25 на 100? Почему подражать кошкам, а не попугаям? Умная птица, говорить выучивается. Может и ругаться неприлично, может и здороваться. Недавно повстречал я попугая, который всем прохожим говорил: «Пр-рывет». Арифметика безупречна, применение формулы не убеждает. Независимо от перемножений, при любых перемножениях все равно непонятно, по какой же причине должны умирать некурящие, непьющие, в горах живущие 150-летние. Просто так? Просто так даже мыльные пузыри не лопаются.
Никак нельзя перешагнуть «естественный предел»?
Я погрузился в специальную литературу. Узнал, что существует двести теорий старения. Двести? Это значит — нет общепризнанной. Двести ученых школ, легко опровергающих друг друга.
Но вот что было общее во всех двухстах теориях. Все они утверждали, что в организме есть слабый пункт: толстые кишки отравляют его, холестерин забивает сосуды, соединительная ткань вытесняет все прочие, нервные клетки разрушаются безвозвратно и т д. Где тонко, там и рвется. В начале века искали в организме слабый орган, в середине века — слабости тканей и клеток, в наше время ищут слабости в молекулах. Глубже проникают и слабости ищут глубже.
И жизнерадостно обещают: «Вот эту слабость устраним, будете жить до ста пятидесяти».
«Но почему же, — спросил я (себя спросил), — природа сама не устранила смертельно опасную слабость? Ведь по Дарвину все слабое вымирает. Существа с кишками-отравителями должны бы исчезнуть с лица земли. Остались бы только крепкие, долгоживущие, срок жизни постепенно возрастал бы от бактерии к человеку.
А он не возрастает. Актинии живут не меньше человека, черепахи гораздо дольше. Высокоразвитые собаки и обезьяны — меньше черепах и актиний. Дубы — уж на что примитивный организм — стоят сотни лет.
И где-то возникла мысль: «А может, природа и не стремилась к долголетию. Если у животных все целесообразно, и срок жизни должен быть целесообразный… для сохранения вида.
Какой же? Во-первых, чтобы вид не исчез, надо успеть произвести на свет достаточно потомков, столько, чтобы по крайней мере два из них выжили и, в свою очередь, успели дать потомство.
Ух, какая жестокая истина выглянула из этого рассуждения! Триста миллионов икринок мечет луна-рыба, в среднем выживают две. Жизнь для этих рыбешек словно главный выигрыш в лотерее. Пресловутая кошка приносит примерно сотню котят. Мир не переполнен кошками, значит, выживают и дают потомство в среднем две из сотни. Женщина может родить около десяти ребятишек; в первобытном мире восемь из них погибали в зубах у хищников.
Итак, нашим предкам надо было произвести десяток детей для поддержания вида. Стало быть, житейский минимум человека был таков: 16–18 лет до зрелости, 20–30 лет, чтобы родить десяток детей и еще лет 15, чтобы вырастить последыша. Итого: 50–65 лет.
А максимум?
А максимум равен минимуму, ибо в интересах вида менять поколения как можно чаще. Ведь в каждом следующем поколении природа начинает заново, соединив полезные гены отца и матери («удвоив генный фонд» — говорят сейчас). При частой смене поколений вид развивается быстрее, приспосабливается лучше.
Но, продолжая рассуждения, все целесообразное должно быть обеспечено биологически. Животному нужно видеть — появляется орган зрения, нужно бегать — формируются ноги. Если нужно своевременно убирать со сцены поколение за поколением, должны быть заложены органы выключения жизни. Нельзя же столь важное дело пускать на самотек.
Что же получается? Старость — это самоубийство организма?
С опаской глядел я на собственное тело. Где там прячется эта зловещая мина, склонная убить меня около 2000 года, может, и раньше?
И как бы ее разминировать?
Разминируешь, тогда живи и живи. Сколько? Вероятно, лет двести, может, и больше. Не до бесконечности. В зависимости от совершенства науки. Жизнь — это беспрерывный саморемонт, но есть в теле и необратимые процессы. Возможно, придется подновлять омоложение через каждые тридцать лет. Будет первая, вторая, третья, четвертая молодость. Повторная, многократная юность! Так хорошо?
4. ДОВЕЛ ДО СВЕДЕНИЯ
Вот такие мысли сложились у меня лет 30 назад, где-то в конце 1958 года. Помню, как рассказывал жене — первой своей многотерпеливой слушательнице. Дату, конечно, не записал, а место запечатлелось: у глухого забора министерства, там, где некогда была алебастровая медаль с надписью: «Кто не работает, тот не ест». Слушательница одобрила тему, ей это показалось важнее и интереснее, чем вулканическая электростанция. Я потратил недельку, изложил. Сюжета еще не было, получилась статья. И я понес ее в «Знание—сила», сказал редактору с нескромной наивностью: «Лев Викторович, предлагаю Вам материал, который будут вспоминать пятьдесят лет».
И Жигарев (с удовольствием выписываю фамилию. Вот был редактор, никаких хлопот не боялся, лишь бы журнал получился интереснее)… итак, он взялся пробивать статью.
Восемь рецензентов было — из самых смелых. Шесть отмолчались, двое дали положительный отзыв: писатель-фантаст Ефремов и ученый-физик Чмутов. И статья вышла… в сентябрьском номере. И я, наивно-нескромный, ждал, что с того сентября начнется борьба за многократную юность, решительная атака на старость, отступление смерти.
Посыпались письма: от больных, от старушек, от беспокойных мам, от учителей и сельских врачей, от чудаков и чудака, коллекционирующего чудаков. (Коллекция чудаков. Тоже тема!) Только специалисты молчали. Не отозвался ни один.
Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе.
Именно в те годы в Киеве организовался специальный институт долголетия. Я послал туда статью. Переписка тянулась около года, ученые сомневались, не подрывает ли авторитет научного учреждения обсуждение статьи дилетанта. Но в конце концов меня пригласили сделать доклад на научном совете.
Можете представить себе, как я готовился, как продумывал варианты дискуссии на пять ходов вперед: «Я скажу, мне возразят, я опровергну, мне на это ответят, и тогда я отвечу…» И как трепетал в душе: а вдруг эти ученые знают что-то такое, таинственное, что в печать не попадает, что упустил я, выученик библиотечных каталогов.
— Ну и зачем вы приехали к нам? — спросил заместитель директора. Кажется, он предполагал, что я собираю справки для диссертации.
Я ответил: «Я привез вам гипотезу, привез идею исследования. У вас лаборатория. Надо ставить опыты. Какие? Давайте обсудим». Он возразил:
— У нас утвержден план. У нас неотложные задачи. К нам стучатся старики со своими старческими болезнями. Им надо помочь в первую очередь.
Я-то полагал, что наилучшей помощью была бы отмена старости, возвращение молодости. Но возможно ли это? Заместитель директора сомневался. Чтобы убедить его, надо было кого-то омолодить, а чтобы омолодить, убедить вести исследования в институте. И круг замкнулся. Институт считал неотложной задачей лечение старческих болезней.
Не в первый раз синицу в руках предпочитают журавлю в небе. Даже те, чья служебная обязанность ловить журавлей.
Вот так познакомился я с оборотной стороной высокой специализации науки. Ведь киевский институт-то создавался ради долголетия человека. Однако термин «долголетие» звучит как-то несерьезно, нескромно, самонадеянно. Предпочли назвать «Институт геронтологии». Но что такое геронтология? Наука о старости. Тем самым открылась возможность неограниченного и неопределенного изучательства всего, что имеет отношение к старости: старческое изменение зубов, кожи, волос, поседение, облысение. И за деталями исчезло главное: причина старости, тем более что прячется она в другом возрасте — еще до наступления старости.
К тому же прибавились условия административные. У института должен быть штат: такие-то лаборатории: физиологи, биологи, иммунологи, биохимики… Во главе лабораторий должен стоять доктор наук, на худой конец — кандидат. И предпочтительно местные жители, чтобы квартиры для них не выпрашивать. Ну и кто у нас в Киеве кандидат без работы? Вот Мария Ивановна защитила только что. А что она защитила? Электрические свойства мышцы? Ну пусть и занимается сравнением электрических свойств мышцы молодой и старой крысы. Имеет отношение к старости? Прекрасно. Вставляем в план.
Пожалуй, за истекшие тридцать лет положение не изменилось. Вот лежит передо мной сугубо научная книга, недавно выпущенная. В ней написано, что у науки есть задачи тактические, стратегические и сверхстратегические. Тактика в проблеме удлинения жизни — борьба с авариями на дорогах и преждевременной старостью, стратегия — борьба с раком, сердечными болезнями, диабетом и прочими, чтобы приблизиться к биологическому долголетию — к 88 годам (150 уже сняты с повестки дня). Сверхстратегия же — радикальное изменение жизни мало обосновано и думать о нем рано, это дело далекого будущего, середины XXI века в лучшем случае.
Но изображение далекого будущего — сфера фантастики. Воображать будущее, думать о будущем, рассуждать о будущем, писать о будущем — моя прямая обязанность.
Приближать изображая!
Так я и поступил. Вставил проблему нестарения в роман-утопию, над которым я работал в те годы.
5. СТВОЛ
Роман был написан и издан. Называется «Мы — из Солнечной системы». Желающие могут найти в библиотеках. А рождался он трудно и долго переделывался, ускользая от первоначального замысла, обрастал наплывами, как старый орех. И иногда наплывы эти получались прочнее ствола, превращались в отдельные повести и рассказы. Так стала отдельной повестью история рождения идеи с естественной системой героев: энтузиаст и скептики. «Селдом судит Селдома» назвал я ее. А можно бы и «Одиссея просителя».
Материал у меня был автобиографический: мои собственные усилия раскачать науку на поиски эликсира бессмертия. Но герою я дал иностранную фамилию. Зачем? В ту пору не полагалось критиковать «наших советских ученых». Впрочем, и сейчас тенденция эта не прошла. Только что в другом издательстве, не в «Молодой гвардии», меня настойчиво убеждали не подрывать авторитет науки в глазах юного читателя.
Как и я, Селдом пришел к выводу, что старость — самоубийство организма. Не спорить же герою с автором. Тоже вообразил он, что все на свете придут в восторг, узнав, что есть возможность жить и жить без старости, двести, а может, и триста, и четыреста. Но в отличие от меня Селдом был молод и не обременен литературной профессией. И он решил от слов перейти к делу — к лабораторным исследованиям.
У нас это проблема организационная — институт надо создавать; на Западе — чисто финансовая: раздобудь деньги и твори что захочется. Селдом не сомневался в успехе. Неужели люди не отдадут половину своего состояния для продления собственной жизни на сотню лет. Надо только мецената найти, влиятельного и богатого. Найти и убедить.
О Одиссея просителя! Ожидание в приемной, грубые швейцары, заносчивые секретарши! «Позвоните завтра, зайдите через недельку, шеф уехал на месяц на курорт». Дежурства у подъезда, заискивающие подарки прислуге… и наконец благодатная минута, когда, держа влиятельную личность за рукав, нужно быстро, деловито, убедительно, с учетом психологии, прочувственно и разумно уговорить человека не умирать, потому что жизнь так прекрасна.
Вы лично — позарез необходимы человечеству, надо же пожалеть ближних, позаботиться о них, продлевая себя.
Вас будут благословлять потомки.
И деньги потекут к вам рекой.
Да, и выгодами соблазнял Селдом. Оказалось, что жить долго согласны все (почти все), но прилагать усилия не склонны. Предпочитают, чтобы вечную юность преподнесли им на блюдечке. Мало того, еще и прикидывают: сколько мне приплатят, если я соглашусь не умирать?
К богачам Селдом, как правило^не мог пробиться. Богачи настропалились охранять свои капиталы от грабителей и просителей. Мало ли прожектеров на свете, каждый норовит спасать человечество за счет моего кармана.
Селдома принял известный писатель. Выслушал, томно прищурившись, покачал головой отрицательно: «Друг мой, это не моя тема. Я пишу о сладости забвения в вечном покое, о пустоте и бессмысленности жизни. Поклонники моего пера не простят мне непоследовательности». Селдом пошел к видному священнослужителю. Тот водил гостя по саду, истекая благодушием, умилялся божественной премудрости, создавшей цветочки для услаждения глаз и пчелок для опыления цветочков. Но ратовать за продление жизни на земле отказался. «Сын мой, — сказал он, — ты ломишься в открытые ворота. Бог дарует блаженное бессмертие тем, кто терпеливо переносит страдания в этой юдоли. И если он решил, что пора призвать тебя, не надо сопротивляться воле божьей».
— А зачем же вы сопротивляетесь воле божьей? — зло сказал Селдом. — Оспу прививали? И нитроглицерин в кармашке.
Конечно же, Селдом ходил и к ученым, к известным биологам, к светилам медицины. Некоторые снисходительно пытались урезонить:
— Как вы позволяете себе спорить? Вы же не специалист. Синичка сегодняшнего престижа.
Селдом не сразу разобрался, что его оппоненты тоже не были специалистами. Точнее, были специалистами, но в другом разделе. Знали почки или селезенку, брюхоногих или крестоцветные, никогда не задумывались о причинах старости. Но признаться не хотели. Не мог признать ученый-биолог, что посторонний может что-то сообщить ему нового о биологии.
Наконец попался журналист, который почуял броскую тему. «Благодетель человечества в трущобах! Умирает с голода, обещает бессмертие!» Журналист все-таки устроил Селдому встречу с очень влиятельным человеком, его не только министры, но и банкиры слушали.
Влиятельный задал только один вопрос:
— Кто работает над этим в Америке, кто — в России?
Если никто не работает, нам и соваться незачем.
Ох, Одиссея просителя!
Селдом кончил грустно. Он предал идею и себя за это приговорил к смерти. Я ничего не предавал и ничего не добился. Но роман написал. И со счастливым концом.
6. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Но скептики правы сегодня, а мечтатели завтра. Сегодня мир, может быть, и не созрел, в будущем созреет. И в романе о будущем я с чистой совестью описал в подробностях, как ученые XXIII века, самоотверженно ставя опыты на себе, разобрались во всех секретах старения, очистили каждый орган, каждую клеточку погибшего при аварии крупного изобретателя Гхора, в конце концов сумели вернуть ему и жизнь, и молодость.
Победа над смертью и старостью. Вообще ликование. Празднество, карнавал, танцы на площадях. Люди строят планы на века, клянутся в любви, поистине вечной, многовековой. Великолепный радостный эпилог, тут и кончать бы книгу. Но в эпилоге фантастики обязательно прячется следующая тема:
«А дальше что? А как быть с…?»
Отнюдь не у всех сегодня радостный день. Согласно статистике в наше время каждую секунду на планете умирает три человека, примерно триста тысяч похорон состоятся ежедневно, миллиона два на этой неделе. И вот в первый же радостный день миллионы родственников бегут, звонят, стучатся в опытную клинику омоложения, умоляя срочно, сейчас же приступить к разминированию умирающего.
Как же быть? Кого спасать в первую очередь? Кого спасать вообще — всех подряд, или только самых нужных, или самых заслуженных?
Фантастика с присущим ей гиперболизмом обостряет современную житейскую ситуацию. Кому давать премию? Кому давать квартиру? Кому давать путевку, кого принимать в институт, кому отказывать? Повсюду кто-то ликует, кто-то обижен, но выжить можно и без путевки в дом отдыха. Здесь, однако, речь идет о путевке на молодость, на жизнь, на существование.
Как же поступят люди будущего?
Возможны два решения: всем или не всем? Возникнет спор. Он описан у меня в романе. Есть сторонники того и другого решения. Изобретатель Гхор — за выбор, историк Ксан — за всеобщее продление жизни. Привожу их доводы.
Гхор предлагает перед операцией очередного омоложения заслушать отчет стареющего. Пусть расскажет публично, как он использовал отведенные природой годы, что сделал полезного. Самые достойные получают следующую молодость — еще три десятка лет премиальных.
Гхор считает, что такой порядок заставит людей жить ответственно, ни одной минуты не теряя. Каждый постоянно будет думать, нельзя ли использовать свободное время на что-нибудь похвальное. Невольно станешь совершенствоваться.
А по мнению Ксана, такой порядок неуместен при коммунизме. Всем все дается по потребности: еда, жилье, одежда, поездка в любую страну, на Луну даже. И если у человека есть потребность жить, надо обеспечить ее любыми средствами. Отказ в продлении жизни равносилен смертной казни. Казнь за лень, бездарность, слабохарактерность, легкомыслие! Не слишком ли жестоко?
Гхор говорит: всеобщее продление жизни будет насаждать всеобщую лень. Каждый будет знать: впереди века, торопиться некуда. Первую молодость можно и на пляже пролежать, вторую посвятить любви, начать учиться в третьей, работать — в пятой. Успеется!
Ксан возражает: подсчет заслуг приведет к падению нравственности. Когда всем все дается по потребности, нет основания для жадности, скопидомства, кумовства. Но тут речь о жизни и смерти, спасать себя надо. И хвастуны полезут на трибуны, нахалы начнут отталкивать скромных, приписывать себе чужие заслуги. Как устоять, если ставка — жизнь?
Опасность повальной лени или опасность повальной лжи?
7. ВЕТВИТСЯ
К сожалению, есть у Гхора очень веский аргумент… и я честно позволил герою высказать его в романе. Сегодня, когда удался первый опыт разминирования, умирают от старости десятки миллионов ежегодно, сто миллионов, скажем для простоты. Значит, срочно-срочно надо подготовить примерно сотню тысяч клиник на десять миллионов коек, миллион врачей, несколько миллионов сестер. Людей надо обучить, клиники выстроить. Волей-неволей требуется подготовительный период… и в течение этого периода придется выбирать.
На Западе принцип отбора очень четкий — арифметический — на основе чековой книжки. Если операция стоит миллион, плати миллион и получай свою молодость. Миллионеры молодеют, люди скромного достатка стареют и умирают прежним порядком. Если операция стоит десять миллионов, мультимиллионеры получают молодость, а прочие, в том числе и «бедные миллионеры» (и такой есть термин), стареют и умирают по старинке.
— По жребию, — предложил мне на читательской встрече шустрый шестиклассник.
Вкусный сюжет, между прочим. Выпущена лотерея в пользу строительства клиник омоложения. Выигрыши от трех до десяти лет жизни, главный — десять тысяч лет. Даже слишком много. Счастливчик раздает или распродает годы в розницу. Глядь, ничего не осталось, разбазарил по мелочам.
Впрочем, все мы растрачиваем жизнь по мелочам, только не века, а годы, дни и часы. Именно об этом и написана «Шагреневая кожа» Бальзака.
Вообще с отбором бездна сюжетов. Одному стареть, другому — жить заново. Братья-близнецы жертвуют жизнь друг другу, умиленная комиссия продлевает обоим. Жена выиграла молодость, муж — нет, или наоборот. Борьба благородства, оба отказываются от дара, чтобы не расстаться. Я умиляюсь, читатели умиляются, читательницы плачут от умиления.
Умилительно. Но справедливо ли?
Вот и Ксан в моем романе, умирая, твердит: «Если всем! Мне, если всем!»
Однако остается главное возражение Гхора: как же действовать в промежуточный период между самым первым и всеобщим омоложением? Никого не лечить, хотя уже можно кого-то спасти?
Хранение тел? Пожалуй, в этом направлении и движется наука. Некоторые дальновидные богачи за океаном уже распоряжаются замораживать свои тела в надежде, что через сотню—другую лет их сумеют разморозить и вылечить. И уже написано много рассказов на эту тему. Был среди них юридический — как распоряжаться имуществом замороженных — живы они или мертвы? Был археологический — там одичавшие потомки грабили замороженные, как мумии в саркофагах.
Однако это все о капиталистах, о тех, кто в будущую жизнь берет с собой и шкатулки с брильянтами. А если жизнь возвращают всем? И бесплатно? Как и полагается в бескорыстном будущем.
Пожалуй, и сейчас можно было бы построить этакое всемирное кладбище-холодильник, скажем — в толще Антарктиды… или же в Гренландии, или даже у нас — в вечной мерзлоте. Я даже прикидывал объем подземных работ. Цифры внушительные, но посильные — заметно меньше, чем в угольной промышленности. И затраты не подавляющие — тысячи рублей, не миллионы.
Почему это не делается, не проектируется, не обсуждается? Да потому, что главное не решено — как потом оживлять?
А хорошо бы. Люди умирают и не навеки прощаются Уславливаются о встрече, строят планы на вторую жизнь.
Написать, что ли?
Можно бы, но как-то и самому не хочется мусолить эту кладбищенскую тему. Искусство церемонно, оно склонно отворачиваться от уродливого. Смерть уродлива же? Безусловно. А вот медицина не имеет права быть брезгливой; врач обязан копаться в крови и гное, чтобы добыть больному здоровье… чтобы жизнь и молодость возвращать тоже.
Такое уж правило на белом свете: чтобы жить в чистоте, нужно грязь выносить своими руками.
8. КРОНА
И сколько же людей окажется на Земле?
— Давка будет, как в автобусе, — сказал мне другой встревоженный шестиклассник.
— Не давка, конечно, но людей будет много, все больше и больше. Как ни странно, однако, отмена старости не создает, только обостряет демографический кризис.
Приведу несколько цифр. Совсем немного. Но читатели фантастики не боятся цифр.
Самая главная из них — чертова дюжина, тринадцать. Чтобы род человеческий не вымер постепенно, на каждые десять смертей должно приходиться тринадцать рождений. Три лишних младенца необходимы, чтобы перекрыть вольный или невольный саботаж нечаянных и убежденных холостяков, больных, бесплодных, рано умерших.
Рождаемость меняется год от года, различна в разных странах, но грубо, по всему земному шару сейчас приходится на 10 смертей около 30 рождений. Тринадцать необходимых и еще семнадцать для чистого прироста. В результате число жителей на планете удваивается примерно за сорок лет. Если же мы с вами уменьшим смертность с десяти до двух—одного, даже до нуля, чистый прирост будет не семнадцать, а двадцать семь и население удвоится за тридцать лет.
Сорок или тридцать лет — не столь уж принципиальная разница. Важно, что удваивается. Растет и растет настораживающая геометрическая прогрессия. Сейчас 5 миллиардов, 6 миллиардов к 2000 году, десятка два миллиардов — к 2100-му, сотни миллиардов в N-ском веке. Куда деваться?
— В космос! — бодро кричат юные слушатели.
— Да, в космос. Не сразу, конечно.
К вашему сведению, на планете сегодня вспахана только одна десятая доля суши. Девять десятых пустуют. Правда, это не лучшие земли, так называемые «неудобные»: пустыни, болота, тропические заросли, тайга, тундра, льды, горные склоны. Но ведь и неудобные земли можно превратить в удобные, хлебородные, вложив в них труд, немало труда, даже очень много труда, и получить отсрочку на целое поколение.
Не забывая экологических сложностей.
Но все равно, где-нибудь в начале или в середине XXI века, задолго до перенаселения и окончательного освоения океана в космос начнут уплывать вредные и энергоемкие производства: химические, энергетические, атомные, металлургические… Однако на заводах нужны люди, их следует обслуживать, за обслугой и рабочими потянутся семьи, а семьям надо создавать человеческие условия. Нельзя детишек держать в скафандрах, нельзя растить в невесомости.
Для космических поселении в нашей Солнечной системе существуют три варианта.
Первый был предложен Циолковским пятьдесят лет тому назад. Константин Эдуардович предлагал заполнить околосолнечное пространство искусственными спутниками Солнца, он называл их «эфирными островами». Дело в том, что планете Земля достается одна двухмиллиардная доля солнечного света. Теоретически Солнце могло бы обогревать два миллиарда таких планет, как наша. Планеты Циолковский не предполагал строить. Его острова — это цилиндры диаметром с километр, от силы в несколько километров. Донышком они обращены к Солнцу, солнечные лучи освещают оранжерею, где в невесомости растут невиданные плоды на километровых стеблях. К сожалению, нет лица без изнанки. Во всякой идее своя оборотная сторона. Эфирные острова мелки. На каждом можно поселить тысячу жителей, от силы — десять тысяч. Это большое село, колхоз, маленький городок с одним—двумя заводами. Но заводу нужно сырье, и работает он на потребителя. А сырье и потребители где-то витают в космосе, у каждого своя орбита. То они близко, то далеко. Вообразите себе экономику государства, все жители которого плавают по морям и у каждого судна свои рейсы.
Не знаю, думал или не думал о недостатках эфирных островов американский физик Дайсон, но он предложил выход: скрепить все острова, образовать вокруг Солнца сплошную оболочку. На внутренней ее поверхности могут поселиться люди — в два миллиарда раз больше, чем на Земле. Чтобы все они не падали на Солнце, оболочка вращается, центробежная сила создает вес. Дайсон так верил в неизбежность своих оболочек, что даже предложил астрономам искать их на небе. Свое солнце они заслоняют, но сами должны светиться инфракрасным светом.
К сожалению, в отличие от физика Дайсона я — рядовой инженер-конструктор в прошлом — не верю в эти оболочки. Лопнут они, по-моему. Лопнут, потому что при вращении на полюсах скорость нулевая, там невесомость, а на экваторе — максимальная и максимальный вес. Значит, все воды потекут на экватор и продавят его неизбежно.
Мыльный пузырь — эта дайсонова оболочка.
Мне лично больше по душе третий вариант: реконструкция Солнечной системы.
В космосе нет приготовленной для нас целины. Планеты надо перелицовывать, подгонять до человеческой мерке, перекраивать, перешивать.
На Луне и на Марсе нет воздуха. Придется создавать атмосферу. На Венере атмосферу необходимо менять: кислород извлекать из углекислого газа. Из малых планет надо склеивать большие, большие и громоздкие — раскалывать, осколки перемещать, буксировать к Солнцу поближе, расставлять их по правилам тяготения, так чтобы друг друга не сбивали с орбиты.
Увлекательные технические проблемы, Я с удовольствием разбирался в них в свое время. Есть у меня рассказ «Архитектор неба». Есть и другой — «Первый день творения» — о создании подходящих для человека планет.
А вот о жизни на сонме планет не писал. Сохраняют ли они тесную связь с Землей? Будет ли борьба общечеловеческих и местнопланетных интересов?
В ином ракурсе встает эта проблема в рое искусственных планетоидов по Циолковскому. Там резкое противопоставление жизни летающих деревень и столичной планеты Земля. И столкновение стремлений: патриархальные старожилы — патриоты своего цилиндра — удерживают молодежь дома, а девушки какие-нибудь, три сестры, только одно твердят: «На Землю, на Землю… в Москву!»
Противоположная проблема в системе населенных планет. Целые миры с почти самостоятельной экономикой, расставлены они широко, транспорт труден и невыгоден. Отсюда тенденция к самостоятельности. И вот небольшая планета Л… (Луна, очевидно) решает выйти из сообщества. Что будет дальше? Фантастика дальнозорка; можно дать хронику на сотню лет вперед. Написать, что ли? Или чересчур острая тема?
После Солнечной системы переселение к другим звездам. Снова столкновение интересов — местнозвездных и общечеловеческих.
И так далее до бесконечности.
И спор: вечно ли рваться в бесконечность? Не лучше ли очертить круг, найти оптимальный режим, ограничить рост населения, производства, потребления… и продолжительность жизни тоже. В самом деле: столько хлопот с этой жизнью! Хоронить куда проще.
Между прочим, художественная литература, как правило, возражала против бессмертия. Возражая, доказывала, что бессмертные будут несчастнейшими людьми.
У Свифта в «Путешествиях Гулливера» бессмертные — противные, выжившие из ума маразматики.
Они смертельно устали и жаждут смерти ради покоя, убеждает Э.Сю, используя легенду о Вечном Жиде.
Из-за одиночества несчастен бессмертный Камилл у братьев Стругацких. Все кругом гибнут поголовно, а он, бедняга, вынужден жить.
Бессмертным надоест жить — уверяет Карел Чапек.
Бессмертные вообще расчеловечатся — грозит Геннадий Гор.
Редкостное единодушие. Мне-то кажется, что оно рождено не столько подлинными опасениями, сколько самоутешением: недостижимый виноград зелен и невкусен; недостижимое бессмертие невкусно, противно даже, не стоит мечтать.
Однако не замечаете ли вы, что противники бессмертия ссылаются только на частные недостатки. Возражение Свифта, например, снимается сразу. У нас же речь идет о сохранении молодости. Молодость хотим мы продлить, а не годы, лишь бы годы, хотя бы и дряхлые.
Снимается и возражение насчет одиночества бессмертного среди смертных. Жизнь продлевается всем, так требует Ксан.
Четвертое возражение против бессмертия — скука. Жить надоест. Мне-то оно не кажется существенным. Если кто-нибудь кончил самоубийством от скуки, такого даже не очень жалеют. Плечами пожимают: с жиру бесился.
Но все-таки жизнь будущего человека надо избавить от однообразия. Подумаем. Жизнь многократно омоложенного! Тема же!
Эту я не стал откладывать. Написал повесть. Называется «Ордер на молодость». И начинается она такими словами:
«Уважаемый друг!
Жители нашего города поздравляют Вас с почетной датой — шестидесятилетием со дня рождения — и благодарят Вас за многие годы полезного труда. Нам было приятно жить и работать вместе с Вами.
Попутно напоминаем Вам, что, по мнению современной медицины, 60-летний возраст наиболее благоприятен для биологического перепрограммирования и перенастройки организма мужчин на очередную молодость. В этой связи просим Вас посетить ближайший центр омоложения в любое удобное для Вас время, предварительно заполнив прилагаемую анкету».
Герой мой глянул, руками развел, так и сел на месте. Как? Уже.
То есть удивляться не было причины. Отлично помнил, что ему шестьдесят. В таком возрасте не забываешь о возрасте, поясница напоминает. Там саднит, тут ноет, то и это подлечить пора. «Ну что ж, в молодость так в молодость! Что там еще? Анкету заполнять им, бюрократам несчастным. Ах, целая тетрадка: «Каким был, каким хочу стать?» Каким хочу? Молодым, разумеется. Еще что? Пол? Был «м» и останусь «м». Все, что ли? Нет, еще раздел второй: «По желанию омолаживаемого операцию юнификации можно сочетать с метаморфизмом. Продумайте внимательно, какие видите Вы недостатки в своей внешности, характере и способностях, что хотели бы исправить?»
Тут герой задумывается надолго: что исправить? Много надо бы переделать. Ведь он у меня в отличие от литературных героев романов о будущем человек обыкновенный, средний… и в жизни не раз уступал тем, кто выще среднего. И он начинает вспоминать свои неудачи и недостатки, прикидывать, какие черты характера улучшить, какие потребовать таланты.
Таланты по заказу — еще одна тема.
Это я тоже написал. Это опубликовано в «Фантастике–87».
Вот как получается, казалось бы, взял я чисто биологическую тему: продление молодости, отмена старости. Но за биологической ниточкой покатился клубок — от новых сроков жизни к новой демографии, от демографии к новой географии, от географии к новой космографии, от нее к новой физиологии и новой психологии, к новым условиям жизни и к новым отношениям.
Новые отношения, новые и конфликты.
Испокон веков на театральных подмостках разыгрывается волнующий конфликт треугольника: она и два претендента. Один молодой, прекрасный, пылкий, другой — старый, противный, но знатный или богатый или хотя бы заслуженный, опытный. Испокон веков зрители бурно аплодируют победе молодости, радуются посрамлению старости и богатства. Радуются победе молодости в театре, хотя в подлинной жизни частенько побеждают денежки старших.
Не изменит ли отмена старости этот заслуженный конфликт? С имуществом — так полагаем мы — в будущем никто считаться не будет. Но ведь старики отныне не старики. У них зрелость, ум, опыт, уважение, положение. И не предпочтут ли красавицы этих, оправдавших надежды зеленым юнцам, надежды только подающим?
А куда же денутся отвергнутые юноши первой молодости? Так и останутся неприкаянными холостяками? Или их подберут омоложенные матроны? Водевильная ситуация? Ницше предлагал именно такой порядок для нормальной семьи: мужчины средних лет женятся на молоденьких, вводят их в жизнь, потом зрелые женщины разводятся со своими стариками и берут на воспитание юношей. Может быть, именно это сочтут рациональным для общества нестареющих?
Новые условия, новая и мораль. Жениться не на всю жизнь. Однажды, выступая перед очень юными читательницами, будущими работниками детских садов, спросил я: получив вторую молодость, оставят ли они себе прежнего мужа? Тут все оказались единодушны. «Другого», — голосовали они хором.
К конфликту личному, любовному добавляется и служебный. В нашей быстропротекающей жизни старики, отработав свое, уходят на пенсию. Академики уступают место докторам наук, те — кандидатам, младшие становятся старшими, неостепененные пишут диссертации. И движутся-движутся вверх по лестнице бывшие студенты, добиваются самостоятельности, получают задания все крупнее, интереснее, проявляют оригинальность, вносят новизну.
А как же в многовековой жизни? Первое омоложенное поколение так и останется первым, самым старшим, второе — вторым, седьмое — седьмым — на седьмой степени подчинения. И нет оснований ершиться. Старшие и в самом деле опытнее, а сил у них не убавляется, с какой же стати их замещать? Как будут решать эту проблему нестареющие наши потомки? Может быть, выберут английскую систему младших сыновей. Там первенец оставался дома, получал целиком наследственное имение, младшие отправлялись за море искать счастье в чужих странах. Не стоит ли и тут отправлять младшее поколение в чужие земли (на чужие планеты?). Пусть там и строят новый мир по-своему.
Пожалуй, справедливо. Но разумно ли? Старшим достанется благоустроенный центр, младшим — необжитые окраины, целина. Старшим — академии наук и искусств, младшим — голые камни в пустыне. К тому же у старших опыт и знания, а у младших — только молодой задор.
Но с другой стороны, у старших опыт-то вчерашний. Они помнят и уважают даже и то, что не грешно забыть, заменить.
Непросто получается от этого продления молодости. Конечно, похоронить легче, чем жизнь выстроить. Но до сих пор люди все же предпочитали хлопоты о жизни.
9. ДРЕВО ТЕМ
В науке есть такой термин: дерево цели.
Допустим, поставлена важная цель, основная. С ней связаны второстепенные и третьестепенные. На графике получается этакое лохматое дерево с переплетающимися ветвями. Сравниваются решения. Такое-то отвечает основной цели, такое-то — только вторичным, боковым. Выбирается наивыгоднейшее.
Вот и у нас получилось подобие дерева потому, что в основе-то лежала старинная мечта о вечной юности. И «лет до ста расти нам без старости», — рекомендовал Маяковский. И «живите тысячу лет», — желают щедро восточные вежливые люди.
Будем считать, что мечта — это почва, на которой вырастает наше древо тем.
Сажаем в нее семечко — гипотезу, идею воплощения. Это отдельная тема. От идеи тянутся корешки обоснований. Превращение их в надежные корни — тоже тема. Несколько тяжеловесная, ее нелегко сделать интересной. Трудно рассказывать о труде, о чувствах легче. Чувства нам понятнее, они же древнее. Трудом занялся только человек, а чувства были у всех его предков.
Но вот корни закрепились, росток вытянулся, превратился в надежный ствол, дал плоды…
И тут очередная тема — дележка. Кого угощать сладким эликсиром вечной юности, кому дожидаться своей очереди?
А на окрепшем стволе развернулась обширная крона нужд общечеловеческих.
И появляются новые ветви, даже не ветви, добавочные стволы в кроне.
Ствол тем экономических: где жить всем омоложенным — на Земле или в космосе? если в космосе, то как? и где?
Ствол социальных тем-проблем: отношения поколений, отношения Земли и космоса, центра и дальних окраин.
Еще ствол или ветвь толщенная проблем психологических: пригоден ли человек биологически, физиологически, психологически для многовековой жизни? если не пригоден, менять надо. И как?
Изменение человека — это особый ствол, может быть, даже и дерево другое.
Стволы, ветви, веточки, листочки. Каждый листок — чья-то жизнь. Но и жизнь отдельного человека будущего, такого вот многовекового — тоже тема.
И так с любой крупной целью, с любой важной темой: почва мечты, корни потребностей, ростки идей, стволы трудов, плоды, последствия личные и общечеловеческие… и отдельные листочки личной судьбы.
С деревьями целей в этой книге вы встречались неоднократно. Все было здесь — и корни, и ветви, и кроны, и листочки.
БХАГА. ЗАМЫСЕЛ 251
Где-то в самом начале книги поминал я, что за всю жизнь накопилось у меня сотни две с половиной замыслов. Ну не все заманчивые, есть заурядные, есть устаревшие, есть и сходные, вытекающие из предыдущих. Вот, например, темы № 156, 180, 211, 212-а и 224. Видимо, возвращался мыслью, что-то подправлял, дополнял. И тот же мотив в № 251, который я озаглавил «Шестой день творения».
На шестой день, если знаете библейские предания, Господь Бог, завершив сотворение мира, решил еще вылепить из глины человека по своему образу и подобию. И был доволен своей работой, сказал сам себе: «Это хорошо!» И опочил после трудов тяжких.
Почему-то у меня нет такого безоговорочного восторга перед этой работой. Как-то не ощущаю божественного совершенства в людях, мне кажется, можно было сделать и получше. Не мне одному кажется. Нет единого мнения на этот счет. Одни говорят: «Человек — это звучит гордо», а по мнению других — «Червь земной». То ли «человек человеку друг и брат», то ли «человек человеку волк». Кто прав?
И стал я думать обо всем этом. И тема показалась мне крайне срочной, неотложной. Именно эту захотелось писать из всех двухсот пятидесяти; без очереди пробивалась она.
Главное, откладывать не было никакой возможности. Я в ту пору лежал в больнице, и диагноз у меня был не самый оптимистический. И я знал, что сосед мой по палате безнадежен, полгода протянет, не больше. А болезнь у нас была одинаковая, самочувствие у него даже получше, он зарядку делал по утрам, но был обречен, а я не мог. Это что же, оказалось, и я тоже могу умереть.
С этой фразы я и начал повесть № 251:
«Оказалось, я тоже могу умереть!»
ПРОЛОГ
Оказалось, что я тоже могу умереть! Кто бы мог подумать?
То есть я знал, конечно, что все люди смертны. Я человек, эрго… Но все-таки не верилось всерьез, неправдоподобным казалось: как это такое, мир существует, солнце всходит и заходит, а меня нет? Однако черед подошел, и не внезапный — обыденный. В результате тяжелой и продолжительной болезни я действительно умер, скончался, преставился в воскресенье под утро, часу в четвертом или пятом, точно не знаю, на часы не посмотрел.
Обыкновенно умер. Но так это было не вовремя, так некстати.
Дело в том, что я давно уже целился на большой фундаментальный труд. Он не сразу у меня сложился, даже не сразу задумался, сначала опыт надо было набрать. И все некогда было оформить мысли, склеить факты и выводы, будни все отвлекали: служба, семья, а в отпуск отдохнуть же надо: палатки, рюкзаки, байки у костра, не до конструирования теорий. Мысли собрал впервые, когда заболел гриппом, в постели валялся две недели. Тут и температура не мешала, даже взбадривала, шарики энергичнее бегали в мозгу. Мысли собрал и понял, что материала у меня маловато, надо бы годик—другой посидеть как следует в библиотеке. Но где годик—другой у служащего человека? Ежедневно восемь часов в лаборатории, два часа в троллейбусе, магазины, очереди, жене помочь, то, се. Еще дети. Сына надо вырастить, дать образование, в институт определить. Дочку надо вырастить, дать образование, в институт определить, еще замуж выдать, кооперативную квартиру ей купить. Квартиру купил, залез в долги, пришлось сверхурочную брать, лишние полставки, чтобы расплачиваться. Урывками что-то записывал, не получалось. Решил: главный труд отложу до пенсии. Дотянул. Но тут мне предложили еще три года поработать. Подумал, согласился. Имело же смысл подкопить запасец, чтобы сидеть в библиотеке прочно, сосредоточенно, не отвлекаться за каждой десяткой. Итак, отложил на три года, потом еще на годик. И после го: дика уговаривали меня не уходить, но я твердо сказал: «Баста!» И выдержал характер, ушел по собственному желанию с намерением приступить к самому важному, самому значительному, к делу жизни. Только малюсенькую уступочку сделал себе: позволил отложить библиотеку на месяц. Решил: съезжу на юг, поваляюсь в горячем песочке, смою усталость чистой соленой водой, загорю, здоровья наберусь и тогда уже с полной силой возьмусь наконец…
Путевку достал, пошел, как полагается, за справкой о том, что гр. Немчинову К.К., 19… года рождения (т е. мне) не противопоказано пребывание… Посидел в очереди у одного врача, другого, третьего… А четвертый, поджав губы с видом укоризненно осуждающим, покачав головой, произнес:
— Вам надо ложиться на операцию, и немедленно.
Я бурно протестовал. Я требовал отсрочку, я настаивал на отсрочке. Я уверял, что после горячего песочка и соленой волны я запросто выдержу пять операций. Более того, все у меня пройдет само собой от песочка, все смоет морская волна. Врач качал головой, ни тени улыбки я не мог отыскать в его сжатых губах.
— Немедленно! — твердил он.
Так я оказался в совершенно другом мире, непривычном для меня, непонятном и неприятном.
До того почти сорок лет я был уважаемым человеком, научным работником, младшим, старшим, потом начальником лаборатории. Меня называли только по имени-отчеству, студенты-практиканты искательно заглядывали мне в глаза, выпрашивая зачет. Со мной считались, мое мнение спрашивали на совещаниях, на мои статьи ссылались, цитировали их с указанием страницы. Здесь же, в этом новом мире, я стал рядовым, со званием «больной», без имени и без отчества. У меня оказалось начальство, строгое, чаще недовольное, склонное выговор делать за каждую мелкую провинность, ворчливое начальство по имени «сестры». Ворчало оно потому, вероятно, что работа была грязная, а зарплата мизерная, единственное достоинство было в возможности помыкать нами — «больными» то есть. Мы льстили сестрам, мы подлаживались к ним, мы вынуждены были изучать их достоинства и недостатки. Мы знали, которая заставит ждать полчаса, а какая удовлетворится десятью минутами, какая колет легко, а после которой полчаса будешь охать, какая гордо промолчит на твою просьбу, а какая еще и обругает унизительно. Ничего не поделаешь, в такую категорию я записался: больной — личность зависимая, беспомощная, вроде ребенка-несмышленыша. При взрослых чужих, не при родителях. Над сестрами же, где-то очень высоко, витали еще врачи, существа изрекающие и непререкаемые. Они определяли судьбу и режим. Спорить с ними разрешалось, но не имело смысла, потому что они знали обо мне нечто таинственное на латинской абракадабре из совершенно секретной папки по имени «история болезни».
Хотя предполагалось, что я ничего не делаю, полеживаю себе, но у меня накапливались обязанности, довольно многочисленные, назывались они «анализы» и «процедуры». Я должен был сдавать кровь и всякое такое прочее через день, кроме того, ходить на рентген, просвечивание, ультразвук, томографию, осмотры, консультации, естественно, всякий раз посидеть в очереди часок, должен был еще обогреваться, облучаться, класть компрессы, менять перевязки… мало ли что еще. Так что, в общем, я был занят делом с раннего утра и до вечера, и наивные мои планы начать «труд», лежа на больничной койке, рассыпались прахом.
Кроме того, я же не один был в палате. У меня были соседи — четверо, и не могу пожаловаться, не склочники, люди как люди, такие же больные. Один из них, шофер в прежней здоровой жизни, очень любил поговорить, а рассказывал он в основном, как он добыл, увел, унес, реже вырастил или выловил и так превкусно приготовил карасей, или поросеночка, или горячие блины с ледяной сметаной из погреба, или солененькие огурчики с травами. На фоне жидкой овсяной каши, которую нам давали в обед, это звучало увлекательно. «Поллитровочку бы к такой закуси», — вторил его сосед, вспоминая, где, как и когда он прихватил заманчивую дозу. Третий не был ни обжорой, ни пьяницей, зато он принадлежал к категории истовых пациентов: не скупясь на подробности, он многословно докладывал обо всех своих физиологических отправлениях и постоянно жаловался, что его плохо лечат: мало дают лекарств, инъекций и процедур; у сестер выпрашивал лишнюю таблетку и к другим врачам ходил советоваться, надеясь уличить в противоречии. Уличал, конечно. Четвертый же был молчаливым и самым культурным, и он (горе мое!) не выключал радио ни на минуту с семи утра и до отбоя.
Какая там научная работа!
Потом, как и обещали, мне сделали операцию, легкую, с точки зрения медицины, под местным наркозом. Так что острой боли я не чувствовал, только ощущал, как скребут что-то, тянут, тычут, да слышал реплики хирурга: «Ассистента мне, не управлюсь же. Да где же ассистент? Глубже возьму на всякий случай. Да держите же ему руки и ноги…»
И прочее в таком духе.
И снова были анализы-анализы-анализы и процедуры-процедуры. Но в общем мне становилось все хуже и хуже. Пришел я в больницу на своих ногах, а теперь с койки сползал еле-еле. Какие там научные теории? Ни о чем я не думал. Дремать хотелось только… и теперь даже не очень мешали разговоры о поросеночке с хреном и злодеях-медиках, которые экономят рецепты с печатью для «своих» больных. Даже и визиты родных раздражали. У жены такой растерянный вид, а у детей — нетерпеливый. Ну и пусть уходят в свою живую жизнь!
Ничего не помогало мне. Казалось, сидит в теле кто-то упрямый и злонамеренный, выхолащивает лекарства, пакостит наперекор врачам.
Снова назначили меня на операцию, на каталке перевезли в другую комнату с грозным названием «реанимация», что означает «оживление». На самом деле там не оживляют, просто держат серьезных больных перед операцией и после для лучшего наблюдения. Там уж дежурство врачей круглосуточно, и сестру не надо разыскивать по всему этажу.
В пятницу меня туда перекатили, операцию назначили на понедельник, а вот в ночь под воскресенье стало мне худо, совсем худо.
Очень тошно было. Тошнило, как с перепоя, и желудок все давил вверх, будто выбросить что-то хотел, но не выбрасывал, только дышать мешал. Единственное занятие осталось мне на этом свете — дышать: воздух всасывать и выталкивать. Но это была тяжелая работа, она требовала напряжения и то не получалась как следует: собравшись с силами, надышу-надышу-надышу поспешно, потом отдыхаю, дух перевожу, снова сил набираюсь.
— Чейн-Стоксовское, — услышал я голос врача.
— Агония? — переспросила сестра. И добавила: — Пульс как ниточка.
— Камфору! И скорее! — распорядился врач.
Я эти слова слышал, но не очень понимал, я был сосредоточенно погружен в процесс дыхания. И не видел ничего. Мутное стекло стояло перед глазами, серовато-зеленое, цвета вылинявшей гимнастерки. Противно было смотреть в эту зеленую муть, я закрыл глаза.
И увидел:
Девушку, очень юную, ясноглазую, с румяными от мороза, по-детски налитыми щечками. Чей-то палец указывает ей графу: «Вот здесь распишитесь, невеста».
Девушка смущенно хихикает. Так удивительно, непривычно и лестно называться невестой.
Другая рука, короткопалая, с простеньким обручальным кольцом, подсовывает четвертушечку бумаги. Слева: «Слушали»; справа: «Постановили». Постановили: «Исправительно-трудовые работы сроком на…»
Но я ни в чем не виноват.
Распишитесь, что читали.
Уткнулся в бороду, мокрую от слез.
— Отец, не выпендривайся!
У ручья лежал мертвый немец в белом шерстяном белье. Ветер пошевеливал красивые белокурые волосы. А лица не было, лицо сгнило все. Осколком снесло, что ли?
Чернота и стоны. Это наша полуторка перевернулась на прифронтовой дороге. Я под кузовом. Первое инстинктивное движение — ощупал бока и ноги. Целы. На четвереньках лезу на свет, там, где щель над кюветом. И почему-то:
— Едем назад, ребята!
— Зачем назад? От испуга. Испуганного тянет домой.
Обед — главное событие дня, блаженный час наполнения желудка. Занимаем место у длинного стола. Дежурный, заложив пайку за спину, вопрошает: «Кому?» Хорошо бы досталась горбушка. А доходяга из предыдущей смены торопливо сгребает в рот крошки, с грязного, залитого гороховой слизью стола.
— Как не стыдно? Что ты делаешь, кусочник?
— Это наши крошки! — возражает он с полным сознанием своего права.
Маленький, щупленький, вертлявый прыгает передо мной. Он смешон, он дергается как марионетка, но у него в руках пистолет. Я пячусь за фонарный столб. Ругаюсь бессмысленно: «Иди на…» Фонарный столб не защита. Дружок вертлявого спасает меня. Обхватывает его сзади.
— Подходите прощаться, — говорит деловито служащая. — Мужчины, снимите венки. — И створки раскрываются, деревянный ящик, обитый красным, плавно тонет под тихую музыку.
Черный жирный дым низко стелется над бетонными квартирками умолкших.
На мокрой, черной от осеннего дождя брусчатке куча тряпья. На рельсах — лента грязного мяса — бывшая нога мальчика. Мальчик не кричит, он хнычет, уткнувшись лицом в мостовую. Отчаяние раздавленной жизни. Неужели это с ним случилось?
Вот так винегретом мое, чужое, давнишнее, недавнее — вся жизнь в одно мгновение, гораздо быстрее, чем читается. Последние усилия мозга: память лихорадочно мечется в поисках спасения. Что может выручить?
Не нашла ничего. Сдалась. Оседаю. Кончаю сопротивляться. Больше не тужусь с дыханием. Слышу хрип выходящего воздуха.
И сразу становится легче. Зеленое стекло исчезает. Я вижу себя и почему-то сверху. Вижу осунувшееся лицо, противно-тощие руки на сером больничном одеяле. Это я. Неприятно видеть себя таким. Доктор наклонился над кроватью, веко приподнял, проверяет реакцию зрачка. Сестра держит шприц на весу и смотрит на доктора вопросительно: стоит ли вкалывать? Лица у обоих обеспокоенные и беспомощные. Мне их жалко. Зачем копошатся? Мне же не больно, мне совсем хорошо. Не дышится, ну и не надо дышать, напрягаться, трудиться еще. Снисходительно взираю сверху вниз с потолка на всю эту суетливую медицину. Хочу крикнуть: «Кончайте эту ерунду, товарищи! Мне легче, мне совсем хорошо». Не слышат, не обращают внимания, не догадываются головы поднять. Ну и ладно, не до них. Лично я не намерен задерживаться в этой осточертевшей реанимации. Где тут выход? Ага, вот он, под самым карнизом. Живые его не видят, конечно.
Коридор, точнее, колодец, бревенчатый сруб с осклизлыми, обросшими плесенью бревнами. Великолепный букет опенков у самого входа. Колодец все-таки, а не тоннель. Про тоннель я читал в книге этого американского доктора, фамилия которого пишется Моодей, а по-русски произносится неприлично. Помню, что в минуты клинической смерти мне полагается плыть или лететь по этому коридору-колодцу на тот свет. О коридоре читал, от наших сектантов слышал, что при радении они несутся по колодцу. Видимо, деревянное зодчество ближе моей душе, я вижу бревна, а не бетонные плиты. Но эти мысли задним числом. В тот момент я лечу, вверх или вниз, не очень понятно куда, лечу с чувством облегчения, избавился от тошноты, желудок не давит на горло, дышать не обязательно. Лечу и лечу к чему-то новому, любопытному, привлекательному, увлекательному. Помню, по записям этого самого Моодея, что в конце коридора умершего ждут покойные друзья, родные, любимые или что-то солнечное, светлое, согревающее, радующее. Что именно, пережившие клиническую смерть не могли объяснить толком. Кого же я там встречу? Не отца ли с матерью?
И вот он — выход из длиннющего колодца. Свет. Просторная палата, огромная, пустая, а в самом центре ее на деревянном резном, но не слишком удобном троне кудлатый старик лет шестидесяти, крепкий, широкогрудый, с проседью в рыжеватой бороде, лохматыми бровями и желтым латунным кругом над головой. Боже мой! Так ты существуешь, Боже?
— Как видишь, — сказал он хрипловатым голосом.
Он восседал основательно, положив на подлокотники крепкие загорелые кулаки. Я заметил еще, что трон не слишком роскошный, простоватый, прямоугольный, примерно такой, как у Ивана Грозного на скульптуре Антокольского. На сиденье не было мягкой подушки, только коврик («Геморроя опасается», — мелькнуло невольно). А за высокой спинкой справа и слева стояли могучие длинноволосые воины с блестящими медными шлемами, украшенными перьями страуса и с перламутрово-радужными, очень красивыми, но явно непригодными для полета крыльями. И все это выглядело торжественно и театрально-бутафорски. Но это я потом все оценивал, а в первый момент был только потрясен:
— И ты на самом деле существуешь, Боже?
— Если глазам не веришь, пощупай. Вложи персты, Фома неверующий. Ведь ты же неверующий, конечно, только одну материю признаешь.
— Если на самом деле существуешь, значит, материален, — возразил я, подумав. — Материален по определению. Материя — это все, что существует вне моего сознания.
— Я тебя призвал не для философских споров, — проворчал он недовольно. — Существую или не существую, тебя не касается. Но я ведаю этой планетой и творю на ней суд. Ты на суде, раб божий Кирилл. Кайся!
— Но ты же всезнающий, — сказал я, — так что следствию все известно.
По реплике моей видно, что я чувствовал себя совершенно здоровым, даже и забыл, что умирал только что.
Старик на деревянном троне нахмурился, молнии метнул из-под бровей. Я вздрогнул, как от слабого тока. Понял, что шутить неуместно.
— Кайся! — повторил он. — Или воображаешь, что ты безгрешен?
— Человек как человек, — признался я. — С большими недостатками.
— Назови самый большой.
Тут мне не потребовалось долго думать. Все месяцы в больнице вздыхал о главном своем упущении.
— Откладывал, — признался я. — Откладывал важное, занимался второстепенным. Восемь часов отсиживал в лаборатории, еще по горам с рюкзаком лазил, свадьбу дочке устраивал, квартиру ей покупал, долги отдавал, копил на спокойную жизнь. Все условия, условия создавал для главного труда… и так и не взялся. Проворонил.
— Нет, я спрашиваю не про упущения, — возразил старик на троне. — Заповеди мои нарушал?
Я честно признался, что не помню все десять наизусть.
— Первая: пусть не будет у тебя другого бога, — напомнил он.
— Эту не нарушал, — сказал я быстро. — Я же не верил в богов. Даже и сейчас не очень верю в тебя. Ты на самом деле существуешь?
— Вторая: не сотвори себе кумира, — продолжал он.
— И эту не нарушал. Терпеть не мог кумиров. Великих людей уважал: Ньютона, Эйнштейна, Пушкина, Толстого, Менделеева, Сеченова, Павлова, Фрейда. Уважал, но не поклонялся, считал возможным критиковать, не соглашаться. Сам знаешь, если ты всезнающий, что я хотел написать теорию психологии человека. Теория — это не повторение и не изложение, это синтез, осмысливание.
— Третья заповедь, — продолжал он, — не упоминай имя Господа своего всуе.
— Кажется, это означает «не божись»! Нет, Боже, не божился. Чертыхался нередко. Матерился, не без этого. Но ведь я, Боже, в призывном возрасте в кавалерии служил, а лошадь без мата не воспринимает как следует. Грешен.
— Четвертая. Соблюдай день субботний…
— Опять грешен, не соблюдал, Господи, ни субботний, ни воскресный. Такая хлопотливая жизнь! Все семейные дела на выходной. А иной раз срочная работа или сверхурочная, халтурка выгодная. Нет, не соблюдал. И отдых на пенсию откладывал. Думал: сам себе хозяин буду, установлю режим, буду придерживаться…
— Пятая заповедь. Чти отца своего и мать свою…
— В общем, чтил, Господи. Я обязан своим родителям. Они и направили меня и помогали долго, непомерно долго. Ну и жили мы вместе. Умерли на моем иждивении. Не обижал. Уважал… Боюсь, вежлив бывал не всегда. Срывался. И эксплуатировал нещадно. Привык, что родителям ничего для меня не жалко. Не идеальным сыном был, но и не прескверным. Каюсь, на кладбище ходил редко. Но не забывал. Считал, что в памяти моей они живут.
— Шестая. Не убий!
— Не убивал, не было. Но мог бы, признаю. В армии же служил, винтовка в руках. Был бы враг на мушке, стрелял бы не задумываясь. В меня стреляли же.
— Не кради!
— Этого не было. Не тянуло.
— Восьмая заповедь. Не прелюбодействуй!
— Господи, да что же я, импотент, что ли? Что значит твое «не прелюбодействуй»? Целоваться можно? Обнимать можно? Ах да, кажется, нельзя обнажать. Обнажал! И так далее.
— Девятая. Не лжесвидетельствуй!
— И этого не было. А насчет лжи, лгал, конечно. Кто же не лжет? Иной раз неприлично говорить правду. Зачем же дураку говорить в глаза, что он дурак? И не поймет и обидится.
— И десятая. Не пожелай жены ближнего своего, ни раба его, ни вола, ни осла.
— Ох, Господи, кажется, тут я безгрешен. Раба не желал, вола не желал, осла — никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах. Жену ближнего? Бывало, бывало в молодости… но ведь я своей не изменял, ты сам знаешь, Боже, если твое всезнание на эти грешки направлено.
— Ну что ж, — сказал бородатый задумчиво. — Нового ты ничего не сказал мне, рядовой грешник, но в общем человек ты искренний, даже добросовестно искренний. Это подходит.
И замолчал задумчиво. Очевидно, и он думал не мгновенно. А я ждал. Ждал, какое выпадет решение. Для рая вроде бы не гожусь, в ад не хочется. Лучше бы отправил он меня назад на Землю. Уж тогда, сам себе клянусь, откладывать не буду, ни на час, как вырвусь из больницы, бегом в библиотеку.
А он все молчал. И тогда в голову ко мне закралось сомнение. Болен же я. Может, чудится все в бреду. То зеленое стекло было, то воспоминаний калейдоскоп, а теперь сказка о том свете. И потихонечку потянулся я, чтобы пощупать край его плаща, надежным осязанием проверить легковерные глаза.
Он сразу заметил мои поползновения. Рявкнул:
— Персты убери!
Я отдернул руку. Струхнул, сказать откровенно. Всемогущий да еще обидчивый. Не угожу, гадость учинит какую-нибудь.
— Ладно, вопрошай, — махнул он рукой. — Глаголом вопрошай лучше, чем перстами тыкать впустую. Три вопроса твои. Потом я буду спрашивать.
— Почему ты такой… человекообразный? — полюбопытствовал я. — Зачем тебе ноги, вездесущему? И борода? И проседь в бороде? Ты что, стареешь?
— Я такой, как вы меня рисуете на иконах, — ответил Бог. — Как представляете, таким и являюсь вам. Вездесущего ты и увидать не смог бы. Если же такой тебя не устраивает…
Не просто отшатнулся я, отскочил на три шага; такое страшилище явилось передо мной. Голый гигант, загорелый дочерна, шестирукий, четырехногий, с коровьими рогами на лбу и кабаньими бивнями, торчащими из пасти.
— Я Бхага, — проревел он. — Бог даров у ариев. Таким меня видели три тысячи лет назад. Не подходит? Страшно и старомодно, да? Тогда вот тебе другой образ, посовременнее.
На коврике, поджав коротенькие ножки, сидел противный уродец, со скользкой лягушечьей кожей, головастый, словно больной водянкой мозга, с огромными фасеточными глазами и длиннющими не то пальцами, не то щупальцами. Они все шевелились, сплетаясь в узлы и петли. И петельки образовывали буквы, наши, письменные, так что я мог прочесть:
«Я пришелец. Я посланник сверхцивилизации. Мы опередили вас на миллионы годичных оборотов вашей планеты. Мы можем…»
— Ах, ты опять морщишься? Пожалуйста, вот тебе другой символ.
На зеленой лужайке, поросшей зонтичными, сидела, болтая босыми ногами в звонком ручейке, милая женщина в венке из роз, круглолицая, большеглазая и улыбчивая. Мне она показалась похожей на рембрандтову Саскию.
— Природа, — сказала она, кокетливо улыбаясь. — Я не богиня, я образ всего естественного, природу ты же не отрицаешь, материалист. С природой сможешь говорить накоротке.
Очень миленькая была эта Природа, я тут же рассыпался в комплиментах. И немедленно она возразила хриплым мужским голосом:
— Да, не получится у тебя серьезный разговор, ты грешник седьмой заповеди. Я же читаю все твои мысли. Ты уже отметил, что эта Природа в твоем вкусе, только в талии полновата, не в положении ли? Успел спросить себя: «А что эта Природа собирается родить? И если любезничать с ней, не будет ли снисходительнее?» Уже взыграл, грудь выпятил, картинную позу принял. Распетушился. А перед тобой видимость, маска, я таких масок понаделаю тебе больше, чем в кино.
— Какой же ты настоящий? — воскликнул я в отчаянии.
— А настоящий Я невидим, — возгласил знакомый уже хриплый голос. — Такой примерно.
И сцена исчезла. Все исчезло: и трон, и полянка, и ручей. Густая темнота, хоть руками ее разгребай, ночное купание она мне напомнила. И за спиной возник свистящий шепот: «Я здесь». Обернулся. Ничего. «Я здесь», — свистящий шепот у самых ног. «Здесь, здесь, здесь!» — эхом со всех сторон сразу. И во мне самом, не в голове, а где-то над желудком: «Как разговаривать будем? Не лучше ли образ и подобие человека?»
Я кивнул головой, ошарашенный. Крепкий старик — патриарх воплотился на своем деревянном кресле.
— Вопрошай, — напомнил он.
Я перевел дух. Подумал, что зря израсходовал один из трех разрешенных мне вопросов. О внешности мог бы и сам догадаться. Теперь надо существенное выяснить, имеющее отношение к моей судьбе.
— А у тебя тот свет есть тут, Господи? Загробная жизнь, как обещано. И Рай и Ад?
— Но кажется, ты материалист, — усмехнулся он. — Что бывает с материалистами после смерти?
— Ничего, — сказал я со вздохом. — Совсем ничего.
— Вот так и будет — ничего.
— А с верующими? — не удержался я.
— Ты же материалист, — повторил он.
Итак, ничего не будет. Я содрогнулся, представив себе смоляной погреб, ватную тишину в ушах, плотную тишину, оглушительную тишину, ни дыхания, ни сердцебиения, ни тепла, ни холода, совсем ничего. А впрочем, у меня бывали же в жизни обмороки. Тоже зеленая муть, тошнота, тошнота, безглазие… потом просыпаюсь на полу. Что было со мной? Не помню. Ничего не было. Вот и тут будет так же… но не проснусь на полу.
— Слушай, отпусти ты меня на Землю, — взмолился я. — Очень хочется пожить еще немножечко. Недоделанное сделать, наверстать упущенное. Честное слово, грешить не собираюсь, каждую минуту буду ценить, ничего откладывать не стану. Отпусти, что тебе стоит, ты же всемогущий вроде бы.
— Умолять будешь? — усмехнулся он. — На колени станешь, ладони сложишь, припомнишь слышанное, вычитанное: «Иже еси на небеси». Ну давай, давай, кланяйся, целуй прах у моих ног!
«Экий фанфарон! — подумал я. — Такое мелкое тщеславие при всемогуществе. И что ему в моем унижении? Цапнул кот мышонка, еще и издевается». Но все-таки, признаюсь, заколебался я. Даже и оправдание себе нашел: «Уж если здесь этикет такой, что мне стоит встать разок на колени, похныкать канючным голосом? Ведь послы наши низко кланяются занюханным монархам; величают их: «Ваше королевское величество» или «наш высокий гость», принимают торжественно, угощают почетным обедом вместо того, чтобы свергать ко всем чертям.
— Значит, признаешь этикет такой? — усмехнулся бородатый садист. — А как насчет того, что «лучше умереть стоя, чем жить на коленях!». Впрочем, я и не предлагал «жить на коленях», только постоять полчасика.
Я молчал пристыженный. Не сразу собрался с духом:
— Слушай, кончай измываться! Что ты хочешь от меня?
Он почесал бровь. Типичный человеческий жест. Но неужели у богов чешутся брови? Смакует артистизм.
— Я отпущу тебя, если ты сумеешь ответить на три вопроса.
— Три загадки? — переспросил я. — Как в сказках? Попробую, хотя я не слишком сообразителен. После смерти в особенности.
— Не сообразительность важна, а честность. И вдумчивость, и откровенность. Не торопись, взвесь, изложи четко, немногословно и честно.
— Господи, — вздохнул я. — Да что тебе мои слова? Ты же мысли читаешь, я уже заметил.
— У вас, людей, сумбур в мыслях. Мысли — это краски на палитре. Их сначала надо положить на холст, нужную краску на нужное место, да еще оценить, так ли смотрится, уточнить, подправить. Зачем я буду следить за процессом твоего рассуждения? Мне нужен готовый отшлифованный ответ. Итак, я спрашиваю. Вопрос первый и серьезный: почему люди перестали верить в меня?
Я задумался. Думал долго… и честно. Дипломатические смягчения отринул. Помнил, что он читает мои мысли, ложь заметит. Но, с другой стороны, всякому, Богу тоже, наверное, приятна лесть. Что же нужно ему — лесть или обличение? Едва ли для лести призвал меня. Для лести выбрал бы какого-нибудь священнослужителя.
— Уважаемый Боже, — решился я наконец. — В тебя не верят потому, что разуверились в твоей справедливости. Нам говорят, что ты всемилостив, зачем же столько страдания на Земле: мучительные болезни, тоскливая старость, голод, ураганы и землетрясения? Говорят, что это наказание за грехи. За чьи грехи? Еще Вольтер писал: за что Лиссабону поголовное наказание, разве он был грешнее Лондона или Парижа? И почему детям наказание за грехи родителей? Грудным младенцам болезни, несмышленышам? В нашей стране ежегодно пять тысяч детей гибнет под колесами. За что?
В памяти всплыл тот мальчонка, хныкающий, уткнувшийся лицом в мостовую. И воспоминание мое отразилось тут же на сцене за троном, все как было — мокрая от дождя черная брусчатка и грязная лента мяса на рельсах.
— Видишь, что ты наделал, всемилостивейший? — воскликнул я. — Хорошо получилось?
— Отрока того исцелить возможно, конечно, — сказал старик не без смущения. — Непростое дело. Ты даже имени его не вещаешь. К тому же давно было. Если жив остался, взрослую жизнь прошел, семью приобрел, захочет ли в детство вернуться?
— Пять тысяч ежегодно, — напомнил я безжалостно.
— Но не могу же я каждого неслуха за руку переводить через улицу, — проворчал старик недовольно.
— А в церкви уверяют, что ни один волос не упадет без воли Божьей. — Я уже увлекся полемикой.
— Да, без моей воли не упадет, если я волю направлю на тот волос. Но не буду же я заниматься всеми волосами всех людей. У меня хватает дел поважнее, кроме этих парикмахерских. Хорошо, допустим, на первый вопрос ты ответил. А почему же — вопрос второй, — несмотря на разочарование, несмотря на все ученые труды вашей братии — материалистов, — люди все-таки верят в меня?
Тут я ответил быстро. Думал об этом не раз.
— От бессилия верят, — сказал я. — От несамостоятельности, от неразрешимости важных жизненных проблем. Ты посмотри, кто больше верит. Женщины. Потому что пассивны они биологически, потому что их счастье в семье, но не от женщины одной зависит удачное замужество и удачные дети. Верят надеющиеся, и потерявшие надежду верят: старые девы, вдовы, одинокие старухи, которым на Земле ждать больше нечего. У земледельцев вера крепче, ибо урожай зависит от дождичка, а дождь не в их власти, дождь в распоряжении неба. А вот ремесленные народы, с древних греков начиная, знали, что успех зависит от их собственных рук: нужную глину возьми, да замеси как следует, да как следует слепи на гончарном круге, да огонь разведи и обожги как полагается. Недаром пословица сложена: «Не боги горшки обжигают». Не боги! Люди! Собственными руками. Но дождь посылают не люди. Кто же? Не бог ли? И наконец, проблема старости и смерти. Смертны люди. Кончается жизнь, а умирать неохота. На что тут надеяться? Только на тебя, Господи, на твой загробный мир. Отними надежду на воскресение, число верующих сразу уменьшится впятеро, в десять раз. Но ведь это иллюзия, того света нет на свете.
Признаю, последние слова я произнес с вопросительной интонацией. Мне очень хотелось жить. И я согласен был, чтобы опроверг меня этот мнимо бородатый, вытащил бы из рукава хоть какое-то продолжение.
Но он не отозвался, хотя, конечно, услышал мои мысли.
— Хорошо, допустим, и на второй вопрос ты ответил. Не верят от разочарования, верят от бессилия. Ну и что же вы хотите от меня, бессильные, какой помощи?
Мальчик на рельсах, перевернутая машина, кривляка с пистолетом, процедуры и уколы, гроб, опускающийся в подземелье, черный дым из трубы крематория…
— Горя на земле много, — сказал я.
— А горе-то у каждого свое, — заметил патриарх в кресле.
И как это он извлек из моей памяти две спины в одинаковых плащах. Извлек и показал на экране. Так давно это было, так давно, а на сердце ссадина. «Нет, я не пойду с вами в кафе», — сказал я тогда. Не пошел потому, что был третьим лишним. Не пошел, чтобы не унижаться. Ведь в кафе он платил бы — мастер спорта, а у меня, студента, осталось полтора рубля до стипендии. И они оба были в модных плащах, а я в старом свитере и с какой-то дурацкой фанеркой под мышкой с прикрепленными эскизами. В кафе с фанеркой! Не пошел, проводил глазами спины. Стихи написал:
— А с тобой пошла, у него бы горе, — заметил он с усмешкой.
— Надо, чтобы ни у кого не было горя, — упрямо твердил я.
— Не могу же я каждому устраивать свидание, — возмутился он. — Кто я, по-твоему, бог или сводник?
И тогда я сказал, подумав:
— Боже, Господи, или кто ты есть на самом деле, вот уже в третий раз ты произнес «не могу же я…». Значит, ты не всемогущий. Могучий, но не всемогущий. Так, может быть, я толковее отвечал бы на твои вопросы, если бы ясно понимал, что ты можешь и чего не можешь, что можно у тебя просить и что нельзя.
Старик призадумался, положил бороду на кулак.
— Пожалуй, ты прав, — сказал он после долгой паузы. — Уж если я призвал тебя для беседы, следует ввести тебя в курс дела полностью. Ну что ж, смотри и слушай внимательно. Разговор будет долгий.
Глава 1. ВЫПУСКНОЙ КЛАСС
— Виждь и внемли, человече, внемли со всем вниманием, тебе откроются сокровенные тайны непостижимого, деяния и помыслы светозарных, — такими напыщенными словами начал рассказ Бог-Бхага-Пришелец, Природа-Невидимка. Но я не буду стараться дословно передавать его торжественную речь, переполненную архаическими славянизмами. Такая незадача! Конечно, интервью с Богом записывать надо было бы текстуально, но никак не догадался я взять магнитофон в реанимацию. По памяти приходится восстанавливать. Да к тому же церковнославянский вовсе не был органичен для Бхаги. С верующими он так привык разговаривать, а беседуя со мной, очень быстро перенял современный разговорный.
— Внемли и виждь, — повторил он. И сразу же тронный зал исчез. Невидимые силы свернули его в рулон, как театральную декорацию, закатали туда же и ангелов со всеми их медными касками, рубахами до пят и радужно-перламутровыми крылышками, заодно и чертей с крыльями кожистыми, как у летучей мыши. И передо мной открылся совсем другой зал, дворцовый, выложенный паркетом, парадный или танцевальный, с корпулентными тосканскими колоннами и высокими окнами в духе XVIII века. А на паркете повзводно стройными рядами стояли молодые люди в белых выутюженных брюках и белых же куцых мундирах с цветными воротниками. Груди у всех были выпячены, румяные лица выражали торжественность и усердие.
— Наш курс, — пояснил старик, отъехавший в сторонку со своим деревянным троном. — Первый выпуск школы богов.
— У богов школа? — переспросил я с недоумением.
— А там наши девушки, — продолжал он, указывая на дальний взвод. — Богини любви, материнства, плодородия, цветов, искусства, музыки, танца… Танца, — повторил он, и на губах его мелькнула умиленная улыбка. Видимо, и его божественное сердце тронула в те времена какая-то богинечка.
— А это я — вон там, второй в первом ряду.
Нипочем не узнал бы я сегодняшнего патриарха в этом старательно вытянувшемся юнце с наивно круглым лицом, щекастом и с вытаращенными от усердия глазами.
— Значит, все-таки мы созданы по вашему образу и подобию? — назойливо спросил я. — Ведь вы же все до единого похожи на людей.
— Очень уж ты непонятлив, человече, — проворчал старик. — Ты бы еще сделал вывод, что боги все разговаривают по-русски. На русский я перевожу для тебя свои мысли. И перевожу наш облик на понятные тебе формы. Сообрази сам: могу ли я, вездесущий, выглядеть как человек? И что понял бы ты, если бы я показал тебе парад вездесущих. Не задавайся, не создан ты по образу и подобию бога, это я изображаю человекоподобие для твоего понимания. Выглядело-то это все совсем иначе, но суть была аналогичная: шел торжественный выпуск школы богов. И я там среди них был — второй справа в первом ряду. А рядом со мной тоже знакомая тебе фигура. Наш отличник, светлый ум, надежда школы.
Высокий бледный лоб, тонкие черты лица, длинный горбатый нос, острая бородка, выражение уверенного превосходства. Разительный контраст с наивным старанием юного Бхаги.
— На Мефистофеля похож, пожалуй. Но ему черным быть полагается.
— Да, это он. Мефистофель, Дьявол, Дьява в индийском пантеоне. А светлый он и с голубыми петлицами потому, что он был богом неба в древности, богом дневного света, даже главным богом, светозарным Люцифером. Это даже в этимологии слышится: «Дье» — по-французски «бог». Деос, Теос, Зевс — того же корня, как и литовское — Диева. Отсюда же английское слово «дэй» и ваше русское «день». А иудейский Ягве от меня — от Бхаги, Бхагвы. И ваше славянское «бог» тоже.
— И ты действительно сбросил Люцифера с неба?
— О нет, не такие отношения между богами. Это все вы, люди, придумали. Олицетворили природу, как обычно. День сменяется ночью, свет сползает под землю, сброшен, кем? Очевидно, более сильным богом. Но ты слушай, не перебивай меня, этак мы не доберемся до сути. Ты смотри на сцену. Я же не зря тебе показываю.
Я умолк пристыженный.
— Смирна-а-а-а!
Ряды подтянулись, подбородки задрались, груди выпятились еще сильнее. Заслоняя строй, выдвинулся некто коренастый, с генеральскими эполетами. К сожалению, лицо главного бога мне не показали, я видел только плотную спину, обтянутую гладким, белым с золотом мундиром.
— Товарищи курсанты, — раздался начальственный голос, — поздравляю вас с окончанием первого образцового училища богов.
Тройное: «Ура! Ура! Ура!»
— Перед вами, товарищи курсанты, поставлена важнейшая вселенская задача. Вы знаете, что на долю нашей цивилизации выпала особая роль. Мы первый и единственный разум в пределах ближайших галактик. Не буду перечислять наши успехи и достижения, вы знакомы с ними по курсу истории. Но наука утверждает, что успехи эти были бы больше, разнообразнее, богаче, стремительнее, если бы мы имели возможность вступить в общение с другими разумами, сравнивать наши пути с другими путями. И вот вам, вашему выпуску и предстоит начать величественный труд по созданию иного разума, наших разумных братьев, разумных учеников, разумных соратников, не последователей, а соратников. Но мы много раз говорили вам об этом на лекциях, нет смысла повторять. Желаю вам успеха!
Ура! Ура! Ура!
Вероятно, церемония длилась достаточно долго, но старик не стал мне показывать все подряд. В следующей сцене я увидел только, как в строй возвращался Дьява. Пристукнул левой, пристукнул правой, четкий поворот на каблуках, замер.
— Второе место — Бхага!
Румяный и краснощекий с выпученными глазами чеканит свои три шага. Вытянулся. Ест глазами начальство.
Кто-то невидимый, вероятно, командир взвода, докладывает:
— Курсант Бхага, отличник боговой подготовки. Всемогущество — пять, всезнание — пять с минусом, всесозидание — пять с минусом, вездесущность — пять, творчество — пять с минусом, гуманность всемилостивейшая — пять. Курсант Бхага, готовы ли вы посвятить себя торжеству разума во Вселенной?
Чеканит наизусть:
— Принимая с глубокой благодарностью даруемое мне звание бога-координатора, я даю торжественное обещание не помрачить честь сословия, в которое вступаю. Клянусь во всякое время способствовать по лучшему моему разумению зарождению, росту и развитию разума во Вселенной и никогда, ни в каких обстоятельствах не применять данное мне доверие разуму во вред. Снова генерал. Все со спины его показывают.
— Курсант Бхага, вручаю тебе всемогущество.
— Курсант Бхага, наделяю тебя вездесущностью.
— Курсант Бхага, вручаю тебе волшебный дар всесозидания.
— Курсант Бхага, подключаю тебя ко всезнанию.
Четыре коробочки принимает юный бог, три кладет в наружный карман, волшебную палочку оставляет в левой руке.
— Курсант Бхага, тебе присуждается звание младшего бога-координатора второй ступени.
— Служу вселенскому разуму!
Повернулся. Щелкнул каблуками — ив строй!
— И тебя распределили на нашу Землю? — догадался я.
— Да, распределили. Но одновременно послали в друга моего, вечного соперника — Дьяву, поручили разработать два проекта независимо, «альтернативных», у вас любят это ученое слово.
Глава 2. РАЙ
Земля ваша очень понравилась мне, пришлась по душе. Сочная планета! Этакая игра красок, столько жирной зелени, густой синевы в небе, желтого простора песков, шумных волн, крутых обрывов, тенистых ущелий. Разнообразная планета и юная, полная жизненной энергии со своими вулканами, ураганами, смерчами, водопадами, наводнениями, погонями и прыжками, воем, визгом, воплями. По-детски подвижная, по-детски жизнерадостная и по-детски жестокая, бурливая, драчливая. Увлекательная планета. Так и тянуло поработать с ней, засучив рукава.
Перед отбытием предупредили нас с Дьвой, что у нас был предшественник, неудачник, которого снимают как не справившегося с заданием. Впрочем, пожалуй, и винить его нельзя, перегрузили бога, назначили куратором трех десятков смежных планет, всех на разных стадиях развития, с жизнью зарождающейся, развивающейся, развитой, преждевременно угасающей, водной, донной, выходящей на сушу, безусловнорефлекторной, условно-рефлекторной; все они требовали пригляда. Вот он и приглядывал за ними, обходя все по порядку, как шахматист на сеансе одновременной игры, всем уделял равное время для обдумывания следующего хода и не учел, что главная партия — земная — играется в темпе «блиц». Здесь уже назревало сознание, а сознание разрастается быстро, мгновенно, с точки зрения космической. На Земле тот куратор сделал ставку на струтиомим — если знаешь, это поздние динозавры, двуногие с длинной шеей и длинными руками. Ваши палеонтологи назвали их струтиомимами, страусоподобными. Двуногих-то немало было среди динозавров, но обычно передние конечности у них атрофировались за ненадобностью, пасть заменяла рука. Однако у страусоподоб-ных как раз была не пасть, а клюв, не слишком большой, а руки длинные и загребущие. Дело в том, что питались они яйцами всяких там трицератопсов и даже страшных тираннозавров. Вот им и нужны были руки и даже с длинными пальцами, чтобы осторожно вынимать яйца из гнезда и уносить, не помявши скорлупы. Очень ловкие, очень умелые оказались руки, так что за каких-нибудь три тысячи лет эти ненасытные ящеростраусы ухитрились уничтожить все потомство динозавров, весь их род загубить, загубили источник пищи и сами вымерли от голодухи. И когда тот куратор закончил свой обход по кругу, увидел он опустошенную планету: ни морских гигантов, ни сухопутных, ни болотных, ящерки да сумчатые крысы, пожиратели падали.
Я знаю, ваши ученые по сей день рассуждают, почему это внезапно вымерли на Земле динозавры. Каких только причин не напридумали: естественный отбор, вытеснение ящеров млекопитающими крысами, и наклон земной оси, и оживление вулканизма, и временное похолодание Солнца, и прохождение сквозь туманность Ориона, и перемагничивание, и падение комет, недавно какую-то невидимую Немезиду изобрели еще. А на самом-то деле вся суть была в неумеренном аппетите любителей сырых яиц.
На всю жизнь запомнилось мне, как сдавал нам дела куратор-неудачник. Невидимый был, как все мы, на экране его не стоит показывать. Динозаврам являлся он динозавром — с тощей шеей, клювом, разбивающим скорлупу, и цепкими лапами с длинными пальцами. Струтиомимы-то его называли по-своему, но у них членораздельной речи еще не было: клекот, свист и щелканье. Клекот и щелканье вам ничего не скажут, а наше собственное электромагнитное имя вы не услышите, оно для вас беззвучно. Будем говорить: «прабог». Итак, этот прабог сдавал дела двум молодым, младшим по званию богам, понимаешь его двусмысленное положение. Он — бывалый, мы — новички-сосунки, но он потерпел фиаско, нам исправлять. Он имел полное право уйти с обидой, дескать, не доверяете, ну и расхлебывайте, как сумеете, однако считал своей обязанностью сообщить все, чему научился. И мы слушали без особого внимания. «Мол, все это ерунда, пустые слова, самоутешение провалившегося». А он, такой же всепроницающий, как и мы, конечно, читал наши мысли, но все-таки повторял и повторял подробности. И в конце концов я стал прислушиваться, а Дьява даже и не старался прикидываться внимающим. Он с самого начала решил всю здешнюю жизнь уничтожить и начать на пустом месте сначала, так, чтобы полный простор был для его дьявольского творчества.
Позже он сказал мне пренебрежительно: «Старикан проиграл партию, а теперь оправдывается, утешает себя, что у него были удачные замыслы: «Если бы я пошел не конем, а слоном…» Пустое дело перебирать «если бы… если бы…». Наша игра — новая игра».
Я же, не столь уверенный в себе, все-таки прислушивался, кое-что запомнил и кое-что заимствовал. Решил, что и на чужих ошибках невредно ума набраться.
Основная мысль прабога была: не надо спорить с природой! Жизнь на вашей Земле складывалась миллиарды лет, сложилась переплетенная, взаимосвязанная и уравновешенная. Всякое существо, придуманное нами, будет инородным телом. Необыкновенно трудно предвидеть все препятствия, с которыми оно встретится: тяжесть ли невыносимая, легкость неуместная, излишек озона, недостаток кислорода, микробы, микроэлементы — это же все на опыте надо выверять, заранее не вычислишь. Поэтому разумнее взять за основу какое-либо земное животное, природное, прирожденное, миллиардами лет приспособленное к земной жизни. Которое? Прабог выбрал струтиомим; его прельстили развитые руки с длинными пальцами, уже подготовленные для производства орудий. Но вот упустил он время, и руки эти расхитили яйца, прежде чем мозг додумался до инкубатора, хотя бы лепешками догадался заменить яичницу. Так или иначе, струтиомимов больше нет. Надо взять за основу другого зверя, желательно двуногого, с освобожденными для труда конечностями. О кенгуру подумал я прежде всего, поскольку они и внешне напоминали пресловутых струтиомимов. Но отказался… все-таки сумчатое, млекопитающее из примитивных, слишком много возни с переделкой мозга, да и передние лапки коротковаты, уже редуцируются. Белочки привлекали меня: приятный зверек, ловкий, смышленый, орехи так ловко умеет в лапках держать, шишки шелушить, да и глазомер и мозжечок великолепный; без первоклассного мозжечка с дерева на дерево не прыгнешь. Но мелковаты. Не должно разумное существо жить в вечном страхе, перед каждой кошкой трепетать. А увеличь размер, и потерялось бы все: и изящество, и ловкость. Сам знаешь, носорог по веткам не прыгает… ломит вслепую.
О медведе подумывал я — всеядный зверь, и смышленый, и достаточно могучий, от кошечек улепетывать не будет. Но вот лапы когтистые, неподходящий инструмент для труда. А переделаешь когти в пальцы, оставишь хищника без добычи. Так что остановился я, как ты сам догадываешься, на обезьяне. Почему-то в ученых ваших трудах принято уверять, что это была не обезьяна, а общий предок человека и человекообразных обезьян. Очень любите вы играть словами: и обезьяна и вроде бы не обезьяна — общий предок. Общий предок, но не обезьяна; легче на душе человеку, венцу творения.
Но и потрудился я над этим общим предком основательно. Четыре сотни признаков сменил: шерсть убрал за ненадобностью; выпятил подбородок, а губы сократил ради членораздельной речи, выпрямил позвоночник, мозжечок увеличил, чтобы равновесие сохранял безупречно и при ходьбе и при беге на двух ногах, это же не шутка на двух ногах балансировать; ноги удлинил, а руки укоротил, чтобы не было соблазна бегать на четвереньках; лоб выпуклый сделал над бровями, поместил там волю — орган целеустремленности, власти над порывами, извилины процарапал в мозгу, чтобы клеток коры натолкать туда побольше. В общем, потрудился. Разумное и красивое получилось существо. Я был доволен собой. Совершенно справедливо сказано в вашей Библии: И увидел бог дела рук своих, и сказал: «Это хорошо!»
Главное, что комиссия Совета Богов тоже сказала «Это хорошо! Это мы примем за основу с последующими доделками». И куратором вашей Земли назначили меня — младшего бога, бога-новичка. А проект Дьявы отклонили, хотя он много чего там придумал интересного. Почему отклонили? Потому что при всей его оригинальности в нем не было оригинальности. Дьяве всегда хотелось все смести и на голом месте начать с самого начала. Но что ему придумывалось, отличнику школы богов, потомственному богу? Невольное продолжение нашего собственного разума. А нам — народу богов — хотелось же иметь дело с разумом чужим, развивающимся, пусть при нашей поддержке, но на иной основе. Непохожесть нам нужна была для сравнения, для вариантов, для спора. И в результате богом-координатором назначили меня, а Дьяву прикрепили ко мне для помощи, всего лишь консультантом. Впрочем, впоследствии ему отвели и отдельную пустую планету — опытный полигон.
— А он, обидевшись, решил вымещать зло на людях? — предположил я.
Бхага покачал головой укоризненно:
— Опять вы лепите богов по своему образу и подобию, люди Не приписывайте нам своих грехов, пожалуйста. Просто у нас были разные позиции с Дьявой. Мы спорили, он возражал, опровергал, высмеивал меня, издевался даже. Все твердил: «Ах, какая свежая мысль пришла тебе в голову, Бхага! Додумался же: божественный разум засунул в тело обезьяны!» И предсказывал: «Ты еще наплачешься, Бхага, со своим гибридом, распутывая противоречия ума и тела. Увидишь, обезьяна подавит божественное, тебе усмирять ее придется непрерывно. Нарочно, что ли, трудности нагородил для себя?» И все подзуживал: «Давай устроим потоп, смоем все начисто, подсушим и начнем на просторе сначала».
Нет, я Дьяву хулить не буду, он бог талантливый, с острым умом и острым взглядом, недостатки видит с лету, вот и осуждает все подряд. Я к нему прислушивался всегда, так же как в свое время со вниманием слушал и прабога, нашего неудачливого предшественника. Слушал, вносил поправки, не упрямился. Дьява же со своим легким умом, с легкостью и зачеркивал начатое, решительно отказывался от собственных планов, сдувал формы, смахивал атомы и начинал заново. Поэтому на его планете так и нет ничего толкового, все эскизы да заготовки.
И на Земле он тоже напутал немало. Он считал, что я зря держусь за один-единственный сухопутный вид разума, предлагал и другие стихии все заселить: воздух, воду, земные глубины и огонь. Сотворил всяких змеев, водяных, леших, русалок, гномов, саламандр, кикимор болотных. Но они повымерли все, оказались нежизнеспособными, не выдержали борьбы за существование с человеком.
Итак, не ленился я вносить поправки, совершенствовать человека; увязывать его с земной природой. Пожалуй, и весь мой дальнейший рассказ — это история исправлений.
Но об исправлениях я задумался позже. А пока что со старением я готовил уютное гнездышко для моего новоявленного светоча разума. Мне хотелось, чтобы у него были все условия для беспрепятственного развития, чтобы ничто не отвлекало бы его от размышлений: ни опасные хищники, ни суровая непогода, ни зной, ни холод, ни мелочные заботы о ежедневном пропитании.
Я подобрал для него уединенный островок неподалеку от Цейлона. Ни тигров, ни змей на островке, только пташки да черепашки. Вечное лето двенадцать месяцев в году, зной смягчается морским ветерком, закрытая лагуна для безопасного купания, пляж с белоснежным коралловым песком. Белков и витаминов вдоволь: насадил я кокосовые пальмы, бананы, фиги и финики, хлебное дерево, бобы, кофе и какао, грецкие орехи, чтобы жиром обеспечить, ягоды всех сортов, южные и северные, не посчитался с ботаническим районированием. В общем, полновесное питание обеспечил, но вегетарианское. Решил: пускай мое создание обойдется без мяса, без кровопролития.
Цветы перечислять не буду, такую оранжерею устроил, школа эстетики. На орхидеи нажимал главным образом, каждый цветок расписывал по-другому.
Но самым главным моим произведением было Дерево Познания…
— Познания Добра и Зла, — не удержался я. Очень уж хотелось мне показать свою осведомленность.
— Нет, почему же, не только Добра и Зла, Дерево всякого Познания, — поправил он недовольно. — Это хорошо, что ты, материалист, не поленился познакомиться с Библией, но там же все искажено. Естественно: изустное предание как игра в испорченный телефон — кто-то недослышал, кто-то недопонял, кто-то истолковал по-своему, в соответствии с собственным вкусом, взглядами, моралью. А ты никогда не задумывался, ведь то, что написано в Библии, противно всякой логике: Господь Бог сажает в Раю два волшебных дерева и почему-то запрещает пробовать плоды. Если запрещает, почему же сажает? Сам же вещает: «Не введи во искушение!» Чистейшая провокация. Церковь пыталась объяснить, запуталась в своих объяснениях, придумала демагогическое оправдание любой нелепости: «Пути господни неисповедимы».
— В старой Библии, что досталась мне от прадеда, написано: «Господь посадил эти деревья для украшения», — вставил я.
— А в чем заключалось Добро и Зло, которое полагалось скрыть от Адама и Евы? — продолжал Бхага. — Оказывается, Добро, если верить авторам Священного вашего писания, в том, чтобы не показывать половые органы. В фиговом листочке Добро, в наготе Зло. Видать, большие сладострастники были твои предки, человек. Как увидят голое тело, так и кидаются насиловать. Недаром в Библии целая глава отведена греху обнажения: «Тетю свою не обнажай, свояченицу не обнажай, мать тоже не обнажай!»
Нет, совсем не так было, не в наготе был смысл познания.
Посадил я на том благодатном острове дерево мудрости, и плод начинил старательно главами учебника жизни. На нижних ветвях поместил простейшие сведения — о растениях и животных, о землях и звездах, чуть повыше грамоту и четыре правила арифметики, повыше законы физики, биологии, физиологии, психологии, далее ветки для этики, эстетики, философии, истории, божественной истории, конечно, ваша не возникла еще. Все это я продумывал неторопливо, отбирал самое необходимое, отбрасывал вторичное, каждый плод начинял по отдельности, старался последовательность выдержать, В общем, составил полный учебный курс по развитию разума. Любовно составлял и со старанием, самому интересно было свое всезнание упорядочить. С любовью развешивал плоды по веткам, как елочные игрушки, и каждый раскрашивал по-своему, ярким цветом ли или узором, знаками какими-нибудь помечал. А на самую макушку, куда труднее всего было добраться, навесил я плоды Бессмертия. Не отдельное дерево Бессмертия, а плоды на дереве Знания. И не запрещал я их пробовать вовсе… если запрещать, к чему же и создавать? Поместил же я их на самый верх, как бы в награду за прилежное учение. По-моему, рассуждал вполне логично: сначала стань богоравным по разуму, потом уже получай и заслуженное бессмертие. Бессмертие ни к чему полузнайке, вчерашней обезьяне. Мы же товарищей для себя хотели создать, а не вечных дурачков. И еще одну предосторожность предусмотрел я. Знал я, что мозг у вас ограниченного размера — полторы тысячи кубиков в среднем — и ограниченной мыслепроводимости, способен впитывать столько-то бит в секунду, семь фактов за один присест. Значит, надо было обезопасить первого человека от мыслеперегрузки, чтобы не объелся знаниями до головной боли, до воспаления мозга, Я тебя упаси. Поэтому сделал я плоды познания горькими, не отвратительными, но вкусно-горьковатыми, так чтобы человек не объелся бы мудростью. Пусть откусит кусочек, переварит основы, буквы для примера, смоет горечь каким-нибудь фруктовым соком, отдохнет и продолжит: примется за слоги и слова.
Наконец готова моя райская квартира, оборудована райская гимназия, ожидают жильца и школьника. Дух переводя, берусь за создание человека по модели… не из глины, конечно, но по глиняной модели из белков, нуклеинов, углеводов, жиров. Заготавливаю клетки сначала, потом монтирую из клеток ткани, из тканей органы. И вот стоит он, вот он ходит по кущам и рощам красавец мужчина, нагой и кудрявый, образцовый натурщик для фрески Микеланджело в Сикстинской капелле, первый человек, образцовый человек, прекрасный человек.
И увидел Господь Бог дело рук своих и сказал: «Это хорошо!»
Да, доволен был я делом своих рук, да, любовался, да, гордился, как скульптор и как отец. Да, то и дело заглядывал в Рай, хотя забот было полно и на других материках, даже и за пределами планеты. Но я уже говорил тебе, что наша физиология позволяет вездесущность. Можно пребывать и на Марсе и на Солнце, но частично оставаться и на Земле. Так что обычно я держал и в Раю частичку своего Я, чтобы сообщала она всему моему естеству, что будущий наш сотоварищ жив, здоров, хорошо спит, хорошо питается, купается в меру, в меру загорает и не переутомляется: чаще полеживает в тенечке, посасывая какой-нибудь витаминами начиненный персик.
Посасывает персики, финики жует, орехи грызет… но к древу Познания не притрагивается. Один только раз сорвал самый яркий плод огненного цвета, надкусил его и тут же выплюнул — язык жжет. И правильно, должен был жечь язык, потому что в том плоде были слова. Вот Адам плевался, плевался и научился говорить. А огненным цветом я окрасил тот плод потому, что в нем был скрыт еще и секрет разведения огня. Все-таки Рай раем, на экваторе, но ночь-то 12-часовая, непроглядная, а под утро прохладно. Так что с первого кусочка усвоил Адам самое наиважнейшее: речь и огонь.
Но более к дереву Познания он не подходил ни разу. Запомнил: горько!
Честно говоря, не я это заметил. Это Дьява мне подсказал. Я-то относился к делу рук своих восторженно, а он — великий скептик — все искал к чему придраться, и он сказал мне:
— Лентяй этот, твой биологический робот. Ест и спит, спит и ест. Животное. Ну у животных лень-то оправдана: они пищу добывают с трудом, с опасностью для жизни, надо беречь энергию, не растрачивать ее в пустой беготне. Но твой-то помещен в тропическую теплицу, запасы ты ему наготовил на тысячу лет, чего ради экономить?
И посоветовал выжечь лень дотла, чтобы и духу лени не было.
Но я не люблю этой разудалой размашистости: «всех утопить», «всех распылить», «выжечь дотла»! Я божество, склонное к умеренности, к терпимости, к компромиссам даже. Знаю, что вам умеренность не по вкусу, вы предпочитаете Дьяву с его крайностями: «Черное — белое», «святое — преступное», «рай небесный — ад кромешный», «гений — кретин», «идеал — гнусь», «любимый друг — безжалостный враг» и «если враг не сдается, его уничтожают». У вас даже и в религии Люцифер светоносный мгновенно превращается из ангела в изувера и садиста — владыку ада. Но эта неуважаемая мною неумеренность ваша проистекает из непонимания сложности. На самом деле в природе нет доблестей и пороков, есть свойство, унаследованное от обезьян, а обезьянами аж от инфузорий, свойство, полезное для экономии пищи и вредное для учения. Даже и Адаму в его сытном и безопасном раю незачем было наедаться до отвала, а потом носиться туда и обратно, чтобы утрясти излишек жратвы. Так что лень я ему укоротил, но все же оставил. А укоротил лень инъекцией доброй порции скуки.
Глава 3. ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ
Изобрел я скуку, сделал Адаму инъекцию, во сне, конечно, безболезненно, и наутро увидел, как слоняется он, бедняга, по берегу и зевает, рот раздирает, аж губы лопаются на уголках.
Не я придумал зевоту, Адам получил ее вместе с обезьяньим своим телом. Любопытный жест, тоже полезный физиологически. Животное проснулось, надо к деятельности приступать, вот оно и разевает рот пошире, чтобы больше кислорода вдохнуть, мозг снабдить щедрее.
То же и при скуке: получай мозг усиленную порцию кислорода, придумай, чем заняться!
Итак, Адам зевал что есть силы, мозг насыщал кислородом, но мыслей не рождал. Неоткуда ему было брать мыслей, еще не заполнил извилины. А к дереву Познания не тянуло: горько!
И он очень обрадовался, когда увидел меня.
— Боже! — воскликнул он. — Вот хорошо, что ты явился вовремя. Давай покалякаем, а то у меня язык присох к нёбу.
— Поговорим, — согласился я. И приготовился изложить ему содержание хотя бы самых нижних плодов с дерева Познания.
Но Адам по-своему понимал беседу. Ему хотелось не лекцию слушать, а самому языком трепать.
Попутно отмечаю еще один ваш людской недостаток, беду, пожалуй, вы очень любите делать то, что легко дается, с наслаждением занимаетесь легким и привычным. Говорить Адам умел, ему и хотелось говорить, а не мозги напрягать, в новое вслушиваться.
И Адам начинал плести:
— Слушай, Господи, какой мне сон приснился. Будто бы зашел я в море, глубоко зашел, так что по грудки. И вдруг в лицо мне волна. Обдала брызгами, я губы облизал, а брызги сладкие. Каждая брызга — ягода, тутовая, только без пупырышек. Господи, а в самом деле, ты для чего сделал море соленое? Ты его лучше вкусным сделай, как апельсиновый сок… или еще лучше — ананасный, я ананасный больше всех люблю. А от соленого у меня изжога. Зачем ты, Господи, придумал изжогу? Ты сделай так, чтобы изжоги не было совсем.
Вот такие у нас пошли беседы: спал, пил, ел, переел, изжога, отрыжка, жарко, прохладно, мягко, жестко, бок отлежал… И сделай, Господи, то, переделай другое. Как будто я у него личный семейный врач и заодно камердинер.
А только отлучишься, тут же взывает:
— Господи, где ты? Господи, я так давно тебя не вижу. Господи, мне без тебя скучно, мне без тебя страшно одному.
И это прародитель галактического разума, родоначальник сотоварищей богов!
Кроме всего, мешал он мне отчаянно со своей скукой. Я же отвечаю за всю планету, должен поддерживать порядок в климатических зонах, во всех регионах. Ведь природа-то, она слепа, совершенно не похожа на ту милую девицу в венце из роз, которую я тебе показал как символ. Природа все время норовит нарушить равновесие: то у ней извержения по разломам, то материки налезают на материки, громоздят горные цепи, вулканы выбрасывают углекислый газ, известняки глотают углекислый газ, солнечные пятна с магнитными бурями, озонные дыры, ледники наступают, ледники тают, астероиды грохаются то и дело, запыляют атмосферу. Всюду глаз да глаз, этакая планетарная служба ГАИ, а тут какой-то зевающий лодырь тянет за рукав:
— Нет, ты скажи, Господи, почему ты прячешься от меня? Какие такие дела у тебя, Господи? К кому ты еще шастаешь? Ах, тебе скучно со мной. Ты сотворил меня себе на потеху, а теперь я надоел уже? Ты меня не уважаешь, да?
— Уважаю, уважаю, честное божественное слово!
— А если уважаешь, почему не хочешь дослушать?
Уважаешь не уважаешь, уважаешь не уважаешь! Бессмертная тема! И это будущий собеседник богов!
Да к тому же собеседник этот сделал самостоятельное без моего ведома открытие. Соки ему все нравились: ананасный, персиковый, виноградный. Напьется до отвала, иной раз еще и про запас жмет. Ну вот и нажал он виноградного сока, оставил, забыл, потом выпил забродившего… И выслушал я еще один монолог об уважении уже на пьяной основе. А тут как раз некогда было заниматься перевоспитанием, вся моя вездесущность потребовалась на Совете Богов, мне надо было отлучиться на год—другой и чем-то занять болтуна, только бы не вином.
— И ты сотворил Еву из его ребра? — подсказал я.
— Однако неплохо ты помнишь Библию, материалист, — усмехнулся снова божественный. — Да, сотворил Еву, не из ребра, само собой разумеется. Нет, женщину я делал заново, с полнейшим старанием, и, наверное, сделал лучше, чем мужчину, прочнее, во всяком случае. Опыта накопил, неточностей не повторял. Но исходный материал был тот же самый: тело самки-обезьяны, шкуру долой, выпуклый лоб и острый подбородок для подвижности языка, для дикции членораздельной, тонкие надбровные дуги, лицевые мускулы для мимики, бедра пошире, талия потоньше. Такая получилась крепкотелая, полногрудая, с широким задом и светлой косой до колен женщина-мать, здоровая прародительница здоровых детишек.
Колоритная встреча была у них — у Адама с Евой. Простодушный Адам удивлен был прежде всего. Рот раскрыл, так и забыл закрыть. И все палец тянул пощупать: что это такое, живое или неживое, мягкое или кусается? Ева же освоилась сразу, немедленно вступила в игру, демонстрируя показной испуг: «А ты не злой? Ты меня не обидишь?» Польстила тут же: «Ты такой могучий, сильнее тебя никого на свете нет. Наверное, ты меня на одной руке унесешь».
Напросилась «на ручки».
И не требовался я в Раю более. Больше Адам не взывал ко мне: «Боже, приходи, поговорим». Я нарочно наделил Еву повышенной разговорчивостью, чтобы тему не подыскивала, сначала рот раскрывала, потом уже думала, что именно сказать. Так что Адаму ее словоохотливости хватило с лихвой. Еще добавил я Еве повышенное любопытство. Надеялся, что из любопытства не пропустит она древа Познания, заставит Адама лезть за все новыми плодами, выше и выше, пока не доберутся они оба до вершин познания, до бессмертия самого.
В общем, отлучившись в Галактический центр, я оставил идиллическую картину. Ева плела венки и гирлянды из орхидей, маков, роз, сирени, лилий желтых, белых и оранжевых с черными разводами, прикладывала их к волосам, накидывала на плечи, на пояс и пропускала между грудей, принимала позы одна другой картиннее и все выспрашивала: «Идет мне? А что больше идет? Какие лучше — желтенькие или лиловенькие? А что в прическу вплести — белое или алое? А так я тебе нравлюсь? А как больше нравлюсь? Наверное, разонравилась, ты на меня не смотришь. Любишь, да? А если любишь… достань мне ту махровую розу. Нет, не ту, совсем другую. Фу, какой недогадливый! Ах противная роза, она меня уколола. Гадкий мальчик, поцелуй сейчас же пальчик! Еще и еще раз, пока не пройдет. И этот тоже. А ты совсем не боишься колючек? Ну тогда сорви мне еще…»
И я удалился успокоенный. Я понял, что Ева не обойдет своим вниманием пестрое дерево Познания.
— Змей подговорил ее, — напомнил я. — Дьявол в образе змея.
И опять не угадал.
— Ах, люди-люди, все зло да коварство в ваших мыслях, — вздохнул Бхага. — Повторяю тебе: боги выше зла. У богов есть свои мнения, свои позиции, но вредить друг другу они не станут никогда. Пакости богам и в голову не придут. Никакого вмешательства не потребовалось, все шло естественным порядком. Первые люди жили себе в Раю, забавлялись, миловались. Ева частенько отсылала Адама с поручениями, ей очень нравилось давать поручения. Она чувствовала себя такой могучей, командуя самым сильным на свете существом, ведь сильнее Адама в Раю-то не было никого: пташки, черепашки да олешки. И Ева все распоряжалась: «Достань мне то, достань другое!» В конце концов дошла очередь и до дерева Познания: «Достань мне то клетчатое яблоко!» Напрасно уверял Адам, что плоды этого дерева горькие и жгучие. Ева не верила или притворялась неверящей. Изображала обиду: «Ты жадный, ты эти плоды для себя одного бережешь. Нет, я хочу, я хочу именно этот клетчатый, никакой другой. Тебе жалко для меня, да? Такая твоя любовь?»
И Адам полез и сорвал клетчатое яблоко, где была таблица умножения, всего-навсего, да четыре действия арифметики и простейшие корни.
Ева откусила кусочек, проглотила таблицу умножения, сморщилась и заплакала:
— Ой, гадкий, ты отравил меня нарочно, да? Ой, у меня головка болит. Ой, я ничего не понимаю. Значки какие-то перед глазами. Загадки бессмысленные, недоговоренности: дважды один — два, дважды два — четыре, дважды три — шесть. Какие два, какие шесть? Ничего не сказано. Стучит и стучит в голове, никак не выкинешь. Адамчик, миленький, я не хочу видеть это противное дерево. Я не хочу слышать про эти безликие пустые тройки и шестерки. Я догадываюсь, что они предназначены, чтобы вытравить настоящее чувство, подлинную нежность, истинную любовь. Ими будут играть жестокие равнодушные люди, поклонники голого рацио (и откуда Ева выкопала такие слова?). Адамчик, если ты настоящий мужчина, если любишь меня на самом деле, ты должен срубить это гадкое дерево.
И Адам решил проявить себя настоящим мужчиной, доказать подлинную любовь. Срубить могучее дерево он не мог, топора у него не было, он еще не стал животным, производящим орудия, но плод познания огня вкусил, не раз уже восхищал Еву, разжигая костер в прохладные вечера. И он решил спалить дерево Познания. Даже очень гордился, какой кострище сумел разложить. Собрал огромную охапку сухого хвороста, взгромоздил кучу плавника, высек искру из кремня…
Как раз, когда я вернулся, дерево пылало вовсю. Пламя выло, пожирая сучья и ветки. Съеживались и обугливались плоды познания, в бессмысленные угольки превращались с такой любовью, таким старанием запрограммированные мною учебники алгебры, геометрии и высшей математики, механики, термодинамики, оптики, электротехники, атомистики, вакуумистики, космологии, темпорологии, биологии, ботаники, зоологии, цитологии, генетики, генопроектики… Ах, да к чему перечислять все науки, известные тебе и неизвестные? Если доводилось тебе видеть, как горит твой дом, который ты строил годами, во всем себе отказывая, может быть, ты поймешь меня. Я строил школу Разума для будущих сотоварищей, а они играючи превратили ее в тлеющие головешки.
Я говорил тебе, что мы — боги — не знаем злости и мести, но чувства есть и у нас, мы тоже живые существа. Я ощущал разочарование, я был опустошен и подавлен и пристыжен тоже; признаюсь честно, мне хотелось как следует наказать этих дурачков безмозглых. Да тут еще Дьява крутился рядом, сыпал соль на рану: «Я, дескать, предупреждал, с этими заплатами на животной основе ничего не выйдет. Обезьяна так и останется обезьяной, хотя ты и обрил ее. Надо было все стереть и начать заново на пустом месте. Давай решайся, я подмету планету в одно мгновение. Ах, не хочешь? Ну конечно, ты всепрощающий, всетерпеливейший. Молча утрешься, вырастишь второе дерево, потом третье и тридцать третье. Перетерпеть думаешь, добротой преодолеть глупость? Давай приступай, посмотрю, на сколько тысячелетий тебя хватит».
Да, собирался я приступать к восстановлению, утешал себя, что по второму разу легче будет: схема продумана, план в голове, подробности только вспомнить.
Подумал, но растить не стал. Все равно Адам будет от горечи отплевываться, а у Евы от таблицы умножения головка заболит. Потому что нет у них стимула для усилий, не нужны им эти познания в Раю, им и так хорошо: солнышко и тень, фрукты и цветочки да милые любовные забавы — что еще требуется для полного счастья?
И порешил я изгнать эту парочку из Рая.
— Послал ангелов с огненными мечами, — опять я щегольнул памятью.
Бхага пожал плечами:
— К чему эта бутафория: ангелы, огненные мечи. Все было сделано естественным путем: организовал небольшой ураган из тех, что подметают атоллы чище пылесоса. Пальмы я ломал как спички, бананы выдрал с корнем, скосил всякие там розы и лозы. Смоковницы кружились у меня в воздухе словно бабочки, гонимые ветром. И гром барабанил как в рок-оркестре, и молнии фехтовали в тучах. Возможно, Адам с Евой и приняли их за огненные мечи, а ангелов пририсовать с перепугу было уж совсем нетрудно. В общем, от Рая оставил я кучу кораллового песка да щепки, а Адам с Евой бежали, куда я и гнал их ветром, по цепочке островов, которые и ныне именуют Адамовым мостом, бежали на обширный материк с колючими чащобами, ядовитыми болотами и раскаленными пустынями, населенный и тиграми, и змеями, и слонами, и микробами.
— Значит, ты наказал их все-таки, Господи!
— Ничуть! Нисколечко. Просто я пришел к выводу, что в тепличном Раю разум не разовьется. Для развития нужна нужда — материальная заинтересованность.
И сказано было: «В поте лица своего будешь ты добывать свой хлеб», — процитировал я.
Глава 4. НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
И материальная заинтересованность сработала. Не сразу, постепенно, даже довольно медлительно. Я-то рассчитывал свое Древо Познания на десятилетний курс — на полную среднюю школу, а потребовалось не десять и даже не четыре тысячи, как по Библии, добрых сорок тысяч лет, чтобы дойти до современного уровня, едва ли это половина дерева. Но зато потомки Адама научились своим умом доходить.
И не попрекай меня, что я выбросил из Рая голого человека на голую землю. Не голые были люди, я вооружил их с самого начала Огнем и Речью. Огонь спасал от холода, от тьмы и от зверей; самые кровожадные хищники боялись огня. Что же касается Речи, это оружие Ева пустила в ход, как только ураган перестал завывать, крутить сломанные деревья в тучах и швыряться кокосовыми орехами. Чуть утихло, Ева выглянула из ямы, где они прятались между вывороченными корнями, и сказала жалобно:
— Адамчик, здесь очень холодно.
Адам выбрался из той же ямы на четвереньках, начал собирать сушняк. Дров я наломал предостаточно — и с зелеными стволами и с засохшими; вскоре огонек заплясал над хворостом. Люди почувствовали, что жизнь еще не кончилась.
— Адамчик, я покушала бы, — сказала Ева, робко улыбаясь.
Адам принес гроздь бананов. Вокруг валялись целые стволы фруктовых деревьев, выбирай на завтрак самые спелые плоды.
Насытившись, Ева повеселела.
— Адамчик, но здесь дует ужасно, — сказала она. — Укрой меня чем-нибудь.
Фиговые листочки в качестве плаща не годились. Адам принес Еве огромный лопух того же сломанного банана, и Ева завернулась в него — изобрела прообраз сари из зеленого листа.
— А где же мы будем спать, Адамчик? — продолжала она. — Неужели прямо на земле? Тут так сыро и грязно после дождя. И гады какие-то ползают. Еще укусят во сне.
Адам припомнил, как обезьяны устраивают гнезда на деревьях, на сук с развилкой кладут ветки, на ветки траву. Ева осмотрела висячий дом без одобрения:
— Адамчик, я же свалюсь отсюда, исцарапаюсь вся. На одну ночь полезем, но утром придумай что-нибудь получше.
Утром Адам предложил построить шалаш. Однако Ева забраковала «рай с милым в шалаше». Она уже думала о младенце, а для младенца шалаш не жилище, дымно и простудно.
— Адамчик, разве это защита от зверей. Нам нужен надежный дом… для троих.
— Третий? У нас будет ребенок… сын? — Адам расцвел от гордости.
— Будет, — обещала Ева. — Но для ребенка нужно надежное жилье. Я видела, тут звери живут в пещерах. Адамчик, ты не мог бы выгнать зверя как-нибудь?
— Выгоню. Огнем напугаю, — обещал Адам.
Вот так двинулся вперед прогресс. Голод диктовал, Ева требовала, Адам что-нибудь придумывал. В Раю Адам с Евой были приучены к обезьяньей фруктово-ореховой диете; недаром и по сей день истинные йоги питаются только фруктами и орехами. Но в Райском саду позаботился о плантациях я; на материке съедобные плоды надо было разыскивать среди несъедобных, лезть за ними или палкой сбивать. Палка служила заодно и примитивным оружием, потом к ней приделали каменное острие, потом камни научились обкалывать, потом, когда плодовые заросли иссякли, научились охотиться на крупного зверя с огнем, с копьями, с луками и стрелами. Всего этого в Библии нет. По Библии, сразу же сыновья Адама — землепашец Каин и пастух Авель. А на самом деле до скотоводства и хлебопашества дошло едва ли тысячное поколение потомков Адама.
— Тысячное поколение? Так что не Каин убил Авеля?
Бхага возмутился почему-то.
— В этом вашем «Божественном откровении» намешано всякого, не разберешь, чего там больше — униженной лести или клеветы на меня. Ну посуди сам, к чему мне нужны были жертвы Каина или Авеля — колосья и ягненочек. Мы же бестелесные, и уж, во всяком случае, не мясом и хлебом заряжаемся. Разве не ясно тебе, что легенда эта придумана пастухами? Они, дескать, милые и добрые, а злой и завистливый землепашец убивает робкого брата своего. Ведь на самом-то деле, это ты и по истории должен бы знать, именно скотоводы во все века были агрессорами: лихие конники, вооруженные пастухи, привычные к походам, к переездам и к грабежам. Им много земли нужно для пастбища, им всегда тесно было в самых просторных степях в отличие от земледельца, которого кормила какая-нибудь полянка. Впрочем, в другой библейской легенде, более поздней, дается противоположное решение. Голодный охотник Исав, без толку гонявшийся за дичью, отдает свое первородство надежно сытому земледельцу Иакову за чечевичную похлебку.
Кто же на самом деле изобрел убийство? Да многие, в разных местах, в разных странах. Перешли от фруктов к мясу, научились охотиться, убивать, проливать кровь антилоп, оленей, быков, медведей, мамонтов. Убивали и хищников, обороняясь, а потом пожирали прожорливых, не пропадать же мясу зря. Убивали сообща, деля добычу, спорили: «Ты забрал себе самое вкусное, ты отхватил кусок пожирнее». Спорили, а дубинки в руках, копья в руках, долго ли замахнуться? Я не зафиксировал, кто был самым первым убийцей. Это была бы формальность, как «пятимиллиардный житель Земли». Решили считать пятимиллиардным младенца, родившегося в городе Загребе после полуночи. На самом деле много было первых каинов. Как это говорится у вас: «Идея носилась в воздухе».
Я даже допускаю, что идею подала которая-нибудь из прапрапраправнучек Евы, неустанно внушавшая своему мужу — прапрапрапраадмиту, что он растяпа, разгильдяй и трус, добрый для чужих дядей, уступчивый за счет своих детей; из-за такого никудышного отца они недоедают, голодают, болеют, плохо растут, всю жизнь мучиться будут. И лопнуло в конце концов терпение какого-то незадачливого Каина, чьи дары не Бог отверг, а собственная жена осудила. И когда некий нахал, пользуясь своей завидной мускулатурой, вырвал у него сладкую печень убитого оленя, обделенный робкий трахнул своего обидчика по черепу. А жена не осудила. Она же поняла, что муж ради нее решился на преступление. Ради нее! Ради детей! Ради любви к ней! За любовь все можно простить.
Так они рассуждали в первобытные времена.
— Это непривычная какая-то точка зрения, — заметил я с некоторым недоумением. — Мы обычно считаем, что женщина куда добрее мужчины — символ нежности и участия.
— «Добрее», «злее» — понятия относительные, — неожиданно объявил Бхага. На диалектику вдруг повело этого бога. — Женщина добрее к близким, к своей семье, черствее ко всем остальным.
Еще праматерь Еву я наделил повышенной требовательностью, наделил не случайно и никогда не жалел об этом. Заботливая мать и должна настойчиво требовать, чтобы мужчина достал для ребенка все необходимое и про запас, хорошее, лучшее, наилучшее. Должна и будет требовать, просить, умолять, настаивать, клянчить, нудить, упрекать, напоминать, пилить, твердить, что если мужчина — настоящий мужчина, пускай он принесет. Вынь да положь! Могу повторить, что ненасытность эта в сильной степени способствовала прогрессу. Выносливый мужчина мог выспаться в яме, или же на ветках, или на голой земле, еще и щеголять своей неприхотливостью. Женщина не соглашалась держать ребенка на ветке («Еще свалится во сне!»). Женщина потребовала надежной пещеры и не просто пещеры, а удобной, безопасной и сухой, не просто сухой, а еще и с чистой проточной водой, а если не пещеры, то каменной хижины, или шатра, или чума, или шалаша. И не «лишь бы, лишь бы», не какого попало, а прочного и теплого, обитого шкурами, устланного шкурами и не какими попало шкурами, а выскобленными, обработанными да еще сшитыми так, чтобы получился узорный ковер.
И то же было с одеждой, то же было с утварью, то же с мебелью. Не только вещь, но еще и удобная, еще и красивая, так, чтобы самой смотреть было приятно, а соседкам завидно, чтобы, наулыбавшись для приличия, те бегом бежали бы к своему мужу с претензией: «Почему ты из всех мужей самый никудышный? Почему другой может, почему другой руки приложил, а ты у меня, горе ты мое!..»
Согласись, что и в ваше время женщины — главные потребители, главные знатоки обстановки и интерьера, мебели, ковров и обоев, главные ценители красоты, главные хранители эстетики, слушатели музыки, посетители театра, обожатели театра, обожатели теноров и поэтов. Сознайся, что без женщин захирело бы все ваше искусство…
— Да, но… — начал я, несколько задетый.
— Да, но… — согласился Бхага тут же. — Да, согласен, женщины, способствуя развитию культуры… технику развивали в меньшей степени. В ваше время женщина с охотой садится за руль, с удовольствием ведет машину, даже и лихо ведет, за гаечный ключ берется без большой радости. Женщина потребитель, так я ее задумал. Изобрести, изготовить, отрегулировать, исправить, смазать — все это мужское грязное дело, грубое, неэстетичное, даже недостойное. Недаром еще у праматери Евы от цифр «головка болела». Цифры внучки Евы воспринимали как некое необходимое удобрение для сада. Ничего не поделаешь, удобрения полезны, но кто же напоминает о навозе, угощая гостей сочной клубникой. Напоминать об этом не просто невежливо, это цинизм дурного тона.
Итак, мужчины обеспечивали материальную основу жизни, женщины думали об улучшении и украшении. Естественное разделение труда.
Но нет лица без изнанки. Даже и боги не могут обойти этот двуличный закон природы.
Женщины требовали, требовали достать любыми средствами, мужчины доставали. Но всех средств в их распоряжении было два: добыть и отнять. И отнимали при всяком удобном случае. Дрались, грызлись, глушили друг друга дубинками. Сначала у охотников драки были еще эпизодическими, не очень кровавыми. Ведь не было смысла проламывать череп соратнику из-за куска мяса, из-за одного обеда; к тому же и тебе могли проломить. Но в эпоху скотоводства выгодно стало «отнять». Угнал стадо и обеспечил себя на целый сезон, если не на всю жизнь. Тут игра стоила свеч, риск себя оправдывал. Но кто рискует, тот и проигрывает. Недаром Магомет разрешил иметь четырех законных жен, да еще наложниц столько, сколько прокормишь. Как ты думаешь, откуда взялась эта цифра «четыре»? Не я подсказал ее, подсказала демография аравийская. Из четырех юношей только один доживал до зрелости, до возможности жен взять. Рождение девочки считали бедствием, нередко закапывали в горячий песок новорожденных заживо. Спасением было для женщины четырехженство.
Чтобы иметь мужа, хоть одного на четверых, восточная женщина пошла и на стеснительные унижения, согласилась не появляться на улице с открытым лицом. Муж видел жену впервые на свадьбе, «покупал кота в мешке», в подлинном смысле покупал — за деньги… Если давал промашку, должен был снова копить деньги на другую жену. Женщины терпели, страдали… но и в том был смысл. Чадра избавляла их от конкурса красоты, невест сватали заочно.
Но это я зашел далеко вперед. У первобытных охотников тоже был недостаток женихов и тоже сложился конкурс красавиц. Были и «мисс Людоедки», и «мисс Дикарки», «мисс Оленья шкура», «мисс Тюленья шкура», всякие. Все старались украсить себя, если сама природа не создала красавицей, и все старались выглядеть совсем-совсем молоденькими, почти девочками.
Надо ли объяснять, почему молоденькие считаются самыми красивыми? Это я установил, я привил вам такой вкус. Вообще-то красота условна, но тут нужно было рациональное основание. Если бы красавицами считались зрелые матроны, у них была бы вереница обожателей, а молоденькие простаивали бы десятилетиями, поджидая седины и красивых морщин.
Рассказывая, Бхага попутно демонстрировал мне сценки выставки-распродажи в ателье доисторических мод на открытом воздухе. Судя по разнообразию материала и покроя, выставки эти проводились в разных землях, но всюду манекенщицы, подобранные по росту, стати и цвету волос, прохаживались взад и вперед по вытоптанным площадкам, приподнимая платье и виляя бедрами, так, чтобы видна была одежда в движении. На крайнем юге манекенщицы щеголяли пышными юбками из стеблей травы разного оттенка, от соломенного до ярко-зеленого и обязательно с красноватыми, как у ивы, стебельками. Другие показывали плащи и накидки из листьев, скрепленных гибкими веточками. Были также одежды из луба, плетенные как лукошки, невыносимо жесткие, но чего не вытерпишь ради красоты. Были одежды из тюленьих кишок. Но всего наряднее выглядели композиции из шкурок в желто-коричневой гамме, иной раз сложнейшая мозаика из треугольничков, квадратиков, полосочек, сшитых сушеными жилами. И наконец, последнее достижение заграничной текстильной промышленности — дерюга из некрашеной овечьей шерсти.
Манекенщицы прохаживались, крутя плечами и ягодицами, знатоки-закройщицы заглядывали сбоку и снизу, модницы морщили лобики, запоминая фасон. Наизусть запоминали, поскольку выкройки не прилагались в ту пору и журналы мод еще не выходили. Меховых магазинов не было тоже; каждая «ева» сама прикидывала, как бы заставить своего «адамчика» раздобыть неописуемую пятнистую или полосатую шкуру, так, чтобы всех соседок своей пещеры сразить наповал.
— Я нарочно наделил женщин повышенным интересом к красоте, — продолжал Бхага, — не только к своей собственной красоте, но и к красивой одежде, утвари, мебели. Красота — это чистота, а чистота — здоровье детей. Но у вас, у людей, удивительный талант все хорошее выворачивать наизнанку. Женщины стали говорить: «Мы — украшение природы, мы — цель творения. Мы лучше понимаем красоту, чем мужчины, мы сами носители красоты и изящества, наше вселенское назначение радовать мир красотой» И естественный вывод: «красоту надо оберегать, охранять трудолюбиво, беречь нежное лицо, беречь фигуру, талию тонкую. А что портит талию больше всего? Роды, конечно. Детей иметь рекомендуется, без детей нет смысла в жизни… но не слишком много: двух детишек, лучше одного. В муках рожать, да еще фигуру портить! Это же просто преступление против высшего назначения женщины».
— А зачем же ты повелел в муках рожать детей своих? — попрекнул я Бхагу, снова цитируя Библию.
Допустим, Ева провинилась перед тобой, разочаровала, таблицу умножения выплюнула, а внучки-то ее за что страдать должны?
— Опять клевета! — пожал плечами Бхага. — Я повелел в муках рожать? Да ничего подобного. Тут не ко мне претензии предъявляйте, к Дарвину с его естественным отбором. Ведь внучки-то жили не на Райском острове, на материке, а в ту пору тигры, слоны и носороги еще не числились в Красной книге. Рожали легко широкобедрые, без всяких мук рожали, но они плохо бегали, неуклюже, чаще попадали в когти, чем длинноногие. Вы же до сих пор считаете длинноногих красавицами, восхищаетесь: «Ах, какие длинные, какие стройные ножки!» «Едва ль найдешь во всей России ты пару стройных женских ног!» Ну вот природа и отобрала, естественно, стройноногих, узкобедрых, туго рожающих Они-то и подняли крик: «Ах, дети портят фигуру! Ах, достаточно одного ребеночка, скажите спасибо и за одного!» Девственность возвели в культ, храмы весталок понастроили. Бездетность! — ставка на вымирание, тоже мне идеал!
И в результате, сам можешь догадаться, род людской начал иссякать. Времена были дикие, тигры невоспитанные, в клетках еще не сидели в зоопарках. Плохо бегали не только широкобедрые, но и маленькие детишки, они попадали в когти чаще. Физиология женщины как рассчитана? Десять родить в среднем, чтобы из десяти хоть двое смогли вырасти, потомство дать. А тут вместо десяти один
Понял я, что надо мне вмешаться, принять меры против этой эпидемии бездетности. И не только о количестве позаботиться, но и о качестве, так, чтобы каждое новое поколение было лучше предыдущего.
И, переходя на торжественный библейский стиль, Бхага заключил горделиво:
— И была ночь, много — тусклых ночей, и был день седьмой. И на седьмой день создал Господь Бог любовь, и увидел дела рук своих, и сказал: «Это хорошо!»
— Это ты придумал хорошо, — согласился и я, смертный.
Глава 5. ВЫБОР
О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои как два голубя, волосы подобны козочкам, спускающимся с горы, зубки — белоснежные ягнята, вышедшие из реки, один к одному, словно одна мать их родила. Алая лента — уста твои, а речь твоя слаще меда.
Песня Песней
— С любовью это ты придумал хорошо, — повторил я. — Красиво придумал. Но я не совсем понимаю, при чем тут улучшение рода человеческого?
— Вот тебе на! — подивился Бхага. — Неужели такие вещи надо объяснять специалисту-психологу, кандидату наук? Любовь — это и есть выбор. Невеста-девушка выбирает отца для своих детей, самого наилучшего, самого подходящего. Всех прочих гонит с яростью, с презрением, всех, кроме одного-единственного, своего избранника. Недаром же изнасилование считается у вас, у людей, самым противным из преступлений. Девушку ограбили, у нее отобрали самое важнейшее жизненное право — право выбрать подходящего отца своих детей, силой навязывают какого попало, неизвестного, с бездарной или нездоровой наследственностью. И, конечно, вы кидаетесь на помощь… если у вас хоть капля совести осталась.
Мужчина не столь разборчив. Ему и проще найти подругу, и риска меньше. У него хоть сотня детей может быть, вот он и не артачится особенно. Молоденькая, хорошенькая, здоровая, ну и ладно, согласен осеменить. Но у женщины сколько детей может быть? Десяток-полтора во всей жизни, обычно меньше. И каждому надо посвятить по меньшей мере лет десять — двенадцать. Тут осторожность нужна, чтобы не плакаться всю жизнь. Ты вот представь себя на месте девушки-невесты…
— Никогда не мог себе представить, — возразил я с раздражением. — Что за роль? Сиди и жди, чтобы к тебе начали приставать. И еще горюй, если не пристает никто, не соблазнился.
— А ты войди в роль, господин психолог, — настаивал Бхага. — Вообрази: тебе девятнадцать лет, а может, и восемнадцати еще нет. Ты юная, неопытная, людей мало знающая, а спутника надо выбрать на всю жизнь. Смотришь на него и прикидываешь: какие дети будут у вас, стоящая ли достанется им наследственность, и хорошим ли будет он мужем и отцом, сумеет ли вас с детьми защитить и сумеет ли прокормить? И надежный ли он человек, не подведет ли, не передумает ли, не надоест ли ему трудиться шесть дней в неделю, не бросит ли тебя, погнавшись за другой молоденькой, хорошенькой?
— Девушка не рассуждает так цинично, девушка сердцем выбирает, — возразил я с возмущением. Очень не понравились мне эти генетически-экономические расчеты.
— Безусловно, выбирает сердцем, — охотно согласился Бхага. — А сердце-то как выбирает? Ведь это я программировал сердце девичье, я составлял для него инструкцию, правила выбора суженого. Точнее, не правила, а приметы. Нужны же какие-то внешние приметы, если рассудок молчит. И сердце девичье знает их отлично.
Первое: приметы хорошей наследственности. Какие? Молодость и красота. Красивый, это и значит здоровый, так организовал я ваш вкус, люди. Молодой — значит, долго проживет еще, не скоро выйдет из строя, много лет будет кормильцем.
— Я знаю тысячи исключений, — не утерпел я. — Знаю хилую молодежь и крепких кряжистых стариков, знаю жалостливых женщин, которые влюбляются в слабых, слабодушных, болезненных, жалких даже, знаю юных красавиц, обожающих седовласых львов.
— Не перебивай ты меня со своей тысячью исключений, — возмутился Бхага. — Ты знаешь тысячу исключений, а я дал правила для миллиардов. Правило гласит: сердце девушки тянется к молодому мужчине, чаще не к ровеснику, не к зеленому юнцу, а к парню постарше ее лет на пять — семь, уже набравшему силу и опыт. Правило второе: признаки для исправления наследственности: ради этого сходятся противоположности. Блондинкам нравятся жгучие брюнеты, брюнетки тают перед голубоглазыми, толстушкам нравятся тощие, костлявым — полные, тем и другим — приезжие-иностранцы. Почему? У непохожих наверняка запас новых генов, они дополнят фонд девушки, исправят недостатки, детишкам предоставят более щедрый выбор генов. И любятся противоположности, стараются обеспечить золотую середину. Такие же правила и с темпераментом: бойкие сходятся с молчаливыми, смиренные с активными.
— Очень уж расчетливо у тебя получается, девушки так не рассуждают. — Я все отстаивал свободу сердца.
— Не рассуждают, но так чувствуют, — сказал Бхага.
— Важно, чтобы любовь была настоящая, — упорствовал я.
— Ну да, настоящая, верная и долгая. Но как ее распознать? Словам поверить? Услышать: «Я тебя люблю больше всех, больше всего на свете, люблю до гроба, люблю больше жизни…» Но ведь слова эти так стерлись от частого потребления. Девальвация у вашего слова «любовь». Вот представь себе: твердят, твердят, твердят тебе про любовь, твердят в шутку, и всерьез, и от скуки, а ты — девушка — решать должна, распознавать…
— Да не могу я представить себя девушкой…
— Не можешь представить, хотя бы посочувствуй!
И что же придумал этот хитрец, что он извлек из моей памяти? Извлек румяную, густобровую и горбоносую девицу, никогда не тянулся к таким, довольно плотную, грудастую, широкобедрую, с низким голосом и чуть сероватой кожей, — короче говоря, Лену извлек — дочку мою собственную.
Мне хорошо запомнился тот вечер. Именно тогда дочка огорошила меня, объявила: «Папа, я выхожу замуж». Я пришел с работы усталый и сразу был оглушен. У Лены собрались гости: «междусобойчик», как это сейчас именуется, ребята отдыхали в неслыханном гвалте: был включен «маг», одновременно и телик, кажется, и стерео заодно. Молодое поколение чувствует себя спокойнее в диком грохоте. Кто может, кому легких хватает, всех перекрикивает; шептаться тоже удобнее: и на виду, и никто не слышит. Впрочем, парочек я не заметил по углам. Лена была единственной девушкой в комнате.
— Кое-что я перемонтировал в сценке, — пояснил Бхага. — Убрал несущественные фигуры. Хотел показать тебе, как выбираются женихи.
— Разве это все женихи? — подивился я.
— Если не женихи, то кандидаты, стажеры-практиканты. Лет с пятнадцати обе стороны ведут прикидку, зубки точат…
Зубки точились со страшным гвалтом, пожалуй, и точильный камень заглушили бы. В разгаре была свистопляска, которая в наше время называется молодежным танцем. Плясали все, кто во что горазд, на ходу придумывая коленца посмешнее. Дочка же моя визжала под люстрой, где ее крутил, держа на вытянутых руках, некий малый почти баскетбольного роста с малиновым от напряжения лицом.
Наконец спустил на пол. Раскрасневшаяся девочка взглянула на него с улыбкой… восхищения, если не ошибаюсь.
— Если бы так на кольцах работал, чувак, быть бы тебе с медалью, — закричал, хохоча, Евгений — подвижный парень в желтой майке, далеко не такой могучий.
Герой пробормотал, что раз на раз не приходится, кольца — они круглые. Не догадался сказать, что медаль оторвал бы обязательно, если бы Лена на него смотрела. И дал возможность порассуждать «желтой майке» о ненадежности спортсмена. Краток век чемпиона. В тридцать лет уже пенсионер. Ненадежный муж.
Вспышка радостного визга оповестила о появлении еще одного «жениха». Круглолицый, коренастый, с маленькими глазками и рябушками до самых ушей, преподнес моей красавице букет роз — семь розовых и одну алую.
— Восемь, Лена, — сказал он. — Сегодня восемь месяцев, как мы познакомились.
— А через месяц — девять. А через два — десять? А сколько же это будет к пятидесятилетию? — загалдели вокруг. Соседка же моей дочери, дурнушка с унылым длинным носом, прошептала грустно:
— Наверное, это настоящая любовь. На твоем месте я не колебалась бы, Лена.
Балагур в желтой майке не замедлил сбить растроганность:
— Паша, а ты штаны не порвал на этот раз? Я же знаю, твоя мать розы растит за колючей проволокой. За каждый букет штаны покупать, никаких оранжерей не хватит. Подумать: двенадцать пар в год! Ты же за год Ленку не уговоришь, она у нас гордая.
Паузой меж тем воспользовался гривастый парень в вельветовой куртке с явно заграничной нашлепкой. Он включил тягучую музыку и повел мою дочь в обнимку, лицо к лицу, три сантиметра до поцелуя.
— На Западе рок уже выходит из моды, — серьезно делился он важной новостью. — Рок бацают только в портовых забегаловках. Летом отец возьмет меня в круиз, я устрою инспекцию по всей Европе. И кассет притащу под завязку. Нет, не порно. Порно — это для тех, кому за тридцать, утешеньице для выходящих в тираж.
— Твоя дочка явно пользовалась успехом, — заметил Бхага, — у нее был большой выбор.
— Разве это выбор? — возмутился во мне ревнивый отец. — Я же их знал всех, этих ребят, мои студенты в большинстве. У гимнаста не было ничего, кроме роста, в институте его держали за спортивную славу, а слава-то шла на убыль — двадцать четыре года, почти «старичок». Паша на самом деле был совсем не щедр, расчетлив и даже скуповат, привык со своей матерью торговать цветами, вот и здесь выторговывал невесту за букеты из своего сада. Сын капитана одевался по моде, не велика заслуга, если отец полгода в заграничных рейсах. Женя же балагур, мастер подковырки и свежего анекдота; у него всегда в запасе последние сплетни об известных людях, создается впечатление, что он друг знаменитостей. А вот умненького Лена не замечает, того, что сидел в сторонке, спорил о всяких «измах».
Этого парня я сам познакомил с Леночкой. Он пришел ко мне консультироваться с другого факультета и показался мне вдумчивым юношей, хотя и самонадеянным по молодости. Собирался, представьте себе, отменить старость вообще, всем на свете даровать вечную юность. Доказывал, что старость специально запрограммирована организмом, чтобы обеспечить смену поколений, необходимую животным для развития вида, и обещал все это перепрограммировать. Но занимался основательно сверх программы, всерьез. Нет, я не уповал, что я сам как будущий тесть получу в подарок вечную молодость, но мне импонировал размах этого юноши, размах в сочетании с практичной деловитостью. Лена сказала однако:
— Жутко нудный он со своей хваленой наукой. И вообще, кому нужно это тоскливое бессмертие? Сейчас мне двадцать, и в сорок лет будет как бы двадцать, и в шестьдесят как бы двадцать. Несправедливо! Жизнь должна идти вперед. Мама была девушкой в свое время, потом вышла замуж, стала мамой, я выйду, тоже стану мамой, а она бабушкой, внуков захочет нянчить. В жизни надо все перепробовать, а этот твой доктор будущий какой-то застой придумал. Ни шагу вперед, никакого развития.
— Умненький Лене казался скучным, — заметил Бхага. — Ее не волновали ученые разговоры. А другие четверо нравились, каждый по-своему. Спортсмен — за ловкость и силу, с модником приятно было ходить под ручку — хорошо одетые люди идут в театр на хорошие места, Паша трогал ее упорным ухаживанием, надежностью. Выбрала же она, сам знаешь, самого интересного, веселого, остроумного. Молодая девушка — весело жить хочется.
— Ей веселье, мне заботы, — заворчал тесть (я). — Веселый за словом в карман не лез, знал, как к кому подлаживаться.
— Папа, — передразнил я его, — папа, чтобы брак был прочным, надо, чтобы Лена не ощущала ущербность, не жалела ни разу, что она выбрала меня. Но я не вошел еще в силу, ты нам помоги, папа, устроим свадьбу как следует. Пусть это будет мой долг.
И потом:
— Надо, чтобы Лена не ощущала ущербность. Ты нам помоги, папа, с кооперативной квартирой. Пусть это будет мой долг. Я его выплачу, вот увидишь.
— Ты нам помоги, папа, с машиной. Я расплачусь, не сразу, постепенно…
— Ты нам помоги, папа, только с ремонтом.
— И ты помогал, конечно, — не то спросил, не то констатировал Бхага.
— Помогал, — вздохнул я. — Можно сказать — потакал. И все за счет дела. Откладывал главное, откладывал и дооткладывался. Не знаю, кто теперь будет одалживать Жене, кого он будет похлопывать по коленке, кому заглядывать в глаза.
— Что же ты характера не проявил? Понимал же, что это все ему нужно, не дочке.
— Видишь ли, Бхага, да, впрочем, ты все видишь лучше меня. Ленка как-то слилась с ним, растворилась совершенно. Я не знаю, что он сделал с девочкой. Как студентка она выделялась, мысли высказывала смелые, оригинальные даже. Ничего не осталось, ничего! Только: «Женя сказал, Женя считает, Жене необходимо, Жене нужно срочно…»
— Но это и есть любовь, — изрек Бхага. — И дочка твоя счастлива, что ей досталась подлинная любовь, не суррогат. Ты это понял?
— Понимаю, потому и уступил. Но видел, что парень-то нестоящий. Языкатый, хитроватый, поверхностный. Положения добьется, а выдать ничего не выдаст полезного. А ты никак не мог сделать, Бхага, чтобы девушки не приметы ума видели бы, а подлинный ум, подлинную силу?
— Тут мы и выходим на главную трудность, — вздохнул он. — Что-то неправильное в вас, люди, искажаете вы все мои улучшения. Вот я поместил Адама в Рай, создал ему все условия для обучения, он бездельничал и болтал. Дал женщинам красоту, чтобы они мужчин привлекали, они начали себя тряпками украшать, увлеклись украшением ради украшений, даже твердят, что мужчины не понимают ничего в одежде. Дал им возможность выбора «по сердцу»: полюби самого сильного, или самого доброго, или самого умного! Умному дал способность говорить, выскажись, прояви себя. Нет, идет болтовня ради болтовни, жонглирование ради острого слова, выбирают не умного, а нахального, насмешника, зубоскала.
Слушая Бхагу, я и сам невольно начал продумывать предложения:
— Может быть, ум демонстрировать на диспутах — кто кого переспорит? А силу — на стадионе, на честных спортивных соревнованиях? И потом что? Девушка автоматически влюбляется в чемпиона, взобравшегося на треугольный пьедестал почета? Смешно! Пошло!
— До подлинной силы люди додумались тоже, — вздохнул Бхага. И, свернув в рулон вечеринку с дочкой и всеми ее поклонниками, извлек из моей памяти нечто неожиданное.
Деревенскую изгородь увидел я — неровные горбатые жерди, скачущие по овражку, вечерний сумрак синевы чистейшей, глаз радует эта чистота красок. И три тени с трех сторон, четвертая от калитки сзади, так что отступать некуда.
— Вот что, студент, — цедит сквозь зубы одна из теней, та, что правее. — Приехал, пожил и уезжай по-хорошему. А к нашим девкам не клейся, они не про тебя. Лучше намылься отсюда попроворнее, пока мы тебе районную больницу не обеспечили. — И при этом выразительно помахивает гаечным ключом.
Глава 6. ДВАЖДЫ ДВА
2х2 = 4
5] 4
10] 5
1000] 100
Учебник математики для 1-го класса
В каждой серии главный выигрыш падает на один номер, остальные номера той же серии получают 1 рубль.
Правила лотереи
— Потомки Адама, — пояснил Бхага, — довольно быстро догадались, что два человека сильнее одного, четверо — тем более. Сильнее же всех тот, кого слушаются эти четверо.
— А дальше рассказывать почти и нечего. Дальше на все века действовали простые правила: вооруженный сильнее невооруженного, из двух воинов сильнее тот, у которого оружие лучше, но сильнее всех многочисленные. Таковы правила на три тысячи лет, остальное — иллюстрации.
И покатилась перед моими глазами иллюстрированная история войн, очень пестрая, очень красочная и очень кровавая. Даже удивился я задним числом, почему взволновал меня тот мальчик на рельсах. Тысячи тысяч мальчиков, раздавленных, затоптанных, искалеченных, изуродованных, валялись по всей сцене.
Сначала с воплями и гиками пронеслись колесницы. Два коня и два воина, один правил, другой махал мечом. Непонятно было, как он мог устоять, да еще и сражаться. Шаткие планки со сплошными колесами без спиц вихлялись на каждом бугорке. Но мчались и мчались озверевшие зубастые кони; не от меча, от коней бежали в ужасе смуглые и курчавые пешие воины.
— Между прочим, ваше изобретение — индоевропейское, — заметил Бхага. — Привезли из прикаспийских степей, напугали Индию, Иран, Египет даже.
И снова мчалась конница, верховые на попонах, еще без стремян и седел, оскаленные, с вытаращенными глазами…
Потом шагала греческая фаланга — внушительно и организованно, живая крепость, ощетинившаяся пятиметровыми копьями, по три воина держали каждое. И беспомощно вертелись перед копьями всадники со своими короткими мечами, выли в ярости. Фаланга раздвигала их, утюжила равнину, а летящие изнутри стрелы, стрелы, стрелы нанизывали всадников и коней.
И этому действию противодействие: бронированные слоны с заточенными клыками, яростно трубя, через копья за головы, за шлемы выхватывали из рядов и тумбами-ногами размазывали кровавые лепешки в грязи. А еще через некоторое время (столетия так и мелькали за спиной у Бхаги) против разукрашенных ревущих слонов солдаты в ржаво-красных мундирах выкатили пушчонки на деревянных ящиках, вовсе несолидные на вид пушчонки, но дымом наполнилась сцена и, топча своих, побежали окровавленные слоны. За пушчонками несолидными высунулись солидные, по диагонали протянулись длиннорылые дальнобойные стволы. Застрочили во всех углах пулеметы, давя их, вылезли первые танки, медлительные, неуклюжие, угловато-прямолинейные; почему-то они казались страшнее, неумолимее современных прытких, все крушащих, ломающих стволы деревьев, стены разваливающих с ходу. Над ними загудели басисто и заунывно самолеты — железные птицы Апокалипсиса, роняющие взрывчатые яйца. Распались стены домов, обнажая обои жилых комнат… А там и восстал на горизонте ослепительный, все заливший громогласными красками ядерный гриб.
Бхага сказал:
— Вот в этой истории вашей я окончательно потерял логику. Когда-то солдаты нанимались в наемники, на риск шли, чтобы пограбить, ясная цель грабителя. В современных миллионных армиях солдаты не получают же ничего. Их просто мобилизуют поголовно, ничего не обещая, только убеждая, что жизнь отдать надо. Ну их обманывают… понятно; вы, люди, с готовностью поддаетесь на обман. Но что получают от победы властители? Ведь теперь уже и не полагается заводить гаремы, щеголять в короне и мантии, даже дворцы не принято строить. Современный властитель ходит в пиджаке, руки пожимает всем подряд, живет в казенном, по должности причитающемся доме. Одна жена, один дом, одежда простая. Ни удовольствия, ни чести от показа. Что осталось? Почет. Шепот за спиной: «Это тот самый, который! Это самый могучий!» Да ведь и не самый могучий, самый ли? Уже и силами помериться нельзя, сами знаете: в ядерной войне победителей не будет. Так что же у него есть, у властителя? Златолюбие скупого рыцаря: «В седьмой сундук, в сундук еще неполный, горсть золота заветного насыпать». И ощущение власти: не трачу, но могу истратить. Не начинаю войну, но мог бы и начать. Возможно, кто-нибудь с ключом или с шифром заветным, поглаживает заветные кнопки. «Не нажму, но могу нажать. И весь мир в тартарары! Могу!» А что, если нажмет как-нибудь сдуру? Понимаешь ты, что останется тогда от вашей планеты?
— Ты же знаешь, что наша страна прилагает героические усилия, — напомнил я. — Вносят предложения, одно за другим, ведут энергично переговоры. В общем, до людей уже доходит, что ядерной войны Земля не переживет. А ты что скажешь, всеведущий, провидящий будущее? Начнется?
Бхага уклонился от ответа.
— Дьява, мой друг и консультант, считает, что вмешиваться не следует, пусть все идет своим чередом. Он твердит, постоянно твердит, в который раз повторяет, что вы, прямые потомки обезьян, слишком много животного сохранили в натуре, слишком много неразумного. Вот вооружались без счета, бомб накопили сверх меры. Кто-нибудь где-нибудь по ошибке или с пьяного куража нажмет кнопку, и мы с Дьявой получим великолепный полигон, не замусоренный жизнью. Некоторое время он будет радиоактивным, но мы же — боги — со временем не считаемся, для нас переждать сотню веков не проблема. За эти века мы обдумаем все досконально, учтем ошибки и спроектируем другой безупречный разум. Так предлагает Дьява. У него даже интересные наметки есть.
— Ну а ты как? Согласен?
Бхага тяжело вздохнул:
— Думаю, что Дьява рассуждает правильно, логика у него безукоризненная, но живое не поддается железной логике: плохо — хорошо, черное — белое. Вот и пророки ваши, судя по «Книге пророков», все пытались отделить овец от козлищ, но это не получалось потому, что каждый из вас — овца и козлище в одном теле. Вы своеобразный вид, и были бы интересными партнерами при освоении вселенной. Лично я предпочел бы иметь дело с вами, непредсказуемыми, а не со штампованными копиями логичного Дьявы. Но вот запутался я с вашими противоречивыми чувствами, не знаю, за какую ниточку дергать.
И снова, переходя на торжественный тон Библии, Бхага продекламировал:
— «И было утро, и день, и вечер, и год, далеко не первый. И осмотрел Бог дела рук своих и сказал: «Это нехорошо!» И тогда призвал он обыкновенного человека, уже в могилу сойти готового, и вопросил его последним вопросом:
— Почему нехороши дела мои, человече? Что бы ты на моем месте сделал, смертный?»
Глава 7. ПРИКАЖИ!
— Господи! — воскликнул я. — Господи, или, если разрешишь называть тебя, уважаемый Бхага. Я очень благодарен, что ты не кичился передо мной, разговаривал, как человек с человеком, несмотря на твое почти всемогущество, почти всезнание, явное надо мной превосходство. Но уж коли ты спрашиваешь моего мнения, я скажу одно слово: «Прикажи!» Я в твою божественность не поверил, но люди на Земле верят, большинство, даже подавляющее большинство, считают, что есть на небе кто-то мудрый и справедливый, за все отвечающий, все заранее предусмотревший. Так сотвори какое-нибудь чудо для убедительности и продиктуй новые заповеди, не десять, а сорок, сто сорок, четыреста сорок. И не одни только запреты: «Не убий, не укради, не пожелай ни жены, ни вола, ни осла!» Дай указания: «Делай так, и так, и вот так!» Верующие послушаются.
Бхага усмехнулся в усы… кажется, горько усмехнулся, под усами трудно было разобрать. Но в голосе его явно слышна была ирония.
— Ты правильно сказал, человече: люди хотят, чтобы на небе был авторитет, принимающий за них решения, верят, что есть такой авторитет, сами за себя решать не берутся, друг друга не почитают. Все верно, но есть тут одна сложность. Верующие охотно слушаются богов, когда им приятно слушаться. А если неприятно, очень даже сомневаются… начинают подозревать, что это не я им приказал, а нашептывал Дьява.
Вот ты, например. Ты упорный атеист, ты в мою божественность не веришь, но в могуществе убедился. Поверил, выслушав мою историю, что я желаю вам, людям, добра. И вот представь себе, я скажу тебе: «Друг мой, для спасения человечества нужно, чтобы ты сейчас же прыгнул отсюда на землю без парашюта». Пожалуй, ты даже прыгнешь. Решишься. Понадеешься, что я передумаю, удержу тебя, как Ягве-Иегова удержал руку Авраама, которому он приказал (очередная клевета на богов!) принести в жертву своего собственного сына Исаака. Понадеешься, что я передумаю, пошлю тебе вдогонку архангела, чтобы подхватить и спустить благополучно на зеленый лужок. Хорошо, изменим условия опыта. Я предлагаю тебе взять топор и для спасения человечества отрубить себе руку. Правую. И вот уже ты колеблешься. Рубить больно. Жить калекой противно и трудно. Почему же это нужно человечеству? Ты начинаешь сомневаться: «Полно, Бог ли придумал такое изуверство? Едва ли Бог этот Бхага, Бог такое не затеял бы. Человек — образ и подобие божие; божественное подобие надо чтить. Человек без руки уже не подобен Богу. Руку рубить противоестественно, это святотатство».
Бог внушил, Бог просветил, Бог повелел… то, что мне хочется. Лучше всего, если нашлась цитата в Священном писании. «Ура, вы же видите, сам Бог за меня!» Если же не нашлась, если перетолковать текст никак нельзя, есть и добавочная уловка: «В моей голове родилась идея, это Бог подсказал ее мне! Бог внушил, Бог озарил!»
И люди слушают с почтением:
— Бог вещает его устами!
С почтением слушают, если Бог вещает желательное.
Например: это Бог велел мне завоевать и ограбить чужую землю. Давай сюда Палестину, Землю Обетованную, давай хватай, очищай от неверных Сирию, Иран и Египет, или Гроб Господен, или Америку, Северную и Южную.
Нет, не лепил я вас по своему образу и подобию, это вы лепили меня, это вы пририсовали мне руки, ноги, брови, усы и ненужную мне бороду колечками с проседью. Это вы навязывали мне свои привычки, свои нравы, свои заботы и даже свои грехи. Вспомни хотя бы греческих богов, так принято восхищаться ими высококультурному человеку. Это же подобие земных беспардонных властителей, которым все дозволено, потому что сила у них и власть. Глава богов Юпитер — сластолюбивый бугай, который не пропускает ни одной смазливенькой девчонки. Европу он увозит, превратившись в быка, Леду соблазняет в образе лебедя, Данаю под личиной золотого дождя, то ли дождь подразумевается, то ли золотые монеты. А ревнивая и сварливая Гера злобно мстит. Кому? Не мужу, конечно, а соблазненным им соперницам. Бедняжку Ио, и без того превращенную в корову, гонит из страны в страну вечно жалящим оводом. Нежная Афродита изменяет мужу с кем попало, а хромой рогоносец ловит ее с любовником в сеть. Боги обидчивы, самодовольны и безжалостны. Музыкальный Марсий посмел хорошо играть на флейте, за это Аполлон содрал с него кожу с живого. Ниоба, мать-героиня же, справедливо гордилась своими двенадцатью детьми. Бездетная Диана перестреляла всех двенадцать. «Не зазнавайся, баба!»
Нечего сказать, хорошего мнения были о своих богах греки. Могучие беспринципные эгоисты. Их надо было опасаться, надо было льстить, угождать, одаривать. Кому-то они помогали за взятку, кому-то по родственным связям. Перед такими заискивать можно было… никак не уважать. И когда люди возжаждали справедливости, культ античных богов выдохся. Ни Диоклетиан со своими казнями и пытками, ни Юлиан Отступник не смогли восстановить иссякшее.
Итак, сначала вы меня сделали властителем, а потом все-таки борцом за правое дело.
Впрочем, поправлюсь — не потом. О нравственности на Востоке задумались раньше, чем в практичной Греции. Справедливости хотелось людям, и в Иране сложилось представление о вечной борьбе Добра и Зла, бога доброго — Ормузда в греческом произношении с богом Зла — Ариманом. Единственная трудность, надо было еще разобраться, что есть добро и что есть зло. Тут точки зрения расходились. Если бы помимо истории войн вам в школе преподавали еще и историю идеологии, может быть, кто-нибудь и заметил бы, что иранцы дивами называли злых духов, а индоарийцы — добрых. Видимо, отразились воспоминания о давнишних войнах: чужие добрые духи, помощники наших врагов — они наши злейшие враги. Опять-таки на Востоке — в Египте, а потом и в Иране, богу навязали еще одну должность — быть и судьей. Мало было воевать за добро, нужно было еще и оценить участие человека в этой борьбе — доброго наградить, злого — наказать… на том свете, после смерти. Видимо, тогда люди уже поняли, что на этом свете справедливости не дождешься. В Египте праведных награждали вечной жизнью, грешников просто уничтожали. В Индии, наоборот, уничтожение считалось наградой, а грешников заставляли жить дальше, но в каком-нибудь скверном образе — в собаке, в червяке, в рабе. У иудеев же вообще сначала не было загробной жизни, там наградой считали многочисленное потомство, «как песка морского», а наказание — беды этому же потомству — «проклятие до седьмого колена». Не генетические ли болезни подразумевались?
Возражать не приходится. В каждом государстве свой Свод законов, своя система наград и наказаний. Но почему люди на меня перекладывают все эти должности: и властитель, и распорядитель погоды, и воитель за добро, еще и судья…
А потом еще и адвокат. Бог-Адвокат.
Это уже изобретение христиан, и нельзя сказать, что необоснованное. Из практики войн известно, что неразумно уничтожать всех пленных поголовно, сопротивляться будут яростнее, до последней капли крови. И вот если грешник, закоренелый грешник думает, что уже заработал загробное наказание, зачем же ему исправляться? Все равно вечных мук не минуешь. Значит, надо было оставить ему хоть какую-то надежду. Христианство и предложило ее: покаяние, прощение, заступничество Христа, Девы Марии, святых, монастырей, индульгенция, пожертвования…
Не я придумывал все эти уловки. Две тысячи лет богословы ломали головы над ними, вырваться из противоречия так и не удалось.
Если согрешил, покайся и ускользнешь от наказания.
Но с другой стороны: если есть возможность ускользнуть от наказания, не грех и согрешить.
Как разрешить это противоречие? Я бы мог подсказать. Уберите идею вечных мук, введите сроки для пребывания в аду повышенного режима и без всяких там амнистий к юбилейным датам. Но зачем мне вмешиваться? Я никогда не играл в эти игры с загробным воздаянием. Не я придумал ад с его примитивными котлами и райские оазисы на небесах. Нет их, нет! Не моя вина, что вам так нравится себя обманывать.
— А может, все-таки устроить? — предложил я. — Ты не мог бы смонтировать по проекту Данте — рай с девятью небесами в космосе, а под землей — ад, где-нибудь под твердой земной корой — в мантии или даже в плазме земного ядра. Мне кажется, ты бы смог это устроить. И все получили бы по справедливости.
Признаюсь, я сказал это потому, что очень уж мне не хотелось умирать окончательно, раз и навсегда ложиться в черное ничто. Ради дальнейшей жизни я даже согласен был на умеренное наказание. Ну, отсижу я за атеизм, сколько мне там причитается, десять или двадцать пять со строгой изоляцией в аду, но ведь они кончатся когда-нибудь. И снова будет жизнь, я буду дышать, буду думать и читать (без библиотеки не мыслю Рая, подать мне библиотеку!), а может быть, даже возьмусь за свою упущенную, отложенную книгу о Человеке. Тем более что прибавятся новые материалы, наблюдения за поведением душ в Раю и в Аду.
Но Бхага отказался:
— Нет, я не буду строить загробный мир по Данте, нет, я не буду строить загробный по Мильтону, или по Анатолю Франсу, или по Марку Твену. И по твоему проекту тоже. Слишком много пришлось бы строить, чтобы всем угодить. Я же знаю, что сейчас у каждого человека свое понимание справедливости, а у каждого интеллигента свой собственный бог, послушный его вкусам. Да взять хотя бы твоих знакомых…
И Бхага тут же извлек из моей памяти несколько разговоров, совсем даже недавних
— У природы должна быть цель, — сказал один из моих друзей. — Некое назначение, и некое разумное начало, ведущее к совершенству. Не бог, не обязательно бог, но смысл… нечто, противостоящее бездарной, все уравнивающей энтропии.
— Бог — это справедливость и равновесие. Это натурогомеостаз, — сказал другой.
— Сыночков моих сподобил бы бог увидеть на том свете, — молвила старушка, мелко крестясь на пороге церкви. — Только бы узреть, какими взял их — молоденькими, когда поменял сыночков на похоронки.
— А ты поверь, — сказал подслеповатый Пал Палыч, осужденный «как не-изживший религиозных предрассудков». — Поверь, если Он есть там, спасесся.
— Неверующий мертв, — сказала Таня. — Это труп человека. Потому что бог — это любовь. Люди родятся для любви.
— Нет, продолжать такую жизнь я не хотела бы, — сказала другая Таня. — Пусть будет другая, легкая, праздничная, порхание со звезды на звезду, с цветка на цветок.
— Бог накажет эту гнусную спекулянтку, — сказала третья Таня. — Обдурила меня на целую четвертную.
— Так каким же богом прикажешь мне быть? — спросил Бхага. — Или так спрошу, ну и что же вы, люди, хотите от меня? Что вы хотите вообще?
Глава 8. И ЧТО ЖЕ ВЫ, ЛЮДИ, ХОТИТЕ ОТ МЕНЯ?
— Ну вот я призвал тебя, Человек, и спрашиваю: «Что же, вы, люди, хотите от меня? Что вы хотите вообще?»
— МИР нужен нам, — объявил я не задумываясь. — Можешь ты сделать так, чтобы ядерные бомбы не взрывались вообще?
— Могу, конечно, — сказал он. — Для меня это довольно просто. Техника не по твоей части, но думаю, и ты поймешь. Ты же слыхал, наверное, что атомная бомба взрывается, когда соединяются две половинки.
В одной реакция затухает. Но я могу так видоизменить вакуум, чтобы реакция затухала и в двух половинках. Надо полагать, что и ваши ученые додумались бы, если бы позволили себе задуматься всерьез. Конечно, точная автоматика должна быть, но в результате бомба упадет как обыкновенный камень. В худшем случае крышу пробьет, а то и просто завязнет в болоте.
Я заулыбался радостно, представляя себе такую заманчивую картину: где-то некий генерал, гордясь своей исторической миссией, торжественно нажимает кнопку, на часы взирает, ожидая сообщения со спутников, считает минуты, секунды, триумф представляет… а железная дура сидит в болоте. Хорошо!
— Это ты хорошо придумал, Бхага, — похвалил я.
— НО! — возразил он тут же. И плечом показал на сцену, дескать, посмотри, что у меня там за спиной.
А там мелькали картины, несколько сразу. Одно время в моде был такой многоэкранный показ: мельтешит, все рассмотреть не успеваешь, но общее впечатление остается: пестроты или мрачности, гибели или расцвета.
Общее впечатление воинственности осталось от этих картинок.
Шагающий отряд запомнился. Гусиный шаг, коленка прямая, носочек оттянут, ступня печатает по асфальту Рука вперед до пояса, назад до отказа. Лица суровые, надежные, безжалостные. Подметки хлоп-хлоп, все раздавят, что попадается под ноги.
Со вкусом одетая дама с аристократически изысканным лицом и тонкими длинными пальцами пианистки.
— Безопасность моей страны, — говорит она нежным голосом, — гарантирует только ядерное оружие.
Бритоголовые в желтых рубашках и с полосатыми воротничками вопят, вытянув руки в гитлеровском приветствии:
— Цветные, вон! Бей цветных! Швеция для шведов! или же «Швейцария для швейцарцев!» — не разобрал толком.
Сидя на завалинке, дед с желтыми от табака усами горделиво повествует о былых подвигах:
— В ту пору я молодец был, ох и молодец! Рука твердая, аккуратная! Одним ударом мог развалить всадника надвое — от плеча до седла. Так и падали половинки — одна налево от коня, другая направо.
— Я могу сделать, чтобы бомбы не взрывались, — повторяет Бхага. — Могу сделать, чтобы не взрывались и снаряды. Но мне кажется, что далеко не всем хочется. К тому же, кроме снарядов, есть еще танки, тачанки, ружья, шашки и гаечные ключи.
И добавляет:
— Не торопись, приведи мысли в порядок.
Как я возражал? Может быть, и не лучшим образом.
— Бхага, ты сам мне рассказывал, что убийства на Земле начались от скудости, мяса на всех не хватало, дрались до смерти из-за еды. Скудно на Земле и сейчас: не хватает хлеба, не хватает места, не хватает работы на всех. И вооружаются как раз не бедные, не голодные, а именно сытые, боятся, что поделиться заставят. Так не можешь ли ты сделать, Бхага, чтобы скудости не было на Земле, достаток во всех странах, так, чтобы никому не надо было ехать на заработки ни в Швецию, ни в Швейцарию?
— Это я могу, — сказал Бхага. — Напрактиковался в лаборатории чудотворчества. Обыденная генетика, чуть усложненная. Ты же знаешь, что вся программа любой ягоды, любого животного, человека даже записана в ядрышке одной клеточки. А тут записываешь в ядрышке программу выращивания любой готовой вещи. Но ведь это нормальная генная инженерия. Вы уже знакомы с ней. Развивайте, тогда получится такое.
И он показал мне на сцене сказочную рощу, где кусты были увешаны калачами, румяными, мукой обсыпанными, так хорошо они надевались на веточки. На других были плитки шоколада или торты в картонных коробках, где-то из земли торчали кресла или же мягкие диваны, всех же плодоноснее выглядели мануфактурные деревья, где на раздвоенных ветках-плечиках висели платья, кофточки, пальто, плащи, пончо, накидки, шубы, не очень тут нужные, блузки, пояса, шляпки… И все это перебирала Ева, переходя от ветки к ветке, снимала, встряхивала, прикидывала, отклоняя голову, рассматривала себя в большой гладкой луже (видимо, металлические зеркала все-таки не получались на генетической основе).
— Рай — универмаг. Мечта женщины, — заметил я.
Что же касается Адама, он и вовсе разочаровал меня в том Раю. Адам стоял на берегу. Обломав ветку посудного деревца, он сосредоточенно запускал блюдечки рикошетом. У него хорошо получалось: десять, двенадцать, один раз даже семнадцать подскоков.
— Ну вот тебе вариант Рая для современности. Оборудование иное, а люди все те же. Бездельничают, если нет стимула — «материальной заинтересованности», сказал бы ты.
— Как же нет стимула? Ведь Древо Познания стоит в том Раю. И плоды Бессмертия на верхушке.
— А ты уверен, что все люди мечтают о бессмертии?
И снова сомнения свои Бхага подкрепил картинкой из моей памяти. Повторил заявление моей дочери: «Зачем это нужно все? Сейчас мне двадцать, и в сорок лет будет как бы двадцать, и в шестьдесят как бы двадцать. Неправильно! Несправедливо! Мама была девушкой в свое время, потом вышла замуж, стала мамой, теперь моя очередь любить, я выйду замуж, тоже стану мамой, а она бабушкой, внуков захочет нянчить. Жизнь должна идти вперед, а твой доктор какой-то застой придумал. Ни шагу вперед, никакого развития…»
— Молодая она еще, мало в жизни видела, — возражал я. — Влюблена, погружена в любовь, ничего знать не хочет, сегодня счастлива, думает, что так и будет всегда. А люди зрелые все отдали бы за молодость. Ну если не все, подавляющее большинство.
— Если бы люди хотели бессмертия, они бы поддержали твоего молодого доктора, — сказал Бхага. — А то ведь он мыкается по канцеляриям, прошения подает в сотом варианте: «Позвольте мне, пожалуйста, разрешите попробовать найти путь для вечной вашей молодости».
— Раскачиваемся мы долго, — вздохнул я, вспомнив главный свой грех. — Откладываем все. Натуру человеческую менять надо.
— Ну и меняйте. Кто мешает?
И тут я подумал нечаянно — такая мелькнула у меня непрошеная, черновая, необработанная мысль, — подумал я, а почему это Бхага отказывается от всех моих предложений. Сам же поставил вопрос четко: «Что вы, люди, хотите от меня?» Я называю одно, другое, третье… И ни разу не услышал; «Сделаю!» На все находятся возражения, уклончивые сомнения, опровергающие примеры. Полно, да хочет ли Бхага выполнить мои пожелания? И главное: может ли? Вот возится он с человеком миллион лет с лишним, копается как неумелый скульптор, что-то отсекает, а что-то пришлепывает. Методом «тык» работает: получится — не получится? Заблудился в трех соснах. Тоже мне бог!
Подумал я такое и перепугался. Вспомнил, что Бхага читает же мысли, читает всякие: черновые, грубые, необработанные, не облеченные в деликатную форму. А как выразить их, чтобы не обиделся? Или не выражать вообще? Промолчать? Может, и не заметил.
С опаской глянул я на него исподлобья. Брови сдвинуты, морщины на лбу, но кажется, лицо не гневное. Скорее усталое, даже грустновато-усталое, подавленное. Можно понять его: миллионы лет трудов, а венец творения так и не получился.
И сразу вспомнилось, то ли вспомнилось, то ли сам Бхага повторил мне сценку из своей молодости. Вот в конце мезозоя боги-юнцы, многообещающие отличники принимают дела у старого динозаврово-го бога, «отстраненного от должности, как не справившегося со своими обязанностями». Что-то он пытается объяснять, ссылается на земные трудности, делится опытом во имя самооправдания. Но не очень слушают его самоуверенные преемники: остролицый горбоносый Дьява, с трудом сдерживающий ироническую улыбку, и молодцеватый Бхага в белом мундире с начищенными пуговицами, образцовый выпускник школы богов.
— Молчал я из вежливости, — говорит затем Дьява другу-сопернику. — Жалкий старик, болтает пустое, время тянет. Если провалил дело, надо хоть уходить с достоинством. Ни единого слова я не запомнил, все ерунда. Выжечь, забыть и все начинать заново.
Бхага все же добрее, хоть и выглядит простецким рубакой, строевым офицером.
— Нет, я слушал внимательно, — говорит он. — Уловил и рациональное зерно. Надо вписывать разум в здешнюю живую природу, а не создавать среду заново. Так будет и быстрее и легче.
— Легкой жизни захотелось, — кривит губы Дьява. — Начнешь легко, потом наплачешься. Запутаешься в противоречиях и зря потеряешь миллиончик лет. Все равно придется освобождать планету. Ты меня позови, я чистенько подмету, пройдусь нейтронами по всей поверхности, ни одной биомолекулы не оставлю.
— Может быть, Дьява и был тогда прав до некоторой степени, — вздыхает Бхага. — Жалко все-таки!
Конечно, жалко ему: себя жалко, трудов своих жалко, наверное, и нас всех жалко: столько возился с нами, столько души вложил. Да… запутался. До того дошел, что человека позвал на совет.
— Неужели нельзя придумать что-нибудь? — вырвалось у меня.
— Вот и придумай. Говоришь, что люди хотят быть лучше. Может, и хотели бы, но не очень стараются. Ты предложи такой стимул, чтобы старались, рвались бы к совершенству.
— А зачем же обязательно стимул? Нельзя без стимула? — брякнул я.
Последовала пауза. Видимо, такая постановка вопроса была новинкой даже для Бхаги.
— Без стимула не получается, — произнес он задумчиво. — Тело-то у вас от обезьяны, оно тормозит разумное, если стимула нет. И сносит вас все время на стимулы ради стимулов: наслаждение без размножения, не любовь, а игра в любовь, красота ради красоты, спорт ради спорта, власть ради власти, деньги ради денег. Какие же стимулы придумать вам, чтобы вы стремились приблизиться к богам, какие плетки, какие пряники9
— О Господи, Господи! — воскликнул я. — Уж если ты повел со мной разговор на равных, позволь противоречить. Ты хочешь, чтобы мы стали товарищами богов, богоравными, тогда зачем же такой снисходительный подход: даю этакий стимул, даю другой стимул, кнут, пряник, отшлепаю, конфетку суну. Нет, мы не обезьяны, нет, мы не собачки дрессированные, не капризные детки-несмышленыши. Мы взрослые люди, в конце концов, и разговаривай с нами, как со взрослыми, объясни по-человечески, мы поймем, что требуется. Мы же в жизни умеем делать, что НАДО, умеем терпеть, сдерживаться, подавлять сиюминутное, даже если сию минуту голодно, холодно, даже если боль невыносимая, даже если смертельно опасно…
— И больно, и смертельно опасно? — переспросил он.
— Ты же сам знаешь. Привести исторические примеры?
— Бывало, — согласился он. — Шли на жертвы и даже напрасные.
— Но ты сделай так, — тут же я внес поправку, — так сделай, чтобы «Надо» доставляло удовольствие, чтобы люди не скучали бы, не ворчали бы, взбираясь на новую ступень, чтобы ликовали, как… — я поискал пример, — как мать ликует, возясь с младенцем. И ничего ей не противно, не жалко отдать, все радостно… Если мать нормальная, — добавил я все-таки.
— И ты уверен, что люди поймут «Надо»? — переспросил он.
— Безусловно. Разумные люди понимают слова.
— И захотят совершенствоваться, менять свою человеческую натуру?
— Захотят. Если не все, то подавляющее большинство.
— А не следует ли спросить это подавляющее большинство?
— Как ты спросишь? Референдум объявишь? Анкету разошлешь?
— Спрошу. Есть у меня такая возможность, — усмехнулся он.
Я ждал, в уме уже составляя параграфы анкеты.
— Кажется, ты говорил, что хотел бы пожить еще на Земле? — спросил он неожиданно с подчеркнутой небрежностью.
— Конечно, хочу. Еще как! Очень даже хочу.
— Ну и живи!
Я вопросительно глядел на Бхагу. Что он имел в виду, этот мнимо-бородатый, мнимобровастый, мнимоседой квази-Саваоф. Что означает: «Ну и живи!»
И тут борода и суровое лицо, вся могучая фигура на простецком деревянном троне стала как-то блекнуть, словно при отключении телевизора. В лицо мне дунул сильный ветер, я зажмурился и почувствовал, что меня куда-то тащит задом наперед, тянет и всасывает в темную дыру, а за ней знакомый уже колодец, с мокрым от сырости срубом, заляпанным блестящими слизистытыми грибами. Бревна замелькали быстрее-быстрее-быстрее, меня несло вниз. Куда?
В узкую, крашенную маслом в светлый цвет реанимационную, где над кем-то, прикрытым серым одеялом, склонялся молодой доктор.
Сначала я увидел его спину и почти одновременно — лицо. Лицо выражало брезгливую нерешительность. Ему предстояло сказать: «Ничего не поделаешь, летальный исход». Но очень уж не хотелось произносить эти беспомощные слова.
Сестра взяла лежащего за руку. «Пульса нет», — вздохнула она и с жалостью посмотрела на молодого доктора. Не лежащего, а доктора жалела она, понимала, как неприятно докладывать будет ему о летальном исходе на дежурстве. А тому, что под серым одеялом, было уже все равно.
— Четвертый случай на этой неделе, — сказала сестра, утешая доктора. Дескать, служба такая, у всех неудачи.
Доктор нерешительно протянул руку, приподнял лежащему веко, чтобы убедиться, что зрачок не реагирует на свет. Это было не больно, но неприятно. Неприятно же, когда чужие пальцы тычут тебе в глаза: я отвернулся чуть.
Врач отшатнулся. Сестра всплеснула руками.
— Ну, доктор, вы просто маг и волшебник, — воскликнула она, глядя на него влюбленными глазами. — Обязательно опишите этот случай в своей диссертации.
И вот я живу.
Случай мой действительно описан в диссертации, кто сомневается — может проверить. Живу. Хожу. Спрашиваю:
— И как же мы хотим жить? И какими хотим быть? И все ли считают разумным то, что я назвал разумным? И сами войдем в разум или так и будем ждать второго пришествия?
Слова говорю. Доходят ли?