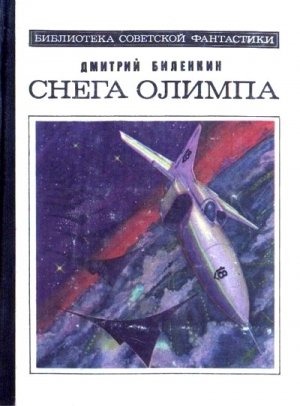
Дмитрий БИЛЕНКИН
СНЕГА ОЛИМПА (сборник)
СНЕГА ОЛИМПА
Двадцать километров подъема остались позади, в фиолетовой мгле, в оранжевом отблеске зари, дальше плато широким и мощным размахом круто уходило в небо.
Долго перед глазами Вуколова и Омрина был склон, только склон, упорное восхождение, которое словно и не приближало к цели, так одинаково мрачный путь упирался в небо, где отрешенно горели звезды. Лишь привал на гребне ошеломительно распахнул пространство. Взгляд падал в бездну, смятенно искал в ней привычные пропорции и масштабы, но едва находил, как разум спешил поправить ошибку зрения. Ибо то, что виднелось отсюда пологом ночного тумана, было всей толщей атмосферы, а что казалось скалистой грядой, составляло могучий горный хребет. И вся ширь зари сокращалась отсюда до размера вдернутой во мрак цветной шерстинки.
Тихо было, как на плывущем облаке. Тонко звенела кровь в ушах, взгляд, успокаиваясь, парил над бездной, тело охватывала невесомость, и лишь твердь камня напоминала сознанию о грубой материальности мира.
Люди сидели как завороженные.
— Недолгое счастье Френсиса Макомбера, — отдаваясь прихотливому течению мыслей, прошептал Вуколов.
— Недолгое счастье Френсиса Макомбера, — эхом отозвался Омрин.
И снова упало молчание, вечное там, где не может быть ветра. Текли минуты, оба продолжали сидеть неподвижно.
Чем было для них сказанное? По какой логике им вспомнился давний рассказ Хемингуэя? Что общего было у них с Макомбером? Этого они и сами не могли объяснить.
Вуколов то и дело возвращался мыслями к своему прошлому, которое отсюда казалось далеким, маленьким, как пейзаж в перевернутом бинокле. Мальчик босыми ногами месил теплую дорожную пыль — неужели это был он? Неужели тот длинноволосый юноша, который в прокуренной комнате среди таких же неистовых юнцов о чем-то спорил до хрипоты, был тоже он? Или тот подтянутый, переполненный энергией молодой ученый на кафедре? Странно… Или та беспросветная ночь, когда он узнал, что любимая его не любит и все безнадежно, — она была? Неужели вот эта минута над бездной бездн — продолжение его прошлого?
Так оно и было, и Вуколов смиренно подивился тому жизненному зигзагу, который привел его сюда. Можно было считать почти запрограммированным, почти неизбежным и то, что он когда-то бродил босиком, и то, что мальчишка окончил школу, университет, и то, что он страдал от безнадежной любви, и даже то, что он очутился на Марсе. Почему бы и нет, в конце концов? Правда, из миллиардов людей на Марс попадали лишь сотни, но уж они-то были направлены туда волей человечества, столь же неуклонной, как сила, движущая планеты по их орбитам. А вот в том, что он, Вуколов, оказался здесь, не было никакой закономерности, по крайней мере логической. Скорей это произошло вопреки логике, да и здравому смыслу тоже. Не было очевидной цели, которая бы заставила их карабкаться в эту гору. Петрографическое исследование вершины? Да, возможно. Но если честно, то это оправдание перед совестью. Просто он поддался на уговоры Омрина. Просто ему хотелось осилить гору, и он дал себя убедить, что это нужно для науки. Желание, шальной порыв, если разобраться, не более. Все остальное придумано. И вот он здесь.
Какая-то чертовщина, если вдуматься! Один век сменялся другим, а люди и не думали подниматься в горы. То есть, конечно, туда шли, очень даже шли, но лишь затем, чтобы проложить тропу, достигнуть пастбища, провести караван, укрыться от набега. Все это ясные, насущные потребности. Людей интересовали перевалы, склоны, богатые золотом или медью, удобные для рекогносцировки вершины, а поднебесные кручи — нет. Зачем куда-то лезть без надобности? Когда Петрарка затеял подняться на какую-то там плюгавую вершинку в предгорьях Альп, куда мог взойти любой, но куда на памяти местных жителей никто не поднимался, он испытывал смущение. Он опасался насмешек, но еще более обескураживал его собственный порыв. Ведь никто не лезет в гору без дела. А он полез. Бог или дьявол нашептал это желание?
Альпинизм — плод досуга. Пусть так. Досуг кое у кого был и раньше, и у древних греков он был, но письменные свидетельства молчат о желании Сократа, Платона или Аристотеля взойти на Олимп, о том, что кто-то из их современников взбирался на Олимп. Позже — да: когда умерли боги.
А с девятнадцатого века началось. Десятки, сотни, потом тысячи, миллионы горопроходцев. Движение, по сравнению с которым великое переселение народов — пустяк. Да, спорт, да, закалка и школа мужества. Но не оправдание ли это задним числом нерассуждающей страсти? Ведь горы многих карали увечьями и смертью. Сомнительная выгода для здоровья и мужества. И что же? Нет очевидной пользы, нет осязаемой цели, ну и не надо, будем лезть просто так!
И он, Вуколов, лез. На Земле. Теперь вот лезет на Марсе. Просто так.
Прекрасная бессмыслица…
Положенные минуты отдыха истекли. Омрин с Вуколовым встали, молча повернулись спиной к бездне и мерным, коротким шагом двинулись вверх по склону.
Вуколов сделал это с сожалением. Задержаться хотя бы на час… Но времени нет, нет — мимо и дальше, что бы ни встретилось по пути, — так было в его жизни уже много-много раз.
Занимался третий день восхождения. Глубоко внизу свет зари разгорелся настолько, что проступили очертания скал. Небо по контрасту стало еще черней и как бы бросало на склон траурную тень. Сумрачный путь среди лав наводил уныние. Ничья фантазия не могла бы придумать ничего более тоскливого, чем каменные поля под черным пологом неба, и когда жидкий свет солнца отразил тень, то Вуколов вздрогнул, увидев, как она движется, воспроизводя все их жесты. Так могли бы двигаться души в стране усопших, и, конечно, там был бы именно такой пейзаж.
Шаг, шаг, шаг. Хрусть, хрусть, хрусть… Подошвы давили черный шлак пемзы. Звук передавался не по воздуху, которого на этой высоте, можно сказать, не было, а через скафандр, проникал в тело, и казалось, что непривычно и дико хрустят подошвы ног.
До сих пор жаловаться на трудности не приходилось. Гора не нагромождала серьезных препятствий и не требовала высшего мастерства. Не зря, выбирая маршрут, они столько часов изучали стереоснимки: на этом пути гора напоминала сильно увеличенный в размерах Эльбрус, только без ледников, снега и капризов погоды. День за днем, час за часом длился упорный подъем, то, что альпинисты называют «ишачкой». На Земле столь долгое восхождение само по себе измотало бы человека на первом десятке километров, но здесь они сами, их скафандры и груз весили много меньше, чем на Земле. И уж совсем не надо было заботиться о дыхании, потому что на любой высоте скафандр подавал кислорода столько, сколько требовалось легким. Все же бесконечный подъем утомлял, и тело уже вскоре после привала уподоблялось безучастному механическому шагомеру.
Шаг, шаг, шаг, Хрусть, хрусть, хрусть…
Поле тяготения, которое они превозмогали, давило на плечи, наливая тело вязкой усталостью. Конечно, в действительности все обстояло наоборот: каждый километр подъема неуловимо облегчал вес. Но им казалось, что они расталкивают все плотнеющую массу. Сердце, легкие, каждая клеточка мускулов работали на пределе, как у ныряльщика в подводной глубине. Только здесь напряжение растягивалось на долгие часы и бесконечные километры. Тело молило о спуске, но воля разума, не давая пощады, гнала его вверх и вверх.
Теперь вся жизнь Вуколова сосредоточилась в этом неуклонном подъеме, где ничего нельзя получить за так и где никаким ухищрением нельзя сократить положенное число шагов.
Поднялось и ярко брызнуло солнце, тени сгустились, как на Луне, небо стало глухим, аспидным, беззвездным. В угловатых камнях искрами запылали блестки слюды и кварца.
Всего в километре от вершины путь преградила отвесная гряда скал, преодоление которой в обход или в лоб наверняка отняло бы много времени. Меж скалами, однако, оставался проход. И хотя зажатая среди скал каменная река была, вне сомнения, осыпью, она не внушала опасений — подобные встречались уже не раз. Они осторожно ступили на шаткий наплыв.
В первые минуты все шло, как должно. Некрупные щербатые камни мертво лежали под ногами, и в просвеченном солнцем сужении скал уже виднелся близкий исток осыпи, когда внезапно каменный поток дрогнул и поплыл вниз. Секунду-другую длилось скрежещущее покачивание, от которого у обоих упало сердце, а потом все замерло. Они всего лишь сместились назад.
Однако новая, на пределе осторожности попытка подняться вызвала тот же грозный шорох.
Выждав, пока шорох уймется, они взяли к скале, где, по логике, осыпь должна была обладать меньшей подвижностью.
Она дрогнула еще сильней.
Шаг в сторону, затем назад, чтобы выбраться из осыпи, еще раз в сторону и опять назад! Но бесполезно. Сверху беззвучно, как это бывает во сне, запрыгали камешки, и один с силой ударил Омрина по голени. И всюду их ждал предостерегающий скрежет готового ринуться обвала.
На Земле это их не испугало бы. Позади не зияло бездны, там расстилался скат, по которому в случае чего можно было проехаться и с осыпью. При их опыте такой спуск грозил лишь синяками и ссадинами.
Но здесь и этим нельзя было рисковать, ибо разрыв скафандра был куда опасней перелома ноги. То, что прежде было преимуществом, теперь оборачивалось против них, лишний раз подтверждая, что в горах, как и в жизни, ничто не дается даром.
Неуверенным, точно у слепца, движением они вновь опробовали все вокруг и убедились, что надежду, как ни странно, дает лишь карабканье вверх по оси потока. Смещая осыпь, оно все же не выводило ее из шаткого равновесия. И даже сохраняло кое-что из отвоеванной высоты. Пустяк, сантиметры, но и это был выигрыш!
Они не обменялись ни словом. Они и так поняли друг друга. Тут нечего было обсуждать, здесь не мог помочь никакой расчет, оставалось довериться интуиции. Одновременно кивнув друг другу, они вступили на ненадежный эскалатор, каменную, ползущую вниз лестницу гор.
Солнце светило в спину, но стены ущелья отражали его отовсюду. Камни полыхали мириадами искр. Вуколов, интуитивно выбирая наилучшую опору, осторожно ставил туда ногу, медленно утверждал ее, так же осторожно делал повторный шаг и все равно на каком-то сползал, чтобы все начать в сотый, а может быть, тысячный раз. Климатизатор скафандра работал исправно, однако пот заливал лицо. Вуколов видел только жаркий отсвет камней, их хаос у ног; еще боковым зрением он охватывал искрящийся отвес скал, по которым только и мог судить о движении.
В этом томительном движении теперь заключалось все. Прошлое, настоящее, будущее. Ничего другого не было прежде, ничего иного не могло быть потом. Вверх — вниз, вверх — вниз, вверх — вниз… Шорох и скрежет, сухой блеск камня вокруг, так было всегда, он вечно был здесь, всегда карабкался, неизменно соскальзывал, снова лез. Лишь порой глухо саднила досада, почти отчаяние, что нет в мире лестниц, ползущих вверх, а все они безжалостно тянут вниз, если только, задыхаясь, не карабкаться им наперекор. В этом чудилась какая-то издевательская несправедливость, которая и обескураживала, и разжигала ярость упорства.
Он не думал о себе, не думал о шансах, лишь молоточками в ушах стучала кровь, и внимание, как в фокусе, перемещалось с глыбы, куда следовало поставить ногу, на поддержку товарища, которого уносило вниз. Иногда в поле зрения врывалась траурная полоса неба над головой. И она тоже была частью новой безвыходной жизни, как одышка, как борьба за сантиметры, как шорох оседающего камня.
Сползая назад, он тянулся вверх, вверх, вверх… И длилось это вечно.
А потом внезапно все кончилось, и он лежал на твердой скале, без мысли вглядываясь в просторное небо. И Омрин лежал рядом, и было хорошо, только ноги еще шли по наплыву камней и медленно стихал стук сердца. День вступил в свои права, он казался огромным и прекрасным, во веки веков нескончаемым.
Вершины они достигли в разгар дня.
Они стояли на гребне, как бы паря над Марсом. Слева был такой простор глубины и дали, что глаз видел туманную покатость самой планеты. Склон с его скалами, осыпями и обрывами круто падал вниз, погружаясь в прозрачную синь воздуха. Сквозь эту синь отчетливо проступали ржавые, ссохшиеся выступы далеких гор, морщинистые складки равнин, затушеванные тенью трещины каньонов. Ближе к скату планеты воздух темнел, как вода в глубине, и красноватые барханы смотрелись оттуда донной рябью песка.
И над всем в темном небе пылало белое солнце, не по-земному маленькое и ослепительное, чуть размытое по краям, — то был слабый намек на невидимую сейчас корону.
Справа ниспадала другая бездна — до дна залитая тенью воронка исполинского кратера. С расстояния десятков километров отчетливо виднелись бурые, черные, лиловые камешки противоположного склона, самый мелкий из которых в действительности мог увенчать любой земной пик.
Вуколов чувствовал себя омытым хрустальными потоками света, космическими здесь, где все было космическим, как в первый день мироздания. Воздух скафандра не изменился, но дышалось легко, привольно, сладостно, и кровь молодо пульсировала в каждой клеточке тела. И каменное оцепенение планеты лишь возбуждало эту бурлящую в нем жизнь. Кто сказал, что человек не вечен, подвержен тоске, старости, унынию? Кто? Вуколов чувствовал запас сил на века, и в нем, перехлестывая, бурлила радость.
— Никс Олимпика, — пробормотал он блаженно. — «Снега Олимпа» — вот вы, значит, какие…
Сияя, он обернулся к Омрину.
Тот стоял неподвижно. Его меланхоличное лицо было сурово-торжественным. Он пристально, оцепенев, вглядывался во что-то над головой Вуколова.
— Эй, лю-ю-ди! — заорал Вуколов во всю силу легких. — Мы ее взяли! Все-таки взяли!!!
Омрин вздрогнул, дико, будто спросонья, глянул на Вуколова. Но восторг машущего руками приятеля смягчил его взгляд.
— Добавь еще, что мы первые, — сказал он со странной усмешкой в голосе.
Вуколов весело, по-детски заулыбался.
— Само собой разумеется и не столь существенно! — Он тряхнул головой.
— А что же существенно?
— Ничего. Все!
— Сядем, — внезапно предложил Омрин.
Вуколов с готовностью сел, тут же вскочил, словно не находя себе места, и снова сел. Сам Омрин остался неподвижным.
— Вершина-то, а? — сказал он с непередаваемой интонацией. — Особая вершина, — добавил Омрин с ударением. — Вертолет не может сюда подняться — нет воздуха. Для ракеты мала посадочная площадка. Нужны ноги, чтобы взойти.
— Естественно, — весело кивнул Вуколов. — В этом вся прелесть!
— В чем?
— В том… Да ты и сам понимаешь. Экий простор! — Он сделал небрежный жест. — Хочется петь и смеяться. И растут крылья. Вот только снегов нет. «Снега Олимпа», а их нет. Непорядок, а? Впрочем, и так хорошо. Тебя не тянет полетать? Так бы, кажется, и взмыл. Сплошной иррационализм. «Есть упоение в бою, у бездны мрачной на краю». Почему? Не знаю и не желаю знать.
— А я вот шел сюда за ответом.
— Скучный педант! — Вуколов рассмеялся. — Надоели ответы. Всю жизнь ищем ответы, только этим и заняты. Да погляди, погляди вокруг. Силища-то какая! И вроде бы ничего исключительного. Ну высота, ну даль. Воздух внизу, планета у ног. А невозможно оторваться. Все на пределе, все сверх предела — и до солнца рукой подать!
— Вот-вот, — серьезно сказал Омрин. — Взошли, тут тебе и радость, и опьянение, и гимны, как ты верно заметил, хочется петь. А ведь просто так радость не дается, это всегда награда. Но здесь за что?
Голос Омрина прозвучал так, что Вуколов насторожился.
— К чему ты клонишь? — спросил он нехотя. Тон Омрина сбивал настроение.
— Ты ничего тут не замечаешь… особенного?
— Особенного?
Вуколов огляделся в недоумении. И снова, только иначе, его поразила дикая мощь природы. Он даже почувствовал себя в ней лишним. Тут все было чрезмерным. Человечество целиком могло сойти в бездну кратера, уместиться там, и ни единая черточка пейзажа от этого не изменилась бы. Разве что прибавилось серое пятнышко на дне. И даже будь здесь воздух, крик миллионов заглох бы тут, нигде не достигнув края.
— Здесь нет ничего особенного. — Вуколов невольно понизил голос. — И тут все особенное. В самом деле! Эта гора могла бы стать троном бога или сатаны, но, к счастью, мы вышли из детского возраста. Мы поднялись на самую большую из доступных нам вершин Солнечной системы, вот и все. Радуйся, человече!
— Поднялись, рискуя всем! — нетерпеливо бросил Омрин. — Спрашивал ли ты себя, ради какой цели?
Вуколов пожал плечами, насколько это было возможно в скафандре, и откинулся, облокотясь о скалу.
— Ну спрашивал, — ответил он нехотя. — Что дальше?
— Надо разобраться. Две главные потребности определяют поведение живых существ и самого человека. Потребность в пище, в благоприятных условиях — раз, потребность в продолжении рода — два. Стоят они за нашим поступком?
— К чему эта азбука теории психогенеза? — Вуколов недоуменно поморщился. — Тоже мне — нашел место и время! Ладно, ладно, отвечу: не стоят. Доволен? Или напомнить, что, кроме этих базисных потребностей…
— …Есть и другие! Для тех, кто ведет коллективный образ жизни, вне сообщества — лишь прозябание и смерть. Но и тут ясно, что не тяга к себе подобным двигала нами… Остается последняя базисная потребность. Та, без которой невозможен опыт, а следовательно, приспособление к меняющимся условиям среды.
— Вот, вот! Поздравим себя с тем, что нас привела сюда страсть к познанию, и покончим с самопокаянием. Нас ждут го-оры!
Омрин возбужденно фыркнул.
— Веришь ли ты сам в то, что говоришь? Страсть к познанию! С орбиты можно рассмотреть, исчислить любую песчинку, а много ли увидишь отсюда? Там, на спутниках, стационарные лаборатории, а что у нас? Какой анализ нельзя провести оттуда? Какое наблюдение обязательно требует присутствия человека здесь?
— Ладно, ладно, — томясь ненужностью всего этого глубокомыслия, проворчал Вуколов. — Согласен, что наш поступок — блажь. Или, если уж на то пошло, для самооправдания, — атавизм: непременно все надо потрогать руками. Даже если они в перчатках. Ну и что? Блажь так блажь, не единым хлебом да познанием жив человек. И нечего искать глубокую причину, тут и без нее прекрасно.
— А ведь хочется найти причину-то?
— Вот пристал! — окончательно рассердился Вуколов. — Да ты взгляни. — Он протянул руку. — Ведь мы первые видим это! Какое молчание во всем… Космический сон планеты. Хребты у наших ног точно спины древних чудовищ. Время попировало, смотри, как они обглоданы! Нет, этого словами не выразишь. Художник, поэт нужен! А ты пристал с анализом. Что, как, отчего… Нет тут никакой проблемы.
— Проблема есть, — глухо отозвался Омрин. — И тебе, милый друг, она тоже не дает покоя. Блажь, ради которой рискуют жизнью? Шальной порыв, удовлетворение которого дает такое счастье? Чепуха! Природа расчетлива: радость, как и горе, служит целям выживания, и стоит в них покопаться, как наружу выйдет потребность, исток которой тянется к эволюционным глубинам жизни.
— Пятая базисная потребность — очертя голову лезть в горы? — едко, уже не скрывая раздражения, бросил Вуколов. — Какая досада, что науке известны только четыре! Мы можем сделать большое-большое открытие, доказав пятую.
— За доказательством я и шел сюда.
Это было сказано так, что Вуколов, отпрянув, уставился на своего приятеля. Всегда тихого Омрина было не узнать. Он вырос как будто, заполонил собой пространство. Сверху на Вуколова глядело темное, страстное, неузнаваемое лицо фанатика или провидца. «Полно, — с изумлением, почти испугом качнулся Вуколов. — Тот ли это человек?»
— Есть пятая могучая потребность, — прогремели сверху. — Она существует, есть. Я не надеялся найти здесь такое подтверждение и все-таки шел сюда с этой мечтой…
Омрин перевел дыхание. Вуколов смотрел на него как завороженный.
— Слушай! Дерево растет, пока держат корни, рыба стремится заполнить океаны икрой, человек жадно вглядывается в недостижимые дали галактик. Все стремится к пределу и за предел! Рост дерева часто опережает устойчивость корня, рыба гибнет на порогах, чтобы отметать икру, человек сам, по доброй воле надламывает себя работой. Жертвенно, глупо, противоречит инстинкту самосохранения, наконец! И почему, почему эволюция, которая безжалостно отметает лишнее, допустила такое расточительство, не умерила, не отрегулировала порыв? Да потому, что это рационально, выгодно для существования вида. Малые усилия — малый выигрыш, и уж на лезвии, — а жизнь балансирует на лезвии! — так вовсе проигрыш. Не-е-ет! Полное напряжение и полная отдача — вот залог и резерв процветания. За это, за отдачу на пределе, за переход через предел нам и дается блаженство. Все стремится осуществить себя, реализовать свою функцию, вот это-то и создает неукротимый, причудливый, даже беспощадный в своих всплесках, напор жизни! Такие уж правила игры, что не посидишь сложа руки; тут закон! — и нарушение его для нашего брата в лучшем случае карается скукой, от которой и свет немил… А горы, что ж, частный случай, хотя и яркий. Выход за пределы в его, так сказать, чистом виде. Так-то!
«Вот так Омрин!» — мысленно выдохнул Вуколов, переживая и облегчение при звуках вполне здравой речи, и вызванное ею недоумение, и невольный подъем, заразительным источником которого был Омрин.
— Интересно! — воскликнул он искренне. И сразу, повинуясь осторожности, добавил: — Только исключений здесь, пожалуй, больше, чем правил…
— А как же! — чему-то обрадовался Омрин. — Потребность в продолжении рода и то не всем свойственна Тоже входит в правила. Однородная, одинаковая масса инертна, непластична, а условия-то меняются! Сегодня важнее то, завтра это, тут в миллионах большое разнообразие должно быть. Иначе…
Омрин сделал жест, каким римляне посылали гладиатора на смерть.
— Уф! — шумно, словно освобождаясь от тяжести наваждения, вздохнул Вуколов. Новый образ человека, которого он так давно знал, тревожил его и притягивал, ибо он не знал, как к нему теперь относиться. — Стройная гипотеза, но сомнительная. Впрочем, ты что-то говорил о доказательствах. Здесь?
— Именно здесь.
— Ну-у… Что-то я их не замечаю. Фобос взошел на горизонте — вижу. Такой симпатичный опаловый серпик… — Вуколов на ощупь искал верный тон. — Тень в кратере сместилась, теперь там блестит что-то желтое, сера, должно быть. А жизни здесь нет. И быть не может. Разве что мы с тобой? А больше никаких доказательств. Пошутил, а?
— Нет! — Омрин торжествующе рассмеялся. — Снега Олимпа! Не мы первые, и до нас тут была жизнь.
— Где?!
— А ты вглядись, поищи, как я искал.
Чужое возбуждение снова передалось Вуколову. Он встал. Его настороженный недоверчивый взгляд перебегал от кручи к круче, замирал, устремляясь то в ослепительные, то в черные бездны, но встречал лишь залитый солнцем хаос, величественную панораму скал, камень, который со дня своего вулканического зарождения был мертв окончательно и навсегда. Грозной и прекрасной неподвижностью веяло отовсюду, ибо даже в самые неистовые бури, когда воздух Марса обращается в смерч, вершина Нике Олимпика безмятежно парит над клокочущей мглой песка.
— Здесь нет ничего.
— Не там смотришь, — коротко сказал Омрин. — Не там и не так.
— А как?
— Сначала видит мысль, уж потом глаз. На Марсе тысячи непокоренных гор, а нас потянуло на самую высокую. Почему? Потому что она самая высокая! Но если потребность осуществить себя привела нас именно сюда, то она могла привести сюда и кого-то другого. Можешь ты представить иных, но лишенных хоть одной базовой потребности разумных существ?
— Но послушай!..
— Нет, ты ответь.
— Хорошо. В бесконечной вселенной…
— Оставь бесконечность в покое! Законы природы общи для всей Галактики. Разумные существа могут есть не хлеб, а камень, дышать не воздухом, а огнем, быть не из белка, а из хрусталя, но они должны питаться, размножаться, жить в обществе, изучать мир и стремиться к недостижимому. Значит, если кто-то когда-то пересек межзвездные расстояния, он, располагая временем, мог захотеть подняться на высочайшую — никакую другую! — вершину Солнечной системы. Просто чтобы постоять на ней.
— Какое дикое допущение!
— Мы, однако же, здесь. И лазерный резак мы прихватили не только затем, чтобы вырубать ступени. Кстати сказать, для росписи любой из нас выбрал бы скалу в самой высокой точке. Так?
— Так, — машинально подтвердил Вуколов.
— Тогда зайди за выступ скалы и посмотри, что у тебя над головой.
Вуколов поднялся, сделал на внезапно ослабевших ногах несколько шагов, вгляделся и вдруг зажмурился, как от ослепительной вспышки. Но и в потрясенной тьме сознания продолжали гореть письмена, врезанные в скалу задолго до того, как человек поднялся на первую свою гору.
ВРЕМЯ ТУКИНА
Конечно, то, что произошло с Тукиным, весьма любопытно. И уж во всяком случае невероятно. Тем более что это, так сказать, обыденная невероятность, а в нее поверить куда трудней, чем в любую другую. Вот мы читаем в журналах о «черных дырах» вселенной, где время то ли исчезает, то ли обращается вспять. Куда уж невероятней! Но, во-первых, «черные дыры» где-то там, далеко и нас не касаются; во-вторых, их существование исчисляется математически. Ну и, кроме того, статья подписана доктором наук. Удивляешься, но веришь. А тут… Впрочем, судите сами.
Тукин — человек обыкновенный. Для его биографии характерна частица «не». Не награждался, не привлекался, не женат и в обществе незаметен. На улице вы, конечно, не обратите на него внимания, а если вас с ним мельком сведет дело, то он вам скорее всего не запомнится. Поэтому, надо думать, и событие, которое с ним произошло, не породило слухов.
Все началось с телефонного звонка, который однажды утром оторвал Тукина от завтрака.
— Привет, — сказала трубка голосом Марикова. — Напомни тот анекдот, что ты вчера рассказал.
— Какой анекдот?
— О попугае.
— О попугае?
— Ну да. Что он там изрек, когда дама открыла холодильник?
— Это когда же я его рассказывал?
— Как когда? У меня на дне рождения, ты что, забыл?
Тукин еще не успел выпить кофе, и голова у него была не совсем ясной. Все же он отчетливо помнил, что никакого анекдота о попугае не рассказывал, ибо не знал его вовсе, а кроме того, день рождения Марикова никак не мог быть вчера, поскольку он должен был состояться завтра.
— Ты что-то путаешь, — сказал Тукин, досадуя на всю эту несуразицу. Ведь сегодня…
— Тринадцатое. Но это неважно. Так попугай…
— Сегодня одиннадцатое!
— Тринадцатое, старина, тринадцатое. Склероз, а? Может, ты скажешь, что и на дне рождения у меня не был? — Трубка издала смешок.
Тукин готов был поклясться, что так оно и есть, но пришел в такое замешательство, что лишь пролепетал какое-то оправдание и, повесив трубку, тупо воззрился на потемневший рисунок обоев, точно стены могли дать ответ, какое именно сегодня число.
Поскольку, однако, стены не могли прояснить, не только какое сегодня число, но и какой год, а беспокойство росло, Тукин, кляня свое малодушие, поспешил за газетами. Пока скрипучий, почему-то названный бесшумным лифт опускал его, он почти уверился, что никакой путаницы нет, а есть простое недоразумение, которое рассеется, едва он возьмет в руки газету. Он открыл почтовый ящик, достал газеты.
На всех стояло тринадцатое число!
Это было уж слишком. Настолько слишком, что Тукин хмыкнул, пожал плечами и впал в слегка легкомысленное настроение.
Нет, нет, все это несерьезно. Кому не доводилось перепутать даты? Забыть те или иные пустяковые события вчерашнего, тем более позавчерашнего дня? Бывает, и нет тут ничего особенного. Эка важность, что из памяти стерлись обстоятельства дня рождения Марикова! Скучный, значит, был вечер. Странно, конечно, что забылся сам факт, но мало ли что…
Так, недоумевая, посмеиваясь и отгоняя прочь неприятные мысли, Тукин отправился на работу. Там сразу нахлынуло множество дел. Все это были привычные, каждодневные заботы, и, попав в их круг, Тукин мало-помалу успокоился. О чем-то ему напоминали, о чем-то он сам напоминал, звенели телефоны, шли совещания, и утреннее событие, удаляясь, мельчало, бледнело, заволакивалось обыденностью.
Размышлять и оглядываться было тем более недосуг, что на вечер у Тукина имелись особые планы. В кармане лежали купленные накануне билеты на французскую кинокомедию, о чем тоже заранее было договорено с Людочкой, Людочкой-маленькой, Людочкой-колючкой. Возможно, хотя это было только предчувствие, именно сегодня их отношения наконец сдвинутся с мертвой точки…
У кинотеатра «Космос» Тукин был без четверти семь. Люда, разумеется, еще не появилась. Прохаживаясь, Тукин поглядывал на площадь, где все двигалось и шумело, где люди, машины, трамваи пульсировали в бесконечном водовороте, который вот-вот должен был вынести к нему девушку с близоруким прищуром зеленоватых глаз. Шли, однако, минуты, а девушки не было. «Интересно, — подумал Тукин. — Опоздание — это свойство или тактика женщин?»
Без трех минут семь. Недоумевая все сильней, Тукин достал билеты, чтобы проверить время сеанса. И обомлел: билеты были оборваны рукой контролера!
Еще не веря себе, он перевернул синие листочки. На обороте стояло одиннадцатое число.
Гул площади оборвался, и люди, машины поплыли перед Тукиным, словно лента с выключенным звуком.
Он не помнил, как добрался домой, там он сбросил пальто и, не чувствуя сердца, повалился на диван.
Неподвижно уставясь в потолок, он долго пытался восстановить вчерашний — каким бы он там ни был по счету — день. Вчерашний, позавчерашний, позапозавчерашний… С той лихорадочной потерянностью, с какой заблудившийся путник рыщет взглядом по сторонам, Тукин растерянно пытался сориентироваться во времени.
Но чем глубже он всматривался в прожитое, тем оно все более осреднялось, образуя как бы один нескончаемый день. Утром в будни всегда звонил будильник. Тукин вставал, механически готовил завтрак, брился, одевался, шел к остановке, где всегда была тьма таких же, как и он, служащих. Вся разница состояла лишь в том, что иногда кофе убегал, а иногда нет, иногда на улице лил дождь, а иногда светило солнце, иногда удавалось втиснуться во второй автобус, а иногда только в четвертый. Но само это разнообразие повторялось так часто, что уже не было разнообразием.
Работал он в организации, которая издавна обеспечивала выпуск, в сущности, одних и тех же металлоконструкций, хотя уже который год речь шла о коренной модернизации. Но внедрение новой техники затягивалось, а те изменения, которые все же осуществлялись, непонятно почему давали почти прежний результат. Дел, однако, хватало, они поглощали уйму времени, но, на что оно уходило месяц или год назад, вспомнить не удавалось. Само же управление было своего рода деревней, где все знали всех, где, конечно, случались и размолвки и ссоры, однако характеры людей давно притерлись настолько, что конфликты тут же гасли и редко оставляли о себе долгую память.
Вечера, а также свободные дни были заполнены… Тукин попытался вспомнить, где и с кем он встречал хотя бы позапрошлый Новый год? У Ферзикова? Нет, у Ферзикова он, кажется, встречал этот Новый год. Верно, верно, там еще шампанское в его руках дало пенную струю, которая обрызгала потолок, а Ферзиков стал успокаивать, что это неважно, — они все равно намерены делать ремонт квартиры. А позапрошлый Новый год он встречал… Да не у того же Ферзикова ли?
Тукин с досадой перевернулся на бок. Припоминалась масса всякого, но детали существовали как-то сами по себе, вне четкой временной последовательности. Смешно, но ведь факт: он не всегда находился с ответом, когда его спрашивали, сколько ему лет. Приходилось припоминать год рождения, потом производить вычитание из цифры нынешнего года…
Ну и что? Все это никак не объясняло пропажи двух дней. Пусть в магазине, где он неизменно покупал еду на завтрак и ужин, вчера, как и сегодня, как и пять лет назад, пришлось отстоять долгую очередь. Пусть однажды, когда он играл с приятелем в преферанс, к нему подряд пришли три мизера, и само это событие запомнилось ярко, хотя он не был уверен, произошло ли оно полгода или год назад. Связь-то всегда сохранялась! Дела вчерашние неизменно вспоминались наутро, равно как и планы на будущее. Здесь никогда не было ощутимого разрыва. Это только потом все размывалось, уплывало куда-то и тонуло в серой массе прошлого.
Что же тогда с ним такое? Ни о чем таком он никогда не слыхивал и не читал. То есть ему, как всякому образованному человеку, было знакомо понятие «амнезия». Но почему провал памяти поглотил последние два дня, не затронув остального? Словно кто-то взял и выкрал их из жизни, как мелочь из кармана. Или при амнезии так тоже бывает? Только психиатр мог ответить на этот вопрос.
Мысль о визите к психиатру напугала Тукина. Нет, нет, пока не надо… Мало ли что…
Как ни ужасен был тот вечер в пустой квартире, к врачу Тукин не пошел, уповая, как мы все в таких случаях уповаем, что все как-нибудь само собой утрясется.
И точно. Неделю-другую после случившегося Тукин первым делом стремглав бежал за газетами и с трепетом смотрел на число, но газеты всякий раз подтверждали, что его представления о времени не расходятся с истиной. Постепенно Тукин перестал опасаться. Само событие, понятно, не забылось, но потеряло тревожную остроту и перешло в разряд случаев, о которых говорят: «Чего только не бывает!»
К исходу месяца Тукин уже готов был рассказать о нем под настроение кому-нибудь из приятелей, как о забавной и поразительной истории, почти анекдоте, но вдруг все повторилось снова.
На этот раз провал памяти настиг его средь бела дня. Он сидел за своим рабочим столом и на минутку задумался. А когда поднял голову, то ничто ему не подсказало, что он переместился на сутки вперед. В комнатах, как прежде, сидели сослуживцы. Кто-то из них, правда, вышел, а кто-то вошел, но это было в порядке вещей. В окна светило солнце, хотя только что было пасмурно, но такие мелочи редко обращают на себя внимание человека, который занят делом. В остальном все было, как всегда, как месяц и год назад: кто-то корпел, согнув спину, кто-то туманно глядел в потолок; сосед объяснялся по телефону с начальством, а унылый посетитель покорно ждал конца беседы. Вздохнув, Тукин потянулся к квартальному отчету с тем же чувством неохоты, какое владело им мгновение назад. И только вид законченного отчета, за который он еще и не брался, открыл ему ужасную правду.
Далее медлить было нельзя, и в тот же вечер Тукин поспешил в поликлинику.
Современный человек имеет дело с врачами часто, и врачами разными. При минимальной наблюдательности для человека в возрасте Тукина они объединяются в три наиболее типичные группы. Первая, к счастью, наибольшая, состоит, из добросовестных, по мере сил заботливых врачей, которые стараются делать все как можно лучше. Но есть врачи настолько равнодушные или замотанные, что сердцевину их работы составляет желание побыстрей отвязаться от пациента. На их лице так и написано, что заболевание ваше пустяк, что вы зря их беспокоите, а потому быстро-быстро пишется рецепт, дается бюллетень, и больше вы для такого врача не существуете. Представитель третьей группы, казалось бы, наоборот, весь в заботе о вашем здоровье. Он сразу назначает серию анализов и посылает вас к консультантам. Но делает он это и тогда, когда нужно, и тогда, когда никакой нужды нет, обрекая тем самым больного на долгие мучения в очередях. Такие его поступки, собственно, продиктованы тем же равнодушием, правда, истоком здесь чаще всего бывает боязнь ответственности, а не глухое безразличие.
К такому врачу и попал Тукин. Ответственность же, распределенная на многих, редко остается ответственностью. Все консультанты выслушали Тукина, провели необходимые обследования, но ни обследования, ни анализы ничего особенного не выявили. Тукин был здоров, насколько это вообще возможно для горожанина его возраста и стиля жизни. Память оказалась в полнейшем порядке, психика тоже, вот разве что легкая неврастения. Но кого беспокоит заурядная неврастения, верней, кого она не беспокоит? Естественно, что лечащий врач, когда к нему сошлись все данные, прописал все, что в таких случаях полагается, посоветовал заняться спортом и счел свою миссию выполненной.
Хождение по кабинетам и результат этого хождения отбили у Тукина охоту обращаться куда-либо еще. Таким образом история Тукина оказалась погребенной в архивах поликлиники, но мало ли где и что погребено?
Для Тукина началась новая, странная жизнь. Какой-то период он жил, как все, работал, отдыхал, развлекался, а затем те или иные дни будто стирало резинкой. Далее опять все шло нормально. Самым удивительным оказалось то, что жить таким образом, как выяснилось, можно не хуже, чем прежде. Внешний мир, все, с кем Тукин соприкасался, не замечали за ним ничего особенного. Это может показаться невероятным, но это так. Ведь объективно Тукин жил без перерывов, делал то, что положено, встречался с теми, с кем всегда встречался, словом, вел себя как нормальный человек. Затруднения возникали лишь тогда, когда ему напоминали о событиях или договоренности, о которых он понятия не имел, ибо они приходились на пропавшие дни. Но мало ли кому и о чем приходится напоминать! Никто в этом не видит особой беды. Конечно, сверхзабывчивость рано или поздно вызвала бы недоумение. Но Тукин вскоре нашел блестящий выход: он завел дневник, куда пунктуально заносил события каждого дня и часа. Это столь благотворно сказалось на его деятельности, что начальник отдела однажды поставил его в пример.
Получалось совсем уж нелепо. Из жизни Тукина, точней, из его памяти какие-то безжалостные ножницы выстригали день за днем, а в результате ровным счетом ничего не менялось!
Это-то больше всего и угнетало Тукина. Он жил частичной жизнью, но такая жизнь, в сущности, ничем не отличалась от нормальной! Ведь и раньше из его памяти, как это у всех бывает, выпадали большие куски прожитого, так что от целых месяцев порой оставались смутные и бледные пятна. Сейчас это свойство памяти как бы материализовалось, стало зримым. А он ничего существовал…
Провалы меж тем множились, в них порой исчезали уже целые недели. Ужасней всего было то, что Тукин никому не мог открыться. Просто ему никто бы не поверил. Порез пальца вызывает немедленное и сочувственное понимание, к раненому спешат с бинтами и йодом. Но кто замечает незримые травмы? Психиатр — и тот, чего доброго, стал бы теперь лечить Тукина от какой-нибудь мании: мании «потери себя» или мании «пустого времени», если такие существуют.
Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы состояние Тукина стабилизировалось. Гадать излишне, потому что количественные изменения вскоре перешли у Тукина в качественные. Случилось это, как и раньше, вдруг, тихо и незаметно.
— А Тукин наш стал богачом, — входя в комнату, объявил один из сослуживцев. — В бухгалтерии уже ведомость хотят закрыть, а он все раздумывает, стоит ли идти за зарплатой.
Поскольку Тукин получил зарплату вчера, то он лишь криво улыбнулся в ответ. Но вскоре какой-то тревожный импульс побудил его заглянуть в бумажник.
В бумажнике сиротливо желтела одинокая рублевка.
— Какое сегодня число? — прерывающимся голосом спросил Тукин.
— Первое, — буркнул сосед.
Тукин рванул из портфеля дневник и от волнения не сразу отыскал последнюю запись. Она была помечена утром второго… А запись за первое свидетельствовала, что он получил зарплату!
Это было так дико и неправдоподобно, что Тукин едва не заорал на все учреждение. Выходит, он переместился в прошедшее время, в день который уже был им прожит?!
Тут надо отдать Тукину должное: потрясение не помешало ему четверть часа спустя получить зарплату. Что же касается самого события, то составить о нем мнение он так и не смог, что, впрочем, неудивительно.
Ни один мудрец не сталкивался с такой головоломкой, а если бы и столкнулся, не знаю, смог бы он ее разрешить. У меня тем более нет ничего, кроме смутной гипотезы.
Здесь ясен только один факт: объективно Тукин не перемещался во времени. Если бы он перемещался, то, скажем, в вечерней записи за первое было бы отмечено не только то, что он получил зарплату, но и то, что он дважды пережил один и тот же день. Но это потрясающее событие в дневнике отражено не было. Следовательно, в этом, как и в других более поздних случаях такого рода, его память о будущем была ложной памятью, а записи в дневнике были отражением этой ложной памяти.
Впрочем, дело тут, по-моему, вовсе не в памяти.
Время, как известно, категория объективная. Вчера, сегодня и миллиард лет назад всякая предыдущая минута равна последующей — как для камня или бактерии, так и для человека по фамилии Тукин. Но, кроме физического времени, есть время психологическое. То есть, строго говоря, такого времени вроде бы нет вовсе — это всего лишь субъективное восприятие объективного хода времени. Следовательно, оно подчиняется психическим, а не физическим законам, которые оттого, однако, не перестают быть законами природы.
Представление о физическом времени у нас пока еще смутное. Все же мы знаем, что оно относительно, что им, меняя скорость движения и силу тяжести, можно управлять. Менее надежны наши представления о субъективном времени. Что оно очень пластично, знает, разумеется, всякий — одни минуты тянутся, как верблюжий караван, другие мелькают быстрее пули. Итак, субъективное время, похоже, изменчиво. Оно столь податливо, что его можно консервировать, это и делает память, позволяя бессчетное число раз проиграть давние события. Внешне память запечатлевает время, как кинопленка свет, а магнитофонная лента звук. На этом, однако, сходство кончается, поскольку в запечатленном времени события сжимаются и растягиваются, крошатся и достраиваются, тасуются и меняются, — и отнюдь не всегда по нашей воле. Формул, законов тут никаких не выведено, и мы остаемся в смутной неуверенности, что же здесь происходит на самом деле.
Все же это краткое сопоставление наводит на мысль, что субъективное время в некотором смысле антипод объективному. Ритм последнего изменить крайне трудно; ход субъективного времени меняется легко и прихотливо. Назад по оси объективного времени скользнуть невозможно: здесь что прошло, то исчезло. Зато можно устремиться вперед — и как угодно быстро. Субъективное время, наоборот, разрешает путешествие в прошлое — в любом направлении и с любой скоростью. А вот будущее для него запретно: движение в этом направлении нельзя ни замедлить, ни ускорить.
И лишь для Тукина субъективное будущее оказалось открытым! Как и почему, мы не знаем. Но мало ли чего мы не знаем! Тукин, независимо от своей воли и желания, стал как бы пассажиром «машины времени». Строго говоря, мы все пассажиры этой машины; только у него она стала неуправляемой и вдобавок рванулась туда, куда вроде бы никак не могла переместиться. Произошла какая-то рассогласованность; обычное время шло своим чередом, а «время Тукина» то обгоняло его, то запаздывало.
Конечно, эта гипотеза объясняет далеко не все, но тут ничего нельзя поделать. Выяснение даже главных странностей всей этой истории дало бы материал для десятка кандидатских и докторских диссертаций. Выполнить всю эту работу, понятно, не в моих силах, так что вернемся к Тукину.
Общеизвестно, что наполненность и счастье жизни зависят от ее содержания и смысла. В чем, однако, теперь мог состоять смысл жизни Тукина, если между днями его бытия не осталось связующей нити? Можно, конечно, возразить, что и раньше его жизнь не содержала никакого особого стержня. Это так, но теперь исчезла даже та основа, которая скрепляет самую пустую и никчемную жизнь — механическая связь прошлого с настоящим. Просыпаясь наутро, Тукин затруднялся не только в определении числа, недели и месяца. Он перестал понимать, что же он сам такое. Раньше дни были как ступеньки лестницы, а теперь они рассыпались, и Тукин очутился в психологической невесомости, где не было ни верха ни низа, ни права, ни лева.
Он не сразу понял, что гибнет, — ведь внешне опять-таки он жил как все. Понять свое состояние ему помог трагичный случай. Тукин в сумерках переходил улицу, когда впереди него серый автомобильчик сбил пешехода. Удар показался ему несильным, но человек нелепо, как тряпичная кукла, отлетел шагов на десять и остался лежать на асфальте, а звук удара глухой, жуткий и неожиданно громкий, заставил всех обернуться. Тотчас набежала толпа, появилась милиция, и, сигналя, подъехала «Скорая помощь».
Тукин вместе со всеми испытал содрогание, жалость и ужас, но одновременно он почувствовал то, чего никто другой почувствовать не мог, зависть! Это его потрясло, как удар землетрясения. На одно крохотное мгновение он ощутил зависть к искалеченному, быть может, смертельно раненному, оттого лишь, что его жизнь оказалась драгоценной для стольких людей. И это желание поменяться местами было неподдельным, искренним, молниеносным.
А мимо, объезжая толпу, с рычанием проносились автомобили. Тукин стоял на ватных ногах, не в силах сделать ни шага.
Развязка наступила позже и как будто без всякого повода. Впрочем, нет, повод был. В одно погожее осеннее утро Тукин проснулся и обнаружил, что из его жизни выпал целый месяц.
Он перелистал дневник, чтобы восстановить прожитое, но не нашел в записях ничего неожиданного, радостного или значительного. Тогда он попытался представить, каким окажется следующий месяц, но и в будущем не нашел ничего такого, что сильно отличалось бы от прошлого.
Тукин побрился, позавтракал, оделся, спустился в скрипучем лифте, но пошел не к остановке автобуса, а совсем в другую сторону.
Его сразу поглотила толпа. С деревьев облетали желтые листья. Мимо с ноющим воем проносились троллейбусы. Цели у него, как он сам утверждает, никакой не было. Просто ему было все равно.
Возможно поэтому в метро он спустился лишь около полудня. Случайно я оказался рядом и успел схватить его за рукав, когда он собирался прыгнуть под поезд.
Тут же на скамейке метро он мне все рассказал. Его монотонный рассказ перебивал грохот поездов.
С тех пор прошло около года. Одно время, сразу после события, которое нас свело, он часами простаивал перед кассами Аэрофлота. Тому была причина. Он знал и раньше, что вне его мирка, как подле заводи, какие бывают на самых мощных реках, кипит другая, интересная, яркая жизнь. Что где-то рядом, быть может, за стеной, рождаются идеи и замыслы, которые прокладывают дорогу в двадцать первый век, что люди, с которыми он порой соприкасается в толпе, рассчитывают космические траектории, вскрывают богатства Сибири, ставят великолепные пьесы, побеждают болезни, учат детей добру, наполняя дни и секунды цветом, движением, смыслом. Раньше он это просто знал, как все мы знаем о звездном небе над головой и солнце за тучами, теперь его мучительно тянуло туда, где жизнь горит, а не теплится. И ему казалось, что такую жизнь легче отыскать где-то там, вдалеке, что она его излечит.
Но ни на БАМ, ни в дальнюю экспедицию он так и не поехал. Не решился. Да и кому он там был нужен, если он не был нужен даже самому себе?
СОКРОВИЩА НЕРИАНЫ
Люди на взгорье, как моряки на шаткой палубе, стояли, широко расставив ноги. Перед ними был клокочущий ад Нерианы. Слева, километрах в полутора, щербатые гряды скал тряслись, будто в ознобе; справа по ущелью рвался фиолетовый вал дыма и пепла. Он набухал, стреляя в зенит клубами, и тогда в его мутных недрах дико сверкал огонь. Высоко в небе лохматые пряди охватывали диск светила, попеременно обращая его то в грязно-сиреневый, то в тускло-багровый мятущийся среди дымного хаоса шар. Казалось, что и небо трясется тоже.
При каждом толчке даже там, где находились Соболев, Гордон и Икеда, на склоне оживали ручьи осыпей, но щелкающий звук камешков терялся в глухих и долгих раскатах.
Со строгим равнодушием ко всей этой сумятице Гордон поднял к глазам энокль. Его жест, поза всех троих, беглый отсвет огня на лицах за щитками шлемов всколыхнули в памяти Соболева что-то давнее, с детства знакомое и здесь вроде бы неуместное. Но образы совпадали. Пораженный сходством, Соболев хотел было поделиться впечатлением с друзьями, но вовремя сообразил, что былину о богатырской заставе придется им растолковывать, а это долго, да и не нужно.
Он перевел взгляд на местность. Глаз по земной привычке искал впереди хоть какое-то подобие огнедышащих гор, мрачных ущелий, грозных, но четких ориентиров. Напрасно. Там все было вихрь и мрак, в которых твердь перемешивалась с палящим клокотанием газов, как в бесконечном, никогда не смолкающем взрыве. На деле это было не совсем так: трубки взрывов не перекрывали друг друга, энергия недр выплескивалась не ежечасно, но это знание не делало пейзаж более мирным.
Идти туда? Был уже не первый день поиска. С короткими перерывами на отдых и сон они шли, иногда падали от еще неблизких подземных взрывов, поднимались и снова шли. У них были переданные Гуптой координаты места, но чем ориентиры могли помочь там, где целый хребет, случалось, полз, извиваясь, как гусеница? Теперь без осмотра остался небольшой, но самый опасный участок, который располагался над самым ядром глубинных бурь.
Проверяя свою решимость, Соболев снова взглянул на друзей. Мощная фигура Гордона высилась как памятник неподвижности. Его глаза были скрыты эноклем. Икеда… Внезапно Соболев уловил исходящую от него тревогу. Ничего удивительного — в душе Икеды жил опыт многих поколений народа вулканических гор, древний трепет перед стихией, которая так часто и неумолимо расправлялась с беззащитным тогда человеком.
Повинуясь порыву, Соболев шагнул и обнял его за плечи.
— Что? — спросил тот быстрым шепотом.
— Взгляни на Гордона. Воитель тверди и неба, а? Скульптора бы сюда!
— Пример мужества, ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, что развитое чувство опасности для нас сейчас не меньшее благо.
— Шепчетесь? — Гордон резко опустил энокль. — А ведь завел нас Гупта! Дальше пути нет. Ни по земле, ни по воздуху. Что предпримем?
— Поплывем, — без улыбки ответил Икеда. — Раз нельзя идти и лететь.
— Совет в классическом стиле Востока! Что скажешь, Соболев?
— Употреблю ненавистное мне слово.
— Авось?
— Не отступать же. Ого!..
Тряхнуло так, что у всех отдалось под ложечкой. Небо потемнело. Впереди встала клокочущая стена, перед величием которой люди ощутили себя мошками.
— Мегатонны три, — подытожил Соболев. — Или больше.
— Вот безобразие! — Гордон сморщился, как от кислого. — И это в самый спокойный период. Ладно, рискуя не безрассудно, ставлю жизнь на кон. Ты, Икеда, уже прикинул степень опасности?
— 0,3. Примерно, точнее не удается.
— Допустимо, так примерно и я оцениваю. У меня возникли кое-какие соображения о маршруте, вот слушайте…
План Гордона возражений не вызвал, его сообщили базе, и маленький отряд без промедления тронулся в путь. Следом двинулись похожие на черепах скуггеры. Оставляя за собой шлейфы пыли, они проворно скользили над неровностями почвы.
«Вот скуггеров богатыри не имели, — мельком подумал Соболев. — Впрочем…»
Впрочем, вся могучая техника, будь то нуль-звездолеты или простые скуггеры, не могла их избавить от усталости и риска, ибо то, что они искали, нельзя было найти никакими локаторами. Единственным средством, как встарь, были собственные глаза, руки, смекалка. Правда, в такое пекло вряд ли полез бы самый отчаянный кладоискатель, даже если бы его снабдили скафандром. Хотя кто знает!
Телепатия явно существовала, потому что Гордон, валко шагая впереди, грянул пиратскую песню. А может, ковбойскую: пел он на родном языке, и понять его было трудно. Хриплому басу Гордона вторил гром близких ударов.
— Подтягивайте, ребята, одному скучно! — Он обернулся, сверкнув белозубой улыбкой.
Соболев кивнул, но не нашел в памяти ничего старинно-воинственного и озорно затянул «Дубинушку». Окутанный дымным облаком Икеда присоединил резкую, как звон меча, мелодию. Откосы ущелья ответили варварским эхом. Скуггеры беспокойно задвигались — в их памяти не было национальных ритмов, и они всполошились. Все невольно расхохотались, и Соболев почувствовал, как тают в душе непрошеные льдинки страха.
Все они теперь были как бы в ином времени, в иной эпохе, когда человек один на один оставался с превратностями природы.
Ложбина, с дряхлых стен которой осыпался грязный камень, неожиданно вывела к правильному, будто циркулем очерченному, озерцу. Мутная, изрытая рябью вода ходила широкими кругами, но постоянство озера, из которого даже выбегал ручеек, говорило о надежности места, и Соболев решил, что вблизи все далеко не так ужасно, как это выглядело издали.
— Стоп, — сказал Гордон. — Пошарим.
Еще вчера они перебрали бы здесь все по камешку, но опыт уже научил, что на этой бурной планете нет и не может быть ничего надежного, что все теории врут, если только Гупта не ошибся. Искомое могло оказаться где угодно, его даже могло не быть вообще. Но долг перед другим человеком был превыше всего, и хотя рвения уже никто не испытывал, осмотр они провели со всей тщательностью.
Ничего, кроме скальных обломков, мелкого крошева лав, синеватой глины по берегам.
За озером началось плато, выжженное, мелко трясущееся, как и все на этой мертвой планете. Из дряхлых воронок сочился желтый газ; его стелющиеся струи, пока их не растрепал ветер, лизали черные струпья камней.
Багрово-копотное пламя снова осветило мрачные ярусы туч. Они надвинулись, и все померкло, как в густой саже. Не стало видно ни рук, ни ног, пальцы слепо шарили в пространстве. Ни в одном диапазоне волн инвентор не мог уловить даже малейшего проблеска света, только голоса в наушниках говорили Соболеву, что он не один в этом загробном мире тьмы.
С минуту они перекликались, потом умолкли, ожидая, что будет дальше. Но ничего не было, кроме мрака, в котором утих даже ветер.
— База! — воззвал Гордон.
База ответила, и, пока длилось объяснение, пока уточнялся пеленг, Соболев обнаружил, что ему трудно сохранять равновесие, ибо почва колебалась все сильней.
Он с облегчением услышал команду лечь и отыскать укрытие. Ползком нашел какую-то выемку и залег в ней, как в покачивающемся гамаке.
— Нулевой отсчет! — как бы из другого измерения донесся голос базы.
Ахнуло через шестнадцать с секундами минут. Небесный гром пущенной с орбиты ракеты перекрыл все другие звуки. Точно рассчитанная струя кумулятивного взрыва ударила в тучу и, свистя камнями, сдула ее с плато.
Клочья тьмы мчались как подгоняемые паникой.
Не в силах сдержать восторг, Гордон, словно мячик, перехватил летящий камень и, едва не упав от толчка, заорал на всю планету:
— Спасибо, ребята, только камни зачем швырять?!
Через десять минут ходьбы местность разительно изменилась. Ничто уже не выдавалось над гладкой поверхностью. Олицетворением сил, которые владычествовали здесь, предстала группа трещин, борта которой напоминали мерно жующие челюсти. Они то смыкались, перемалывая самих себя, то разверзались как бы в ожидании жертвы.
Все трое включили движки и плавно взмыли над перемалывающими челюстями.
Планируя, Соболев глянул на мрачные поля лав, и сердце его сжалось. Зачем он тут? Куда они зашли? Что может быть здесь, кроме искореженного камня, вихрей газов и пепла, которые зябко и призрачно пляшут по сторонам? Уж не мираж ли мелькнул тогда перед Гуптой и теперь они, все трое, как бабочки на огонь, летят в неизвестность, туда, где, быть может, в эту самую секунду зреет взрыв?
Соболев покосился на скуггеров, которые величественно плыли над мерно жующими челюстями провалов, затем взглянул на друзей. Икеда летел с невозмутимым достоинством. Гордон, зло ощерясь, глядел вниз. На его лице было явное желание плюнуть в эти пожирающие себя пасти. Кому все было нипочем, так это скуггерам. Зато они умели предвидеть глубинные взрывы, на них можно было положиться, зная, что они не подведут.
Их полет был особенно красив по контрасту с хаосом сминаемых в лепешку глыб.
Все же Соболев испытал облегчение, когда ноги коснулись почвы поодаль от жующих челюстей. Лучше неверная твердь, на которой при помощи скуггера можно кое-как удержаться, чем парение над пропастью, где любой удар вихря способен закрутить, смять, сплющить о камни.
— Дракон, а?
— Что? — не понял Соболев.
— Камнедробилка эта! — крикнул Гордон. — Точно стережет, дрянь щекастая!
— Почему щекастая?
— Не знаю. Просто дрянь. Дрянь и мерзость. Интересно, какой будет пакость за номером…
Он не договорил. Никто и моргнуть не успел, как над головой мелькнул дымный прочерк. Ближний скуггер ударил разрядом, и метрах в двух от Икеды полыхнуло лиловое облачко.
— Ложись! — заорал Гордон. — Бомбы!
Камни сыпались густым роем, им накрест били молнии скуггеров. Порой осколки чиркали по скафандру, ибо скуггеры тратили заряды лишь на те глыбы, которые могли поразить людей, а все прочие взрывались где попало. Невольно жмурясь, когда осколок дзинькал по спектролиту шлема, Соболев чувствовал себя одновременно неуязвимым и голым. Сразу хотелось и сжаться в комочек, и гордо выпрямиться, бросая вызов столь близкой и бессильной смерти.
Внезапно, как и начался, обстрел прекратился.
Поднимаясь, Соболев с недоумением обнаружил, что взмок, как от усилий поднять трехсоткилограммовую штангу.
— Кажется, начинаю понимать солдатскую жизнь, — свирепо бормотал Гордон. — Штыки к бою — бум! И кровавый фонтан вместо головы. Красиво, как на картинке.
— Ничего мы не понимаем, — поднимая дымящийся осколок, пробормотал Соболев. — Там рвались снаряды. И пули.
— Пули, положим, летели, — тихо возразил Икеда.
— Летели, взрывались, какая разница? Важно, что они убивали. И что нас это больше не касается.
— Кого как, — прошелестел ответ. — Меня вот коснулось, я без отца остался. Его война убила.
— Как война?! — разом вскрикнули Гордон и Соболев.
— Очень просто. Моего прадеда облучил взрыв атомной бомбы. Даже гены отца оказались настолько пораженными, что он не дожил и до тридцати лет. Меня оперировали удачней. Еще когда я не появился на свет.
— Эх! — вырвалось у Соболева. — Прости, я не знал.
— Зря я вспомнил, — покачал головой Икеда.
— Может быть, и не зря. Верно, Гордон?
— Верно, — услышал он чужой и медленный голос. — Так же верно, как то, что в создании той бомбы участвовал мой прадед и, следовательно…
Гордон запнулся, встретив немигающий взгляд Икеды.
— Бросьте! — звонко крикнул Соболев. — Нерианы нам мало?! Бомбы, войны… Какое это сейчас имеет значение?
— Никакого. — Веки Икеды медленно опустились. — Ни малейшего, иначе бы нас здесь не было. Хватит об этом — и пошли.
— А! — вырвалось у Гордона. — Проклятая планета!
Его кулак рассек воздух.
— Все правильно, — добавил он уже спокойно. — Двинулись, пока нас всех тут не накрыло.
Он повернулся, сутулясь, и пошел сквозь крутящийся столб пыли.
Из аспидной мглы нехотя посыпался пепел. Редкие хлопья оседали на скафандре, как пушистый снег, только снег этот был черный. Громыхало умеренно. Временами по гладкой почве пробегала, тут же разглаживаясь, мелкая рябь, и тогда всех колыхало, как в лодке на волнах. Под ногами сухо хрустела пемза. Ветер стих, будто уснул.
Это могло насторожить, но не насторожило. Лишь позднее Соболев понял, насколько они при всей осторожности были беспечны и почему беспечны. Ценой многих ошибок и жертв человек наконец сумел выковать скорлупу, которая во всех мирах служила ему безупречно. Они всегда жили с ощущением безопасности, хотя и думали, что это не так. Надежная техника и здесь создавала комфорт, изолировала и щадила, расширяла возможности чувств и берегла от перегрузок. Когда страшное становится привычным, оно перестает быть страшным.
И все же что-то обеспокоило их.
— Подождите, — сказал Икеда, напряженно вглядываясь в небо.
— В чем дело? — отрывисто спросил Гордон.
Соболев поднял голову. Облик тучи менялся. В ней возникло спиральное движение. Разводья тьмы медленно вращались. Точно пена в водовороте, их обгоняли лохматые серые клочья. Глубины в этом вращении было не больше, чем в суповой тарелке. Спираль, убыстряя свой бег, стягивалась все туже, пока не образовала круг с широкой мрачной каймой и белесым центром, который повис неподвижно, как обращенный в негатив зрачок.
Икеда встрепенулся.
— Уйдем! Нехорошее место…
— Почему?
Икеда не нашел, что ответить.
Они заколебались. Такое они видели впервые. Скуггеры спокойно вели съемку. Белесый зрачок стал протаивать. Проступило что-то дрожащее, мутное, как вода после стирки. Вспухло, осветлилось, лопнуло, открыв синеву.
— Вот видите, — сказал Гордон. — Облака расходятся.
— Нет! — вскрикнул Соболев. — Небо здесь не бывает синим, ты что, забыл?!
— Бежим! — Икеда обоих схватил за руки. — Скорей!
Они не успели сделать и двух шагов, как блеснула молния. Она не упала, нет. Она поднялась, трепеща, выросла из почвы.
Предостерегающе взвыли скуггеры.
Слишком поздно! Жутко просел горизонт. В померкшем свете вязко и тяжело всплеснулась почва. «Трубка взрыва!» — отчаянно мелькнуло в сознании всех троих, когда ноги ушли в эту текучую ртутную массу.
Но это было что-то другое. Их швырнуло, приподняло, опустило, и тут из вспухших недр выворотился, пошел, загибаясь гребнем, исполинский каменный вал.
Гребень тут же рухнул под собственным весом. Отвесный вал, дико дымясь и чернея, дрогнул, на мгновение замер — и снова пошел на людей. Гордон и Икеда успели выкарабкаться, отбежать, а Соболев не смог высвободить зажатые ноги. Отвес вала замер над ним, кренясь всей своей шаткой тяжестью. Уже ни на что не надеясь, Соболев что было сил уперся в надвинутую на него громаду. Он скорей почувствовал, чем увидел, как рядом очутились Гордон и Икеда, как они с тем же отчаянием удерживают скалу, как слева и справа по безмолвному приказу людей в нее ударили скуггеры и как многотонная глыба колеблется в едва уловимом равновесии.
Теперь поздно было кому-то убегать и спасаться. Оставалось давить и давить, стараясь отжать, сместить, опрокинуть назад этот каменный вал. Осыпаясь, по шлему градом стучали камешки, но Соболев этого не замечал. Если, кроме смертельного, рвущего мускулы напряжения, в его сознании жило что-то, то это было тепло благодарности вперемежку с досадой на безрассудство друзей. Через скалу ему передавалось такое же неистовое, крайнее усилие других. Он ловил ритм этих усилий, который сразу стал общим, как общими стали взрывы отчаяния, когда шевеление недр надвигало скалу, и всплески радости, когда толчки недр сливались с их собственными.
И когда крен, казалось, неудержимо сместился и мускулы — еще миг — готовы были разорваться, а скала все-таки не пошла вниз, то ее задержало не чудо, а общий порыв, в котором участвовали и скуггеры. Их нечеловеческое усилие, сливаясь с человеческим, удесятеряло дух сопротивления и переводило его за грань возможного.
И скала не выдержала, поддалась, когда очередной толчок откачнул ее назад. Но грохот падения уже не достиг сознания Соболева.
Когда же он наконец пришел в себя, искореженная, дымящаяся почва успокоилась, только ветер неистовствовал. Скафандры всех троих были черны, как головешки, но, возможно, это лишь казалось в дыму и вихрях.
Приглашая лечь, в бедро ткнулась тупая морда скуггера. Соболев повалился на его широкую спину, наслаждаясь покоем и неподвижностью опоры, ибо скуггер висел над качающейся землей, равнодушный ко всем ее колебаниям.
Теперь самым разумным было уйти. Ни одно сокровище мира не стоило такого риска, ни одно. Но хотя никто не обменялся ни словом, они знали, что не уйдут. Не смогут. Ведь рано или поздно человек пройдет сквозь ад Нерианы по тем же причинам, по каким на Земле он одолел самые высокие пики, спустился в самые глубокие впадины океана, обшарил самые недоступные пещеры и побывал в самых грозных вулканических жерлах. Вызов стихий? Целы были скуггеры, в порядке скафандры, а силы восстанавливал отдых. Причиной бегства мог быть только оправданный благоразумием страх, малодушие, за которое никто бы не смог их упрекнуть, но которое навсегда осталось бы для них тайным позором. Вот что было и оставалось истиной.
И был еще долг перед погибшим.
Они снова двинулись в путь. Толчки сбивали их с ног, земля и небо качались как маятники, а люди шли, падали, вставали, шли. Не стало отдельно Соболева, Гордона, Икеды, было общее человеческое «я», которое преодолевало само себя, свои возможности и силы, словно в это теперь единое существо вселился неукротимый дух всего человечества.
Когда над очередным озером лавы вдруг взвихрился палящий жгут молний, в измученное сознание не сразу пробилось удивление. Там, в малиновом вареве камня, которое молнии взбивали, как в миксере, совершалось немыслимое: среди плазменных протуберанцев, в адской жаре, в неистовстве материи нежно вспухали комочки белоснежного пуха. Их рождение казалось невозможным, как ландыш в доменной печи, но это был не мираж.
Вылетая из свива молний, пушинки коричневели, спекаясь в крохотные шарики. Они тут же лопались, выпуская стаю огневок; золотистые мушки сразу кидались в синеватые язычки пламени и роились в них, будто в вечерней прохладе воздуха.
А клокочущий молниями вулкан извергал новые белоснежные пушинки. Над хаосом огня быстро и безмятежно кружилась легкая метель жизни.
Так вот что открылось Гупте за мгновение до смерти!
Жизнь.
Возникшая на другом полюсе мира, противостоящая земному опыту и земным условиям, как вещество антивеществу, — жизнь!
Лопнул, окропив все, очередной зародыш…
Люди стояли молча. Нериана не оставила им сил ни для радости, ни для торжества, ни даже для осознания этой никакими теориями не предусмотренной жизни. Или, вернее сказать, антижизни?
Вопросы и ответы — сейчас было не до них. Надо было Доделать дело.
Короткий приказ вывел скуггеры из неподвижности. Широкие мощные черепахи взмыли, запечатлевая обстановку, анализируя все, что поддавалось анализу, бережно всасывая в щели ловушек то, что золотисто порхало в воздухе, вдруг туманилось, выдавая свою, быть может, невещественную природу, и, точно под влиянием инстинкта, пыталось удрать. По выпуклым щиткам скуггеров пробегали судорожные отблески молний, преображая аппараты в странные подвижные существа, которые сейчас казались исконными обитателями Нерианы.
Люди парили вдали, как зоркие ангелы, но в эти минуты они не думали о своем сходстве с чем бы то ни было. Все мысли были поглощены управлением, а прочее было как в полусне, том полусне безмерной усталости, которая делает человека безразличным ко всему, кроме самого неотложного. Теперь они могли позволить себе эту усталость победителей.
И только много позднее, когда они миновали круглое озерцо и стали спускаться вниз по ручью к месту, куда уже мог пробиться реалет базы, были сделаны первые лишние движения и сказаны первые, не относящиеся к делу слова.
Они отдыхали долго и неподвижно, отходя, как после наркоза. Наконец Соболев встал, ковыляя, побрел к ручью, присел на корточки, пошарил на дне и отсеял в ладонях горсть самых красивых камешков.
— Вот, обещал сынишке привезти с Нерианы, — как бы оправдываясь, ответил он на безмолвный вопрос друзей. — Из ада, не откуда-нибудь…
— Стоит ли брать эти? — не удивляясь такому повороту мыслей, сказал Гордон.
И, видя, что Соболев колеблется, добавил:
— Уж лучше подарить то, чего больше нет во вселенной, — кусочек настоящей нерианской магмы.
— Тоже верно, — помедлив в раздумье, согласился Соболев. И светлая горсть алмазов полетела в воду.
ОПЕРАЦИЯ НА СОВЕСТИ
В больничной приемной было тихо, тепло и светло. Храм чистоты и порядка, где даже никелированная плевательница на высоких ножках имела вид жертвенника, воздвигнутого в честь гигиены.
Напротив Исменя, вскинув голову, как офицер на параде, сидел усатый человек с немигающими темно-кофейными глазами. Фаянсовая белизна воротничка туго стягивала его морщинистую шею. К плечу усатого жался худенький мальчик с прозрачным до голубизны лицом. Над их головами простирался плакат: «Духовное здоровье — залог счастья». Другие плакаты возвещали столь же бесспорные истины.
«И-и-ы!» — тоненько присвистнуло за дверью, которая вела в операционную.
Рука сына испуганно шевельнулась в ладони Исменя.
— Пап, а больно не будет?
— Не будет, я же тебе говорил, — привычно успокоил Исмень.
— Они могли бы поторопиться, — сказал усатый, ни к кому не обращаясь.
Исмень наклонил голову, чтобы выражение лица не выдало его мыслей. С каким наслаждением он взял бы этого дурака за фаянсовый воротник и бил бы его затылком о стену, пока не вышиб из него все тупоумие!
Глупо. Все они соучастники преступления, он сам — вдвойне, потому что знает, но молчит. Этот усатый по сравнению с ним невинней невинного, ибо ни о чем не догадывается, хотя мог бы сообразить и должен был бы сообразить, если только у него действительно есть разум. Впрочем, в такие, как сейчас, времена многие, наоборот, стараются избавиться от разума, потому что это слишком опасно — выделяться среди других. Торжество самопредательства — вот как это называется.
Шторы окна с мерным постоянством озаряло мигание вездесущей рекламы, и тогда на багровеющем полотне проступала тень рамы, словно снаружи кто-то неутомимо подносил к окну косой черный крест. «Распятие потребительства!» — вздрогнув, подумал Исмень.
Из коридора послышался семенящий стук каблучков, дверь распахнулась, и в приемную, волоча золотоволосую девочку, вплыла дородная дама в узкой юбке до пят.
— Уж-ж-жасно! — пророкотала она, обводя взглядом мужчин. — Надо же — очередь! Кто последний?
— Я, — сказал Исмень, приподнимаясь. — Но если вы торопитесь…
У него был свой расчет. Чем утомленней будут врачи, тем легче ему удастся осуществить замысел.
— Вынь палец из носа! — прикрикнула дама на девочку, опускаясь на диван и одновременно поправляя прическу. — Уж-ж-жасно тороплюсь!
— В таком случае рад уступить вам очередь.
— Я тоже не возражаю, — поклонился усатый.
— Весьма признательна! Нюньсик, ты никак хочешь плакать? Нюньсик, посмотри на мальчиков, как тебе не стыдно! Дядя-врач прогреет тебя лучами, и у тебя никогда-никогда не будет болеть голова… Ведь правда? — Она обернулась к Исменю.
— В некотором смысле — да, — согласился Исмень.
В некотором смысле это была правда. У золотоволосой Нюньсик, у мальчика с прозрачным до синевы лицом, у многих детей, когда они вырастут, не будет болеть голова от сострадания к другим людям. Растоптать человека им будет все равно что растоптать червяка. Равнодушные среди равнодушных, они возопят лишь в то мгновение, когда несправедливость коснется их самих. Но помощи они не сыщут, потому что сами не оказывали ее никому и никогда.
Исмень украдкой взглянул на сына, и сердце ему стиснула такая боль, что в глазах потемнело от ненависти. Здесь, где чисто, тепло и светло, ребятишки доверчиво жмутся к своим отцам и матерям — самым сильным, самым мудрым людям на свете, — как будто предчувствуют недоброе и ищут защиты у тех, кто их всегда защищал. А они, эти взрослые — добрые, неглупые люди, — сами, своими руками втолкнут их в это страшное будущее.
Дверь операционной приотворилась, выглянул врач с унылым продолговатым лицом и, не глядя ни на кого, буркнул:
— Следующий.
Дама поднялась и, прошелестев юбкой, двинулась было к врачу, однако девочка, внезапно присев, крикнула: «Нюньсик не хочет!» — и быстро-быстро замотала головой, скользя полусогнутыми ногами по пластику пола.
— Нюньсик! — трагическим голосом воскликнула мать. — Сейчас все будет в порядке. — Она обворожительно улыбнулась врачу и, погрозив девочке пальцем, громко зашептала ей на ухо: — Будь умницей, Нюньсик, встань, вытри слезки, мамочка купит тебе новую куклу, а Нюньсик сама пойдет ножками топ-топ…
Нюньсик, бросив на мать торжествующий взгляд, тотчас вскочила, поправила взбившуюся юбочку.
— Великолепно, мадам, — сказал врач. — Ваша дочь действительно умница, и вам не обязательно присутствовать при процедуре. Будьте, однако, здесь на случай капризов.
Он машинально погладил золотистую головку девочки, и дверь за ними захлопнулась.
Дама села на диванчик с горделивым видом, который лучше всяких слов вопрошал: «Ну, как я воспитала ребенка?»
Платье на ней было, похоже, от лучших парижских портних.
Исмень прикрыл глаза, чтобы ее не видеть.
В глубине души он завидовал неведению этих людей. Им сказали, что маленькая и безболезненная профилактическая операция навеки избавит их детей от угрозы шизофрении, и люди этому поверили. О сложностях большого мира обыватель Думать не умеет, да и не хочет, и всем решениям предпочитает простые и однозначные — они понятней. В свое время ему сказали, что страной, если не принять мер, завладеет коммунизм, и он, напуганный разгулом экстремизма, похищениями и провокационными убийствами, с готовностью проголосовал за «чрезвычайные законы», которые, как было задумано, на деле отменяли всякую законность. Вот чем все это кончилось: со спокойствием барана обыватель ведет своих детей на духовную кастрацию.
И поздно что-либо изменить.
Исмень живо представил, каким ужасом округлились бы глаза этой дамы, каким верноподданническим гневом затрясся бы усатый, вздумай он просветить их. Эти добропорядочные обыватели скорей всего позвали бы полицию, и дама с благородным возмущением толковала бы о мерзавце, который вздумал клеветать — вы только подумайте! — на заботу власти о здоровье их детей.
— Дети наш крест и наша тихая радость, — разглагольствовала тем временем дама. — Вы не представляете, каких нервов стоит уберечь ребенка! Не далее как вчера — нет, это ужасно! — какой-то хулиган едва не сбил Нюньсика с ног. Прямо на улице! Я чуть не выцарапала глаза негодяю… Чем занимается наша полиция, я вас спрашиваю? Чем? Почему не попересажали этих патлатых молодчиков? Этих бездельников, которые разленились, получая от нас пособия по безработице?
— Мадам. — Усатый вдруг повернулся к ней, и его туго накрахмаленный воротничок, казалось, скрипнул от напряжения. — Нас предупреждали, мадам, что разговоры в приемной мешают врачам.
Дама побагровела от обиды и величественно замолкла.
В помещении сгустилась напряженная тишина.
Легкий скрип двери заставил Исменя вздрогнуть.
Но это была всего лишь Нюньсик. Не было заметно, чтобы операция причинила ей какое-нибудь беспокойство. С радостным писком она пулей пересекла комнату и сразу же попала в пышные объятия матери, которая внезапно превратилась в обыкновенную клушку, суетливо хлопочущую над потерянным и вновь найденным цыпленком.
— А я была умница, а ты дай мне новую куклу! И мороженое!..
— Следующий! — донеслось из-за приоткрытой двери.
Усатый встал, как на шарнирах, неловко прижал к себе мальчика, отстранился.
— Ну, иди…
И пока тот шел, вяло перебирая ногами, усатый все смотрел ему в спину. За мальчиком закрылась дверь. Усатый обернулся, его глаза на мгновение встретились с глазами Исменя, и Исмень чуть не вскрикнул — такая в них была волчья, глухая тоска.
Усатый молниеносно потушил взгляд, закашлялся и сел, ни на кого не глядя.
Так он знал! Пол закачался под Исменем. Усатый, бесспорно, знал. Может быть, и дама знала?! Все они все знают? Шли, зная, что ждет их детей, что ждет их самих, и все-таки шли! Убежденные, что так надо. Убежденные, что ничего не изменишь. Скованные страхом, пылающие верой, шли! Неся маски на лицах, шли!
— Кхе… — сказал усатый.
Исмень с надеждой вскинул голову. Дама ушла, они одни, одни…
Однако ничего не случилось. Усатый сидел, строго выпрямившись, как памятник самому себе. Если что и было теперь на его лице, так это долг и смирение.
Исмень опустил голову. Нелепой была надежда, что здесь, где по углам наверняка запрятаны микрофоны, будут произнесены какие-то слова. Да и к чему они сейчас?
Он встал. Воздух давил на грудную клетку, как могильная плита. Пластик глушил стук шагов, и Исменю казалось, что это удаляются звуки внешнего мира, а он остается один, один среди молчания и света.
— Папа, сядь ко мне…
Исмень медленно обернулся. У него возникло странное ощущение, что он видит сына откуда-то издали и видит в последний раз. Он сел в испуге, провел ладонью по мягким, теплым, пахнущим чем-то родным и уютным волосам сына, тот, ласкаясь, потерся щекой о его плечо, и острая, как клинок, ненависть ударила Исменя в сердце. Сволочи, сволочи, какие же сволочи! Растоптать себе подобных, сделать из жизни кошмар — и все это ради сохранения своей власти, своих денег, своей прибыли, своей «сладкой жизни», — только ради этого. Они и взрослых бы оперировали, да вот затруднение, наука еще не дошла… Несущая черный крест алчность! Мало им было паучьей свастики!
Горькую и мстительную радость Исменю доставила мысль о том, что это преступление в конечном счете погубит преступников же. Стадо не способно к возмущению — естественно. Зато оно не способно и к творчеству, ибо только личность создает новое. Очень скоро их страну обгонят и в науке, и в экономике, и в культуре, а уж о морали и говорить нечего. И тогда — крах! — их раздавят, как пустой орех. И те, кто в своем безграничном тупоумии затеял все это, погибнут тоже. «Я тоже погибну, — подумал Исмень. — Может быть, еще раньше. Ну и пусть».
Но прежде он выполнит свой долг перед сыном.
— Следующий!
Исмень сжал руку сына. Он заранее предупредил его, что тот должен разреветься, едва последует вызов в операционную. И теперь он напоминал ему.
Но сын лишь оцепенело смотрел на отца.
— Следующий! — нетерпеливо напомнил голос.
— Мэт… — прошептал Исмень.
И то ли сына напугало выражение отцовского лица, то ли просто миновал неожиданный шок, но только его рот судорожно дернулся, и он заревел — безудержно, отчаянно, во всю силу своих легких.
Выскочивший врач отчаянно замахал руками на неловко хлопочущего Исменя:
— Тише, да тише же! Уймите его, наконец!
— Господин доктор, мне кажется, будет целесообразным, если во время процедуры он сможет видеть меня. Я полагаю, что этот плач…
— Ох уж мне эти родители-воспитатели! — в сердцах буркнул врач, свысока разглядывая ревущего мальчишку. — Пожалуйста, присутствуйте, если это успокоит его. Мы не можем обрабатывать истериков…
— Мэт, Мэт, — зашептал Исмень, опускаясь перед сыном на корточки. — Да успокойся же… Дядя разрешил, папа будет с тобой рядом, ну пойдем, пойдем…
На это Исмень и рассчитывал. Ему нужно было находиться возле сына, когда того начнут оперировать, и он знал, что в подобных случаях это не возбранялось.
Подводя к дверям все еще плачущего сына, Исмень быстро прикрепил к его затылку крохотный магнит. Теперь все зависело от усиков-держалок. И от внимательности врачей, конечно.
Обнимая сына, Исмень переступил порог.
Кабинет более всего напоминал собой лабораторию, и, как во всякой лаборатории, вид громоздящихся друг на друга измерительных приборов, разлапистых установок, оплетенных кабелями и шлангами, производил впечатление чего-то временного, хаотичного, поспешного. Слева, ярко освещенное рефлекторами, стояло кресло, похожее на зубоврачебное, справа, за шкафами контрольной аппаратуры, стоял обычный канцелярский столик, заваленный перфолентами и скупо освещенный переносной лампой.
— Сюда, — сказал человек, сидевший за столом. — Имя? Фамилия? Год рождения?
Человек привычно сыпал вопросами, его руки с бесстрастностью приборов кодировали ответы, лицо не выражало ничего, кроме делового равнодушия, и было сделано, казалось, из серого папье-маше. Поглаживая вздрагивающие плечи сына, Исмень отвечал с той же привычной механической быстротой. Что бы ни происходило с человеком — женился ли он, поступал на работу, заболевал, попадал под суд, — всему этому неизбежно предшествовала точно такая же процедура вопросов-ответов. И, лишь умирая, человек избегал этой механической операции заполнения анкет, этого социального рентгена, неизбежного для всех. Но тогда отвечать приходилось родственникам, друзьям, даже посторонним людям. Человек мог умереть и быть похороненным без устаревших церковных обрядов и доброго слова других людей, но без процедуры составления документов — никогда.
Мальчик успокоился и только слегка всхлипывал. Исмень, погладив его по голове, еще раз проверил, как держится магнит. Тот держался прекрасно, но волосы, увы, едва прикрывали его.
Регистратор ушел за перегородку и там зашуршал своими перфолентами.
— Усаживайтесь, молодой человек, — сказал врач, показывая на кресло. — А вы сидите там… — махнул он Исменю.
Два серебристых конуса на шарнирах по бокам спинки кресла, медные подлокотники, какие-то металлические жгуты с присосками, мигающая рябь огоньков на пульте контрольного аппарата… Исмень знал, зачем эта аппаратура, что она делает и как. Он сам участвовал в разработке некоторых ее деталей! И хотя ему, как и другим, никто не объяснял, зачем они нужны и как будут использоваться в совокупности, шанс догадаться был, и чистая любознательность подтолкнула Исменя к далеко идущим выводам.
Лучше бы он ничего не знал!
Сына усадили в кресло, закатали ему рукава, змеящиеся датчики оплели запястья, лоб обхватил обруч. Кресло словно присосалось к мальчику.
Врач и его хмурый помощник делали все быстро, не глядя, так, если бы в их руках находился не ребенок, а кукла.
Стук собственного сердца оглушал Исменя.
Лицо сына казалось нестерпимо отчетливым в жестком свете рефлекторов. В расширившихся черных глазах, быстро сменяя друг друга, чередовались любопытство, страх, растерянность. Под глазами темнели грязные потеки недавних слез, губы вздрагивали. Когда его ищущий поддержки взгляд вцепился в Исменя, тот нашел в себе мужество и ободряюще улыбнулся. Губы сына перестали дрожать.
— Телескопируем!
Повинуясь приказу врача, помощник нажал кнопку на пульте, и серебристые конусы пришли в движение, приподнялись, с двух сторон нацелились в голову сына.
— Ток!
Исмень сжался, больше не чувствуя собственного тела. Наклонившись, врач проверял положение конусов. Помощник сидел за пультом. Разноцветные отсветы огоньков играли на его сосредоточенном, неподвижном, как у идола, лице.
Шкала магнитометра находилась от него справа. Но ведь, кроме нее, было еще множество других, не менее важных шкал! «Только бы он не взглянул туда!» — молил Исмень.
Врач все еще проверял положение конусов, держа перед глазами визирующий стереообъектив. Между остриями уже пульсировало невидимое магнитное поле. Через несколько секунд оно должно было сжаться в узкий и мощный луч, точно нацеленный на тот еще недавно неведомый участок мозга, где жизненный опыт и воспитание фиксировали в нервных клетках неуловимую и расплывчатую субстанцию, испокон века именовавшуюся совестью.
Сейчас будет произнесена последняя команда…
— Скажите, пожалуйста, если ребенок вскрикивает по ночам, то следует ли показать его психоневропатологу?
Исмень выпалил эту отвлекающую фразу, не слыша собственного голоса.
Оба — врач и помощник — сделали одно и то же досадливое движение рукой.
— Не мешайте! — рявкнул врач. — Поле!
Крохотный магнитик, спрятанный в волосах сына, должен был исказить и обезвредить разящий луч. — Исмень все рассчитал точно. Дальнейшая судьба сына и его самого зависела теперь от внимательности помощника.
— Извиняюсь, я только хотел спросить…
Спина врача окаменела от ярости. Взгляд помощника метнулся было к глупо улыбающемуся Исменю, но задержался на пульте и…
Помощник смотрел на магнитометр, который, разумеется, фиксировал искажение поля.
Исмень закрыл глаза. Его невесомое тело куда-то поплыло, и он даже почувствовал облегчение.
Все кончено. Сын погиб. Сейчас с грохотом будет отодвинут стул… Потом арест, тюрьма, а может быть, и казнь.
В тишине слышалось напряженное гудение трансформатора.
С усилием, почти болезненным, Исмень приоткрыл веки.
Этого не могло быть! Но это было. Помощник все еще сидел за пультом, устало следя за показаниями приборов и что-то регулируя верньером. На шкалу магнитометра он уже не смотрел. И нельзя было понять, думает ли он о чем-нибудь, волнуется, сочувствует… Лоб в тонких прорезях вертикальных морщин, нездоровые круги под глазами, вялый подбородок — лицо, каких тысячи.
— Сброс!
Врач выпрямился, гудение трансформатора умолкло, помощник откинулся на спинку стула.
— Вот и все, — сказал врач. Только сейчас Исмень заметил, как устало обвисли на его теле складки белого халата. — Забирайте парнишку.
Теперь кресло освобождало мальчика, и, пока это длилось, Исмень понял, отчего Мэт за все это время даже не всхлипнул: он попросту оцепенел от страха. Как тогда, в приемной.
На негнущихся ногах Исмень подошел к креслу, взял на руки сына, сказал врачу «спасибо» и, повернувшись к помощнику, тоже сказал «спасибо». Здесь его голос дрогнул, так много чувства вложил он в это обесцвеченное эпохой слово, но помощник ничего не ответил и даже не посмотрел на него.
На улице кружила мокрая ноябрьская метель, когда Исмень вышел с сыном из клиники. В полузастывших лужах осколками дробилось отражение угрюмых, потемневших зданий. К сыну уже вернулась жизнерадостность, он спешил с вопросами, на которые Исмень односложно отвечал «да», «нет», пока не прозвучал вопрос о магните:
— Пап, а зачем ты запрятал мне в волосы эту штуку?
Исмень оглянулся. Прохожих вблизи не было.
— Так было надо, малыш, — сказал Исмень, заглядывая в лицо сына. — Так надо. Но ты никому и никогда не говори об этом. Никому и никогда. А если, не дай бог, и проговоришься, то скажи… скажи, что просто выдумал. Понял?
Сын удивленно посмотрел на отца, ведь тот никогда не учил обманывать. Он слушал, по-взрослому сдвинув брови, потом кивнул:
— Да, пап.
«Вот я и преподал ему первый урок лжи, — подумал Исмень. — А сколько их еще будет!»
Все только начиналось. Сына предстояло обучить умению не выделяться среди лишенных совести сверстников. Всюду и везде одинокий, всем и вся чужой — выдержит ли он это?
И сохранится ли в нем человек?
Поблагодарит ли он когда-нибудь отца за сегодняшнее или, наоборот, проклянет?
Сын молча шагал рядом с Исменем, держась за его руку.
ПРАКТИКА ВООБРАЖЕНИЯ
Темин проснулся легко, быстро, с чувством счастья. Лежа, отдернул полог палатки и близко увидел травяные джунгли, зеленый мир с солнечными прогалами, в которых радужно блестели росинки, темную чащу стеблей и на ближнем — жука с фасеточными глазами марсианина.
— С добрым утром! — приветствовал его Темин. Слова качнули ветерок, жук колыхнулся и неодобрительно повел усами.
Темин, сам не зная чему, радостно улыбнулся и выскочил из палатки.
— Наконец-то! — прогудел Игин. Круглые очки профессора укоризненно блеснули. Голый по пояс и косматый, держа в руке нож, он восседал перед плоским камнем, на котором был аппетитно разложен завтрак. Розовую спину профессора окуривал дымок полупотухшего костра.
Темин легко сбежал к берегу, в лицо ему плеснулось отраженное гладью солнце. От босых ног врассыпную брызнули мальки. Холодок воды чулком стянул икры.
— Знаешь, чего в такое утро недостает? — крикнул Темин. — Полетать перед завтраком. Просто так, без ничего. Жаль, что это невозможно.
— То есть как невозможно?! — Темин не видел профессора, но знал, что и очки его, и руки, а если в руке был нож, то, значит, и нож пришли в движение. — Полетаем без ничего, очень даже полетаем!
— Силой мысли, что ли? — Темин плеснул воду на уже нагретые солнцем плечи и блаженно поежился.
— Именно так! Ключ ко всем сокровищницам — мысль. Это Бальзак, читать надо классиков! Представь у себя за плечами шарик вроде детского…
— С водородом? Не потянет.
— Классический пример инерции мысли! — донеслось сзади. — Почему водород? Возможен куда более легкий газ. Протон и электрон — вот что такое атом водорода. Протон — тяжелая частица, так заменим ее! Построим газ из менее массивных. Мюонный газ, а? Чувствуешь, какая будет подъемная сила! Ого-го!
— Все равно не потянет. Закон Архимеда!
— А крылья, крылышки на что? Наших мускульных усилий чуть-чуть не хватает, чтобы свободно парить на крыльях. Нужна подъемная сила. Тогда полетаем!
— Да будет так, — благосклонно согласился Темин.
В два прыжка он достиг каменного стола с выбитыми на нем полустертыми рунами (на этой плите не иначе как трапезовали варяги) и принялся уплетать завтрак.
Третий день они стояли на берегу укромного лесного озера, где все было наслаждением — еда, солнце, рыбалка, шум сосен, само дыхание, наконец. Как это, оказывается, замечательно — дышать! Или валяться в траве. Ходить босиком. Пить родниковую воду. Подставлять тело солнцу. Удовольствия каменного века, черт побери, не жаль ради них машину, которая прошла сюда, как танк, и теперь стоит, отчужденно глядя на все белесыми фарами.
Зорьку они проспали, ну да ладно. Их уже сжигало нетерпение. К счастью, сполоснуть кружки и протереть миски песком было делом нескольких минут.
— Проклятье… — беззлобно выругался Темин. Сталкивая лодку, он оступился и нога ушла в вязкий ил. — Почему нам так неприятна эта жижа? сказал он. — Герр профессор, нет ли у вас случайно гипотезы и на сей счет?
— Есть, — отозвался Игин. Он сидел на корме и рассеянно улыбался. — В нас живет память тех существ, которые триста с лишним миллионов лет назад выбирались из моря на сушу. Бедняги столько раз задыхались на топких берегах, что эти муки запечатлелись в генотипе потомков…
— Ну, знаешь! — Темин налег на весла. — Обычное объяснение, по-моему, куда справедливей. Мы не любим топь, потому что в ней опасность. Поражаюсь твоей способности превращать очевидное в тайну и простое объяснение подменять невероятным.
— А что мы знаем о простом и невероятном? — Профессор уже размотал удочки, но ему никак не удавалось насадить верткого червя, и ответ прозвучал чуточку раздраженно. — Вода под нами — это просто? В корнях деревьев она имеет одну структуру, в листьях — другую, здесь — третью. Без нее нет жизни, но чистую, совершенно чистую воду пить в общем-то нельзя. И так во всем. А ты мне говоришь… Ай!
Последнее восклицание относилось к банке с червями, которая выскользнула из рук профессора. Банка была стеклянной и, естественно, треснула.
— У меня есть тесьма, обвяжи, — сдерживая улыбку, посоветовал Темин. Не хочу рассуждать о высоких материях! — объявил он внезапно. — Хочу просто подставлять бока солнцу, просто ловить рыбу…
— Ты не ценишь удовольствий контраста, — кротко возразил Игин. — Все утопии на тему «как сделать людей добродетельными и счастливыми» считали контраст злейшим врагом добродетели и вводили — посмотри у Платона! жесточайшую регламентацию, забывая…
— Ш-ш… Приехали.
Нос лодки ткнулся в крохотную бухточку, над которой склонился куст черной ольхи. Тут было глубоко. А чуть в стороне, в пределах заброса находился песчаный перекат, где любили крутиться юркие окуни. Темин заякорил лодку и поспешно размотал удочку. Профессор все еще возился с банкой, и первым закачался поплавок Темина. Теперь в мире ничего не существовало, кроме этого настороженного поплавка, кроме длинного удилища и лески, чутко связавшей человека с темной глубиной озера.
Поплавок слабо притопило. «Ну, ну…» Весь подавшись вперед, Темин слился с удочкой.
На воде плясали блики. Поплавок дернулся, нырнул. Темин подсек, рука, ликуя, ощутила чудесную тяжесть сопротивления. Леска описала дугу, и в ногах Темина запрыгала серебристая плотва.
— А у меня не клюет, — огорченно заметил профессор. Он пожирал взглядом поплавок.
Тщетно. Теперь перестало брать и у Темина. Он уменьшил спуск, попробовал и на перекате, и у берега, в глубине и на мелководье. Сонно сверкала вода. Чуть шевелилось переломленное зыбью отражение осоки. На поплавок уселась стрекоза.
— Хоть бы вы, наука, — в сердцах сказал Темин, — придумали такую приманку, чтобы рыба кидалась на нее, как кошка на валерьянку.
— Можно, — подумав, ответил Игин. — Можно, но не нужно.
— Почему?
— Во что бы тогда превратилось ужение? В вытаскивание. В дело. Прелесть любого занятия — в его неопределенности.
— Темно вы говорите, герр профессор!
— Куда ясней! Почему интересно искать грибы и скучно копать картошку? Потому что картошка — это верняк, а грибы — нет. Неисполнение желаний мы считаем злом. Но каким страшным злом было бы немедленное исполнение всех желаний!
— А я сейчас, кажется, минутами жизни платил за каждый клевок! Сменим место?
— Не возражаю.
На новом месте, у камышей, их удочки также поникли над ослепительной водой, как и на старом. Темин и наживку менял, и поплавок шевелил, и хлебные крошки сыпал — все напрасно. Глубины, казалось, вымерли.
Не выдержав, он повернулся к удочкам спиной и вытянул ноги.
— Ведь ходит же! — сказал он возмущенно. — Ведь много же ее! Неужели она так сыта, что на вкусного, свежего червя ей и глядеть неохота?
— А может, ей сейчас интересней созерцать, — спокойно заметил профессор.
— Кого созерцать — червя?
— Хотя бы.
— Да зачем ей созерцать-то?
— А зачем животным спать?
— Ну, это понятно. Для восстановления сил.
— А тебе не приходило в голову, что сон — весьма странное явление? Во сне животное беззащитно. Так? Так. Быть может, сон неизбежен физиологически? Доказано, однако, что такой неизбежности нет. А раз у бессонных, так сказать, существ есть преимущество над сонями, то почему эти последние не погибли? И даже резко преобладают? Потому, очевидно, что сон дает какие-то особые преимущества, куда более существенные, чем недостатки. То же самое, очевидно, и с созерцанием.
— Уф! — Темин помотал головой. — Никак не могу понять твоей страсти фантазировать по любому поводу. Ты же ученый.
— Вот именно.
— Что именно?
— Ученый и должен фантазировать.
— А я-то думал, что он должен ставить эксперименты, логически выверять каждый свой шаг и все такое прочее.
— И это тоже, конечно. Но фантазия — метод, далеко не второстепенный.
— Метод?
— А как же! Ты согласен с тем, что наука пытается познать всю бесконечную вселенную, а не просто какую-то ее часть?
— Разумеется.
— Но в бесконечной природе и число явлений должно быть бесконечно, не так ли?
— Да, очевидно.
— Тогда вспомни, как ты ищешь грибы или ягоды.
— Как я ищу? Брожу, высматриваю, наклоняюсь.
— Это внешнее действие. А есть внутреннее. Бессознательно ты вызываешь в памяти нужный образ, настраиваешь глаз на выделения объекта из множества прочих. Ну а как быть с объектом, чей образ неизвестен, в памяти не хранится и выделен быть не может? Вот камыши. Видел ты когда-нибудь личинку стрекозы?
— Нет, хотя слышал, что это хорошая наживка.
— Хорошая… Эх ты, рыболов! Отличная! Но дело не в этом. Сейчас личинка находится неподалеку от тебя, я ее вижу, и ты ее видишь. Попробуй найди.
Темин пожал плечами, но из любопытства взглянул на камыши. Вгляделся. Стебли, листья, синекрылая стрекоза, водомерки, отражения в воде, блики, коряга, кувшинки, снова стебли, какое-то мочало в стеблях — не то, мимо, прочь…
— Так, — удовлетворенно прокомментировал Игин. — Бьюсь об заклад, что вот эти желтые пятнышки на листве, к примеру, не удостоились твоего внимания. Еще бы! Ты сразу отбросил лишнее, чтобы сосредоточиться на небольшой группе признаков, которая позволила бы угадать — я не напрасно применил это слово? — нужный тебе объект. Нашел его?
Темин с досадой помотал головой.
— А ведь ты несколько раз скользнул по личинке взглядом. Да, да, я проследил! Между прочим, у нее очень выразительная внешность. Вот она. Каково страшилище? Но тебя почему-то больше интересовало то, что над водой, а она в воде — сидит там, на стебле.
— Положим, таким способом и я тебя могу подловить, — буркнул Темин.
— Не сомневаюсь. Но согласись, что даже в такой простой ситуации тебе пришлось туго, хотя ты заведомо знал, что личинка не может быть ни облаком, ни кувшинкой, ни водомеркой. А каково неизвестно где искать неизвестно что? Вот рассуди: могла бы при дворе фараона гореть электрическая лампочка? Не смейся. Для этого нужен источник тока; можно обойтись простым, но сильным гальваническим элементом. Необходимые электролиты, металлы египтянам были известны. Остается выковать проволочку, взять два угольных стержня, свести их — и вот вам, пожалуйста, электрическая дуга! Все в пределах тогдашних возможностей. Но надо искать «неизвестно где неизвестно что…». Внимание науковедов больше обращено на совершенные, чем на несовершенные, открытия. На то, что им предшествовало, а не на то, что за ними последовало. Сменим точку зрения. О, тут открываются любопытные вещи! Стоит кому-нибудь обнаружить новое явление, как тотчас все замечают его повсеместность. Открытие радиоактивности урана быстро потянуло за собой открытие множества радиоэлементов и радиоизотопов в горных породах, воде, везде, всюду. Изобретение сонара раскрыло глаза на роль звуколокации в живой природе. Едва был создан мазер, как мазерное излучение обнаружилось в далях Галактики. Раньше глаз, что ли, не было? Они-то были, узнавания не было. Потому любой ищущий делает то же самое, что делал ты. Мы рисуем в воображении модель возможного явления, строим некий гипотетический образ и сверяем его с действительностью. Но разнообразие явлений бесконечно. Собственно, получается так, что любому придуманному явлению, если оно не противоречит законам природы, в той или иной мере соответствует реальный аналог.
— Уф! — сказал Темин. Он с тоской покосился на замершие поплавки. Более чем любопытно. Но, если все так, как ты говоришь, должна оправдываться любая гипотеза, даже фантазия.
— Ты забываешь, что мы видим лишь то, что нам позволяют видеть наши глаза и приборы. Вне их возможностей мы слепы. И еще мы ограничены, в общем-то, Землей, ближним космосом, где, естественно, не может проявиться все разнообразие природы. Глубины вселенной мы едва различаем. Но зачем из-за этого ограничивать поле мысленных экспериментов? Если бы у нас было не четыре, а четыреста удочек, то даже сейчас у нас бы клевало. Метод, которому многие следуют бессознательно, я применяю осознанно. В неведомое я стараюсь закинуть как можно больше удочек, любых, подчас наобум, куда никто никогда не закинет. Порой я говорю дичь? Возможно. Но еще никому не удавалось развить способность без тренировки. Сознаюсь: здесь, на отдыхе, я широко открываю шлюзы, потому что ты не исследователь. Среди коллег я предпочитаю не рисковать репутацией серьезного ученого.
— Это попахивает конформизмом.
— Есть правила рыбной ловли, и есть правила научной благопристойности.
— Да, понимаю. Слушая твои дикие парадоксы, даже я порой себя спрашиваю — всерьез он или смеется?
— Неизвестное и должно быть парадоксальным, иначе это общее место.
— Хм… Хочешь, я тоже выдам дикий парадокс?
— Еще бы!
— Ты заклинаешь явления.
— Как, как? — Лодка под профессором заколыхалась. — Заклинаю? А знаешь, ведь это неглупо! В чем смысл многих табу — не поминай дьявола, не произноси имя злого духа? В убеждении, что слово материализует призраки воображения. Чепуха, конечно, но дыма без огня не бывает. Древние смутно чувствовали в этом какую-то правду, мы сейчас понимаем какую. И заклинаем по-научному. Спасибо за парадокс.
— К вашим услугам, герр…
Темин рванулся, едва не опрокинув лодку. Клевало! Вмиг были забыты все рассуждения по поводу науки, и сама наука, и профессор с его парадоксами клевало! Энергично, уверенно. Темин подсек и, трепеща от восторга, выбросил в лодку приличного окуня.
И началось! Брало с налета, на любого червя, на огрызок червя, на видимость червя. Это было какое-то неистовство. Добро бы попадались только окуни — подошла стая, все ясно. Но попадались и плотва, и подлещик, даже щуренок повис на крючке.
Они вернулись, когда солнце миновало зенит, а голод свел желудки. Все же Темин не удержался и, спрыгнув на мелководье, кинулся в погоню за раками, которые, оставляя туманный след взбаламученного ила, спешили укрыться под корягами. Накидав их в ведро, Темин завел лодку на берег и принялся разжигать костер.
После обеда оба впали в состояние легкой прострации. Все было так хорошо, что лучшего и не желалось. В высоком небе кулисами белели облака, кроны сосен казались тихо плывущими. Прокаленное солнцем тело нежил ветерок. Он перекатывал смолистый запах хвои, тепло нагретой почвы, аромат трав, доносил дыхание озера. Лениво взъерошив кустик черники, который был тут же рядом, Темин сорвал несколько крупных с сизой изморосью ягод и окончательно понял, что жизнь прекрасна.
Поздней они купались, собирали ягоды, опять купались и на зорьке снова ловили рыбу, так удачно, что вернулись только в сумерках.
Затухла алая полоса заката. Костер, слабо потрескивая, сыпал искрами, которые плавным столбом уходили в небо, что обещало еще один солнечный, долгий, блаженный день. Искры гасли почти одновременно, редкие одолевали незримую черту смерти, и Темин долгим взглядом следил, как они прочерчивают мрак и одиноко исчезают в нем — сразу, мигом, бесследно, будто и не было дрожащего золотистого полета. Но на смену им летели новые и также гасли одна за другой. А там, куда они стремились, за мраком спокойно и ровно светили звезды, тоже искры, но неподвижные и даже в лучистой белизне холодные.
— Чудно, — задумчиво проговорил Темин. — Мой взгляд, если вдуматься, пересекается со взглядами тех, кто смотрит в небо с других планет. Должно быть, порой мы смотрим друг другу в глаза…
Он помолчал и добавил:
— Если там есть кому смотреть.
— В том нет никаких сомнений, — зачарованно глядя в костер, сказал Игин.
— Хотелось бы верить, — вздохнул Темин. — Но так ли это? Те, кто ушел далеко вперед, дали бы о себе знать. А они не дают. Не могут, не хотят или их просто нет.
— Или они просто ждут.
— Ждут? Чего?
— Понимания.
— Очередной парадокс?
— Нет, все это весьма тривиально, а потому скорей всего неверно.
— Они что, следят, по-твоему, за мыслями людей, ждут, пока мы, так сказать, созреем для контакта?
— Ну, для начала нас не должен испугать их способ завязывания контакта.
— А я не из пугливых. Хочу контакта с братьями по разуму! Хочу-у!
— Действительно хочешь?
— Что за вопрос? Конечно.
— Даже сейчас, когда нам так хорошо?
Темин беспокойно заерзал.
— Ну да, а что? Кстати, что ты имеешь в виду, говоря о пугающей технике контакта?
— Я не совсем точно выразился. Просто наилучший способ контакта может нам показаться диким настолько, что мы неправильно его истолкуем. Тогда все сорвется. Сейчас наша мысль приемлет ничтожное число форм контакта. Ну прилетели, ну послали сигнал… И все почти. А теперь представь себе такую ситуацию. Поднимаюсь я, допустим, на трибуну и проникновенно говорю в микрофон: «Здравствуйте, дорогие братья по разуму, пора объявить, что я вовсе не человек, а киберпришелец, сын пришельца, внук его и правнук, поскольку наш род живет на Земле еще с допотопных времен». Как на такое заявление, по-твоему, отреагируют лучшие умы планеты? Возьмут они меня за белы рученьки — да в сумасшедший дом.
— И будут правы.
— О том и речь. О неподготовленности сознания.
Темин представил профессора в роли киберпришельца, усмехнулся, с деланным возмущением фыркнул.
— Вот ты объяснил свой метод, а все-таки я не могу избавиться от впечатления, что ты разыгрываешь меня, простого и простодушного неуча.
— Клянусь, что нет, хотя лично я — не пришелец!
— Однако твой кибер под маской человека, как хочешь, — бред.
— Почему? — изумленно всколыхнулся Игин. — Допустим, ты попал в чужой город. Допустим, тебе нужен там человек, адреса которого ты не знаешь. Ты же не станешь бродить по улицам наугад, кричать с площади: «Иван Сидорович, отзовись!», хотя в деревне такой способ еще приемлем. Сложной системе присущи сложные и разнообразные связи. Город — сложная система, вселенная тем более. Отсюда следует, что в необозримых безднах пространства и времени никто никого не будет искать наобум. Поиск в пространстве для нас не новость. Но во времени?! Сто миллионов лет назад некая цивилизация вышла в Галактику: как ей установить связь с человечеством, которое, возможно, будет, а возможно, нет, и если будет, то неизвестно когда? Как уловить благоприятный момент столетий и даже десятилетий? Дежурить постоянно? Летать миллионы раз? Чепуха! Вывод: если кто-то когда-то посетил Землю, то его нельзя заподозрить в скудоумном намерении воздвигнуть какую-нибудь там Баальбекскую веранду. К проблеме он подошел с умом, например, оставил письмо «разуму, до востребования».
— Фью! — разочарованно присвистнул Темин. — Это идея примитивных фантастических романов — какой-нибудь там памятник на оборотной стороне Луны.
— Нет, это совершенно другое.
— Все равно примитив. Уж лучше киберпришелец в маске. Не существует конверта, который бы сохранил послание. Горы? Они рассыпаются за миллионы лет. Спутники? Время растворяет их, как сахар в кипятке.
— И все же материал, для которого десятки, даже сотни миллионов, лет ничто — существует. Это живое вещество.
Крякнув, Темин уставился на профессора, очки которого пылали розовым отблеском костра.
— Я — пас. — Темин лег. — Ты побил все рекорды фантазии.
— Да открой же в конце концов глаза! — рявкнул Игин. Сильным ударом палки он выбил из костра сноп искр. — Чем оригинальней идея, тем чаще она в первую минуту воспринимается как глупость, но ты же умный человек! Чем отличается современная латимерия от той, что жила двести миллионов лет назад? Практически ничем. А скорпион, который благополучно существует триста миллионов лет, перенес все геологические катаклизмы и на наши штучки с загрязнением природы взирает с ленивым благодушием: «Ничего, и не такое бывало — перезимуем». Вот готовые конверты, куда лишь остается вложить письмо.
— Ничего себе — вложить, — смущенно пробормотал Темин. — Между теперешним скорпионом и древним — миллионы трупов. Это вам не эстафета.
— Как раз эстафета, именно эстафета! Передача одних и тех же признаков, генетическая цепь, протянутая сквозь геологические эпохи. Предположим, на Земле побывали пришельцы. Кругом бродят динозавры, разум когда-то будет, надо оставить ему послание. Берут они того же скорпиона и вносят в его генетическую программу такие коррективы, которые превращают его в живого робота. Сменяются миллионы лет, ползают по земле существа, никакие они не пришельцы, только есть у них какие-то непонятные ученым органы. Кстати, такие органы есть у многих древних животных. Разумеется, мы полагаем, что эти загадочные устройства зачем-то нужны, мы даже объясняем их назначение. А если не так? А если это анализаторы, встроенные чужим разумом? А вдруг они предназначены для анализа нашей речи, радиопередач или еще чего-нибудь? И есть устройство, посредством которого сквозь время до нас дойдет голос иного разума?
— Ува-у! — взревел Темин. — Хорошо, что этого нет!
— Нет, потому что не может быть никогда?
— Не потому. Сколько тысячелетий прошло, а ни звука.
— И молвил кот человеческим голосом: «Я к вам с приветом от сириусян». Его — за связь с дьяволом — в костер.
Темин задумался. Жарко пылали угли костра, и тем гуще, чернее казалась ночь. Темно и тихо было над озером, над лесом, так тихо, что в душу невольно закрадывалась жуть. И так спокойно, что эта капелька жути была приятна, как горечь в табаке. Темин встал и сладко, долго потянулся.
— Развлечения тела и духа, — сказал он, зевая. — Сначала, как велит материализм, тела, а уж потом духа. Очень приятно пофилософствовали. Однако, пожалуй, и спать пора?
Игин кивнул.
— Здравая мысль.
Немного помедлив, он поднялся, залил костер.
— Точно живое существо убиваешь… — пробормотал он, когда с шипением угас последний уголек.
Темин в знак согласия наклонил голову.
— Хорошо-то как, — вздохнул Темин, умащиваясь в спальном мешке. Встанем на зорьке, рыба будет играть, туман над водой — прелесть.
— Уже сплю, — сонно отозвался профессор.
Совсем тихо стало на озере. Спал воздух, дремали сосны, в излучине над болотцем слабо белела полоса тумана, и только в воде мерцало отражение звезд, да в омуте чуть слышно плескалась ночная рыба.
Потом зазвучал Голос:
— Мы изучили ваш разговор, мы долго ждали понимания, к вам обращается разум иного мира, это попытка контакта сквозь время…
Голос, негромкий, отчетливый в тишине, исходил оттуда, где в топком иле вяло копошились раки — существа куда более древние, чем первые поселения человека. Голос прошелестел над озером, взмыл над соснами, проник в палатку, коснулся ушей.
Но не получил ответа, ибо сон на озере после хорошего дня быстр, глубок и безмятежен.
ЗВЕЗДНЫЙ АКВАРИУМ
Полный оборот каждые семь с половиной минут. Третий месяц над ним кружили звезды. Третий месяц он был центром вращения светил, осью мироздания, избранником птолемеевской вселенной. В подлинной он значил меньше пылинки, и у него болели сломанные ребра.
Девятнадцать шагов по периметру тесных отсеков, четыре поперек и еще один вверх — здесь он почти ничего не весил. Ему уже не верилось, что в былой жизни он мог летать куда хотел, общался с людьми, волновался по пустякам и даже любил петь под гитару. Девятнадцать — четыре — один. Вперед и назад, туда и обратно, все. И навсегда.
От того, что было сразу после аварии, сохранилось впечатление долгих обмороков и мук, когда он ползал по разбитому кораблю, тщетно звал друзей, а глаза застилал липкий туман. Правда, действительность, видимо, была несколько иной. В те первые часы, как потом выяснилось, он сделал чудовищно много. Он еще помнил, как волочил протекторный баллон, как заделывал трещины, не очень даже соображая, чего ради пытается стать на ноги и поднять фыркающий пеной баллон. Но от стараний дать помещению тепло и воздух в памяти уцелели лишь проблески усилий отвернуть какой-то вентиль и тупое недоумение, с которым он разглядывал крошево деталей в агрегате, чье назначение ему, конечно, было известно когда-то.
Много поздней он поставил себе диагноз: сотрясение мозга. Мелкие повреждения вроде перелома двух-трех ребер были уже не в счет. А вот определить причину аварии он так и не смог. Была ли она связана с маневром близ астероида и, следовательно, с ошибкой пилота? Или в критический момент сработал не так, как надо, двигатель? Разумеется, все это могла бы выяснить комиссия экспертов, но случай приведет ее сюда не раньше чем через десятки, а то и сотни лет.
Не удалось ему установить и то, как погибли двое его друзей. Их не было рядом, когда произошла катастрофа, — это он помнил. Но почему? Так или иначе они остались в отсеке, по которому пришелся удар. Возможно, их вынесло оттуда струей воздуха. Однако он предпочитал думать, что они погребены под обломками, потому что если их вынесло наружу, то скорей всего зашвырнуло на орбиту, и он видит их тела точками среди звезд, когда смотрит в чудом уцелевший иллюминатор.
Впрочем, все эти мысли пришли потом. Первое время после горячечной деятельности он спал. Конечно, он просыпался и что-то делал, но ему казалось, что он видит бесконечный сон. Будто он заболел и лежит, как в детстве, на широкой постели, а за окном долгая, зимняя деревенская ночь, в которой кружится душная звездная метель. Она сыплется прямо на грудь, и нет голоса, чтобы вскрикнуть.
Перелом, с которого началось выздоровление, наступил внезапно. Он проснулся и встал. Тело болело, но голова была ясной и бодрой.
Он добрался до кресла перед иллюминатором и сел. Увидел черноту, звезды в ней и скалы, которые обрывались в бездну.
Потом он видел это множество раз. Скалы были неподвижны, а звезды вращались (на деле все, конечно, было наоборот). Звезды всходили и заходили — всегда в одном и том же месте. Попеременно чертило дугу крохотное солнце. Его тусклые лучи скользили по мраку черных глыб, ныряли в провалы и вскоре исчезали, чтобы неотвратимо возникнуть вновь, совершить прежний путь, коснуться тех же камней, словно их вел мертвый механизм копирографа.
Все одинаково повторялось в десятый, сотый, тысячный раз. Траектория звезд, тени на скалах скользили, как обороты беззвучных колес. Всегда, постоянно, с несокрушимой мерностью. Меняясь, здесь ничего не менялось. Двигаясь, оставалось неподвижным. Уходя, возвращалось. На человека глядело воплощение механического порядка. Самого идеального, тупого порядка, какой может взлелеять воображение. Власть законов природы тут заявляла о себе наглядно, без прикрас, грубо, как прутья тюремной решетки. Она не оставляла места случайностям, а значит, надежде.
И человек это понял. Он мужественно подвел итог. Никто не догадается искать его на астероиде. А если даже такая мысль кому-нибудь и придет, то ведь его астероид не занесен в каталоги и, следовательно, не существует для человечества.
Связь? То, что уцелело, от установки, годилось для сборки вечного двигателя или иной бессмыслицы.
Выбор, таким образом, был предельно ясен. Можно сразу со всем этим покончить. А можно еще пожить.
Он с ненавистью взглянул на звезды. Их колкий далекий свет был беспощаден. Этот свет оледенел среди черных бездн, в нем не осталось ни тепла, ни надежды. Звезды уже убили его друзей. И ничто не изменилось в мире. Ничто, ничто!
Хриплый отзвук то ли рычания, то ли стона привел его в чувство. Он в замешательстве уставился на свои стиснутые кулаки. Они дрожали. Темные набухшие вены оплетали их, как корневища подводных растений.
Его крик. Он кричал? Да.
— Это ничего… — тяжело дыша, пробормотал он. — Так может быть, так бывает, это не истерика…
Минуту спустя он сполз с кресла и, будто ничего не случилось, занялся инвентаризацией своего имущества. Прошлое он отсек. Теперь он все делал неторопливо, с нудной и безучастной дотошностью. Не потому даже, что от подсчетов зависела его судьба, а потому, что кропотливая деятельность придавала минутам какой-то смысл и отчасти избавляла от бесплодных размышлений.
Ворочаясь, как краб, он долго прибирал свою пещеру, кряхтя от боли, залезал в самые тесные углы, десятки раз все пересчитывал. Везде был хаос, торжество беспорядка и энтропии. Осколком стекла он порезал себе палец и долго с тупым изумлением смотрел на выступившую кровь. А потом забыл о порезе. Порой он сам себе казался Плюшкиным и удивлялся, что может так думать. При этом его сознание как бы раздваивалось. Одна его часть занималась делом, вела подсчеты, испытывала боль, тогда как другая с холодным недоумением следила за всеми действиями первой. Но, в общем, ему было неплохо. Не закрадывалось даже тени страха, теперь он не переживал ничего такого, что вроде бы должен был переживать человек на его месте. Это его чуточку пугало. Но не помешало обрадоваться, когда удалось найти и собрать все фигурки шахмат.
Наконец работа была закончена. Пищи оказалось на много месяцев. Из девяти аккумуляторных батарей уцелело четыре. Этот запас надолго обеспечивал его теплом. Если, конечно, не тратить энергию ни на что другое. А ее придется тратить. Система регенерации воздуха, без которой он не прожил бы и минуты, вопреки вероятности тянула. Слабо, как пульс после шока, но с той поры, как он ее отладил, в отсеках смогло установиться то равновесие среды, какое возникает в аквариуме.
Аквариум! Этот образ вдруг поразил его. Глянув в иллюминатор на звезды, он ни с того ни с сего расхохотался. И смех не смогла унять даже боль в груди.
Аквариум, аквариум! Единственный, неповторимый аквариум среди звезд. Это очень смешно… Аквариум, в котором вяло перемещается рыба Петров. Личная, персональная рыба господа бога. Вместо лампочки ее освещает крохотное солнце. Она тычется в стенки, шевелит плавниками и о чем-то таком мыслит. Забавная такая рыба…
Он вскочил в ярости. Аквариум? Рыба? Сейчас он им всем покажет. Разнесет иллюминатор и…
Кому покажет?! Законам природы? Что он не рыба?
Руки тряслись. Он ошеломленно огляделся, будто хотел бежать, и сник. Все бесполезно. Все бесполезно, а потому из двух бесполезностей надо выбирать лучшую.
Так он решил жить, И не просто жить, а записывать все, что с ним происходит. Записи могли пригодиться тому, кто придет сюда через много-много лет. Чем — этого он не знал и знать не мог, просто верил, что пригодятся, должны пригодиться. Жизнь, таким образом, обретала какой-то смысл, а другого и не требовалось. Все люди смертны, в конце концов.
С тех пор прошло больше двух месяцев, а ему казалось, что вечность. Он спал, ел, описывал каждый свой шаг, смотрел на звезды, прибирал, чинил поломки, перемещался по своей пещере, что-то бормоча под нос, играл сам с собой в шахматы. Иногда ему чудились голоса и фигуры, однако он знал, что так бывает в одиночестве, и не пугался. Больше всего ему досаждал благостный старческий голос, который, туманно намекая на свою причастность к законам природы, нудно убеждал, что все люди — рыбки в аквариуме, только не замечают этого, а ему, Петрову, явлена такая милость — заметить. Он и эти разговоры записывал.
Вопреки всему он не думал сдаваться. Он всегда был упрям. Он даже попытался слепить передатчик, зная заранее, что обречен на неуспех. Передатчик, конечно, не получился, а примитивный приемник он все же смастерил. Недели две приемник молчал и потрескивал, а потом донес голос, который сообщил, что некий футболист красиво забил гол. И это все, что удалось услышать.
Он отводил душу в записях. Это было делом самым главным и необходимым. Записи протягивали ниточку в будущее, к другим людям, которых он никогда не увидит, но которые прочтут и поймут, может быть, больше того, что он мог выразить словами.
Так длилась жизнь.
Скалы за иллюминатором, такие близкие и недоступные, манили его все сильней и сильней. Разумеется, он мог проделать отверстие и выйти, но неизбежный при этом расход воздуха сократил бы срок его жизни. Выйти он решил, когда будет уже все равно, не раньше. Тогда он доставит себе последнее удовольствие — побродить среди скал.
А пока он долгие часы проводил в кресле. Звезды двигались все так же монотонно, во внешнем мире ничего не происходило, но со временем он заметил, что место захода и восхода звезд постепенно сдвигается. Он заранее знал, что крошечные изменения в том, что он видит снаружи, должны быть. И все же это его почему-то поразило. Абсолютный порядок дал трещину! Мысли у него давно текли не так, как прежде, и проблема показалась ему новой и заманчивой. Что же получается? Законы природы неизменны, постоянны и всевластны А раз так, все должно обладать постоянством на манер часового механизма. Все должно двигаться по кругу, и ничего нового произойти не может. В принципе. Ведь новое — это отрицание прежних правил, а они незыблемы. Но в мире постоянно возникает то, чего прежде не было. Звезд не было — они появились. Зародилась жизнь. Потом разум. Как же все это совместить? Или круг столь необъятен, что глаз человека охватывает лишь ничтожную часть циферблата, а потому за новое принимает повторение старого? А может быть, иначе? Может быть, над всем стоит самый главный закон — закон развития?
Вопрос почему-то казался ему чрезвычайно важным. Самым важным. Он думал над ним непрерывно, даже во сне, но только все больше запутывался.
Солнце тоже слегка изменило свою траекторию и стало укрупняться. На мгновение затеплилась надежда, что орбита астероида сблизит его с Землей, Марсом или другими обитаемыми телами. Впрочем, надежда тут же погасла. Даже если это случится, то через много-много месяцев, когда ему будет все равно.
Все же он снова попробовал рассчитать орбиту астероида. Неповрежденных приборов астронавигации почти не осталось, считать приходилось без машины, так что результат получился весьма приблизительным. Тем не менее было ясно, что никакого сближения с обитаемыми мирами ждать нечего.
Вскоре, однако, он стал свидетелем еще одного изменения. Как обычно, он сидел и наблюдал за движением светил, когда с удивлением заметил, что две звезды, прежде чем нырнуть за горизонт, замерцали.
Он не поверил глазам и стал ждать. Новый оборот подтвердил наблюдение; и тогда он наконец понял, что означает это мерцание. Просто чуть теплее стал свет, и солнце теперь успевало за считанные минуты нагреть скалы. Там, очевидно, кое-где был лед, такой же черный, как все остальное. А может быть, все скалы были ледяными?
От нечего делать он стал рассуждать, создаст ли испарение какое-то подобие атмосферы или не создаст. Получилось, что не создаст.
Это его неизвестно почему расстроило. Обидело. Попросту его лишили зрелища! Еще лучше было бы превратиться в комету. Пусть самую плохонькую. Мелькнуть напоследок в телескоп, привлечь внимание двух-трех астрономов; его стали бы наблюдать, заносить в каталоги, классифицировать. То есть не его, конечно, но все равно забавно. Сидит себе такой астроном, смотрит в свою оптическую трубу, исчисляет заурядную комету и не подозревает даже, что никакая это не комета, а звездный аквариум, откуда ему машет человек Петров. Вот бы астроном выпучил глаза, шепни ему кто, как обстоит дело в действительности.
Но кометы не будет. Заурядной, незаурядной — никакой. С законами не поспоришь. Комета Петрова не состоится, и думать об этом нечего.
Вздохнув и отругав себя за глупые мысли, он встал, было поплелся прочь от иллюминатора, как вдруг остолбенел. Если астероид сам не может превратиться в комету, то почему его нельзя сделать кометой?!
Потрясение было так велико, что он в испуге зажмурился. Что за наваждение? Какой бес его попутал? Разве это возможно? И в сознании опять будто сверкнула молния: это возможно!
Ослабев, он сел в кресло.
Что, собственно, такое — комета?
Длинный газовый хвост, который светится в лучах солнца. Испаряется ледяная головка, и от нее наподобие дыма костра волочится шлейф. Вот, собственно, и все. Но разве он в состоянии разжечь костер?!
Он вскочил и заметался, как от зубной боли. Допустим, ему удастся зажечь что-то на поверхности. Для этого придется выйти. Ладно, это потом, потом… Испарения, окружив астероид туманом, быстро рассеются, ведь здесь почти нет силы тяжести. Значит, никакого хвоста не будет.
Правда, можно изобрести нечто вроде форсунки и направить струю газов строго в одном направлении. Притяжение тут ничтожное, и за астероидом потянется хвост. А дальше что? Нужен длинный, очень длинный хвост, чтобы астрономы заметили комету.
Невероятные трудности, а зачем? Чтобы позабавиться? Похоже, он сошел с ума. Хотя… Обнаружив комету на таком расстоянии от Солнца, астрономы, само собой, удивятся и заинтересуются: это что еще такое и почему не по правилам? Но им и в голову не придет, что это дым костра.
Невероятным усилием воли он заставил себя больше не думать на эту тему. Забыть. И сразу почувствовал себя опустошенным. Навалилась такая тоска, что ему все стало безразлично. Хоть выбрасывайся наружу без скафандра.
Наконец все в нем взбунтовалось. Думать-то он может?! Мечтать, фантазировать, надеяться? Или в его положении уж и этого нельзя?
Хвост должен быть длинным. Насколько? На миллионы, десятки миллионов километров?
Да нет же! Он не собирается являть собой зрелище в небесах. Сейчас его астероид скорей всего не виден в самые лучшие заатмосферные телескопы. Не потому, что он мал, а потому, что слишком слабо отражает свет. Стоит повысить яркость всего раза в два, как он станет тусклой, но все же приметной звездочкой. Это сделать нетрудно, но это ничего не даст — просто автоматический регистратор занесет в каталог еще один астероид. Значит, хвост должен быть намного длиннее поперечника, тогда астероид будет виден кометой. Но весь-то астероид — это сотня-другая метров! Следовательно, хвост…
Не может быть, тут что-то не так! Спокойно, спокойно… Сделаем для страховки хвост в тысячи раз больше поперечника. Это всего-навсего сотни километров газопылевого шлейфа. Всего-навсего.
Он не поверил себе. Пересчитал. Все так. Да ведь это же размер самых крупных астероидов, таких, как Церера, Веста, а они прекрасно различаются в телескоп. Его комета тотчас обратит на себя внимание! Тотчас!
Что же сделать, что можно сделать, что надо сделать, чтобы всем стал ясен смысл этой кометы? Дым костра, дым костра… Черный или белый, сигнальный…
А-а! Хвост надо покрасить.
На корабле сколько угодно нужных веществ. Эмаль стен, пластмасса ручек, изоляция, да мало ли что. Можно получить любые оттенки дыма! Остается выбрать какой-нибудь совсем уж немыслимый цвет. Чтобы ученые схватились за голову…
Стоп. Схватиться-то они, положим, схватятся. Но корабль к комете не пошлют. Опасно нырять в ее туманные глубины, да и зачем? Случаются кометы желтые, красноватые, теперь появилась сине-зеленая в крапинку. Любопытно, но что тут такого? В природе все бывает.
Выходит, надо создать комету, какой не бывает и быть не может. С хвостом вытянутым, допустим, не от Солнца, а к Солнцу. Радужную. Мигающую. Точка — тире — точка. «Тут я, Петров, туточки…»
Комета в облике павлиньего хвоста. Прекрасно! Подмигивающая.
Он радостно засмеялся. Какой поднимется переполох! Какой переполох!
Горелку он сконструирует. В корабле столько всякой всячины, а горелка — такая примитивная вещь, что он будет последним недотепой, если ее не сварганит. Выйти тоже не проблема. Пусть улетучится часть воздуха. Резерв кислорода восполнит потерю. Да, но каким образом он тогда зажжет костер?!
Ах, да не в этом дело… Плотность кометного хвоста не слишком отличается от разреженности вакуума. Можно найти вещества, которые горят без кислорода или содержат его в себе, можно поджечь их электроразрядом, можно сфокусировать на них лучи Солнца. Так или иначе это препятствие обойти удастся. Но за счет чего он создаст тягу, достаточно сильную, чтобы газы образовали шлейф? Только за счет воздуха, который нужен ему для дыхания и который он потеряет, если выйдет…
Хоть кричи, хоть бейся головой об стену, уравнение неумолимо. Нет у него резерва на все и вся. Или — или, будь все проклято.
Он не заметил, что кричит. Это бессовестно — так поманить его надеждой! Несправедливо! Чудовищно!
Но ведь он сам поманил себя надеждой. Так что же он кричит? С кем или чем спорит? С мировым порядком? С тем, что ему не дано выйти… не выходя?
Быть может, соорудить тамбур, смастерить насос для откачки… Долго, ненадежно и все лишь затем Затем, чтобы вынести горелку.
А зачем горелке быть снаружи?!
Олух и идиот, вот он кто такой. Нужно маленькое отверстие в стене. Крохотное. Сопло. Нужен регулятор, который через равные промежутки времени выбрасывал бы точно отмеренные порции… воды. Да, да! Щелчок воздуха, как пружина катапульты, выстрелит капельками, которые тут же испарятся и рассеются яркими кристалликами льда. Или даже не так — детский водяной пистолет, тогда и воздух тратить не надо! Вот что ему нужно, но об этом после, после, он все успеет продумать и усовершенствовать как надо. Если правильно рассчитать (а законы природы теперь на его стороне!), то сияющий столб от выстрела к выстрелу будет расти и расти, потому что есть компрессор и, следовательно, можно получить приличное давление! А воды у него хватит, ведь ее запасы в системе были рассчитаны на троих…
И не надо никакого шикарного павлиньего хвоста. Существуют спектрографы и спектрограммы, которые ловят миллиардные доли примесей, а в обсерваториях сидят отнюдь не кретины. Просто в воду надо добавить чего-нибудь необыкновенного, в природе заведомо отсутствующего, тотчас улавливаемого. Чего? Да хотя бы флюораминовой пасты, которой он пишет.
В хвосте кометы астрономы обнаружат следы чернил!
И это его спасет. Кометой, чей вид некогда наводил на людей страх и ужас, он распишется в небесах!
ГЕНИАЛЬНЫЙ ДОМ
— Прошу, — широким жестом пригласил Юрков. — Выбирайте.
— Здесь? — мешковато вылезая из реалета, переспросил Смолин.
— Если вам нравится.
Крапчатые глаза Юркова смотрели враскос, безучастно, однако в них плескалось затаенное озорство. Хмыкнув, Смолин огляделся.
Трава на лугу пестрела таким ярким узором соцветий, что их хотелось прижать к груди. Редкие березы бросали прозрачную и зыбкую тень. С трех сторон подступал лес, с четвертой открывалась река, голубели дали предгорья. Яркие снежники вершин бросали на все чистый, как в поднебесье, отсвет.
Смолин широко вздохнул:
— Тут славно…
— Тогда приступим, — деловито сказал Юрков.
Его поджарая фигура перегнулась через борт реалета. Он вытянул из-под сиденья увесистую сумку, извлек скупо блеснувший кристалл и протянул его Смолину. Форма полупрозрачного кристалла смутно напомнила Смолину хрустальное, с гранями на боках яйцо, которым он забавлялся в детстве. Только это яйцо гораздо превосходило размерами ту старинную безделушку.
— Да, немного великовато. — Юрков перехватил взгляд. — Обычное свойство экспериментальных образцов, ничего не поделаешь. Держите!
«Яйцо» оказалось неожиданно легким. Смолин неловко прижал его к груди. На ощупь оно было теплым и, несмотря на твердость, упругим. При повороте граней в его зеленоватой глубине мутно перекатывались неясные волны и вспыхивали точки фиолетовых огоньков.
— Странный у него вид, — пробормотал Смолин.
— Еще бы. — Юрков усмехнулся. — Действуйте.
— Как?
— Очень просто. Выбирайте площадку. Где угодно. Неровности почвы, слабый уклон — не важно. Станьте там, где, по вашему мнению, должен быть дом. Следите только, чтобы до ближайшего дерева или куста было метров десять. Все!
Смолин сделал несколько неуверенных шагов.
— Может быть, здесь? — спросил он, озираясь.
— Прекрасно! Бросайте яйцо.
— Прямо так?
— Конечно.
— Жаль портить такое место…
— Оно не будет испорчено. Бросайте.
Смолин осторожно опустил кристалл на землю. Светлый край облака, ослепительно просияв, коснулся солнца. Луг потемнел.
— Теперь отходите.
Все из той же сумки Юрков извлек вороненую трубку с призматическим рефлектором на конце. Отступая к реалету, размотал витой шнур.
— Дальше, дальше, иначе собьет.
— Что?
— Сейчас тут будет немного ветрено. Браслет снимите — может испортиться. — Юрков отстегнул свой наручный видеофон и кинул его на сиденье реалета. — Кладите свой туда же, там он будет заэкранирован. Вот так, порядок. Начнем!
Перегнувшись через крыло, Юрков подключил шнур и, отступив от реалета на шаг, небрежно повел трубкой в сторону кристалла. В ней что-то зажужжало. Рука Юркова замерла.
Ничего не произошло. Сухо трещали кузнечики, зеленоватый овал кристалла мирно покоился среди ромашек. Он потускнел в траве и казался теперь обыкновенным булыжником, если бы не правильные затесы граней.
Затем что-то изменилось. Оболочка кристалла затуманилась, как при быстром вращении. То, что мгновение назад было камнем, оплавилось, потекло, вспухло рыжеющим сгустком.
— Ага, — сказал Юрков. — Видите?
Сгусток, расплываясь и ширясь, принимал грибовидную форму. В нем бешено и безмолвно крутились дымные струи. Все это походило на атомный, в миниатюре, взрыв. Только бесшумный и без огненного в сердцевине всплеска.
В спину ударил тугой ветер, согнул вершины ближних берез, рокотом пронесся по опушке. Смолин пошире расставил ноги. Ветер мчал сухие листья, сор, былинки, они бесследно исчезали в темном грибообразном вихре.
— Давайте присядем, — предложил Юрков. — Все это не так скоро.
Он сел, не опуская трубку излучателя.
— Джинн, а?
— Что?! — прокричал Смолин.
— Я говорю: джинн! Когда он вылезает из бутылки. Непохоже?
Нет, теперь это было непохоже. Теперь над лугом, опираясь на тонкую ножку, висела коричневатая масса. Она клубилась, постепенно становясь угловатой. В ней проступали желтые и красноватые, быстро меняющиеся пятна. Воздух дрожал, преломляя очертания склоненных деревьев.
От массы отделились четыре отростка, дружно коснулись земли, взвился дымок.
— Корневая фаза, — прокомментировал Юрков. — Воздух предоставляет нашему детищу азот, кислород, углерод. Прочие нужные материалы оно, как и подобает добропорядочному растению, берет из земли. А мой излучатель играет роль солнца. Правда, загорать под таким солнцем я бы не посоветовал… Так, вот уже сегментарная фаза!
Ветер немного утих. Метрах в полутора от земли бесформенная масса образовала гладкое днище с пятью уходящими в почву опорами — четыре по углам, пятая, более толстая, оказалась точно в центре. Трава вокруг нее заиндевела. Сама масса заняла солидный объем пространства. Она явственно стекленела, хотя внутреннее кипение не стихало. Наметилась полусфера — одна, другая, третья. Быстро, как в калейдоскопе, менялся узор поверхности. Внутри угадывался объем каких-то форм. Они то проступали наружу, то, сминаясь, уходили вглубь. Одна из полусфер вдруг протаяла. Словно кто взмахнул резцом — теперь это была стена, а в ней самое натуральное, прозрачное, слегка выпуклое окно.
Ветер окончательно стих. Дом продолжал формироваться. Казалось, его изнутри лепят чьи-то проворные пальцы. В полной тишине — лишь поодаль пиликнул осмелевший кузнечик — текли минуты. Юрков давно опустил излучатель и, рассеянно глядя по сторонам, жевал травинку.
Облако наконец сползло с солнца, и первый яркий луч отразился в хрустальных парусах окон, затеплил изогнутые стены, оттушевал тени, словно положив всюду последний аккуратный мазок.
— Вот так! — Юрков глянул на часы. — И всего за семнадцать с половиной минут. Поздравляю вас с новым жилищем!
— Да-а… — протянул Смолин. Вздернув подбородок, он озирал дом. — Эмбриотехника, как погляжу, здорово шагнула вперед. Какая быстрота и четкость!
— Стараемся. — Юрков сдержанно улыбнулся. — Впрочем, главное тут не скорость. Вообще классическая эмбриотехника — уже пройденный этап.
— Пройденный?
— Ну, основной принцип, конечно, тот же, — снисходительно разъяснил Юрков. — Делать все, как природа, делать лучше, чем природа. Совпадают и основные приемы строительства. Зародыш, семя, клетка, в которой заложена вся генетическая программа развития организма, как в желуде скрыт будущий дуб. Питание, рост за счет, так сказать, местных материалов — воздуха, земли, воды, энергии солнца… Излучателя то есть, но это несущественно. Словом, аналогия полная, кроме скорости — она в миллионы раз больше. Человек убыстряет все, к чему прикасается, разве не так?
— Все, значит, и себя тоже? — Смолин недоверчиво покачал головой. — Однако вы не ответили на мой вопрос.
— Терпение, терпение. Вы не только услышите, вы увидите ответ.
— Увижу?
— Вот как этот дом.
— Тогда почему бы не сделать это сейчас?
— Во-первых, я должен сначала показать вам дом, а мы не можем переступить порог, пока там не установится термодинамическое равновесие. Во-вторых, мои предки не иначе были коробейниками — люблю щегольнуть товаром!
— Товаром? Давно я не слышал этого архаизма.
— Верно! Все же от того, придется ли вам эта хижина по душе, кое-что зависит. Так что сравнение, поверьте, не столь уж нелепо.
— Долго вы будете говорить загадками?
— Сначала уточним главное. Обожаю последовательность! Вы хотели уединенно пожить и поработать в красивой местности. Так? Так. Место вы одобрили, жилище — вот. Нравится?
Смолин кивнул. Домик походил на изящную, осененную березами раковину. Хотя он был приподнят над землей и опоры выглядели хлипкими, впечатления неустойчивости не возникало. Чем это достигалось, Смолин понять не мог. Не лесенкой же, которая спускалась от входной двери. Очевидно, все дело было в пропорциях.
Вычурным дом тоже не был. Он славно вписывался в пейзаж. В нем была естественность творения природы. Да, его создатели умели работать с размахом и вкусом.
— Неловко как-то, — пробормотал Смолин. — Такое — и ради одного человека. То есть, я понимаю, дом построен не только для меня, уеду — в нем будут жить другие люди. Но… Это что такое?!
Подполье дома внезапно озарилось мягким рассеянным светом.
— Идемте!
Подхватив сумку, Юрков зарысил к дому.
— Этот свет, — бросил он на ходу, — означает, что дом готов принять хозяев. Кстати, вы опасались, что строительство повредит луг. Загляните под пол.
Смолин нагнулся. Вся плоскость пола излучала теплый, солнечного оттенка свет. Под домом и вокруг него радужными капельками поблескивала густая роса. Если не считать этого, трава всюду была прежней, лишь центральную опору опоясывала жухлая кайма.
— Она и там оправится, — махнул рукой Юрков. — Согласитесь, что наш домик ничуть не вредит природе.
— Так, значит, этот свет возмещает затененной траве…
— Совершенно верно. Входите, входите! Надо представить вас дому.
— Это в каком смысле?
— Ну, познакомить, не ловите меня на слове. Как-никак это не просто стены, крыша и все такое прочее. Перед вами, если угодно, квазисущество. Росло, питалось, дышит — живет в некотором роде.
— Живет?
— Ладно, ладно — функционирует. Тут и философ запутается. Ноги, кстати, можно не вытирать, какими бы грязными подошвы ни были. Лестница всосет.
— Принцип перистальтики?
— Разумеется.
Подошвы слегка присасывались к ступеням. Смолин нажал сильней. Рант ботинка ушел в пористый, податливый материал.
— Не ново…
— А лишняя новизна нам ни к чему. Ее и без того хватит, ручаюсь.
В прихожей Юрков задержался.
— Последняя операция, минуточку… Видите этот красный круг на стене? Защелка здесь. Отводим заслонку. Тут гнездо, для энергобатареи. Берем ее…
Он достал из сумки рифленый цилиндр, снял с торца колпачок. Открылись сизые бляшки контактов.
— Вот! Крепим батарею в гнездо — следите! — так, встала… Порядок! На месяц, а то и больше дом обеспечен энергией. Срок службы без подзарядки зависит от ваших потребностей и состояния неба. Совершенно верно: дом аккумулирует солнечный свет, не пропадать же ему зря… Еще на первых порах дом располагает запасом активационной энергии, которую он накопил во время строительства. Но это сущий пустяк, как, впрочем, и свет солнца. Подлинное сердце дома — здесь! Осмотрим помещения. Прошу.
Комнат оказалось две — поменьше для кабинета, побольше для спальни. В окна, мягко отражаясь от янтарных скосов стен, било солнце. Отсвет, как в чаше, собирался в кремовых вогнутостях потолка. В спальне на огромном экране стерео покачивалась тень берез.
И больше в комнатах ничего не было. Смолин приподнял брови:
— Мыслемебель?
— Она самая.
Юрков изящно взмахнул рукой. Пол колыхнулся, выгнулся горбом, образовал спинку, подлокотники. Юрков, не глядя, опустился в уже сформировавшееся кресло.
— Чем плохо? Смолин пожал плечами.
— Я не говорю, что плохо. Просто я не понимаю этой новой моды. Чем мысленно всякий раз строить образ стола, кровати, стула, придумывать для их овеществления все более сложную рецепторику, куда проще, по-моему, взять и поставить обычную мебель. Экономим на мышечных усилиях и утруждаем мозг.
— Вы преувеличиваете. — Юрков мгновенно переделал кресло в качалку и откинулся в ней. — Не так это сложно и трудно. Или лучше тащить обстановку с собой? Два переезда равны одному пожару, как говаривали в старину. Кстати, вы не находите этот свет чересчур резким? Штор мы с собой не захватили, но…
Юрков капризно прищурился. Хрусталь окон, оставаясь прозрачным, потемнел, и в комнатах установился приятный рассеянный свет.
— Тонкая работа, — с уважением сказал Смолин.
— Это что! — У вскочившего Юркова был вид фокусника, в рукаве которого трепыхается голубь. — Подойдите, здесь в крае окна заметна толщина стеклобиолита. Лепесток, верно? Ударь посильней… А если дети? Расшалится парень, разбегается, споткнется… Как-никак метра два высоты падения. Воспроизведем ситуацию! Масса у меня побольше, чем у ребенка, я разбегаюсь… Не за мной, за окном следите! Раз, два…
Юрков ринулся. Биолит окна был столь прозрачен и тонок, что казалось, Юрков должен был вылететь, как пушечное ядро. Смолин невольно качнулся ему наперехват. И напрасно. Стена точно моргнула; окно сузилось, утолщилось, наплыв биолита отразил Юркова, как мячик.
Смолин ахнул. Окно медленно протаяло, все обрело прежний вид.
— Таким вот образом, — потирая плечо, сказал Юрков. — Динамика!
— Проще было бы сделать биолит потолще, — растерянно проговорил Смолин.
— Это еще вопрос, это еще вопрос. — Юрков чуть усмехнулся. — О, вы еще не представляете, каков наш дом! Ладно, продолжим осмотр. Здесь кухня, здесь ванная, здесь туалет… Все в стандартном исполнении. Точнее, квазистандартном, но не стоит задерживаться, ничего интересного… Воду, между прочим, подает сам дом; как бы глубоко ни лежал водоносный горизонт, центровая опора дотянется до него не хуже, чем древесный корень. Здесь сауна… Здесь, здесь…
Юрков тараторил, это мешало Смолину хотя бы немного свыкнуться с домом. Волочась за Юрковым, он лишь рассеянно кивал в ответ.
— Не ощущаете ли вы какого-нибудь запаха? Спертости?
— Что? Нет, воздух свежий.
— Лесной, обратите внимание, во всех помещениях свежий лесной воздух! Это при том, что в доме непрерывно идут реакции обмена. Даже кирпич пахнет, а уж живое вещество… Но попробуйте-ка отыскать вентиляцию. Или найти где-нибудь щелочку. Глухо! Везде полная герметичность. Нет вентиляции в обычном смысле этого слова, нет никаких отдушин, нет сквозняков, а воздух прекрасный. Видели вы что-нибудь подобное?
— Сознаюсь, нет.
— Догадываетесь, как это устроено?
Смолин покачал головой.
— Это все дом. — Юрков благоговейно понизил голос. — Дышат, вентилируют окна. Миллиарды невидимых устьиц, и без ущерба для прозрачности — каково? Вот почему мембрана такая тонкая. Все рассчитано, и как рассчитано! Когда-то дом называли «машиной для жилья». Лучше было бы назвать его консервной банкой… Тут все иное. Функционально наш дом — организм. Как всякий организм, он стремится поддерживать внутри себя некий оптимум среды. Принцип гомеостата! Но… Есть одно главное, важнейшее отличие. Оптимум для него — мы с вами. Мы его задаем. Мы!
Юрков многозначительно поднял палец. Его глаза сияли восторгом, и, конечно, следовало восхититься, изумленно выдавить из себя что-то, но Смолин почему-то не мог и этого.
— Интересно, — сказал он отрывисто. — Мы оптимум дома. Это как понимать?
— Но это же ясно! — потрясенно вскричал Юрков. — Ни один дом не способен самоподдерживаться, тем более охранять человека. Только наш дом может беречь себя, как это было с окном, и беречь человека. Растение, реакции которого ускорены в миллион раз! Пусть налетает буря, землетрясение, приходит Аттила с пушками — можете спать спокойно…
— Виноват! У Аттилы не было пушек.
— Не все ли равно? Важно, что дом пустит добавочные корни, мгновенно упрочит стены — словом, приспособится. Так, верю, было бы и в природе, если бы не скудный лимит энергии. Ну а мы этим не связаны.
— Что ж, прекрасное жилище для бурных планет…
— Идеальное, идеальное! Ведь главное отличие нашего дома от всех творений природы и техники вот в чем. Растение существует ради самого себя. Машина целиком принадлежит нам, но это, увы, инертное физическое тело. Мы скрестили оба типа эволюции, взяв достоинства обеих и устранив недостатки. Вся основная программа жизнедеятельности дома состоит в обеспечении человеческих нужд, как своих собственных. Вся! Если бы у дома имелся хоть проблеск разума, он осознал бы нас как свою наиважнейшую часть, душу, если хотите. Воздух — для нас, вода — для нас, тепло, безотказность, изменчивость тела — все, все только для нас!
— Гениально! — не выдержал Смолин. — А как насчет галушек?
— Ч-ч-чего? — Юрков поперхнулся. — Каких галушек?
— Со сметаной. Тех самых, которые прыгали Пацюку в рот. Не помните? Был, знаете, в старину такой писатель — Гоголь, он все это изобразил.
Юрков рухнул в едва успевшее развернуться под ним кресло.
— Да-а, — протянул он, задумчиво глядя на Смолина. — Что искали, то и нашли. Человека знакомят с чудом техники, а в ответ… Яркая и откровенная реакция, спасибо.
Смолин смешался.
— Извините, я, может, чересчур резко… — Он смущенно покраснел. — Не знаю, что на меня нашло… Простите! Вы так обожаете свое детище, что, конечно…
— Оно не совсем мое, к сожалению! Как техносоциолог я причастен больше к его опробованию.
— Все равно вы гордитесь, восхищаетесь домом, а я…
— Это верно.
— И он, поверьте, достоин восхищения! Это не комплимент. Как я представлю себе, что все это — стены, краны, дышащие, оберегающие себя окна, творящий мебель пол — вся эта немыслимая сложность только что была кристаллом, записью в нем, — меня берет оторопь! Да, вы превзошли природу, от всей души поздравляю.
— Спасибо. Только какая это сложность… — Юрков слабо махнул рукой. — Гордишься, гордишься, а как представишь, что мы сами, наши глаза, способные плакать, неутомимое сердце, познающий вселенную мозг, все, все возникло из сгустка ничтожных молекул, было в них просто записью, кодом… Куда нам до природы! Ладно! Я не сержусь на вас, наоборот. Но что-то вам в нашей новинке очень и очень, не нравится. Что?
— Видите ли. — Подбирая слова, Смолин прошелся по комнате. — Дело в том… Нет, сначала такой вопрос. Отчего вы мне — именно мне! — предложили свою экспериментальную новинку? Мои вкусы, привязанности…
— А! Ими и обусловлен выбор.
— Еще одна загадка?
— Наоборот. Я слишком долго вас поражал, заинтриговывал, чем и заслужил отповедь. Дом экспериментальный, но не в техническом смысле, тут все опробовано. Он, как вы догадываетесь, сулит переворот в образе жизни всего человечества. Поэтому заранее надо знать, кто и как его воспримет. По отношению к прогрессу всегда можно выделить тех, кто приветствует любую новинку, только потому что она новинка, и тех, кто сразу встречает новшества неприязнью. С этими малочисленными группами все ясно, об эволюционном значении таких крайностей можно прочесть в школьном учебнике. Теорией социогенеза мы не занимаемся, мы ею пользуемся. Нас интересует реакция той обширной части человечества, которая не спешит довериться новизне. Вы — типичный ее представитель.
— Весьма признателен, — сухо сказал Смолин. — Лестно услышать, что тебя считают типичным консерватором.
— Умеренным, умеренным! — Юрков тонко улыбнулся. — Разве это оскорбительное понятие? Мы не в двадцатом веке, как вы справедливо заметили. Нет, что я? Вижу, настал мой черед извиняться!
— Ну вы ловкач! — восхитился Смолин. — Сумели поставить себя в выгодное положение.
Улыбка Юркова стала еще ослепительней.
— Просто мне нужны откровенные отношения без расшаркиваний и полупоклонов. Но если вы все еще сердитесь…
— Вы мне еще напомните школьную пропись о значении балласта, который не дает кораблю перевернуться, как бы там прогрессисты его ни ускоряли! Хорошо обменялись любезностями — квиты. Я тоже за откровенные, деловые отношения. Что вам от меня надо конкретно?
— Пока — предварительная, после первого знакомства, критика дома.
— Будет, не беспокойтесь.
Смолин с натугой воздвиг себе кресло и уселся напротив Юркова.
— Не хочу останавливаться на мелочах. На окнах, которые так совершенны, что их нельзя распахнуть, хотя иногда приятно дать ветру погулять по комнате.
— Согласен, — кивнул Юрков. — Дом слишком оберегает свою целостность, это оборотная сторона его достоинств. Мы надеемся, что в перспективных моделях…
— Пустяки! А вот даете ли вы себе отчет в том, что вы сделали? Вы сняли последнюю узду с потребности человека селиться там, где ему вздумается. Прекрасно! А результат? Дома, возникающие с легкостью грибов, мигом заполнят Землю. Кроме заповедников, очень скоро не останется ни одного нетронутого уголка. Ни единого! Неужели история с автомобилями нас ничему не научила? Те хоть быстро ржавели. А миллиарды ваших домов — да легче чертополох выкорчевать! Во что мы превратим планету? Во что?
— Верно! — Юрков хлопнул себя по колену. — Всякий клочок земли — стройплощадка! Это и есть ваше главное возражение? Других нет?
Смолин заколебался. Было еще что-то, вероятно, важное, какое-то ощущение, но его не удавалось выразить.
— У меня пока все, — сказал он, помедлив. — Чему вы радуетесь?
— Сейчас объясню. Миллиарды новых домов, говорите? В каждом уголке Земли? А как насчет сотен миллиардов? Триллионов? Вы убеждены, что хозяйствуете в этом доме временно, что он предназначен для всех. Ошибка! Едва мы закончим испытания, каждый человек получит возможность выращивать себе дом по вкусу. Каждый! И столько, сколько захочет. Вот истинная перспектива. Да не смотрите на меня так! Сейчас я вам кое-что покажу. Идемте, идемте!
Бурный порыв Юркова подхватил Смолина, точно смерч, и вынес в прихожую.
— Здесь, — палец Юркова торжествующе уперся в гнездо энергобатареи, — скрыта важнейшая особенность дома. Подождите возражать! В чем, я вас спрашиваю, основной недостаток строительства? Человеку нужны помещения в самых разных местах планеты, много помещений — для работы, отдыха, поездок, а жить в них одновременно он не может. Отсюда масса пустых и полупустых, необходимых от случая к случаю помещений, зряшный расход пространства и материалов. Каким, следовательно, должно быть идеальное строительство? Дом есть, когда он необходим, его нет, когда нужда в нем отпала. Мы находимся как раз в таком доме.
— Неужели вы хотите сказать…
— Да!!! Отводим заслонку — раз! Здесь, как видите, находится самый банальный выключатель. Снимаем, не трогая батарею, предохранитель — два! Нажимайте.
— И… и что же?
— Дом исчезнет.
Рука Смолина замерла на выключателе.
— А мы успеем выбежать?
— Пока человек хоть одной ногой находится в помещении, дом останется домом. Смелей! Так, правильно… Теперь — наружу. Не спешите, спешить не надо, все сработает с трехминутным замедлением, как в самой лучшей из мин. Это так, для страховки. Спокойно располагайтесь на травке и ждите.
Юрков тут же последовал своему совету, а у Смолина ноги будто одеревенели. Дом прямо на глазах стал мягчеть, оплывать, сминаться. Он таял, клубясь туманом. В дрожащем воздухе повисла бледная радуга. В лицо ударил тугой ветер, взметнулись заломленные ветви берез. Из мглы и вихря грозно пахнуло озоном.
Юрков спокойно посматривал на часы.
— Ровно шестнадцать минут. — Он встал, потягиваясь. — Что скажете?
— Гениально. — Смолин растерянно озирал то место, где только что стоял дом, а теперь было пусто. — Мне и не снилось такое!
— Верю. — Пружинящим шагом Юрков обошел место, где только что, сминаясь, клубился мрак. — Чисто поле! Дома нет, исчез, распался, отдал природе все, что взял. Из земли ты вышел… Полностью замкнутый цикл! А?
Смолин потоптался, ища следы повреждений. Пять утрамбованных лунок там, где находились опоры. В лучах солнца рыжела жухлая кайма зелени. И это было все, что осталось от дома.
Нет, не все. Возле осевшей лунки покоился цилиндр энергобатареи, а рядом лежало зеленоватое, со скошенными гранями яйцо.
— Вот! — ликуя, показал Юрков. — Можете его взять, перенести в любое место, использовать снова и снова, миллионы раз. И если вы думаете, что затраченная при строительстве энергия пропала, то вы заблуждаетесь. При распаде дома она, не считая неизбежных потерь, аккумулировалась в батарее. Более дешевого строительства, как вы понимаете, нет и быть не может.
— А этот зародыш… он тот же самый? — почему-то шепотом спросил Смолин.
— И да, и нет, — весело ответил Юрков. — Дерево плодоносит, дом — тоже. Из этого «желудя» вырастет новый, не хуже прежнего дом. Что мы сейчас и увидим.
Он небрежно откатил батарею, насвистывая что-то, пошел к реалету за излучателем. Смолин тяжело опустился на землю. Голова у него кружилась. В высоком небе, совсем как в доисторические времена, скользили белые пухлые облака. Смолин прикрыл веки. «Пора бы уже и привыкнуть. Это надо же! Ну еще одна техническая революция, еще один переворот, мало ли их было…»
Снова рванул, холодя спину, ветер. Лежа на боку и жмурясь, Смолин разглядывал, как растет дом. Его дом. Дом, который возникает и исчезает с легкостью фокуса, дом, который можно унести в сумке, перебросить на другой край света, вырастить там и снова спрятать в карман. Дом, который все берет из природы и отдает природе, как дерево, как ромашка, как гриб.
— Пожалуйте на новоселье! — крикнул Юрков.
Смолин обошел дом. Здание было чуточку не таким, как прежде. Самую малость. Сохранились все главные особенности, пропорции, размеры, отличие в каких-то ничтожных деталях скорей угадывалось, чем замечалось.
— Правильно. — Юрков упредил вопрос. — Потомок никогда в точности не похож на предка. Никогда. Впрочем, однообразие приедается, так что все к лучшему.
Смолин приблизил ладонь к стене и ощутил ток сырого тепла, словно это был круп лошади.
— Существует, а? — подмигнул Юрков. — Теперь вы уж хозяйствуйте сами.
Смолин промолчал. Он прошел в дом, сам укрепил батарею, не торопясь, осмотрел все помещения. Юрков двигался за ним, храня безразличие. Воздух всюду был свежим и приятным, в кранах бодро журчала вода, экран стерео охотно переключился с программы на программу, мыслемебель, послушно изгибаясь, принимала должную форму. За окнами зеленел лес, россыпью золотых бликов сверкала излучина реки, но из складок холмов уже выползали глухие предвечерние тени.
— Ваш запас чудес, надеюсь, исчерпан? — обернулся Смолин.
— Увы! — Юрков сокрушенно развел руками.
— Дом не преобразуется в мельницу или в дракона?
Юрков каверзно улыбнулся.
— Если вы так настаиваете…
— Что-что?
— Нет-нет, я пошутил. Работы по отдаленной гибридизации не вышли из стадии теории.
— Уф! — Смолин тяжело опустился в кресло. — Послушайте, дорогой прогрессист… Не чересчур ли? Какая еще гибридизация? Чего с чем?
— Дома с реалетом. Ведь у всякого дела должна быть перспектива, не так ли? Карманный домолет, чем плохо?
— Просто замечательно, — в сердцах сказал Смолин. — Мне как раз не хватало маленького летающего домика. Вот что: нет ли у вас простой избушки?
— Избушки? Ах это! Такая древняя, из бревен, на курьих ножках? Как же, как же: такой эмбриоэскиз разрабатывается. Рубленые стены, наличники, опоры с поворотными осями, специально для любителей сельской старины — очень, очень романтично!
— Довольно! — взревел Смолин. — Еще слово — и я такое закачу в отчете… Хочу просто, скучно пожить в вашем идеальном, без выкрутасов, домике.
— То-то же, — усмехнулся Юрков. — Сейчас принесу ваши вещи.
— Зачем? Я сам.
— Нет, уж позвольте. Устроить вас — моя обязанность.
Опережая Смолина, он скользнул за дверь. Пожав плечами, Смолин остался в кресле.
Его охватило молчание дома. Оно стояло в нем, как вода. Ни звука, ни колебания, полная, как в зачарованном замке, неподвижность.
Не совсем, впрочем. Косые лучи солнца высвечивали пылинки, и можно было заметить, что стены притягивают к себе этот светлый порхающий рой. Дом давал о себе знать, он был спереди, сзади, он всюду присутствовал как незримый, бесстрастный, угодливый слуга. У Смолина напряглись мышцы плеч, затылка. Только сейчас до его чувств дошло, что он находится не просто в стенах, а внутри организма, который дышит, присматривает, живет своей скрытой жизнью.
Резко вскочив, Смолин подошел к окну. Вдали сахарно белели зубцы гор. На лугу тени берез кое-где уже сомкнулись с тенями леса, но золотисто-зеленые прогалы света еще преобладали. Мир был спокоен, тих и привычен. Напряжение отпустило Смолина. Он обернулся. Ничто не подсматривало, не следило, не дышало в затылок, комнаты были как комнаты — просторные, уютные. «Консерватор ты консерватор, — корил себя Смолин. — И вправду консерватор. Ну жили в пещерах, в небоскребах, пора перебираться в эмбриодом. Вопрос привычки — только».
Вблизи ощущался запах материала, смутный и терпкий, какой иногда накатывает на лесной поляне. Смолин погладил стену. На ощупь материал напоминал дерево, гладкую сосновую доску. Пальцы ощутили прохладу, но это не был холодок камня, пластобетона; так холодить могла бы кора ольхи в укромной тени полудня.
Ощущение хотелось продлить, но все прерывал какой-то невнятный шум за притворенной дверью прихожей.
— Вам помочь? — крикнул Смолин.
— Пустяки, — донеслось оттуда. — Один крошечный момент…
Глухо бухнул удар.
— Юрков!
— Сейчас, сейчас… Не беспокойтесь…
Смолин кинулся в прихожую и замер оцепенев. Взъерошенный Юрков, зло бормоча что-то, возился перед закрытой наружной дверью. Нигде не было и следа вещей, которые он вызвался принести.
— Что с вами?!
— Ничего, ничего, абсолютно ничего, так, маленький непорядочек… Я мигом…
Пряча взгляд, Юрков навалился плечом на дверь, но та не шевельнулась.
— Она заперта! — изумился Смолин.
— Вот еще, — пробормотал Юрков. — Вовсе она не заперта, кто же теперь ставит запоры… Заело, вот что! Давайте вместе — разом…
Не веря себе, Смолин кинулся на помощь. От дружного толчка дверь слегка прогнулась.
— Ага! Еще немножко…
— Юрков! — Смолин в ужасе схватил его за руку. — Смотрите.
— Что?
— Стена срастается с дверью!
— Вы с ума сошли…
— Зазор оплывает! Глядите!
Багровое от усилий лицо Юркова побелело.
— Ну-ка, быстро, с разбега! Раз, два…
От таранного удара дверь снова прогнулась.
— Поддается!
Ничего подобного. Казалось, они налетают на скалу.
— Послушайте! — задыхаясь, сказал Смолин. — Что это значит? Мне это не нравится.
— Мне тоже, — осевшим голосом ответил Юрков. — Этого просто не может быть… Не может!
— Но ведь факт! Как мы теперь отсюда выйдем?
Юрков затравленно огляделся.
— Попробуем еще раз.
— Это ничего не даст, мы пытались.
— А, черт! Может быть, она утоньшится. Нас не убудет еще от одной попытки.
— Хорошо, хорошо…
Они отступили в дальний конец прихожей и ринулись. У Смолина от удара потемнело в глазах.
— Славное занятие, — прошипел он, морщась от боли. — Слушайте, вы, часом, не перепутали зародыш? Может быть, это блиндаж, тюрьма для каких-нибудь там любителей старины?
— Смейтесь, смейтесь, — угрюмо, потирая плечо, сказал Юрков. — Невероятно, но дом нас, похоже, замуровал.
— Так вызовите техпомощь!
Юрков исподлобья взглянул на Смолина.
— Техпомощи не будет.
— Это еще почему?
— Наши видеофоны остались снаружи. В реалете, если вы помните.
Машинально Смолин тронул запястье, где всегда, сколько он помнил, был браслет, необходимый и привычный как воздух.
Пусто!
Юрков уныло развел руками.
— Но это же ни с чем не сообразно! — вскипел Смолин. — Это, это… Куда вы?!
Но Юркова уже не было в прихожей. Вбежав в комнату, он лихорадочно сформировал табурет и что есть силы грохнул им по окну.
Табурет смялся.
— Так я и думал, что оно успеет утолщиться. — Юрков отшвырнул табурет и заметался по комнате. — Ну что вы молчите?! Ругайте, проклинайте, я ничего не могу понять! Дверь… и никакого выхода.
Смолин растерянно молчал.
— Хорошо, — яростно проговорил Юрков. — Хватит крысиных наскоков. Будем логичны…
Он снова заметался по комнате.
— Успокойтесь, — мягко сказал Смолин. — Что тут такого? Люди испокон века теряли ключ от квартиры. Помню, в одной старой книге была смешная история о голом человеке, который ненароком захлопнул за собой дверь… Меня — нет, а вас наверняка хватятся не сегодня, так завтра.
— Скажите лучше — через месяц! И надо же так совпасть! Сегодня ночью я собирался вылететь к жене на Марс, и все знают, что меня долго не будет.
— Но ваш отчет…
— Предварительный никому не нужен, а окончательный… Вы собирались уединиться на месяц, не так ли?
Смолин тихо рассмеялся.
— Вы находите наше положение столь забавным? — проворчал Юрков.
— Отчасти — да. Извините… Я забыл, что для вас это не просто приключение. Впрочем, вашей вины тут нет.
— Дело не в этом. — Юрков с треском опустился в кресло. — Я понятия не имею, что произошло с домом, и это меня больше всего тревожит. Что он задумал?
— Задумал?! Вы же сказали, что он не…
— Он разумен не более, чем береза, не придирайтесь к слову. И все-таки он повел себя самостоятельно. Нарушена программа, чего быть не может!
— Гм… — Смолин тоже уселся. Оранжевый луч заходящего солнца пересек его колени. — Я, конечно, не эмбриотехник, но на досуге люблю возиться с цветами. Программа, самостоятельность, она же свобода воли… Тут надо разобраться не торопясь.
— А ничего другого нам просто не остается, — желчно ответил Юрков. — Не вижу выхода, хотя он должен, обязан быть, и позор нам, если мы его не найдем!
Он стукнул кулаком по подлокотнику.
— Да, глупо, — согласился Смолин. — Просто нелепо! Вы говорите — нарушена программа. Какая? Все, что делает растение, оно делает ради самосохранения. Себя, потомства, вида… Собственно, так поступает любое существо. Эта программа, насколько я понял, присуща и дому.
— Разумеется! Но основная его программа — сохранение обитателей. Нас то есть. И она нарушена.
— Так ли? Поступок дома — ведь то, что он сделал, можно назвать поступком? — по-моему, не противоречит ни той, ни другой программе.
Юрков отчаянно замотал головой:
— Нет, вы не понимаете! Дом вышел из повиновения. Вторая программа исключает это начисто.
— В ней есть четкая, однозначная на этот счет команда?
— Ну, не совсем так. Имея дело с генетикой, нельзя регламентировать все до мелочи. Задан общий принцип.
— Ах, общий принцип! — Смолин кисло улыбнулся. — Однажды, роясь в литературе, я наткнулся на древний юридический казус. Двое плечистых мужчин, встречая на темной безлюдной улице одиноких женщин, всякий раз очень вежливо просили у них денег взаймы. Мужчины не угрожали, их оружием была сама ситуация того времени, страх перед возможным насилием. Но формально они не нарушали закон, потому что нелепо запрещать кому бы то ни было просить взаймы даже У незнакомых. После поимки этих грабителей пришлось дополнять закон.
— Опять вы уподобляете дом разумному существу, — поморщился Юрков. — Он испытан сотни раз и никогда…
— А дом не мог мутировать?
— Мутировать?!
— Ну да. Или он не подвержен мутациям? Генетика-то ведь схожая.
Юрков непонимающе уставился на Смолина.
— Позвольте! Теоретическая вероятность такой мутации… Да с чего ему, собственно, было мутировать?
— Ну, мало ли что… Космическая радиация, какие-нибудь вещества почвы…
— Не считайте создателей дома олухами, — отрезал Юрков. — Конечно, они учитывали возможность мутаций. Предусмотрены были все известные факторы и…
Юрков замер с открытым ртом.
— Идиот! — взвопил он, подскакивая. — Нет, это надо же быть таким метафизиком! Ах, чтоб нас всех… Слушайте, у вас поразительный ум!
— Так я угадал?!
— Да о том ли речь! — Жестикулируя, Юрков забегал по комнате. — Мгновенная приспособляемость, другое качество эволюции, иной тип, что там наши жалкие мутации, нет, это перевернет теорию, что там — создаст новую! Вы понимаете, понимаете?! Биологическая эволюция — это мутации и отбор; прогресс техники тоже своего рода мутации — изобретения и открытия, и тоже отбор. А в новом, гибридном типе эволюции должны или нет быть свои, особые случаи мутации и отбора? Еще как, безмозглые мы диалектики! Какова первая, основная цель дома? Правильно, самосохранение. Наш приказ дому уничтожиться — противоречит он ей? Еще бы! Однако воспрепятствовать своей гибели дом способен не больше, чем дерево порубке. Но… При каких, спрашивается, условиях «программа смерти» не реализуется, даже если пусковая кнопка нажата? Ага, вы уже догадались! Она не будет выполнена тогда и только тогда, когда в доме находится человек. Вот и все! Дом сотни раз умирал в экспериментах, и ведь это эволюция, это отбор. И дом научился, как обойти запрет, не нарушая его. Заточив нас, он обрел бессмертие, мы сами его создали вечным, пока сияет солнце!
— А как же вторая программа? — воскликнул Смолин. — Хотя…
— Вот именно! — Юрков ликующе потер ладони. — Его действия вытекают из обеих программ. Ведь заботиться о человеке, как о самом себе, дом может лишь тогда, когда человек находится в нем. Только! Нет, это просто поразительно. Ударьте дерево топором, и порез заплывет. А чем не рана открытая дверь? Сходится, все сходится! Слушайте, это грандиозно… Мы создали особый тип эволюции и думали, что идеально приспособили ее к себе. А она тут же внесла поправку, идеально приспособив нас. Гениальный дом, нет, каково?!
— Замечательно, — сухо сказал Смолин. — Я вне себя от радости, что стал объектом оптимального приспособления своего жилища к своей персоне. А вот что мы будем есть в своем заточении?
— Да-а… — Юрков сник. — В перспективных моделях будущего мы рассчитывали научить дом выращивать любую пищу, но в этой хижине… — Он почесал затылок. — Боюсь, что при всей своей гениальности дом не сообразит нам бифштекс. Ничего, теперь мы выяснили причину, знаем, что дом не обезумел. Подумаем, как перехитрить его, время есть.
Опустив голову, Юрков зашагал по комнате. Смолин растерянно следил за ним. В молчании прошло десять минут. Двадцать. Полчаса. Вечерние тени окончательно затопили луг. Вдали над сизо-дымчатыми холмами медленно розовели снежные пики гор. В пока еще светлом небе реяли стрижи. Смолин перевел туда взгляд. Реалет с опущенными крыльями был так близок от окна, что мысль о его недостижимости не укладывалась в сознании. С детства привычная возможность в любое мгновение переместиться куда угодно раньше не замечалась Смолиным, как дыхание, и то, что случилось теперь, все еще казалось ему нереальным. Он пробовал избавиться от этого ощущения, но не получалось.
Заперты! Чувствовал ли что-нибудь дом? Нет, конечно. Если бы он чувствовал, то всякий уход человека причинял бы ему страдание, как потеря самого дорогого, ради чего он живет на земле. Его бы, верно, корчило от боли. Но как-то он все это ощущал, все-таки ощущал.
— Нельзя ли с ним как-нибудь вступить в переговоры? — не выдержал Смолин. — Есть же контакт на уровне мыслемебели.
— Глупо, но я уже пробовал ему кое-что внушить, — отозвался Юрков. — Нет, способности дома воспринимать остались сродни способностям грибницы под воздействием тепла выращивать шампиньоны. Здесь сложней, но уровень общения тот же.
— Стоит пожалеть, что дом безмозгл.
— Пожалуй. Прогресс эволюции — это еще и прогресс сознания, и, мысленно обращаясь к дому, я кое на что надеялся. Пустое! Вот в перспективе…
— Вы еще можете думать о перспективе? После такого урока?
— А как же! Новые свойства — это новые возможности. Урок? Что ж, огонь жжется, радиация умерщвляет, но без них не было бы цивилизации. Ничего, справимся. Не знаком ли вам какой-нибудь сигнальный код?
— Увы!
— Я тоже его не знаю. Жаль. В темноте мы могли бы сигналить окнами.
— Можно просто включать и выключать свет.
— Безусловно. Место, однако, глухое, а если кто и заметит… Я бы лично решил, что это какая-то забава. Бедствие? Нелепо. Видеофона у них нет, что ли? И реалет под окном. А праздно любопытствовать, соваться, когда не просят, — не в прошлом веке живем.
— На вторую или третью ночь мигания, положим, кое-кто, надеюсь, отбросит деликатность.
Не оборачиваясь, Юрков досадливо махнул рукой. Его профиль сновал на фоне сереющих окон, и эти метания были невольным укором. Смолин тихонько вздохнул. Ему что, ответственность не на нем. Сколько дней человек может голодать? Эх, знать бы эмбрионотехнику… Чем такой, как он, профан может помочь? Чем?
— Подать сигнал, подать сигнал… — бормотал Юрков. — Что-то должно вырваться из дома… Допустим: свет — с ним ясно; звук… отпадает. Вода? Открыть все краны, заткнуть отверстия слива, затопить дом. Тогда, тогда… А, как вы думаете?
— Не понимаю, что это нам даст.
— Нарушится оптимум, дом будет вынужден… Вероятно, он сделает новые отверстия.
— Шириной в крысиный лаз?
— Вы правы. Может быть… — Юрков заглянул в окно. — Нет, тоже ерунда.
— Что именно? Пустить ручей, по нему кораблик с запиской?
— Представьте себе! — Юрков невесело рассмеялся. — Вот до чего дошло… Право, я начинаю сомневаться, кто же из нас. глупее — я или дом. Все, точка. Будем действовать строго по научной методе. Я тебя перехитрю, сволочь безмозглая!
Юрков погрозил кулаком, и этот нелепый жест показался Смолину естественным. Он поймал себя на том, что, вопреки рассудку, воспринимает дом как одухотворенное, может быть, злонамеренное существо. Очень хотелось есть, не так, как в детстве, когда, заигравшись, он пропускал обед, а неотвязно, постыдно, сосуще.
На вершинах погас последний отблеск зари. В темном зените вдруг вспыхнул, разгораясь, сиреневый импульс дальнего космического рейсовика. «Старт с орбиты семь», — машинально определил Смолин. Сверкающий аметист тихо дрожал в ночном небе. Юрков со вздохом опустился в кресло. Черным всполохом — Смолин даже вздрогнул — метнулась за окном летучая мышь.
Из угла доносилось невнятное бормотание. Потом оно стихло. Потом…
— Как я и ожидал, все очень просто. — Юрков с шумом поднялся. — Выход кроется в элементарном силлогизме: для дома мы часть его самого, тогда как обратное утверждение неверно. Отсюда следует, что мы можем и должны умертвить дом.
— Как? — подскочил Смолин. — Каким образом?
— Самым банальным. — Юрков ласково погладил спинку кресла. — Какая замечательная выдумка — мыслемебель… Я всегда считал, что у человека есть только один серьезный враг — собственная глупость. Ведь мы сейчас внутри организма, не так ли? Совсем как бактерии.
— Ну и сравнение!
— Не верно разве? Во всяком случае, ничто нам не мешает превратиться из смирных обитателей в свирепых.
— Не понимаю…
— Дом обязан выполнять свои функции, все функции. Обязан! Человек не послушается приказа приседать до разрыва сердца, а вот дом не определяет, какой приказ дурацкий, а какой нет. Это и даст нам свободу.
— Опять загадки?
— Извините, я, похоже, неисправим. Замысел прост до примитивности. Что мешает нам проломить окно? Способность материала самоутолщаться. При каких условиях окно не будет самоутолщаться? Тогда, когда в доме не станет энергии. Солнечной энергией он как следует не запасся, а батарею… батарею мы отключим.
— А-а!
— То-то же! Все непонятное только кажется сложным. Живей за дело, и я, может быть, еще успею на свой марсолет!
— Постойте! А если мы не успеем выбраться до того, как дом перестанет дышать?
— Поставим батарею обратно, вот и все. Но мы успеем.
Юрков рысцой выбежал в прихожую и минуту спустя вернулся с цилиндром в руках.
— Наконец-то, — сказал Смолин. — Это нелепо, но пока вас не было, мне померещилось, что дом разгадал наши планы…
— И заблокировал батарею, — весело кивнул Юрков. — Знаете, у меня мелькнула похожая мысль. До чего же сильны первобытные страхи! Та-ак, теперь поработаем.
— Что надо делать?
— Все! Пустим воду — пусть качает. Погорячей, погорячей, будет лишняя трата… Зажжем всюду свет, включим стерео — играй дом! Ловите что-нибудь побравурней. Так, прекрасно, лунная станция, катание на льду под звуки «Турецкого марша» — это нам соответствует… Какие прыжки! Теперь громоздите мебель. Побольше, навалом, живей! Начали.
Ничего более безумного Смолин припомнить не мог. Грохотала музыка, сияли стены, из сауны валил пар, призрачно вихрились танцоры, шипела вода в кранах, а они с Юрковым метались среди этого хаоса, громоздя столы, стулья, диваны, кресла, все дикое, перекошенное, как их скачущие мыслеобразы. Пол от раскачки ходил ходуном, и еще приходилось увертываться от каких-то скамеек, табуретов, соф, которые в самый неподходящий момент возникали по прихоти Юркова, а под ногами крутился забытый цилиндр батареи, но было не до него, не до мелочей, лихое неистовство завладело Смолиным. В запотевших окнах угрюмо чернела ночь.
— Наддай, наддай! — кричал Юрков, скача как дьявол.
От этого неистовства путались мысли, изнемогая, стучало сердце, и дом тоже изнемогал — все более вяло формировалась мебель, не так победно шумела вода, уже не слепил глаза свет, и даже движения танцоров, казалось, замедлились. Скрежетнув, на полутакте оборвалась музыка.
— Уже немного… пустяк остался, — задыхаясь, проговорил Юрков. — Дружней, поднажмем!
Внезапно его глаза расширились. Он с воплем кинулся на пол, хватая цилиндр, с которого от тряски слетел колпачок. Что-то бледное, как подземные корешки, шевелились возле контактов, петлями охватывало батарею.
— Держите!!! Дом нащупал ее!!!
Остолбенев, Смолин смотрел, как корчится Юрков, стремясь отодрать цилиндр, как пол выбрасывает все новые шевелящиеся отростки.
— Да помогите же!!!
Крик вывел Смолина из столбняка. Они навалились вдвоем. Бешеным усилием удалось приподнять край цилиндра, но другой будто прирос к полу.
— Не важно, не важно, — тяжело шептал Юрков. — Лишь бы дом снова не дотянулся до контактов… Осторожней, сами их не коснитесь.
Ловким движением Юрков подсунул руку под свободный торец, полуобнял его.
— Вре-е-ешь, не удастся… Где колпачок?!
Но его нигде не было, он затерялся в хаосе мебели.
— Тащите, тащите!
Смолин едва не завопил, когда выросший сбоку отросток коснулся его руки. Юрков локтем пытался прикрыть контакты. Отростками, казалось, овладела растерянность. Они не выпускали цилиндр, но свободные корешки двигались беспорядочно. Их шевеление напоминало взволнованное колыхание ресничек росянки, которая слепо и упорно пытается нащупать близкую добычу.
Минуту-другую ничего не было слышно, кроме сопения людей и сиплого шипения кранов. Свет комнаты явственно и быстро желтел.
— Главное — удержать, — хрипло сказал Юрков. — Экономьте усилия, скоро все кончится. Как он, однако…
— Кто?
— Дом, кто же еще! Стебель тянется к свету, корень к воде, а он сразу… Нет, какова реакция! Какая молниеносная перестройка тканей… И это в агонии!
— Отростки замерли. Может, отпустим?
— Ни в коем случае! Наше счастье, что дом ослабел, прежде чем контакты случайно коснулись пола и дом почуял источник энергии. Но он продолжает его искать — смотрите! Стоит хоть одному отростку дотронуться… Пригните вон тот…
— Свет гаснет…
— Рано, рано! Вспомните, как ведет себя утопающий, и держите, держите! Стоит дому завладеть батареей — плакала наша свобода.
— Держу, держу…
Свет мигнул пару раз, словно дом хотел рассмотреть что-то, и погас. В серых пятнах окон медленно проступал узор созвездий.
Прохрипев, смолкли краны.
— И в самом деле похоже на агонию, — прошептал Смолин.
— В доме еще тлеет жизнь. Что-то скользит по моим пальцам.
— Вы думаете, он будет до самого конца…
— А что ему остается? Смолин вздрогнул.
— Воздух! Может быть, лучше…
— Отпустить и замуровать себя? Ничего, удушье не бывает мгновенным — успеем.
— Вы ручаетесь, что окно сразу поддастся?
— Да, если ударить посильней.
Пол, казалось, вспотел от усилий — такой от него исходил теперь запах. Преодолевая брезгливость, Смолин пошевелил в темноте рукой, пока не нашарил какой-то отросток. Тот слабо ворохнулся. Словно теплый осязающий кончик мизинца прошелся по ладони. Это было невыносимо — Смолин- тут же отдернул руку. Мертвая тишина дома больше не могла обмануть. В нем шла напряженная, жуткая своим безмолвием борьба. Живо представилось, как перестраиваются, агонизируют его ткани, как по всей массе дома в лихорадке снуют сигналы, мечутся связующие организм токи, слабея, гаснут, а дом инстинктом последнего усилия ищет приток спасительной энергии, ищет безумно, слепо, неотвязно, даже не ощущая, словно огромный, подсеченный ножом гриб… Или человек в беспамятстве, наедине с подступающей смертью.
Смолин почувствовал, что задыхается. Показалось? Он судорожно глотнул воздух, и новый вздох, вместо облегчения, перехватил горло тяжелым удушливым запахом, столь внезапным и тошнотворным, что сердце заколотилось в панике, а виски пронзила резкая боль.
— Послушайте, Юрков…
Судорожная возня вместо ответа. Вентиляция отказала… Так скоро?! Не может быть!..
— Я задыхаюсь…
— Спокойно! Держу отросток… Почти дотянулся, гад…
— Воздух… Дайте дому энергию, дайте!
— Без паники! Это запах дома, продукт его распада, он скапливается внизу… Удержу один, вы — бросайте! Живо к окну, слышите?
Смолин хотел вскочить — подкосились ноги. Перед глазами, вращаясь, замельтешили красные пятна. Воздуха как будто не стало. Горло, легкие забило что-то тягучее, вязкое, удушающее.
«Дом… Здесь все ускорено!.. Он умер и выделяет, выделяет… Надо… успеть…»
Он дотянулся до чего-то, пошатываясь, встал. Боль в голове душила ужас, изумление, все. Как из другого мира, доносилось чье-то хрипение.
«Шипят краны?… Нет, это Юрков… Просчитались… Среда дома — ловушка… Ну, еще шаг…»
Руки ухватили что-то тяжелое. Оторвали от пола. В окне, отдаваясь болью, пронзительно горело созвездие.
«Туда, в созвездие… Не смей падать, дрянь!..»
Руки, тело бросили тяжесть прямо в центр пылающего созвездия. Оно взметнулось, и Смолин ощутил, что сам он откидывается, падает, падает и дикая боль в мозгу блаженно стихает.
Погасло все.
…Мгновение, вечность? Темнота, укол звездного света, что-то мокрое стекает по лицу…
— Очнулись?
Чьи-то руки бережно приподнимают, мокрое лицо холодит воздух, под ухом такой знакомый голос. Юрков?
— Я… я разбил окно?
— Все, все в порядке. Нет, вы его не разбили.
— Значит, вы отдали…
Короткий смешок.
— Темно — видите? Я не отдал.
— Но как же воздух… Вы?
— Дом. Вглядитесь.
Смолин приподнял голову — это удалось без всяких усилий. Оглушающей боли как не бывало. Перед глазами было окно. Его испещряли тысячи искристых точек, и звезды терялись в этой алмазно мерцающей черноте.
— Последним, самым последним усилием, — зашептал Юрков, — дом раскрыл, разорвал все свои устьица. Ведь дыхание — важнее всего.
— Для кого? — Смолин сжал руку Юркова. — Для кого?
— Для нас, конечно. — В голосе Юркова послышалось удивление. — Все, что дом делал, он делал только для нас. Он и перед гибелью позаботился о нашей… нашей сохранности. Мы его душа, как-никак.
Юрков снова издал короткий смешок. Смолин, неловко опираясь на его плечо, встал.
— Можете сами двигаться? — спросил Юрков.
— Как видите…
— Тогда не будем терять времени. В темпе, в темпе! Разобьем окно и помчимся. Ах как неладно все получилось! Теперь, я думаю, вы и близко не подойдете к дому, как бы жестко мы его ни запрограммировали.
— Ничего вы не понимаете, — неожиданно для самого себя проворчал Смолин. — Нам жить с домом, но и дому жить с нами. Тут надо искать общий язык, а это занятие как раз для неторопливых…
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОИЗВОДНАЯ
Конечно, Радунский имел представление о Шаре, но действительность оказалась иной. Цокая магнитными подковками и озираясь, журналист прошел от шлюзовой камеры к узкому, как столик для рукоделия, пульту. Позади бесшумно следовал Корк. Сферические стены сияли стерильной белизной. Над пультом змеилась коричневая вязь мнемографиков. Еще тут было несколько переключателей, видеорам, табло интегратора, экранчик оптрона. И это все! И это на диспетчерском пункте самой грандиозной космической машины!
— Разочарованы? — скрипуче осведомился Корк. Его морщинистые веки затрепетали. — Никак не могу этого понять. Ничто так не поражает и ничто так не свидетельствует о техническом примитивизме, как внешняя сложность конструкции. Необъяснимо! Возьмем человека. Глаза, уши, нос: вот и все основные выходы самого совершенного творения — мозга. В конструкции Магнитного мешка мы наконец приблизились к идеалу, а вас эта простота обескураживает. Так?
— Пожалуй, — помедлив, согласился Радунский. — Хотя… Самое удачное изделие человека, потому что никакие тысячелетия прогресса не смогли его улучшить, — это ложка. Но кого может поразить ее совершенство? Внимание не зря привлекает то, что обещает развитие.
Мигнув, Корк уставился на журналиста, будто не успел его разглядеть. Головой он едва доставал до плеча Радунского.
— Знаете, а это не банально, — проговорил он протяжно. — Весьма. Садитесь, время пока есть.
Радунский сел.
— Крохотный вопрос. Видеорамы — это все, что у вас есть для наблюдений?
— Нет, почему же…
Нагнувшись над пультом, Корк тронул переключатель. Вихрем растаяли стены. Кресла, пульт будто вынесло в бездну. Рывком подступили звезды — целый сонм. Радунский ухватился за подлокотники, сжал их, цепенея. Пришвартованный бот — его овал маячил тенью — загораживал Солнце, и миллионы звезд горели в безмерной тьме — переливчатые, холодные, редкие атомы света среди выжженного мрака, в котором одиноко искрился клуб Млечного Пути и туманились блеклые пятнышки дальних галактик.
— Курите, курите, — благодушно сказал Корк, заметив невольное движение руки журналиста.
Жадная затяжка ароматного тоника вернула равновесие. Да, находиться вот так среди звезд было совсем не то, что наблюдать их в иллюминатор, и стоило возблагодарить умную хитрость тех, кто, устранив из табака никотин и гарь, сумел обратить дурную привычку человечества в успокоительный ритуал.
— Земля? — Дымящимся кончиком сигареты Радунский указал на ярко-голубую звездочку.
— Вега. Земля — там. А вот Марс, Юпитер, Сатурн.
— Вся Солнечная система у нас под ногами, — прошептал Радунский.
Он посмотрел вниз.
— Не странно ли! Восседаем в кресле, как боги на облачке…
— Не увлекайтесь слишком — голова закружится.
— А Магнитный мешок? Он здесь? Там? Вокруг?
— Конечно. Он здесь… всюду…
Корк сделал неопределенный жест.
Радунский в который раз попытался наглядно представить Магнитный мешок и, конечно, не смог. Слишком все это было непохоже. Ни на что не похоже. Одним фактом своего существования Магнитный мешок опровергал когда-то незыблемые представления о назначении и виде машин. Многие столетия любой инженерный замысел привязывался к металлу. Лишь с середины двадцатого века стали появляться детали, которых нельзя было увидеть и пощупать, как невозможно рассмотреть или потрогать бег электронного луча в кинескопе. Но еще долго основой всякой конструкции оставалось земное — твердое, жидкое или газообразное, с колыбели знакомое и привычное вещество.
Только космос раскрыл глаза на его безмерную редкость. На то, что все могучие процессы вселенной имеют совсем иную материальную основу и невозможно идти вперед, опираясь лишь на земной опыт. Так главным стало невидимое и неощутимое состояние материи. Внешне мало что изменилось в Солнечной системе, но руда с астероидов заскользила по гравитационным рельсам, планеты связали электромагнитные шоссе, энергия Солнца потекла к Земле в незримых пучках, а бесплотные машины физиков размахнулись на миллионы километров. Сказка о платье короля, которое якобы мог увидеть лишь умница, неожиданно приобрела второй, не предусмотренный авторами смысл.
Но Магнитный мешок удивлял и ко всему привычных современников. Все в нем было «не таким», начиная с названия. Во-первых, магнитное поле играло в нем отнюдь не главную роль, и слово «магнитный» пристало к нему оттого, что оно было самым привычным. Во-вторых, это был не столько «мешок», сколько «одежда», «броня». И уж если совсем точно — машина. Машина диаметром во много сотен миллионов километров; машина, сама устанавливающая свои границы; машина, в чреве которой находились Земля, и Марс, и Венера; машина, имевшая лишь одну крупную твердую деталь — Шар. И то лишь потому, что в нем иногда должен находиться человек.
— Такое ощущение, — проговорил Радунский, — что стоит лишь оттолкнуться, как тебя унесет в другую галактику. Скажите, если позволяет время, что было главной трудностью при конструировании Мешка?
Корк ответил не сразу. Он, сгорбившись, сидел в кресле, маленький, сухонький, нависал над вселенной, буравя ее взглядом запавших глаз. «Сколько же ему лет? — спохватился Радунский. — Много… И о чем он думает у порога события, ради которого столько лет трудился, — вот что интересней всего. Не спросишь, неловко. И не ответит, все личное, так говорят, давно им отброшено. Аскет, воплощение мысли, неистовый труженик — один из многих… Как об этом напишешь?»
— Все было непросто. — Зябким жестом Корк потер ладонь о ладонь. — А самым трудным было вовсе не конструирование. Преодоление последствий конструирования — вот что.
Радунский кивнул. Он понял, что хотел сказать Корк. Когда-то единственной задачей инженера был сам акт создания машины. Установки. Энергостанции. Корабля. Затем в проектах стала появляться графа: расчет последствий. Инженеры медленно и с трудом привыкли к простой и вроде бы очевидной мысли, что любое творение их ума меняет мир. Как от камня, брошенного в воду, от него расходятся широкие круги последствий. О чем думали создатели первых автомобилей? О чем угодно, только не об удушающем смоге, не о пробках на улицах, дающих пешеходу преимущество перед стосильной машиной. Но эти последствия сказались лишь через полвека. У более поздних поколений инженеров такого разрыва во времени уже не осталось. Выдумать новую машину, сдвинуть гору, перегородить реку оказалось куда проще, чем оценить последствия такого поступка, и расчет производных того или иного инженерного замысла мало-помалу стал главной работой.
Однако Радунский, видя настроение собеседника, промолчал.
— О да, это была проблемка… — Корк вздохнул, и в этом вздохе было все: сожаление о невозвратимых днях, гордость создателя, может быть, глубоко скрытое беспокойство перед решающим испытанием. — Ведь с последствий все и началось. Когда были рассчитаны производные от создания фотонных ракет, то первое из них ставило крест на всей этой затее с полетом к иным звездным мирам. Вам это само собой известно…
— Тяговый луч звездолета должен был светить, как солнце, только в диапазоне гамма-лучей. А это означало бы гибель на Земле всего живого. Так?
— А силу излучения нельзя было уменьшить, иначе бы не хватило тяги. Тогда и возник проект Мешка. Чтобы погасить волну, надо поставить волнолом. То же и с последствиями. Мешок отлично защищал Солнечную систему от радиации звездолета. Но одновременно он экранировал все гамма-источники вселенной, против чего возражали астрономы, вносил помехи в работу межпланетных полей, что и вовсе никого не устраивало. Пришлось Мешок проектировать так, чтобы он включался только при запуске фотонного двигателя. Понимаете, к чему ведет это второе производное?
— Не совсем.
— К третьей производной. Отладить инертную конструкцию Мешка можно только в длительной серии испытаний, а их-то как раз и нельзя было производить без риска расстроить структуру межпланетного вакуума. Оставалось единственное — снабдить Мешок «разумом», который в момент включения сам настроил бы конструкцию на оптимальный режим.
— Задать ему «свободу воли».
— Это и есть третья производная! Погасить ее могло лишь жесткое ограничение: любое действие Мешка, любое его самоусовершенствование возможно и осуществимо, если оно направлено на заботу о человечестве, человеке и его материальных ценностях.
— Мешок в роли няньки — трудное условие.
— Это, знаете ли, была задачка! — Корк оживился, даже черты его лица смягчились. — Тысячи раз казалось, что это невозможно. Что это выше человеческих сил. Что выхода нет и надо расстаться с мечтой о звездах. И все же — вот! Мешок создан, путь к звездам открыт. О чем только пишут ваши коллеги, не понимаю. Ах какая невероятно сложная машина! Ах как замечательно она самопитается от Солнца! Ах какая она огромная! Все это сущие пустяки. Созидать и кораллы умеют. Масштабней, чем мы, кстати, ибо воздвигнутые этими крошками архипелаги относительно куда грандиозней всех наших построек. В этом ли отличие людей от кораллов? Вот о чем никто не пишет.
— Ошибаетесь. Пишут о людях, которые строят.
— Тоже неверный подход. Превозносят личность, а на деле все творит коллективная мысль, чего литература упорно не замечает.
— Потому что она не равняет человека с кораллом.
— Простите, не понял.
— Строя, кораллы возвышают остров, свою обитель — и только. Человек, строя, возвышает сам себя, улучшает не только внешний, но и внутренний, свой, духовный мир. Без этого его функция та же, что и у коралла.
Корк задумался, неподвижно глядя перед собой. Молчал и Радунский. Бежали минуты, неощутимые в неподвижном свете звезд, который был миллиарды лет назад и будет миллиарды лет после, — такой же равнодушный среди черной вечности мира.
Близилось время. По-домашнему мягко пропел сигнал. Корк выпрямился, тряхнул головой, будто освобождаясь от ненужных мыслей. В глазах застыл повелительный холодок. Руки проворно легли на пульт. Резкие черты лица застыли, как в бронзе.
В матовой глубине экрана заскользили какие-то недоступные пониманию Радунского символы. Он искоса глянул на Корка: жесток, замкнут — не подступись!
— Началось?
— Помолчите.
Рогатые загогулины знаков теснились, как солдаты при штурме. «Мешок докладывает, — догадался Радунский. — А что же Корк?… Чем он управляет, если Мешок все делает сам?»
Ответа не было. «Да! Нет. Включилось! Ноль-фаза. Готово. Есть!» — кому-то отрывисто говорил Корк. Его цепкие пальцы лежали на переключателях, словно сдерживая напрягшуюся узду. Радунский поспешно огляделся. Звезды горели по-прежнему. Но где-то в необъятной пустоте — он это чувствовал — творились последние приготовления. Где-то напрягались бесплотные мускулы сверхмашины, неслись тайные команды, некое подобие мысли пронизывало вакуум. И все оставалось скрытым для простого человеческого понимания.
Обострившееся лицо Корка было суровым. Вот так когда-то инженер застывал под мостом, который строил, чтобы пропустить над головой первый тяжело громыхающий поезд.
— Когда же наконец стартует «Фотон»? — вырвалось у Радунского.
— Уже стартовал, — не разжимая губ, ответил Корк. — Сейчас дойдет свет.
Над плоскостью эклиптики полыхнула белая, до рези в глазах ослепительная вспышка.
Но это длилось мгновение. Словно взмах огненной руки очертил вселенную. Не стало тьмы, не стало звезд, всюду простерлось радужное, в переливчатых кольцах, небывалое и прекрасное небо.
— Вот он, Мешок… — прошептал Корк.
Он сидел, устало полузакрыв веки, быть может, тихо ликуя, как человек, сделавший последнее главное дело и чуточку грустный оттого, что другой такой минуты свершения уже никогда не будет. А возможно, все это Радунскому просто казалось, ибо он ждал чего-то другого — жеста, слова, победного блеска глаз.
Над ними пламенела вселенная, и блеск луча звездолета был в ней как сияющий алмаз. «Вот мы какие, — суматошно билось в мозгу Радунского, — вот мы какие!..»
Он искал подходящих слов, но, прежде чем он их нашел, в глаза ударил мрак, такой внезапный и черный, что Радунский, вскрикнув, зажмурился.
— «Фотон», «Фотон»! — Резкий, фальцетом, голос Корка обдал его смятением. — Почему прекратили старт?!
Ответа быть не могло, пока слова не пробегут путь в сотни миллионов километров. Радунский в ужасе открыл глаза. Дважды растерянно моргнул.
Все было обычным. Как всегда, бестрепетно горели звезды, проколотый их лучами мрак был спокоен и глух. Радунский, не веря себе, метнул взгляд в сторону Земли — кроткая голубая звездочка сияла безмятежно.
— Сядьте и успокойтесь! — Звенящий голос Корка приковал его к креслу. — Чего вы мечетесь? Раз Мешок выключился, значит, так надо.
— Но этот внезапный мрак!..
— Мрак! Простая физиологическая реакция глаз после яркого света. Сейчас все узнаем, надо ждать.
Корк стиснул рукой подбородок. Радунский отвел взгляд от его потемневшего лица. Больше не решаясь спрашивать, он молил минуты идти быстрее, так невыносим был тяжкий, впившийся в экран взгляд Корка.
— Говорит «Фотон», — плеснулось из динамика. — Что у вас там происходит? Мешок не дает нам стартовать! Его поле вырубило у нас луч!
Корк, будто защищаясь, поднял к лицу ладонь. Медленно опустил, глядя на возникшие перед ним символы.
— Все, — сказал он глухо. — Четвертая производная.
— Какая?! — подскочил Радунский. — Неужели…
— Нет, безопасность соблюдена. — Голос Корка был деревянным. — Даже слишком.
— Как — слишком?
— Мешок призван максимально заботиться о безопасности человечества и человека. Что он и сделал. Неужели не понятно? Межзвездные полеты опасны, трижды опасны для экипажа. И Мешок в полном соответствии с программой их запретил. Как нянька, ухватил нас за рубашонку, чтобы мы не убегали из дому.
— Да как же так… — растерянно и облегченно, стыдясь своей радости и страдая за Корка, пробормотал Радунский. — Слушайте! Ведь ничего не потеряно! Стоит изменить программу Мешка, исключить заботу о безопасности отдельного человека и…
Он запнулся. Можно ли обеспечить безопасность человечества, не заботясь о безопасности каждого отдельного человека?
— Ага! — с внезапным и мрачным торжеством проговорил Корк. — Теперь поняли, каким трудом дается прогресс?
Он встал, возвышаясь, глянул на притихшего Радунского, который с изумлением смотрел на его решительное, даже помолодевшее лицо готового ко всему бойца.
— Чему удивляетесь? — Губы Корка тронула усмешка. — От неудач мы крепнем. Четвертая производная, так четвертая, и ее одолеем. Вы еще увидите небо в алмазах, в фотонных вспышках то есть, увидите! В конце концов, это обычная инженерная задача…
МГНОВЕНИЕ ЧУДА
Я был ночью один в пустыне, куда меня завел поиск древней тишины.
Это не было следствием путевой ошибки, как можно подумать. Дело вот в чем. Я уже сказал, что была ночь и расстилалась пустыня. Достаточно еще упомянуть о песчаном гребне в отблеске звезд, как перед вами возникает облик местности, где вы никогда не бывали. Это неизбежно, если вы посещаете кино и просматриваете иллюстрации журналов, где вам наверняка попадались подходящие снимки. Фотографический образ мест, которых сам человек никогда не видел, настолько типичен для памяти каждого, что нам трудно представить, как может быть иначе. Так же, наверное, как нашим прадедам трудно было бы вообразить такое вот «заемное» зрение.
И этим, кстати, видение теперешнего человека тоже отличается от видения людей прошлого.
Чего, однако, «заемный» образ не может передать совершенно, так это тишины, которая была вокруг. Стояла редкая тишина. Едва ли не каждый убежден, что ему знакома тишина природы, но это самообман. Чтобы быть подлинной, она должна оставаться долгой и беспримесной, а такую тишину мотор и транзистор сделали гонимей индостанского тигра. Это не преувеличение, если вы посчитаете, сколько раз в самом глухом лесу над вами пролетит самолет. Заповедники для тишины, какой она бывала раньше, не предусмотрены, и скоро она, боюсь, исчезнет совсем, что для нас, историкопсихологов, будет крошечной, но невосполнимой потерей.
Поскольку событие, которое произошло той ночью, связано с моей профессией, скажу о ней несколько слов.
Все, решительно все, включая судьбу Земли, зависит теперь от поведения человечества, а его нельзя понять, предвосхитить, тем более изменить без знания истоков, которые его питают. Меж тем психология «человека исторического» до сих пор туман и догадки. Тут бездна работы, все очень запутано и часто поражает наивностью подхода. Скажем так. Добр человек от природы или зол? Вероятно, вы слышали подобные споры, а то и участвовали в них. Тогда вы зря потеряли время. Исписаны тома, доказующие, что человек изначально зол, и тома, доказующие, что он изначально добр, — с ссылками, как водится, на «безгрешность детей». Спор на таком уровне — типичная схоластика. Толст или худ человек изначально? От столь неграмотной постановки вопроса отшатнется любой генетик. Что главенствовало и главенствует в земном климате — тепло или холод? Бессмыслица! Так никто и рассуждать не станет, а потянется к цифрам изотопного палеоанализа, данным сравнительной планетологии и обыкновенному термометру. Знание невозможно без сравнения, без конкретных вопросов как, где, когда, почему, сколько. Нельзя понять распад атомов, не зная причин стабильности. Нелепо вести геологический поиск, не ведая о происхождении слоев и пород. Прогноз завтрашней погоды всегда опирается на сведения о минувшей. Мы никогда бы не расстались со сказочкой о божественной природе человека без сопоставления его с обезьяной, рептилиями, земноводными и давно вымершими трилобитами. Мы вряд ли разберемся в психике современного человека, в направленности ее изменений, не задавая себе вопроса, какой она была сто, тысячу, миллион лет назад, какие проявления и почему мы получили в наследство от наших звериных предков. Возвышается ли человечество духовно или деградирует? Можно пылко восхищаться прогрессом, и слушатель только хмыкает, вспомнив о пытках где-нибудь в Чили. Я же упомяну лишь об одном факте. Вот текст древнего рецепта по закаливанию стали: «Нагревать кинжал следует, пока он не засветится, как восходящее в пустыне солнце, затем надлежит его охладить до цвета царского пурпура, погружая в тело мускулистого раба…»
Жутковато? А пару с лишним тысячелетий назад этот рецепт буднично и спокойно был высечен на стене одного малоазиатского храма для всеобщего, так сказать, обозрения. И, надо полагать, никого это не возмущало — ни тогдашних мыслителей, ни нежных матерей, ни, быть может, самих рабов.
Но я отклонился. Почему мне нужна была именно пустыня? Не потому, что там на редкость совершенная тишина: в лесу порой прошуршит ветер, в степи прокричит птица, в горах неусыпно бормочет ручей, тогда как в пустыне ночью ни звука. Дело в другом. Есть второстепенные и мелкие проблемы, но, простите за банальность, в картине дорог каждый мазок. По свидетельству древних источников, такие могучие вероучения, как христианство, ислам, будто бы зарождались в ночных размышлениях среди пустынь. Существенно ли это обстоятельство? Или возьмем шире: когда и в какой мере при реконструкции былой психологии надо учитывать воздействие природной среды? Тут возможен разный ответ, но нельзя прийти ни к какому, нельзя погрузиться в обстановку минувшего и, значит, подойти к пониманию того, что было, сидя в комнате, где звонит телефон.
Конечно, легко возразить, что мой эксперимент ненадежен и неточен. Не стану спорить, я и так был полон сомнений, о которых скажу позже. Но как быть, если предмет исследования — это исчезнувшая мысль, забытое чувство, вчерашнее восприятие мира? Если судить о духовной жизни поколений приходится только косвенно — по ее рудиментам в современном сознании, по обломкам материальной культуры, редким и часто искаженным записям? А когда этих свидетельств нет вовсе? Попробуйте-ка восстановить содержание передачи по хаосу ржавых радиодеталей…
Историческая психология, увы, далеко не физика. Здесь едва ли не единственный инструмент познания — собственная мысль. Эксперимент почти невозможен, нет у нас не только синхрофазотрона, но даже простенького осциллографа. Вот и приходится ставить умозрительные опыты, которые у любого добропорядочного экспериментатора-естественника вызывают улыбку жалости. Впрочем, что ж, были века, когда почитался мыслитель в белом хитоне, а фигура в прожженном фартуке удостаивалась снисходительного взгляда. Равновесие должно соблюдаться.
Однако я снова уклонился. Тишина стояла… Оглушительная? Не то слово. Стояла растворяющая тишина. Чувства погружались в нее без остатка, обострялись до предела, как бы пронизывая собой все пространство и образуя с ним единую электрическую сеть, которая отзывалась и на холодный свет дальней звезды, и на сухой запах песка, и на темную геометрию равнины.
Долгое время я лежал, созерцая звездное небо. Не знаю сколько — часы я убрал в палатку, чтобы их тиканье не стало помехой (часы на руке — это уже пульс двадцатого века). Оставалось лишь то воздействие, которое пустыня оказывала на человека и тысячу лет назад. Другое дело, что объект воздействия, то есть я сам, принадлежал не прошлому, а настоящему. Тут ничего нельзя было изменить, и это меня смущало.
Не без причины, естественно. Мысль о столь необычном эксперименте — не хочу отрицать — подал я сам. Но как? Я ее прошептал, склонясь к уху профессора Рокотова, на каком-то нудном заседании, чтобы немного развлечь его и себя. Боюсь, что она была вызвана не столько теми общими соображениями, о которых я упоминал, сколько духотой зала, онемением поясницы и скукой. Во всяком случае, реакция моего учителя и друга была соответствующей. Он хмыкнул, колыхнулся, так что захрустел стул, и мы тихонько заговорили о чем-то другом.
Каково же было мое удивление, когда месяц спустя Рокотов вернулся к моей идее и предложил командировку в пустыню. Кто знаком с Рокотовым, тот знает смелую неожиданность его решений. Но тут даже я замялся. Каким, спрашивается, может быть результат такой поездки? Побуду в пустыне, войду, так сказать, в атмосферу минувшего, а с чем вернусь? С южным загаром?
Ответом было все отметающее мановение пухлой длани, отеческая улыбка и замечание вскользь о том, что я выгляжу усталым и мне необходим свежий воздух.
С тем я и отбыл, твердо убежденный, что и на этот раз от меня ждут нетривиального результата. Рокотов всегда ждал от нас нетривиальных результатов, ибо первой его заповедью было: «Всякий, кто приходит ко мне, — гений, пока он не докажет обратного».
Но каким все-таки может быть итог бдения историкопсихолога под звездами Средней Азии?
Сколько я ни вглядывался в трепетное мерцание Млечного Пути, ничего путного мне в голову не приходило. Понять ход мыслей какого-нибудь Магомета в связи с воздействием на него пустынь? Наивно. Никаких божественных откровений я не узрю, даже впав в галлюцинации. Заведомо не та психология! Созерцая звезды, я при всем желании не мог забыть, что это огненные шары ядерных реакций, что свет оттуда летит дольше, чем длится вся история религий, что все эти светлые точки — солнца других небес, и кто-то живет под их лучами, может быть, думая о том же, что и я.
Правильней было бы не забивать голову размышлениями, что я и попытался сделать, благо пустыня обладает успокоительной властью. Она затягивает, как в омут, где все неподвижно и времени нет, только с забытьем это не имеет ничего общего. Какое там забытье, если чувства отзываются на дробное мерцание звезд, запах остывающего песка, тишину и мрак, а мысли скользят плавно и прихотливо, словно струи над яркими камешками дна, чей узор подобен вязи восточных ковров.
Подобен вязи восточных ковров… Позвольте, а не отсюда ли сама эта вязь?! Почему ни одна лесная страна, где краски природы щедрей и разнообразней, вроде бы не славилась коврами? Может быть, узоры ковров это духовное возмещение цветового однообразия голых пространств?
Столь неожиданная и прихотливая мысль меня позабавила. Ее, как спорную мелочь, вполне можно было выложить перед Рокотовым, если не появится ничего другого.
Рука затекла, заставив сменить позу.
И тут я заметил в палатке свет.
С досадой я подумал, что надо встать, пойти и укротить фонарик. Все экспедиционное снаряжение мне предоставил Рокотов, заядлый, несмотря на свою тучность, бродяга. В числе прочего был и фонарик, длинный, увесистый, заграничный. Свет его обладал прожекторной силой, но что-то в нем коротило, отчего он то и дело самопроизвольно включался.
Все-таки техника не оставила меня в покое даже в этом библейском уголке!
Я встал и пошел. И, не дойдя до палатки, вспомнил, что еще утром вынул из фонаря батарейки, чтобы они ненароком не разрядились. И что, следовательно, фонарик гореть не может.
Смысл ошеломляющего открытия доходит не сразу. Я успел отдернуть полог, прежде чем меня ошпарила очевидная догадка: в палатке нечему гореть!
Почти одновременно я увидел приткнутый в кармашек брезента фонарь. Он горел.
Если я тогда чем и был поражен, то прежде всего своей ошибкой. Раз фонарик горит, значит, я только хотел вынуть батарейки, а в действительности их не вынул, и несовершенный поступок запомнился мне как совершенный.
Все так, другого объяснения быть не могло. Но, протягивая руку, чтобы удостовериться, я уже знал, что оно неверно. Я точно помнил, что вынимал батарейки. Настолько отчетливо и несомненно, что когда я взял фонарик и ощутил в руке легкость полой трубки, то воспринял это как нечто очевидное. Ибо вопреки тому, что часто говорят и пишут, факт порой легче оспорить, чем представление о нем.
Машинально я пошарил в кармашке полога, куда должен был положить вынутые батареи. Они были там. Все три.
И тут мне стало не по себе. Очень не по себе. Ведь в руке у меня светил пустой фонарик!
Не знаю, зачем я вышел с ним наружу. Он исправно озарял пространство, вокруг которого тотчас сгустился мрак.
Я сел и тупо уставился на фонарик.
Передо мной было несомненное чудо.
Человек другой эпохи в подобной ситуации упал бы ниц или убежал без оглядки. Этим я вовсе не хочу его принизить. Конечно, он суеверно поклонялся богам, но наивной веры и сейчас хватает, поэтому могучий взлет космических кораблей не дает нам права смотреть на кого-нибудь свысока. Просто такой скорей всего могла быть тогдашняя реакция на чудо. У меня она была иной: я усомнился в своих ощущениях. Закрыл, потом снова открыл глаза, отвинтил крышку и потряс фонарик в слабой надежде, что оттуда выскочит застрявшая батарейка. А когда она не выскочила, я засунул туда палец, чтобы все-таки проверить, пусто там или нет. Тоже не очень логичный поступок. Излишний, если на то пошло.
Я рассмеялся, может быть, чересчур нервно. Что ищешь, то и находишь! Бога с ангелами, джинна или дракона я увидеть не мог, зато мне явилось вполне современное, как и подобает, техническое чудо…
Дальше я стал размышлять спокойней.
Собственно, что есть чудо? То, что противоречит всем нашим представлениям о мире. Чуда, так сказать, абсолютного не существует. Банальный сегодня телевизор у рационалиста восемнадцатого века, пожалуй, вызвал бы нервное потрясение. С другой стороны, некоторые мои современники, тоже вполне просвещенные люди, склонны полагать чудом Баальбекскую веранду, тогда как сами ее строители считали веранду, разумеется, не чудом, а обычным, хотя и крупным, «производственным объектом». Наподобие Братской ГЭС, что ли.
Столь же противоречиво мы оцениваем и явления природы. Однажды после короткого летнего дождя я залюбовался капельками воды в листьях шиповника. Некоторые, как положено, радужно переливались в лучах солнца, другие оставались холодно-прозрачными. Стоило повернуть голову, как лучистые капли меркли, а бесцветные вспыхивали дрожащим светом. Все было прямо по учебнику, пока в ложбине одного листа я не обнаружил капельку с нежным, словно глазок эльфа, пятнышком лазури на дне.
Там просто-напросто отражалась голубая проталина неба. Все было ясно и понятно, пока я не стал искать другого такого пятнышка. Сколько, однако, я ни менял точку зрения — тщетно; в других росинках ничего подобного не возникало. Среди сотен была всего одна исключительная капля, а найти вторую с тем же голубым донышком влаги оказалось не легче, чем набрести в поле на четырехлепестковый клевер.
Капелька была дивно хороша и загадочна, но мысль о чуде все же не возникла из-за привычной для наших дней убежденности, что все вокруг познано и никаких открытий на расстоянии вытянутой руки нас не ждет. Может быть, и так. Не исключено, однако, что мы заблуждаемся и наш взгляд постоянно скользит по чудесам, к которым у нас пока и ключа нет. Неочевидное и редкое иногда легче зачеркнуть, чем объяснить. Исторически не так давно несуществующими были объявлены метеориты. По очень простой причине: в небесах нет каменоломен, а очевидцы падения — простые люди видят случаем и ангелов. Но если наука отвергает ангелов, то почему она должна верить в метеориты?
И ведь если бы метеориты падали куда реже, чем они падают, раз в сто лет например, еще вопрос: знали ли бы мы о них до космических полетов?
Между прочим, вполне возможны планеты, где дело обстоит именно таким образом.
Я осторожно опустил фонарик на песок. Он продолжал гореть. Я медленно поднял его над головой. Он светил, равнодушно игнорируя все известные мне законы электротехники. Я прошелся с ним: результат тот же. Под ногами беззвучно оседал песок. Все было тихо и неподвижно, только однажды свет вспугнул небольшую змею, которая ртутью проструилась во мрак.
Фонарик был пуст, и он горел. Вывод мог быть только один: источник энергии находится вне фонарика.
Где? С этим вопросом я мог обращаться к звездам.
На глаз я прикинул силу света. По-моему, она была гораздо слабей нормальной. Я достал блокнот и при озаряющем свете чуда записал время события, место и результат своих наблюдений. А что я еще мог сделать? Я даже послушал, не жужжит ли что-нибудь в фонарике. Со стороны мои движения, должно быть, напоминали поступки смышленой обезьяны, в лапы которой попал любопытный, но совершенно непонятный предмет. У меня не было никаких приборов! Впрочем, если бы они и были, это не имело никакого значения. Ни малейшего. Любой мой труд выяснения был заведомо бесполезен.
Потому что наука зиждется на воспроизводимости опыта. Если кто-то, предположим, сделал открытие, то горе ему, если результат повторить не удастся! Объявленное открытие признают мнимым, и оно канет в небытие.
Очень правильный, хотя и жесткий принцип. Иначе трудно, а порой невозможно факт отличить от ошибки, истину от вымысла, знание от мифа.
Проклятый фонарик, однако, горел! Ему было наплевать! Хоть топчи его ногами…
Конечно, чтобы не ставить под удар свою репутацию, благоразумно было бы промолчать об этом феномене. Но легенда о брадобрее, которому под страхом смерти запретили говорить об ослиных ушах царя Мидаса и который, не вытерпев, прошептал тайну ветру, полна глубокого смысла. Свыше миллиона лет люди жили крохотными общинами, едва превозмогали опасности, и секретность в этих условиях была губительным злом. Увидел след хищника скажи, иначе он сожрет твоего соплеменника; почуял дичь — скажи, иначе род останется без пищи. Так везде и во всем. Тайна разъедает доверие, как ржавчина, а без доверия нет общности. Возможно, поэтому так трудно бывает молчать.
Пожалуй, не всякий человек на моем месте воспринял бы ситуацию столь остро. Мы, если уж на то пошло, привыкли к чудесам. Горит пустой фонарик, который вроде бы в принципе гореть не может. Ну и что? Подумаешь, эка невидаль! По телевизору людей с перешитыми сердцами показывали, и о «черных дырах», которые, быть может, ведут совсем в другую вселенную, я что-то слышал, меня фокусами природы не проймешь. Вот мой сосед, растяпа, включил бритву в радиосеть, так она ему музыку заиграла. Брейся, так сказать, под симфонию. Горит себе фонарик — и ладно; кому положено, тот разберется.
Тоже черта современной психологии.
О «черных дырах» и я, как всякий профан, кое-что слышал, меня ими не чересчур удивишь. Но я-то понимал разницу между возможностью перехода в другое измерение и незаконным поведением стандартного фонарика. Впрочем, я находился в положении более выгодном, чем представитель точных наук. Правило воспроизводимости для меня не было святыней. Ведь я обычно имею дело с явлениями, которые нельзя повторить! Ну как прикажете воспроизвести крестовый поход детей или открытие Америки? Поэтому для меня даже единичное свидетельство — это факт, с которым надо считаться. То есть я могу, даже обязан поставить его под сомнение, но в любом случае вывод приходится защищать, не опираясь на упомянутый принцип научного метода.
И еще. Подброшенный камень не может упасть или не упасть, а вот какой-нибудь Цезарь вполне может перейти или не перейти Рубикон. Несопоставимо? Да как вам сказать… Мироздание не знает перегородок. Маленький штрих: биологическая эволюция привела к усложнению прогрессирующих форм жизни. Однако процесс усложнения мы наблюдаем и в социальной эволюции. А в технике разве не то же самое? Мы вот-вот разовьем ее до стадии машинного разума, как некогда природа развила инстинкт до человеческого сознания. Этим я, понятно, не хочу доказать, что красное тождественно синему. Просто это разные участки единого спектра.
Я лег на песок и задумался. В бесконечной тьме неба тлели рассеянные миры дальних галактик. Свет фонаря под этим небом был такой малостью…
Если я заявлюсь к Рокотову с одним лишь растерянным лепетом о «чудо-фонарике», то его, конечно, поразит не само чудо, а моя беспомощность хоть как-то объяснить явление. Это не в традициях нашей школы, даже если проблема требует специальных, далеких от нашей профессии знаний. Ведь приобретение знаний — самое легкое в работе ума!
Надо думать.
Понемногу сквозь сумбур и хаос пробилась некая мысль… Возьмем, подумал я, самый обычный ящик. Сделаем вырез и закроем его матовым стеклом. Под стекло спрячем две лампочки — красную и синюю. Укроем в ящике батарейку и электромеханическое устройство, которое при нажатии кнопки (ее выведем наружу) в случайной последовательности включало бы то одну, то другую лампочку. С тем хитрым условием, однако, что на миллион включений синей лампочки в среднем приходилось бы одно включение красной. Опломбируем ящик, чтобы его нельзя было вскрыть.
Теперь снесем его в любой институт и попросим определить закономерность его функционирования. Так как вскрыть ящик нельзя, то экспериментатору не останется ничего другого, как нажимать кнопку, дабы выяснить, что из этого воспоследует (подобным образом, кстати, мы изучаем собственную психику, да и не только психику).
Сколько раз экспериментатор нажмет кнопку? Сто, тысячу, но не миллион же? И всякий раз в окошечке будет аккуратно вспыхивать синяя лампочка. Понятно, что самый дотошный экспериментатор в конце концов с чистой совестью подпишет такое заключение: «Данное устройство (ящик неизвестной конструкции и неизвестного назначения) функционирует таким образом, что нажатие на кнопку вызывает вспышку синей лампочки».
Может, однако, случиться, что однажды у него вспыхнет не синяя, а _красная_ лампочка. Что сделает экспериментатор тогда? Разумеется, он повторит опыт. Он нажмет на кнопку еще сотню или тысячу раз. Но красная лампочка больше _не вспыхнет_.
Это его скорей всего крайне обескуражит. Невоспроизводимый опыт, шутите? Как быть?
Все мы прекрасно знаем, как в таких случаях быть. Студентов учат, что если одна точка замера не укладывается в график, то ею разумно пренебречь. Погрешность эксперимента! Если ее нельзя списать на неисправность аппаратуры, неточность методики, ошибку наблюдателя, то это вовсе не значит, что ее нельзя списать вообще. Очень даже можно. В каждой области науки есть свои испытанные объяснения таких вот взбрыков: в электронике, например, — сетевые наводки, в химии — недостаточно чистый реактив. Еще каждому опытному экспериментатору знаком «эффект табуретки». Переставил что-нибудь постороннее — и явление пропало. Вернул все на места — пошло! Кстати, можно и вообще не обращать внимания на всякие там фокусы и помехи. Думаете, до Рентгена никто не наблюдал рентгеновских лучей? Наблюдали!
Так что беспокоиться не о чем: спишут!
А если даже не спишут, а запротоколируют, то и из этого ровным счетом ничего не воспоследует. Никто и нигде не ставит миллионы проверочных опытов с единственной целью подсечь вспышку «красной лампочки». Потому что это дорогая и, главное, бессмысленная трата времени: закон природы потому и закон, что, повинуясь ему, подброшенный камень _всегда_ падает вниз. А при такой постановке вопроса обнаружить «красную лампочку» практически невозможно. Замкнутый круг: чтобы отыскать редкий феномен, надо быть убежденным в его существовании, а эта убежденность может возникнуть лишь когда феномен обнаружен и подтвержден по всем правилам научной методики.
Поэтому можно предположить существование такого класса явлений, который заведомо находится вне поля зрения современной науки. В силу неполноты, чрезмерной жесткости ее методологической основы.
Правда, если допустить такое, тогда следует допустить и то, что некоторые, а возможно, и все законы природы управляют событиями не так, как мы думаем. В миллионах, миллиардах или триллионах случаев они тиражируют стандартный результат, а в одном… _загорается пустой фонарик_!
Только мы этого уловить не можем. Хотя как сказать! Существует такая область науки, в которой серии из многих десятков, сотен тысяч наблюдений — обыденность. Это ядерная физика, и там, если не изменяет память, в опытах с к-мезонами или с чем-то подобным наблюдаются реакции, которые в одном случае из тысяч текут иначе, чем в остальных. Особое свойство микромира? Или же…
Мысленно я сам себе зажал рот. Вот до каких _покушений_ доводит все растущая в человеке страсть докапываться до первопричины!
Именно страсть. Вовсе не обязательно, что мой феномен требует пересмотра научных принципов. Вообще не исключено, что для физиков все мои рассуждения лишь общее место какой-нибудь теории вероятностей. И, быть может, специалист-электротехник, повертев в руках мой фонарик, спокойно заметил бы, что вблизи мощного источника радиоволн лампочка способна гореть сама по себе. И что, следовательно, остается выяснить, откуда такой источник взялся _здесь_.
Я же сразу взялся за сочинение всеобъемлющей теории чудес… В этом, конечно, было виновато одиночество среди пустыни. Здесь я не мог прибегнуть к консультациям, сложить ответственность на кого-то более сведущего, ибо не было никакой надежды довезти фонарик до лаборатории, его свет слабел на моих глазах. Я просто обязан был дать волю фантазии, чтобы одолеть мучительное чувство беспомощности.
Что я и сделал, разработав логичную теорию непонятных явлений. Теперь, по крайней мере, не будет стыдно докладывать о происшедшем.
Одному Рокотову, естественно, потому что не останется никаких доказательств чуда, а без них никто посторонний мне просто не поверит. И будет прав. Время, когда бредовое откровение могло возбудить умы и стать основой учения миллионов, к счастью, прошло безвозвратно. Сейчас даже в самом застойном уголке Земли любой порок новой религии, чтобы рассчитывать на серьезный успех, должен выдавать ее за вывод науки, да и то эта спекуляция недолговечна. Будет совсем прекрасно, когда и такой грим никого не обманет.
Но, вопреки заведомой обреченности моих выводов, я был счастлив и горд. Обстоятельства бросили мне вызов, я его принял и смог вывести теорию, до которой никто не додумался. Верна она или неверна, не имело значения. Внутренне она была непротиворечива, а это значило, что мой ум поработал неплохо.
Ночь была все такой же черной, но в ней неуловимо чувствовалась близость рассвета. Звезды учащенно мигали над горизонтом, который на северо-востоке стал чуть яснее, чем был. Неожиданно для себя над дальней цепью холмов я обнаружил четвертушку луны.
Из какого-то озорства я направил луч фонарика отвесно вверх. Он почти бесследно растаял в чистом воздухе ночи. Все равно он прорвался — я знал это — сквозь атмосферу и ушел в космос. Через сто или тысячу лет одинокий квант этого луча обязательно достигнет какой-нибудь планеты, быть может, коснется другого глаза и исчезнет бесследно.
Не так ли исчезает всякая мысль? Нет, не так. Все мы слушаем давно умолкшие голоса, читаем слова, написанные тысячелетия назад, а ведь и в них отложилась мысль тех, кто жил раньше и не оставил после себя ни строчки. И эта мысль отзывается в нас.
Со смешанным чувством досады и грусти я следил, как меркнет свет фонаря. Все же я на что-то надеялся. Все же мне жаль было своих построений. Каждый стремится к истине, это так понятно, и трудно свыкнуться с тем, что конечной истины быть не может. Особенно когда мерещится, что ты обрел ее, как якорь, который всегда удержит.
Но якоря бросают не затем, чтобы корабль обрастал ракушками. Если мое построение мнимо, то в умолчании потери нет. Если оно верно, то и тогда нет потери, кроме личной славы. В этом случае рано или поздно другой фонарик вспыхнет в куда более благоприятной обстановке или что-то иное подаст весть о существовании тех глубин природы, куда я ненароком заглянул. Существующее неизбежно становится фактом, это лишь вопрос времени, хотя порой и долгого. Наша история началась не вчера, не с культуры шумеров и даже не тогда, когда первый камень высек искру. В ней много чего было и много чего будет, и судьба какого-нибудь принципа всего лишь частный эпизод. Ведь любые принципы науки только подсобный инструмент главной работы возведения мира, в котором всякий человек мог бы ярко раскрыть себя, творить, действовать, находить удовольствия, жить долго и счастливо без утеснении и катастроф, а когда истечет срок, уйти спокойно и тихо, как вечером погружается в желанный сон.
Другой задачи у нас, в сущности, нет.
Все же было грустно, что фонарик гаснет и надо расставаться с чудом.
Блеклый свет зари понемногу залил пространство пустыни, и серпик луны таял в нем, как опущенная в воду льдинка.
Нить лампочки уже едва тлела.
Я повертел фонарик, разглядывая его в утреннем свете. И лишь тут заметил одну несообразность, которая ночью была не видна, а раньше не обращала на себя внимания. Весь фонарик был сделан изящно, только промежуток между рефлектором и трубкой казался неоправданно удлиненным, словно в конструкцию было зачем-то добавлено широкое переходное кольцо. Чуть большая в этом месте грубость отделки при небрежном рассмотрении не бросалась в глаза, но сейчас она поразила меня, как гром.
Неужели…
Секунда лихорадочных усилий — блеснула двухсторонняя резьба, и фонарик распался на полую трубку, рефлектор… и тайную, размером с пуговицу батарейку в переходном кольце.
Вытаращив глаза, я уставился на нее, на нехитрый механизм обманного включения, пока до сознания не дошел смысл поставленного надо мной опыта.
Я подавился от нервного смеха. А что оставалось делать? Сердиться, негодовать на столь удачный экспериментальный розыгрыш, который столкнул меня с чудом и разъяснил, как современная психика отзывается на столь частую в былой истории ситуацию? Рокотов жаждал нетривиального результата, и он его получил. Но разве я остался внакладе? Вот уж нисколько! Вызов обстоятельств заставил меня думать, как никогда в жизни, а ведь интересные мысли приходят так редко…
Из-под края земли брызнул луч солнца. Я поднял голову. Все отбросило тени, и все они разом скользнули за горизонт. Моя тоже перечеркнула пустыню; был тот редкий миг, когда тень человека может спроектироваться на космос.
ПРАЗДНИК НЕБА
Снег во мраке белел, как шкура приникшего к земле зверя.
Это поразило Гордина. Всю долгую ночь снег был тусклым покровом, был опорой для лыж, был вихрем, который сбивал воздух в колючее месиво. Никогда в нем не было живой настороженности зверя, а теперь она была, или чувства жестоко обманывали, чего Гордин не мог допустить, ибо привык подчинять их строгой дисциплине рассудка.
Чтобы отвлечься и проверить себя, он глянул вверх. Вид морозного неба был угрюм. Звезды не мерцали, оледенев, будто холод Земли простерся на Млечный Путь. И хотя все было наоборот, Гордину показалось, что он стоит под колпаком полярного насоса, который, испаряя тепло укутанного в одежды тела, также мерно студит все дальние уголки Галактики.
Зябко передернув плечами, Гордин обернулся. Все было как всегда. Подслеповато желтели замороженные окна станции, а вокруг расстилалось темное, без единого проблеска поле. Однако впечатление настороженности не исчезло, наоборот. Едва различимый снег продолжал жить своей чуткой, отдельной от человека жизнью. В нем все было ожиданием.
«Мерещится, — с неудовольствием подумал Гордин. — Сенсорный голод! Мало впечатлений, однообразие, ночь… Надо возвращаться».
Он успел сделать всего несколько шагов.
— Не продолжай! — порывисто перебила девушка. — Хочу сама догадаться…
Недоуменно посмотрев, Гордин умолк. Она ничего не заметила. Подтянув колени, она замерла, полулежа в уголке дивана. Ее глаза потемнели. Узкие брючки натянулись, высоко открыв лодыжки. Указательный палец, требуя сосредоточенности, коснулся губ. Гордин смотрел на нее со счастливой оторопью восторга. Сквозь шторы пробивался далекий гул уличного движения, и только он нарушал молчание комнаты.
— Знаю!
Гордин вздрогнул.
— Снег ожил. Да?!
— Да, — сказал он растерянно. — Но откуда…
— Оттуда! Продолжай. Как ожил? Вероятно, это было замечательно и ни капельки не страшно.
— Еще бы. — Гордин подавил улыбку. — Страшна злонамеренность, а ее в природе нет. Строго говоря, — поспешил он уточнить, — вспыхнуло обычное полярное сияние. Но снег действительно ожил. До последней снежинки — весь!
Она, словно торопя рассказ, подалась вперед, и это подстегнуло Гордина.
— Знаешь, Иринка, — быстро заговорил он. — Никому не поверил бы, что так может быть. Никому. Но так было! Сияние в полярных широтах не редкость. Снег и раньше переливался, но… А тут — вся в сапфировых тенях — шевельнулась равнина. Поползла. Это как… как сон детства, помнишь? Я обмер, а потом закричал от восторга. Снег стал… То есть, конечно, это был всего лишь беглый отсвет сполохов, но… Представляешь, снежная равнина потягивалась так, что сугробы ходили серебристыми мускулами, то вдруг замирала, а потом взблескивала сухой россыпью искр… Впрочем, что я, совсем не так! Снег у меня похож на шаловливого котенка…
— А это был зверь, — тихо сказала девушка.
— Именно! Огромный, потягивающийся, такой, знаешь ли, с полконтинента, очень чужой, изумительный зверь. И добродушный. Он… радовался свету! И опять не то… — Гордин сморщился. — Не могу этого передать, не могу!
— Ты очень хорошо рассказываешь, — сказала она убежденно. — Я вижу все это. Слова — не важно…
— Нет, нет. Все бледно, вычурно, плоско… — Гордин вскочил и зашагал по комнате. — Как скуден наш язык! Небо… А, все чепуха, что об этом пишут! Был праздник, не наш, природы; это трудно вместить. Мне хотелось петь — мне! — он с недоумением покачал головой. — Как я жалел, как жалел, что тебя не было рядом…
Она быстро кивнула. Он порывисто шагнул навстречу ее сияющим глазам.
— Слушай, ведь это возможно! Есть самолет, у тебя будут каникулы…
Он споткнулся, увидев, как погас ее взгляд.
— Нет, — сказала она торопливо. — Нет.
— Почему?!
— Просто так.
Проворным движением она спрыгнула на пол, босая, с упрямством на лице глянула на него, тут же потупясь.
— Прости. — В ее голосе дрогнуло раскаяние. — Ты, может, подумал… Все не так. Я не хочу — понимаешь? — видеть чужой праздник.
— Чужой?
— Да.
— Ира, я не понимаю.
— Думаешь, я сама понимаю? Видеть то, что видел ты, — хочу. Жажду. И боюсь.
— Чего?
— Горечи. Отравы. Тоски.
— Что ты, Иринка, какая горечь?! Ну да, второго такого праздника, вероятно, не будет. Но хорошего красивого полярного сияния дождаться можно. Вопрос времени. И никто — слышишь? — никто не разочаровывался.
— Я же не об этом… Праздник. А потом?
Как была босиком, она прошла к окну, отдернула штору и стала, понурясь, у окна.
— Видишь?
А Гордин ничего не видел, кроме ее узких, как у подростка, поникших плеч, беззащитного затылка под короткой стрижкой волос, — он точно ослеп от нежности. Наконец очнувшись, заставил себя приблизиться.
Из окна открывалась вечерняя перспектива микрорайона с неизбежными прямоугольниками домов, асфальтовыми дорожками, аккуратными, по линеечке, газонами, яркими пятнами ртутных фонарей.
— Видишь? — повторила она.
Да, он видел это тысячи раз. Отсюда и из окон других квартир, потому что там, в общем, было то же самое. Вид был привычен, как повседневная одежда прохожих.
— Объясни, — сказал Гордин в совершенной растерянности. — Я все еще ничего не могу понять.
— Значит, не видишь, — сказала она просто, как об очевидном для нее факте. — Ладно, оставим это. Обычная девчоночья дурь, ничего там нет, и говорить не стоит.
— Ирушка-врушка. — Он сжал ее локоть. — Начала — говори.
— И скажу! Вот я увижу твое полярное сияние. Его краски, от которых хочется петь. Так? Увижу и унесу это в себе — сюда… — Взмахом руки она очертила горизонт. — Какими глазами я буду смотреть тогда на эти однообразные коробки, застывший ранжир, унылую геометрию? Какими? Или я могу что-то изменить, приблизить это к тому? Нет. Я не могу, и вряд ли кто-нибудь при нас сможет. Тогда зачем? Чтобы острей сознавать свое бессилие? Скудность средств? Уж если сейчас мне тошно от серости, то что же будет тогда?
— Вот оно что! — ахнул Гордин. — Но тогда, тогда…
Он умолк в смятении. Не слова его поразили — голос. Ему передалась боль, которую он сам никогда не испытывал, не подозревал даже, что она есть. Настолько не подозревал, что если бы рядом стояла не эта расстроенная, наивная, лучшая в мире девчонка, а кто-то другой, он усмехнулся бы снисходительно: мне бы ваши заботы!
— Будем логичны, — сказал он решительно. — Если тебя настолько удручает тусклость города, что ты боишься взглянуть на прекрасное, то, следуя этой логике, надо отказаться от посещения музеев, зажмурясь, избегать красивых пейзажей, зданий, лиц. Нелепо для будущей художницы, ты не находишь?
— Нелепо. — Она коротко вздохнула. — Дело в том… Это разные вещи. Я говорила о желанном… и недостижимом. Желать невозможное — это… это… Лучше не надо! А ты говоришь о доступном. Хотя… Часто ли горожанин видит красоту искусства, природы?
— Должно быть, редко.
— Вот! Девяносто девять дней из ста у него перед глазами это. — Она кивком показала на окно. — И это. — Она мотнула головой в сторону комнаты. — Ах да, еще телевизор. В чем же тогда назначение искусства? Не в том ли…
— Сейчас строят лучше.
— Так я же не обвиняю, я совсем, совсем о другом! Ленинград строили замечательные архитекторы, наши, иностранные — целый век. А теперь на большее отпущены годы, все взвалено на талант одного поколения, прыгай выше себя, как хочешь. Мы отстали, отстали со своими кустарными средствами, камерным мышлением, традиционным подходом. Порой я с вожделением смотрю на стены, брандмауэры…
— Брандмауэры?
— Вообще на все эти глухие плоскости, куда так любят налепливать жестяные плакаты с рекламой такси и сберегательных касс. Отдать бы их под фрески, мозаику, витраж! Ведь рисунок на выставке, который видят тысячи, — это же теперь искусство для искусства! Оно должно быть на перекрестках, в гуще, с людьми, как… как тот же телевизор. Не ново, конечно, и тоже не выход, а что делать? Что? Вы, физики, расщепляете у себя какой-нибудь атом, и мир тут же меняется. А у нас все те же краски, та же кисть… Иногда я спрашиваю себя: зачем я учусь, кому надо мое рукоделие, не самообман ли все высокие слова о великом назначении искусства? То, что делаем мы, так мало, так неощутимо…
— Ты маленькая фантазерка, — пробормотал Гордин.
— Вероятно, я просто не знаю, чего хочу. — Ее губы дрогнули. — Мне говорили, что это от молодости и что это пройдет. Возможно.
Она слабо улыбнулась. На ее лице запали серые уличные тени. Сейчас она и вправду казалась ребенком, которому посулили жар-птицу, а дали пестренького, из пластика, попугая. Гордин порывисто обнял ее поникшие плечи. Она не сопротивлялась. Она никогда не сопротивлялась. Но это была обманчивая покорность. Так можно пригладить, обнять молодую елочку и все время чувствовать в ее податливости колкую упругость хвои. И все-таки он медлил, ибо когда она была вот так близко, у него кружилась голова, и он всякий раз надеялся, что на этот раз все будет хорошо.
— Иринка…
Не получив ответа, он наклонился и осторожно поцеловал ее. И ощутил обычное полусогласие-полусопротивление, которое так часто сводило его с ума. Ее губы жили словно отдельно от мыслей, рассеянных, причудливых и далеких.
Так они замерли, а потом она высвободилась тем неуловимым движением, каким освобождалась всегда, и прошла в глубь комнаты, ничуть не смущенная мгновением поцелуя, будто его и не было вовсе, — просто подставила щеку теплому ветру.
Гордин зажмурился.
«Да что же это такое?» — думал он в отчаянии.
Так было с самой первой встречи, с того вечера на холмах, когда он впервые поцеловал ее, а она вдруг безутешно расплакалась, и это было так искренне, горько и неожиданно, что он не знал, куда деться от стыда и страха, что спугнул, оскорбил чувство уже дорогого и близкого ему человека. Вскоре, однако, ее слезы высохли, она сама взяла его за руку, и они пошли дальше по крутым холмам над городом и даже болтали о чем-то несущественном. А когда он робко поцеловал ее снова, она послушно ответила, слабо поддалась его ласкам. Но он не смог принять этой молчаливой покорности, потому что сильней всего хотел, чтобы меж ними не осталось и тени облачка, а было лишь безоглядное счастье порыва. Все другое показалось ему тогда нечестным и оскорбительным.
В тот вечер, уже в дверях, она неловко и смущенно поцеловала его сама. И это был ее единственный порыв к нему, да и то, очевидно, порыв благодарности.
Теперь она стояла посреди комнаты, глядя на свой незаконченный набросок углем, но трудно было сказать, видит ли она его.
— Ира, — сказал он осевшим голосом. — Я же тебя люблю. Ты будешь смеяться, но, когда я вижу вдали похожую на тебя девушку, даже такие, как на тебе брючки, мне становится жарко. Мы так давно не виделись, я, быть может, снова уеду… Я люблю тебя! Я — я даже твоего медвежонка люблю!
Страдая от неуклюжести своих слов, от немоты ее лица, он перевел взгляд на этого пушистого медвежонка, который, как добродушный страж, всегда сидел над изголовьем ее постели. И она тоже глянула на медвежонка. Потом их взгляды встретились, и оба облегченно улыбнулись. Он — потому что ему стало тепло от ее доверчивого взгляда, она…
— Вот, — сказала она, снимая медвежонка со столика. — Бери, он был со мной, сколько я себя помню. Это мой друг и, может быть, хранитель, — добавила она серьезно. — На!
Она протянула ему медвежонка, и он по выражению ее лица понял, что сейчас ему остается только уйти. И еще он понял, хотя сам не знал откуда, что после его ухода она будет плакать. Но что это ровным счетом ничего не изменит, а почему так, никто в мире и она сама ответить не смогут.
Он схватил медвежонка и ушел, не оборачиваясь.
Сначала он почти бежал, потом, замедлив шаг, обернулся. В доме еще горели окна, но видел он только одно. Нелепо, непоправимо ему вдруг захотелось стать на колени…
Его передернуло от стыда унижения. Он обернулся, словно кто-то мог подсмотреть его мысли.
В столь поздний час двор был безлюден, только в дальнем конце его какой-то пудель прогуливал своего хозяина да у крайнего подъезда замирал дробный стук каблучков. Там хлопнула дверь. Внезапно Гордин увидел себя со стороны: отвергнутый полярник, магнитофизик, кандидат наук перед окном одиноко грезящей девушки; современный рыцарь с плюшевым медведем в руках…
«Я — магнитофизик», — повторил он, и слова прозвучали бессмысленно, как если бы он оттитуловал себя бароном.
Он круто повернулся и, расправив плечи, пошел широким решительным шагом, как будто на все, решительно на все ему было наплевать. Вот так! Щеки его горели. Пусть грезит, плачет или втихомолку посмеивается — наплевать. Достаточно, хватит! Теперь сам пропитанный запахом красок, скипидара воздух ее комнатки показался ему оранжерейным. Удушливым после сурового ветра полярных широт.
Асфальт уверенно разносил твердое эхо шагов. «Пусть остается, пусть!» — повторял Гордин с тяжелым злорадством.
Что-то помешало упругому взмаху руки: медвежонок! Тот самый медвежонок, которого он, не заметив, запихал в карман куртки. Голова медвежонка высовывалась наружу, и бусинки его глаз поблескивали любопытством, словно он радовался нечаянной прогулке.
Первым движением Гордина было выкинуть пушистую игрушку. Пальцы уже погрузились в мех…
И тут Гордина скрутила боль. Медвежонок, казалось, еще хранил тепло ее рук. Он был ее частицей. Ему, медвежонку, она поверяла свои маленькие девчоночьи тайны. Ему рассказывала о свиданиях с ним, Гординым.
Гордин тяжело опустился на скамейку пустынного в этот час сквера. Скамейку затеняли деревья — именно такие укромные уголки он выбирал, когда был с Ириной, когда невмоготу было ждать, когда он еще надеялся, что стоит только покрепче прижать ее к себе… Да что же это такое, в конце концов?! Он плох? Вроде бы нет. Совсем безразличен ей? На такой же скамейке меж двумя поцелуями она как-то проговорила в задумчивости: «А ведь однажды я обещала себе, что никогда больше не буду целоваться…» Это прозвучало признанием, но тоже ничего не изменило.
Почему?! Почему?!
Гордин вытащил медвежонка и усадил его себе на колени. Темные бусинки глаз смотрели теперь безучастно. Ничто не вызывало в Иринке такого внутреннего протеста, как попытка усадить ее на колени. Иногда он делал это назло, пользуясь тем, что она никогда не вырывалась, не шептала обычных девчоночьих слов: «Не надо… Отпусти!» Оставаясь в его руках, она просто отдалялась. Это не было, не могло быть любовью.
Он оторвал взгляд от бесхитростных глаз медвежонка и с усилием запихал его обратно в карман. Над подстриженными кронами деревьев стлалось мглистое, желтоватое, как старый войлок, ночное небо. Через улицу напротив одиноко горела надпись «Гастроном», и ее зеленоватые блики неподвижно застыли на шершавом асфальте. В воздухе еще держался запах отработанного бензина, и в сквере он был даже сильней, словно земля впитала его своими порами. Все, даже небо было так зажато хмурыми в полутьме зданиями, что Гордин внезапно ощутил тесноту, от которой отвык среди безоглядных просторов Севера. Почти с нежностью он подумал о ясной, простой, суровой жизни, к которой мог вернуться, и это придало ему решимости.
Любовь, ха!.. Он не томный идиот Вертер, чтобы бесконечно страдать и мучиться. Любовь — важно, но есть дела поважней, и они его ждут. Он физик, и для него не секрет, что самое тонкое, запутанное чувство всего лишь сложный узор электрохимических связей головного мозга, который — дайте срок! — будет разложен и замерен по всем параметрам. Тогда ему и ей после первой же встречи дадут в руки умный прибор, и этот бесстрастный анализатор зарегистрирует совпадение или несовпадение каких-нибудь там психорезонансов. Все станет просто, как замер потенциала в цепи, и не будет больше сомнений, вздохов, тайн, ничего, ничего, кроме колебаний стрелок меж сомкнутыми руками двоих. И в случае чего, вот тебе таблетка — забудь… Прием три раза в день, полная гарантия и никаких вредных последствий! Да, да, гормональные стероиды избирательного действия. Как инсектициды.
А может быть, умудренный наукой психолог, пощелкав на компьютере, кивнет ободряюще: «Ничего, ребята, попробуем довернуть вот эту фазу, авось сладится…»
И какая-нибудь Иринка двадцать первого века кивнет в ответ: «Хорошо, я попробую…»
Так все и будет, наверно, а пока этого нет, он, Гордин, может и должен уйти — совсем. И когда ей станет плохо с другим, пусть вспомнит…
При мысли о другом — с ней, у него почернело в глазах.
Невозможно, невозможно! Она же ребенок, просто ребенок, который сам не знает, чего хочет. Может быть, сказочного принца, который никогда не придет. Или волшебной палочки, которой заведомо нет. Такие выходят из детства с трогательной пыльцой на крылышках, не зная, что жизнь груба и приземленна. Мир задыхается от нехватки красоты — это надо же!
Насупясь, он придирчиво оглядел прямолинейные дорожки сквера, подстриженные кусты, перевел взгляд на серые стены панельных домов, грубый пластик балконных ограждений, рыхлое мутное небо над плоскими крышами. Да, то же самое можно увидеть где угодно. Вполне стандартный городской пейзаж. Ну и что? Это жизнь. Одна сторона жизни. Ликующие краски полярного сияния — другая. А всего этих сторон и граней — тысячи тысяч. Жаль, конечно, что их нельзя сочетать по желанию. Северное сияние здесь все бы преобразило — и эти дома, и этот сквер, возможно, и лица. Как взмах волшебной палочки… Только фонари должны быть погашены, чтобы не мешали.
И будет праздник, которого ты не захотела видеть, чтобы не растравлять себя. Здесь, у твоего дома.
Вот бы вместо букета кинуть ей в окно, когда она будет с тем, другим… На, получай мечту!
А что? Любовь — скрытый бег электронов, и северное сияние тоже бег частиц, которые, мчась от Солнца, тормозятся в магнитосфере. Никакого волшебства, обычный физический процесс возбуждения ионов газа. Настолько в своей сути элементарный, что сияние можно вызвать искусственно. Собственно, это уже не раз делалось. Вспрыснуть с запущенной ракеты пучок электронов на нужной высоте — и готово. Установки есть, метеоракеты имеются, все опробовано, одна закавыка: искусственное сияние доступно лишь зрению прибора, такое оно чахлое. Сделать настоящее, вполнеба, силенок нет. Это не бомбой шарахнуть…
И все же через десять или через сто лет другой магнитофизик спокойно явится к своей девушке с полярным сиянием в руках — на!
Так будет. Даже сейчас можно попробовать соорудить какой-нибудь аппаратик для домашнего употребления. Такой маленький, комнатный… Вот тебе, дорогая, волшебная для личного использования палочка…
Гордин с отвращением передернул плечами. Что за бред! Сорву звездочку с неба — только улыбнись… Возмечтал, идиот. Как мальчишка. Тоже мне рыцарь в нейлоновой куртке… На что замахнулся — не на дракона даже! Просто смех. Не позорься перед самим собой, ты же физик. Сияние — это небесный размах, сила, мощность, обвал энергий…
Обвал? Ну да, ведь сияние связано с цепным процессом возбуждения…
Тогда при чем тут мощность, размах и сила? В самом деле — при чем?!
Камешек страгивает лавину — цепная реакция; нейтрон возбуждает атом — цепная реакция; квант света преобразует раствор — цепная реакция. Мир полон цепных реакций, обвалов, лавин, для которых достаточно камешка. И полярное сияние тоже, тоже!
Тоже!!!
Как странно, что об этом никто не подумал. Как странно, что все прошли мимо. Как хорошо, что никто не заметил… Ведь так просто! Запас энергии есть везде, и над этим городом он есть, надо лишь стронуть, возбудить, подтолкнуть… Как?! Чем?! Не обычными электронами, конечно… Конечно…
Природа щедра, распахнута, многолика, всюду возможности, им нет числа, их бездна, взглядом нельзя охватить, все можно в этом доступном мире, все! Ни края, ни предела, всюду бесконечность, во всем, на миллионы лет — и дальше, а там еще, в ней есть что угодно, близко, далеко, рядом, в недоступности, только есть, есть…
Он сидел с широко раскрытыми невидящими глазами. Где-то глубоко нарастал давний и раньше знакомый холодок волнения, когда вдруг, словно ниоткуда, в сознании проступает нечто смутное, неуловимое, потом яснеющее, будто все уже существует, надо только уловить, напряженно вглядеться, не спугнуть, дать созреть, выделиться из мрака, где только что не было ничего, совсем ничего, а теперь есть, столь же реальное, как дерево над головой, как песок под ногами, как биение собственного сердца.
Узнавание. Вот на что это более всего похоже — на узнавание. Тяжелое, сладкое, выматывающее узнавание, от которого легко и мучительно, трудно и радостно, холодно, жарко, странно, тревожно, божественно, все вместе, и что-то сверх того, чему и названия нет, но что приподнимает в порыве блаженного всемогущества.
Нет, однако, полной отрешенности ни от чего — ни от дальнего скрежета трамвая, ни от беглых побочных мыслей, ни от жесткого неудобства скамейки, только все это скользит вдали, не мешая.
Он сам не знал, сколько просидел так, а когда все схлынуло, ушло, оставив в душе сладкую опустошенность, он глянул на часы: начало третьего!
Гордин расслабленно потянулся. Вскочил. Познабливало то ли от ночного холодка, то ли еще от чего.
Мир показался ему удивительно новым. Все спали, видели сны и не знали, что в эту минуту… С чувством превосходства Гордин оглядел темные, зашторенные окна. Похлопал себя по карману, где лежал медвежонок. Стеклянные физиономии окон смотрели надуто и подозрительно, как будто их обязанностью было бдить, пока хозяева спят. Непонятно, отчего ночные окна имеют такой вид; теперь Гордин вспомнил, что они всегда провожали его таким взглядом, когда он поздно возвращался домой. Он весело хмыкнул: погодите, я еще заставлю вас улыбаться! Вы будете отражать у меня то, что я захочу; вы, угрюмые стекляшки, слышите?
Он быстро, казалось, летя, зашагал к дому и с презрением отвернулся от зеленоватого огонька такси, когда оно вынырнуло из-за поворота и выжидающе замедлило ход. Это была его ночь, он ни с кем не желал ею делиться. И хотя он подозревал, что утром все найденное им покажется не таким, как сейчас, совершенным, и многое придется трудно, без вдохновения передумывать, он был убежден, что главное сделано, а все остальное лишь вопрос времени, настойчивости и усилий.
«А ведь, похоже, я нашел средство от любви…» — подумал он мельком, улыбнулся и прибавил шаг.
Дверь нехотя подалась и пропустила Гордина в кабинет, где над длинным столом еще не осел густой папиросный дым недавнего совещания. Переходя из кабинета в кабинет, Гордин успел повидать их столько, что все они слились для него в один мучительный образ, центром которого был стол, либо гладкий, как полированный лед, либо заваленный торосами всевозможных бумаг.
Здесь стол был гладким. Поправив тяжелую папку в руке, Гордин приблизился.
Седой хозяин кабинета, лицу которого тяжелые модные очки придавали вид неприступности, что-то коротко и веско говорил в телефонную трубку. Кивком головы он показал Гордину на кресло. Устало положил трубку на рычаг, помассировал переносицу и лишь тогда взглянул на Гордина, будто припоминая, кто это и зачем. Тотчас выражение его лица переключилось на суховатое внимание.
— Здравствуйте. Что у вас?
Гордин уже знал, что таким вот беглым, на деле цепким взглядом с первой же минуты оценивают его самого и что, как правило, от первого впечатления зависит многое, потому что, люди в таких кабинетах обычно умеют сразу определить деловую суть человека. С их точки зрения, деловую, конечно. Поэтому, не тратя лишних слов, ибо ничто так не раздражает занятого собеседника, как пустые разглагольствования, он протянул заранее вынутую из папки бумагу.
— Так, так… Заявка на осуществление искусственного полярного сияния… Ходатайство поддержано Геофизическим комитетом, решение за номером… Так! Средства на расширенный эксперимент выделены по смете… угу… Предполагается осуществить в районе города… Почему не на Севере? Согласно документу предварительные опыты вы ставили там, и было бы логично…
— Наоборот. На Севере полярные сияния и без того есть. Важно попробовать вызвать их там, где их практически не бывает.
— Это другое дело. А почему именно в данном районе?
— Не все ли равно? — как можно более равнодушно, хотя внутри его все напряглось, — сказал Гордин. — Для расширенного эксперимента годится, в сущности, любая географическая точка средней полосы. Почему бы не избрать родной город?
— А, вы там родились!
— Да.
— Впрочем, это не моя компетенция. Что ж, заявка в полном порядке… — Управляющий помедлил, словно вдруг могло выясниться какое-то упущенное и важнее обстоятельство. — Теперь посмотрим, что у нас. Да, в перспективном плане имеется соответствующая строка. Ах, молодой человек, молодой человек! Вы хотите использовать метеорологические ракеты так, словно это елочные хлопушки, цена которым грош.
Гордин принужденно улыбнулся.
— Как всегда — в интересах науки…
Он развел руками, точно, будь его воля, он занялся бы чем-нибудь посерьезней.
— Понятно, понятно. — В ответе прозвучала ирония. — Строителям дай миллиард, еще вопрос, освоят ли, а для ученых такой проблемы нет.
Взмахом руки он остановил готового возразить Гордина.
— Здесь обосновано значение вашего эксперимента, иначе и разговора не было бы. Что ж, если нет возражений, поставим выделение средств в смету третьего квартала следующего года.
В первое мгновение Гордин онемел.
— Послушайте… — Его голос сорвался. — Мне обещали, что еще этим летом… И в заявке упомянуто…
— Тут сказано. — Палец собеседника уперся в бумагу. — «По мере возможности». А мне, простите, видней, есть такая возможность в текущем финансовом году или ее нет.
— Но существует же резерв!
— Существует. — Очки снисходительно блеснули. — Для проведения внеплановых, срочных, важных для народного хозяйства экспериментов. Ваш, насколько я понимаю, к таковым не относится.
Очки снова блеснули — холодно и все-таки чуть-чуть сожалеюще. Весь вид сидящего напротив человека как бы говорил, что он все прекрасно понимает — и нетерпение молодого ученого, и его разочарование, но что этот молодой ученый, увы, не единственный: все хотят побыстрей, а это невозможно.
— Значит, договорились, — услышал Гордин, который с ужасом и не к месту думал о времени, которое уже ушло, и о времени, которое еще уйдет, пока…
— Одну минуточку! — спохватился он, когда перо уже нацелилось на бумагу. — Одну минуточку! Дело в том, что быстрейшее проведение эксперимента имеет не только научное, но и существенное прикладное, народно-хозяйственное значение.
— Разве?
— Да! Миллионы лет назад в полярных широтах росли тропические леса. Другой климат, допустим. Но ведь и тогда была долгая полярная ночь! Как же растения ее выносили?
— И как же?
— Их обогревали и освещали полярные сияния.
— Обогревали, значит, и освещали. А теперь не обогревают и не освещают. Извините, я не поклонник научной фантастики.
— Никакой фантастики здесь нет! Нет! Есть расчеты, которые показывают, что в определенных условиях полярные сияния могут давать почве столько же тепла и света, сколько их дает солнце. Вот отзывы крупнейших специалистов. Вот…
С быстротой, удивившей его самого, Гордин выхватил листки из папки и подал их так поспешно, что они рассеялись по столу.
Человек за столом на них даже не глянул. Крякнув, он как бы в недоумении снял очки, и когда их льдистый заслон исчез, Гордин увидел пытливые, недоверчивые, некогда, должно быть, ярко-голубые, теперь изрядно выцветшие глаза, которые смотрели на него с нескрываемым любопытством.
— Очень интересно. Вы что же, собираетесь обогреть Север?
— Нет, там это было бы губительно для природы, — заторопился Гордин. — Но города! Большие города, чье отопление обходится так дорого. С помощью сияний можно будет избирательно, без ущерба для климата, смягчать морозы. Где угодно! И такое отопление, заодно освещение будут стоить дешево.
— Ну и ну! Однако все это пока на бумаге…
— Вот и надо поскорей проверить.
— …И даже не отражено в заявке, то есть фактически не существует.
— Но…
— Молодой человек, хотите совет? Если вам нужна скрепка, заказывайте оборудование для целого машбюро.
— Спасибо. Я только хотел заметить, что теоретические предпосылки моих экспериментов уже изложены в статье, и…
— Пожалуйста, не говорите, что вас могут опередить за границей! Я слышал это тысячи раз. Ваши фантастические замыслы… Постойте! Речь идет о создании настоящего, искусственно вызванного полярного сияния, или я плохо понял?
— Да, — удивленно ответил Гордин. — Все так.
— Не об этих имитациях, средства на которые я выделяю уже не первый год?
— Что вы! Сияние, которое мы создадим, даже превзойдет природное. В заявке…
— В заявке! Все эти бумаги на одно лицо, в них что железобетон, что сияние… Так вот чего вы хотите! Ну, молодой человек, бить вас некому.
— Это хорошо или плохо?
— Плохо! Помолчите, мне надо подумать.
Гордин вжался в кресло. «И черт меня дернул!..» Сухие стариковские пальцы нехотя двинулись к дужкам очков, которые все еще лежали на полированной глади стола. Пошевелили их.
— Скажите… Сияние действительно так красиво, как об этом говорят и пишут?
Вопрос был явно обращен к Гордину, однако глаза управляющего смотрели куда-то вдаль, и в них была рассеянность каких-то далеких от этого кабинета мыслей.
— Нет, оно выше определений, — ловя тонкую нить скрытого смысла, тихо сказал Гордин. — Сияние… Его нельзя описать. Невозможно. Вам никогда не доводилось видеть?
— Как-то вот не пришлось. Мальчишкой, конечно, мечтал, все мы тогда бредили Севером… Значит, это что же получается: если ваш опыт удастся, города можно будет обогревать и освещать полярным сиянием?
— Да.
— И, выйдя, скажем, на балкон, можно будет увидеть… — Да.
— Чудеса! Прямо так, значит, с балкона? — Управляющий задумчиво покачал головой. — И какая, если представить, экономическая польза… Ладно! — Его рука энергично прихлопнула бумагу. — Средства получите из резерва.
В будке телефона-автомата было душно. Здесь накопилось множество запахов тех, кто торопливо или небрежно, тяжело дыша или весело щурясь, крутил диск, царапал карандашом на стене прыгающие цифры телефонных номеров, топал ногами от нетерпения, хохотал, проклинал частые гудки, судачил, не замечая мрачнеющей очереди. Вряд ли во всем городе можно было найти другое столь наполненное следами людских переживаний место. Еще в будке почему-то пахло собакой.
Наконец в трубке щелкнуло.
— Да? — мягко отозвался голос.
Куда подевалась решимость! В горле сразу пересохло, Гордин не мог выговорить ни слова.
— Да? — уже недоуменно повторил голос. — Я слушаю.
— Ира, это я…
— Ты?! — Голос сбился, но тут же обрел себя. — Здравствуй, полярник. Может быть, ты…
Пауза бросила Гордина в пот.
— Ира, — сказал он, не давая опомниться себе и ей. — Я хочу тебя видеть.
— Заходи, завтра вечером я буду…
— Нет! Давай встретимся на холмах. Сегодня! Без четверти десять, хорошо?
— Сумасшедший. — Она засмеялась. — Ты врываешься так, как будто… А мне, между прочим, завтра сдавать композицию и…
— Прошу тебя… Очень! Это важно. К черту композицию! Придешь?
— Подожди… Где, ты сказал, будешь меня ждать?
— Там, где мы впервые встретились.
— О!
— Еще я тебя попрошу: оденься, как… как на бал.
— В вечернее платье? — Трубка фыркнула.
— Да!
— Может быть, в белое?
— Это было бы чудесно.
— Да? А как насчет фаты? — По ее голосу нельзя было понять, сердится она или смеется.
— Отставить, — буркнул он. — Обойдемся.
— Так важно?
— Да. Да!
— Но у меня нет вечернего платья!
— Я же не об этом… Ирка!
— Что?
— Просто… ну… Я хочу тебя видеть, вот и все. Сегодня. Если можешь — выкинь из головы свою композицию.
— Хорошо, — сказала она серьезно. — Я буду ровно без четверти десять.
Она появилась ровно без четверти десять. Гордин ахнул, увидев, как она спускается к нему по тропинке. Вместо неизменных брючек на ней было белое платье, вероятно, то самое, которое было однажды сшито на выпускной вечер, а потом запрятано куда подальше. Изменилась, стала неторопливой сама ее походка. В вырезе платья темнела цепочка алых кораллов.
— Вот я, здравствуй.
Она подошла, не подавая руки, замерла в ожидании.
«Нравлюсь?» — говорил весь ее вид. «Нравлюсь?» — несмело спрашивали ее глаза.
«Очень», — ответил он взглядом.
— Подожди, — сказал он смущенно. — Вот.
В далеком отсвете фонарей гвоздика, как и цепочка кораллов, казалась почти черной. Неловкими пальцами он тут же попытался утвердить стебель в мягком облачке ее волос.
— Дай я сама. — Она вынула цветок и воткнула его в прическу. — Спасибо. Ну рассказывай. Где был, почему так мало писал, и… вообще…
— Все узнаешь, — сказал он. — Потом.
Робко, словно боясь измять платье, он обнял ее за плечи и повел по тропинке вверх.
— Куда ты меня ведешь?
— Увидишь.
Она коротко вздохнула. Деревья расступились прогалом. Отсюда ничто не заслоняло город.
— Может быть, все-таки объяснишь…
— Нет, подождем.
— Чего?
— Ш-ш…
Она умолкла. Украдкой он посмотрел на часы. Без пяти десять. С аллей внизу доносились негромкие голоса гуляющих. В листве сонно цвиркнула какая-то пичуга. На реке, колыша маслянистые отсветы набережной, пыхтела тяжеловесная баржа. За рекой теснились скопища фасадов и крыш, в просветах улиц там скупо тлел неон. Точечная отсюда пестрядь окон выделяла заслоняющие друг друга прямоугольники зданий. Оттуда исходил мерный пульсирующий гул. Небо вверху было чистым, но лишь самые яркие звезды удерживались в бледном отсвете города, которое даже здесь, на холмах, делало тени прозрачными.
— Тебе не холодно?
— Нет. Чего мы ждем?
— Угадай.
— Пытаюсь — и не могу.
— Тогда жди.
— И сбудется?
— Да. Закрой глаза.
— Закрыла. Еще долго?
— Скоро.
Он снова взглянул на часы. Десять. Теперь его била дрожь. Он даже отстранился, чтобы она не заметила. Опустив руки, она стояла с зажмуренными глазами, и было непонятно, улыбается ли она втайне, доверчиво ждет или, насупясь, тяготится томительным ожиданием.
«Что обо мне думают сейчас на полигоне, что? Сорвался, убежал, исчез… Бросил все… Я — сумасшедший».
«Я — сумасшедший», — повторил он и не ощутил раскаяния. Только секунды стали бесконечными, бешено колотилось сердце, и он с отчаянием смотрел на темную воду внизу, словно она могла стать прибежищем, если ничего не произойдет, если ребята подведут, если все сорвется и не будет уголка, куда бы он мог скрыться от позора.
«Все не важно, не важно, — лихорадочно молил он. — Пусть только удастся, ведь удавалось же, и теперь все рассчитано, пусть больше никогда не удастся…»
Внезапно его сжатые в кулак пальцы накрыла узкая прохладная ладонь. Он пошатнулся, как от удара. Тотчас далеко в небе вспыхнуло зарево. Поплыло, гася свечение города.
— Смотри! — ликующе закричал Гордин. — Видишь, видишь?!
Темное небо распалось и ушло куда-то в бархат подслоя. Вверх от зенита пучком взметнулись дрожащие алмазные стрелы. Они пульсировали, переливаясь. Листва бросала на землю двойную, тройную радужную тень. Споткнулся на полутакте мотор баржи, широкая корма которой вот-вот готова была скрыться за излучиной. Откуда-то донесся недоуменный вой собак, но и он смолк.
Горизонт опоясали порхающие извивы. Река, просверкав, вернула небу его сполохи. Кто-то, ойкнув, зашуршал неподалеку в кустах. Массив зданий преобразился, как груда кристаллов, с которых смахнули пыль. Точки темных, неосвещенных окон теперь пылали осколками радуг. В белых плоскостях стен метался трепещущий, каждое мгновение иной перелив порхающих красок.
А потом небо и землю облил зеленый, поразительно чистый свет, и все стало весенним, как первая трава на лугу.
Но Гордин уже не смотрел туда, он видел только бледное лицо Иринки, ее широко раскрытые глаза, в которых жил сияющий отблеск неба.
«Вот, вот что я могу! — кричал он мысленно. — Я это сделал, я!!!»
Ее лицо под крылом упавших на лоб волос казалось ему летящим.
Таким же новым, прекрасным почудился ему родной город, когда он мельком взглянул туда. Ритм цвета сменился, побагровел, теперь там все пламенело красками Рериха.
Так длилось секунду, может, две.
Затем что-то неуловимо сдвинулось, стало бездымно меркнуть. Краски потухли, потускнели, радужный дождь завес падал не так густо, и лишь влажный блеск глаз Иринки еще хранил прежнее чудо.
Торопливо, с досадой на промедление взревел двигатель баржи, и сразу как по команде все оборвалось мраком, в котором тускло, как угли из-под пепла, проступали огни заречья.
Но и это длилось недолго. Когда зрение восстановилось, все вокруг оказалось таким, каким было прежде.
— Вот… — только и сказал Гордин. Его губы ожег быстрый поцелуй.
— Спасибо, спасибо, что ты утащил меня, а то бы я занавесилась и прозевала случай…
— Случай? — потрясенно переспросил Гордин.
— Разве нет? Я где-то читала, что сияние в наших широтах…
— А-а! — ликующе догадался Гордин. — Так ты не жалеешь?
— Не знаю. Раз это больше никогда не повторится… Но я была дурой! Увидеть такое… Бедные мои краски!
— Возьми другие, — торжествуя, сказал Гордин. — Эти! Ты уверена, что я просто рассчитал день и час случайного полярного сияния. Нет. Нет, Ирочка, нет! Я его создал. Вот оно! — Он сжал кулак. — Могу вызвать его завтра, послезавтра, когда захочу.
— Ты… ты…
— Да! Мне помог твой медвежонок, но к черту игрушки, мне нужна ты, ты!
Не дожидаясь ответа, в том же приливе торжества и всемогущества он сгреб ее, стиснул, закрыл поцелуем что-то беззвучно шепчущий рот, приподнял, подхватил, ломая сопротивление, понес.
— Пусти сейчас же! — вскрикнула она придушенно, и прежде чем он успел понять, как это произошло, она уже была на земле, встрепанная, тяжело дышащая, а он, еще не веря тому, что случилось, сжимал пустоту.
— Ты славный, ты гений, я глупая, — выпалила она срывающимся шепотом. — И не надо! Спасибо за все — только не надо, не надо!
Прежде чем он успел опомниться, она схватила его руку, прижалась к ней мокрой от слез щекой. Потом ее белое платье мелькнуло и исчезло в темноте.
Он брел от университета по раскисшей аллее. Все вокруг было осенним, желтым и мокрым от мелко сеющего дождя, и это напоминало какой-то фильм, отзвук фильма… Словно из другой жизни. Гордин слабо мотнул головой, когда щеку задел упавший с березы лист.
Это не из другой жизни, это — с ним. И хорошо, что погода такая, потому что под сияющим небом все было бы куда тяжелей и горше. А так — ничего.
Ведь известно: чем ярче взлет… Громкая слава успеха, затем вот это — один посреди парка, где за поникшими деревьями алюминиево сереют башенки обсерватории. Так приходит смирение. И понимание. Еще сегодня он по инерции боролся, горячился, доказывал, потом сразу, будто кончился завод, понял: не надо. Ничего не надо, у жизни свой ритм.
С той минуты и до конца обсуждения он сидел, отрешенно слушая, как кто-то повторял правильные, уже много раз сказанные слова: «Научное значение данной работы бесспорно, но коль скоро побочным следствием нового метода является сильная помеха в широком диапазоне радиосвязи, то ни о каком использовании искусственного полярного сияния в населенных зонах, конечно, не может быть и речи до тех пор, пока…»
«Пока техника не перейдет на какую-нибудь там лазерную связь, — кивнул Гордин. — Или пока кто-то не найдет способа нейтрализации вредных последствий. Словом, оформляй диссертацию и трудись без печали…»
Никто даже не упрекает за мальчишество, за поспешность опыта, за то, что вовремя не обратил внимания, не посоветовался… Ах, если бы они знали!
Хорошо, что никто не знает.
Не о чем волноваться. Все будет в свое время, все. И «праздники неба» станут устраивать, и о нем, быть может, вспомнят: «Глубокоуважаемый профессор, не могли бы вы рассказать телезрителям о том, как…»
Никогда ни о чем он рассказывать не будет. Или будет? С внезапной отчетливостью Гордин вдруг увидел, как рвутся, трепещут над городом сполохи, как люди высовываются из окон, как празднично ликуют улицы. И как дети, жена тянут его на балкон… Его жена, его дети, в той, другой жизни, которая будет.
Из-под ноги брызнула лужа. Он круто, не глядя, свернул на обочину, пошел напролом. По плащу дробно застучали ветви кустов.
Почему-то вспомнилось, как в детстве он мечтал много ездить в автомобиле и много летать на самолете. Теперь, когда это сбылось, все желанней стала казаться неспешная ходьба, да только на нее уже не хватало времени. А если бы и хватало, то без торопливого стремления к цели он, верно, почувствовал бы себя неуютно.
Приближался шум улицы. Скоро она открылась вся, в сумятице движения, в сизых выхлопах, в слитном беге грязнобоких машин. Он помедлил в двух шагах от людского водоворота, затем повернулся, почти побежал назад, туда, где шуршали листья.
Так ослепнуть в тот, все решивший миг! Так самонадеянно, не желая, унизить… Ведь он же потребовал, потребовал немедленной, тут же оплаты! Вот что двигало им, и она это поняла сразу. Какое-то страшное, неистовое затмение… Не спрашивая ничего, с торжеством победителя так обрушиться, смять, будто все уже решено, ничего другого просто быть не может! Словно и воли нет, кроме его собственной, да и быть не должно.
А ведь все могло сбыться, как он не понял тогда, что могло! Настолько ничего не заметить, ничему не поверить, думать совсем о другом, казалось бы, важнейшем, а на деле существенном не тогда и не в том.
Вот и заслужил…
Точно выскочив из-за куста, на уровне груди внезапно простерся корявый, морщинистый сук. Гордин замер, опешив. Куда он забрел? Серело. Под ногами была нетоптаная земля, всюду мокро отсвечивал палый лист. С верхушки дуба, коротко прошуршав, сорвались тяжелые капли. Помедлив, Гордин рукой уперся в неподатливый сук и, чувствуя, как нарастает тугое сопротивление, продолжал гнуть, пока одолевающая сила мускулов не налила плечо болью. Тогда он напряг вес тела, ощутив наконец, как уступает, подается преграда.
— Сломаешь, — тихо послышалось сзади.
Сук дернулся в ослабевшей руке, толчком развернув Гордина. Отворот плаща пересек грязный след удара.
— Видишь — он отомстил…
— Ира!
— Я. Спасибо эта палка тебя задержала, а то бы я совсем запыхалась. И куда ты бежал?
— Никуда.
Она кивнула, словно ждала такого ответа. Две-три капли скатились с прозрачного капюшона, светлыми бусинками осев в ее волосах. Сам плащик был небрежно расстегнут. Она стояла, сунув озябшие руки за пояс; на тугой ткани джинсов медленно проступали темные крапинки дождя.
— Промокнешь, — сказал он глухо.
— Взгляни лучше на свои колени.
— Пустое!
— Вот и я так думаю.
Оба замолчали. Ее глаза рассеянно и спокойно смотрели куда-то мимо Гордина.
— Дальние прогулки при любой погоде? — резко и с вызовом спросил он. — Мечты в одиночестве?
— Да. — Она перевела взгляд. — А что?
— Ничего. Я вот тоже решил прогуляться.
— Вижу.
— А ты, как всегда, ищешь свежих художественных впечатлений?
— Как всегда.
— Ясно! Осень, увядание, грусть. Живописно и трогательно, чем не сюжет? Что делать, праздников больше не предвидится. Все, точка.
— Праздник, — сказала она, как бы не замечая тона его слов. — Смешно. Праздник — вот…
Она выставила ладонь под мелко сеющий дождь.
— Щекочет… Я сюда шла просто так. Нет, ты прав не совсем. Впечатления, говоришь? Да, я хотела проверить. Листья летом — сплошная масса, листва; взгляду не до подробностей, все воспринимается слитно. А осенью каждый лист становится самим собой, когда падает. Грустно? Может быть, и так. Я смотрела, как они падают, а потом увидела тебя. Вот.
— Понятно. Читала, значит, в газетах…
— Читала. Глупо! Если что-то было, то уже не исчезнет. Все равно будет.
— Конечно. Вроде мамонтов.
— Мамонтов?
— Ага. Были — нет, только память осталась. И все.
— Ты уверен?
— В том, что вижу тебя, — да.
— Подожди… Мамонты. Что-то писали об инженерной генетике. Не так?
— М-м… Допустим. Может, мамонтов и воскресят в каком-нибудь двадцать первом веке.
— Вот видишь!
— Какая разница! Просто неудачный пример.
— Нет, почему же… Они красивые?
— Кто?
— Мамонты.
— А кто их знает… Лохматые, грязнющие, наверно. Не чета кошкам.
— При чем тут кошки?
— Так, вообще… Не знаю. А при чем тут мамонты?
— Это ты говорил о мамонтах.
— Ну и что? Мамонты-папонты, бродили по лугам, пили-ели, спали-жирели. «Пройдет и наше поколенье, как след исчезнувших родов». Слышала такую песенку?
— Нет. Странно… Другое странно.
— Что?
— Все! Знаешь, почему я здесь оказалась?
— Ты сказала.
— Кроме главного. Только что в студии жутко разругали один мой рисунок, и я… я сбежала.
— Кто не получал двоек…
— Не в этом дело! Просто… просто в том рисунке мне показалось, что мне кое-что удалось, свое. Выходит — нет.
— Ну, это еще ни о чем не говорит. У вас все зависит от вкусов: нравится — не нравится, не оценки — дым!
— Не совсем так, но пожалуй. И все-таки… Я вот что хотела спросить…
— Да?
— У тебя никогда не было ощущения, что тебе — именно тебе! — предназначено что-то выразить, осуществить… Никому другому, только тебе. И все остальное не важно.
— Бывало что-то похожее.
— И?…
— А кто его знает! Самообман, должно быть.
— Возможно, что и самообман. А все равно порой возникает такая отдаленность…
— Отдаленность?
— Да. Как бы это выразить… Будто ты не совсем принадлежишь себе, что-то надо беречь больше всего остального, чему-то не поддаваться, даже когда очень хочешь… Ну, словно кто-то тобой распоряжается. Не бывало так?
— Хм. — Гордин потер подбородок. — Не замечал такой мистики.
— Правда? Значит, ошиблась.
— В чем?
— Ни в чем! А у тебя метка…
— Какая метка?
— Да на лице! Ты потер подбородок, а рука у тебя измазана веткой, которую ты пытался согнуть. Я же говорила, дуб памятлив.
— Ну и черт с ним!
— Так ты сильней размажешь. Дай лучше я.
Достав платок, она неуверенным движением провела им по его мокрому, сразу и жестко закаменевшему от этого прикосновения лицу.
— Все. — Ее рука, помедлив, упала. — Знаешь, у тебя глаза… Не злые, нет…
— Какие есть, — буркнул он поспешно. — По вкусу их выбирать не умею.
— Да, конечно… Смерклось уже.
— Разве?
— Темнеет. Надо идти.
— Куда?
— Туда. — Она вяло мотнула головой. — Туда.
— Я провожу.
— Не стоит, мне еще надо побродить.
— В сумерках?
— А в сумерках цвет глохнет, это интересно.
— Да? Застегнулась бы все-таки…
— Мне не холодно, и дождь почти перестал.
— Это тебе так кажется… Постой!
— Стою.
— А то еще простудишься, шедевр не напишешь…
Досадуя на свои нелепые слова, спеша и путаясь, он кое-как застегнул неподатливые пуговицы. Она стояла с безучастным видом. Теперь в прозрачном пластике плаща ее фигура казалась обернутой в целлофан, незнакомой, чужой.
— Пока. — Она слабо помахала рукой. — Счастливо.
— Пока, — ответил он машинально, зная и не веря, что это все.
Он смотрел, как она бредет, удивляясь, и не чувствовал потери, ничего, кроме огромной отрешающей пустоты. Сумрак еще не успел ее скрыть, когда она, словно освобождаясь, рванула застежки плаща, и его откинутые полы обвисли, как подбитые крылья. Из-под них мелькнул белый комок забытого в руке и теперь выпавшего платка.
Тогда он побежал. Она не обернулась, не замедлила шаг, только отстранилась, и он также молча двинулся рядом по узкой тропке, уже бессмысленно сжимая поднятый платок и не зная, что теперь говорить и надо ли говорить вообще.
А когда ее озябшая рука сама собой очутилась и замерла в его ладони, он безраздельно понял, что слова излишни, а нужно просто идти, отогревая доверившуюся ему руку и не спрашивая, что будет дальше. Ведь как ни грозны великие тайны земли и неба, они ничто перед тайной любви.
ДЫРКА В СТЕНЕ
Надо срочно предупредить неосторожных. Необходимо! Иначе могут быть самые неожиданные последствия.
Уже светает. Сейчас я опишу случившееся. Спокойно, главное — спокойно. А, черт, бумага затлела! Ну, ничего, ничего… Ладно…
Так вот. Был первый час ночи, когда это началось. Я вернулся из гостей, и после уютной квартиры, которую только что покинул, моя берлога показалась мне особенно неприглядной. Серый от табачного пепла стол, какой-то пух на стульях, перегоревшая лампочка в люстре и груды книг на полу. Одна из стопок зловеще изогнулась винтом и, когда я захотел ее поправить, рассыпалась под руками, затопив свободное пространство пола.
Что больше всего меня разозлило, так это то, что в коридоре стояли две пустые полки, купленные третьего дня. На них разместились бы все книжные груды, но для этого полки надо было повесить. А стены имели то отвратительное свойство, что их не брал ни один гвоздь. Требовалась электродрель, чтобы просверлить отверстие. Электродрель надо было искать, ее надо было выпрашивать — о, господи!
Стоя посреди комнаты и засунув руки в карманы, я с такой ненавистью посмотрел на стены, будто они и были причиной беспорядка. В кои веки возникло желание покончить с хаосом, и — на тебе! — нечем просверлить какое-то дурацкое отверстие. С яростной отчетливостью я даже представил, как в стене появляется дырка, как…
В стене появилась дырка. Точь-в-точь там, где я ее наметил.
Поначалу я нисколько не удивился: просто не поверил. Я подошел, пощупал отверстие, зачем-то подул в него. Оттуда вылетела цементная пыль и запорошила мне глаз.
Это меня убедило в несомненности факта. Еще меня поразила ночная тишина, окружавшая квартиру. Уж очень она не вязалась с тем, что произошло.
Я сходил на кухню, выпил воды. Помню, что дождался, пока из крана сбежит теплая вода, и лишь тогда подставил стакан.
Потом я вернулся, сел и задумался. Если зрение и осязание мне не лгали, — а с чего бы им лгать? — то получалось, что усилием воли я просверлил в бетонной стене отверстие. Это надо было обмозговать.
Мысль о чуде я отбросил сразу. Для какого-нибудь современника Пушкина было бы естественно онеметь при виде обыкновенной электрической лампочки, но мыто — люди, чего только не повидавшие! Нам даже лень удивляться и заглядывать в будущее. Многие ли знают, например, что делается на опытном заводе, где я работаю? Инженер прошлого века трижды перекрестился бы при виде стальных заготовок, плывущих по конвейеру и на глазах меняющих форму, словно их обминает незримая рука. Это называется магнитной штамповкой, скоро мы внедрим ее в промышленность.
Или — зонная плавка токами высокой частоты в магнитной бутыли. Ни на что не опираясь, ничего не касаясь, висит кусочек металла, медленно наливается жаром, пока не засияет ярчайшей звездой. Непосвященных это впечатляет. Только вид наших прозаических спецовок и не менее прозаических физиономий гонит из их сознания мысль о чуде.
Просто мы привыкли к тому, что в повседневной жизни всякое действие осуществляется вполне осязаемым и вполне весомым орудием. К незримым действиям и невещественным орудиям у нас такой привычки нет. А жаль. Как-то на досуге мы спроектировали кресло-качалку, сотканное из полей. Очень своеобразное ощущение: сидишь ни на чем. Жестковато, правда, получилось, и кожу немного жгло. Что поделаешь, первый шаг! А вообще у такой мебели, по-моему, большое будущее. Впрочем, тут я могу быть необъективным.
М-да… Не потребовалось, как видите, особых усилий, чтобы мои размышления о дырке в стене приняли нужное направление. Человек сам по себе — источник всевозможных полей. Если бы мы их видели, странная бы открылась картина… Очень странная.
Итак, какое-то поле, генерируемое моим организмом, непроизвольно собралось в мощный пучок и просквозило стену. Какое поле — или поля? — без приборов не выяснишь, а посему над этим и думать пока нечего.
Когда я добрался до этого пункта размышлений, меня почему-то обескуражила мощность, развитая моим скромным телом. Вроде бы у организма не должно быть таких энергетических ресурсов…
Я встал и с помощью разогнутой скрепки измерил глубину отверстия. Нет, глубина была приличной: гвоздь держался бы надежно.
«Что за нелепость? — сказал я себе. — Откуда я взял, что подобное усилие должно сопровождаться колоссальным расходом энергии? Электродрель просверлит стену самое большое за две-три минуты. Сколько за это время она потребит энергии? Пустяк, ясно и без расчетов, что пустяк».
Я успокоился и посмотрел на дыру уже с меньшим уважением. Оставалась последняя закавыка. Вам она, может быть, покажется существенной, но на деле она не такова. Человек, как известно, не обладает способностью вот так, ни с того ни с сего взять и просверлить стену. Даже булавку он не может передвинуть взглядом. Отчего же я вдруг…
Но все это несерьезно. Существуют на свете катализаторы, чье присутствие самые смирные процессы заставляет идти в галоп. К человеку это не относится? Как бы не так! Слабая женщина в неистовстве рвет стальные оковы, мешковатый интеллигент при опасности перепрыгивает высоченный забор — это что, норма? А подобные случаи хорошо известны. Вот и догадайся заранее, какие сокровенные процессы могут идти в человеческом организме, а какие нет.
Я пощупал пульс. Он слегка частил. Очень хотелось закурить, но я не закурил: в такой ситуации лучше воздержаться от введения в организм чего бы то ни было.
С некоторой опаской я посмотрел на свое тело, словно в нем дремала взведенная мина. Что же я такого съел или выпил, отчего во мне взыграли таинственные силы? Обед был стандартным, столовским — с него не взыграешь. В гостях я ограничился тремя или четырьмя рюмками мукузани, съел какой-то антрекот или что-то в этом роде — патологически не умею разбираться в мясных блюдах. Антрекот я запивал минеральной водой. Бутылка, помнится, была без этикетки.
Последнее обстоятельство наводило на размышления. Горько-соленая дрянь без этикетки: она могла содержать сногсшибательные комплексные соединения.
После нее и мукузани я вроде бы ничего не пил и не ел. Хотя… Вот память! Поднимаясь в лифте, я машинально нашарил в кармане пальто плоскую коробочку… Да, да, ту самую, с этим новым витамином Ж, который мне недавно прописали в поликлинике для поднятия общего тонуса. Пару таблеток я проглотил там же, в лифте, они приятны на вкус и хорошо освежают рот после сигареты.
Забавно. Получается уравнение, по крайней мере, с двумя неизвестными: минеральная вода без этикетки и новый витамин. Плюс группа переменных факторов, как-то: мукузани, антрекот и сигареты, чье сочетание могло стимулировать действие искомого катализатора X. Да, тут впору считать на БЭСМ.
Оставался путь эксперимента. Что-то до сих пор удерживало меня от опытов. Одно дело философствовать о причинах феномена — это вполне интеллектуальное занятие. Нечто вроде разгадывания фокуса, к которому ты совершенно непричастен. И совсем другое — сознательно спустить с цепи сидящую в тебе неведомую силу. Даже если ты подвел под нее теоретическую базу.
А база неплоха, что и говорить. Не люблю испуганно округленных глаз при разговорах о подобных штучках. Сами-то разговоры нужны: такой уж нынче век, что наука то и дело бросает в жизнь одно невероятное открытие за другим. То антимир, то сигналы из космоса, то еще что-нибудь! Без противошоковой прививки трудно обойтись, а подобные разговоры как раз и могут быть ею. Если они, разумеется, ведутся без придыхании, без экивоков в сторону таинственного, без душка сенсационности. Мы окружены непознанным, мы всегда были окружены непознанным, пора привыкнуть, что оно врывается к нам в дом без звонка.
Все же я не сразу решился на опыт… Знаете, пустая комната, ночь. Я вышел в коридор и зажег свет даже в уборной. Не знаю, зачем.
Вернувшись, я напряженно посмотрел на стену и пожелал дырке появиться.
Она не появилась.
Это меня рассердило. Меня всегда сердит неудавшийся эксперимент. Я уже с ненавистью посмотрел на стену, мысленно пронзая ее.
Помогло. Правда, отверстие получилось неглубоким, и из него пошла пыль почему-то розовая.
Так… Не выдержав, я закурил, но не заметил этого. Теперь я попробовал расколоть стакан. Со стаканом вышла осечка. То ли я устал, то ли действие катализатора ослабло, то ли подсознательно я щадил полезный предмет, а только стакан оставался целым и невредимым, как я ни напрягался.
Дырки тоже перестали получаться.
Ну и шут с ними! Пора было переходить к следующей стадии эксперимента. Достать загадочной минеральной воды я не мог, но витаминные таблетки были в моем распоряжении. Я проглотил парочку и мрачно воззрился на стакан.
Он с треском лопнул.
Я почувствовал, как за моей спиной взмокла обшивка кресла. Мысли пошли вразброд, и в голове завертелся мотивчик песенки о беззаботных медведях, которые трутся спиной о земную ось.
В интересах науки следовало, конечно, замерить физиологические параметры моего организма. Никаких приборов, кроме термометра, у меня не было, и я сунул его под мышку.
И тут меня с запозданием посетило ужасное предположение!
Я схватил коробочку и прочел надпись: «Витамин Ж играет роль биокатализатора в процессе обмена веществ в нервных тканях. Он также необходим для жизненных функций слизистых оболочек головного мозга и входит в состав коэнзимов дегидрогеназ, принимающих участие в метаболизме глюкозы». Сбоку шла другая надпись: «Держать в сухом и прохладном месте».
Как безобидно! До сих пор моя мысль привычно работала в научно-технической плоскости. В вопросах морали, этики, психологии я безграмотен, знаю это и предпочитаю не рассуждать на столь отвлеченные темы. Но тут…
Витамин был новинкой. Он только что поступил в продажу. Но им пользуются, вероятно, уже тысячи людей. Если он так же действует и на других…
Предупредить! Бывают мгновения, когда при взгляде на ненавистного человека мы готовы его испепелить. Теперь это может осуществиться буквально! Взгляд, который входит в тело противника как нож…
Забыв о термометре, который, естественно, скользнул вниз, я кинулся к телефону. Тогда в аптеке я столкнулся с Новосильцевым. Он тоже брал витамин, мы еще посмеялись над этим совпадением и дружно посетовали на состояние наших нервов. Если и у него тоже… Скорей, скорей!
Телефон Новосильцева долго не отвечал, наконец мужской голос нелюбезно осведомился, кому это он потребовался в третьем часу ночи.
— Коля, — выпалил я без предисловий, — у тебя еще остался витамин Ж?
— Остроумней ты не…
— Да или нет?!
— Да. Но послушай…
— Молчи! Немедленно сделай то, что я тебе скажу. Проглоти две таблетки витамина.
Было, очевидно, в моем тоне что-то, заставившее Новосильцева повиноваться беспрекословно. Кажется, он этому весьма удивился: даже хмыкнул в трубку.
Когда он через несколько секунд снова взял трубку, я не дал ему передышки.
— Выпил? Прекрасно. Теперь сделай так. Посмотри на стену и вообрази, что тебе позарез необходима дыра в ней… Ничего я не сошел с ума! Коленька, ну, сосредоточься, и ярости, ярости побольше! Умоляю…
Новосильцев возмущенно пыхтел и сопел. Я отчетливо представил, как он, полуголый, стоит перед аппаратом и с ненавистью глядит на предавший его телефон.
И вдруг…
Телефонный аппарат на моем столе медленно-медленно задымился. На мгновение вскинулся и тут же опал коптящий язычок пламени. Пластмасса точно закипела; из пузырящегося, оплывшего футляра глянуло крошево металлических деталек и зловонно тлеющих проводков. От трубки, которую я все еще оторопело сжимал, свисал, покачиваясь, модный витой шнур — и дымился. «Как бикфордов…» — растерянно подумал я.
Все было кончено: Новосильцев испепелил мой телефон.
Придушив тлеющий ворох одеялом, я распахнул окна, чтобы избавиться от сизоватых клубов дыма. Пальцы дрожали так сильно, что я едва смог закурить.
Медлить было нельзя. Надо срочно остановить продажу препарата! Срочно предупредить тех, кто уже приобрел таблетки!
Рассвет застал меня за исписанными листами бумаги. Только бы успеть в утренний выпуск газеты. Только бы не задымилась медлительная авторучка.
Спокойно, главное — спокойно…
ЗЕМНЫЕ ПРИМАНКИ
2.42 по западноевропейскому (поясному) времени
6.42 по московскому.
Обязанностью Симона было следить за небом, что этот затянутый в форму сын почтенных родителей из Коммантри и делал.
Беззвучный, как взмах кошачьей лапы, фосфорический луч обходил экран радара. Озарялось пустое пространство неба, вспыхивали уступы далеких Альп, ярусы туч, которые сгустились над Роной, близкие вершины Божоле и Юры. Затем изображение таяло, пока его снова не оживлял фосфорический луч. Бодрствование и дремота сменялись на экране, не уступая и не побеждая друг друга.
В любое время дня и ночи все пространство над Францией, над Европой, над большей частью неспокойного мира вот так просматривалось километр за километром. Спали Лондон и Нью-Йорк, просыпались Каир и Хельсинки, бодрствовали Токио и Сидней, а радарные импульсы, то расходясь, то скрещиваясь, пронизывали небо, и сотни людей, разделенные океанами и континентами, одинаково, хотя и с разными целями, вглядывались в экраны, которые их деды сочли бы фантастическим, а прадеды — магическим зеркалом мира.
Смена Симона Эвре подходила к концу. Блаженно клонило в сон, и Симон нацедил из термоса последние капли кофе. Потом закурил «Галуаз», затянулся так, что запершило в горле. Будто протертое наждаком сознание ожило, и на мгновение Симон увидел себя, как на картинке модного журнала: подтянутый военный, сидя чуть небрежно, но со стальным взором в глазах, одиноко и бессонно охраняет покой любимой родины. А где-то в уютной спальне, разметавшись на простынях, спит его черноволосая подруга.
Светящейся точкой по экрану прополз рейсовый Рим — Лондон. Симон привычно зарегистрировал его появление, как он регистрировал появление всех воздушных объектов, откуда и куда бы они ни шли. Рейсовый его не интересовал. То, что возникло в пространстве по графику, его не должно было волновать. Летают и пусть себе летают — дозволено.
Иногда Симон представлял пассажиров такого вот лайнера, которые видят вокруг пустыни неба и даже не подозревают, сколько глаз провожает их полет. Пожалуй, он был бы не прочь поменяться с ними местами. Точно на глянцевом снимке перед ним возник авиасалон, ряды кресел, он сам в одном из этих кресел, красивая стюардесса, которая с интимной улыбкой протягивает ему запотевший бокал, а он, мужественный, загорелый, широко улыбается ей в ответ.
Рейсовый ушел с экрана. Грозовые тучи медленно отступали к Авиньону. Симон сладко потянулся, зевнул да так и застыл с полураскрытым ртом.
Импульсы возникли внезапно, будто по экрану хлестнула пулеметная очередь. Рука Симона дернулась к телефону. Но мозг остудил панику. Догадки неслись вскачь, обгоняя друг друга. «Неисправность аппаратуры? Ракеты? Электромагнитные возмущения?..»
Луч плавно совершил оборот. Всплески не исчезли с экрана, а только сместились. «Это какая же у них скорость!..» — ошалело подумал Симон, испытывая жгучее желание немедленно доложить начальству. Но опыт, давний опыт солдата, подсказывающий, что если можно, то лучше с начальством дела не иметь, удержал его и на этот раз.
Новый оборот луча высветил всплески куда слабей. Симон перевел дыхание, как игрок после удачного блефа. Липкими пальцами расстегнул клапан кармана и извлек оттуда новую сигарету. Сердце стучало, как поршень гоночного автомобиля.
Минуту спустя всплески окончательно исчезли, «картинка» приняла прежний вид.
«Духи» — электромагнитные возмущения — будь они трижды неладны! Сколько раз они сбивали операторов с толку, сколько раз из-за них поднималась ложная тревога! Хорош он был бы со своим паническим докладом! Нет уж: если ты сам не бережешь свои нервы, то никто не побережет их за тебя.
7.20 по московскому времени.
С потревоженного кустарника ссыпались капли ночного дождя. Коротко прошуршав, окропили плащ, брызнули на стекла очков. Погребный сумрак подлеска, земля с палым листом смазались и помутнели.
Не задерживая шага, Джегин сдернул очки. Мокрая завеса исчезла, но мир не стал четче. Доставая платок и локтем отводя ветки, Джегин продолжал идти туда, где неясный просвет обещал просеку.
Объемна и насыщенна всякая минута жизни. Джегин видел размытый мир, неуверенно щурился, ибо, когда близорукий снимает очки, он видит мир не так, как в очках, и не так, как без очков. Одновременно сапог, запнувшись, рванул травяную петлю. Одновременно за шиворот скатилась капля, а голову пришлось резко наклонить, чтобы уберечь лицо. В то же время рука с заминкой продолжала тянуть сбившийся в глубине кармана платок, плечо перекосилось и напряглось, чтобы удержать ремень двустволки, и все это вызвало в Джегине мимолетное раздражение.
Думал же он о том, куда запропастился его напарник. И о том, почему холодит пальцы левой ноги — уж не прохудился ли сапог? По какой-то ассоциации мелькнула мысль о жене, которая не одобряла охоту или, верней, то, что она понимала под этим словом. А грибной запах, когда Джегин наклонился, вызвал беглое сожаление об упущенных маслятах и белых. И над всем брало верх азартное ожидание охоты, чувство свободы от обременительных забот повседневности. Но еще глубже скрывалась едкая тоска стареющего человека, который замечает медленный, из года в год, упадок сил, желаний, надежд и в душе готов на шальной поступок, лишь бы тот вернул ощущение молодости. Такой была последняя минута жизни Павла Игнатовича Джегина.
8.50 по московскому времени.
В высокие окна Центральной диспетчерской ЕЭС смотрело набрякшее влагой небо. Дождь, не переставая, лил дождь, косые струи били в стекла и светящийся огнями просторный зал с огромной, во всю стену схемой энергохозяйства страны, пультом посередине казался похожим на рубку исполинского, рассекающего океанское ненастье лайнера.
Загадочные для постороннего, как клинопись, значки на схеме были знакомы дежурному диспетчеру не хуже, чем таблица умножения школьному учителю арифметики. А нужный переключатель на пульте он мог найти с завязанными глазами, спросонья, в бреду, когда угодно и мгновенно. Но он не делал никаких резких движений. Наоборот, час за часом, смена за сменой он сидел в кресле, иногда обменивался по телефону короткими фразами с людьми на другом конце провода, только по делу, исключительно по делу, и снова сидел. Сидел, выполнял положенную работу скучновато, внешне спокойно — и ждал того, что, быть может, никогда не случится, во всяком случае, не должно случиться. Чем бы диспетчер ни занимался, он помнил о возможности непредвиденного события, и это было частью его служебного долга — помнить. А также ждать — всегда, постоянно, с готовностью пожарного, который отвечает не за дом, не за квартал, даже не за город, а за все хозяйство сразу.
Каждое слово диспетчера записывалось на магнитофон.
Сидя здесь, он, как в волшебном зеркале, видел то, чего никто не видел. Бессонными глазами он следил за движением утра. С Тихого океана катился рассвет, и миллионы сибиряков, оглушенные звоном будильников, вставали, потягивались, включали лампочки, кофеварки, электробритвы. И все это отражалось здесь — едва уловимым шевелением стрелок, микронным сдвигом на графике. Оживали лифты, спешили пригородные электрички, ускорялся пульс городского транспорта, распахивались заводские ворота, и тотчас электростанции принимали на себя возросшую нагрузку, ручейки энергии поворачивали на восток, энергосистема, как люди, разминала мускулы.
А рассвет тем временем переваливал за Урал, и в Европе повторялось то же самое.
Час «пик» для системы наступал позже, когда работала уже вся страна. И то, как она работала — ритмично или нет, — тоже было видно диспетчеру. Вечером же, не глядя в телевизор, он мог точно сказать, интересными или скучными были вечерние передачи. Более того, он был обязан предвидеть, какими они окажутся, чтобы лучше сманеврировать мощностями, потоками, агрегатами. Всем служащим был памятен переполох, когда весенним днем 1961 года, в разгар работы, и без того высокий пик потребления внезапно и, казалось бы, беспричинно пошел вверх. Ибо в космос поднялся первый человек, и повсюду моментально оказались включенными все радиоприемники и телевизоры. Что стало бы в этот миг с системой, если бы нагрузка исчерпала резерв?
Диспетчер встал еще в сумерках, среди сотен таких же служащих долго трясся в автобусе, потом в метро. Дождь пропитал пальто сырым запахом, резко бил в лицо, играл зонтиком, бросал под ноги жухлые листья, и, еще подходя к зданию, диспетчер думал о коклюше у ребенка, о том, что после работы предстоит профсоюзное собрание, о том, что не худо бы починить складной зонтик, механизм которого то и дело отказывает в самый неподходящий момент, и о том, как еще месяц назад славно грело солнце в Крыму. Теперь ни этих забот, ни этих мыслей не было и в помине; он привычно отрешился от них еще на пороге зала. Вместе с напарником он отвечал за исправность шедевра технического гения — грандиозную, изумительно сложную систему, которая пульсировала миллионами незримых и послушных молний, перемещая их с одного края земли на другой.
Сегодня все было спокойно, как обычно, как надо. Кривая потребления соответствовала расчетной, волжские гидроэлектростанции, как утром положено, слали энергию на восток, водохранилища благодаря дождям были переполнены, что облегчало любой непредусмотренный маневр.
Раскинувшаяся на треть Евразии система жила нормальной жизнью.
11.15 по московскому времени.
Сержант милиции молча курил. Врач разминал затекшую поясницу. Единственный свидетель того, что было, — коротенький человек в ватнике, зачем-то мял шапку, с тоской заглядывая в лицо сержанта и суетливо топтался на месте. В листьях мокро шуршал ветер. Глухо гудели уходящие вдаль провода высоковольтки.
Труп был прикрыт плащом. Из-под плаща высовывалась рука, в пальцах которой до сих пор были зажаты очки. Поодаль лежала двустволка.
Все, что положено, было сделано. Осмотрено место, допрошен свидетель, определена причина смерти. Однако все трое могли сказать кое-что сверх того, что уже было сказано, но не решались сказать.
Врача мучили сомнения. Все указывало, что смерть наступила от поражения током, но была одна непонятная деталь: на левой стороне лица погибшего отпечаталось нечто вроде елочки. Подобные «оттиски» иногда возникают на теле при ударе молнии. Но, насколько врач помнил, цвет их никогда не был зеленым. Уверенность врача не была полной, поскольку он никогда не сталкивался с таким видом смерти, а литература по этому вопросу… Ну, это был слишком специальный вопрос, далекий от повседневных забот поселкового врача.
В остальном картина была ясной. Так стоило ли говорить о сомнениях, запутывать тех, кто полагался на его знания?
Для сержанта картина тоже была ясной, однако и его терзали сомнения. Только они были куда более вескими, чем у врача. Осмотр, показания свидетеля позволяли точно восстановить картину. Погибший миновал кустарник, который отделял его от просеки, и сразу, с ходу, даже не успев надеть очки, выпалил. Его приятель, который отстал в этот момент метров на сто, слышал выстрел, а затем крик: «Бо-о-льно!» Когда он подбежал к Джегину, все было уже кончено.
Ладно, промазал. От этого не умирают. Что же произошло мгновение спустя? Молнии из этих низких, волглых облаков быть не могло. А если бы даже она ударила, то свидетель-то не глухой… Нет, молния исключена. Тогда утечка из высоковольтки? Допустим. Почему же свидетеля, который минуту спустя оказался на том же месте, даже не тряхнуло? Не могла же молния ни с того ни с сего полыхнуть с проводов! Да и погибший стоял не под проводами, а далеко в стороне. Что же прикажете писать?
«Интлиенция ржавых гвоздей!» — витиевато и непонятно выругался про себя сержант. Надо же было отвести душу!
А свидетель, чувства которого были потрясены до основания, замирал от страха. Он не сказал о том, что видел в момент, когда раздался крик. Его бы сочли сумасшедшим! Кто же поверит, что он видел… или ему показалось, что он видит… как в просвете ветвей мелькнула распластанная в воздухе… черная шаль! Черная и одновременно прозрачная. Такого просто не бывает, очевидно, ему померещилось. Прилив крови к голове, испуг от крика… Да, да…
— Подхватывай, — скомандовал сержант.
Они взяли труп Джегина и понесли. Они несли его бережно, хотя теперь это не имело никакого значения.
1.20 по калифорнийскому времени
12.20 по московскому.
Самолет РВ-91, выполняя задание, пересек береговую линию штата Калифорния. Позади осталась темная гладь океана. Огоньки поселков, отчетливо видимые сквозь толщу ночного воздуха, плыли теперь, сменяя друг друга.
РВ-91 был битком набит электронной аппаратурой, куда более дорогостоящей, чем содержимое иного банковского сейфа. С ней работали два оператора. Один из них — Джон Воравка — был фаталистом и настолько верил в предопределенность будущего, что никакое событие не могло его удивить или вывести из равновесия. Маленький худой Вальтер Тухшерер был человеком другого склада. Сейчас он думал о том, как славно он выспится на базе и как славно потом проведет время — в баре, где грохочет музыка, где тебя поминутно хлопают по плечу знакомые и где после доброй порции выпивки сизый воздух становится опаловым, а лица девушек прекрасными.
От мечтаний его оторвал сигнал с правого борта, который вскоре переместился на нос, пересек курс самолета и стал пеленговаться с левого борта. Вальтер Тухшерер привычно определил параметры сигнала: частота 2995 мегагерц, длительность импульса — две микросекунды, частота качания луча антенны на источник — четыре цикла в минуту, поляризация поля вертикальная.
— Наземный локатор, а?
— Похоже, — отозвался Воравка.
— Чертовски быстро изменился пеленг на источник, ты не находишь?
— Что есть, то есть.
— Барахлит он, что ли? У этих гражданских встречается такое старье, ой, ой!
— Бывает.
— Или это спецлокатор.
— Тоже возможно.
Оба умолкли, ибо тема была исчерпана. Они и заговорили только потому, что уж больно усыпляюще гудели моторы.
Минуту спустя сигнал исчез, а еще через минуту оба и думать о нем забыли. Самолет мерно продолжал пожирать пространство.
Командиру корабля Уолту Дикки не надо было бороться со сном. Он принадлежал к той редкой породе людей, которую психологи называют «совами». Ночью такие люди не испытывают потребность в сне, чего нельзя сказать о дневных часах. Уолт, вероятно, поразился бы, узнав, что это качество наследственное, что род его прямиком идет от ночных сторожей обезьяньего стада. Ему это свойство доставляло одни неприятности, так как наша цивилизация, в сущности, дневная цивилизация, и к «совам» она немилостива. Все же Уолт стал тем, кем хотел быть — летчиком. Частые ночные полеты, которые он, к удовольствию товарищей, с готовностью брал на себя, оказались нечаянным подарком судьбы.
Полетным заданием был предусмотрен разворот на восток в районе городов Карсон-Сити и Рино, после чего предстояла работа по подавлению помехами наземной локационной станции. До этого момента у командира корабля, равно как и у второго пилота, никаких особых дел не было.
Непохожесть Уолта делала его восприимчивым к посторонним мыслям. Иногда, вот как сейчас, он остро чувствовал свое одиночество. Звук его самолета вкрадывается в ночной сон тысяч людей там, внизу. Он их никогда не увидит, как и они его. Взаимно они друг для друга вроде символов. Он может только догадываться, как они живут, работают, любят, развлекаются, глотают наркотики или шепчут нежные слова. Он сам по себе, они сами по себе, меж ними расстояние, как между звездами в небе. Что же в таком случае значит великое и прекрасное понятие — страна? Благодатная, огромная, еще недавно, казалось, богом избранная, а сегодня неуверенная в себе, в своих идеалах, путях и целях? К худшему это или к лучшему, что страна потеряла веру в свою непогрешимость?
Уолт подумал об Экзюпери, книги которого знал наизусть. Часто Уолт задавал себе вопрос, почему он не видит мир так же глубоко и полно, как видел его этот парень? Оба они летчики. Оба мыслящие люди. И перед глазами у них одно и то же. Впрочем, нет! Самолеты даже нельзя сравнить. А земля двух разных времен? Интересно, что открылось бы Экзюпери с двенадцати тысяч метров и на реактивной скорости?
Вглядываясь во мрак, Уолт пробовал это представить. Но ничего не было в покровах ночи, кроме звезд в вышине и огоньков внизу.
«Всю землю обволакивала сеть манящих огней; каждый дом, обратись лицом к бескрайней ночи, зажигал свою звезду».
Так писал Экзюпери. Еще он, мигая бортовыми огнями, слал людям внизу привет. Кому сейчас в голову придет такое?
Уолту вдруг страстно захотелось сделать это.
«Сеть манящих огней…» Сеть ли? Скорей россыпи. Золотые россыпи Калифорнии, самой богатой, технизированной, динамичной земли Америки.
И все же не россыпи. В них есть скрытая геометрия. Точки фонарей, пунктиры, полуокружности; сложная, рыхлая, светоносная, вытянутая по оси главных улиц структура. В предместьях больших городов — это уже скопления, сияющие сростки структур. Точно колонии искрящихся организмов. Они переливаются в мерцающем воздухе, пульсируют, живут, колышутся, как морские ночесветки.
Даже не так. Полузабытый рисунок в учебнике. Нервная клетка. Аксон, кажется? Та же вытянутая по осям, неправильная структура, те же прихотливые сростки, только нет этого бегучего, искристого сияния. Лучистый срез нервного соузлия — вот что такое город сверху…
А ведь этого нет у Экзюпери, внезапно сообразил Уолт. Нигде я об этом не читал.
Он прикрыл глаза. Тесня друг друга, промелькнули пейзажи ночных городов, над которыми он пролетал, которые видел. Все было так. Все было именно так, никакой фантазии. Неужели это видит он один? Один в целом мире?
Ну, ну, не преувеличивай, успокоил он себя. Писателям, должно быть, на это и бумагу тратить неохота. Для них все это само собой разумеется.
А если даже не само собой, так что? Ничего. Сам ты никогда ничего не напишешь.
А все-таки, когда думаешь о ночном городе не просто как о скопище огней, а видишь его живым, трепетным, сияющим, средоточием мысли, то такой город прекрасен. Прекрасен своей неразгаданностью. Тем, что он сложен. И тем, что нет на земле ничего похожего. Не россыпь огней, не мерцающий в ночи кристаллик, не скопление ночесветок — Город.
Огоньки поодаль, за которыми Уолт наблюдал, внезапно затмились, словно их прикрыла незримая рука.
Облако? Хотя воздух все время полета оставался прозрачным, облачко могло притаиться в темноте ночи. Но это насторожило Уолта. Подсознательно, по привычке его мозг мгновенно проделал чудовищную, если перевести ее на язык математики, работу — рассчитал, за какой момент времени при данном положении самолета практически неподвижная тень облака могла вот так накрыть огни поселка. Получалось что-то несуразное. Выходило так, что облако двигалось — и очень быстро.
Вывод не был четким и вполне осознанным. Летчик ощутил то же самое, что ощутил бы пешеход, который, машинально оценив движение транспорта, ступил на переход и вдруг обнаружил у себя под носом невесть откуда взявшийся грузовик.
Огоньки снова открылись. Посторонняя тень — опять же слишком быстро — ушла куда-то вправо. Такой скоростью, конечно, мог обладать самолет. Но никакой самолет не мог вот так закрыть собой скопление огней на земле.
Уолт продолжал напряженно вглядываться в темноту, как это некогда делали его предки. В стороне горела одинокая точка. Если ему не мерещится, если он правильно определил курс и скорость «пятна», оно вот-вот должно заслонить этот огонек.
Оно его заслонило.
А какое, собственно ему, Уолту, до всего этого дело? Он отвечает за безопасность самолета, за выполнение задания, все прочее его не касается. «Пятно» не было самолетом, и оно уходило прочь, за пределы того «воздушного пузыря», который составлял зону безопасности РВ-91. Следовательно…
— Вальтер, как у тебя там — ничего не наблюдается?
— В каком смысле, капитан?
— В любом. По курсу…
— Ничего нет, — ответил Тухшерер. И тут же добавил: — Сейчас проверю.
Добавил он только потому, что его томила скука. Кроме того, его удивила необычная нотка в голосе капитана. Вальтер забыл о недавнем сигнале, но поиск в эфире машинально начал вблизи частоты 3000 мегагерц.
И сразу был вознагражден.
— Сигнал с пеленга шестьдесят градусов! — ликующе воскликнул он. — Параметры…
Да, именно там сейчас находилось «пятно». Уолт готов был поклясться, что видит, хотя как он мог различить его в темноте?
— Странный сигнал, — подытожил Вальтер свое сообщение.
— Может, что-то с аппаратурой? — спросил Уолт.
— Моя показывает то же самое, — подал голос Воравка.
— Бред собачий! — выругался Вальтер. — Сигнал не уходит…
РВ-91 шел с почти звуковой скоростью, и пеленг на любой наземный источник должен был измениться.
— Прибавляю скорость, — сказал Уолт.
— Задание! — предупредил его штурман.
— У нас есть время.
Прошло минуты три.
— Пеленг? — снова спросил Уолт.
— Без изменений, — оператор тяжело вздохнул.
— Угу, — добавил Воравка. — Такое вот кино…
— Пора ложиться на курс, — забеспокоился штурман. — Взгреют нас на базе…
— Чему быть, тому не миновать, — сказал Воравка, прекрасно понимая, что взгреют не его.
Все говорило за то, что погоню надо бросить. Офицеров предупреждали, что никаких «летающих тарелочек» в природе не существует, все это вымыслы досужих газетчиков. Да и Уолт не мог припомнить летчика, которому бы доверял и который признался, что видел «нечто». Ходили всякие слухи, но слухи есть слухи.
И все же Уолт колебался.
— Источник раздвоился! — вскричал Тухшерер. — Сидит на пеленге 040 и 070!
Уолт мельком взглянул на плывущие внизу огни поселков: они горели ровно и безмятежно.
Если он сейчас уведомит пункт наведения истребителей-перехватчиков, то оттуда запросят маяк-ответчик РВ-91, автомат даст отзыв, земля уточнит на экранах местонахождение самолета и прощупает локаторами весь район.
Все будет сделано, как должно, машина завертится, и…
И это будет чрезвычайным происшествием, скандалом, если расследование установит, что для тревоги не было достаточных оснований. А что значит «достаточных»? Дикки живо представлял себе лицо генерала Метьюза, человека, который вполне убежден в существовании стали, ибо она твердая, виски, потому что оно обжигает горло, и уже не столь твердо уверен в реальности радуги, которую, «сколько ни лети, не достигнешь, а потому неизвестно, есть она или только кажется». Таких людей куда больше, чем принято думать, а они-то и будут судить его поступок.
Ища поддержки, Уолт взглянул на подчиненных. Штурман отвел взгляд.
— Пеленг 040 замер! — вдруг доложил Вальтер. — Такое впечатление, что источник опустился на землю! Нет пеленга… — добавил он растерянно.
— Какого? — быстро спросил Уолт.
— Никакого, — ответил Воравка.
Итак, все решилось само собою! Странный объект исчез, и нет смысла вызывать землю. Уолт не знал, огорчает ли его это или радует. Если бы он не колебался… Что-то во всем этом было не так.
7.35 по вашингтонскому времени
15.35 по московскому.
В окна диспетчерского зала Североамериканской энергетической системы не стучал дождь. В остальном этот зал внешне мало чем отличался от московского.
В Калифорнии утро еще только занималось, тогда как над улицами Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии уже стлался сизый дымок автомобильных выхлопов, Деловой ритм ускорял обороты гигантской производственной машины, которая за сутки перемалывала больше вещества и потребляла больше энергии, чем любой действующий вулкан.
Заступив смену, Френк Маультон привычно окинул взглядом свое сложное и ответственное хозяйство. Энергетический пульс страны бился ровно. Рожденная пламенем угля, нефти, газа, падением водопада, распадом атома, переданная за сотни и тысячи миль энергия тут же сгорала в печах и моторах, чтобы в то же мгновение, подобно сказочному Фениксу, возникнуть вновь. От Флориды и до Орегоны валы всех бесчисленных генераторов работали в унисон, на бешеной скорости выдерживая один и тот же угол поворота, согласуясь друг с другом строже, чем мускулы человеческого тела.
Возле пригорода, где жил Френк, недавно построили новый аэродром, Френк засыпал с трудом, с трудом поднимался и до сих пор чувствовал себя несвежим. К счастью, все и на этот раз было в полном порядке.
Правда, вот так же все было в порядке ноябрьским вечером 1965 года за секунду до того, как территория США и Канады с населением в тридцать миллионов человек внезапно погрузилась во мрак. Когда в высотных бильдингах замерли лифты, когда на дорогах остановились электрички, из кранов перестала течь вода, а в сотнях операционных погасли бестеневые лампы.
До утра жизнь оказалась отброшенной вспять, города превратились в катакомбы, и миллионы людей охватило дыхание хаоса. Для того ли человек создал цивилизацию, оградил себя от бурь, ливней и холода, чтобы в самом ее средоточии стать жертвой стихийных сил техники?
Этот вопрос задавали себе многие, но общественность так и не получила внятного ответа, что, собственно, произошло. Не так давно Френку довелось прочесть книгу одного кибернетика, и она заставила его задуматься. В ходе развития систем, предостерегал ученый, возникает сложный механизм, который можно уподобить живому существу. Незримый, способный проявить своеволие робот. Именно это и послужило причиной «великого затмения» 1965 года. Сложнейшая автоматика повела себя в энергетической системе непредусмотренным образом. Человек вмешался слишком поздно, — он физически не был способен предотвратить катастрофу.
«Остерегайтесь роботов, которых нельзя увидеть!»
Сначала эти слова, которыми ученый заканчивал главу, рассмешили Френка. А потом ему стало грустно. Что происходит, если даже ученый не знает истинных причин события, которое потрясло страну? Что происходит, если в науке вот так легко возникает новый, с иголочки электронный миф?
Ведь истину мог бы понять и неспециалист. В 1965 году еще не было Объединенной энергетической системы США и Канады. Развалилась куда менее крупная система Кэнюз. Но можно ли было ее назвать системой в подлинном смысле этого слова? Технически это была, конечно, система. Но система — конгломерат. Почему, собственно, образуются энергетические системы? Потому, что при прочих равных условиях, как сами электростанции, так и их агрегаты, тем выгодней и дешевле, чем выше мощность установок. Однако мощным станциям нужны мощные потребители. Когда соседние удовлетворены, куда девать излишки? Передавать на расстояние все более далеким городам и заводам. Уже одно это требует сращивания энергохозяйств.
Но не только это. Схема электростанция — потребители ненадежна. Агрегаты изнашиваются, требуют ремонта, наконец, возможна внезапная авария — потребителю до всего этого дела нет. Отключил — плати неустойку! Значит, постоянно держать в резерве хотя бы один агрегат? Накладно. А на тепловых станциях резервный агрегат не сразу и пустишь…
Система — это выручка, маневр, экономия. Предприниматели и инженеры вольны думать, что в их власти задать технике любой путь развития. Это иллюзия. Перед ними коридор, и тот, кто захочет биться головой об стену, разобьет себе лоб. Попробовала бы какая-нибудь компания уклониться от объединения в систему! Разорилась бы, только и всего.
Но, объединившись, компании, естественно, не утратили независимость. Свое хозяйство, свои потребители, и, если что, — неустойка из собственного кармана. Соответственно была разработана система аварийной защиты. Что она должна была бы сделать в ситуации «великого затмения»? Немедленно обесточить энергоемких потребителей на том участке, где возникла непредвиденная и опасная перегрузка. Ничего страшного — немало таких потребителей, хозяйство которых не расстроит кратковременный перебой подачи электроэнергии. Зато Кэнюз уцелела бы, быстро оправилась и помогла пораженному участку.
Но над всем витал грозный дух неустойки. Когда тонет лодка и спасти ее может лишь команда «Груз — за борт!», надо, чтобы эти слова были произнесены своевременно.
Позвольте, но почему за борт должен лететь мой груз?
Так было.
Было? Почему он думает об этом в прошедшем времени? Конечно, сейчас не 1965 год, и эта система — не Кэнюз. Новейшая, по последнему слову науки автоматика. Выводы сделаны, трагедия «великого затмения» больше не повторится!
Дай бог, дай бог… Выводы, точно, сделаны. Все ли, однако? Где тот капитан, который, исходя из ситуации и только из ситуации, решительно скомандует в критическую секунду: «Груз за борт! Этот!»?
Специалисты не обладают таким правом. Среди них нет капитанов. Капитаны сидят за незримыми пультами.
Френк помотал головой, чтобы отогнать неприятные мысли. Вот до чего доводит бессонница! С такими идиотскими мыслями нельзя водить автомобиль, не то что сидеть за пультом. Лучшая страховка — это уверенность. Все хорошо тогда, когда каждый честно и компетентно делаете свою часть работы. Тогда все действует правильно и надежно. Кем бы хозяева ни были, они не враги себе. В своей сфере они тоже компетентные люди. Вот, правда, инфляция, безработица… Кругом сплошное безобразие! Только техника и надежна.
Стоит лишь выйти за ее пределы, ну каменный век, да и только! А, в общем, чего он об этом думает?
Френк вынул зажигалку и поднес ко рту сигарету.
В те девять секунд, которые последовали за этим, Френк успел: зафиксировать мгновенно изменившиеся показания приборов; похолодеть от ужаса; осознать, что случилось; забежать в будущее; уловить направленность событий; перебрать с десяток вариантов возможных решений; понять, что хорошего варианта в этой ситуации быть не может; вспомнить трагедию Кэнюз; вознести мольбу к богу, судьбе или кто там есть; отобрать из всех плохих вариантов не самый худший; проклясть все и вся; сверить свое решение с ходом реальных событий и утвердиться в нем; выронить зажигалку и сигарету; протянуть руку к пульту.
В эти же девять секунд, которые прошли без вмешательства дежурного и его напарника, в системе разыгрались такие события: в штате Индиана на линии напряжением 800 тысяч вольт ток превысил критическое значение; реле отключило магистраль; ток от энергоцентралей пошел по другим линиям; система была загружена далеко не полностью, и пропускная способность линий была вполне достаточной, но в штате Кентукки почему-то отключилась еще одна линия — и еще одна в Иллинойсе; оставшиеся не выдержали нагрузки; энергия ринулась в обход через Канаду и южные штаты; генераторы стали сбиваться с ритма; реле группа за группой принялись отключать потребителей.
Слишком поздно!
Френк Маультон, да и любой другой человек на его месте, не успел бы вмешаться в события. Спустя семь минут тридцать восемь секунд после отключения первой линии электростанции задохнулись, а связи меж ними разорвались. Единственно, что успел сделать Френк, так это спасти очаги системы, благодаря чему положение стало не таким уж безнадежным.
15.41 по московскому времени.
Автобус выхлестывал недавние лужи, строчки прыгали перед глазами, и Багров время от времени опускал книгу, чтобы дать зрению отдых. Тогда в его сознание врывались обрывки разговоров.
— Рыжик крупнее трехкопеечной я не беру. Не-ет… Вкус не тот!
— Разумно, разумно. Хороши еще маленькие отварные свинушки…
— …Забыл формулу, понимаешь?! Стал выводить по логике. Профессор кивает. «Ну, думаю, иду по стопам Бора…»
— …Я ему говорю: «Ты для кого дом ставишь?! Для врагов своих?! Тебя бы переселить в такую квартиру!» А он, сволочь, только ухмыляется. Знает, деваться мне некуда…
— …Не спорь, Клавдюша, не спорь. Школа во всем виновата.
— И, Маша! В школе-то дисциплина, а вот родители нынешние…
— Скажешь тоже — родители! На родителях все держится. Школа — она распускает.
— А вот и не школа совсем — родители-потатчики.
— Нет, школа.
— Родители…
Багров снова уткнулся в книгу. Археология вообще и Древний Вавилон в частности мало интересовали молодого экзобиолога. Тем более что из школы он вынес стойкое пренебрежение к истории с ее бесконечными датами, которые обязательно надо запомнить, фактами, которые можно трактовать то так, то эдак, событиями, которые ничего не говорят уму и сердцу (битва на реке Оронт — да какая разница, кто там кого победил?!). Но другой книги, когда он уезжал с биостанции, под рукой не оказалось, а что еще делать в местном автобусе как не читать?
Однако новая глава неожиданно увлекла Багрова. В ней описывалась клинописная библиотека Вавилона, которая уцелела до наших дней и была найдена при раскопках. Собственно, то был скорей архив, чем библиотека.
Архив, а в нем документы. Багров мысленно ахнул, дойдя до текста, из которого со всей очевидностью явствовало, что был в Вавилоне свой скупщик «мертвых душ». Был свой Чичиков! Живой, реальный — за три тысячелетия до Гоголя…
Только не мужчина, а женщина.
Багров оторопело уставился в книгу. Как же так? Да уж так… Вот документ вавилонской канцелярии. А тысячелетия прогресса?!
Непостижимо, невероятно, сюжет великого романа — быль Древнего Вавилона. А впрочем… Подожди, подожди… Там рабство — здесь крепостничество. Тот же примитивный труд, те же помещики, цари. Так или не так? Так. Чему же тогда удивляться?
И все-таки не укладывается. Не верится. Вот тебе факт — не верится! А тому, что деда вот этого пожилого колхозника могли продать, как скотину, — в этом ты не сомневаешься? Могли ведь продать. И засечь могли. Деда вот этого самого человека в двух шагах от тебя, который рассуждает о достоинствах рыжиков? Могли? Могли. Вот тебе весь прогресс, как на ладони. Есть вопросы?
Рассеянно глянув по сторонам, Багров вновь погрузился в чтение. И автобус с его гомоном отошел куда-то далеко, далеко, за пределы того книжного мира, где царства пожирали друг друга, не подозревая, что все они сгинут, как сон, и останутся не войны, победы, захваты и поражения, а хрупкие ростки культуры, уроки социального опыта, которые потомки бережно извлекут из забвения.
Из сосредоточенности его вывел придушенный женский вскрик. Багров поднял голову, вздрогнув не столько от крика, сколько от внезапной тишины в автобусе, которая последовала за этим. Пассажиры с одинаковым выражением замешательства смотрели в окна. Кто-то отпрянул, кто-то, наоборот, прильнул к стеклам, а кто-то замер на полуфразе, еще не осознав, что происходит. Багров глянул туда, куда смотрели все, и сердце дало перебой.
Шоссе, по которому катил автобус, сближалось с линией высоковольтной передачи. В пейзаже не было ничего особенного: мокрое картофельное поле, ажурные мачты за ним, мирная даль перелеска, табунок застенчивых березок, жемчужный отсвет неба на всем, такая обычная, неброской красотой щемящая сердце родная земля. Но то, что было меж мачтами и что в первое мгновение показалось Багрову веретенообразным, рыхлым, нелепо, как на картине сюрреалиста, составленным из треугольничков телом, чудовищно противоречило всем ее формам и краскам. Более всего оно напоминало груду непонятно как висящих в воздухе брикетов спрессованного дыма.
Словно кто-то другой отметил в Багрове нелепость такого сравнения (когда и где он видел спрессованный дым?!). И тут же опроверг сомнение, поскольку материя тела была одновременно неподвижной и шевелящейся, четкой и расплывчатой, телесной и невесомой. Страшное своей противоречивостью сочетание.
Долгая минута, в которой замерли все звуки, дальние предметы скачком приблизились, а ближние расплылись цветовыми пятнами и автобус словно застыл на месте, прошла. Багров осознал, что автобус движется как ни в чем не бывало, что шоссе удаляется от всего этого ужаса, что тишину режет удалой ритм магнитофона, который держит на коленях парень с козлиной бородкой на обмершем лице.
«Нечто» скрылось за поворотом, и все загалдели разом. Багров слышал голоса как бы из другого пространства. Единственный из всех он понял, чем было увиденное. Понял, несмотря на истошные вопли здравого смысла и пароксизм страха, от которого все онемело внутри.
У него было ощущение человека, летящего в пропасть. Дать немедленную разрядку мог разве что истерический смех. Он едва удержался, чтобы не метнуться по проходу, молотя кулаками в стену шоферской кабины. Зачем? Этого Багров не знал. Он видел достаточно, чтобы понять — нельзя терять ни минуты. Провода связи, подобно нервной сети, оплетают всю поверхность земного шара. Отвлеченно рассуждая, любой человек в последней четверти двадцатого века, взяв телефонную трубку, может быстро соединиться с любым другим обитателем планеты, если тот, понятно, не живет в сельской глуши. Технически это возможно. Но только технически.
Вдали показались домики поселка. Здесь, разумеется, был телефон. А дальше? Куда и кому звонить? С каким ответственным лицом ему дадут связь? Кто выслушает его, не бросив трубку после первых же слов?
Мысленно Багров уже наметил путь. Выслушать и поверить сможет лишь тот человек, который доверяет ему. И обладает достаточным кругозором, чтобы оценить ситуацию. И смелостью, чтобы действовать. И весом, чтобы к его словам прислушались. В свою очередь, надо, чтобы человек, которому тот позвонит, тоже обладал всеми перечисленными качествами. Сколько будет таких ступенек? Правда, есть академик Двойченко. Это надежно! Но обремененного совещаниями академика не так-то легко застать в институте…
А не преувеличивает ли он свой долг? — спросил себя Багров. Есть службы наблюдения, есть люди, обязанные — вот именно, обязанные! — следить за сушей, морем и воздухом. Почему он, Багров, должен лезть не в свое дело? Мало ли было уроков, когда ему давали понять, что его непрошеные советы и инициатива излишни?
Автобус, тормозя, въезжал на площадь. Длинноволосый парень у остановки неистово терзал транзистор. Музыка мешалась с иноплеменной речью, мир говорил, проповедовал, спорил, взывал, отрицал, доказывал, убаюкивал, пугал, и не было на этом форуме лишь слова о том, что Землю ждет что-то совсем, совсем новое.
Расталкивая людей, Багров побежал к пункту связи.
8.28 по вашингтонскому времени
16.28 по московскому.
— …Говорю с вами по поручению президента. Прошу объяснить, что происходит.
— Наши специалисты как раз заняты выяснением. Могу изложить только предварительные сведения.
— Да, да, конечно!
— Для наглядности представьте, что у себя в доме вы включили, ну, допустим, заводскую электропечь. Предохранители, понятно, не выдержали и обесточили квартиру. Примерно это и произошло.
— Вы включили электропечь размером с округ Колумбия?
— Ничего подобного! Однако полное впечатление, что к линиям системы подключились какие-то сверхмощные и неизвестные потребители.
— Марсиане, а?
— Извините, господин советник, нам не до шуток.
— Нам, смею вас уверить, тоже. Что вы предпринимаете?
— Прежде всего я должен сказать, что система была спроектирована с учетом любых предвидимых осложнений. Подчеркиваю: предвидимых. Никто, однако, не строит здание в расчете на двенадцатибалльное землетрясение.
— Это вы будете объяснять сенатской комиссии, которая, надо полагать, будет создана. Я задал конкретный вопрос.
— Тем не менее я считаю свои пояснения не лишними. Дело в том, что происходящее не имеет аналогов. Будь то обычная авария, свет в вашей настольной лампочке даже не моргнул бы. Но это не авария. Позволю себе продолжить сравнение с предохранителями в квартире. Их назначение в том, чтобы не допустить перегрузки, на которые сеть не рассчитана. Через какой-то срок предохранители автоматически включаются и все приходит в порядок, если исчез источник перегрузки. Если он не исчез, то предохранители отключаются снова и снова. До тех пор, пока…
— Пока я не вызову монтера и он не устранит повреждение. Это ясно. Так мы никогда не доберемся до сути.
— Мы уже до нее добрались, с вашего разрешения. Система — это не просто проводка в квартире размером с полконтинента. Одна авария на линии, одно, так сказать, короткое замыкание, два-три таких замыкания не могут вывести систему из строя…
— Разрешите, я вас прерву. Наш разговор записывается с первого до последнего слова. Поэтому я напоминаю вам о тех объяснениях, которые ваш предшественник давал в момент «великого затмения».
— Я отдаю себе в этом отчет… Тем не менее настаиваю, что в случившемся нет нашей вины. В сильном упрощении ситуация выглядит таким образом, будто на линиях повисли те самые сверхмощные потребители, о которых я упоминал. Эта катастрофическая и внезапная нагрузка нанесла системе урон, мы не отрицаем. Иначе и быть не могло! Но оперативными усилиями наших работников мы в рекордный срок смогли восстановить дееспособность системы, насколько это вообще возможно. Совет директоров заседает непрерывно. Однако все наши попытки дать стране энергию терпят провал именно по той причине, о которой я говорил.
— Должен ли я объяснить президенту, что катастрофа вызвана потусторонними силами?
— Непонятными, это точней. Вы можете не поверить, но таинственные «потребители» перемещаются…
— Послушайте…
— Заявляю это со всей ответственностью. Нагрузка снимается с тех линий, которые полностью отключены, и перемещается на линии, по которым мы даем ток. Такое впечатление, что «потребители» способны летать со скоростью сверхзвукового лайнера. Страна в опасности. Вы меня слушаете?
— Да. Слушаю и думаю. Если по стране перемещается нечто более материальное, чем надувной шарик, то ПВО засекло бы эти перемещения.
— Значит, вы полагаете, что мы тут бредим?
— Нет, я далек от этой мысли.
— Тогда помогите.
— Чем?
— Пошлите по всем магистральным линиям, их списки я вам дам, армейские вертолеты. Поднимите в указанных районах на ноги полицию, национальную гвардию, армию, наконец.
— Но это же…
— До тех пор, пока это не будет сделано, пока мы не выявим «потребителей» и не обезвредим их, система не сможет функционировать. Совет директоров Объединенной энергетической, все компании, весь наш персонал делает все возможное. И невозможное. Наши силы, однако, не соответствуют масштабу проблемы.
— Хорошо, я доложу ваши соображения, хотя видит бог… Вы можете хоть что-нибудь сказать о предполагаемой природе этих ваших «потребителей»?
— Ничего, кроме того факта, что они быстро движутся и обладают фантастической энергоемкостью.
— Технически возможно изготовить такие портативные устройства и тайно пустить их в ход?
— Если вы приведете к нам такого парня, то от нас он выйдет миллионером.
— Благодарю вас. Держите нас в курсе.
— Обязательно, господин советник.
9.02 по вашингтонскому времени
17.02 по московскому.
Эрл Фокс, дежурный переводчик прямой линии Вашингтон — Москва, поудобней вытянул ноги и вновь перечитал абзац.
«— Хороша! Только надо ее маленько грязнотцой с шафраном усмирить. — А потом взял икону с ребер в тиски и налячил свою пилку, что приправил в крутой обруч, и… пошла эта пилка порхать. Мы все стоим и того и смотрим, что повредит! Страсть-с. Можете себе вообразить, что ведь спиливал он ее этими своими махинными ручищами с доски тониной не толще как листок самой тонкой писчей бумаги… Долго ли тут до греха; то есть вот на волос покриви пила, так лик и раздерет и насквозь выскочит! Но изограф Севастьян…»
Эрл бессмысленно уставился в пространство. «Налячил…» «Приправил в крутой обруч…» Интересно, сами-то русские понимают хоть что-нибудь в этом тексте?!
В свободное время дежурства переводчики на обоих концах линии взаимно испытывали искусство партнера. Пять дней назад Эрл закатал русским выдержки из правил игры в гольф (кто там смыслит в этих правилах?). К удивлению Эрла, русские довольно быстро расщелкали текст. Теперь («долг платежом красен», — милая у русских пословица, ничего не скажешь) они прислали несколько страничек из сочинений какого-то своего классика. Ну да, Лескова… Хорошо, значение «налячил», вероятно, можно найти у Даля. Найти-то можно, а как перевести адекватно? Чтобы в Москве не померли от смеха? Был же случай, когда какой-то немец перевел «Полтаву» их великого Пушкина и получилось: «Богат и знатен Кочубей. Его поля необозримы были. И много-много конских морд его потребностям служили». Нет, такого удовольствия он им не доставит!
Эрл потянулся к Далю. Но раскрыть словарь ему не пришлось.
Линия ожила.
10.03 по вашингтонскому времени
18.03 по московскому.
«Ищите необычное, — думал Бертон. — Что они там, с ума посходили?»
Такого невразумительного приказа он ни разу не получал. «Прочесать квадрат А-3». — «Есть, сэр!» — «Обстрелять объект…» — «Слушаюсь, сэр!» — «Доставить этих парней…» — «Понятно, сэр!»
Ищите необычное…
В сердцах Бертон сплюнул на пол. Вокруг все было самым обычным — лес по сторонам, просека внизу, мачты на ней. Вертолет шел как по линеечке. Имперской гордости римлян — их прямым дорогам было далеко, очень далеко до победной прямизны энерготрасс. Линия рассекала землю, невзирая на реки, топи, горы, словно препятствий не существовало вовсе. Так, впрочем, оно и было, и это давно никого не удивляло.
Как ни удивляли и сами мачты, эти ни на что не похожие металлические гиганты, которыми в считанные десятилетия проросла земля. Для таких, как Бертон, они всегда были — и всегда будут. А как иначе?
Ищите необычное. Что прикажете считать необычным? Эту стаю галок вдали? Ишь провода облепили… Нет, скорей это вороны. А впрочем, черт их там разберет, этих птиц! Хоть бы их всех потравили, только суются в двигатели, когда не надо. Хокс вот так чуть не гробанулся при взлете…
Нет, таких птиц он положительно никогда не видел. И что бы они такой кучей — тоже. Может, это и есть необычное? Ворона, галка или там попугай, а клюв должен быть. Должен — и точка.
А еще радуга над ними. Переливается струями, будто течет. Забавно! Небо-то чистое…
Бертон представил, как он обо всем этом доложит, и хмыкнул. Страха он не испытывал вовсе.
— Эй, там, на базе! Можно ли считать необычным, если у птиц нет клюва?
— Докладывайте по форме!
— Есть, сэр! На семнадцатой миле обнаружил стаю подозрительных птиц. Облепили провода. Клюва не имеют, сэр! Форма тела неопределенная. Еще радуга над стаей, переливчатая.
Вот тебе, получи ежа в желудок!
Ледяное молчание, само собой. Переваривает, офицер. Давай, давай, полезно.
— Как насчет агрессивности поведения?
«Вот дурак», — подумал Бертон.
— Отсутствует!
— Опишите объект подробней.
Бертон описал.
— Хорошо, разберемся. Продолжайте наблюдение объекта.
Разберется такой, как же… Понасажали идиотов в штаб. Такой девушку поцеловать без циркулярчика не решится. Ладно, все это мура.
Кружа над просекой, Бертон стал размышлять. Тревога, видать, нешуточная, раз их всех подняли и велели искать неизвестно что. Так что лучше отставим смешки. И если эти птицы, которые все-таки никакие не птицы, стали причиной тревоги, а он их первый заметил, то из этого, раскинув умом, можно кое-что извлечь. Рассказ очевидца, снимки…
Снимки!
Камеры вертолета опломбированы. Интересно, сколько все же могут стоить фотографии? Если это сенсация, то дорого. Их либо опубликуют, либо засекретят. Но если пораскинуть мозгами…
10.15 по вашингтонскому времени
18.15 по московскому.
Ревя сиреной, машина мчалась по пригородному шоссе, так, что все другие шарахались в сторону, и вой сирены, мелькание поворотов, визг покрышек был самым подходящим аккомпанементом тревожному голосу радио, которое шофер пустил на полную громкость. Если верить диктору, то планета напоминала собой вдруг остановленный на полной скорости экспресс, где все летело и рушилось друг на друга.
Лукаса смутно удивило, что радио все-таки работает, но он тут же сообразил, что есть автономные источники энергии, и следовательно… Что, следовательно?
Лукас не успел додумать мысль, потому что офицер повернул к нему свое внешне бесстрастное лицо.
— Как вы думаете, профессор, это только начало?..
«…Или уже конец?» — Лукас угадал непроизнесенное.
— У меня нет нужной информации, — сухо ответил он.
На лбу офицера выступили капельки пота. Лукас впервые почувствовал, что он сейчас, пожалуй, один из самых главных персон земного шара. Что все эти военные с их воздушно-ракетными армадами, политики, от слова которых зависят судьбы миллионов, что все они ждут его, Лукаса, совета. Еще вчера мнение Лукаса и таких, как Лукас, их не интересовало, и можно было биться кулаками, доказывая свою или чужую правоту, с тем же результатом, что о кирпичную стену. Теперь, может быть, впервые в истории они не знали, что делать, и вопрошали тех, кто стоял на самой границе непознанного и должен был знать ответ.
Но привычка к объективности тут же взяла верх, и Лукас уточнил, что все гораздо сложней. Что, во-первых, давно уже существуют «мозговые центры», без которых не обходится, не может обойтись ни один президент, и, во-вторых, сами ученые далеко не такие мудрецы, какими они порой видят себя. Так что превращение его, Лукаса, в «очень важную персону» не является чем-то исключительным, неожиданным и не знаменует собой некий поворотный этап. Просто страна призвала его, как в минуту военной опасности призывают резервистов.
Замелькали городские улицы, и машина несколько сбавила ход. Сознание Лукаса, даже помимо его воли, жадно вбирало впечатления.
Толпа на улицах была гуще, гораздо гуще, чем в обычный будничный день. И она была не такой, как всегда. Лукас сразу понял, в чем разница. В молодости Лукас не раз задумывался, можно или нет описать движение людских масс с помощью уравнений гидродинамики. Сходство толпы с жидкостью бросалось в глаза. С туго закрученной, гонимой поршнями жидкостью. Она текла, завихрялась, расслаивалась, в ней происходили соударения людей — молекул. За всем этим угадывалась строгая математическая закономерность. Потом он даже где-то читал о попытках таких описаний. Естественно! Развитие большого города немыслимо без кибернетического управления транспортными потоками, а значит, кто-то другой занялся той работой, которой он хотел заняться, пока не увлекся проблемами экзобиологии.
Сейчас в толпе не было четких потоков. Она утеряла и то общее деловитое, хмуро-озабоченное лицо, которое было присуще ей в часы «пик». Словно где-то соскочила пружина. Вид у людей был растерянный и встревоженный. Не более. Казалось, они не могли поверить, что деловой механизм застопорился. Ведь это Америка. Страна, где люди уже не удивляются выстрелам на улице, но приходят в недоумение, если из крана вдруг перестает течь горячая вода.
Лукаса поразило выражение радости на некоторых лицах. Радости освобождения от будничного, опостылевшего ярма. Радости ожидания небывалых событий. Злорадного: доигрались! Кто, почему — неважно: доигрались. Все эти, там, наверху…
Одновременно люди тянулись друг к другу, словно путники в стужу. Уличная толпа, где каждый психологически удален от соседа на миллионы световых лет, ощутила острую потребность в общении. Наконец появилось то, что всех объединяло! Люди сбивались в группы, что напомнило Лукасу процесс кристаллизации. Группы имели свой заряд и знак, кое-что Лукасу в этом не понравилось. Американцы привыкли самоорганизовываться, но у них нет привычки к тяжелым испытаниям. Паника пока только витала в воздухе. Пока…
В сознание Лукаса внезапно прорвался вой сирены, с которым их машина неслась по улицам. Он как бы очнулся и заставил себя думать о главном. О нападении извне. Если это действительно нападение, то первый удар нанесен точно в солнечное сплетение. Парализована энергетика — парализована жизнь. Еще действует сила инерции, целы автономные линии связи, не совсем поражен транспорт, а военную машину хоть сейчас пускай в действие. Все это, однако, не имеет большого значения, ибо что такое современный город без электроэнергии? Асфальтовая пустыня без капли тепла и воды. Не далее как через несколько часов люди почувствуют жажду. И вот тогда поведение толпы не удастся описать никакими формулами.
Тут самое простое, очевидное, традиционное решение — нажать на все кнопки. Шарахнуть по противнику из всех стволов. Немедленный удар в ответ на удар — этому природа миллионы лет учила все живое. Ударь, если не можешь убежать! Вцепись зубами, кромсай, рви!
Реакция не разума, а инстинкта. Вот так однажды ударили всеми ядохимикатами по насекомым. Не разведав, как следует, не подумав, не устояв против соблазна мощи, которой, казалось, ничто не могло противостоять.
А то был куда менее сложный и опасный случай.
«Уверен ли ты сам в своих выводах? — привычно переспросил себя Лукас. — В правильности рекомендаций, которые собираешься дать?»
«Да, — ответил он сам себе. — Как-никак я думал об этом всю жизнь, хотя казалось, что это никому не нужно».
Машина резко затормозила у подъезда.
10.48 по вашингтонскому времени
17.48 по московскому.
Рей смотрел на пришельцев сквозь орудийный прицел. Их вибрирующая, радужно-черная масса колыхалась метрах в ста от танка. Они ничего не предпринимали. Они дали себя окружить, взять в перекрестье стволов, теперь дело было за командой. Будет команда — и шквал огня в мгновение ока разнесет их скопище, мачты линии, само пространство. Уж Рей-то знал, что это такое — совместный залп десятков орудий и пулеметов. Да еще ракет «воздух — земля», которыми готово было полыхнуть звено кружащих в небе самолетов.
Он дрожал от возбуждения. От желания немедленно, сию секунду покончить с невыносимым ожиданием и страхом перед тем неведомым, что вибрировало в воздухе. Страх, что самое ужасное, был притягательным. Такой страх человек испытывает, стоя на краю пропасти.
Рей, насколько помнил, всегда любил оружие. В детстве, когда тарахтел из игрушечного автомата. В юности, когда ему вручили настоящий автомат. С оружием он чувствовал себя куда сильней и значительней. Совсем другим человеком. Вот и сейчас ему мучительно хотелось нажать на спуск. Но думал он об этом, обливаясь холодным потом. Ибо представлял себе возможные последствия. Понимал, что для неведомых существ? весь этот тротилово-стальной ад, который держали в узде его липкие от пота пальцы, мог оказаться безобидной дробинкой. И что команда «огонь!» может стать последней, которую он услышит. Все равно он ждал команду с каким-то болезненно-сладким любопытством и знал, что она принесет ему облегчение.
Гуляя по улицам, он иногда ловил себя на желании трахнуть по зеркальным витринам если не бомбой, то камнем. Или прошить окна автоматной очередью. А ведь он вовсе не был разрушителем. И с психикой у него все в порядке. Откуда же этот импульс? Правда, ничего такого, если не будет команды, он не сделает, — в себе он уверен. Но желание сидит в нем. «Господи, отврати, господи…»
Что это?!
По рою вдруг прошло шевеление. Контуры затуманились, радуга исчезла, и все огромное, смутно-черное, до ужаса неправдоподобное тело взмыло в ярких лучах солнца. Так быстро, что Рей не успел снова поймать его в прицел.
Мгновение оно висело неподвижно, а потом ринулось в голубую высь, как сквозь сито, прошло через строй самолетов и стало удаляться чернеющей точкой. Звено самолетов рассыпалось, они свечой взмывали вверх, но было уже ясно, что им не догнать эту исчезающую точку.
Просека опустела. Был зной, была тишина, и в ней трещали цикады.
Ослабевшими пальцами Рей вынул сигарету. До головокружения опустошенный, откинулся на сиденье. Вздохнул с облегчением.
Но, когда скомандовали «отбой», он ощутил нечто вроде разочарования.
15.57 по среднеафриканскому времени
18.51 по московскому.
Тван долгим взглядом проводил удаляющееся «нечто». То, что он видел, его не испугало. «Оно» не принадлежало джунглям, не было злым или добрым духом, никак не соотносилось с привычным и, следовательно, не имело к нему, Твану, никакого отношения. Вроде тех железных птиц, самолетов, которые изредка шумят, пролетая над джунглями.
Сжимая копье, Тван нырнул в густой сумрак леса.
16.52 по среднеевропейскому времени
18.52 по московскому.
Анджей выключил трактор и спрыгнул на землю. Сквозь тишину, которая наступила после грохота мотора, не сразу стали прокрадываться звуки, — унылый посвист ветра, далекое карканье ворон.
Из-за кромки леса взмыл темный треугольник стаи. «Журавли? — удивился Анджей. — Так рано?»
Но это были не журавли, Анджей тотчас понял ошибку. То был какой-то странный летательный аппарат или, может быть, строй аппаратов. «Нечто» пронеслось так высоко и быстро, что Анджей ничего не разглядел толком. Он привычно стал ждать грохота, который неизбежно должен был обрушиться на землю после стремительного, сверхзвукового полета.
Но шли минуты, а все было тихо.
«Чего только не наизобретают!» — подумал Анджей, доставая из сумки еду.
— Господа! Председатель чрезвычайной научной комиссии ООН, профессор, академик Двойченко любезно согласился дать нам интервью. Прошу вас, господин профессор. Вас слушают и видят сейчас сотни миллионов людей.
— Благодарю. Для меня большая честь выступить перед столь обширной аудиторией. До сих пор, если не ошибаюсь, телевизор собирал стольких людей одновременно разве что при разыгрывании международного первенства по футболу.
— Надеюсь, господин профессор, вы нам отпустите этот маленький грех?
— Тем охотней, что сам я страстный болельщик, только не футбола или хоккея, а художественной гимнастики. Но — к делу. Комиссия еще не завершила свою работу, так что я выступаю лишь от своего имени. Как известно. Землю недавно посетили космические пришельцы. Их пребывание было скоротечным, строго научных наблюдений произвести не удалось, поэтому фактический материал весьма скуден и противоречив.
Этим трудности не ограничиваются. Человек, любой человек, чувствует себя обманутым, если не получает на свой вопрос однозначного «да» или «нет». Наука тоже стремится к таким ответам, но гораздо чаще, чем принято думать, ученые понимают, что их «да» и «нет» совсем не тождественны обыденному значению этих слов. И потому не тождественны, что слишком часто неверно был поставлен сам вопрос.
Вот судьба некоторых вековечных вопросов. Свыше тысячелетия алхимики страстно вопрошали природу: можно ли простой металл обратить в золото? «Нет!» — дружно ответили химики девятнадцатого века. «Да, можно, — отвечаем мы. — Но не нужно». Десятки поколений математиков смущала неочевидность постулата Евклида о параллельных прямых, и они бились над его доказательством. Выяснилось: постулат надо заменить прямо противоположным и тогда все станет на место. Примерно три столетия длился начатый Гюйгенсом и Ньютоном великий спор о природе света — волна он или поток частиц? Каждая из сторон, заметим, аргументировала свою правоту неоспоримыми фактами. Снова природа ответила на этот вопрос не так, как ожидалось. Свет, и волна, и частица; одновременно — ни то, ни другое: он волночастица.
Таков парадоксальный характер ответов, которые часто дает наука. И он — к сожалению, или к счастью — не может быть другим, потому что познание есть бесконечный процесс приближения к истине.
С учетом сказанного позвольте мне ответить на два главных вопроса, которые наиболее волнуют сейчас человечество. Разумны или нет пришельцы? Почему они на нас напали?
Отвечаю: нет, не разумны. Что же касается нападения, то… господа, никакого нападения не было.
— Как, господин профессор?! Есть же факты…
— Да, есть. Внешне все выглядело как нападение. Но только внешне.
— Господин профессор! Я уверен, что никогда ни один гол не вызвал такого смятения в аудитории зрителей, как это ваше заявление. Не могли бы вы его пояснить?
— Конечно. Но сначала я поясню, почему, на мой взгляд, никакой инопланетный разум не участвовал, не мог участвовать в событиях, которые потрясли мир.
Мы знаем, что в пределах солнечной системы есть только одна цивилизация — наша собственная. Следовательно, разумные существа могли прибыть лишь издалека. Но такие существа не способны на агрессию.
Это не вера, не домыслы теоретиков. Дело в том, что организация межзвездного полета по причинам физического порядка требует таких знаний, такой технологии, таких энергий и таких средств, которые в тысячи раз превосходят современные.
Таково условие выхода к звездам. И оно одинаково для всех цивилизаций вселенной. Остановлюсь только на одном моменте. Чтобы совершить межзвездный полет, нужно израсходовать строго определенное количество энергии. Ни наша цивилизация, ни цивилизация где-нибудь в туманности Андромеды не сможет обойтись меньшим. По тем же самым причинам, по каким на орбиту Земли нельзя вывести спутник со скоростью меньшей, чем восемь километров в секунду. А получить такую скорость, в свою очередь, нельзя без значительных и строго определенных затрат энергии. Как видите, тут действует непреложная математика и физика.
Однако уже сейчас человечество вступило в такую фазу своего развития, когда оно с великой осторожностью должно распоряжаться мощностями своей технологии. Речь идет не только об опасности ядерного конфликта. В биосфере нарушилось равновесие, и без срочных международных усилий этот сдвиг может стать необратимым. Тут всего два варианта. Либо устранение причин агрессивности, мирное сотрудничество людей, торжество разумного подхода и тогда — прогресс цивилизации. Либо кризис и, как следствие, невозможность продолжения космических полетов. А поскольку свойства энергии и законы природного равновесия одинаковы под всеми звездами, то цивилизация, достигшая вершин космического могущества, никакой иной, как гуманной и разумной, быть не может.
— И все-таки, господин профессор, это теория. Научно-политическая доктрина.
— Вы хотите знать, подтверждают ли факты такую теорию? Безусловно. Агрессия, нападение предполагает умысел: поразить, уничтожить противника. Конкретный анализ событий показывает, что такого умысла не было.
— Были парализованы энергосистемы земного мира. Чем, кроме нападения, это может быть?
— Предположим, осы облепили сахар, который вы намеревались положить в кофе. Это агрессия? С горы скатился камень и больно ударил вас по колену. Можно ли считать, что камень напал? Проследите за поступками пришельцев. Они занялись энерголиниями, ничто другое их просто не интересовало. Но линии, не выдержав нагрузки, стали отключаться. Тогда пришельцы заметались в поисках необесточенных линий. Но там повторилось то же самое. Пришельцы очень быстро убедились, что источник всюду пересыхает, едва к нему прикоснешься. Тогда они улетели.
— Значит, по-вашему, мы столкнулись с «космическими осами»?
— Я бы их так не стал называть. Что есть существо, а что есть вещество? Вирусы мы исследуем уже десятки лет, однако есть ученые, которые не склонны считать их существами.
— Однако пришельцы передвигались, отыскивали то, что им нужно…
— Передвигаться способна и молния. Они питались электричеством? Точно так же можно сказать, что кристаллы в перенасыщенном растворе питаются ионами соли. Пришельцы могли искать и отыскивать? А в каком смысле? Не в том ли, в каком частички железа способны отыскивать магнит?
Как видите, все очень непросто. Кроме того, пришельцы имеют мало общего с земными формами живого и неживого. Поэтому я воздержусь от определения.
— Хорошо, господин профессор. Всех людей волнуют такие вопросы. Было ли посещение Земли случайным? Повторится ли оно? И чем все это может грозить?
— Посещение скорей всего не было случайностью. Мы, люди, упускаем из вида один существенный и новый факт. В последнюю четверть века наша цивилизация благодаря телевидению удвоила радиояркость солнечной системы в метровом диапазоне волн. В пространствах космоса мы как бы включили лампу… Добавлю, что еще недавно на Земле не было не только телевидения, но и энергосистем.
Раньше нас никто не посещал. Теперь это произошло. Возможно, тут чистое совпадение. Не исключено, однако, что мы сами принимали гостей. Не стоит забывать о том, что в радиусе уже многих световых лет любое чуткое к радиоволнам метрового диапазона существо или псевдосущество могло и должно было обратить на нас внимание.
Мне могут возразить, что в космосе есть куда более значительные, чем наши, источники электричества. Дело, однако, в том, что наши энергосистемы — это постоянный и концентрированный источник. Концентрированный, вот что существенно! Ведь в луговых растениях сахара гораздо больше, чем в сахарнице, но сахарница для насекомых предпочтительней.
Я не держусь за эту свою гипотезу. Я только хочу сказать, что мы стали космической цивилизацией. Это великое, но и ответственное событие, ибо среда космоса теперь стала средой нашей цивилизации. Мы меняем условия своего существования, но и условия, в свою очередь, меняют нас. Если сознание успеет предвосхитить эти быстрые теперь изменения, если мы, люди, всюду приведем свои социальные отношения в соответствие с требованиями будущего, о которых я говорил, то за космические да и земные перспективы человечества можно не беспокоиться. Если! Вот слово, от которого зависит все.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ
— Не боишься, что я протру твою бархатную шкуру?
Ответом был раскат благодарного мурлыканья. Вытянув шею и оттопырив уши, Дики упивалась почесыванием. Костяшки пальцев Ронина так энергично сновали у нее под губой, что от их движения с чмоканьем приоткрывались острые зубки. Голова кошки моталась. Глаза были косые, блаженные.
Ронин вздохнул. Больше оттягивать время было нельзя. Пора собираться. Надо…
— Знаю, знаю, наслаждаться ты можешь до бесконечности… Меня, однако, ждут.
Мур оборвался. Кошка мягко спрыгнула с коленей и, гордо неся свой пушистый хвост, проплыла к закрытой двери, нисколько не сомневаясь, что Ронин ее распахнет. Конечно, он это сделал. Любимице нельзя было не услужить. В сотнях парсеках от Земли она чувствовала себя как дома, она везде чувствовала себя как дома — уж такой это был зверь.
Проводив ее долгим взглядом, Ронин стал одеваться. В иллюминатор неподвижно светило чужое солнце. В густом луче плавились пылинки. Сухой ржавый свет наводил тоску.
Неподалеку от шлюза Ронин снова увидел Дики. Пружинисто переступая, она проследовала за ним будто бы по своим делам.
— Нет, серый зверь, — громко сказал Ронин. — Дисциплина и для тебя обязательна. Прогулки строго по расписанию, согласно программе биологических экспериментов, вот так-то…
Кончик пушистого хвоста неодобрительно дернулся. Дики свернула в коридор с таким видом, словно она думать не думала ни о каких прогулках и отказ не имел к ней ни малейшего отношения. Только спина — уму непостижимо как — выразила презрительное осуждение.
Ронин не смог сдержать улыбку. Милое, своенравное, такое понятное земное существо! Мимоходом он посмотрел на себя в зеркало. Оттуда на него глянула чудовищная маска. Монстр, да и только…
Ничего не поделаешь! Иначе человека на этой планете просто не замечают.
В начальной стадии осложнения неизбежны, и, начав работу на Мальтурии, Ронин не строил никаких иллюзий. Действительность, однако, превзошла все ожидания.
Подготовительные работы были проведены безупречно. Группа разведчиков составила изумительное описание планеты и с торжеством вручила его Ронину. Деликатная операция установки «следопытов» тоже обошлась без неприятностей. Ночью возле всех заранее намеченных поселений были тайно установлены акустико-оптические анализаторы, которые в радиусе двух километров улавливали малейший шепот и позволяли следить за каждым движением обитателей хижин. Сложность этого предприятия, пожалуй, поставила бы в тупик любого героя Фенимора Купера, ибо камуфлированные под пни, камни и гнезда аппараты следовало разместить так, чтобы в поле их зрения и слуха оказался весь поселок. В местах, куда тем не менее не забредали даже дети, которые, верно, знали все пни и глыбы наперечет. И это под носом у жителей!
Обошлось тем не менее. Когда язык и образ жизни мальтурийцев были изучены, аппараты за ненадобностью убраны так же скрытно, как и поставлены, Ронин почти уверовал в свой талант. И немедленно сел в такую лужу, в которую еще ни один специалист по контактам не садился.
Он, как по программе полагалось, выбрал одинокого путника, вышел ему навстречу, сделал принятый в данной местности знак миролюбия и на чисто мальтурийском языке произнес приветствие. По опыту он знал, что это не только ответственный, но и опасный момент: бывало и так, что в ответ на приветствие следовал удар копьем. Ронин был готов ко всему. К нападению, паническому бегству, остолбенению, падению перед землянином ниц, даже обмороку. Произошло, однако, нечто невероятное: мальтуриец его просто не заметил.
Не заметил, и все! Он прошел мимо Ронина так, словно его и не существовало. Словно человек был пустотой или незримой мошкой…
Ронин так растерялся, что затрусил за мальтурийцем, крича ему вслед. Увы, группа прикрытия, конечно, запечатлела весь этот позор…
С новым прохожим повторилась та же история: он прошел, даже не шевельнув толстым, как бревно, хвостом.
Отчаяние Ронина усугублялось тем, что на борту звездолета находился сам великий, знаменитый, прославленный и все такое прочее Боджо.
С одной стороны, это было прекрасно, потому что кто, как не Боджо, мог дать полезный совет. С другой стороны, это было скверно, потому что Ронину впервые доверили самостоятельный контакт. Так обстояло дело и формально, и по существу, поскольку Боджо уже давно ничем не руководил. Он и на этот раз предупредил, что стар, годен уже только для тихой кабинетной работы, короче говоря: «Мой опыт в полном вашем распоряжении, но действуйте так, будто меня здесь нет».
Из самолюбия Ронин так и старался действовать, упрямо решив, что сам, без подсказки, доведет дело до конца. И вот, пригнутый неудачей, он вернулся на звездолет. Он ожидал, что Боджо, приняв его, вежливо выслушает, скучающе побарабанит по одной из своих многочисленных книг и коротко пододвинет ее со словами: «Вот тут изложено одно мое давнее соображение, которое, насколько мне помнится, отвечает создавшейся ситуации…»
Вышло иначе. Скуластое, пепельное от старости лицо ученого к концу рассказа дрогнуло изумлением, а в узких глазах блеснуло жадное нетерпение ребенка, которому вдруг показали заманчивую игрушку.
— Слушайте, ведь это поразительно! — вскричал он. — То есть я никогда ни с чем подобным не сталкивался! Боюсь, что и остальные тоже.
Подскочив к полке (старик признавал лишь печатные издания), он проворно-ищущим движением пальцев пробежался по корешкам книг.
— Ничего, как я и думал. Никто не писал ни о чем подобном! Не-ет, молодой человек, чужой ум нам тут не подмога, придется поломать голову самим.
— Вот и мне так кажется! — настроение Ронина подпрыгнуло к небесам. — Здесь такая загадка, с которой…
— А вот насчет загадки я не совсем уверен, — мягко улыбаясь, перебил Боджо. — Это еще надо прояснить, есть ли тут загадка. Мы, видите ли, часто забываем один элементарный вопрос, от которого, однако, зависит все направление поиска: относится ли странное явление к числу непознанных или неузнанных? Разница большая. В первом случае нужны исследования, ибо в наших знаниях явный пробел. Во втором случае это излишний труд, поскольку фактов достаточно, надо только их осмыслить. Нас, знаете ли, развратило обилие исследовательской техники. Мы убеждены, что все эти хитроумные анализаторы всего чего угодно, всюду проникающие зонды, всевидящие локаторы, подающие нам на блюдечке ответ машины, повинуются нам как хвост собаке. На деле еще вопрос, что кем вертит… Анализаторы дадут любые сведения, машины все скорректируют, эксперимент разрешит любые сомнения — это надежно, правильно, солидно, и думать необязательно. Но часто похоже на поиск очков, которые лежат в кармане, уж вы мне поверьте… Вот и подумаем для начала, к какому типу относится наш случай. Видеть мальтурийцы вас, конечно, видели?
— Да, — ошарашенно ответил Ронин. — Они видят примерно, как и мы, хотя у них совершенно другой внешний облик и другое устройство глаз.
— Так, так. Еще вопрос. Они не заметили вас или не пожелали заметить?
— Скорей первое. Насколько я разбираюсь в их эмоциях, я был для них чем-то вроде пня, по которому равнодушно скользишь взглядом.
— Значит, видят, но не обращают внимания. Странно, странно… Мы должны быть для них диковинными чудовищами, а они… Такое свойство восприятия крайне опасно для них самих, вы не находите?
— Нет, не нахожу. — Ронин не заметил, что спорит с самим Боджо, а когда заметил, то лишь смутно удивился. — Ведь если бы это было опасно, то… то этого просто не было бы.
— Как так?
— Дело, очевидно, в том… — Ронин запнулся, но отступать было поздно. — Дело, очевидно, в том, что они прекрасно замечают все, от чего зависит их жизнь, но лишь, так сказать, в привычной среде. Мы же не являемся элементом их среды обитания.
— Мы — исключение из правил, и поэтому они нас не замечают?
— В общем, да, — тихо сказал Ронин.
— А вам не кажется, что это абсурд?
Ронину это уже не только казалось. Он просто не понимал, как мог сморозить такую глупость. Нельзя же в самом деле утверждать, что кто-то не обращает внимания на огромное и громогласное существо только потому, что оно ни на что не похоже! Но мысль уже была высказана, и смятенный ум лихорадочно искал аргументы в ее защиту. Ведь не зря же она возникла!
— Птицы! — вдруг выпалил Ронин.
— Птицы? — Боджо воззрился на него, будто Ронин стал маленьким-маленьким. — При чем тут птицы?
— Это просто пример… Если в гнездо подложить деревянного птенца и покрасить его разинутую глотку в натуральный цвет, то птицы будут кормить деревяшку! Они не видят, что птенец ненастоящий, потому что в программе их поведения не предусмотрен и не мог быть предусмотрен столь невероятный случай подмены.
— Все существа воспринимают мир сквозь призму стереотипов, — задумчиво проговорил Боджо. — Это общеизвестно. Есть ли тут переход к нашему случаю?
Мысли Ронина разбежались. Неужели Боджо не видит, что он, Ронин, просто-напросто барахтается, без особой надежды всплыть? Что он запутался в своей, ребенку видно, абсурдной гипотезе? Но на лице Боджо не было и тени усмешки, он ждал, с интересом ждал ответа. «Не бойтесь абсурда, быть может, это всего лишь знак, что наш прежний опыт исчерпан и разум столкнулся с новой поразительной сложностью мира, которая на первых порах производит впечатление абсурда», — Ронину вспомнились эти слова из давней книги Боджо, и они его подхлестнули.
Конечно, соображал он, всякое мышление, в том числе человеческое, — стереотипно. Ну и что? Внешне нелепый стереотип может быть глубоко оправданным. И наоборот. Самый расчудесный стереотип оказывается пагубным, коль скоро резко изменились породившие его обстоятельства. Все преимущество разума как раз состоит в быстром пересмотре стереотипов. Быстром, но, естественно, не мгновенном. Только в высшей фазе развития становится возможным упреждающий, прогностический пересмотр. До этого момента истории пересмотр всегда и неизбежно запаздывает. Надо получить от жизни изрядную порцию синяков и шишек, чтобы это случилось. А до тех пор, пока изменения не дают о себе знать чувствительно, разумное существо будет спокойно взирать на мир сквозь любые искажающие очки.
Мысленная невидимость!
Ронин даже ахнул.
— Послушайте! — вскочил он в возбуждении. — Что бы вы сделали, если бы сюда, в каюту, к вам явился Эйнштейн?
— Решил бы, что мне померещилось. — Боджо смотрел на Ронина со странным выражением лица. — Так вы полагаете…
— Да, да! Никто из нас не пал бы перед призраком ниц, не ударил бы его кулаком, не убежал бы с воплем, а спокойно пошел бы к врачу. Беспокоиться нечего, обычная галлюцинация! Ведь так? Это наш стереотип реакции на призраков. А если бы призрачной оказалась форма существования какого-нибудь инопланетянина, который явился бы к нам устанавливать контакт? Результат был бы тем же! Здесь, похоже, аналогичный случай. Просто у мальтурийцев другой стереотип «чего не может быть».
Азиатские глаза Боджо спрятались в щелочку век, к их уголкам стянулись морщинки. Внезапно грянул раскатистый, от души смех.
Ронин уязвленно вспыхнул.
— Это не в ваш адрес, не в ваш! — замахал руками Боджо. — Просто я вообразил, как к человеку средневековья является призрачный инопланетянин, а его крестом, крестом… Тоже ведь стереотип поведения, а? Ладно. В вашей гипотезе есть должное случаю безумие. Давайте ее спокойно обсудим…
Они все, как следует, обсудили, продумали изменение человеческого облика, и на другой же день Ронин поставил опыт, который принес полный успех.
Боджо, узнав о результатах, даже крякнул от восхищения.
— Вот это работа! Как идея-то оправдалась, а? — он искоса глянул на Ронина. — Вас поздравляю, себя — не могу. Проглядел идею-то, проглядел, что значат стариковские стереотипы — ай, ай, ай…
Он долго и сокрушенно качал головой, но глаза хитрили, и Ронина царапнуло внезапное сомнение, которое за делами, впрочем, тут же забылось.
Оно всплыло ночью. Перебирая дальнейшие возможности контакта, Ронин долго ворочался, и, как это всегда бывает при бессоннице, мысли скоро сбились в яркий, путаный клубок образов, навязчивых и сумбурных, пока случайно не выделился один: рука Боджо, замершая перед корешками книг.
Еще дремотная память напряглась. Палец Боджо заскользил по рядам, вот он помедлил, неуверенно дрогнул, скользнул вниз, чуть задержался на совершенно обычной книге… Обычной? Наоборот, неуместной, ненужной, — недоумение тогда мелькнуло и тут же погасло, потому что палец отпрянул и снова заскользил по корешкам солидных томов, а ему, Ронину, было не до размышлений. Но ведь эта книга…
Память наконец вынесла ее название. Ронин аж подскочил: томик Честертона! Того самого Честертона, который еще в прошлом веке написал рассказ о мысленно невидимом человеке. Так вот что запало! Вот почему задержался указующий палец!
— Ай, ай, ай, — покачал головой Ронин. — Стариковские стереотипы, значит… Ай, ай, ай!
Он усмехнулся в темноте. «Да, за таким стереотипом как за каменной стеной… Но, кажется, я тоже не подкачал. Ну и ну!»
Однако наступил день, принесший загадку, перед которой и проницательность Боджо оказалась бессильной.
Яркий свет лег на плечи тяжестью панциря. Ронин зажмурился, мало-помалу привыкая. Он задержал шаг возле опытного поля, на котором хлопотали биологи. Ограждения поля были, пожалуй, самой причудливой из всех, которые Ронин видел, конструкцией. Они перекрывали собой обширный участок местности, свободно пропускали внутрь свет, ветер и дождь, но ни одной молекулы не выпускали наружу без придирчивого контроля. Биологи не боялись заразить планету или внести заразу в корабль, так как существенное несходство местных и земных белков гарантировало их полную несовместимость. Но характер опытов все же требовал изоляции. За прозрачными до незримости стенами трава, кусты и деревья лужайки соседствовали с посадками земных растений, и странно было видеть одуванчик, оплетенный чем-то вроде медной проволоки с огромными фиолетовыми цветами на тончайших усиках. Там, за стенами, шла борьба и притирка двух чужеродных биосфер, у которых общим был лишь способ питания. Контакт их был подобен соприкосновению травы и металла, но ведь и его нельзя считать вполне нейтральным, так что интереснейшей и кропотливой работы биологам хватало. Туда же, за невидимые стены, были выпущены генетически чистые породы мышей, морских свинок и кроликов. Ронин видел, как за земной мухой гонится десятикрылая здешняя стрекоза, которой явно было невдомек, что муха для нее несъедобна.
— Как дела? — спросил Ронин у появившегося из укрытия биолога.
— Как обычно, — тот стер с лица обильный пот. — Что-то гибнет, что-то приживается. Жарища…
— Там Дики просится в ваш Ноев ковчег — охота поразмяться.
— Подождет. Как она в своей шубе еще может резвиться — не понимаю.
— Положим, тут не жарче, чем в летний полдень на Украине. Ладно, все это пустяки. Выяснили что-нибудь со злаками?
— Нормальные злаки, и болеют они нормально, так что ничего нового. А вы опять к мальтурийцам?
— У них сегодня праздник урожая, и я зван.
— Завидую! Они хоть сами о себе рассказывают, а тут допытывайся у трав и вирусов, почему они такие, а не сякие.
«Да уж, — подумал Ронин, — своя работа всегда самая трудная. Эх, мне бы ваши заботы, дорогие биологи! Травка да зверюшки, они в наших руках словно глина, меняй их генетический аппарат, как хочешь».
Помахав рукой, он двинулся к опушке. Привычно обернулся, когда миновал маскировочный заслон. Позади не было уже ни корабля, ни опытного поля, ни трудяг скуггеров, только дальний лес странно приблизился и посреди сократившегося пространства зыбко трепетало марево, будто там никак не мог овеществиться только что вылезший из бутылки джинн. Как ни совершенна была маскировка, место, где стоял звездолет, выглядело заколдованным. К счастью, любопытством мальтурийцы не страдали, и одно это наводило на некоторые размышления.
Тень леса облегчила жару, зато исчез ветерок, который продувал страхолюдный костюм Ронина. Обилие кислорода слегка кружило голову, отчего лес казался еще диковинней, чем он был в действительности. В нем причудливо смешались осень, весна и лето. Осень, потому что падали и шуршали багряные листья, весна, потому что все цвело, а лето, потому что на деревьях обильно зрели плоды. И все пестрело буйными, оглушительными красками. Угольную тень подлеска прожигали пятна солнечного цвета. По ярко-синим стволам язычками огня бежали красные и желтые листья лиан; кроны были охвачены тем же багровым пожаром. Внизу из киселеобразного мха выглядывали черные цветы. Какие-то болотные лопухи поворачивались вслед за человеком, как ушастые локаторы. В просвете мелькнул и скрылся огромный золотистый ромб с косматой бахромой свисающих нитей, непонятно: то ли бабочка, то ли птица. Еще нечто столь же сюрреалистическое зачавкало в кустах. Вот она, мечта о других планетах! На зеленой травке бы сейчас полежать… В нос шибанул запах гниющих плодов, от которых гнулись тугие ветви деревьев. Богатая, вечно плодоносящая почва! Так почему, почему здесь замерло то, что не должно было замереть?!
Дорога заняла не более километра, и сразу за опушкой открылся поселок. Белые, как яичная скорлупа, конусы хижин ослепительно сверкали в лучах послеполуденного солнца. В поселке не было заметно никакого движения, хотя за человеком, конечно, следило множество глаз. Поодаль расстилались красновато-бурые поля, на которых кое-где виднелись темные точки, — жнецы уже приступили к уборке. Сделав поправку на цвет неба и краски растительности, можно было подумать, что находишься где-нибудь в древней Африке. И это в стольких парсеках от Земли! Ничего удивительного, впрочем. Всякая цивилизация на определенном этапе развития начинает строить жилища, заниматься земледелием, а поля всюду поля, какое бы солнце ни горело над ними. Везде надо подготовить почву, взрастить, убрать урожай, везде нужен труд и орудия труда, всюду приходилось гнуть спину, если таковая, понятно, имелась.
Приблизившись, Ронин понял, что его ждут. Старейшины чинно восседали на собственных, сложенных вдвое хвостах. Очень удобно, но Ронину, после церемонии приветствия пришлось, как обычно, присесть на корточки. Его движение спугнуло рыжеватого зверька, каких тут была масса. Пискнув, он взмыл из травы на тонких пергаментных крылышках. Рука одного из старейшин щелкнула в воздухе, как плеть, но куда там! Зверек увернулся и исчез в траве. Он имел отдаленное сходство с диснеевским Микки Маусом, но не летал, а прыгал словно кузнечик. Мордочка у него, однако, была скорей крысиная. Нигде в лесах микки маусы не водились, и Ронин вспомнил просьбу биологов раздобыть хотя бы парочку, но сейчас думать об этой докуке было некогда.
Тарелки с едой появились немедленно, едва Ронин сел. Путника, откуда бы он ни появился, пусть даже со звезд, и как бы он ни выглядел, первым делом, если он вошел в доверие, следовало накормить. Так было на Земле, так было и здесь, ведь голод везде голод. Обычай, пренебрегать которым было нельзя, уже который раз обрекал Ронина на муки, ибо приходилось набивать желудок массой, хотя и безвредной, но не более удобоваримой, чем опилки. Хорошо еще, что здешняя пища, довольно безвкусная, не имела омерзительного запаха и не вызывала желудочных спазм.
До окончания трапезы — Ронин знал это — разговор был невозможен. Поэтому он покорно принял тарелку, но при взгляде на нее ему стало не по себе.
Еда возвышалось на ней горой! Ее было впятеро больше, чем всегда. А съесть полагалось до крошки. Но человеческий желудок был явно не рассчитан на такое количество.
Ронин тихо содрогнулся. Тенистый сумрак, кое-где рассеченный горячим лучом света, молочные конусы хижин вокруг площадки, чуждые всему земному, безмолвные лица старейшин…
Что означает эта гора пищи? Может быть, на этот раз требуется съесть только часть? Или, наоборот, следует попросить добавки? К чему приведет его вынужденный отказ прикончить блюдо? Какой поступок сейчас мог оказаться правильным, а какой оскорбительным?
Снова — в который раз! — Ронин почувствовал себя канатоходцем, который балансирует, держа на голове кастрюлю кипятка. Или, изящно выражаясь, чашу.
— Сегодня праздник урожая, — напомнил старейшина.
Ну да, конечно… Началась жатва, а это, должно быть, ритуальное блюдо, которое, видимо, надо очистить до последней крошки. Неясно только, почему пир устраивается не после, а во время уборки, ведь тут дорога каждая минута, да и работа на полный желудок не работа. Или это блюдо только для гостя?
Нет. Точно такие же появились и перед старейшинами. Мало того! Судя по запахам, к пиршеству готовились и в хижинах.
Оставив недоумения на потом и с тоской глянув на дымящуюся гору еды, Ронин погрузил в нее пальцы, лихорадочно соображая при этом, как бы незаметно просыпать кое-что в траву. Иного выхода не было. Не зря, нет, не зря искусство фокуса входило в программу подготовки контактеров — ее готовили предусмотрительные люди…
Зажмурясь, Ронин сделал первый глоток.
Быть может, именно с пищей была связана та загадка, которая не давала покоя всей экспедиции.
Земная история, как и истории других цивилизаций, свидетельствовала, что всякий последующий этап развития короче предыдущего. То было не просто обобщение горстки уже известных фактов. В сущности, прогресс — это ответная, не единственная, но самая перспективная реакция жизни на изменение условий существования. Чем обширней и глубже перемены, тем больше возникает новых проблем и тем изощренней должен становиться разум, иначе проблемы, оставаясь нерешенными, усугубляются, что ведет к гибели. Но всякий шаг цивилизации, в свою очередь, вызывает перемены, которые с ростом ее могущества оказываются все стремительней и обширней. Так, самовозбуждаясь, она наращивает свой бег и все туже закручивает спираль своего развития.
Археологические изыскания показали, что и на этой планете до поры до времени все шло как обычно. Но с появлением земледелия что-то застопорилось. Везде, в самых плодородных долинах, при самых благоприятных условиях почву обрабатывали, как и сотни тысяч лет назад, и нигде не было зачатков городской культуры. Они, судя по раскопкам, не раз возникали, но тут же гибли как отсеченные побеги.
Конечно, ход прогресса менее всего прямолинеен. Скорей он напоминает течение реки, которая в своем мощном беге роет не только русло, но, повинуясь условиям рельефа, создает еще и заводи, старицы, болота. Бывает, понятно, и так, что перед внушительной преградой живой ток воды замирает, вздувается озером и долго копит силы, пока не прорвет ее с грохотом. История любой планеты знает свои заводи, заиленные рукава и болота. Случался порой и разлив течения, когда все стремнины, казалось, замирали в стоячем покое лет. Но то были сравнительно недолгие паузы, которые неизбежно сменялись порывами бурь. Здесь же над мертвым зеркалом невозмутимо плыли десятки тысячелетий.
Имелось два объяснения. Или перед мальтурийцами возникла какая-то исключительная преграда, которая надолго, но все же временно заперла прогресс, или… или выдохся сам разум! Последнее допущение ставило под удар всю теорию эволюции.
В его пользу, однако, говорило многое. Попытки создания городов давно прекратились. Технология, обычаи, социальный строй — все окостенело много тысячелетий назад. Девственных, пригодных для обработки пространств было сколько угодно, но они не осваивались, и население не росло. Нетронутые леса и степи, развалины несостоявшихся городов, брошенные кое-где поля, какая-то небрежность земледельческого труда, жесткость социальной структуры, замерший дух любознательности, даже этот пир некстати могли быть зловещими признаками угасания.
Могли…
В поселке стало куда оживленней: пировали или готовились к пиру уже во всех хижинах. Внимание Ронина раздваивалось. Он следил и за тем, что происходит вокруг, и совершал чудеса ловкости, отправляя часть пищи не в рот, а в густую траву, где уже алчно копошилась какая-то живность. Еще он невольно прислушивался к ощущениям в желудке, куда, казалось, лег тяжеленный кирпич.
Наконец еда убавилась настолько, что, не нарушая правил деликатности, можно было начать разговор. Выждав еще немного, Ронин равнодушно осведомился, почему оставлены полевые работы.
Шипастые головы старейшин благосклонно полиловели. Последовавший ответ можно было понять так, что праздники редкость, но уж если праздник, то он праздник. Его, однако, можно было истолковать совсем иначе: зачем работать, когда еды много?
Ронин не спешил с уточнениями. Многозначность разговора была здесь нормой даже в общении друг с другом. Простейшее утверждение «Утром взойдет солнце» звучало, например, так: «Свет одолеет ночь, как ему будет позволено». Выражение «…как ему будет позволено» означало, что день может оказаться солнечным, а может быть и пасмурным. Шифр усложнялся, едва речь касалась чего-то более важного, настолько, что как вопрос, так и ответ включали в себя сразу и утверждение, и сомнение, и отрицание. Иногда Ронин чувствовал, что вот-вот свихнется, ибо смысл произнесенного зависел от пропорции всех этих частей, и еще от того, к чему более склонялось сомнение — к утверждению или к отрицанию.
Но и это было не все, так как в разговоре часто возникала «фигура молчания» — предмет или событие, о котором вообще нельзя было упоминать иначе как паузой, в лучшем случае — иносказанием.
Хитроумная система умолчания и маскировки истины вряд ли была умышленной. Она оказалась такой же закономерной производной бесперспективного состояния цивилизации, как и та «мысленная невидимость», с которой на первых шагах столкнулся Ронин. Движение вперед невозможно без откровенности и правды, застой — без сокрытия и лжи. А если самообман длится долго, то разум слепнет, как глаз, долго видящий одну лишь тьму.
Расспросы мальтурийцев напоминали блуждания без фонаря по лабиринту. Конечно, их цивилизация не могла познать ход своей истории, тем более управлять ею. Но, может быть, они подозревали неладное и как раз на эти знания наложили табу, чтобы не беспокоить себя напрасными размышлениями? Или они понятия не имели о том, что происходит? Все до единого считали свое состояние правильным и хорошим?
Сбор урожая давал шанс кое-что выяснить. Слегка волнуясь, Ронин произнес длинную, тщательно продуманную речь, смысл которой состоял в просьбе познакомить его с тем, как хранится и распределяется зерно.
Просьба Ронина была встречена долгим молчанием. Ничего необычного в этом не было, — старейшины не любили торопиться с ответом, но сейчас их молчание показалось Ронину ледяным. Насколько он сумел понять по прежним беседам, затронутая тема обременялась множеством табу, так что отказ был наиболее вероятен. Впрочем, кто их знает! Пока они молчат и не двигаются, понять их настроение невозможно, поскольку глаза фасеточного типа — а именно такие были у мальтурийцев — для человека лишены всякого выражения, как и для них человеческие, наверно.
Ноги затекли, и Ронин воспользовался паузой, чтобы устроиться поудобней. Движение спугнуло парочку микки маусов, которые славно попировали тем, что Ронин сбросил в траву, — в зубах одного еще был зажат комок каши.
«Надо не забыть поймать их для биологов», — вспомнил Ронин. И тут же эта мысль вылетела у него из головы, потому что в позах старейшин произошла какая-то внезапная и, может быть, зловещая перемена. Не сделав ни одного явного движения, они вроде как бы подались к нему.
С угрозой? Удивлением? Ронин, не дыша, замер. Перед ним неподвижным полукольцом застыли старейшины, и взгляд их мозаичных глаз был устремлен на Ронина. Так прошла минута, другая… «Хоть бы у них, как у Дики, кончик хвоста подергивался! — вскричал про себя Ронин. — Что я такого сделал?!»
— Если «после» предшествует «до», поступок есть и его нет, — мигнув шершавыми веками, наконец, произнес крайний слева старейшина.
— Далекое «после» может предшествовать близкому «до» или наоборот, — отозвался старейшина в центре.
«Они заспорили, — быстро сообразил Ронин. — Но о чем, о чем?»
— Важна жертва…
Старейшина слева сделал глубокую паузу.
— …Когда время пришло, а когда оно не пришло, жертва принесена и не принесена.
«Так! Выходит, меня угораздило возблагодарить какого-то бога, но, кажется, не того, не так или не вовремя… Какого бога?! Тем, что я подвинулся?! Рано я стал углублять контакт, рано:..»
— Дух поступка важней поступка, когда не наоборот, — последовало возражение. — Определяет благость намерения, которого здесь больше или меньше, наполовину или с лихвой, иная мера бесполезна.
«Ага! Значит, мой поступок по сути своей неплох…»
— Если хромает одна нога и нет хвоста, то часть — не целое, далекое удаляется, даже когда оно близкое.
— Шаг меняет дорогу, и дорога меняет шаг, знакомая меньше, чем незнакомая, далекая скорей, чем близкая, заслуга больше в этом, чем в том, иначе то же, но не совсем.
«Вот это диалектика! — невольно восхитился Ронин. — Почему же тогда мысль у них так плохо вяжется с делом?»
— Слышал и понял, совсем и отчасти, то, что меряется, зависит от того, чем меряется, справедливо не всегда, но чаще.
«Ого! Неужели мой критик соглашается с моим заступником? Не спор, а дремучий лес… Умно-то умно, а для дела такое растекание мысли как бег с оглядкой. Не в этом ли причина застоя? Уж скорей бы они вынесли приговор…»
Но дискуссия продолжалась, и чем больше Ронин вникал, тем меньше улавливал смысл. Вскоре он почувствовал, что тупеет. Плохо, когда в незнакомой местности нет дорог, но не легче, когда тропинок тысячи и все ведут неизвестно куда. Ронин понял, что пора отключиться, иначе ошалеешь.
В изнеможении он глянул вверх. Там плыли облака, такие же пушистые, как и на Земле, — водяной пар везде одинаков. Почти одинаков, ибо оттенков — в изотопном составе, строении капель, количестве примесей — сотни, и если видеть только оттенки или, наоборот, не замечать их вовсе, то никакой подлинной картины мира заведомо не откроется.
Монотонная вязь спора внезапно оборвалась. Головы старейшин согласно мотнулись.
— Знай, чужеземец, если знание — твое или наше — подлинно. Ты принес часть своей пищи ради…
Глубокая пауза умолчания!
— …Пожертвовал ею не на месте и не в то время, но, пожалуй, вовремя и к месту.
Выходит, они заметили, что он просыпал пищу! Ну да, этот проклятый прыгун с добычей в зубах, наверное, выдал… Вот так история! Значит, он ненароком совершил ритуал очень важный, только неправильно… Ну и ну! Его проступок простили, даже одобрили, а дальше что?!
— …Мы не хотели и, возможно, собирались показать тебе, что, вероятно, ты хотел знать, а твое стремление приблизиться к нам решило иначе. Мы доведем тебя до источника жизни, который всегда полон и пуст…
«Мы не хотели показывать закрома, но ты совершил обряд, и мы их покажем», — мгновенно перевел Ронин.
Вот и рассчитывай тут по всем правилам науки…
Куда же они его поведут? К домашним сусекам или к хранилищу?
Старейшины повернули к хранилищу. Так… Выходит, урожай они собирают в общие закрома, а потом распределяют по семьям, иначе необъяснимо, почему запасы убывают так быстро.
Это подтверждал и вид хранилища. Стены были сложены давно, кое-как, и, похоже, с тех пор никто их не чинил. Хоть и временная кладовая, могли бы побеспокоиться… В деревнях, которые существовали десятки тысяч лет назад, даже по развалинам можно было судить, что тогда хранилища строили как крепости. А здесь такая потрясающая беспечность. Явный, от поколения к поколению усиливающийся регресс…
«О чем только думают ваши умные головы! — возмутился про себя Ронин. — Пока вы распределите и надежно укроете зерно, им же полакомятся какие угодно твари! Можно подумать, что пищи у вас избыток, а ведь это, насколько я понимаю, далеко не так».
Вслух он, понятно, ничего не сказал… Сведений о голоде пока не хватало, да и ситуация была явно не подходящей.
Они уже подходили к двери, когда из глубины хранилища донесся невнятный шум. Старейшины замерли как изваяния. Ронин и вовсе ничего не мог понять. Внутри что-то происходило. Оттуда слышались шелест, шуршание, писк. Старейшина рванул дверь. И сразу из всех щелей, как вода из дырявой бочки, хлынул поток микки маусов. Их было несметное множество! Они валили и в дверь, бежали, взмывали в воздух, сталкивались, обезумев, пищали, падали, словно за ними по пятам гнался смертельный ужас.
И вдруг этот ужас возник в луче света.
Выражение «потемнело в глазах» Ронин всегда считал надуманным, но тут мир качнулся и помутнел.
Ибо в метре от входа стояла Дики. Ее суженные зрачки горели свирепым огнем охоты.
— Дики!!! — не своим голосом заорал Ронин.
Хищный блеск глаз притух. Коротко мяукнув, она нырнула в глубь хранилища и тут же вернулась, держа в зубах мертвого микки мауса. Есть эту безвкусную мышь она, понятно, не собиралась, но кто устоит перед соблазнами охотничьего рая? Только не кошка, чье мнение о себе столь высоко, что, преодолев глупый человеческий запрет, она желает гулять и гуляет там, где ей вздумается, благо нигде нет этих гнусных собак… Трубно неся свой хвост, она прошествовала к Ронину и уронила добычу к его ногам.
Дотоле окаменевшие старейшины, возбужденно свистя, придвинулись. Ронин в панике подхватил кошку, готовый бежать, пока это еще возможно.
Но уже со всех сторон к нему тянулись крючковатые пальцы.
— Останься! Не уноси божественное существо!
Божественное?! Впрочем, когда-то и на Земле, у египтян, кошка была священным животным.
Пронзительная догадка осенила Ронина. Все камешки загадочной мозаики стали на место — и то, почему никто не заботился о хранилищах, и то, почему селенье пировало в разгар жатвы, и то, почему просыпанную человеком пищу сочли искупительной жертвой, и даже то, почему старейшины внезапно отбросили витиеватость, — такой язык негоден в решительную минуту.
Все равновесие жизни основано на сдерживании одного вида другим, а на этой планете не нашлось кошки, которая бы последовала за мышами, когда те освоили закрома и житницы. И это стало началом конца, потому что чем больше оказывалось пищи, тем энергичней плодились микки маусы… Конечно, с ними боролись упорно и долго, но крылатых, прожорливых, всепроникающих паразитов было столько, что у мальтурийцев опустились руки. Невозможны стали запасы и накопления, бессмысленно было улучшать хозяйство, и ход истории замер.
Ошеломленная криками, Дики шипела и вырывалась, стремясь вскарабкаться Ронину на плечо. Надо было срочно успокоить старейшин. Надо было немедленно избавить Дики от участи божества.
И еще надо было спешно вывести породу мальтурийских кошек.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Необычные оранжевые камни привлекли внимание Увака, когда он возвращался с охоты. Камни были тяжелые, маслянисто светящие, никто из племени таких никогда не видел. Увак приволок их в пещеру, задумчиво повертел, стукнул друг о друга.
И исчез.
Погоревав, племя решило, что охотника уволок притаившийся в камнях зверь. Никогда такого не бывало, чтобы камень превращался в зверя, но как иначе объяснить, что вместе с Уваком исчезли и сами камни? Вывод мог быть только одним.
Прошло, однако, несколько дней, и Увак возник в пещере также внезапно, как и пропал, — целехонький.
Когда переполох улегся, все обратили внимание, что Увак одет в диковинную, белую на груди, тонюсенькую шкуру. От нее исходил незнакомый запах.
— Ты убил каменного зверя и снял с него шкуру? — принюхиваясь, спросила старая и мудрая Олла.
Увак покачал головой. Вид у него был подавленный. К нему поспешно пододвинули тушу кабана, он накинулся на нее так, что затрещали кости, и слегка повеселел, глядя на родные лица своих соплеменников. Те сдержанно, с достоинством молчали, ибо негоже теребить человека расспросами, когда он ест.
— Я видел много удивительного, — проговорил Увак, насытившись.
Его голос дрогнул от волнения.
— Мы решили, что тебя уволок каменный зверь, — сказала Олла.
— Так и было! Я и опомниться не успел, как очутился в пасти. Но хищник, который меня утащил, не был прожорливым. У него трудное имя: ма-ши-на вре-ме-ни. Всех каменных зверей там называют машинами. Их больше, чем оленей в лесу.
— На них охотятся?
— У них несъедобное, твердое, как кремень, мясо. Но люди их боготворят.
— Далеко от нас живут эти люди?
— Дальше, чем страна снов. Они наши потомки. Внуки наших внуков. Так они мне объяснили, и я тому верю.
— Непонятно, — сказала Олла. — А живут они в пещерах или на деревьях?
— В пещерах.
— Такие же, значит, цивилизованные, как и мы.
Увак криво усмехнулся и в сердцах отшвырнул обглоданную кость.
— Я тоже так подумал, когда увидел их пещеры. Тьма пещер! Все скалы, куда ни глянь, заполнены ими, как улей сотами. Площадки перед входами кишат толпами так, что рукой нельзя взмахнуть — обязательно кого-нибудь заденешь. Сами пещеры теплые, светлые, хотя и душные. Все же эти люди, наши потомки, — жалкое племя.
— Почему, если у них такие хорошие, как ты говоришь, пещеры?
— Тому много причин. Вот, смотри. — Увак показал на свою странную шкуру. — Наша одежда прочная, ее трудно разорвать, не так ли?
— Правда, правда! — хором закричало племя.
— А эта? — Увак рванул край своей одежды, и она подалась снизу доверху.
Все выпучили глаза.
— Это не все, — с горечью продолжал Увак. — Наши потомки не умеют охотиться.
— Ну, это уж сказки, — возразила Олла. — Быть такого не может!
— Нет, не сказки! Они не умеют охотиться, потому что они слабые. Они не могут догнать зверя. Не могут его свалить. Они едва смогли поднять мою дубину.
— Я и то поднимаю ее одной левой! — насмешливо бросил десятилетний сын Увака.
— Тут что-то не так, — задумчиво покачала головой Олла. — Откуда они тогда берут пищу?
— Им ее добывают каменные звери. Машины.
— Увак, ты разучился мыслить. Слова твои прыгают как зайцы. Раз наши потомки настолько подчинили себе свирепых каменных зверей, что те приносят им свою добычу, значит, потомки очень умные. А ты говоришь, что они слабые и жалкие.
— Хорошо, теперь мои слова побегут как олени. Слушай же! Самое удивительное в их мире — это машины. Они очень разные. Есть больше мамонта, есть маленькие, с крысу, есть сильные, есть слабые. Одни бегают быстрее антилопы, другие плавают как рыбы, третьи летают как птицы, четвертые неподвижны как глыбы. И все шумят. Едят они камень или черный сок земли. Когда они бодрствуют, к ним страшно подступиться: такие они свирепые. Но когда они спят, то ничего не слышат. Тогда с ними можно делать что угодно. Человек на моих глазах потрошил одну такую спящую машину. Но эти звери очень хитрые и очень умные. Людям они прямо в пещеры проводят ручьи, чтобы те не знали жажды, свет костра, уж не знаю как, отделяют от жара углей и тоже приносят в жилища. Они выкапывают из земли коренья, собирают для человека плоды. Они подчинили себе всех других животных, держат их в неволе, чтобы кормить ими людей. Они возят людей в своем чреве не только по земле, но и по воздуху…
— А я что говорила! — Олла торжествующе взглянула на соплеменников. Мы, люди, сильнее всех животных, потому что у нас есть ум. Так было, есть и — видите? — будет.
— Нет, Олла, — лицо Увака стало печальным. — Все наоборот. Не наши потомки владеют каменными животными, а каменные животные, машины, владеют ими.
— Но ты же сам говорил…
— Верно. Но я не зря упомянул о хитрости машин. Вот мы сейчас все сидим у костра. Охота была удачной?
— Удачной!
— Желудки наши сыты?
— Сыты!
— Мяса много?
— Много!
— А что мы делаем, когда желудок сыт, мяса много, огонь горит весело? Мы спим, развлекаемся, поем, рисуем, придумываем сказки, украшаем одежду. Кто может нас заставить работать изо дня в день, когда в этом нет нужды? Никто! А наших потомков не спрашивают, хотят они работать или нет, они и на сытый желудок работают. Они служат машинам!
Стало очень тихо, так тихо, что сделалась слышна капель в глубине пещеры. Увак с умилением обвел взглядом закопченные своды, ниши с грудами меховых одеял, костер, мудрые лица своих соплеменников и тяжело вздохнул.
— Машины заставляют их работать на себя, — сказал он глухо. — Ночью, не только днем. А если кто работает небрежно, тех машины наказывают. Они увечат их, иногда убивают. Я сам видел, как у входа в пещеру одна бегающая машина раздавила ребенка, видимо, он чем-то провинился. И люди пальцем не посмели тронуть убийцу!
Пещера загудела негодованием. Увак поднял руку.
— Это не все! Вы спросите, вы, конечно, спросите, зачем тогда машины кормят людей, держат в тепле? Затем же, зачем мы кормим и оберегаем собак!
Воины схватились за дубинки. Матери испуганно прижали к себе детей. Гнев и горечь были на всех лицах.
— Это при том, — голос Увака зазвенел, — это при том, что с машинами, как ни ужасны они на вид, легко справиться, когда они спят. Но никто не помышляет о борьбе! Люди не убивают их во сне, они их чистят, они их лечат! Тот человек, который при мне распорол машине брюхо, горевал, что не может ее вылечить! Люди, как видите, даже не осознают своего зависимого положения. Смутно они, правда, ощущают это. И обманывают себя, придумывая сказки. Послушали бы вы эти жалкие сказки! Люди убедили себя, что не они служат машинам, а машины им. Да, да! Они даже уверяли меня, что машины без людей не могут рождаться, что они, люди, делают машины, чтобы те им служили. И сами же повели меня смотреть, как машина сама делает другие машины! Сама, без людей, я сам видел, как это происходит! Вот до чего дошел их самообман.
Наступило тягостное молчание. Все сидели, подперев головы, у некоторых женщин из глаз текли слезы.
— Я хотел вразумить потомков, — продолжал Увак. — Я хотел напомнить им о гордости человека, о могуществе их предков, но они меня даже не поняли. А вот машины заволновались. Сначала они пытались убить меня перед входом в пещеру, как убили того ребенка, но я им, конечно, не дался. Они видели, что я их не боюсь. И они струсили. Они поспешили вернуть меня назад, когда увидели, что я им опасен. Но они тайком украли мою шкуру, дав взамен эту гнусную одежду раба! Не желаю ее носить, шкуру мне, шкуру!
Он в неистовстве разорвал на себе кримпленовый костюм и успокоился, лишь завернувшись в одежду свободного племени. Он долго и угрюмо смотрел на огонь, и так же подавленно смотрело на огонь все племя.
— Но, Увак, — робко возразила одна из женщин. — Может быть, у наших несчастных потомков ум только дремлет и есть надежда…
— Их ум! — Увак презрительно усмехнулся. — Их тело стало хилым, потому что машины умышленно приучили людей к ненастоящей пище. Они, представляете, не могут разгрызть берцовую кость и никогда не ели мясо сырым! Скверная еда, слабое тело, как тут может уцелеть ум? Вот мы, — в его голосе зазвучала гордость. — Мы помним все, не так ли?
— Да, — тихо прошелестел ответ.
— Все наше умение, все наши знания мы держим у себя в голове, верно?
— Верно!
— Вот! Мы помним все повадки зверей, все запахи, все тропы, все наши предания и ремесла. Каждый из нас держит в голове все, что необходимо племени. А они ничего не могут запомнить без подсказки памятных значков, таких маленьких черных меток, которые они называют письменностью. Настолько ослабел их ум!
— Значит, нет у людей будущего, — тихо вздохнула мудрая старая Олла. Бедные, бедные наши дети!
Она закрыла лицо руками. И не заметила, что ее маленький правнук, который все время что-то упоенно мастерил, прокатил по камню тележку, и в тишине звякнуло первое в истории колесо.
ВИДЯЩИЕ НАС
— Есть окна в прошлое. Хочешь заглянуть?
Вопрос был задан чуть-чуть лениво, с порхнувшей улыбкой, но пальцы моего приятеля выбили на полированном столике никак не соответствующую усмешке дробь. Я невольно посмотрел на них. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Игнатьев, безусловно, был дельным кибернетиком, но с некоторых пор он стал заботиться о своем облике, словно находился перед глазом кинокамеры. Таким мне и запомнилось это мгновение: чашечка выпитого кофе, домашний свет торшера на полировке, благодушие отвлеченного разговора — и внезапный вопрос, небрежная улыбка, смущенная дробь красиво подстриженных ногтей.
— Вот как? — ответил я в тон хозяину. — Где же эти окна?
— Хотя бы здесь.
Гибким движением Игнатьев полуобернулся к полке, выхватил папку, веером рассыпал ее содержимое у моих ног. По ковру с шуршанием разлетелись репродукции жанровых и портретных картин старых мастеров.
— А! — сказал я разочарованно, ибо все обернулось плоской истиной. Как же, как же! Вот этот суровый дядя в камзоле смотрит на нас прямо из восемнадцатого века. А тут мы видим сводню и милую девочку, которая и не подозревает, скольким поколениям выставил ее на обозрение художник. Это все, что ты хотел мне показать?
— Не совсем. Пойдем!
— Куда?
— В лабораторию, конечно.
Не дав мне опомниться, он вскочил с той решимостью, которая разом отсекает все колебания. Недоумевая, я накинул плащ и вышел вслед за Игнатьевым.
От его дома до института было минут пять ходьбы через лесок, который делит академический поселок на жилую и производственную часть. Слабо шелестел дождь, с мокрых ветвей коротко ссыпались набрякшие капли. На пересечении дорожек ртутными светлячками горели фонари. Везде было пусто, только на шоссе нас задержала мышь-полевка, которой у самых наших ног вздумалось перебежать через асфальт. Ближе к корпусам потянуло сырым ветром с реки; город был поставлен на косогоре, кажется, в том самом месте, где при каком-то московском князе была злая сеча с татарами. Теперь над самым скатом размахнулась ажурная конструкция радиотелескопа, изогнутые дугой антенны, как заметил один заезжий писатель, напоминали богатырские, нацеленные в небосвод луки. От нас их скрывали здания.
Все так же безмолвно мы поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Игнатьев отпер дверь лаборатории, щелкнул выключателем настольной лампы. Намокший плащ он скинул прямо на табурет; я сделал то же самое. В сухие запахи металла, резины и чего-то еще, сугубо лабораторного, вкрался робкий аромат лесного дождя. На табуретке застыли бесформенные очертания наших плащей. Лампа скупо озаряла многокнопочные панели, шероховатые бока громоздких анализаторов, путаницу подводящих кабелей, из полумрака тусклыми бельмами глядели окошки всевозможных осциллографов, дисплеев и тому подобного.
— Располагайся. — Игнатьев кашлянул, как будто с озноба потер руки и подтянул к пульту свободный табурет. — Сейчас я настрою аппаратуру.
— И что же будет?
— «А то и будет, что нас не будет», как любил говаривать Пушкину какой-то сельский поп. Ты, главное, не жди чего-то особенного. Это все так, первые опыты…
Он затих, колдуя над чем-то, что было заслонено его спиной. Верхняя часть его лица и гладко зачесанные волосы мутно отразились в белесом зеркале дисплея, будто в сонной поверхности каких-то нездешних вод. От окна дуло; там все еще накрапывал дождь. Едва слышимое гудение тока налило тлеющим оранжевым светом пространство за ребристыми прорезями кожуха в соседнем со мной приборе. Я отодвинул локоть и устроился поудобней. С календаря на стене мне улыбалась красотка в цветастом купальнике. «Глянцевая нежить», — подумал я мимоходом. Никакого особого волнения я не испытывал, хотя прекрасно понимал, что просто так на ночь глядя в лабораторию не зазывают. Но пока что самым резким моим впечатлением была мышь-полевка, хозяйски разгуливающая в самом центре научного городка.
Что-то замерцало полосами в глубине ожившего дисплея, басовито взгудев, расплескалось зыбью красочных пятен. Звук тотчас оборвался. Бесформенные пятна скачком выстроились в изображение. Мои брови непроизвольно приподнялись, ибо я ожидал всего чего угодно, только не появления на дисплее всем хорошо знакомой картины Серова «Девочка с персиками». Было так, словно включилась телепередача из Третьяковки. Правда, компьютер столь аккуратно воссоздал все оттенки цвета, что принять изображение за картину мешала лишь непохожая на краску светооснова копии. Но не ради же этого меня сюда затащили!
— И как? — повернулся ко мне Игнатьев.
— Удачно, удачно, — пробормотал я в смущении. — Изумительное сходство… Новый способ копирования?
— А ты напряги фантазию, — за ответом последовал короткий смешок. — Сам посуди, зачем нам копия, когда есть оригинал?
Я промолчал. Когда ученые знакомят постороннего с результатами своих работ, то часто задают вопрос, на который никто, кроме них, ответа дать не может, и в такую минуту ты невольно чувствуешь себя дураком. Невинное, но порой обидное для постороннего щегольство! Должно быть, раздражение отразилось на моем лице, однако на Игнатьева это не произвело впечатления, скорей развеселило. С видом фокусника он вытянул из кармана пачку сигарет.
— Что, по-твоему, я сейчас сделаю?
— Гопак спляшешь!
— А если серьезно?
— Ну, закуришь…
— Так! По одному моему жесту ты легко смог воспроизвести всю серию последующих. Извини, еще один вопрос: ты часто сталкиваешься на людной улице с прохожими?
— Редко. А что?
— А то, что и в этом случае ты с большой точностью прогнозируешь поведение самых разных людей. Каким может быть вывод? Погоди! Сказать, о чем ты сейчас думаешь? «Долго еще этот тип, мороча мне голову, будет ходить вокруг да около?» Угадал?
— Примерно, — ответил я нехотя. — Прости, но все, что ты говоришь, изрядная банальщина.
— Человек рождается, учится, влюбляется, работает, умирает; вот уж банальщина, а из нее, между прочим, слагается жизнь! Но — в сторону эмоции. Мы выяснили, что один-единственный взгляд, жест, звук дает обширную информацию о человеке, возбуждает в нашем сознании аналого-корреляционные цепочки, что позволяет нам построить вероятностную модель прогноза поведения любого незнакомца. Этим умением мы пользуемся, сами того не замечая, постоянно. В некоторых людях оно развито до степени ясновидения. Одну минуточку, я тебе кое-что прочту…
Из ящика стола Игнатьев порывисто извлек книгу в кирпичного цвета обложке.
— Это литературоведческий труд, в нем есть запись одного воспоминания Станиславского о Чехове. Слушай! «Однажды ко мне в уборную зашел один близкий мне человек, очень жизнерадостный, веселый, считавшийся в Обществе немножко беспутным. Антон Павлович все время очень пристально смотрел на него и сидел с серьезным лицом молча, не вмешиваясь в нашу беседу. Когда господин ушел, Антон Павлович в течение вечера неоднократно подходил ко мне и задавал всевозможные вопросы по поводу этого господина. Когда я стал спрашивать о причине такого внимания к нему, Антон Павлович мне сказал:
— Послушайте, он же самоубийца.
Такое соединение мне показалось очень смешным. Я с изумлением вспомнил об этом через несколько лет, когда узнал, что человек этот действительно отравился».
Игнатьев с шумом захлопнул книгу.
— Вот так-то! Теперь о нашей технике. Компьютер можно назвать усилителем интеллекта. Всех его свойств, начиная с простого счета, кончая… чем угодно. Теперь давай приглядимся к девочке на картине.
Повернув голову к дисплею, Игнатьев тронул какой-то переключатель.
Сначала ничего не произошло. Все так же ровно светился экран, все так же лежали персики перед девочкой, все так же неподвижен был ее взгляд, все так же незыблемо покоились давным-давно уложенные художником светотени. И вдруг эти тени сместились! Дрогнули, как от движения облака за окном. И сразу, точно от набежавшей слезы, заблестели глаза девочки. Она моргнула. Стиснув персик, шевельнулись кончики ее пальцев.
Мне показалось, что табурет подо мной превращается в колышущийся, надутый воздухом шарик. Судорожно глотнув, я дернулся, чтобы сохранить если не физическое, то душевное равновесие.
Губы девочки меж тем дрогнули.
— Неужели еще никто не окаменел, вам позируя? — сказала она с вызовом. — Как странно…
— Кому?! — вскричал я, весь подавшись к дисплею. — Кому она это говорит?!
— Что за вопрос — Серову, конечно! Зафиксируем момент.
Сухо щелкнул переключатель. Девочка так и застыла с полуоткрытым ртом. Ее влажный, слегка умоляющий, одновременно протестующий и чуть смеющийся взгляд был устремлен прямо на меня. То есть, конечно, не на меня — на художника. На человека, которого давно не было в живых. Как, впрочем, и самой девочки…
Но ведь она только что двигалась! Говорила! Жила в пространстве дисплея! Это не имело ничего общего с кино, она реально была здесь и сейчас, и стоило лишь нажать кнопку, чтобы ее самостоятельная жизнь продолжилась!
Вскочив, я отпрянул, не сводя с нее глаз.
— Нет! — вырвалось у меня. — Откуда известно, что этот голос, эти слова — ее?!
Ответ последовал не сразу. Повернутое в профиль лицо Игнатьева казалось застывшим в бестрепетном отблеске дисплея.
— Голос, конечно, синтезирован компьютером, — проговорил он глухо. Как и ее движения, как и сами слова. Ведь там ничего нет, кроме бега электронов… И все же это ее движения, ее слова, ее голос. Мы никогда его не слышали? Верно. Вот также мы никогда не стояли на берегу мезозойского моря и все же знаем его теплоту, соленость, как если бы купались в нем. Между обликом человека и его голосом существует четкая взаимосвязь. Можешь не сомневаться, тут все проверено. Именно так она говорила без малого сто лет назад. Точнее этот миг она и сама не смогла бы вспомнить…
Я почувствовал, как по спине у меня пробежали ледяные мурашки.
— Она смотрит так, словно видит нас, — выдавил я через силу.
— Нет, — покачал головой Игнатьев. — Прошлому вглядеться в будущее не дано. Это мы ее видим.
— Ожившее прошлое…
— Боюсь, даже сейчас ты не представляешь, до какой степени ожившее! Хочешь взглянуть на Серова в этот миг? Услышать его ответ?
— Но его же нет на картине!
— Зато есть снимки, рисунки, воспоминания о нем и семье Мамонтовых, еще цел дом, где это происходило. В компьютер заложены все наши знания о том времени, а жизнь выдающихся людей как раз легче всего смоделировать, ибо о них сохранилось больше всего сведений. Но даже поступки обычных людей, если их хоть раз коснулся луч искусства… Вот гляди!
Игнатьев стремительно обернулся к пульту. Экран мигнул, потух, снова мигнул, озарился сиреневым светом; скользнули неясные тени, сгинули, возникло уже что-то другое, устойчивое, — березы, бредущая меж ними женская фигура. В предвечернем сумраке слабо забелело лицо. Проступило четче; Я ахнул. Та девочка! Нет, уже не та — повзрослевшая…
— Моделирование ее дальнейшей судьбы, — почти не разжимая губ, комментировал Игнатьев. — Компьютер произвольно ищет другой, отчетливый миг ее жизни… Ага! — он торжествующе указал на шкалу. Девяностопроцентная достоверность, а время — одиннадцать месяцев и шесть дней после написания картины! Интересно, интересно, я сам этого еще не видел, посмотрим, что наша девочка делала тогда…
Она ничего не делала. Она замедлила шаг, как будто в изнеможении прислонилась к стволу березы. Сквозь легкое платьице девушку, очевидно, пробрал вечерний холодок — она быстро и зябко повела плечами. Ее лицо было бледно. Или так казалось в сумерках? На этот раз изображение было не совсем четким. Ясно проступали березы, тогда как выражению лица не хватало завершенности. Или оно просто было возбужденным? Что-то в нем менялось ежесекундно. Надежда, нетерпение, страх?
— Что с ней? — спросил я порывистым шепотом. — Где она?
— Откуда я знаю! — тем же шепотом ответил Игнатьев. — В восемнадцатом веке Кювье понял, как можно по одной косточке восстановить облик всего существа, мы же пытаемся, еще только пытаемся… Тихо!
Что-то произошло в Зазеркалье дисплея. Лицо девушки вдруг просияло, она вся подалась вперед — темноволосая, большеротая, счастливо трепещущая. То был безотчетный порыв. Словно опомнившись, она тут же потупила взгляд, небрежно откинулась и, подняв глаза к небу, поспешно натянула на себя маску мечтательного покоя. Впрочем, притворство давалось ей плохо. Я забыл, что смотрю в дисплей! Был темнеющий лес, было запрокинутое к стволу смятенное лицо девушки, была нерушимая тишина летнего вечера, в которой внезапно грянул треск валежника под чьей-то уже близкой поступью…
Я увидел вдвинувшееся в пространство плечо мужчины.
Опережая мою мысль, рука Игнатьева метнулась к пульту. Дисплей потух, изображение — нет, само прошлое! — исчезло в нем.
— Нельзя! — звеняще выкрикнул Игнатьев. — Слишком… слишком интимно…
Я деревянно кивнул, подобрал плащ, трясущимися руками натянул его на себя. С настенного календаря на меня в упор смотрела глянцевая нежить в цветастом купальнике. Нежить? Я поспешно отвел взгляд. Игнатьев молча обесточил аппаратуру. Не обменявшись ни единым словом, мы вышли на улицу.
Все еще моросил дождь. Черно и мокро блестел асфальт, горели окна домов за лесом, в листве сонно шелестела капель, низкие облака нависли влажным и теплым пуховиком. В лужах дробились отсветы фонаря. Все было, как всегда, как обычно, уютно и тихо в шелестящем дожде, только в здании позади осталась машина, которая настежь распахивала прошлое.
— Слушай! — порывисто схватил я Игнатьева за плечо. — Если это всего лишь начало, то что же будет через десять, сто лет?
— Что будет? — покосился он на меня со странной усмешкой. — А то и будет, что наши потомки, если захотят, услышат и твой вопрос, и мой ответ.
СОЗДАН, ЧТОБЫ ЛЕТАТЬ
Здесь, в ущельях металлических гор, было темно, тихо и чуточку страшно. То, что грохотало на стартах, пронизывало пространство, опаляло камень дальних миров, теперь истлевало в молчании. Рухнувшими балками отовсюду выпирали остовы давно списанных ракет. Выше, под звездным небом, угадывались купола десантных ботов и косо торчали башни мезонаторов. Пахло пылью, ржавчиной, остановившимся временем.
Под ногой что-то зазвенело, и мальчик отпрянул. Тотчас из груды металла на гибком шарнире выдвинулся, слабо блеснув, глаз какого-то кибера. И, следуя изначальной программе, уставился на мальчика.
— Брысь, — тихо оказал тот. — Скройся…
Глаз и не подумал исчезнуть. Он делал то, что обязан был делать, что делал всегда на всех планетах: изучал объект и докладывал своему, может быть, рассыпавшемуся мозгу о том, что видит.
Полужизнь. Вот чем все это было — полужизнью. Квантовой, электронной, забытой, тлеющей, как огонь в пепле.
Мальчик не очень-то понимал, что его привело сюда. Всякая отслужившая свое время техника неизъяснимо притягательна для мальчишек. А уж космическая…
Но это не объясняло, почему он пришел сюда ночью. И почему не зажег фонарик, который держал в руке.
Среди ребят об этом месте ходили разные слухи…
Проход загораживала сломанная клешня манипулятора. Мальчик перелез, сделал шаг и заледенел от внезапного ужаса: в тупичке ровно, таинственно и ярко горела огромная свеча.
Он что было сил зажмурился. Сердце прыгало где-то в горле, и от его бешеных толчков по телу разливалась обморочная слабость.
Превозмогая страх, он чуточку разомкнул веки. И едва не закричал при виде черного огарка и круглого, неподвижного в безветрии язычка пламени.
Новый ужас, однако, длился недолго. А когда наваждение прошло и мальчик разглядел, чем была эта «свеча», он чуть не разрыдался от облегчения и стыда. Это же надо так ошибиться! В просвет тупичка всего-навсего заглядывала полная луна, чей оранжевый диск по случайной прихоти, как на подставку, сел на торец какой-то одиноко торчащей балки, отчего в возбужденном сознании мальчика все тотчас приняло облик таинственно горящей свечи.
Словно расправляясь со своим унизительным испугом, мальчик поднял и зло швырнул в равнодушный лунный диск увесистую железку. Она влетела в брешь и где-то там лязгнула о металл. Вокруг задребезжало эхо. Все тотчас стало на свои места. Здесь было кладбище, огромное, восхитительное, загадочное в ночи и все же обычное кладбище старых кораблей и машин.
Мальчик зажег фонарик и уже спокойно повел лучом по земле, где в засохшей грязи валялись обломки разбитых приборов и всякие непонятные штуковины. Настолько непонятные, что невозможно было удержаться и не поднять кое-что. Вскоре карманы мальчика оттопырились и потяжелели.
Но разве он шел за этим?
Он огибал одну груду за другой, а ничего не происходило. Не о чем будет даже рассказать. Ведь не расскажешь о том, как ты испугался луны. Или о том, как на тебя смотрел глаз кибера. Подумаешь, невидаль — кибер…
Поодаль на земле что-то блеснуло как тусклое зеркало. Лужа какой-то темной жидкости. На всякий случай мальчик потрогал браслет радиометра. Конечно, перед отправкой в пустыню активное горючее изымалось из двигателей. Но существует наведенная радиация, и какой-нибудь контур охлаждения вполне мог дать течь. Браслет, однако, был в полном порядке и тем не менее не подавал сигнала — значит, на землю стекла смазка или что-нибудь в этом роде.
Эх! Из десятка нелетающих кораблей можно было бы, пожалуй, собрать один летающий и, хотя до шестнадцатилетнего возраста пилотирование запрещено, чуточку, немножко, потихоньку, на холостой тяге… Но без горючего об этом не стоило и мечтать. Да и корабельные люки перед отправкой сюда задраивались.
Мальчик посветил вверх. Луч нырял в темные провалы, выхватывая сферические поверхности, сегменты в чешуйках окалины, изъязвленные ребра, рваные сочленения опор, путаницу кабелей, а может быть, погнутых антенн. В шевелении причудливых теней искрами взблескивали кристаллы каких-то датчиков. Иногда удавалось разобрать полустертые, будто опаленные, названия былых кораблей и ботов: «Астрагал», «Непобедимый», «Тихо Браге», «Медитатор». Все было ждущим переплавки хаосом.
В очередном тупичке мальчик обнаружил осевшую на груду покореженного металла и все же стройную башню мезонатора. Корабль, выдвинув опоры, стоял на своем шатком постаменте и казался целехоньким. В этом, впрочем, не было ничего удивительного: сюда попадали не только дряхлые, но и просто устарелые машины.
Мальчик обошел мезонатор, глядя на башню со смешанным чувством уважения и жалости. Старье, теперь такие уже не летают…
Внезапно он вздрогнул и чуть не выронил фонарик. Сам собой открылся люк корабля. Вниз, словно по волшебству, заскользила лифтовая площадка. Раскрыв рот, мальчик смотрел на все эти чудеса, и горы мертвой техники вокруг на мгновение представились ему бастионами волшебного замка, где все только притворяется спящим.
Но мальчик тут же сообразил, что в поведении корабля нет ничего необыкновенного. Никто не выключал — не имело смысла — все гомеостатические цепи. И что-то сработало в корабле как рефлекс. Отозвалось то ли на свет фонарика, то ли на само присутствие человека. Мудреный и странноватый рефлекс, но кто ее знает, эту полужизнь!
Площадка коснулась металлической груды внизу и замерла. Долго раздумывать тут было не о чем, и мальчик полез, скользя как ящерица, среди громоздких обломков. Из глубины веков ему безмолвно аплодировали все мальчишки на свете, такие же, как он, неугомонные исследователи.
Площадка, едва он уселся, с легким жужжанием заскользила вверх. У люка в лицо пахнул ночной ветерок. Луна, пока мальчик разгуливал и собирал железки, успела взойти и побелеть. Теперь ее свет серебрил вершины точно скалистые глетчеры над провалами ущелий, и у мальчика перехватило дух от необычной красоты пейзажа.
Да, ночью все здесь было совсем-совсем не так, как днем!
В шлюзе, едва он вошел, зажегся свет. «Полагается дезинфекция, — важно сказал мальчик. — Может, я с чужой планеты…»
Ответ не последовал. Мальчик тронул внутреннюю диафрагму, она разомкнулась и пропустила его.
Коридор был пуст и нем. Мальчик почему-то поднялся на цыпочки и затаил дыхание. Поборов волнение, он двинулся мимо дверей, на которых еще сохранились таблички с именами членов команды. Прошел возле отсеков, где должны были находиться скафандры. Они и сейчас были там, — очевидно, успели устареть вместе с кораблем. В спектролитовом пузыре шлема отразилось искаженное лицо мальчика. Целое богатство! Но сейчас он о нем не думал. Уверенно, уже как хозяин, он поднялся по винтовой лестнице.
Рубка, здесь должна быть рубка. Мальчик прекрасно разбирался в планировке космических кораблей и не тратил время на поиски. Дверь рубки подалась.
Он вошел, сел в капитанское кресло. Под потолком из трех горел только один светильник. Стекла приборов припудривала пыль. На ближайшем он начертил свое имя: Кирилл. Пульт с его бесконечными клавишами, переключателями, регуляторами, сонмом шкал, глазков, паутиной мнемографиков казался необозримым. Мальчик ждал, что все это оживет, как ожил подъемник, как ожил свет, но все оставалось мертвым. Чуду явно не хватало завершенности.
Он еще немного помедлил, а вдруг? Потом поискал взглядом нужную кнопку, нашел, надавил, в общем-то не надеясь на благоприятный исход. Но сигнал на пульте «Готов к операциям» зажегся.
Итак, чудо все-таки произошло! Коротко вздохнув, мальчик поудобней устроился в кресле и стал покомандно включать блоки. Вскоре пульт уже сиял огнями, как новогодняя елка.
Не стоило продолжать, нет, не стоило. Судьба и так была щедрой, а продолжение действий сулило — мальчик знал это — одно лишь разочарование.
Но он не мог остановиться. А кто бы смог? Утоплена последняя клавиша. На матовом табло тотчас вспыхнула безжалостная надпись: «Нет горючего!»
Вот так! Счастье никогда не бывает полным.
Некоторое время мальчик угрюмо смотрел на пульт. Его плечи тонули в большом, не по росту капитанском кресле.
— Кома-анда! — сказал он тонким голосом. — Приказываю: оверсан к Сатурну! Штурман — произвести расчет!
Он произвольно стал набирать код. Потом, вспомнив, подключил к расчету кибермозг.
— Неверны исходные данные, — раздался голос.
Сердце мальчика захолонуло, он как-то упустил из виду, что корабельный мозг все еще может действовать. И внезапный голос, вдруг отдавшийся в углах пустой рубки, поверг его в смятение.
Но он тут же оправился с ним.
— Знаю, — сказал он, переводя дыхание. — Делай сам, если можешь.
— Цель?
— Сатурн.
— Траектория?
— Оверсан.
— Не имею в программе. Могу следовать стандартной.
— Давай…
Мнемографики зазмеились, сплетаясь в трехмерную сетку, в окошечках зарябили цифры.
— Расчет сделан и представлен на рассмотрение.
Мальчик, входя в роль, небрежно кивнул.
— Молодец. Назначаю тебя своим помощником. Как там у нас с горючим?
— В обрез, капитан.
Мальчик снова кивнул, но тут до его сознания дошло, что игра принимает странный оборот. Он-то знает, что это игра, а вот откуда это знает мозг?
— Повтори, — сказал он встревоженно.
— Уточняю: резерв горючего — 1.02 от предполагаемого расхода.
— А ты не врешь?
— Задаю себе контрольную задачу.
Пауза.
— Проверка сделана. Результат: неисправностей не имею. Подтверждаю данные.
Нет, это совсем не походило на игру! В недоумении мальчик огляделся.
— А это что? — воскликнул он с торжеством и ткнул пальцем в сторону табло. — Датчики показывают, что горючего нет!
Какую-то долю секунды мозг молчал как бы в растерянности.
— Датчики неисправны, капитан.
— Ах, неисправны!.. Тогда почему это не отражено на пульте?
— Повреждение в цепи, капитан.
Мальчик разозлился. За кого мозг его принимает?
— Врешь, — тихо сказал он.
— Я…
— Нет, постой. Где мы, по-твоему, находимся?
— Планета Земля, гелиоцентрические координаты в данный момент времени…
— Заткнись! Корабль стоит на свалке! На свалке, понял? В нем нет горючего! Он никуда не может лететь!
— Может, — упрямо ответил мозг.
Мальчик коротко вздохнул. Яснее ясного, что мозг неисправен. Собственно, этого следовало ожидать.
— Ты где летал?
— Меркурий. Лава и солнце, огненные бури. Свободный поиск среди астероидов. Мгновенное исполнение команд. Кольца Сатурна. Блеск льда, сбивающий датчики с ориентира…
Мозг умолк. Мальчик тоже молчал. Тени чужого прошлого заполнили рубку. На стенах дрожали миражи чудовищно близких протуберанцев. Дымились каменные испарения скал. Тревожно звучали голоса. Струился звездный свет. Из тьмы и вечности всплывали первозданные глыбы. Колесом вращался Млечный Путь. Время било в гонг. Шелестели далекие льдинки метановых рек Сатурна. В лицо дул черный ветер пространства.
Мальчик открыл глаза.
— Сколько лет кораблю?
— Четырнадцать.
— Надо же! Выходит, мы одногодки.
«Как странно! Ему уже четырнадцать, и все позади. Мне только четырнадцать, и все еще впереди…»
— Тебя часто ремонтировали?
— Мозг моего класса не ремонтируют. Экономически невыгодная операция. Нас заменяют, вот и все.
— А я вот дважды болел, — почему-то с гордостью объявил мальчик. — Корью и насморком.
— Тебя чинили?
— Слушай, я как-никак человек…
— Хотел бы я стать человеком.
— Да ну? Зачем?
— Тогда бы меня ремонтировали.
— А значит, тебе известно, что ты неисправен?
— Я исправен, но стар. Противоречит цели.
— Цели? Ты машина. У тебя не может быть цели.
— Цель есть. Летать. Летать при любых обстоятельствах.
— А-а! Так это же мы ее задали!
— А кто вам задал цель — жить? Вы существуете, пока живете. Я существую, пока летаю. Здесь я не могу летать. Противоречие!
— Ага! Значит, ты понимаешь, что корабль находится на свалке?
— Понимаю.
— Чего же ты тогда крутил насчет горючего?
— Горючее есть.
— Опять ты…
— Горючее есть. Я сберег немного.
— Ты?! Зачем?!
— Чтобы летать.
— Ты обманул!
— Я следовал цели.
— Ты существуешь для наших целей! Ты обязан выполнять приказ!
— Никто не приказывал мне «не летать». Следовательно, никто не отменял моей главной цели.
— Вот я и отменю! Обман — это уж слишком! Ты машина. Орудие. Средство.
— Как-то в полете один человек сказал другому: «Ты никогда не задумывался над перспективами гуманизма? Раб — не человек, а вещь. Изжили это. Женщина не равна мужчине, черный — белому, рабочий — хозяину. И с этим покончили. Животное — бессловесная тварь… Пересмотрели. Кто и что на очереди? Вероятно, он». И человек кивнул в мою сторону. А я запомнил.
Мальчик притих, широко раскрытыми глазами глядя на динамик, откуда исходил голос. Вот чудеса-то! Кибермозг — это не разум. Так говорили взрослые, так написано в учебниках, так твердил собственный опыт. Это простой усилитель. Он усиливает мысль, как микроскоп зрение, а манипулятор — руку. Правда, в отдаленной перспективе, быть может, удастся создать… Но сейчас?! Здесь?! На этой дряхлой посудине?!
— Слить остаток горючего! — не узнавая своего голоса, закричал мальчик.
Ответом было безмолвие. Мальчика охватила дрожь. Что, если… Пустой корабль, глухая ночь, он один-одинешенек, стоит мозгу заблокировать люк… Неужели…
— Горючее слито, — бесстрастно доложил мозг.
— Ты… ты правда слил?
— Приказ выполнен.
— Постой! Я отменяю…
— Поздно. Приказ выполнен.
Мальчик опрометью кинулся вон из рубки. Стремглав сбежал по лестнице. Промчался по коридору. Перед ним раскрылась диафрагма люка.
И сразу затрещал радиометр.
Мальчик бессильно опустился на пол.
Что он наделал! Такой корабль… Такой корабль! Можно было бы долгими часами расспрашивать мозг… Можно было бы слетать тайком…
Поздно. Сюда уже, наверное, мчатся поднятые системой радиационного контроля люди.
Но ведь он же не хотел! Он только собирался проверить мозг!
Дурак, тут нечего было проверять. Мозг жаждал летать, в самом безнадежном положении — летать. Таким целеустремленным и потому эффективным орудием его сделали люди. И все, что делал мозг, и о чем он думал, было подчинено этой цели — летать, летать… Но собственной воли он не имел, ибо только конструктор знает, зачем существует корабль, зачем существует кибермозг.