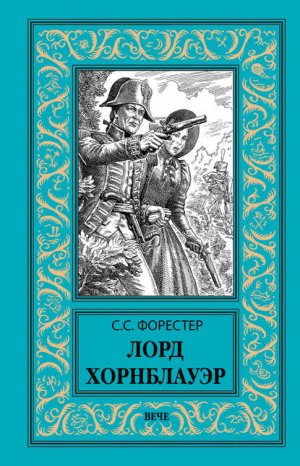
Глава I
Церковная скамья из резного дуба, на которой сидел сэр Горацио Хорнблауэр, была жутко неудобной, а проповедь, которую читал декан Вестминстерского собора — смертельно унылой. Хорнблауэр ерзал, словно дитя, и так же, как ребенок, разглядывал часовню и прихожан, чтобы отвлечься от испытываемых физических неудобств. Над его головой парили изысканные узоры здания, которое Хорнблауэр справедливо оценивал как самое красивое в мире: было что-то математически совершенное в том, как шли, то встречаясь, то расходясь, то вновь сплетаясь, линии узора — своего рода вдохновленная логика. Безвестные рабочие, делавшие этот орнамент, были, похоже, прозорливыми, творческими людьми.
Проповедь продолжалась, кроме того, Хорнблауэр опасался, что по ее окончании будут еще петь, и разряженные в стихари певчие, издавая эти визгливые звуки, будут мучить его даже сильнее, чем проповедь или дубовая скамья. Такова цена за право носить ленту и звезду, за право быть кавалером досточтимейшего ордена Бани. Поскольку он, как известно, находился в отпуске по болезни в Англии, и совершенно поправился, то не мог уклониться от участия в этой самой важной церемонии ордена. Несомненно, часовня выглядела достаточно впечатляюще: тусклый свет, пробиваясь сквозь окна, отражался и множился в блеске орденов, разжигая темно-красные мантии рыцарей. Это было, по меньшей мере, поводом для гордости и тщеславия: в этом была причудливая, трогающая красота, даже если не затрагивать исторические ассоциации. Возможно скамья, на которой он сидел, ранее причиняла такие же неудобства Хоку или Энсону;[1] возможно Мальборо,[2] в малиновом и белом, как и он сам сейчас, раздражался и нервничал, слушая такую же проповедь.
Сановного вида человек невдалеке, с серебряной с позолотой короной на голове и в бархатном плаще, вышитом королевским гербом, был не более чем Оружейным королем Ордена Бани[3] одним весьма обросшим связями субъектом, который заполучил эту хорошо оплачиваемую синекуру и мог, сидя на проповеди, успокаивать себя мыслью, что зарабатывает на жизнь, поступая подобным образом лишь раз в год. Рядом стоял принц-регент, суверен ордена. Его багровое лицо соперничало яркостью с темно-красной мантией. Еще здесь присутствовали армейские генералы и полковники, чьи лица были незнакомы ему. Зато в другой стороне часовни стояли люди, с которыми он был горд разделить членство в ордене — лорд Сент-Винсент,[4] огромный и мрачный — человек, проведший флот через сердце в два раза более сильной испанской эскадры; Дункан,[5] который разгромил голландский флот при Кампердауне;[6] и еще больше дюжины адмиралов и капитанов. Некоторые из них стояли даже ниже него в Капитанском списке: Лидъярд, захвативший «Помону» у Гаваны; Сэмюэль Худ,[7] который командовал «Рьяным» на Ниле; и Ео, штурмовавший форт при Эль-Mуро. Было приятно и волнующе состоять членом одного с ними рыцарского Ордена — странное ощущение, но верное. А втрое большее количество таких же, как они, героев находилось все ещё в море — на церемонию собрались лишь те, кто нес службу на берегу или находился в отпуске. Остальные братья-рыцари прилагали последние отчаянные усилия, необходимые для сокрушения наполеоновской империи. Хорнблауэр почувствовал прилив патриотизма; он пришел в возвышенное состояние, и тотчас начал анализировать эту бурю эмоций и задаваться вопросом: в какой мере это чувство продиктовано окружавшей его романтичной красотой обстановки.
Одетый в военно-морскую форму лейтенант пробился в часовню, застыл, колеблясь, на мгновение, затем, обнаружив лорда Сент-Винсента, поспешил к нему, держа в руке большой пакет со вскрытыми уже печатями. Теперь на проповедь никто не обращал никакого внимания — сливки Королевского флота вытягивали шеи, глядя, как Сент-Винсент читает депешу, которая, понятно, прибыла из Адмиралтейства, находящегося на другом конце Уайт-холла. Голос декана дрогнул, затем окреп и продолжил натужно зудеть в неслышащих ушах, которые еще долго оставались глухи к нему, поскольку Сент-Винсент, чье морщинистое лицо сохраняло невозмутимое выражение, прочитав депешу, немедленно вернулся к началу и перечитал её вновь. Сент-Винсент, который так смело рисковал судьбой Англии, мгновенно приняв единственно верное решение в сражении, которое принесло ему его титул, не был, однако, человеком, который торопливо ринулся бы действовать тогда, когда имелось время подумать.
Он закончил перечитывать депешу, свернул ее, затем пристально оглядел собравшихся в часовне. Рыцари ордена Бани взволнованно напряглись, рассчитывая поймать его взгляд. Сент-Винсент поднялся, застегнул свой темно-красный плащ; бросил слово ожидавшему лейтенанту и, подхватив шляпу с плюмажем, заковылял к выходу из часовни. Внимание немедленно переместилось на лейтенанта, которого можно было видеть отовсюду, поскольку он шел поперек трансепта. От возбуждения сердце Хорнблауэра забилось быстрее, он напрягся, так как понял, что лейтенант направляется прямо к нему.
— Примите от его светлости наилучшие пожелания, сэр, — сказал лейтенант, — Он хотел бы переговорить с вами немедленно.
Теперь настала очередь Хорнблауэра скреплять мантию и не забыть подобрать свою шляпу с плюмажем. Он должен был любой ценой сохранить беспечный вид и не дать собравшимся рыцарям ни одного шанса для насмешки над его волнением из-за вызова к Первому лорду. Он должен выглядеть так, как будто подобные вещи случались с ним каждый день. Он небрежно встал со скамьи, шпага запуталась у него между ногами, и только милосердием провидения он избежал кувырка головой вперед. Восстановив равновесие, он, звеня шпорами и ножнами, сосредоточился, чтобы проследовать с неторопливым достоинством через проход между рядами. Все смотрели на него: армейские офицеры должны чувствовать простое незаинтересованное любопытство, но флотские — Лидъярд и другие — будут задаваться вопросом, какой новый фантастический оборот приняла морская война, и завидовать возможностям отличиться, которые могли бы предоставиться им. В задней части церкви, на местах, предназначенных для привилегированной публики, Хорнблауэр заметил Барбару, пробирающуюся со своей скамьи, чтобы встретить его. Он нервно улыбнулся ей, не доверяя своему голосу пока все смотрят на него, и подал руку. Он чувствовал крепкое пожатие ее руки, и слышал ее чистый, звучный голос: Барбару, конечно, не смущало, что их все видели.
— Какие-то неприятности, я полагаю, дорогой? — спросила Барбара.
— Полагаю, да, — пробормотал Хорнблауэр.
За дверьми их ждал Сент-Винсент, слабый ветер покачивал страусиные перья его шляпы и морщинил малиновый шелк плаща. Его толстые ноги распирали белые шелковые чулки; он прохаживался взад-вперед на своих массивных, подагрически искривленных ногах, вид которых ещё более искажали белые шелковые ботинки. Но фантастический костюм никоим образом не умалял мрачного достоинства этого человека. Барбара отпустила руку Хорнблауэра и предусмотрительно отстала, чтобы позволить двум мужчинам поговорить наедине.
— Сэр? — произнес Хорнблауэр, и затем, спохватившись — все же он редко общался с людьми обладающими званием пэра, поправился, — Милорд.
— Вы готовы к несению действительной службы тотчас же, Хорнблауэр?
— Да, милорд.
— Вам предстоит начать сегодня вечером.
— Есть, сэр… милорд.
— Когда они подадут мою проклятую карету, я отвезу вас в Адмиралтейство и передам вам ваши приказы. — Сент-Винсент возвысил голос до рева, который долетал до грот-мачты в вест-индский ураган. — Неужели они никогда не подадут этих проклятых лошадей, Джонсон?
Cент-Винсент заметил Барбару за плечом Хорнблауэра.
— Ваш слуга, мадам, — сказал он, снял шляпу и, прижав ее к груди, поклонился. Старость и подагра, вся жизнь, проведенная в море, не лишили его изысканных манер, но дела страны все еще занимали его в первую очередь, и он тотчас же обернулся к Хорнблауэру.
— Что за служба, милорд? — поинтересовался последний.
— Подавление мятежа, — сказал Cент-Винсент мрачно. — Проклятый кровавый мятеж. Как в 1797-м. Вы знавали Чедвика — лейтенанта Огастина Чедвика?
— Мы с ним служили мичманами под началом Пелью,[8] милорд.
— Хорошо, он… А, вот и моя проклятая карета, наконец. Леди Барбара?
— Я вернусь в собственном экипаже на Бонд-стрит, — сказала Барбара, — и пришлю его обратно за Горацио в Адмиралтейство. Сейчас его подадут.
Экипаж, с Брауном и кучером на козлах, остановился позади кареты Cент-Винсента, и Браун спрыгнул вниз.
— Прекрасно. Полезайте, Хорнблауэр. Всегда к вашим услугам, мадам.
Cент-Винсент тяжело поднялся в карету, Хорнблауэр присоединился к нему. Копыта лошадей застучали по булыжнику, и нагруженный экипаж двинулся вперед. Бледный солнечный свет, проникая сквозь окна, мерцал на морщинистом лице Cент-Винсента, ссутулившемся на кожаном сиденье; несколько мальчишек на улице заметили ярко одетых людей в карете и завопили «Ура», махая драными кепками.
— Чедвик командовал «Флеймом», восемнадцатипушечным бригом — сказал Cент-Винсент. — Его команда подняла мятеж в заливе Сены и захватила его и остальных офицеров в заложники. Они отослали помощника штурмана и четырех оставшихся верными матросов в гичке с ультиматумом, адресованным Адмиралтейству. Гичка дошла до Бембриджа вчера вечером, и бумаги только что попали ко мне — вот они.
Скрюченной рукой Cент-Винсент потряс толстым пакетом, который сжимал с тех пор, как получил его в Вестминстерском аббатстве.
— Что гласит ультиматумом, милорд?
— Амнистия — помилование. И виселица для Чадвика. Иначе они уведут бриг во Францию.
— Придурки! — не выдержал Хорнблауэр.
Он сумел вспомнить Чедвика на «Неутомимом», старого для мичмана уже тогда, двадцать лет назад. Теперь ему должно быть за пятьдесят, а он всего лишь лейтенант. Он был сволочным мичманом; а в результате столь медленного продвижения по службе должен был стать ещё более гнусным лейтенантом. При желании он мог превратить небольшое судно, вроде «Флейма», где, вероятно, был единственным офицером, в сущий ад. Это могло стать причиной мятежа. После ужасных уроков Спитхеда и Норы, после Пиготта, убитого на «Гермионе», некоторые из худших особенностей военно-морской службы были устранены. Это была по-прежнему трудная, жестокая жизнь, но она одна уже не могла довести команду до самоубийственного безумия мятежа, если только его не провоцировали какие-то иные, дополнительные обстоятельства. Жестокий и несправедливый капитан с одной стороны, решительный и сообразительный лидер среди команды с другой — эта комбинация могла вызвать мятеж. Но безотносительно причины, мятеж должен быть подавлен немедленно, наказание должно быть скорым, неотвратимым и ужасным. Оспа или чума были не более заразны и не более фатальны, чем мятеж на военной службе. Позвольте одному мятежнику избежать наказания, и о его судьбе будет каждый обиженный матрос, и действовать по его примеру.
Англия находилась в самом кульминационном моменте борьбы с французским деспотизмом. Пятьсот военных кораблей в море — двести из них линейные — стремились сохранить моря свободными от врагов. Сто тысяч солдат под командой Веллингтона[9] прорывались через Пиренеи в южную Францию. Все разноплеменные армии Европы: русские и пруссаки, австрийцы и шведы, хорваты, венгры и голландцы, одевались, питались и вооружались благодаря Англии. Казалось, будто Англия напрягла все оставшиеся силы в борьбе: что она колеблется и может не выдержать ужасного напряжения. Бонапарт дрался ни на жизнь а на смерть, со всей хитростью и свирепостью, какой следовало ожидать от него. Еще несколько месяцев стойкости и страшных усилий могут низвергнуть его и вернуть покой обезумевшему миру. Минутное колебание, тень сомнения — и тирания закабалит человечество на целое поколение, на бессчетное число поколений вперед.
Карета подкатила к Адмиралтейству, и два ветерана морской службы приковыляли на своих деревянных ногах, чтобы открыть двери. Cент-Винсент поднялся и вместе с Хорнблауэром, в блеске темно-красного и белого шелка, они направились к кабинету Первого лорда.
— Вот их ультиматум — сказал Cент-Винсент, бросая бумаги на стол.
Написан неумелой рукой, сразу подумал Хорнблауэр — это не работа какого-нибудь разорившегося торговца или адвоката, пойманного отрядом вербовщиков.
На борту корабля Его Величества «Флейм» у Гавра
7-ого октября 1813 года
Мы — все здесь верные и преданные сердца, но лейтенант Огастин Чедвик порол нас и морил голодом, и поднимал всю команду дважды в час в течение месяца. Вчера он сказал, что сегодня будет пороть каждого третьего человека из нас и всех остальных, как только те излечатся. Так что мы заперли его на замок в его каюте, и гордень уже перекинут через нок рея и петля ждет его, поскольку он должен быть вздерну, за то, что совершил с юнгой Джеймсом Джонсом: он убил его, хотя мы предполагаем, что в своем рапорте сообщил, будто Джонс умер от лихорадки. Мы хотим от их Светлостей в Адмиралтейсте, обязательств судить его за его преступления и дать нам новых офицеров и чтоб что было, то прошло. Мы готовы бороться за свободу Англии, поскольку мы ей преданы и верны, как уже говорили, но Франция находится с подветренной стороны, и мы, все как один, не собираемся быть вздернутыми, как мятежники, и если вы попробуете захватить судно, мы повесим Чедвика на ноке рея и уйдём к французам. Мы все подписываем это.
Со скромностью и уважением к вам.
Повсюду по краям письма стояли подписи: семь обычных и множество крестов, с примечанием против каждого креста — «Генри Вильсон, его подпись»; «Уильям Оуэн, его подпись», и так далее; они показывали обычную пропорцию грамотных и неграмотных в команде рядового судна. Закончив читать письмо, Хорнблауэр взглянул на Cент-Винсента.
— Мятежные собаки, — сказал Cент-Винсент.
Возможно, так оно и есть, подумал Хорнблауэр. Однако у них было основание стать ими. Он мог совершенно отчетливо представить стиль обращения, которому они подвергались, бесконечную необузданную жестокость в дополнение к обычным трудностям жизни на судне, несущего блокадную службу. Конец этим страданиям могли положить только смерть или мятеж — иного выхода не было.
Столкнувшись с неизбежной перспективой телесного наказания, они подняли мятеж, и он был не в состоянии винить их за это. Он видел достаточно спин, исполосованных в клочья; он знал, что сам сделал бы все что угодно, буквально все, чтобы самому избежать подобной пытки, если бы столкнулся с такой перспективой. Его пробрала дрожь, когда он заставил себя всерьез представить, что бы он чувствовал, если бы узнал, что его выпорют на следующей неделе. Справедливость была на стороне матросов; однако то, что они должны быть наказаны за преступление, которое можно оправдать, являлось вопросом не справедливости, а целесообразности. Национальная безопасность страны напрямую зависит от захвата мятежников, повешения главарей, наказания остальных: следует прижечь новообразовавшееся пятно чумы, появившееся на правой руке Англии, прежде чем болезнь распространится дальше. Они должны быть повешены, виновны они на самом деле или нет — это часть войны, как и убийство французов, которые, возможно, являются замечательными мужьями и отцами. Но будет лучше, если Cент-Винсент не узнает о его мыслях: Первый лорд, очевидно, ненавидел мятежников как таковых, не утруждая себя рассуждениями о подоплеке этого конкретного случая.
— Какие будут приказания, милорд? — спросил Хорнблауэр.
— Я даю вам карт-бланш — ответил Cент-Винсент. — Полную свободу действий. Приведите «Флейм» обратно целым и невредимым, и мятежников вместе с ним. Каким же способом вы станете добиваться этого, дело ваше.
— Вы даете мне неограниченные полномочия? Скажем, право вести переговоры, милорд?
— Я не это имел в виду, черт побери — ответил Cент-Винсент. — Я подразумевал, что вам предоставят любые силы, какие пожелаете. Я могу высвободить для вас три линейных корабля, если нужно. Несколько фрегатов. Бомбардирские корабли. Есть даже ракетное судно, если вы полагаете, что оно пригодится — этот парень, Конгрив,[10] хочет видеть свои ракеты опять в действии.
— Думаю, это не та ситуация, где большая сила принесет много пользы, милорд. Линейные корабли, представляется, будут излишними.
— Я тоже это понимаю, черт возьми! — Противоречивые мысли, раздиравшие Cент-Винсента, ясно читались на его массивном лице. — Эти наглые мошенники могут в два счета проскользнуть в устье Сены при первом же признаке опасности. Здесь, я полагаю, нужен ум. Именно поэтому я послал за вами, Хорнблауэр.
Лестный комплимент. Хорнблауэр слегка возгордился собой: он говорил практически на равных с одним из самых великих адмиралов, которые когда-либо поднимали свой флаг, и это ощущение было необычайно приятно. И тут растущее внутреннее напряжение, которое испытывал Первый лорд, внезапно подвигло его на еще более удивительное заявление:
— И еще: матросы любят вас, Хорнблауэр — заявил Cент-Винсент. — Черт побери, я не знаю матроса, который не любил бы вас. Они пойдут за вами, и будут слушать вас. Вы — один из тех офицеров, о которых матросы говорят между собой. Они доверяют вам и надеются на вас, так же, как и я, черт побери, это очевидно.
— Но если я стану говорить с матросами, это будет подразумевать, что я веду переговоры с ними, милорд.
— Никаких переговоров с мятежниками! — взревел Cент-Винсент, стуча по столу кулаком, похожим на бараний окорок. — Хватит с нас девяносто седьмого года.
— Тогда карт-бланш, который вы мне даете — не больше, чем обычные полномочия военно-морского офицера, милорд — сказал Хорнблауэр.
Вопрос был принципиальным: его отправляли на чрезвычайно трудное задание, и если он не добьется успеха, то весь позор провала ляжет на него. Он никогда не представлял себе, что может спорить с Первым Лордом, но все же сейчас фактически делал это, побуждаемый явной необходимостью. Он осознал в момент откровения, что спорил, в конце концов, не ради себя, не стремился защищать свои собственные интересы. Он не принимал в расчет личное: офицером, который послан, чтобы возвратить «Флейм», и чье будущее может зависеть от полномочий, данных ему, был не облаченный в малиновый и белый шелк Хорнблауэр, сидящий в этом резном кресле, а некий бедняга, которому он сочувствует и чьи интересы принял близко к сердцу, потому что они отождествляются с национальными интересами. Теперь эти два существа вновь слились вместе, и именно он, муж Барбары, тот человек, что был на званом обеде у лорда Ливерпуля вчера вечером и заполучил в результате легкую боль в середине лба на сегодня, стал тем, кто должен найти выход из этой неприятной ситуации, где в случае выигрыша он получить на полпенни славы, но подвергнет себя самому серьезному риску, поскольку фиаско может сделать его посмешищем на флоте и мишенью для насмешек всей страны.
Он вновь внимательно изучил выражение лица Cент-Винсента — тот вовсе не был дураком: за этими скалистыми бровями скрывался острый ум — и он боролся против его предубеждений, стремясь избавиться от них по мере исполнения своих обязанностей.
— Ладно, Хорнблауэр — протянул Первый Лорд. — В таком случае я даю вам неограниченные полномочия. Я особо оговорю это в ваших приказах. Разумеется, вы будете исполнять свои обязанности в ранге коммодора.
— Спасибо, милорд, — сказал Хорнблауэр.
— Вот судовая роль брига — продолжил Cент-Винсент. — У нас нет ничего против любого из них. Натаниэль Свит, боцманский помощник, вот — его подпись — был одно время первым помощником капитана угольного брига в Ньюкастле — уволен за пьянство. Возможно он — главарь. Но это может быть и любой другой из них.
— Слухи о мятеже стали доступны общественности?
— Нет. И дай Бог, они не узнают об этом до тех пор, пока не будет поднят флаг военного трибунала. У Холдена в Бембридже хватило здравого смысла, чтобы держать рот на замке. Он запер помощника штурмана и матросов в тот же миг, как только услышал их сообщение. «Дарт» отплывает в Калькутту на следующей неделе — я отправлю их на нем. Пройдут месяцы, прежде чем история получит огласку.
Мятеж — та зараза, которая разносятся через разговоры. Чумное пятно должно быть изолировано, до тех пор, пока его не прижгут.
Cент-Винсент притянул к себе стопку бумаги и поднял ручку — красивое перо индейки с одним из новомодных золотых перьев.
— Какие силы вам нужны?
— Что-нибудь маневренное и небольшое — сказал Хорнблауэр.
Он не имел ни малейшего представления, как решить проблему возвращения судна, которому достаточно только отойти на две мили в подветренную сторону, чтобы стать недоступным, но гордость заставила его надеть маску уверенности в себе. Он с удивлением поймал себя на мысли, что, вероятно, все люди когда-либо поступали также, выставляя напоказ свою неустрашимость и бодрость духа, тогда как на самом деле чувствовали себя слабыми и беспомощными — ему вспомнилось замечание Светония о Нероне, который полагал, что все люди в глубине души порочны, хотя и не признают этого открыто.[11]
— Есть «Порта Коэли» — сказал Cент-Винсент, вскинув седые брови. — Бриг с восемнадцатью орудиями, фактически однотипный «Флейму». Он — в Спитхеде, готов к отплытию. Под командой Фримена — он был капитаном на куттере «Клэм» под вашим началом на Балтике. Это он доставил вас домой, не так ли?
— Да, милорд.
— Это подойдет?
— Думаю да, милорд.
— Пеллью командует центральной Ла-Маншской эскадрой. Я пошлю ему указания оказывать вам любую помощь, которую вы затребуете.
— Спасибо, милорд.
Вот так, он принял на себя труднейшую, быть может, невыполнимую задачу, без каких-либо попыток оставить для себя пути к отступлению, пренебрегая возможностью посеять семена оправданий, которые можно было бы обратить в свою пользу в случае неудачи. Это было весьма опрометчиво с его стороны, и как он понимал, лишь безумная гордыня заставляла его решиться на этот шаг. Он не мог себе позволить говорить при обсуждении этой операции «если» или «но» людям, подобным Cент-Винсенту, или кому-либо вообще. Он задавался вопросом, не была ли тому причиной недавняя похвала Первого лорда, всё ещё звучавшая в его голове, или, возможно, случайное замечание, что он может «затребовать» помощи у Пеллью, Главнокомандующего, который был его капитаном двадцать лет назад, когда он был мичманом. Он решил, что ни то ни другое не было причиной. Только его безумная гордыня.
— Ветер северо-западный, устойчивый — сказал Cент-Винсент, бросив взгляд на циферблат, показывающий положение флюгера на крыше Адмиралтейства. — Барометр, тем не менее, падает. Вам лучше поторопиться. Я пришлю приказы вам домой, пока же пользуйтесь шансом сказать попрощаться с супругой. Где находятся ваши вещи?
— В Смоллбридже, милорд. Это по дороге к Портсмуту.
— Хорошо. Сейчас полдень. Допустим, в три вы оправитесь почтовым дилижансом до Портсмута: вам с не руки будет ехать на перекладных с вашим рундуком. Дороги это время года не должно развезти, поэтому вы можете доехать за семь-восемь часов и сняться с якоря в полночь. Я пошлю Фримену его приказы почтой немедленно. Желаю удачи, Хорнблауэр.
— Спасибо, милорд.
Хорнблауэр завернулся в плащ, поправил шпагу и попрощался. Он еще не вышел из кабинета, когда туда вбежал клерк, которого Cент-Винсент вызвал звонком, чтобы проктовать приказы. Снаружи дул свежий северо-западный ветер, о котором говорил Cент-Винсент, и он почувствовал себя замерзшим и жалким в этом пестром темно-красном с белым шелке. Однако экипаж уже ждал его, как и обещала Барбара.
Глава 2
Она ждала его прибытия на Бонд-стрит, спокойная и собранная, как и полагается той, что принадлежит к расе воинов, и позволила себе проронить одно только слово:
— Приказы?
— Да, — ответил Хорнблауэр, и затем позволил сдерживаемым эмоциям вырваться наружу, — да, дорогая.
— Когда?
— Я отплываю сегодня из Спитхеда. Мои приказы сейчас на подписи, я должен буду отбыть, как только их принесут мне сюда.
— Я догадывалась о чем-то подобном, как только увидела лицо Сент-Винсента. Так что я отослала Брауна в Смоллбридж, чтобы собрать твои вещи. Они скоро будут здесь.
Распорядительная, предусмотрительная, благоразумная Барбара! «Спасибо, дорогая!» — вот все, что он мог сказать. Даже теперь, после стольких лет с Барбарой, часто возникали непростые ситуации, когда чувства переполняли его, а он (возможно, по этой самой причине) не мог подобрать слов, чтобы выразить их.
— Можно ли спросить, куда ты отправляешься, дорогой?
— Я не вправе говорить об этом, — сказал Хорнблауэр, принудив себя улыбнуться. — Мне очень жаль, дорогая.
Барбара никому не скажет ни слова, ни жестом, ни намеком не выдаст, какого рода задание он получил, и все-таки, он не имел права ничего ей рассказать. Если слухи о мятеже все же просочатся, Барбара не должна быть ответственна за это, но истинная причина крылась в другом. Долг обязывал его хранить молчание, а долг не допускал исключений. Барбара живо улыбнулась в ответ, в знак того, что понимает веления долга, и занялась его шелковым плащом, расправив его складки так, чтобы он более изящно свисал с плеч.
— Жаль, — сказала она, — что в наши дни у человека так мало возможностей для того, чтобы одеваться красиво. Малиновый с белым так идет тебе, милый. Ты очень красивый мужчина — ты знаешь об этом?
В этот момент хрупкий искусственный барьер, возникший между ними, рухнул, лопнул, как мыльный пузырь. Он принадлежал к людям, которых необходимо постоянно убеждать в своей привязанности, предоставлять доказательства любви, однако жизнь в условиях строгой самодисциплины, во враждебном мире, делали затруднительным, почти не возможным признать существование подобного факта. Внутри него постоянно гнездился страх неудачи, отказа, иногда слишком сильный, чтобы позволить себе рискнуть. Он всегда был настороже по отношению к себе, к окружающему его миру. А она? Она знала об этих его ощущениях, хотя ее гордость восставала против них. Ее стоическое английское воспитание учило не доверять эмоциям и презирать любое проявление чувств. Она была такой же гордой, как и он. Ее могло возмущать чувство, что она полностью зависима от него в смысле обеспечения всем необходимым для жизни, его же негодование могло вызывать то, что без ее любви его жизнь была бы неполной. Они были двумя гордыми людьми, которые, в силу той или иной причины, стремились к сконцентрированной на себе самодостаточности в самом высоком ее выражении, попытки отказаться от которой требовали от них зачастую таких больших жертв, что пойти на них они были не готовы.
Однако в такие моменты, когда над ними нависала тень расставания, гордость и обидчивость исчезали, и они, сбросив окостеневший панцирь, выросший с годами вокруг них, могли позволить себе быть совершенно естественными. Он обнимал ее, а она, просунув руки под его плащ, могла сквозь тонкий шелк камзола ощущать тепло его тела. Она прижалась к нему с той же силой, с какой он сжимал ее в объятьях. В тот период не принято было носить корсет, и на ней был только легкий обруч из китового уса, поддерживающий платье в районе талии, так что его руки могли чувствовать ее тело — нежное и податливое, несмотря на хорошо развитую мускулатуру — результат езды верхом и долгих прогулок, которую он, наконец, научился считать достоинством для женского тела, в то время как ранее думал, что тому пристало быть мягким и слабым. Губы соединились в горячем поцелуе, потом их нежные взоры устремились друг к другу.
— Мой дорогой! Мой милый! — произнесла она, затем, приблизившись к его губам, она прошептала, с нежностью, которая может быть свойственна только женщине, не имеющей детей: «Дитя мое! Дорогое мое дитя!»
Это было самое важное, что она могла сказать ему. Сдавшись на ее милость, сняв с себя защитную броню, он в такой же степени желал быть ее ребенком, как и мужем, не осознавая того, ему хотелось быть уверенным в том, что по отношению к нему, беззащитному и нагому, она будет такой же преданной и верной, как мать к своему чаду, и не злоупотребит его беспомощным состоянием. Последние преграды исчезли, в момент наивысшего подъема страсти, которого им так редко удавалось достигнуть, они полностью растворились друг в друге. Ничто не могло остановить их сейчас. Сильные пальцы Хорнблауэра рвали шелковые шнурки, удерживавшие его плащ, непривычные застежки камзола, смешные завязки панталон — ему даже в голову не пришла мысль возиться с ними. Барбара целовала его руки, его красивые, длинные пальцы, воспоминание о которых так часто преследовало ее по ночам в то время, когда они были в разлуке, и это являло собой страсть в чистом ее выражении, без всякого символизма. Они были открыты друг для друга, любящие, свободные, раскованные. Они удивительным образом представляли собой единое целое, даже когда все было кончено: полны, но не пресыщены. Они оставались единым целым даже когда он, оставив ее лежать, бросил взгляд на зеркало, чтобы свою скудную шевелюру, взъерошенную самым невероятным образом.
Его мундир висел на двери в гардеробной — за то время, пока он был у Сент-Винсента, Барбара успела предусмотреть все. Он ополоснулся водой из тазика и вытер разгоряченное тело полотенцем. Омовение не было продиктовано необходимостью — он делал это просто ради удовольствия. Когда в дверь постучал дворецкий, он набросил поверх сорочки и брюк халат и вышел из комнаты. Доставили приказы. Он расписался в их получении, сломал печать и начал читать, чтобы убедиться, что нет никаких неясностей, которые необходимо было бы прояснить прежде, чем он покинет Лондон. Старые, привычные формулировки: «Сим вам предписывается и приказывается», «таким образом, вам неукоснительно надлежит» — такие же, с какими Нельсон отправлялся в бой при Трафальгаре, а Блэйк — при Тенерифе. Смысл приказов был ясен, а его наделение его полномочиями — неоспоримым. Если зачитать их вслух перед командой корабля, или военным трибуналом — они будут поняты с легкостью. Придется ли ему читать их когда-нибудь вслух? Это может подразумевать, что ему придется вступить в переговоры с мятежниками. Он был уполномочен на это, но это было бы показателем слабости, чем-то таким, что заставит флот нахмурить брови, и вызовет тень разочарования на суровом лице Сент-Винсента. Тем или иным способом, ему предстояло, с помощью уловок или хитростей, установить контроль над сотней английских моряков, которых высекут или повесят за то, что, как он прекрасно понимал, сам сделал бы на их месте, окажись он в таких же обстоятельствах. У него был долг, который ему надлежало исполнять: иногда его долг заключался в том, чтобы убивать французов, иногда в чем-то ином. Он предпочел бы убивать французов, если уж надо кого-нибудь убивать. И как, Бога ради, должен он поступить, чтобы выполнить предстоящую задачу?
Дверь ванной открылась, и вошла Барбара, сияющая и веселая. Как только их взгляды встретились, их чувства устремились навстречу друг другу — неизбежность физического расставания, озабоченность Хорнблауэра новой, не радующей его задачей, всего этого оказалось недостаточно, чтобы разрушить внутреннюю связь, установившуюся между ними. Они были едины более, чем когда-либо прежде, и понимали, это, счастливая пара. Хорнблауэр встал.
— Я должен отбыть через десять минут, — сказал он, — хочешь ли ты поехать вместе со мной до Смоллбриджа?
— Я надеялась, что ты попросишь меня об этом, — сказала Барбара.
Глава 3
Это была самая темная ночь, которую только можно было себе представить, и ветер, снова заходивший к западу, был наполовину штормовым, и обещал стать еще свежее. Он свистел вокруг Хорнблауэра, заставляя штанины, выпущенные поверх морских ботинок, трепетать, и рвал его плащ, в то время как всюду вокруг него в темноте стон снастей складывался в один сумасшедший хор, словно протестующий против человеческого безумия, отдающего хрупкое создание рук человеческих во власть свирепых сил стихии. Даже здесь, с подветренной стороны острова Уайт, Хорнблауэр, стоявший на крохотном квартердеке ощущал, каким невероятным образом раскачивается маленький бриг под его ногами. Кто-то, находившийся на ветер от Хорнблауэра, видимо, какой-то младший офицер, распекал матроса за некую неведомую ошибку, по временам крепкие словечки долетали до ушей Хорнблауэра. Только лунатику, думал Хорнблауэр, могут быть знакомы такие дикие контрасты, внезапные перемены настроений, стремительные перемены в состоянии окружающего мира. Правда, в этом случае меняется сам лунатик, в его же случае менялась окружающая его реальность. Еще этим утром, всего лишь двенадцать часов назад он, облаченный в малиновое с белым шелковое одеяние, сидел вместе с рыцарями ордена Бани в Вестминстерском аббатстве, предыдущим вечером он обедал с премьер-министром. Его обнимала Барбара, он жил в роскоши Бонд-стрит, и для того, чтобы удовлетворить любой каприз, который мог бы прийти ему в голову, стоило всего лишь дернуть за шнурок, висевший над его кроватью. Такая жизнь была подкупающе легкой — целая армия слуг пришла бы в неподдельное замешательство и беспокойство, если бы хоть самая ничтожная мелочь обеспокоила существование сэра Горацио (они произносили оба слова слитно, так что из них, в итоге, получилось некое причудливое новообразование вроде «Сэрорацио»). Все это лето Барбара ухаживала за ним, чтобы быть уверенной, что последние следы русского тифа, с которым он возвратился домой, исчезли. Держа за руку маленького Ричарда, он прогуливался по залитым солнцем садам в Смоллбридже, а садовники почтительно расступались перед ним и снимали шляпы. Он помнил тот замечательный вечер, когда они с Ричардом, лежа рядом на животах на берегу рыбного пруда, пытались поймать руками золотого карпа. Грязные, мокрые, и невероятно счастливые, в лучах закатного солнца они — он и его маленький сын, возвращались домой. Они тогда были так близки друг другу, как он с Барбарой этим утром. Счастливая жизнь, слишком счастливая.
Этим вечером в Смоллбридже, пока Браун и форейтор грузили его сундучок в экипаж, он прощался с Ричардом, пожав его руку, как мужчина мужчине.
— Ты опять идешь воевать, папа? — спросил Ричард.
Он сказал еще одно «прощай» Барбаре. Это было непросто. Если повезет, он может вернуться домой через неделю, однако он не мог говорить об этом, так как это могло открыть слишком многое из того, в чем заключается его миссия. Этот маленький обман поспособствовал тому, что ощущение единства и нераздельности было разбито вдребезги, он снова сделался немного отстраненным и официальным. Когда он отвернулся от нее, у него возникло странное чувство, что нечто утрачено навсегда. Потом он забрался в коляску, Браун уселся рядом с ним, и они поехали. Приближался вечер, когда они направлялись к Гилдфорду, огибая осенние холмы Даунса, а когда выехали на Портсмутскую дорогу — дорогу, по которой он ездил уже столько раз по разным причинам, наступила ночь. Переход от роскоши к трудностям оказался быстрым. В полночь он поднялся на палубу «Порта Коэльи», где его встретил Фримен, коренастый, плотный и смуглый, как и всегда, с прядями черных волос, ниспадающими на щеки, на цыганский манер — кто-то спросил однажды, почти удивленно, почему он не носит серьги в ушах. Хорнблауэру потребовалось не более десяти минут для того, чтобы, при условии соблюдения секретности, рассказать Фримену о сути миссии, которую предстоит выполнить «Порта Коэльи». Во исполнение приказов, полученных им за четыре часа до этого, Фримен уже приготовил бриг к выходу в море, и по истечение тех самых десяти минут моряки уже встали к кабестану, поднимая якорь.
— Ночка обещает быть веселенькой, сэр, — раздался из темноты голос Фримена, — барометр продолжает падать.
— Думаю, что так и будет, мистер Фримен.
Неожиданно голос Фримена загремел с силой, которую Хорнблауэр вряд ли когда раньше приходилось встречать: эта бочкообразная грудная клетка оказалась способной производить звук изумительной громкости.
— Мистер Карлоу! Отправьте всех убавить парусов! Убрать этот грот-стень-стаксель! Еще по рифу на марсели! Квартермейстер, курс зюйд-зюйд-ост.
— Зюйд-зюйд-ост, сэр.
Доски под ногами Хорнблауэра слегка завибрировали от топота матросов, пробежавших по палубе, других свидетельств тому, что приказ Фримена исполняется, в темноте невозможно было получить. Скрип блоков или уносился прочь ветром или тонул в завывании снастей, и он не мог разглядеть никого из тех, кто полез на мачты, чтобы взять рифы на марселях. Он замерз и устал после трудов дня, который начался — сейчас в это трудно было поверить — с прихода портного, наряжавшего его в церемониальное одеяние рыцаря ордена Бани.
— Я спущусь вниз, мистер Фримен, — сказал он, — позовите меня, если понадобится.
— Есть, сэр.
Фримен закрыл за ним крышку откидного люка, закрывавшую трап — «Порта Коэльи» была судном с плоской палубой, появился тусклый свет, освещавший ступеньки — свет хоть и слабый, но режущий глаз после непроглядной темноты ночи. Хорнблауэр спускался, согнувшись почти пополам, чтобы миновать палубные бимсы. Дверь справа вела в его кабину: квадрат со стороной в шесть футов и выстой в четыре фута и десять дюймов. Хорнблауэру пришлось присесть, чтобы избежать столкновения с лампой, подвешенной к потолку. Он знал, что теснота этого помещения, лучшего на корабле, ничто по сравнению с теми условиями, в которых живут остальные офицеры, и в двадцать раз более чем ничто по сравнению с условиями, в которых обитают матросы. Высота между палубами в передней части корабля такая же: четыре фута десять дюймов, а люди там спят в парусиновых койках, расположенных в два яруса — один над другим, так что носы спящих наверху трется о палубную переборку, а косицы нижних стучат по полу, а в середине носы и косицы соприкасаются. «Порта Коэльи» представляла собой в своем классе самую совершенную боевую машину, когда-либо бороздившую моря: она несла пушки, которые могли разнести в клочья любого противника ее размеров, ее боевые погреба обеспечивали ведение боя в течение нескольких часов или даже дней, запаса провизии было достаточно для того, чтобы находится в море несколько месяцев не приставая к земле, она была вполне надежной и крепкой для того, чтобы вынести любой шторм — единственное, что было не так, это то, что для достижения таких результатов при 190 тоннах ее водоизмещения, люди, населявшие ее, должны были довольствоваться жизнью в таких условия, которые ни один заботливый фермер не посчитал бы пригодными для своего скота. Именно ценой человеческой плоти и крови Англия содержала бесчисленное количество малых судов, которые, под прикрытием могучих линейных кораблей, делали моря безопасными для нее.
В каюте, хотя и крохотной, стояла невыносимая вонь. Первое, что ударило Хорнблауэру в ноздри, была копоть и угар от лампы, однако вскоре она была вытеснена целой гаммой дополнительных запахов. Здесь присутствовал легкий запах воды, скопившейся в трюме, по существу, почти не привлекший внимание Хорнблауэра, который привык к нему за двадцать лет службы. Присутствовал здесь въедливый аромат сыра, а если отбросить его прочь, то ощущался устойчивый крысиный запах. Пахло мокрой одеждой, и в конце-концов, здесь ощущалась целая смесь ароматов, присущих человеку, преобладал же давно укоренившийся запах немытого человеческого тела.
Эта смесь запахов дополнялась какофонией звуков. Каждая деревяшка резонировала в тон завываниям снастей такелажа: находясь внутри этой каюты, можно было сравнить себя с мышью, забравшейся в играющую скрипку. Постоянный топот ног на квартердеке и гул снастей делали это похожим (если уж продолжать сравнение) на то, как если бы по скрипке в то же самое время стучали маленькими молоточками. Деревянная обшивка брига стонала и скрипела при движениях судна, словно снаружи по ней стучал какой-то великан, и сложенные ядра тоже слегка ворочались при каждом движении, так что в самом конце схода с волны звучал неожиданный и торжественный глухой удар.
Едва Хорнблауэр вошел в каюту, «Порта Коэльи» внезапно дала неожиданно сильный крен: очевидно, именно в этот момент она вышла в открытые воды Канала, где западный бриз обрушился на нее со всей силой и положил на борт. Хорнблауэр был захвачен врасплох — процесс обретения «морских ног» после долгого пребывания на берегу всегда требовал времени — его бросило вперед, к счастью, по направлению к койке, на которую он рухнул лицом вниз. И пока он лежал, распластавшись, на койке, ухо его уловило смешанный звук — это не закрепленные должным образом различные предметы попадали со своих мест под воздействием этой первой большой волны. Хорнблауэр приподнялся в койке, ударился головой о палубный бимс, и в этот самый момент новый вал опять застал его врасплох. Он упал на жесткую подушку, и лежал, истекая потом во влажной духоте каюты, как по причине последних упражнений, так и из-за начинающейся морской болезни. Он смачно выругался, на этот раз от всего сердца, ненависть к этой войне, еще более сильная из-за осознания состояния совершенной безнадежности, бушевала внутри него. Он с трудом мог представить себе, что может быть заключен мир — в последний раз, когда не было войны, он был еще совсем ребенком, однако его охватило невыносимое желание мира, что выражалось бы в прекращении войны. Он устал от войны, устал чрезмерно, и усталость его делалась острее и горше с учетом результатов минувшего года. Новости о полном разгроме наполеоновской армии в России немедленно пробудили надежду на скорый мир, однако Франция не дрогнула, собрала новые армии, и остановила поток русского контрнаступления далеко от жизненного центра Империи. Знатоки указывали на жестокость и всеобъемлющий характер, который Наполеон придал призыву на военную службу, на тяжесть установленных им налогов, и предрекали скорый бунт внутри империи, за которым, возможно, последует переворот, устроенный генералами. С момента, когда эти предсказания должны были осуществиться, прошло десять месяцев, но не было никаких признаков, что это действительно произойдет. Когда Австрия и Швеция вступили в ряды противников Бонапарта, люди опять заговорили о скорой победе. Они надеялись, что невольные союзники Бонапарта — Дания, Голландия и другие, отпадут от альянса, что предопределит быстрое крушение Империи, и каждый раз терпели разочарование. Уже давно думающие люди предсказывали, что когда вихрь войны ворвется внутрь самой Империи, когда Бонапарт будет вынужден вести войну ради войны на земле своих собственных подданных, а не территории врагов или своих сателлитов, борьба должна будет прекратиться практически сама собой. И тем не менее, прошло три месяца с тех пор, как Веллингтон со стотысячной армией перешел через Пиренеи и пересек священную границу, но он, удерживаемый смертельной хваткой на далеком юге, все еще оставался в семистах милях от Парижа. Казалось, что ресурсам или решимости Бонапарта не будет конца.
Пребывавшему в состоянии отчаяния Хорнблауэру казалось, что война не кончится, пока в Европе жив хоть один человек, пока все ресурсы Англии не будут поглощены без остатка, а в отношении себя он думал, что пока преклонный возраст не позволит ему уйти в отставку, он будет обречен, по безумной воле одного единственного человека, ограничивать свою свободу, проводить свои дни и ночи в таких вот невыносимых условиях, оторванный от жены и сына, замерзший, измученный морской болезнью, подавленный и несчастный. Наверное, в первый раз в жизни он начал желать, чтобы произошло чудо, или чтобы удача неожиданно повернулась к ним лицом: может, случайная пуля сразит Бонапарта, или какая-нибудь неисправимая ошибка позволит одержать неоспоримую и решительную победу, или жители Парижа совершат успешное восстание против тирана, или во Франции случится неурожай, или маршалы, желая сохранить свои богатства, выступят против императора и смогут увлечь за собой солдат. Но он знал, что любое из этих событий крайне маловероятно, борьба будет продолжаться, а он должен будет оставаться страдающим морской болезнью заключенным, закованным в цепи дисциплины, до седых волос.
С трудом открыв глаза, он увидел стоящего над ним Брауна.
— Я стучал, сэр, но вы не слышали.
— В чем дело?
— Могу я чего-нибудь принести вам, сэр? Они собираются потушить огонь на камбузе. Чашку кофе, сэр? Чай? Горячий грог?
Добрая порция ликера могла бы помочь ему заснуть, изгнать гнетущие и мрачные мысли, дала бы возможность немного отдохнуть от черной депрессии, охватившей его. Хорнблауэр поймал себя на мысли, что всерьез размышляет о том, не поддаться ли искушению, и не на шутку разозлился на себя. То, что он, кто уже лет двадцать не пил для того, чтобы напиться, кто ненавидел хмель в себе даже больше, чем в других людях, внутренне позволил, пусть даже на мгновение, одобрить такую идею, усилило его чувство отвращения к себе. Этот новый порок, о существовании которого он не догадывался, отягчался осознанием того, что на него возложена секретная миссия большой важности, для исполнения которой ясная голова и здравый рассудок имеют жизненно важное значение. Его охватил приступ острого презрения к себе.
— Нет, — сказал он, — я поднимаюсь обратно на палубу.
Он спустил ноги с койки. «Порта Коэльи» теперь была уже далеко в открытом море, и раскачивалась и ныряла как сумасшедшая на резких волнах Канала. Дувший с кормы ветер накренил ее так, что когда Хорнблауэр поднялся, он соскользнул бы к противоположной переборке, если бы сильная рука Брауна не подхватила его. «Морские ноги» никогда не изменяли Брауну, Браун никогда не болел, Браун в избытке обладал той физической силой, к которой так стремился Хорнблауэр. Браун, широко расставив ноги, стоял незыблемо, как скала, почти не обращая внимания на пируэты брига, в то время как Хорнблауэр едва держался на ногах. Он бы ударился головой о качающуюся лампу, если Браун, положив руку ему на плечо, не защитил его.
— Жуткая ночка, сэр, и должно быть, станет еще хуже, прежде чем дело пойдет на лад.
Всегда найдутся какие-нибудь утешители. Будучи в плохом настроении, Хорнблауэр буркнул что-то в адрес Брауна, и его настроение только ухудшилось при виде того, что Браун склонен принимать все это философски. Его жутко злило, что с ним обращаются как с расплакавшимся ребенком.
— Оденьте лучше тот шарф, который вам связала Ее светлость, сэр, — продолжал Браун, как ни в чем не бывало. — Утром будет чертовски холодно.
В одно движение он выдвинул ящик и достал шарф. Последний представлял собой квадрат из бесценного шелка, легкого и теплого, это была возможно, самая дорогая вещь, которой владел Хорнблауэр, принимая в расчет даже шпагу за сто гиней. Барбара вышила его, что стоило ей невероятных мучений, так как она ненавидела работать иглой и наперстком, и тот факт, что она сделала это, был самым ценным ее комплиментом в адрес Хорнблауэра. Хорнблауэр обернул им шею под воротником бушлата и остался очень доволен теплом и мягкостью, а также мыслями о Барбаре, которые возникли при этом. Собравшись с силами, он двинулся к двери, и преодолел пять ступенек, ведущих на квартердек.
Здесь царила непроглядная тьма, и после пусть жалкого, но света каюты, Хорнблауэр почувствовал, что ослеп. Вокруг свирепо завывал ветер, чтобы противостоять его напору, он вынужден был склониться. «Порта Коэльи» лежала почти на борту, хотя ветер был не с траверза, а с кормы. Качка была и бортовой и килевой. Брызги и пена, смешанные с дождем, лившимся на палубу, хлестали в лицо Хорнблауэру, пока тот пытался пробраться в относительно спокойное место. Даже когда его глаза привыкли к темноте, он едва смог различить смутно видневшийся угол зарифленного грот-марселя. Суденышко плясало под его ногами, словно взбесившаяся лошадь — море было бурным — даже через гул шторма Хорнблауэр слышал, как скрипят тросы рулевого привода, когда квартирмейстер поворачивал штурвал, чтобы удержать корабль на курсе. Хорнблауэр чувствовал, что Фримен где-то рядом, но не обращал на него внимания. Говорить было не о чем, а если бы и было о чем, то рев ветра сделал бы это весьма затруднительным. Он пропустил локоть через коечную сеть, чтобы стоять увереннее, и стал вглядываться во тьму.
На верхушке каждой волны, прямо перед тем, как «Порта Коэльи» взбиралась на нее, можно было различить пенный гребень. Впереди матросы работали на помпе: Хорнблауэр слышал разделенный промежутками времени глухой стук. В этом не было ничего необычного, так как при такой интенсивной качке швы должны были то сходиться, то расходиться, словно жующие челюсти. Где-то в темноте ночи, должно быть, плывут корабли, влекомые штормом, где-то суда выбрасывает на берег, и моряки гибнут в волнах прибоя, а этот безжалостный ветер ревет над ними. Дрейфуют якоря и рвутся канаты. И этот самый ветер проносится над жалкими бивуаками охваченной войной Европы. Миллион безымянных солдат, в недавнем прошлом простых крестьян, грудясь у огонька походных костров, которые им едва удается поддерживать, будет клясть этот ветер и дождь, лежа без сна в ожидании завтрашней битвы. Интересно, что именно от них, неисчислимого количества неизвестных, зависит, в значительной степени, его освобождение из сегодняшнего рабства. Накатил приступ морской болезни, и его вырвало в шпигаты.
Фримен что-то сказал ему, но разобрать слова было невозможно. Фримен вынужден был закричать громче.
— Мне кажется, я должен лечь в дрейф, сэр.
Фримен говорил сдержанно, несколько стесняясь. Положение его было непростым: согласно морским обычаям и законам он являлся капитаном этого корабля, и Хорнблауэр, пусть и стоявший на много рангов выше его, был не более чем пассажир. Только адмирал мог принять на себя командование в присутствии назначенного для этого офицера без долгих и сложных формальностей, капитан, даже имевший ранг коммодора, как, например, Хорнблауэр, не был в праве этого делать. С точки зрения положение, прописанных в Своде Законов Военного Времени, Хорнблауэр мог руководить только действиями «Порта Коэльи», то же, каким образом будут выполняться приказы, отданные Хорнблауэром, Фримен определял единолично. Формально, у Фримена имелось полное право решать, ложиться в дрейф или нет, однако вряд ли хоть один лейтенант, командующий восемнадцатипушечным бригом, позволил бы себе хладнокровно проигнорировать мнение коммодора, находящегося на борту, особенно если этим коммодором являлся Хорнблауэр, имеющий репутацию человека, нетерпимо относящегося к промедлениям и задержкам, возникающим при выполнении поставленной перед ним задачи. В любом случае, ни один лейтенант, думающий о своем будущем, не станет так поступать. Несмотря на тошноту, Хорнблауэр усмехнулся про себя, размышляя над дилеммой, стоящей перед Фрименом.
— Если вы хотите, то можете лечь в дрейф, мистер Фримен, — прокричал он в ответ, и Фримен тут же стал отдавать приказания через рупор:
— Лечь в дрейф! Убрать фор-марсель! Поднять грот-стень-стаксель. Квартермейстер, привести судно к ветру.
— Есть привести судно к ветру, сэр.
Спуск фор-марселя уменьшил давление на судно, а подъем стакселя сделал его более управляемым, а затем оно привелось к ветру. До того времени корабль пытался противостоять ветру, теперь же он покорился ему, как женщина уступает напору настойчивого возлюбленного. Судно встало на ровный киль, повернувшись к резким волнам правой скулой, ритмично опускаясь и поднимаясь на них, в то время как раньше металось самым непредсказуемым образом на волнах, заходивших с кормы. Грот-ванты правого борта образовали собой нечто вроде укрытия для Хорнблауэра, стоявшего за фальшбортом, так что казалось, что сама сила ветра несколько уменьшилась.
Глава 4
Все стало, без сомнения, более удобным, безопасным. Теперь для «Порта Коэльи» не существовало опасности потерять рангоут или паруса, или что швы разойдутся. Но это совсем не приближало ее к «Флейму» и его мятежной команде, наоборот, это означало, что ее сносит под ветер, все дальше и дальше от них. Под ветер! Хорнблауэру, как и большинству моряков, свойственно было маниакальное стремление всегда находиться с наветренной стороны от цели. Он злился на каждый ярд сноса сильнее, чем скряга, вынужденный расставаться со своим золотом. Поздней осенью в водах Канала, где западные шквалы — практически каждодневное явление, за любой снос востоку придется заплатить высокую цену. Каждый час дрейфа будет стоить им двух- трех часов лавирования, если только ветер не задует с востока, чего вряд ли можно ожидать.
А каждый час должен быть на счету: кто может себе представить, какое новое безумие могут затеять отчаявшиеся люди на борту «Флейма». В любой момент они, под воздействием паники, могут перебежать к французам, или же их вожаки могут покинуть судно и отправиться искать убежища во Франции, навсегда избегнув, таким образом, веревки палача. И в любой момент по флоту могли распространиться слухи, что одному из королевских судов безнаказанно удалось разорвать узы дисциплины, что с забитые некогда матросы, как равный с равным, ведут переговоры с лордами адмиралтейства. Хорнблауэр слишком хорошо представлял себе, какой эффект могут возыметь такие новости. Чем скорее матросы «Флейма» получат образцово-показательную порку, тем лучше. Вот только до сих пор у него не было ни малейшего представления о том, как это можно осуществить. Нынешний шторм вряд ли потревожит бриг мятежников — он легко может избежать его, укрывшись с подветренной стороны Нормандского полуострова. Судно такого тоннажа способно переместиться в любую точку залива Сены, с одной стороны, оно может уйти в Гавр, с другой — в реку Каэн.
Его прикроют береговые батареи Котантена, а шасс-маре и сенские канонерки будут наготове, чтобы прийти ему на помощь. Как в Шербуре, так и в Гавре стоят французские фрегаты и линкоры, хотя и они и имеют половинный экипаж и не способны выйти в море, для них не составит труда проделать путь в несколько миль от порта, чтобы прикрыть отступление «Флейма». При приближении превосходящих сил они, безусловно, обратятся в бегство, имея дело с равным, например, с «Порта Коэльи», они могут остаться и принять сражение, при этом Хорнблауэр чувствовал себя неспокойно при мысли о схватке в равных условиях с британским кораблем, управляемым английскими моряками, которых ведут в бой отчаяние и храбрость. Победа может оказаться купленной дорогой ценой: какими триумфальными кликами на всю Европу разразится Бонапарт при известии о сражении между двумя британскими кораблями! Скорее всего, будет много убитых — какая польза будет флоту от того, что британские моряки станут убивать друг друга? Какой отклик это найдет в Парламенте? Кроме того, весьма вероятно, что оба брига нанесут друг другу такие серьезные повреждения, что станут легкой добычей для шасс-маре и канонерок. И, что еще хуже, существовала возможность потерпеть поражение. Одинаковые корабли, равные команды — шансы были настолько равные, что об исходе можно было гадать, подбросив в воздух монету. Нет, на прямое сражение с «Флеймом» он решится только в качестве крайней меры, а может быть не решится даже тогда. Но в таком случае, черт возьми, что же он должен делать?
Хорнблауэр заставил себя вернуться к окружающей действительности, покинув замкнутую аллею мыслей, по которой прогуливался до этих пор. Ветер все еще ревел вокруг него, но непроницаемое покрывало тьмы исчезло. Прямо перед собой он мог различить прямоугольник зарифленного грот-марселя, четко вырисовывавшийся на фоне неба. Вокруг него разливался серый отсвет: покрытые белыми пятнами волны, через которые тяжело переваливался бриг, стали ясно видимы. Наступало утро. Он находился сейчас здесь, в открытом море, в середине Канала. А еще двадцать четыре часа назад он, облаченный в шелка, сидел в окружении рыцарей ордена Бани в Вестминстерском аббатстве. А даже того менее он был рядом с Барбарой — вот еще одно направление мыслей, от которого он никак не мог избавиться. Снова пошел дождь, тяжелые капли били ему в лицо. Он продрог насквозь: стоило пошевелиться, как он чувствовал, как с шарфа Барбары, обмотанного вокруг шеи, сочится вода. Фримен стоял рядом с ним, однодневная щетина на его щеках была деталью, дополнявшей его сходство с цыганом.
— Барометр стоит низко, сэр, — сказал Фримен. — Никаких признаков улучшения погоды.
— Я тоже не замечаю таковых, — согласился Хорнблауэр.
Это была неблагодатная тема для разговора, даже если у Хорнблауэр и было бы желание вступать в разговоры с подчиненными. Серое небо, серое море, завывающий ветер, холод, пронизывающий их, череда пессимистических мыслей, занимавших ум Хорнблауэра — все это помогало ему поддерживать то осторожное молчание, привычку к которому он так долго в себе вырабатывал.
— При первых признаках перемен дайте мне знать, мистер Фримен, — сказал он.
Он направился к люку — ему с большим трудом удавалось передвигать ноги, нагнуться, чтобы ухватиться за комингс люка, когда он начал спускаться, оказалось еще труднее. Когда он протискивался под палубными бимсами в своей каюте, его суставы скрипели. Он совершенно окостенел от холода, усталости и морской болезни. Он сознавал, с досадой, что нельзя просто упасть, не раздеваясь, на кровать, как ему этого хотелось: не из-за страха перед ревматизмом, но из-за того, в течение многих дней может не представится возможности просушить намокшие постельные принадлежности. И тут появился Браун, словно материализовавшийся внезапно из ниоткуда — должно быть, он дежурил в кладовой офицерской кают-компании, ожидая его прихода.
— Позвольте мне снять ваш плащ, сэр, — сказал Браун. — Вы замерзли, сэр. Я развяжу шарф. Пуговицы, сэр. Теперь присядьте и позвольте мне снять ваши ботинки, сэр.
Браун снял с него мокрую одежду, словно раздевая ребенка. Как по волшебству в руках у него появилось полотенце, с помощью которого он стал растирать Хорнблауэра: тот чувствовал, как при прикосновениях грубой материи кровь снова начала циркулировать в его жилах. Браун помог Хорнблауэру натянуть через голову ночную рубашку, и наклонился, чтобы растереть ему ноги. В утомленном мозге Хорнблауэра промелькнула мысль об удивительной эффективности Брауна. Браун достигал успеха во всем, к чему прикладывал руки: мог вязать узлы и сплеснивать концы, мог управлять парой лошадей, выстругать модель корабля для Ричарда, и служить для ребенка наставником и нянькой, управиться с колесом и ощипать гуся, раздеть уставшего человека, и — что не менее важно — знать, когда нужно перестать высказывать слова утешения и оставить его, накрытого одеялами, лежать одного, не сопровождая это глупыми или раздражающими пожеланиями спокойного сна. Прежде чем усталость окончательно заставила Хорнблауэра провалится в сон, череда беспорядочных мыслей привела его к выводу, что Браун является гораздо более полезным членом общества, чем сам Хорнблауэр. Если бы Браун в детстве имел возможность изучить грамоту и геометрию, как Хорнблауэр, и если бы ему представился шанс оказаться на квартердеке в качестве королевского кадета, вместо того, чтобы попасть под вербовку и очутиться на нижней палубе, он сейчас, возможно, был бы капитаном. Что примечательно, при мысли о Брауне даже тень зависти не омрачила мысли Хорнблауэра, он в эту минуту он был настроен настолько благодушно, что мог восхищаться, не испытывая досады. Придет время, когда Браун составит счастье какой-нибудь женщине, став ее мужем, до тех пор, пока в пределах досягаемости не появится другая женщина. При этой мысли Хорнблауэр усмехнулся, и, все еще улыбаясь, погрузился в сон, несмотря на морскую болезнь и раскачивания «Порта Коэльи» на резких волнах.
Некоторое время спустя он проснулся, чувствуя себя отдохнувшим и проголодавшимся, и стал с благоволением прислушиваться к корабельному гомону, раздававшемуся вокруг. Затем он высунул голову из-под одеяла и позвал Брауна. Часовой у двери каюты отрепетовал команду и Браун появился почти в ту же секунду.
— Который час?
— Две склянки, сэр.
— Какой вахты?
— Послеобеденной, сэр.
Он мог бы узнать это, и не спрашивая. Разумеется, он проспал четыре часа — девять лет в должности капитана не изжили навыки, выработавшиеся за двенадцать лет в качестве офицера, несущего вахты. «Порта Коэльи» поднялась почти вертикально, сначала на корму, потом на нос, миновав необычайно крутую волну.
— Погода не улучшилась?
— Ветер все еще штормовой, сэр. Вест-зюйд-вест. Мы дрейфуем под грот-стень-стакселем и грот-марселем с тремя рифами. Земли не видно, никаких парусов тоже не наблюдается, сэр.
Это была та сторона войны, к которой ему стоило давно уже привыкнуть: бесконечные промедления, в то время как беда подстерегает прямо за горизонтом. Он чувствовал, что четырехчасовой сон удивительным образом восстановил его силы: депрессия и досада на бесконечность войны исчезли. Они не были искоренены совсем, просто оттеснены на второй план фатализмом, свойственным ветерану. Он с удовольствие потянулся, лежа в провисшей койке.
Его желудок определенно все еще находился в стадии беспокойства, однако, в результате отдыха и покоя, не начинал бунтовать открыто, хотя и предупреждал, что в случае, если его хозяин начнет активно действовать, это может случиться. Но необходимости активно действовать не было! Если он встанет и оденется, то заняться все равно нечем. Вахту ему стоять не нужно — по закону он на борту всего лишь пассажир, и, пока не прекратится шторм, или не возникнет какая-либо непредвиденная опасность, ему совершенно нечем забивать себе голову. Можно вдоволь выспаться: не исключено, что впереди, когда он вернется к исполнению возложенного на него поручения, его ждут беспокойные и бессонные ночи. Он может позволить себе поддаться охватившей его сейчас расслабленности.
— Прекрасно, Браун, — произнес он, придав голосу тот оттенок безразличия, за которым всегда так следил, — сообщите мне, если погода улучшится.
— Завтрак, сэр? — Изумление, прозвучавшее в голосе Брауна, было очевидным, и это доставило удовольствие Хорнблауэру. Это было единственное, чего Браун никак не мог ожидать от своего неугомонного капитана. — Кусок холодной говядины и стакан вина, сэр?
— Нет, — заявил Хорнблауэр. Он боялся, что его желудок, в любом случае, такого не выдержит.
— Ничего, сэр?
Хорнблауэр даже не снизошел до ответа. Он выказал себя непреклонным, и это была маленькая победа. У Брауна наблюдалась тенденция выказывать по временам слишком собственнические настроения и быть чересчур самодовольным. Этот инцидент поможет снова поставить его на место, несколько развеет его заблуждение о том, что он так хорошо знает натуру своего капитана. Хорнблауэр был уверен, что никогда не станет героем в глазах Брауна, в лучшем случае он будет воспринимать его как оригинала. Он спокойно уставился на палубный бимс, находившийся прямо над его носом. Это продолжалось, пока сбитый с толку Браун не удалился. Затем снова устроился поудобней, стараясь не потревожить желудок неосторожными движениями. Он был доволен своей судьбой, ему доставляло удовольствие лежать и мечтать в полудреме. Прекращение западного ветра будет означать для него встречу с бригом, полном мятежников. Что же, хотя он и удаляется от них со скоростью одной или двух миль в час, он настигнет их так скоро, как только в состоянии будет сделать это. А Барбара была так прекрасна.
К концу вахты его сон стал настолько чутким, что его пробудили трели боцманской дудки, вызывающие нижнюю вахту, звук, который ему часто придется слышать теперь. Он позвал Брауна, вылез из кровати и торопливо оделся, чтобы успеть захватить последние минуты дня. Когда он выбрался на палубу, глазам его предстало все то же безрадостное зрелище: неразрывная серая стена облаков, серое, с белыми хлопьями, море, изборожденное короткими, резкими волнами Канала. Шторм еще продолжался в полную силу, под ударами ветра вахтенные офицеры сгибались, надвинув поглубже на глаза свои зюйдвестки, а матросы жались в поисках защиты к наветренному фальшборту. Оглядевшись вокруг, Хорнблауэр убедился, что его появление на палубе вызвало определенную сумятицу. Для экипажа «Порта Коэльи» это был первый раз, когда они могли увидеть его при дневном свете. Вахтенный мичман, получив толчок локтем в бок от помощника штурмана, нырнул вниз, видимо, чтобы доложить о его появлении Фримену. Можно было также заметить толчки, которыми матросы впереди привлекали внимание друг друга. Черная стена тарполиновых плащей запестрела белыми пятнами — это лица людей поворачивались в его сторону. Они обсуждали его — Хорнблауэра, который потопил «Нативидад» в Тихом океане и сражался с французским флотом в бухте Росас, а в прошлом году удерживал Ригу в борьбе с армией Бони.
Теперь Хорнблауэр относился с определенным равнодушием к возможности служить предметом обсуждения для других людей. На его счету были неоспоримые достижения, крупные победы, за которые он нес ответственность, и тем самым, заслужил свои лавры. Его слабости, подверженность морской болезни и угрюмость могли теперь вызывать улыбку, а не насмешки. То, что позолоченные лавры скрывали под собой шипы, известно было только ему одному, и никому больше. Они не знали о его сомнениях и терзаниях, ни о допущенных им ошибках, они не знали, как это знал он, что если бы под Ригой он отозвал канонерки на пять минут раньше, как это и нужно было сделать, юный Маунд был бы сейчас жив, и стал бы выдающимся морским офицером. То, как Хорнблауэр руководил эскадрой на Балтике было описано в парламенте как «прекраснейший за последние годы пример использования морских сил против сухопутной армии». Хорнблауэр знал о своем несовершенстве, но другие, похоже, смотрели на это сквозь пальцы. Он мог смотреть в глаза своим собратьям по профессии, как равным. У него была жена: красивая, из хорошего рода, со вкусом и тактом, жена, которой можно гордиться, а не такая, за которую ему приходилось краснеть в свете — бедняжка Мария, лежащая в забытой могиле в Саутси.
Из люка появился Фримен, завязывая на ходу ремешки непромоканца.
— Барометр начал подниматься, сэр, — прокричал он, сложив ладони рупором. — Скоро шторм начнет стихать.
Хорнблауэр кивнул, хотя в этот самый момент сильный порыв ветра взметнул полы его плаща — сами по себе эти порывы предвещали, что шторм близится к концу. Наступали сумерки, возможно, с закатом море ветер начнет слабеть.
— Не желаете ли обойти вместе со мной корабль? — прокричал Хорнблауэр, и Фримен, с свою очередь кивнул в ответ. Они продвигались вперед с осторожностью, идя по раскачивающейся, мокрой палубе. Хорнблауэр внимательно осматривал все вокруг. Две длинноствольные пушки на носу — шестифунтовки, остальные — двенадцатифунтовые карронады. Станки и канаты, крепившие орудия, находились в прекрасном состоянии. Такелаж, как стоячий, так и бегучий, был правильно расположен и поддерживался в отличном состоянии, однако лучшим доказательством хорошего состояния судна был тот факт, за последние двадцать четыре часа штормовой погоды ничто не вышло из строя. Фримен являлся хорошим капитаном, впрочем, Хорнблауэр знал это и раньше. Однако в предстоящей экспедиции даже не пушки, не способность судна переносить бурю будут играть первоочередную роль. Важнее всего — люди. Как будто изучая состояние брига, Хорнблауэр бросал по сторонам быстрые взгляды, оценивая вид и поведение матросов. Они казались терпеливыми, но, слава Богу, не подавленными. Бдительные, готовые к исполнению любого приказа. Через носовой люк Хорнблауэр спустился в неподдающиеся описанию шум и вонь межпалубного пространства. Здесь, на невероятный манер, свойственный британским «смоляным курткам» — храпя, лежа на голых досках, спали матросы. Видны были группки людей, занятых игрой. Когда его заметили, видно стало, как замелькали рукава и указательные пальцы — они впервые смотрели на почти легендарного Хорнблауэра. Они кивали и подмигивали друг другу. Хорнблауэр, внимательно наблюдая, как его воспринимают, отметил с удовлетворением, что это можно было скорее охарактеризовать скорее как надежду, чем как покорность или нежелание.
Странно, но фактом, в существовании которого он не мог сомневаться, было то, что моряков радовала перспектива служить под его началом, того самого Хорнблауэра, который (по мнению Хорнблауэра), существовал лишь в их воображении, а отнюдь не настоящего, из плоти и крови. Они надеялись на победу, на воодушевление, на продвижение по службе, на успех — несчастные глупцы. Они не задумываются над тем, что там, где Хорнблауэр принимает командование — там гибнут люди. Ясность мыслей, проистекавшая из морской болезни и пустого желудка (Хорнблауэр не мог даже вспомнить, когда он ел в последний раз) подливала масла в огонь в борьбу эмоций внутри него: удовольствие от мысли, что за ним идут так охотно и сожаление о бездумно загубленных жизнях, трепет возбуждения при мысли о предстоящем действии и муки сомнения, сумеет ли он на этот раз использовать свой шанс достичь успеха, удовольствие, с неохотой признаваемое, снова оказаться в море и получить командование и сожаление, горькое и грызущее, о жизни, с которой он только что распрощался — о любви Барбары и доверчивом обожании маленького Ричарда. Заметив, что он погрузился во внутренние переживания, Хорнблауэр обругал себя сентиментальным идиотом. Это произошло как раз в тот самый момент, когда его зоркий глаз заметил моряка, который, сдерживая радость, потирал лоб и улыбался.
— Я тебя знаю, — сказал Хорнблауэр, лихорадочно роясь в памяти, — дай-ка подумать. Ты, должно быть, служил на старине «Индефатигейбле».
— Верно, сэр. Мы служили на одном корабле, сэр. Вы тогда были совсем, мальчишкой, прошу прощения, сэр. Мичманом на салинге фок-мачты, сэр.
Прежде чем осторожно пожать руку, протянутую ему Хорнблауэром, матрос вытер ладонь о штаны.
— Тебя зовут Хардинг, — сказал Хорнблауэр, память которого, после чрезвычайного усилия, пришла ему на помощь, — ты учил меня сплеснивать канаты, пока мы были близ Уэссана.
— Точно, сэр. Так оно и было, сэр. Это было в девяносто втором или девяносто третьем?
— В девяносто третьем. Рад видеть тебя на борту, Хардинг.
— Сердечно благодарю вас, сэр. Сердечно благодарю.
Ну почему весь корабль должен гудеть от удовольствия от того, что он узнал старого сослуживца, с которым плавал на одном корабле двадцать лет назад? Что может измениться от этого? Но это факт, Хорнблауэр знал и чувствовал это. Трудно сказать, какое чувство было главным в новом букете его ощущений, возникшем в результате последнего инцидента: сожаление или сочувствие по отношению к его доверчивым соратникам. Может быть, в этот же самый момент Бонапарт делает то же самое, узнав на каком-нибудь бивуаке в Германии среди солдат гвардии старого товарища по оружию.
Когда они достигли кормовой части брига, Хорнблауэр повернулся к Фримену и сказал:
— Я собираюсь пообедать, мистер Фримен. Возможно, после этого мы сможем поднять какие-либо паруса. В любом случае, я поднимусь на палубу, чтобы посмотреть.
— Есть, сэр.
Обед: поглощение еды, сидя в крохотном отсеке напротив переборки. Холодная солонина — добрый кусок, наслаждение для человека, который привык к этому блюду, но был лишен его в течение одиннадцати месяцев. «Превосходные корабельные бисквиты Рексама» из жестяной банки, раздобытой и положенной ему Барбарой — лучшие корабельные сухари, которые когда-либо пробовать Хорнблауэру. Они стоили, наверное, раз в двадцать больше, чем та изъеденная червями субстанция, которую ему так часто приходилось есть раньше. Кусочек красного сыра, острого и выдержанного, прекрасно дополнил второй бокал кларета. Почти безумием было думать, что он может почувствовать удовольствие от возвращения к такой жизни, но это было так. Без сомнения, ему это нравилось.
Утерев рот салфеткой, он влез в свой непромоканец и поднялся на палубу.
— Кажется, ветер стал немного слабее, мистер Фримен.
— Мне тоже так кажется, сэр.
Скрытая тьмой «Порта Коэльи» всходила на волну почти без труда, то грациозно поднимаясь, то ныряя вниз. Волны за бортом были уже далеко не такими крутыми, как раньше, кроме того, то, что падало им на лицо, было каплями дождя, а не брызгами, и то, что пошел дождь, подсказывало, что худшее уже позади.
— Под зарифленными кливером и грота-триселем мы можем попробовать начать лавировку, сэр, — колеблясь, сказал Фримен.
— Отлично, мистер Фримен. Действуйте.
Для управления бригом требуются особые навыки, особенно, разумеется, когда необходимо идти против ветра. Под кливером, стакселями и гротиа-триселем им можно было управлять, как судном с косым парусным вооружением. Хорнблауэр знал это в теории, но знал также, что его практические навыки в значительной степени утрачены, особенно если действовать надо в шторм и темное время суток. Его вполне устраивало отойти в тень и предоставить Фримену делать то, что тот сочтет нужным. Фримен отдал приказы: под натужный скрип блоков зарифленный грота-трисель поднялся на мачте, в то время как матросы, стоя на дико раскачивающемся рее убрали грот-марсель. Бриг дрейфовал, имея ветер в правую скулу, а в результате подъема кливера стал слегка уваливаться под ветер.
— Выбрать грота-шкоты! — прокричал Фримен, затем обернулся к рулевому: — Так держать!
Усилие руля предотвратило попытку «Порта Коэльи» потерять управляемость, а грота-трисель, забрав ветер, вынудил ее двинуться вперед. В одно мгновение она совершила переход от спокойствия и безмятежности к борьбе и отчаянию. «Порта Коэльи» перестала подчиняться волнам и ветру, позволяя им бушевать позади нее, теперь она шла им навстречу, боролась с ними, сражалась. Она была словно тигрица, которая до поры избегает охотников, прокрадываясь от одного убежища к другому, а затем обрушивается на своих мучителей, озверев от ярости. Ветер накренил ее, пелена брызг вздымалась из под форштевня. Плавные подъемы и спуски превратились в невыносимо резкие раскачивания, когда она встречала крутые валы с непоколебимой решимостью, она кренилась и вздрагивала, прокладывая путь через волны. Человек, смертный человек, бросил вызов силам природы, древним стихиям, правившим землей и водой со времен создания. Силой разума, заключенного в хрупкую оболочку своего черепа, человек оказался не только способен на равных сражаться со стихией, но и подчинить их, заставить служить своей воле. Природа породила в водах Канала этот мощный западный шторм; потихоньку, исподволь «Порта Коэльи» использовала его силу, чтобы держать свой курс на запад — это был долгий, трудный, мучительный путь — но все же на запад. Хорнблауэр, стоя у штурвала, почувствовал прилив возбуждения, когда «Порта Коэльи» двинулась вперед. Он чувствовал себя Прометеем, похитившим огонь у богов, он был мятежником, которому удался мятеж против слепых законов природы, он мог чувствовать гордость, хотя и являлся всего лишь простым смертным.
Глава 5
Фримен рассматривал жир, покрывавший лот, один из матросов светил ему, держа фонарь на плече. Помощник штурмана и вахтенный мичман дополняли группу, отделенную четко очерченным кругом света от окружающей тьмы. Фримен не спешил вынести свое решение: сначала он посмотрел на добытые из моря образцы грунта с одного угла, потом с другого. Понюхал их, потрогал указательным пальцем, потом поднес палец ко рту и лизнул.
— Песок и ракушечник, — пробормотал он себе под нос.
Хорнблауэр держался позади: такие вещи Фримен способен был сделать лучше, чем он, хотя открыто признаваться в этом являлось почти ересью, так как он являлся капитаном, а Фримен — всего лишь лейтенантом.
— Возможно, мы близ Антифера, — сказал, наконец, Фримен. Он устремил взгляд в темноту, в том направлении, где стоял Хорнблауэр.
— Ложитесь на другой галс, если вы не против, мистер Фримен. И продолжайте бросать лот.
Пробираться во тьме вдоль предательского нормандского берега было весьма волнительным делом, хотя за последние сутки ветер и упал до простого свежего бриза. Однако Фримен знал, что делает: двенадцать лет, которые он провел в постоянных замерах глубин, плавая на окраинах Европы, выработали у него знание и чутье, позволяющие делать безошибочный выбор. Хорнблауэр мог довериться суждениям Фримена — с картой, компасом и лотом он сам мог бы неплохо справиться с работой, но ставить себя выше Фримена в качестве ла-маншского лоцмана было бы глупо. Фримен употребил слово «возможно», но Хорнблауэр понимал, что это «возможно» является практически утверждением. Фримену можно доверять в таких вещах. «Порта Коэльи» находится близ мыса Антифер, а это значит, несколько далее под ветер, чем он хотел бы быть, когда наступит рассвет. У него все еще не было плана, как он станет действовать, когда найдет «Флейм». Насколько он мог видеть, обходных путей не было: с точки зрения обычной геометрии совершенно не представлялось возможным отрезать мятежникам пути отступления к французам, если бы они захотели это сделать, имея с одной стороны открытый путь в Гавр, а с другой в Каэн. Помимо этого, на побережье была еще дюжина маленьких заливчиков, также плотно прикрытых береговыми батареями, где «Флейм» мог найти себе убежище. А любая попытка форсировать события может привести к тому, что Чедвика вздернут на ноке рея — это будет ужаснейшим и опаснейшим инцидентом в истории флота со времен убийства Пиготта.[12] Однако с мятежниками нужно вступить в контакт — совершенно очевидно, это первое, что следует сделать. И не было ничего плохого в том, чтобы попытаться извлечь из этого контакта максимально возможную пользу. Может произойти чудо: он должен дать шанс случиться чуду. Что однажды сказала ему Барбара? «Везучий человек — это тот, кто знает, сколько можно предоставить случаю». Барбара слишком хорошо о нем думает, даже после всего, что произошло, но в том, что она сказала, была истина. «Порта Коэльи» быстро двигалась к северо-западу, идя в крутой бейдевинд.
— Прилив вот-вот начнется, сэр Горацио, — сказал стоящий рядом с ним Фримен.
— Благодарю вас.
Вот еще одна неизвестная в завтрашней задаче, которую ему не удалось еще решить до конца. «Война не похожа на сферическую тригонометрию, как может быть, многое другое», — подумал Хорнблауэр, усмехаясь про себя над непоследовательностью своих мыслей. На войне часто случается, что кто-то берется выполнять задачу, не зная даже, чего он хочет достигнуть, доказать или выполнить, и даже не зная, какие средства можно использовать, чтобы сделать это. Военные действия — по большей части результат небрежности, самодеятельности, предпринятой на удачу импровизации. Даже если бы они не вели к жертвам и затратам, все равно это не дело для человека, обладающего логикой. Не исключено, что он слишком хорошо о себе думает: может быть, другие офицеры — скажем, Кокрейн или Лидъярд, будучи на его месте, уже составили бы план действий по отношению к бунтовщикам, план, который безошибочно привел бы их к положительному результату.
Пробили четыре склянки — они шли этим галсом уже более четверти часа.
— Будьте любезны лечь на другой галс, мистер Фримен. Я не намерен слишком удаляться от берега.
— Есть, сэр.
Если бы не война, любой находящийся в здравом уме капитан ни одной секунды не стал бы идти в темноте вдоль этого изобилующего отмелями побережья, особенно если у него нет уверенности в том, что он точно определил свое местонахождение — их теперешняя оценка базировалась на совокупности предположений: о сносе во время дрейфа, о воздействии приливов, о совпадении замеров глубин, сделанных ими, с отметками глубин, нанесенными на карту.
— Как вы думаете, сэр, что станут делать мятежники, когда увидят нас? — спросил Фримен.
Тот факт, что Хорнблауэр может оказаться недостаточно твердым, чтобы отказаться давать разъяснения по тому или иному вопросу, может подтолкнуть Фримена к фамильярности. Это раздражало Хорнблауэра, но главной причиной было отсутствие мыслей на этот счет.
— Нет смысла задавать вопросы, на которые лишь время может дать окончательный ответ, мистер Фримен, — резко сказал он.
— И все же строить предположения — довольно увлекательная вещь, сэр Горацио, — ответил Фримен с дерзостью, заставившей Хорнблауэра взглянуть на него сквозь темноту. Буш, если бы Хорнблауэр заговорил с ним таким тоном, сразу же уполз бы назад, в свою конуру, зализывать раны.
— Можете развлечь себя на такой манер, если желаете, мистер Фримен. Я не намерен заниматься этим.
— Спасибо, сэр Горацио.
На самом деле это было или нет, но в последней реплике ему послышался намек на насмешку, скрытый под намеком на покорность. Неужели возможно, что Фримен может про себя насмехаться над вышестоящим офицером? Если так, то он сильно рискует: лишь тень неудовольствия, которую может выразить Хорнблауэр в своем рапорте в Адмиралтейство, отправит его на берег на всю оставшуюся жизнь. Но с того самого момента, как эта мысль пришла ему в голову, он знал, что не станет этого делать. Никогда он не похоронит карьеру способного офицера только потому, что тот обращался с ним без раболепия.
— Быстро мелеет, сэр, — неожиданно сказал Фримен. Подсознательно и он, и Хорнблауэр прислушивались к крикам лотового. — Мне кажется, что следует лечь на другой галс.
— Разумеется, мистер Фримен, — сухо ответил Хорнблауэр.
Они медленно огибали мыс Эв — самую северную точку эстуария Сены, прямо за ним лежал Гавр. У них был шанс, совсем крохотный, что к рассвету им удастся оказаться с наветренной стороны от «Флейма» и в то же время между ним и Францией, так, чтобы у него не оставалось никакой возможности сбежать. А ночь подходила к концу — до наступления дня оставалось совсем немного времени.
— На грот-мачте у вас надежный человек, мистер Фримен?
— Да, сэр Горацио.
Может быть, ему следовало бы рассказать экипажу о миссии, которая им поручена, хотя это и значило приоткрыть завесу секретности, окружающую мятеж. Как правило, матросов редко посвящали в подобные вещи: британские моряки, став фаталистами за двадцать лет войны, будут стрелять во французов, американцев или голландцев, не задумываясь, правы они или нет, но требовать от них открыть огонь по однотипному кораблю, по британскому судну, которое, насколько ему было известно, все еще продолжает нести боевой вымпел и георгиевский крест, может вызвать у них заминку, если он станет призывать их к этому, не сделав предварительных разъяснений. Ни один здравомыслящий офицер в обычных обстоятельствах никогда не произнесет в разговоре с командой слова «мятеж»: какой укротитель тигров станет напоминать льву, что тот сильнее его.
Рассвет почти наступил.
Не будете ли вы любезны собрать людей, мистер Фримен? Я хочу обратиться к ним.
— Есть, сэр.
Дудки засвистели по всему кораблю, нижняя вахта хлынула наверх через люк и сонно побрела к корме. Бедолаги лишились часа сна из-за того, что наступление рассвета столь неудачным образом не совпало с окончанием вахты. Хорнблауэр огляделся вокруг в поисках возвышенного места, с которого он мог бы обратиться к ним — на судне с плоской палубой, каким являлось «Порта Коэльи», говорить, обращаясь с квартердека к шкафуту, не предоставляло преимуществ. Он забрался на фальшборт, ухватившись рукой, для сохранения равновесия, за ванту грот-мачты.
— Матросы, — сказал он, — возможно, вы думаете, зачем вас послали сюда?
Может быть и думали, но люди, стоящие в строю перед ним — сонные, апатичные, проголодавшиеся — не выказывали особых признаков заинтересованности.
— Задумываетесь ли вы над тем, почему меня послали в море вместе с вами?
Господи, конечно, они задумывались над этим. Наверняка на нижней палубе высказывались догадки — зачем настоящий коммодор, и не просто коммодор, а легендарный Хорнблауэр, вышел в море всего лишь на восемнадцатипушечном бриге. Лестно было видеть, что строй выказал признаки интереса, головы приподнялись. Хорнблауэр проклинал себя за то, что прибег к использованию риторических уловок, а еще больше — за злоупотребление своей личной славой.
— На флоте совершен подлый поступок, — продолжал Хорнблауэр, — британские моряки опозорили себя. Они затеяли мятеж прямо на виду у противника.
Не было никакого сомнения, что теперь его слушали очень внимательно. Он произнес слово «мятеж» перед этими рабами свистка и плети. Мятеж — лекарство от всех их несчастий, которое дает им освобождение от их тяжелой жизни, жестокости и опасности, плохой пищи и лишения всех радостей бытия. Один экипаж уже взбунтовался. Почему бы им не поступить также? Он должен был рассказать им о «Флейме», напомнить, что рядом лежит берег Франции, где Бонапарт охотно осыплет золотым дождем британских моряков, которые сдадут ему британский военный корабль. Хорнблауэр сделал так, чтобы в его голосе прозвучала нота презрения.
— Команда «Флейма», однотипного с вашим корабля, сотворила такое. Сейчас они прячутся здесь, в самом заливе Сены. Все обернулись против них. Французам не нужны мятежники, и наша задача — выкурить этих крыс из их нор. Они предали Англию, забыли свой долг перед королем и страной. Полагаю, что большинство из них — честные, но недалекие люди, которые позволили нескольким мерзавцам сбить себя с пути. Именно эти мерзавцы должны дорого заплатить за свою подлость, и нам следует не дать им никакого шанса на спасение. Если они безумны до такой степени, чтобы пойти на открытое сражение, мы должны сразиться с ними. Если они сдадутся без кровопролития, им это зачтется на суде. Я не сторонник кровопролития, если можно его избежать — вы также хорошо, как и я, знаете, что ядро убивает, не спрашивая, кто перед ним — негодяй или просто глупец. Но если они хотят кровопролития — они его получат.
Хорнблауэр закончил говорить и взглядом отдал Фримену приказ распустить людей. Обращаться к голодным людям в серой предрассветной мгле было делом невеселым, однако Хорнблауэр, наблюдая за матросами, расходившимися по своим местам, видел, что команды корабля опасаться не стоит. Разговоры, разумеется, были оживленными, но новости о мятеже вызовут ажиотаж среди любого экипажа, так же как жители какой-нибудь деревни оживленно обсуждают случившееся в округе убийство. Однако это были всего лишь досужие разговоры, насколько он мог судить — люди не делали из новостей никаких выводов. В своем обращении к ним он представил дела таким образом, что считает их подчинение приказам в деле с бунтовщиками само собой разумеющимся, не допустив в речи даже намека на опасение, что они могут поддаться искушению и последовать примеру мятежников. Это еще не дошло до них — однако это может случиться, если у них будет возможности хорошенько поразмыслить. Он должен следить за тем, чтобы они постоянно были заняты: обычная рутина корабельной жизни способствовала ему в этот момент, так как им надо было приниматься за дело, начинающее день на судне — драить палубу, прежде чем их созовут к завтраку.
— Земля! — раздался голос с грот-мачты, — Земля слева по носу.
Утро было пасмурным, типичная для Ла-Манша погода в конце года, но в свете нарождающегося дня Хорнблауэр мог различить на сером фоне темную линию. Фримен пристально разглядывал берег через подзорную трубу.
— Это южный берег залива, — сказал Фримен. — Вот река Кэйн.
До Хорнблауэра только начало доходить, что Фримен таким образом произнес на английский манер название «Каэн», когда Фримен направил трубу в другую сторону и выдал целую серию еще более удивительных образцов того, что может англичанин сделать с французскими названиями:
— Да, вот мыс ди лей Хев, и Харбор-Грейс.
Наступивший рассвет позволил определить, что «Порта Коэльи» находится у южного берега эстуария Сены.
— Прошлой ночью нам был продемонстрирован великолепный пример навигации, мистер Фримен.
— Спасибо, сэр Горацио.
Хорнблауэр мог бы добавить к похвале еще несколько теплых слов, если бы не натолкнулся на ледяную реакцию Фримена. Он пришел к выводу, что если Фримену угодно, он может позволить себе побыть до завтрака раздражительным. Любой способный лейтенант имеет право завидовать капитану: по мнению всякого амбициозного лейтенанта, капитан был таким же лейтенантом, которому повезло однажды и продолжает везти и далее, который получает жалованье в три раза превышающее лейтенантское и призовые деньги, присваивая плоды лейтенантских трудов и который уверен, что в конце-концов станет адмиралом, в то время как продвижение лейтенанта по службе полностью зависит от прихотей вышестоящих офицеров. Хорнблауэр с легкостью мог вызвать в памяти те же самые чувства, которые испытывал, будучи лейтенантом. Выказывать их для Фримена было естественно, но в то же время глупо.
Крик лотового известил их, что море снова начало мелеть: они миновали мыс, и теперь пересекали южный канал эстуария. Для «Порта Коэльи» глубины все еще было достаточно — она создавалась специально для этой цели — проникать в заливы и эстуарии, принеся войну так близко к берегам Бонапарта, как только возможно. Владычество Бонапарта кончалось за той линией, до которой мог достать выстрел с береговых батарей, а далее начинались абсолютное и неоспоримое господство Англии.
— С подветра по носу парус! — закричал впередсмотрящий.
Фримен вскарабкался по вантам грот-мачты с проворством обезьяны, и, уцепившись за выбленочный трос, направил подзорную трубу вперед.
— Бриг, сэр, — сказал он Хорнблауэру, и добавил несколькими секундами позже, — Это «Флейм», точно, сэр.
— Переложите руль и давайте подойдем к нему, если вы не против, мистер Фримен.
«Флейм» находился именно там, где он рассчитывал найти его, с подветренной стороны от берега, укрытый от штормов, которые могли налететь с направления от северо-запада до востока, и обеспечив себе пути отступления в случае нападения как со стороны англичан, так и со стороны французов. Вскоре, вглядываясь в серую мглу, Хорнблауэр смог рассмотреть его в собственную подзорную трубу. Изящное, красивое судно, лежащее в дрейфе у самого края отмелей. На борту, по крайней мере, с этого расстояния нельзя было заметить никаких признаков беспорядка. «Сколько подзорных труб направлено сейчас на „Порта Коэльи“, — подумал Хорнблауэр, — какие жаркие споры разворачиваются на борту среди людей, угадавших во вновь прибывшем судне первый ответ лордов адмиралтейства на их самоубийственный ультиматум. Эти ребята сами затягивали веревку вокруг своей шеи».
— Они ждут, когда мы подойдем к ним, — сказал Фримен.
— Интересно, сколько они вытерпят, — отозвался Хорнблауэр.
— Эй, парни, что вы тут стоите и болтаете? — взорвался внезапно Фримен, обращаясь к группе матросов, возбужденно толпившихся у фальшборта. — Оружейник! Оружейник! Запишите имена этих матросов и подайте мне список к концу вахты! Эй, ты, помощник боцмана! Кольер, займи своих людей делом! Это королевский корабль, а не проклятый пансион для благородных девиц!
Тонкий луч рассвета прорвался сквозь серую пелену и озарил «Флейм», лежащий в объективе подзорной трубы Хорнблауэра. Он вдруг заметил, что реи брига стали поворачиваться: тот поймал ветер и двинулся в сторону Онфлера. Его фор-марсель имел странную окраску — белый крест на темном фоне, словно это был корабль крестоносцев.
— Они не собираются стоять и дожидаться нас, — сказал Фримен.
— Парус! — снова раздался крик впередсмотрящего, — парус с подветренного борта!
Подзорные трубы повернулись все разом, словно управляемые единым механизмом. Большой корабль под всеми парусами, вплоть до бом-брамселей, вынырнул из тумана за мысом, идя расходящимся курсом с «Порта Коэльи». Хорнблауэр мгновенно понял, что это за судно, и не нуждался в разъяснениях Фримена.
— Французский вест-индиец, — произнес Фримен, — на полном ходу в Харбор-Грейс.
Один из немногих кораблей — прорывателей континентальной блокады, везущий бесценный груз зерна и сахара, призванный облегчить тяжелое положение Бонапарта. Он воспользовался выгодами, которые предоставил ему недавний шторм, разбросавший блокирующие эскадры, чтобы проскочить через Ла-Манш. Партия груза, доставленного в Сену, где концентрировалась мощь Империи, откуда расходилась система дорог и каналов, стоила двух, прибывших в какую-нибудь изолированную бухту на Бискайском побережье. Малые суда военного флота Британии, такие как «Порта Коэльи» и «Флейм», были построены и предназначены именно для того, чтобы не допустить подобных вещей.
— Его некому перехватить по пути в Харбор-Грейс, — пробормотал Фримен.
— Пусть идет, мистер Фримен, — громко сказал Хорнблауэр, — Сейчас наша забота — «Флейм». Он принесет по десять фунтов призовых денег на человека.
Когда это было сказано, в пределах слышимости находилось несколько матросов. Они разнесут это по всему кораблю. Когда люди будут думать о призовых деньгах, у них не возникнет расположения к мятежникам.
Хорнблауэр снова обратился к «Флейму» — тот уверенно держал курс на Онфлер. Еще немного, и он окажется во власти французов. Глупо было бы доводить ситуацию до крайности, хотя в таком случае оставалось только проглотить пилюлю, признав неудачу.
— Пожалуйста, лягте в дрейф, мистер Фримен. Посмотрим, что они станут делать.
Повинуясь движению руля и парусов, «Порта Коэльи» привелась к ветру. Хорнблауэр повернул подзорную трубу так, чтобы держать «Флейм» в поле зрения. Когда маневр «Порта Коэльи» стал понятен, «Флейм» тотчас же ему последовал, приведясь к ветру и застыв в неподвижности, привлекая взор белым крестом на фор-марселе.
— Снова начинаем сближение, мистер Фримен.
«Флейм» тут же двинулся в сторону Франции.
— Намек ясен как день, мистер Фримен. Ложимся в дрейф опять.
Понятно, что мятежники не хотят, чтобы «Порта Коэльи» подходила к ним ближе, чем она находится сейчас, далеко за пределами пушечного выстрела. Они скорее сдадутся французам, чем позволят ей сократить дистанцию.
— Мистер Фримен, не будете ли вы любезны спустить для меня шлюпку? Я собираюсь отправиться на переговоры с негодяями. Это могло быть расценено как признак слабости, однако мятежники наверняка осознавали преимущества своей позиции и в сравнении с его положением. Это не откроет им ничего нового, так как они прекрасно знают, что зажали в тиски и Хорнблауэра, и лордов адмиралтейства, и даже саму Британскую империю. Фримен не выказал никаких признаков сомнения в целесообразности того, что ценный капитан отдает себя во власть бунтовщиков. Хорнблауэр спустился вниз, чтобы упаковать приказы: не исключено, что понадобится продемонстрировать мятежникам всю широту полномочий, которыми он наделен. Хотя делать это стоит только в крайнем случае — это позволит им проникнуть слишком глубоко в замыслы лордов адмиралтейства.
Когда Хорнблауэр снова поднялся на палубу, шлюпка была уже спущена, и Браун сидел у румпеля. Хорнблауэр спустился вниз и расположился на кормовой банке.
— «Загребай!» — приказал Браун. Весла зарылись в воду, и шлюпка двинулась к «Флейму», подпрыгивая на коротких волнах эстуария.
По мере приближения Хорнблауэр рассматривал бриг: он лежал в дрейфе, но Хорнблауэр мог видеть, что его орудия выдвинуты, абордажные сети натянуты, и что у него явно нет намерения позволить застать себя врасплох. Люди стояли у пушек, впередсмотрящие на мачтах, уоррент-офицер, стоящий на корме с подзорной трубой под мышкой — никаких признаков мятежа на борту.
— Эй, на шлюпке! — раздался оклик.
Браун поднял четыре пальца — общепринятый знак, означающий, что в шлюпке находится капитан — четыре пальца говорили о том, что для церемонии встречи требуются четыре человека у трапа.
— Кто вы? — спросил голос.
Браун посмотрел на Хорнблауэра, получил от него утвердительный кивок и закричал в ответ:
— Коммодор сэр Горацио Хорнблауэр, кавалер ордена Бани.
— Мы разрешаем коммодору Хорнблауэр подняться на борт, но больше — никому. Отойдите в сторону, и знайте, что в случае, если вы попробуете выкинуть какой-нибудь фокус, мы отправим вас на дно.
Хорнблауэр ухватился вант-путенсы и вскарабкался по ним наверх. Матрос приподнял абордажную сеть, чтобы он мог пробраться на палубу.
— Будьте любезны дать приказ отвести вашу шлюпку в сторону, коммодор. Нам не к чему рисковать, — сказал голос.
Голос принадлежал седому человеку с подзорной трубой под мышкой, которого он принял за вахтенного офицера. Седые волосы, спускающиеся на уши, пристальный взгляд голубых глаз, разглядывающих Хорнблауэра из под седых бровей. Единственной вещью, вносившей диссонанс в его облик, был пистолет, засунутый за пояс. Хорнблауэр повернулся и отдал необходимый приказ.
— А теперь могу ли я задать вопрос о том, что привело вас сюда, коммодор? — спросил пожилой человек.
— Я желаю поговорить с предводителем бунтовщиков.
— Я — капитан этого корабля. Можете разговаривать со мной. Меня зовут Натаниэль Свит, сэр.
— Я буду разговаривать с вами только при условии, что вы являетесь также предводителем.
— В таком случае, можете подозвать обратно свою лодку и покинуть нас, сэр.
Вот уже и тупик. Хорнблауэр не отрываясь смотрел в голубые глаза пожилого мятежника. В пределах слышимости находилось еще несколько человек, но он чувствовал, что они не выказывают никаких колебаний или сомнений, и готовы поддержать своего капитана. И все-таки возможно стоит обратиться к ним.
— Парни! — сказал Хорнблауэр, возвысив голос.
— Бросьте это! — воскликнул Свит. Он выхватил из-за пояса пистолет и нацелил его в живот Хорнблауэру. — Еще одно слово в этом духе, и я начиню вас унцией свинца.
Хорнблауэр, не дрогнув, посмотрел на него и его оружие: удивительно, но он не чувствовал страха, у него было такое чувство, что он наблюдает за движением фигур в шахматной партии, забыв про то, что сам он является пешкой, чья судьба поставлена на кон.
— Убейте меня, — сказал он с хмурой улыбкой, — и Англия не оставит вас в покое до тех пор, пока вы не будете болтаться на виселице.
— Англия послала вас сюда для того, чтобы отправить меня на виселицу, — жестко отрезал Свит.
— Нет, — сказал Хорнблауэр, — я здесь для того, чтобы призвать вас к исполнению долга перед королем и страной.
— И все будет забыто?
— Вы предстанете перед справедливым судом, вы и ваши сообщники.
— Это означает виселицу, как я и говорил, — ответил Свит — Виселицу для меня, а со мной ее будут иметь счастье разделить кое-кто из прочих.
— Честный и справедливый суд, — продолжал Хорнблауэр, — который примет во внимание все смягчающие обстоятельства.
— Единственное, что я могу допустить, — сказал Свит, — это быть свидетелем на суде против Чедвика. Полное прощение для нас — и справедливый суд над Чедвиком. Вот наши условия, сэр.
— Вы сошли с ума, — заявил Хорнблауэр, — вы лишает себя последнего шанса. Сдайтесь сейчас, освободив мистера Чедвика и сохранив корабль в должном порядке — и эти обстоятельства послужат весомым свидетельством в вашу пользу во время трибунала. Отказываясь, что вы получаете взамен? Смерть. И ничего более. Что может спасти от мести нашего государства? Ничто.
— Прошу прощения, капитан, но Бони может, — прервал его Свит.
— Вы доверяете слову Бонапарта? — произнес Хорнблауэр, лихорадочно пытаясь отразить неожиданный контрудар. — Ему нужен этот корабль, без сомнения. Но вы и ваша шайка? Бонапарт не станет поощрять мятеж — его власть слишком сильно зависит от его собственной армии. Он выдаст вас нам, чтобы показать пример.
Это был выстрел вслепую с неизвестного расстояния. И в «яблочко» он не попал. Свит засунул пистолет обратно за пояс, извлек из кармана три письма и с издевкой помахал ими перед Хорнблауэром.
— Вот письмо от военного коменданта Харбор-Грейс, — сказал он. — Здесь нам всего лишь обещают гостеприимство. А это письмо от префекта департамента Внутренней Сены. Он обещает нам снабжение водой и провизией по мере необходимости. А вот это — письмо из Парижа, пересланное нам по почте. Здесь нам гарантируется неприкосновенность, право французского гражданства, и пенсия для каждого по достижении шестидесяти лет. Оно подписано: «Мария-Луиза, императрица, королева и регентша». Бони не возьмет назад слово, данное его женой.
— Вы сообщались с берегом? — выдохнул Хорнблауэр. Он не пытался сохранить даже видимость самообладания.
— Да, сообщались, — заявил Свит. — И если бы перед вами, капитан, маячила перспектива прогона через строй флота, вы сделали бы тоже самое.
Продолжать дискуссию было бессмысленно. Мятежники были неуязвимы, по крайней мере, в данный момент. Единственные условия, к которым они готовы прислушиваться — это их собственные. На борту не было заметно никаких признаков колебаний или разобщенности. Все же не исключено, что если у них будет больше времени, чтобы поразмыслить, если у них найдется несколько часов, чтобы осознать факт, что по их следу идет сам Хорнблауэр, семена сомнения могут дать ростки. Часть экипажа может прийти к решению спасти свои шеи, вернув корабль, они могут напиться (Хорнблауэра сбивал с толку факт, почему взбунтовавшиеся английские матросы не валяются в стельку пьяные) — всякое может случиться. Однако сейчас ему предстояло совершить отход с боем, а не уползти через борт с поджатым хвостом.
— Так значит вы не только бунтовщики, но и предатели? — рявкнул он. — Я должен был этого ожидать. Мне стоило предположить, что может выкинуть такое отребье, как вы. Не хочу загрязнять свои легкие, дыша одним с вами воздухом.
Он отвернулся и окликнул шлюпку.
— Мы отребье, — сказал Свит, — которое позволяет вам уйти, в то время как могло бы отправить вас на нижнюю палубу, к Чедвику. Мы могли бы заставить вас отведать кошки-девятихвостки, коммодор сэр Горацио Хорнблауэр. Как вам это понравится, сэр? Вспомните завтра о том, что ваша шкура осталась целой только из-за того, что мы пощадили вас. Прощайте, капитан.
Яд и желчь содержались в этих последних словах — они пробудили в воображении Хорнблауэра картины, заставившие его задрожать. Пробираясь сквозь абордажную сеть, он и думать забыл о чувстве собственного достоинства.
Пока шлюпка плясала на волнах, совершая обратный путь, «Флейм» по-прежнему мирно покачивался. Хорнблауэр перевел взгляд с «Флейма» на «Порта Коэльи»: два однотипных корабля, выглядящих совершенно одинаково за исключением нашивки в виде белого креста на фор-марселе «Флейма». Какая-то ирония была в том, что даже тренированный глаз не смог бы обнаружить разницы между двумя кораблями, один из которых сохранял верность королю, а другой поднял против него открытый бунт. Размышления усиливали его горькие чувства: в своей первой попытке взять верх над мятежниками он потерпел полное и безоговорочное поражение. Он даже не принимал в расчет возможность добиться от них смягчения требований — ему приходилось выбирать между полным прощением для бунтовщиков или их переходом на сторону Бонапарта. В любом случае, это означало провал миссии — даже самый неопытный мичман на флоте мог бы сделать то же, что и он.
В запасе оставалось еще немного времени: шансов, что слухи о мятеже все-таки просочатся, было немного, но если среди смутьянов не произойдет раскол — а вероятность этого, как он видел, была чрезвычайно мала, время это будет потрачено впустую.
Шлюпка в это время находилась как раз посередине пути между двумя бригами. Имея под своей командой два таких судна, он мог бы развернуть оживленные боевые действия на побережье Нормандии. Нутром он чувствовал, что мог бы перевернуть вверх тормашками весь эстуарий Сены. Ощущение горечи нарастало в нем все сильнее, и вдруг исчезло. Ему в голову пришла одна идея, а вместе с ней появились хорошо знакомые симптомы: сухость во рту, дрожь в ногах, учащенное сердцебиение. Его взгляд перемещался с одного брига на другой, он чувствовал, как внутри него нарастает возбуждение, сами собой в голове его уже были готовы подсчеты влияния ветра, прилива и времени восхода солнца.
— Гребите сильнее, ребята, — обратился он к шлюпочной команде, и они подчинились, но в том состоянии, в котором он теперь находился, никакая скорость катера не могла его удовлетворить.
Браун исподволь наблюдал за ним, заинтригованный тем, какой же план пришел в голову капитану — сам он, будучи знаком с обстоятельствами в той же степени как и Хорнблауэр, не видел никакого возможного разрешения ситуации. Все, что он мог заметить, это то, что капитан снова и снова оглядывается на мятежный бриг.
— Суши весла! — скомандовал гребцам Браун, когда вахтенный офицер дал шлюпке сигнал подойти к борту. Матрос на носу закрепил канат, и Хорнблауэр взобрался на борт брига с поспешностью, которую ему не удалось скрыть. Фримен ждал его на квартердеке, и, едва поприветствовав его, Хорнблауэр отдал первое приказание.
— Не позовете ли вы парусного мастера, мистер Фримен? А также я хочу видеть его помощников, и всех матросов, которые умеют обращаться с иглой и наперстком.
— Есть, сэр.
Приказ есть приказ, даже если он касается таких малозначащих дел, как изготовление парусов, в такой момент, когда идут переговоры с бунтовщиками. Хорнблауэр пристально смотрел на «Флейм», все еще лежавший в дрейфе на дистанции, превышавшей расстояние пушечного выстрела. Мятежники занимали выгодную, сильную позицию, на которою нельзя было наступать с фронта, а обойти с флангов тоже не представлялось возможным. Чтобы изменить ситуацию, необходимо использовать искусный обходной маневр, вполне возможно, что план такового был у него на примете. На стороне Хорнблауэр оказались довольно странные обстоятельства, цепь удачных совпадений. Его делом было воспользоваться ими, выжать из них все, что возможно. Шансы были сомнительными, но он обязан был сделать все возможное, чтобы свести этот риск к минимуму. Везучий человек — этот тот, кто знает, как много он может предоставить случаю.
Его распоряжений дожидался сутуловатый моряк, рядом с которым стоял Фримен.
— Свенсон, помощник парусного мастера, сэр.
— Спасибо, мистер Фримен. Вы видите этот фор-марсель с заплаткой? Свенсон, поглядите-ка на него повнимательнее через подзорную трубу.
Парусный мастер-швед взял своими заскорузлыми руками подзорную трубу и приложил ее к глазу.
— Мистер Фримен, я хочу, чтобы у «Порта Коэльи» был точно такой же фор-марсель, так чтобы никто не мог обнаружить между ними ни малейшей разницы. Это можно устроить?
Фримен посмотрел на Свенсона.
— Да, сэр, я могу это сделать, — сказал Свенсон, переводя взгляд с Фримена на Хорнблауэра и обратно. — У нас найдется кусок белой парусины и старый фор-марсель. Я смогу это сделать.
— Мне нужно, чтобы все было готово к четырем склянкам послеобеденной вахты. Принимайтесь за работу немедленно.
За спиной Свенсона собралась небольшая группа людей — это были те члены команды, которые, как было установлено в ходе расспросов, имели опыт изготовления парусов. На лицах некоторых можно было заметить широкие улыбки — Хорнблауэр чувствовал, что при его необычном требовании среди экипажа распространилось оживление и предвкушение чего-то интересного, словно рябь, расходящаяся по глади пруда от брошенного камня.
Никто пока не мог четко представить себе, что за план зреет в голове у Хорнблауэра, но они понимали, что он замыслил какую-то дьявольскую хитрость. Знание — лучший стимул для поддержания на корабле дисциплины и довольства команды, чем обычная рутина судовой жизни.
— Теперь слушайте, мистер Фримен, — сказал Хорнблауэр, поворачиваясь к поручням. — Вот что я думаю. «Флейм» и «Порта Коэльи» похожи как две капли воды, и это сходство еще более усилится, когда мы поставим такой же фор-марсель. Мятежники вошли в сношения с берегом — они сказали мне об этом. Более того, мистер Фримен, место, с которым они сообщаются — это Гавр — Харбор-Грейс, мистер Фримен. Бони и губернатор обещали им деньги и защиту в случае, если они сдадут «Флейм». Мы войдем туда вместо них. Там должен находится вест-индиец, прибывший утром.
— Мы уведем его, сэр!
— Возможно. Одному Богу известно, с чем мы встретимся там, но мы должны быть готовы ко всему. Отберите двадцать матросов и офицера — людей, на которых вы можете положиться. Проинструктируйте каждого, что он должен делать в случае, если мы захватим приз: нижние паруса, марсели, штурвал, перерезать канаты — вы это все знаете не хуже меня. К тому времени, когда мы подойдем — в случае, если ветер не переменится, а я не думаю, что это случится, должны наступить сумерки. Будет нелепо, если в темноте мы не сможем сотворить ничего такого, что досадило бы лягушатникам.
— Бог мой, сэр, а они будут думать, что это мятежники! Они сочтут, что мятеж — это всего лишь военная хитрость! Они…
— Надеюсь, что так они и подумают, мистер Фримен.
Глава 6
День уже клонился к вечеру, когда «Порта Коэльи», по видимости, так и не принявшая никакого решения, стала удаляться от «Флейма» и пересекла широкий эстуарий, используя свежий ветер с левого траверза. Погода была по-прежнему пасмурной, и, когда она находилась на достаточно большом расстоянии как от «Флейма», так и от Гавра, так что различить детали не представлялось возможным, ее фор-марсель был спущен и заменен на новый — с крестом, который охваченная энтузиазмом группа матросов держала наготове под фок-мачтой. С помощью кисти и краски одно название на борту было торопливо заменено другим, Хорнблауэр и Фримен одели поверх мундиров бушлаты, чтобы скрыть свой ранг. Пока они входили в гавань, Фримен не отрывал глаз от подзорной трубы.
— Вот индиец, сэр. На якоре. А вот лихтер у его борта. Разумеется, они не станут выгружать его на причал. Не здесь, сэр. Они перевалят груз на лихтеры и баржи и отправят их вверх по реке, в Руан и Париж. Конечно, так они и поступят. Я должен был подумать об этом раньше.
Хорнблауэр об этом уже подумал. Его объектив был направлен на оборонительные сооружения города: форты Сент-Адресс и Турневиль на обрывистых кручах, нависающих над городом, башни-близнецы маяка мыса де ла Эв, на которых вот уже лет десять не зажигали огней, батареи, расположенные в низине за старой пристанью. Именно последние представляли наибольшую опасность для предприятия — он рассчитывал, что большие форты наверху не успеют разобраться в происходящем под ними достаточно быстро, чтобы открыть огонь.
— Там, дальше, еще много судов, сэр, — продолжал Фримен. — Возможно, среди них есть даже линейные корабли. Реи спущены. Никогда не видел их так близко раньше.
Хорнблауэр посмотрел на закатное небо. Темнело быстро, и затянутый пеленой облаков горизонт не обещал проясниться. Ему требовалось достаточно света для того, чтобы войти в гавань, и достаточно темноты, чтобы прикрыть его на обратном пути.
— К нам направляется лоцманский люггер, сэр, — сказал Фримен. — Они принимают нас за «Флейм», все в порядке.
— Очень хорошо, мистер Фримен. Пошлите людей к борту, пусть покричат. Обезвредьте лоцмана, когда он поднимется на борт. Я буду вести корабль.
— Есть, сэр.
Этот приказ был из числа тех, что по вкусу британским морякам. Они принялись исполнять его с душой, столпившись у фальшборта, вопили, словно лунатики, размахивали шапками, ухарски приплясывали, как этого и следовало ожидать от шайки мятежников. «Порта Коэльи» обстенила грот-марсель, люггер подошел к борту, и лоцман стал забираться наверх по вант-путенсам.
— На брасы! — проревел Хорнблауэр. Грот-марсель вновь забрал ветер, штурвал повернулся, и «Порта Коэльи» вошла в гавань. Тем временем Фримен, упершись лоцману плечом промеж лопаток, ловко столкнул того через люк вниз, где двое матросов подхватили его и связали.
— Лоцман под охраной, сэр, — доложил Фримен.
Его тоже, без сомнения, захватило чувство общего возбуждения, передававшееся благодаря суматохе, устроенной матросами, свойственное ему выражение веселой иронии полностью исчезло.
— Чуть правее, — сказал Хорнблауэр рулевому. — Так держать!
Каким страшным позором будет, если все его великие надежды разобьются о песчаную банку, охраняющую вход в порт. Хорнблауэру казалось, что он никогда уже не сможет вновь обрести хладнокровие.
— К нам идет куттер, сэр, — сообщил Фримен. Возможно, это делегация встречающих, или им дадут указание, где можно встать на якорь. Не исключено, что и то и другое одновременно.
— Прикажите матросам вопить снова, — приказал Хорнблауэр. — Захватите тех, кто поднимется на борт.
— Есть, сэр.
Они приближались к «индийцу», который стоял, со спущенными парусами, ворочаясь на своем единственном якоре. Рядом с ним стоял лихтер, но было очевидно, что работы по разгрузке далеко пока не продвинулись. В свете сумерек Хорнблауэр мог различить с десяток моряков, стоящих у борта «индийца» и с интересом пялящихся на них. Хорнблауэр снова обстенил грот-марсель, куттер подошел к борту, и на палубу «Порта Коэльи» поднялись около полудюжины чиновников, мундиры которых свидетельствовали о принадлежности к флоту, армии и таможенной службе. Они медленно двинулись по направлению к Хорнблауэру, который с интересом разглядывал их, впрочем, как и они его. Хорнблауэр отдал приказ снова дать ход, и когда в сгущающейся темноте они отошли от куттера, повернул «Порта Коэльи» и направил ее к «индийцу». Среди вновь прибывших вдруг засверкали лезвия кортиков.
— Один звук, и вы покойники, — сказал Фримен.
Кто-то издал звук, разразившись многословным протестом. Один из матросов ударил его рукояткой пистолета по голове, и протест резко оборвался, так как протестующий рухнул на палубу. Остальных затолкали в люк, они были слишком ошеломлены и испуганы, чтобы говорить.
— Прекрасно, мистер Фримен, — произнес Хорнблауэр, говоря нарочито медленно, чтобы создать впечатление что здесь, в центре вражеской гавани, он чувствует себя как дома. — Можете спускать шлюпки. Убрать грот-марсель.
Береговые власти станут наблюдать за действиями брига в неверном свете уходящего дня. В случае, если «Порта Коэльи» сделает нечто неожиданное, они, не предпринимая мер, будут гадать, что за непредвиденные обстоятельства на борту заставили представителя начальника порта (который, связанный и с кляпом во рту, лежал в это самое время в трюме) изменить свои планы. «Порта Коэльи» остановилась, заскрипели шкивы, спуская шлюпки на воду, и шлюпочные команды из отборных матросов заняли свои места. Хорнблауэр перегнулся через борт:
— Помните, ребята, ни единого выстрела!
Весла ударили по воде, и шлюпки помчались к «индийцу». Стало уже почти совсем темно, Хорнблауэр едва мог различить шлюпки у борта «индийца», находившиеся в пятидесяти ярдах, и не мог видеть людей, лезших на его палубу. До него донеслось несколько приглушенных восклицаний и затем один громкий крик — это может озадачить людей на берегу, но вряд ли насторожит их. Вот возвращаются лодки, в каждой по два человека, отряженных для этого дела. Заброшены концы, шлюпки поднимаются наверх. Сквозь скрип блоков он слышал хруст, доносящийся с «индийца», а также один или два глухих удара — это матрос, отряженный перерубить якорный канат, делал свое дело, и при этом не забыл прихватить с собой топор, когда карабкался на борт судна. Хорнблауэр почувствовал удовлетворение от хорошо сделанной работы: тщательный инструктаж, проведенный им после полудня с абордажной партией, детальная роспись действий каждого отдельного человека, разжевывание приказов до тех пор, пока каждому не стала ясна его роль в предстоящем действе, приносили теперь свои плоды.
На фоне затянутого пеленой неба он мог различить, что паруса «индийца» сменили очертания — их ставили предназначенные для этого люди. Благодарение Богу за то, что есть такие превосходные моряки, которые в темноте, на незнакомом корабле, способны правильно найти свои места и определить нужные снасти без малейшей заминки. Хорнблауэр видел, как повернулись реи на «индийце», у его борта появилось и стало быстро разрастаться темное пятно — лихтер был отшвартован и его относило прочь.
— Поворот фордевинд, если вы не против, мистер Фримен, — сказал он, — «индиец» последует за нами.
«Порта Коэльи» набрала ход и направилась к юго-восточному выходу из гавани, «индиец» шел прямо за ее кормой. Несколько долгих секунд не наблюдалось никакого интереса, вызванного этими действиями. Затем их окликнули, очевидно, с куттера, доставившего на борт чиновников. Прошло столько времени с тех пор, как Хорнблауэр слышал французскую речь или говорил по-французски, что он не смог уловить смысл сказанного.
— Comment?[13] — прокричал он в рупор.
Раздраженный голос переспросил, что, черт побери, они делают?
— Якорная стоянка — бу-бу-бу — течение — бу-бу-бу — прилив, — проорал в ответ Хорнблауэр.
На этот раз неизвестный на куттере вместо упоминания о черте обратился к Богу:
— Во имя Господа, кто это?
— Бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу, — пробубнил Хорнблауэр в ответ, затем спокойно бросил рулевому:
— Немного левее.
В одно и то же время поддерживать разговор с французскими властями и вести судно незнакомым фарватером — это, несмотря на то, что недавно он освежил память, взглянув на карту — было очень трудно.
— Ложитесь в дрейф! — раздался приказ.
— Пардон, капитан, — закричал Хорнблауэр. — Бу-бу-бу — якорный канат бу-бу-бу — не имеем возможности.
С куттера снова раздался крик, полный ярости.
— Так держать, — бросил Хорнблауэр рулевому. — Мистер Фримен, отрядите матроса на лот, если вам не трудно.
Он понимал, что возможность выиграть драгоценные секунды будет утрачена: как только лотовый начнет выкрикивать глубину, открыв таким образом намерение брига улизнуть, береговые власти придут в совершенное беспокойство. Вспышка яркого света разорвала пелену тумана, и над водой прокатился звук мушкетного выстрела — куттер использовал самый быстрый способ привлечь внимание береговых батарей.
— По местам стоять, к повороту! — прохрипел Хорнблауэр: это был самый ответственный момент при форсировании прохода.
Паруса брига заполоскали при повороте, внезапно в темноте возник язык багрового пламени и раздался выстрел шестифунтового погонного орудия с куттера, наконец-то прочищенного и заряженного. Звука ядра Хорнблауэр не услышал. Он озабоченно посмотрел назад, на «индийца», едва различимого в кильватере брига. Тот продолжал уверенно следовать своим курсом. Этот помощник штурмана — Кэлверли — которого Фримен рекомендовал назначить командиром абордажной партии, оказался способным офицером, и его нужно не забыть отметить в рапорте, когда подойдет время заниматься этим.
А затем с мола последовала череда вспышек и раскатистых ударов: береговые батареи наконец открыли огонь. Звук последнего выстрела сразу же сменился свистом пролетевшего рядом ядра — Хорнблауэру, впрочем, хватило времени, чтобы отметить, как сильно он ненавидит этот звук. Они огибали мол, и в течение нескольких минут им придется находиться в пределах досягаемости орудий. Пока ни у брига, ни у «индийца» не было заметно повреждений. Не было смысла и открывать ответный огонь, так как легкие шестифунтовки брига не принесут вреда мощной батарее, в то время как вспышки выстрелов будут выдавать местоположение судов. Он следил за докладами лотового: должно пройти еще несколько минут, прежде чем он сможет лечь на другой галс и оставить мол позади. С другой стороны, прошло немало времени, чем батарея дала следующий залп. Бонапарт, должно быть, изрядно пощипал силы береговой обороны, забрав опытных артиллеристов в свою германскую армию, неподготовленные рекруты, вызванные к орудиям по тревоге, вынужденные работать в темноте, конечно, не проявят необходимой сноровки. Вот и залп: вспышки и грохот, но на этот раз свиста пролетающих ядер слышно не было — возможно, пушкари полностью утратили представления о дистанции и угле возвышения, что было довольно несложно во тьме. А вспышки от выстрелов позволили Хорнблауэр точнее определить свое местонахождение.
С бака раздался крик впередсмотрящего, и Хорнблауэр, вглядевшись вперед, сумел различить темный прямоугольник грота лоцманского люггера, находившегося справа по носу от них. Он пытался помешать бегству брига.
— Прямо! — скомандовал Хорнблауэр рулевому.
Побеждает сильнейший: когда бриг и люггер столкнулись, приняв удар каждый своей правой скулой, раздался громкий треск. Бриг вздрогнул, накренился, и пошел дальше, люггер со скрежетом протащило вдоль его борта. Корабли разошлись, разорвав спутавшиеся снасти, и с люггера донесся слабый крик отчаяния. Нос маленького судна, должно быть, смяло при таком ударе, словно яичную скорлупу, и вода хлынула внутрь. Крики смолкли, Хорнблауэр отчетливо слышал, как один из них резко оборвался, как бывает, когда отчаявшийся пловец начинает захлебываться. «Индиец» по-прежнему держался в кильватере брига.
— Отметка восемь! — отрапортовал лотовый.
Теперь он мог лечь на другой галс, Пока он отдавал приказ, батарея на моле снова разразилась бесполезным залпом. Когда прислуга сумеет заново зарядить орудия, они будут уже вне досягаемости.
— Недурно сделано, мистер Фримен, — громко сказал Хорнблауэр. — Весь экипаж выполнил свои обязанности превосходно.
Кто-то в темноте закричал «ура!», крик был подхвачен по всему бригу. Люди орали как сумасшедшие.
— Хорни! Старина Хорни! — закричал кто-то, и «ура!» снова прокатилось по кораблю.
Звуки, доносившиеся с кормы, свидетельствовали о том, что малочисленная призовая команда «индийца» присоединилась к ним. Хорнблауэр неожиданно почувствовал, что у него защипало в глазах, но затем в его ощущениях произошел новый переворот. Он чувствовал легкие угрызения совести из-за того, что проявление чувств со стороны этих простофиль так тронули его. Кроме того…
— Мистер Фримен, — жестко сказал он, — будьте любезны успокоить команду.
Риск, которого он избежал только что, был огромным. Не только из-за опасности, которой он подвергал свою жизнь, но из-за опасности, которой он подвергал свою репутацию. Если бы он потерпел неудачу, если бы «Порта Коэльи» получила повреждения и была захвачена, никто не стал бы принимать во внимание истинные мотивы его поступка, которые заключались в том, чтобы убедить французские власти, что мятеж на «Флейме» — это всего лишь уловка, направленная но то, чтобы дать возможность бригу проникнуть в гавань. Нет, люди сказали бы, что Хорнблауэр использовал мятеж, чтобы набить свои карманы, потерял бриг и оставил бунтовщиков безнаказанными единственно из стремления получить призовые деньги. Вот что они бы сказали — и видимые обстоятельства лишь подтверждали бы этот вывод. И тогда репутация Хорнблауэра оказалась бы запятнанной навсегда. Он рисковал не только жизнью и свободой, но и честью. Он сыграл ва-банк, поставив на кон огромную ставку в надежде на ничтожный выигрыш, Он поступил как идиот, каковым, впрочем, и являлся.
Потом волна черных мыслей схлынула. Он пошел на рассчитанный риск, и расчет оказался верным. Пройдет немало времени, прежде чем мятежникам удастся восстановить отношения с французскими властями — если такое вообще случиться: Хорнблауэр представлял, как в этот самый момент к постам береговой обороны в Онфлере и Кане спешат гонцы, чтобы предупредить их об опасности. Он лишил позицию мятежников выгоды, отрезав им пути отступления. Он подергал Бонапарта за усы прямо под жерлами пушек, охраняющих вход в реку, протекающую через его столицу. И кроме того, взял приз — когда подойдет время делить призовые деньги, его доля составит, по меньшей мере, тысячу фунтов, а тысяча фунтов — немалая, весьма приятная сумма. Они с Барбарой найдут, как ее использовать.
Возбуждение и волнение опустошили его. Он открыл было рот, чтобы сказать Фримену, что собирается спуститься вниз, но одернул себя. Эти слова были бы излишними: если Фримен не найдет его на палубе, то легко поймет, что Хорнблауэр находится в своей каюте. Он устало поплелся к своей койке.
Глава 7
— Мистер Фримен передает вам наилучшие пожелания, — сказал Браун, — и велит сказать вам, что рассвет только что наступил, погода ясная, сэр. Ветер умеренный, в течение ночи зашел от юга к западу, сэр. Мы лежим в дрейфе, как и приз, сейчас наступила последняя фаза прилива, сэр.
— Очень хорошо, — произнес Хорнблауэр, выкатываясь из койки. Он еще не отошел от сна, и крохотная каюта казалась душной, несмотря на открытое кормовое окно.
— Я приму ванну, — сказал Хорнблауэр, придя к внезапному решению. — Ступайте и оснастите палубную помпу.
Он чувствовал себя грязным — и хотя это был ноябрь в Ла-Манше, не представлял себе, как сможет прожить еще день, не приняв ванну. Когда он поднимался наверх через люк, до ушей его донеслись несколько удивленных и шутливых реплик, которыми матросы, отправленные снаряжать помпу, сопровождали свою работу, но не обратил на них внимания. Он сбросил одежду, и озадаченный и обеспокоенный матрос направил на него парусиновый рукав, в то время как другой встал к помпе. Невыносимо холодная морская вода обжигала обнаженную кожу, заставляя гротескно подпрыгивать и пританцовывать, хватая ртом воздух. Матрос не понял его знака остановить купание, а когда он попытался отбежать в сторону, пошел следом за ним по палубе.
— Эй вы, там, отставить! — закричал Хорнблауэр в отчаянии, наполовину замерзший и захлебнувшийся, и безжалостный поток прекратил изливаться.
Браун обмотал его вафельным полотенцем и Хорнблауэр стал растирать покрывшуюся мурашками кожу, одновременно ежась и подпрыгивая из-за холода.
— Если бы я попробовал такое, то продрог бы на неделю вперед, сэр, — сказал Фримен, с интересом наблюдавший за происходящим.
— Да, — сказал Хорнблауэр, обрывая разговор.
Когда он одевался в каюте, кожа его блестела чистотой. Иллюминатор был закрыт, и дрожь в теле утихла. Он с жадностью выпил дымящийся кофе, поданный ему Брауном, испытывая невероятное удовольствие, и ощущение радости бытия неожиданно заполнило его. С легким сердцем он снова поднялся на палубу. Рассвет стал уже явственным: можно было разглядеть захваченного «индийца», лежащего в дрейфе под ветром на дистанции половины пушечного выстрела.
— Приказания, сэр Горацио? — сказал Фримен, прикасаясь к шляпе.
Хорнблауэр огляделся вокруг, протягивая время. К своему стыду, он совершенно забыл о делах — с того времени, как он проснулся, ему даже на секунду не пришла в голову подобная мысль, а если точнее — с тех пор, как отправился спать. Следовало немедленно отдать приказ отправить приз в Англию, однако он не мог этого сделать, не послав вместе с ним письменный рапорт, а в этот момент сама мысль о том, чтобы засесть за написание рапорта была ему ненавистна.
— Пленники, сэр, — подсказал Фримен.
О Боже, он забыл про пленников. Их нужно допросить и осмыслить то, что они могут рассказать. Наряду с чувством радости бытия Хорнблауэра обуял приступ лени — довольно странное сочетание.
— Они могут многое сообщить, сэр, — безжалостно продолжал Фримен. — Лоцман немного говорит по-английски, и мы вчера допросили его в кают-кампании. Он говорит, что Бони опять побили. У города, который называется Лейпциг, или что-то в этом роде. Говорит, что русские через неделю будут за Рейном. Бони уже вернулся в Париж. Может быть, это конец войны.
Хорнблауэр и Фримен обменялись взглядами — прошел уже целый год с тех, как весь мир стал ждать конца войны, сколько надежд взросло и рухнуло за этот год. Но русские на Рейне! Хотя проникновение английской армии на территорию Франции на юге и не привело к потрясению Империи, за этим новым вторжением вполне может последовать такой результат. Существовали также предсказания — некоторые из них принадлежали Хорнблауэру, гласившие, что поражение Бонапарта на поле боя положит конец как его репутации непобедимого полководца, так и его правлению. Эти предсказания насчет вторжения в империю тоже могут оказаться неточными.
— Парус! — закричал впередсмотрящий, — Это «Флейм», сэр.
Он был там же, где и раньше. Разрыв в пелене тумана сделал его видимым на мгновение, а затем он снова скрылся, пока новый порыв ветра не развеял туман и не позволил увидеть корабль снова. Хорнблауэр принял решение, которое так долго не осмеливался принять.
— Приготовьте корабль к бою, мистер Фримен. Мы отправляемся на захват.
Без сомнения, это единственное, что нужно было делать. В течение предыдущей ночи, не более, чем час спустя после увода «индийца», во все близлежащие французские порты была послана весть, что британский бриг с белым крестом на марселе ведет двойную игру, только маскируясь под мятежное судно. Новости должны были достичь этой стороны эстуария в полночь — курьер мог воспользоваться паромной переправой у Кильбефа или где-нибудь еще. Все будут настороже в ожидании следующего удара, а этот берег реки являлся наиболее предпочтительным местом. Любое промедление давало мятежникам возможность восстановить связь с берегом и урегулировать ситуацию: если береговые власти узнают, что в заливе Сены находятся два однотипных брига, у бунтовщиков появится шанс решить проблему. Нельзя терять ни минуты. Все это было логичным и само собой разумеющимся, и все же Хорнблауэр, стоя на квартердеке, поймал себя на том, что в горле у него стоит комок. Это могло означать лишь отчаянный бой один на один — и он окажется в самой его гуще не далее, как через час. Над палубой, по которой он сейчас расхаживает, будет свистеть картечь из карронад «Флейма», не далее, чем через час он может быть уже мертв или будет корчиться под ножом хирурга. Прошедшей ночью он смотрел в глаза провала, этим утром ему предстоит заглянуть в глаза смерти. То ощущение радостной теплоты, которое породило в нем купание, исчезло без следа, так что он отметил про себя, что едва не дрожит от утреннего холода.
Он сжался в припадке презрения к себе, и принудил себя шагать по маленькому квартердеку размашисто и бодро. Воспоминания лишают его мужества, говорил он себе. Воспоминания о Ричарде, семянящем рядом с ним в лучах заката, крепко уцепившись за его палец, воспоминания о Барбаре, даже воспоминания о Смоллбридже или Бонд-Стрит — он не хотел отрываться от всего этого, «покинуть милые пределы радостного дня».[14] Он хотел жить, а скоро может умереть.
«Флейм» добавил парусов, поставив грота-трисель и кливера, идя круто к ветру, он может достигнуть Онфлера даже не попав в пределы досягаемости пушек «Порта Коэльи». Когда Хорнблауэр, против воли, заинтересовался решением тактических аспектов лежащей перед ним проблемы, его страхи оказались оттесненными на задворки его беспокойного ума.
— Позаботьтесь, чтобы матросы позавтракали, если вы не против, мистер Фримен, — сказал он. — И будет лучше, если орудия пока не будут выдвинуты.
— Есть, сэр.
Их может ожидать тяжелая, долгая битва, и люди сначала должны позавтракать. А выкатывание пушек сделает очевидным для команды «Флейма», что «Порта Коэльи» готовится к бою, и предупредит их, что, возможно, бегство их под защиту французов не будет простым делом. Чем сильнее будет эффект неожиданности, тем больше шансов на легкую победу. Через подзорную трубу Хорнблауэр бросал на «Флейм» яростные взгляды. Он испытывал тупую, холодную ярость по отношению к мятежникам, которые послужили причиной всех этих бед, чей безумный поступок подвергал его жизнь опасности. Симпатия, которую он испытывал к ним, сидя в безопасности к Адмиралтействе, теперь сменилась жестокой ненавистью. «Мерзавцы заслуживают виселицы», — мысль эта подняла его настроение, так что он смог улыбнуться, встретившись глазами с Фрименом, который докладывал о готовности брига к бою.
— Очень хорошо, мистер Фримен.
От возбуждения его глаза засверкали, он снова посмотрел на «Флейм». В этот момент с грот-мачты донесся крик:
— Эй, на палубе! Там от берега отваливает целая туча маленьких суденышек, сэр. Похоже, они направляются к «Флейму», сэр.
Мятежный бриг намеревался устроить то же самое представление, что и накануне, держась вне досягаемости пушек «Порта Коэльи» и направляясь к французскому берегу, готовый скорее укрыться под его защитой, чем принять бой. Бунтовщики должно быть, полагали, что флотилия малых судов — делегация встречающих, направляющаяся сопровождать их. Кроме этого, туман способен был снова скрыть их из виду в любой момент. Грот «Флейма» заполоскал, лишившись ветра: все действия брига выдавали нарастающую нерешительность. Вероятно, на его квартердеке шел оживленный спор: часть экипажа настаивала на том, чтобы не подпускать «Порта Коэльи» на расстояние выстрела, другая не решалась пойти на столь необратимый шаг, как сдача французам. Не исключено, что была и третья партия — настаивающая на том, чтобы повернуть и дать бой, а быть может, даже и четвертая, состоявшая из самых умеренных и наименее виновных, который предпочли бы сдаться и положиться на милость военного трибунала. Мнения в совете, однозначно, разделились. Парус снова наполнился, и бриг направился прямым курсом к Онфлеру и приближающимся канонерским лодкам. Его и «Порта Коэльи» разделяли добрых две мили.
— Канонерки приближаются к нему, сэр, — сказал Фримен, не отрываясь от подзорной трубы, — и этот шасс-маре — люггер, битком набитый людьми. Господи! Выстрел!
Кто-то на «Флейме» произвел предупредительный выстрел, видимо, чтобы дать понять французам, что им стоит держаться на расстоянии, пока дебаты на палубе брига не закончатся принятием какого-либо решения. Затем он стал поворачивать, как если бы осознал вдруг враждебные намерения французов, но в ходе поворота суденышки бросились на него, словно гончие на оленя. Прозвучало с полдюжины выстрелов, слишком разрозненных, чтобы называться бортовым залпом. Канонерки направились прямо к кораблю, выставленные весла, по шесть с каждой стороны, придавали им дополнительную скорость и маневренность. Над носом у них выросли облака дыма, и над водой прокатился низкий, глубокий грохот залпа установленных на них двадцатичетырехфунтовых орудий — звук, совершенно отличающийся от высокого, резкого лая карронад «Флейма». К борту последнего подскочил люггер, и через подзорную трубу Хорнблауэр мог наблюдать, как на палубу брига ринулась абордажная партия.
— Выдвигайте орудия, мистер Фримен, — сказал он.
Ситуация развивалась с пугающей быстротой — он не предвидел ничего подобного. Впереди шла отчаянная схватка, но это была, если уж на то пошло, схватка с французами, а не с англичанами. На палубе «Флейма» можно было различить облачка дыма: по крайней мере часть экипажа пытается оказать сопротивление. Он сделал несколько шагов вперед и обратился к пушкарям:
— Послушайте, ребята. Когда мы окажемся среди канонерок, мы должны потопить их. Для каждой будет достаточно одного бортового залпа, если вы постараетесь. Цельтесь вернее, в основание мачт. Не стреляйте до тех пор, пока не будете уверены, что попадете.
— Есть, сэр, — раздалось в ответ несколько голосов.
К Хорнблауэру подошел Браун.
— Ваши пистолеты, сэр. Я перезарядил их и оснастил новыми капсюлями.
— Спасибо, — сказал Хорнблауэр. Он засунул пистолеты за пояс рукоятями в разные стороны, чтобы при необходимости было удобно выхватить их соответствующей рукой. Это было похоже на ребяческую игру в пиратов, но не пройдет и пяти минут, и может случиться, что жизнь его будет зависеть от этих пистолетов. Он наполовину вытащил шпагу, чтобы удостовериться, что она свободно движется в ножнах, и, уже спеша назад, чтобы вновь занять свое место у штурвала, вогнал ее обратно.
— Немного круче к ветру, — скомандовал он, — так держать!
«Флейм» привелся к ветру и подался назад — очевидно, у руля в этот момент никого не было. Люггер все еще стоял у его борта, а четыре канонерки, убрав паруса и положившись на весла, стремились занять позицию между «Порта Коэльи» и двумя кораблями. Хорнблауэр видел, как орудийные расчеты хлопотали у установленных на носу суденышек двадцатичетырехфунтовок.
— Мистер Фримен, людей к парусам. Я намерен вклиниться между ними — вот сюда. К орудиям, парни! Теперь поворачивай!
Штурвал был переложен, и «Порта Коэльи» почти легла на другой галс, послушно, как только этого можно было желать. Хорнблауэр услышал грохот выстрела, раздавшегося впереди, и на палубу обрушился дождь щепок из образовавшейся в районе грот-мачты дыры: двадцатичетырехфунтовое ядро, выпущенное при малом угле возвышения, пронизало тонкую обшивку навылет и пробило палубу.
— Готовсь! К повороту! — закричал Хорнблауэр, и «Порта Коэльи» вновь изменила курс, направляясь в узкий проход между двумя канонерками. Ее карронады по обоим бортам разразились серией последовательных выстрелов. Хорнблауэр посмотрел направо, наблюдая за одной из канонерок. Он видел ее: полдюжины людей стояло на корме, у румпеля, в середине моряки на веслах, по два у каждого, лихорадочно старались развернуть судно, дюжина других толпилась у пушки на носу. Какой-то человек с красным платком вокруг шеи стоял у мачты, держась за нее рукой — Хорнблауэр видел, как отвисла у него челюсть, когда тот понял, что пришел его смертный час. Раздались выстрелы. Человек с красным платком исчез: может быть, его снесло за борт, а скорее всего — разнесло на клочки. Хрупкий корпус канонерки, представлявшей собой ничто иное, как большую гребную шлюпку, усиленную для установки орудия, разломился: ядра оставляли огромные пробоины в ее борту, словно орудовал громадным молотом. Ее стало заливать прямо на глазах: при отрицательном угле возвышения ядра, прошив борт, должно быть, проламывали днище канонерки. Масса орудия на носу сыграла свою роль: устойчивость судна нарушилась, и бак его уже погрузился, в то время как корма еще торчала над водой. Затем пушка сорвалась со станка, и, избавленная от ее веса, канонерка выровнялась на мгновение, перед тем, как затонуть. Несколько человек плавали среди обломков. Хорнблауэр подошел к левому борту: другая канонерка была повреждена также сильно, и едва возвышалась над поверхностью, остатки экипажа плавали вокруг нее. Кто бы не командовал этими канонерками, он был круглым дураком, подставляя эти хрупкие суденышки под огонь настоящего военного корабля — пусть даже такого маленького как «Порта Коэльи», если тот управляется должным образом. Использовать канлодки имело смысл только для того, чтобы добивать корабли, севшие на мель или лишившиеся мачт.
Люггер и «Флейм», как и прежде стоявшие борт к борту, находились прямо перед ними.
— Мистер Фримен, прикажите зарядить картечью. Мы пройдем вдоль француза. Один бортовой залп, и идем на абордаж под покровом дыма.
— Есть, сэр.
Фримен повернулся, чтобы отдать приказы.
— Мистер Фримен, включите в абордажную партию всех, кого возможно. Вы останетесь здесь…
— Но, сэр!
— Вы останетесь здесь. Держите наготове шесть человек, чтобы оттолкнуться от француза в случае, если мы не вернемся. Это ясно, мистер Фримен?
— Да, сэр Горацио.
Пока «Порта Коэльи» не подошла к французу, у них еще оставалось достаточно времени, чтобы Фримен успел подготовиться. Времени было достаточно, чтобы Хорнблауэр с удивлением осознал, что слова о том, что они могут не вернуться, были истиной, а не бравадой, чтобы поднять дух людей. Как ни странно, но он, человек, боявшийся даже тени, твердо решил победить или умереть. Когда «Порта Коэльи» подошла к французу, чье имя — «Бон Селестин» из Онфлера можно было теперь различить на корме, люди дико закричали. На борту виднелись синие мундиры и белые бриджи: солдаты. Значит верно, что Бонапарт, нуждаясь в опытных артиллеристах, вынужден был рекрутировать моряков в армию, заменяя их рекрутами-солдатами. Жаль, что схватка происходит не в открытом море, где большинство из них страдали бы от морской болезни.
— Становимся бортом к нему, — сказал Хорнблауэр рулевому. На палубе «Бон Селестин» царила паника: можно было увидеть, как люди бегут к пушкам на свободной стороне.
— Тихо, ребята! — рявкнул Хорнблауэр, — Тихо!
На бриге воцарилась тишина, Хорнблауэру даже не требовалось повышать голос, чтобы быть услышанным в любом месте маленькой палубы.
— Берегите каждый выстрел, пушкари, — сказал Хорнблауэр. — Абордажная партия, вы готовы идти за мной?
Новый крик был ему ответом. Тридцать человек, вооруженных пиками и кортиками собрались у фальшборта; когда будет сделан бортовой залп и спущен грот, освободится еще тридцать — не слишком много, если только залп не приведет к большим потерям и необученные новобранцы на «Бон Селестин» не дрогнут. Хорнблауэр бросил взгляд на рулевого, седобородого моряка, который в одно и то же время хладнокровно высчитывал дистанцию между двумя кораблями, и не спускал глаз с грота, по мере того, как тот заполоскал и «Порта Коэльи» привелась к ветру. «Хороший моряк», — сделал себе в уме зарубку Хорнблауэр, чтобы не забыть отметить это в рапорте. Рулевой завертел штурвал.
— Спустить грот, — скомандовал Фримен.
Оглушающее рявкнули пушки «Бон Селестин», и Хорнблауэр почувствовал, как в лицо ему ударили крупинки пороха, а дым заклубился вокруг. Когда карронады «Порта Коэльи» выстрелили, и два судна с треском столкнулись, он выхватил шпагу. Окутанный дымом, он вскочил на поручни, держа шпагу в руке. В ту же секунду кто-то рядом с ним одним прыжком перемахнул через борт и оказался на палубе «Бон Селестин» — это был Браун, размахивающий кортиком. Хорнблауэр прыгнул за ним, но Браун держался впереди, направо и налево нанося удары темным фигурам, неясно видневшимся в дыму. На палубе громоздилась куча убитых и раненых: результат действия картечи, вылетевшей из корронад «Порта Коэльи». Хорнблауэр споткнулся о чью-то конечность, и пришел в себя как раз вовремя, чтобы заметить укрепленный на конце мушкетного ствола штык, нацеленный на него. Стремительно извернувшись, он сумел избежать удара. В левой руке у него был пистолет, и он выстрелил, почти приставив дуло к груди француза. Ветер отнес пороховой дым в сторону. Впереди несколько матросов сражались с группкой врагов, прижатых к носу — звон клинков явственно доносился до слуха Хорнблауэра, но на корме не было видно ни одного француза. Гиббонс, помощник штурмана, возился у фала, спуская с грот-мачты триколор. По правому борту лежал «Флейм», и над его бортом можно было различить кивера французских пехотинцев. Перед глазами Хорнблауэра появились чьи-то голова и плечи, и он увидел нацеливаемый мушкет. Тот переместился с Гиббонса на Хорнблауэра, и в ту же секунду Хорнблауэр выстрелил из другого ствола своего пистолета. Француз упал за фальшборт, и как раз в это время новая абордажная партия хлынула на борт с «Порта Коэльи».
— За мной! — заорал Хорнблауэр — крайне важно было захватить «Флейм» прежде, чем будет организовано сопротивление.
Борт брига возвышался над водой больше, чем у люггера: на этот раз им приходилось карабкаться наверх. Он оперся левым локтем на фальшборт и попытался подтянуться, но ему мешала шпага.
— Проклятье, помоги мне! — бросил он, оборачиваясь назад. Какой-то матрос подставил ему плечо и подтолкнул с такой силой, что он перелетел через фальшборт и упал ничком в шпигаты с другой стороны борта, а его шпага покатилась по палубе. Он пополз вперед, стараясь схватить ее, но шестое чувство предупредило его об опасности, и он бросился вниз и вперед, уклоняясь от взмаха кортика, и обрушился на лодыжки хозяина этого оружия. Затем через него прокатилась волна людей, его пинали и топтали, затем его придавило чье-то извивающееся тело, с которым он стал бороться с отчаянной силой. Он слышал раздававшийся над ним голос Брауна, хлопки пистолетных выстрелов, лязг клинков, потом вдруг наступила тишина. Человек, с которым он боролся, сделался внезапно вялым и податливым, затем его оттащили в сторону. Он поднялся на ноги.
— Вы ранены, сэр? — спросил Браун.
— Нет, — ответил он. На палубе лежало трое или четверо убитых, на корме, у штурвала, стояла группа французских солдат, среди которых затесались один или два французских моряка. Они были без оружия, в то время как два британских матроса, с пистолетами в руках, стерегли их. На палубе сидел французский офицер: кровь капала с правого рукава его мундира, а по щекам текли слезы — это был всего лишь мальчишка. Хорнблауэр уже собирался обратиться к нему, когда его внимание неожиданно отвлекли.
— Сэр! Сэр!
Это был незнакомый ему английский матрос, в полосатой красно-белой рубашке. От избытка чувств он так жестикулировал, что его косица моталась из стороны в сторону.
— Сэр! Я дрался против лягушатников. Ваши люди меня видели. Я и эти ребята.
Он повернулся к кучке взволнованных моряков, державшихся до этого вдалеке, но теперь подошедших ближе, некоторые из них пытались что-то сказать, и все кивали головами в знак согласия.
— Бунтовщики? — задал вопрос Хорнблауэр. В горячке битвы он совершенно забыл про мятеж.
— Я не бунтовщик, сэр. Я делал то, что меня заставляли, иначе они убили бы меня. Не так ли, ребята?
— Назад, вы! — рявкнул Браун. На лезвии его кортика виднелась кровь.
Перед умственным взором Хорнблауэра вдруг возникла пророческая картина: военный трибунал, полукруг судей в сверкающих парадных мундирах, истерзанные заключенные, безмолвные, ожидающие, лишь наполовину осознавая что происходит, завершения процесса, который решит — жить им или умереть, представил самого себя, дающего показания, старающегося тщательно припомнить дословно все, что было сказано обеими сторонами — одно единственное слово может стоить разницы между виселицей и плетью.
— Арестовать этих людей! — отрезал он. — Поместите их в заключение.
— Сэр! Сэр!
— Заткнитесь! — рявкнул Браун.
Безжалостные руки утащили протестующих людей прочь.
— Где остальные мятежники? — задал вопрос Хорнблауэр.
— Я думаю, внизу, сэр, — сказал Браун. — Некоторые из французов тоже там.
Любопытно, что побитая команда так часто ищет спасения внизу. Сам Хорнблауэр искренне верил в то, что скорее лицом к лицу встретился бы с боевой яростью победителей, чем стал трусливо забиваться в темное пространство трюма.
До его слуха донесся громкий оклик с «Порта Коэльи».
— Сэр Горацио! — слышался голос Фримена. — Если мы в ближайшее время не дадим ход, корабли скоро окажутся на мели. Прошу разрешения отшвартоваться и поднять паруса.
— Подождите! — ответил Хорнблауэр.
Он огляделся вокруг: три корабля, сцепленных друг с другом, пленники под охраной — здесь, там и повсюду. Внизу, под палубой, и на «Бон Селестин», и на «Флейме» оставались несдавшиеся враги, возможно, в совокупности их число превышало количество людей, находившихся под его командой. «Флейм» содрогнулся от мощного удара, внизу раздался громкий треск, сопровождаемый криками и стонами. В памяти Хорнблауэра всплыл звук орудийного выстрела, долетевший до него секундой ранее, но не воспринятый его перегруженным сознанием. Он посмотрел по сторонам. Две уцелевшие канонерки, удерживаемые веслами на расстоянии кабельтова от них, были нацелены носами на группу кораблей. Хорнблауэр подозревал, что они расположились на мелководье, и практически недостижимы для атаки. Над одной из канонерок появилось облако дыма, и снова внизу раздался ужасный треск и крики. Эти двадцатичетырехфунтовые ядра, скорее всего, пронизывают бриг насквозь, его хрупкая обшивка способна противостоять им не более, чем бумага. Необходимость срочно предпринимать какие-то действия засасывала Хорнблауэра, как водоворот затягивает пловца.
— Закройте эти люки, Браун! — приказал он. — Приставьте к каждому часового. Мистер Гиббонс!
— Сэр?
— Позаботьтесь о ваших люках. Будьте готовы поставить паруса.
— Есть, сэр.
— Есть тут кто из марсовых? К фалам. Кто может управляться со штурвалом? Что, никто? Мистер Гиббонс! Можете поделиться одним из квартирмейстеров? Направьте его сюда немедленно. Мистер Фримен! Можете отваливать и ставить паруса. Встречаемся у другого приза.
Еще одно ядро с этих проклятых канонерок ударило в корму «Флейма» прямо под ним. Слава Богу, ветер от берега, и он может избавиться от них. «Порта Коэльи» снова поставила грота-трисель и отошла от «Бон Селестин». Гиббонс присматривал за установкой рейкового грота на люггере, пока шестеро матросов отталкивали его от «Флейма».
— Отходим! — скомандовал Хорнблауэр, когда суда разделились. — Право на борт, квартирмейстер.
Его внимание привлек звук, раздававшийся за бортом. Какие-то люди — мятежники или французы, выбирались через пробоины, оставленные ядрами, наружу, и бросались в море, вплавь направляясь к канонерским лодкам. Футах в двадцати Хорнблауэр увидел седые волосы Натаниэля Свита, стелившиеся по поверхности воды, по мере того, как он плыл. Из всех мятежников он был единственный, кто не должен бежать ни в коем случае. Во имя Англии, во имя службы, он должен умереть. Матрос, стоявший на часах у кормового люка не производил впечатления меткого стрелка.
— Дай мне мушкет, — сказал Хорнблауэр, хватая оружие.
Возвращаясь к поручням, он осмотрел кремень и затравку. Навел оружие на седую голову и спустил курок. Дым ударил ему в лицо, на мгновение закрыв обзор. Когда он смог видеть снова, длинные седые волосы еще виднелись на поверхности в течение секунды, затем погрузились, медленно скрывшись из виду. Свит был мертв. Возможно, где-то осталась старая вдова, которая будет оплакивать его, но это к лучшему, что Свит мертв. Хорнблауэр вернулся к управлению «Флеймом» на его пути к точке рандеву.
Глава 8
Этот малый — Лебрен — уже совершенно замучил его, добиваясь приватной беседы с такой настойчивостью. Ему и без этого было чем заняться: зияющие в бортах «Флейма» пробоины требовали заделки, чтобы корабль смог пересечь Канал, немногочисленную команду «Порта Коэльи» (в которой, кроме прочего, не все являлись опытными моряками), необходимо распределить между четырьмя кораблями (два брига, «индиец», и шасс-маре), и в тоже время, нужно обеспечить действенную охрану более чем сотни пленных той и другой национальности: мятежники должны содержаться так, чтобы исключить любую возможность избежать трибунала. А что хуже всего, ему предстояло подготовить подробный рапорт. Многие могли бы сказать, что последнее — не сложная задача, учитывая длинный перечень успехов, которые должны найти отражение в рапорте: взяты два приза, «Флейм» отбит, большинство бунтовщиков сидят, закованные в цепи, в трюме, а их вожак убит собственной рукой Хорнблауэра. Однако написание всего этого требовало физических усилий, а Хорнблауэр очень устал. Более того, составление рапорта будет осложнено тем, что Хорнблауэру предстоит пройти весьма извилистым курсом между Сциллой открытого самовосхваления и Харибдой излишней скромности — как часто на лице его появлялась гримаса разочарования при чтении литературных потугов других офицеров! А убийство вселяющим ужас коммодором Хорнблауэром Натаниеэля Свита, хотя оно и достойно войти в анналы морской истории, и хотя с точки зрения дисциплины и долга это был лучший способ покончить с этим делом, в глазах Барбары будет выглядеть далеко не так привлекательно. Он и сам не мог вытравить из памяти воспоминание о том, как седая голова исчезла под волнами, и чувствовал, что Барбара, внимание которой так настойчиво будет привлечено к факту, что он собственными руками (которые, как она говорила, так нравятся ей, которые она покрывала поцелуями) пролил кровь, отнял у человека жизнь, будет испытывать отвращение, омерзение.
Хорнблауэр заставил себя стряхнуть прочь липкую паутину мыслей и воспоминаний о Барбаре и Натаниэле Свите, и понял, что по-прежнему неотрывно и бессмысленно смотрит на молодого матроса, который передал ему от Фримена записку, содержащую просьбу Лебрена.
— Мои наилучшие пожелания мистеру Фримену, и скажите ему, что он может прислать ко мне этого малого, — сказал он.
— Есть, сэр, — ответил матрос, взяв под козырек, и с чувством видимого облегчения, вышел. Коммодор неотрывно смотрел сквозь него в течение, как минимум, трех минут, которые для моряка показались тремя часами.
Вооруженный охранник ввел Лебрена в каюту, и Хорнблауэр стал пристально разглядывать последнего. Он был из полудюжины пленников, которые были захвачены во время визита «Порта Коэльи» в Гавр, и входил в состав делегации, которая поднялась к ним на палубу, принимая их за «Флейм», пришедший сдаваться.
— Месье говорит по-французски? — поинтересовался Лебрен.
— Немного.
— Думаю, намного более, если все то, что говорят о капитане Хорнблауэре — правда, — ответил Лебрен.
— Чем вы занимаетесь? — резко спросил Хорнблауэр, обрывая поток континентального красноречия. Лебрен выглядел молодо, смуглый, со сверкающими белыми зубами, и производил общее впечатление какой-то скользкости.
— Я adjoint барона Мома, мэра Гавра.
— Да? — Хорнблауэр старался не выдать заинтересованности, однако ему было известно, что при имперском режиме мэр такого большого города, как Гавр, являлся важной персоной, а его adjoint- помощник, или заместитель — занимал весьма значимый чиновничий пост.
— Вы должны были слышать о фирме братьев Мома. Она в течение многих поколений ведет торговлю с Америкой — история ее возвышения неотделима от истории развития самого Гавра.
— Да?
— Точно так же, война и блокада в одинаковой степени нанесли невосполнимый урон процветанию как фирмы Мома, так и самого города.
— Да?
— «Кариатида» — судно, которое вы с такой изобретательностью захватили позавчера — могло восстановить благосостояние всех нас. Как вы легко можете себе представить, корабль, прорвавший блокаду, стоит десяти, прибывших в мирное время.
— Да?
— Не сомневаюсь, что господин барон и население города будут в отчаянии из-за того, что корабль был захвачен, прежде чем груз покинул его трюм.
— Да?
Во время паузы взгляды их скрестились, как шпаги дуэлянтов: Хорнблауэр не хотел выдавать любопытство и заинтересованность, которые он испытывал, а Лебрен колебался, стоит ли ему выходить на предельную откровенность.
— Полагаю, месье, что то, что я скажу далее, останется исключительно между нами.
— Я не могу ничего обещать. В действительности, я могу только сказать, что я обязан сообщить все, что вы скажете, Правительству Его Величества короля Великобритании.
— Рассчитываю, что члены правительства, ради их же пользы, не станут разглашать тайну, — колебался Лебрен.
— У министров Его величества может быть свое мнение на этот счет, — сказал Хорнблауэр.
— Известно ли вам, месье, — произнес Лебрен, видимо, решившийся действовать, — что Бонапарт разбит в большой битве при Лейпциге?
— Да.
— И что русские вышли к Рейну?
— И это тоже.
— Русские на Рейне! — повторил Лебрен с изумлением. Все без исключения: и те, кто поддерживал Бонапарта, и те, кто выступал против него, удивлялись тому, как необъятная Империя съежилась до размеров половины Европы за эти несколько коротких месяцев.
— А Веллингтон движется к Тулузе, — добавил Хорнблауэр. Не лишним будет напомнить Лебрену о британской угрозе с юга.
— Это так. Империя не сможет продержаться долго.
— Рад слышать ваше мнение по данному вопросу.
— А когда империя падет, наступит мир, а когда наступит мир, возобновится торговля.
— Без сомнения, — сказал Хорнблауэр, все еще слегка озадаченный.
— В течение первых месяцев прибыли будут огромными. Европа годами не получала импортной продукции. В данный момент за фунт настоящего кофе запрашивают более ста франков.
Наконец-то Лебрен показал свое собственное лицо, скорее по нужде, чем по доброй воле. И лицо это выражало алчность, что о многом сказало Хорнблауэру.
— Все это очевидно, месье, — произнес Хорнблауэр, не выражая согласия.
— Фирма, которая будет готова к заключению мира, склады которой будут ломиться от колониальных товаров, готовых к реализации, получит колоссальные прибыли. Она намного обойдет своих конкурентов. На этом можно сделать миллионы. Миллионы. — Лебрен буквально наяву грезил о том, что некоторые из этих миллионов могут оказаться в его собственном кармане.
— У меня очень много дел, месье, — сказал Хорнблауэр. — Будьте любезны перейти к сути.
— Его Величество король Великобритании мог бы позволить своим друзьям сделать загодя такие приготовления, — произнес Лебрен. Он говорил медленно, и не удивительно: такие слова могут привести его на гильотину, если достигнут ушей Бонапарта. Лебрен предлагал предать Империю в обмен на коммерческие преимущества.
— Его Величество должен сначала получить неопровержимые доказательства того, что эти друзья действительно являются друзьями, — сказал Хорнблауэр.
— Quid pro quo,[15] — заявил Лебрен, в первый раз за время разговора поставив Хорнблауэра в затруднительное положение: французское произношение латыни было настолько отлично от всего, что он слышал, что ему пришлось лихорадочно рыться в памяти, соображая, что же за неизвестные слова использовал Лебрен, прежде чем до него дошел смысл сказанного.
— Вы можете изложить мне суть ваших предложений, месье, — произнес Хорнблауэр с холодным достоинством, — но я не могу дать вам взамен никаких обещаний. Правительство Его Величества, быть может, откажется связывать себя каким-либо образом.
Он с удивлением поймал себя на мысли, что воспроизводит манеру держаться и говорить, свойственную правительственным чинам — так мог говорить его чопорный шурин, Уэлсли. Может быть, высокая политика на всех оказывает такое действие — в данном случае это было полезно, так как позволяло скрыть его заинтересованность.
— Quid pro quo, — задумчиво повторил Лебрен. — Предположим, что Гавр отколется от Империи, присягнет Людовику XVIII?
Такая возможность приходила в голову Хорнблауэру, но он отбросил ее, так как это казалось слишком хорошо, чтобы быть правдой.
— Предположим, что это произойдет, — сказал он уклончиво.
— Такое событие может послужить примером для тех, кто ждет этого в пределах Империи. Это может принять характер эпидемии. Бонапарт не выдержит такого удара.
— Он выдержал уже много ударов.
— Но не подобного рода. А если город присягнет королю, он вступит в союз с Великобританией. Продолжать блокаду не будет смысла. И может быть, дому «Братья Мома» будет дана лицензия на импорт товаров, почему бы нет?
— Возможно. Не забудьте, я ничего не обещал.
— А когда Людовик XVIII будет восстановлен на престоле предков, он не оставит своей добротой тех, кто первым присягнул ему, — продолжал Лебрен. — Перед адъюнктом барона Мома может открыться прекрасная перспектива построения собственной карьеры.
— Вне всякого сомнения, — согласился Хорнблауэр. — Однако вы излагаете свои собственные представления. Можете вы быть уверены, что барон Мома их разделяет? И если это так, то где гарантии того, что жители города последуют за ним?
— Я отвечаю за барона, уверяю вас, сэр. Я знаю… я осведомлен о его настроениях.
Не исключено, что Лебрен шпионил за своим хозяином в пользу имперского правительства, и без колебаний решил применить полученную информацию по другому, более перспективному назначению.
— А город? Другие власти?
— В тот день, когда вы взяли меня в плен, сэр, — сказал Лебрен, — из Парижа были присланы несколько образцов прокламаций и обзор имперских декретов, которые вскоре должны будут вступить в силу. Прокламации должны быть напечатаны (я отдал распоряжение об этом — это было последнее поручение, которое я выполнил), и в следующий понедельник расклеены, а декреты — опубликованы.
— Ну и?
— Они являются самыми суровыми в суровой истории Империи. Конскрипции: последние из класса 1815 года должны быть призваны, а остальные классы до 1802 года проревизированы. Мальчишки семнадцати лет, калеки, инвалиды, отцы семейств, даже те, кто купил себе освобождение — все подлежат призыву.
— Франция, должно быть, давно привыкла к конскрипциям.
— Франция скорее устала от них, сэр. Мне известно из официальных источников число дезертиров, и жестокость мер, предпринимаемых против них. Но дело не только в конскрипциях, сэр. Другие декреты еще более суровы. Налоги! Прямые, косвенные, droits réunis,[16] и прочие! Те из нас, кто переживет войну, останутся нищими.
— И вы полагаете, что обнародование данных декретов вызовет достаточно сильное негодование, чтобы стать причиной восстания?
— Может быть и нет. Но для деятельного предводителя это послужит прекрасной отправной точкой.
Лебрен мыслил достаточно трезво — последнее его замечание выглядело вполне логично и могло оказаться верным.
— Но что другие власти города? Военный губернатор? Префект департамента?
— Некоторые из них не представляют опасности. Мне так же хорошо известно их настроение, как и настроение барона Мома. Что до остальных: десяток своевременных арестов, воззвание к войскам в казармах, прибытие английских войск (ваших войск, сэр), вдохновенное обращение к народу, провозглашение осадного положения, закрытие ворот — и все кончено. Как вам известно, сэр, Гавр хорошо укреплен. Только армия с осадным парком может отбить его, а Бонапарту неоткуда ее взять. Новости как пожар распространяться по Империи, даже если Наполеон попытается скрыть их.
Этот Лебрен правильно мыслил и оценивал обстановку, хотя моральные его качества и вызывали сомнение. Тот набросок плана, который он кратко изложил, представлял собой типичный coup d'état.[17] Если попытка увенчается успехом, результаты могут быть фантастическими. Даже если она не удастся, основы Империи будут потрясены. Измена заразна, как сказал Лебрен. Крысы на тонущем корабле с замечательной быстротой следуют примеру первого, кто пытается его покинуть. В случае неудачи затей Лебрена он ничем особенно не рискует, а вот выигрыш может быть огромным.
— Месье, — сказал Хорнблауэр, — все это время я проявлял терпение. Но до сих пор не услышал ни одного конкретного предложения. Слова, туманные идеи, надежды, желания — и это все, а я — занятой человек, как вам известно. Пожалуйста, выражайтесь яснее. И покороче, если это не слишком затруднит вас.
— В таком случае я буду предельно конкретен. Высадите меня на берег — во избежание подозрений меня можно направить с предложением об обмене пленными. Разрешите мне уверить господина барона в том, что он может рассчитывать на вашу немедленную поддержку. За эти три дня, до следующего понедельника, я завершу все приготовления. Тем временем вы остаетесь поблизости со всеми силами, которые вам удастся собрать. В тот момент, когда мы завладеем цитаделью, мы вывесим белый флаг, когда вы его увидите, то войдете в гавань и подавите остатки сопротивления. Взамен барон Мома получает лицензию на ввоз колониальных товаров, а вы, как джентльмен, даете мне слово чести поставить в известность короля Людовика, что именно я, Эркюль Лебрен, был первым, кто предложил вам эту схему.
— Ха-хм, — произнес Хорнблауэр. Теперь он редко использовал этот звук, из-за постоянных насмешек жены, но в момент кризиса он сорвался с его губ. Он должен подумать. Ему нужно время, чтобы подумать. Долгий разговор на французском, к употреблению которого он не привык, был утомителен. Хорнблауэр возвысил голос, чтобы его услышал часовой за дверью:
— Передайте охраннику, чтобы он увел заключенного.
— Но, сэр! — запротестовал Лебрен.
— Я сообщу вам о своем решении через час, — сказал Хорнблауэр. — Пока для видимости с вами должны обращаться сурово.
— Сэр! Помните о необходимости хранить тайну! Никому ни слова! Ради Бога!
У Лебрена были совершенно верное представление о том, что затевая восстание против такого государя, как Бонапарт, необходимо держать все в строжайшем секрете. Хорнблауэр помнил об этом, когда поднялся на палубу и принялся мерить ее шагами, выбросив из головы незначительные хозяйственные вопросы, и занявшись обдумыванием этой, самой важной проблемы.
Глава 9
Над цитаделью Гавра — крепостью Сент-Адресс — все еще развевался триколор. Стоя на палубе «Флейма», идущего под умеренными парусами на расстоянии, чуть превышающем дистанцию выстрела береговых батарей, Хорнблауэр вполне мог его различить. Естественно, он решил поддержать план Лебрена. В этот самый момент он опять говорил себе, уже в тысячный раз, что успех обещает многое, терять же почти нечего. Разве что жизнь Лебрена да репутацию Хорнблауэра. Одному Богу известно, что скажут Уайтхолл и Даунинг-Стрит, когда услышат о том, что он делает. Вопрос о том, что будет с правительством Франции после того, как падет Бонапарт, до сих пор не решен: не существовало и единодушного мнения в отношении реставрации Бурбонов. Правительство может отказаться подтвердить данные им под честное слово обещания, касающиеся лицензии на импорт товаров, оно может выступить с резким заявлением о том, что не собирается признавать притязания Людовика XVIII, и может здорово прижать его самого к ногтю за все, что он сделал после завладения «Флеймом».
Своей властью он помиловал сорок бунтовщиков, как матросов, так и юнг. Они вошли в команду брига. Он мог предоставить немало аргументов в защиту своего решения: содержание мятежников в качестве пленных под охраной и выделение призовых команд на два судна потребовало бы от него задействовать каждого человека, имеющегося у него в распоряжении. Этого едва хватило бы на управление кораблями, и более ни на что. Так и получилось, что он преодолел все эти затруднения принятием нескольких простых решений. Все французы были отправлены на берег на «Бон Селестин», идущей под белым флагом, вместе с Лебреном, которому для отвода глаз поручили организовать размен пленными. «Индиец» укомплектовали минимумом матросов и отправили с донесениями к Пеллью, к эскадре Центрального Канала, а в его распоряжении осталось два брига, более или менее обеспеченных экипажем. Это был также удобный способ избавиться о Чедвика, который получил командование над «индийцем» и поручение доставить донесения. Чедвик был бледен — результат двухнедельного заточения в карцере и постоянной угрозы быть повешенным. Его налившиеся кровью глаза не выразили удовлетворения, когда он узнал, что обязан своим спасением молодому Хорнблауэру, который был когда-то его подчиненным на пушечной палубе «Индефатигебла», а теперь далеко обогнавшим его на служебной лестнице. Чедвик немного поворчал, получая приказы, но лишь немного. Он взвесил пакет с донесениями на руке, видимо, размышляя, что там написано о нем самом, однако осторожность или привычка взяли верх, и произнеся: «Есть, сэр», — он повернулся и вышел.
Теперь эти донесения, прошедшие через руки Пеллью и тщательно изученные, находятся, должно быть, на пути в Уайтхолл. Ветер был благоприятным для «индийца» на его пути к Старту, где находилась эскадра Центрального канала, благоприятным он будет и для пополнений, который Хорнблауэр просил выслать ему. Он знал, что Пеллью пришлет их. Прошло пятнадцать лет с тех пор, как они виделись в последний раз, и около двадцати с тех пор, как Пеллью произвел его в лейтенанты на борту «Индефатигебла». Теперь Пеллью стал адмиралом и главнокомандующим, а он стал коммодором, но Пеллью должен остаться верным другом и готовым помочь сослуживцем, каким он всегда был.
Хорнблауэр бросил взгляд в сторону моря, где, в туманной дымке на горизонте, несла дозор «Порта Коэльи». Ее задачей было перехватить подкрепления, пока их не заметили с берега, так как незачем было давать властям Гавра хоть малейший повод почувствовать, что назревает нечто необычное, хотя крайней необходимости в этом не было. Англия всегда выставляла свою морскую мощь на показ врагу, объявляя вражеский берег своей морской границей — «Флейм», демонстрирующий георгиевский флаг перед самым носом жителей Гавра, не представлял дня них диковинки. Вот почему он не колебался, оставаясь здесь, в пределах дистанции, на которой мог рассмотреть через подзорную трубу триколор на цитадели.
— Внимательно следите за всеми сигналами с «Порта Коэльи», — бросил он вахтенному мичману.
— Есть, сэр.
«Порта Коэльи» — «Врата небесные», или «Тупица Портер», как называют ее матросы. Хорнблауэр что-то смутно припоминал о деле, в результате которого это странное имя попало список кораблей Королевского флота. Первая «Порта Коэльи» была испанским капером — скорее, наполовину пиратом, захваченным у Гаваны. Она оказала такое сильное сопротивление во время захвата, что память о ней была увековечена присвоением ее имени английскому кораблю. «Тоннант», «Темерер»: большинство иностранных названий появились в списке кораблей флота благодаря подобным событиям — если война продлится еще достаточно долго, в составе Королевского флота может оказаться больше кораблей с иностранными именами, чем с английскими, а во флотах-соперниках может сложиться такая же картина. Французский флот гордится «Свифтшуром», не исключено, что среди американских кораблей появится в ближайшие годы «Македониан». Пока ему не приходилось слышать о французском «Сатерленде» — странно, но при этой мысли Хорнблауэр почувствовал укол сожаления. Он сложил трубу, резко повернулся на пятках и стремительно зашагал по палубе, будто стараясь убежать от воспоминаний, которые осаждали его. Ему не доставляло удовольствия вспоминать о сдаче «Сатерленда», хотя военный трибунал с почетом оправдал его, и как ни странно, с течением времени чувство стыда не только не уменьшалось, но росло. А угрызения совести по поводу «Сатерленда» неизбежно принесли с собой воспоминания о Марии, умершей вот уже почти три года тому назад. Воспоминания о бедности и отчаянии, о пряжках из фальшивого золота на туфлях, о симпатии и жалости, которые он чувствовал по отношению к Марии — жалкая замена любви, и все же воспоминания невыносимо терзали его. Прошлое снова вернулось к жизни в его памяти, и это воскрешение было таким мучительным, каким и должно быть любое воскрешение. Ему вспомнилась Мария, тихо сопящая во сне рядом с ним, резкий запах ее волос, Мария — бестактная и неумная, которую он любил как ребенка, хотя, конечно, не так сильно, как сейчас любит Ричарда. Это воспоминание почти парализовало его, и вдруг внезапно оборвалось и заменилось воспоминанием о Мари де Грасай — черт возьми, она то здесь при чем? Незаслуженная любовь, которую она дарила ему, ее тепло и нежность, легкость, с которой она улавливала его настроение — было безумием поймать себя на мысли, что он скучает по Мари де Грасай, но это было так, хотя прошла едва ли неделя с тех пор, как он покинул объятия верной и понимающей супруги. Он попытался думать о Барбаре, но картины, которые он рисовал в своем воображении, опять оказались внезапно оттеснены на второй план лицом Мари. Ну нет, уж лучше думать о сдаче «Сатерленда». Хорнблауэр расхаживал по палубе «Флейма», а призраки витали вокруг него при свете холодного, промозглого зимнего дня. Люди видели его лицо, и старались не попадаться ему на пути даже с большей осторожностью, чем обычно. Впрочем, большая их часть считала, что Хорнблауэр всего лишь вынашивает новый дьявольский замысел против французов.
Было уже далеко за полдень, когда он был, наконец, вырван из череды своих мыслей.
— Сигнал с «Порта Коэльи», сэр! Восемнадцать — пятьдесят один — десять. Наши корабли в пределах видимости. Направление — северо-запад.
— Прекрасно. Запросите их номера.
Скорее всего, это подкрепление, присланное Пеллью. Сигнальщик склонился над флагами, и снова потянул фал. Прошло несколько минут, прежде чем мичман увидел ответ и перевел его, сверяясь с книгой.
— «Нонсач», 74, капитан Буш, сэр.
— Бог мой, Буш!
Это восклицание сорвалось с уст Хорнблауэр непроизвольно: призраки, окружавшие его, исчезли, как если бы на них плеснули святой водой, как только его настоящий, верный друг появился на горизонте. Ну разумеется, Пеллью при возможности послала бы именно Буша, зная о дружбе, которая так долго существовала между ним и Хорнблауэром.
— «Камилла», 36, капитан Ховард, сэр.
До этого он ничего не слышал о капитане Ховарде. Заглянув в список, он обнаружил, что это капитан с выслугой менее двух лет. Видимо, Пеллью выбрал его как младшего по отношению к Бушу.
— Прекрасно. Отвечайте: «Коммодор …»
— «Порта» все еще сигналит, прошу прощения сэр. «Нонсач» коммодору: «Имею … на борту… три сотни… морских пехотинцев … сверх… комплекта».
Молодец, Пеллью. Он оголил свою эскадру, чтобы дать Хорнблауэру возможность создать десантный отряд, хотя может сам нуждаться в нем. Три сотни морских пехотинцев, добавить к этом подразделение с «Нонсача» и отряд из моряков. Если представится возможность, он сможет ввести в Гавр пятьсот человек.
— Отлично. Передайте: «Коммодор „Нонсачу“ и „Камилле“. Рад иметь вас под своей командой».
Хорнблауэр снова посмотрел на Гавр. Взглянул на небо, оценил силу ветра, припомнил стадию прилива, прикинул, сколько времени осталось до наступления ночи. Где-то там Лебрен должен привести в действие свой план, сегодня ночью или никогда. Хорнблауэру надо быть готовым к нанесению удара.
— Передайте: «Коммодор всем судам: Присоединиться ко мне после наступления темноты. Ночной сигнал — два горизонтальных огня на ноках фока-рея.»
— …фока-рея. Есть сэр, — эхом отозвался мичман, чиркая по грифелю.
Как радостно было увидеть Буша снова, пожать его руку, когда в темноте тот взобрался на палубу «Флейма». Как хорошо было сидеть в душной каюте вместе с Бушем, Ховардом и Фрименом, пока он излагал им планы на завтра. И как чудесно было выстраивать план действий после этого дня мучительного самоанализа. Буш внимательно посмотрел на него своими глубоко посаженными глазами.
— Вы были очень заняты с тех пор, как опять вышли в море, сэр.
— Разумеется, — сказал Хорнблауэр.
Последние несколько дней и ночей прошли в настоящей круговерти: даже после возвращения «Флейма» дела, связанные с реорганизацией, совещания с Лебреном, подготовка донесений — все это было чрезвычайно утомительным.
— Слишком заняты, если вы простите меня, сэр, — продолжал Буш. — Вы слишком рано вернулись к исполнению своих обязанностей.
— Ерунда, — запротестовал Хорнблауэр. — У меня был почти годичный отпуск.
— Отпуск по болезни, сэр. После тифа. И с тех пор…
— С тех пор, — вмешался Ховард, молодой, симпатичный, смуглый мужчина, — проведена вылазка, сражение, захвачены три приза, два судна потоплены, составлен план высадки и проводится полуночный военный совет.
Хорнблауэр внезапно почувствовал приступ гнева.
— Не желают ли джентльмены сказать мне, — заявил он, обводя всех сверкающим взором, — что я не пригоден к несению службы?
Они испугались его ярости.
— Нет, сэр, — сказал Буш.
— В таком случае будьте любезны оставить свое мнение при себе.
Какое несчастье для Буша, который, в конце концов, всего лишь хотел выразить заботу о состоянии здоровья друга. Хорнблауэр понимал это, как и то, что чудовищно несправедливо было заставлять Буша платить за те страдания, которые Хорнблауэр пережил сегодня. И все же он не смог справиться с искушением. Он снова обвел всех взглядом, заставляя их потупить взоры, и продолжал делать это до тех пор, пока, насытившись этим жалким глотком самоудовлетворения, он не ощутил раскаяния и не счел, что должен принести извинения.
— Джентльмены, — сказал он. — Я погорячился. Когда мы завтра отправимся в бой, мы должны чувствовать полную уверенность друг в друге. Вы простите меня?
Они что-то пробормотали в ответ. Буш был совершенно ошарашен, получив извинения от человек, который, по его мнению, имел право говорить что угодно и кому угодно.
— Всем понятен мой план действий на завтрашний день, если, конечно, этот день наступит именно завтра? — продолжал Хорнблауэр.
Они кивнули, обращаясь взорами к карте, расстеленной на столе.
— Вопросы есть?
— Нет, сэр.
— Я понимаю, что это лишь набросок плана. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, чрезвычайная обстановка. Никто не может предвидеть то, что может случиться. Лишь в одном я могу быть уверен — это в том, что командование кораблями этой эскадры будет осуществляться так, что заслужит внесения в анналы флота. Капитан Буш и мистер Фримен уже имели много возможностей проявить свою храбрость и решительность в моем присутствии, и мне слишком хорошо известна репутация капитана Ховарда, чтобы позволить сомневаться в нем. Когда мы атакуем Гавр, джентльмены, мы откроем новую страницу, мы допишем последнюю главу в истории тирании.
Им понравилось то, что он сказал, и у них не было оснований сомневаться в его искренности, так как говорил он от чистого сердца. Встретив его взгляд, они улыбнулись. Мария, пока была жива, иногда довольно любопытным образом характеризовала подобные громкие заявления, направленные на то, чтобы поднять настроение слушателей. Она говорила, что это «кусочек сахару для птички». Его последняя речь как раз и представляла собой такой «кусочек сахару для птички». И тем не менее, он не солгал ни в одном слове. Впрочем нет, не совсем: он совершенно не был осведомлен о деяниях Ховарда. В этом отношении его заявления носили формальный характер. Но вполне достигли своей цели.
— Что же, с делами покончено, джентльмены. Что позволите предложить вам в качестве развлечения? Капитан Буш может припомнить ночи накануне боя, проведенные за игрой в вист. Но сам он, без сомнения, не относится к поклонникам этой игры.
Это была констатация факта: в целом свете невозможно было найти человека, менее расположенного к игре в вист, чем Буш, и тот сонно усмехнулся в подтверждение незлобливой поддевки Хорнблауэра. Однако он явно был польщен, что Хорнблауэр помнит о нем такие вещи.
— Вам нужно выспаться, сэр, — сказал он на правах старшего офицера по отношению к прочим двум, с ожиданием смотревшим на него.
— Мне пора отправляться на корабль, сэр, — присоединился Ховард.
— Так же, как и мне, сэр, — заявил Фримен.
— Я бы не хотел, чтобы вы уходили, — воспротивился Хорнблауэр.
Фримен бросил взгляд на колоду карт, лежащую на полке у переборки.
— Прежде чем мы уйдем, могу предсказать вам судьбу, — вызвался он, — возможно, я смогу припомнить то, чему учила меня бабушка-цыганка, сэр.
Значит, в венах Фримена действительно течет цыганская кровь. Хорнблауэру часто приходила в голову эта мысль, когда он отмечал смуглость его кожи и черные глаза. Хорнблауэр был слегка изумлен легкостью, с которой Фримен признал данный факт.
— Погадайте сэру Горацио, — сказал Буш.
Фримен перетасовал колоду: движения пальцев выдавали в нем знатока. Он положил ее на стол, взял руку Хорнблауэра и положил ее на колоду.
— Подснимите три раза, сэр.
Хорнблауэр терпеливо проделал процедуру: он подснимал, а Фримен тасовал карты. Наконец Фримен перехватил колоду и начал раскладывать карты на столе рисунком вверх.
— В этой стороне — прошлое, — объявил он, указывая на замысловато разложенные карты, — а здесь — будущее. О прошлом много есть чего рассказать. Вижу деньги, золото. Вижу опасность. Опасность, опасность, опасность. Вижу тюрьму — дважды, сэр. Вижу темную женщину. Вижу белокурую женщину. Вы странствовали по морям, сэр. Он толковал карты профессионально, объясняя их значение на одном дыхании. Он сделал краткий обзор карьеры Хорнблауэра, и Хорнблауэр слушал его плавно лившуюся речь с увлечением и даже с восхищением. Все, о чем рассказал Фримен, мог рассказать любой, кто ознакомился хотя бы в общих чертах с прошлым Хорнблауэра. На мгновение его брови сдвинулись, когда речь зашла об умершей Марии, но затем, когда Фримен перескочил к описанию приключений Хорнблауэра на Балтике, переводя фразы с нормального языка на жаргон, используемый цыганами с ловкостью, достойной восхищения, он снова улыбнулся.
— И еще был недуг, сэр, — закончил Фримен, — очень серьезный недуг, прошедший только недавно.
— Потрясающе! — воскликнул Хорнблауэр в притворном восхищении.
Предчувствие наступающего боя всегда пробуждало в нем лучшие из его качеств: он стал сердечным и открытым в обращении с младшими офицерами, что было бы немыслимо в любое другое время.
— Потрясающе — это именно то слово, сэр, — сказал Буш.
Хорнблауэр удивился, отметив, что Буш действительно впечатлен, тот факт, что ловкое манипулирование знанием его прошлого со стороны Фримена произвело на него такое действие, могло служить объяснением успеха, которым пользуются в этом мире шарлатаны.
— Что насчет будущего, Фримен? — поинтересовался Ховард. Приятно было видеть, что Ховард был единственным, кто поддался чарам лишь в умеренной степени.
— Будущее, — сказал Фримен, постукивая по столу костяшками пальцев и переходя к другой части гадания, — будущее всегда более загадочно. Я вижу корону. Золотую корону.
Он передвинул разложенные карты.
— Корона и есть, сэр, как ни верти.
— Горацио Первый, король Людоедских островов, — засмеялся Хорнблауэр. То, что он шутил по поводу своего имени, предмета для него, как правило, весьма болезненного, служило наилучшим доказательством хорошего расположения духа.
— И еще большая опасность. Опасность и белокурая женщина. Одна и другая рядом. Опасность из-за женщины, или опасность рядом с женщиной. В любом случае опасность, сэр. Я советую вам опасаться белокурых женщин.
— Чтобы дать такой совет не нужны карты, — сказал Хорнблауэр.
— Иногда карты говорят правду, — ответил Фримен, посмотрев на него с каким-то особым выражением в сверкающих глазах.
— Корона, белокурая женщина, опасность, — повторил Хорнблауэр. — Что еще?
— Это все, что я могу прочитать, сэр, — сказал Фримен, собирая карты.
Ховард посмотрел на большие серебряные часы, которые извлек из кармана.
— Если бы Фримен мог сказать нам, увидим ли мы завтра белый флаг над цитаделью, — сказал он, — это помогло бы нам решить, продолжать ли нам столь приятный вечер. Как бы то ни было, сэр, мне необходимо отдать распоряжения.
Хорнблауэру было откровенно жаль прощаться с ними. Он стоял на палубе «Флейма» и смотрел, как их гички уходили прочь, во тьму зимней ночи, в то время как боцманские дудки вызывали на смену полуночную вахту. Было пронзительно холодно, особенно после жаркой духоты каюты, и, может быть в результате этого, он почувствовал себя более одиноким, чем обычно. Здесь, на «Флейме», с ним находились только два вахтенных офицера, позаимствованных с «Порта Коэльи», завтра нужно будет взять еще одного с «Нонсача» или «Камиллы». Завтра? Нет, уже сегодня. И возможно, что сегодня попытка Лебрена овладеть Гавром будет иметь успех. Сегодня его могут убить.
Глава 10
Когда наступил рассвет, или вернее, когда ночь почти не различимо для глаза сменилась тусклым светом дня, был густой туман, как того и следовало ожидать в такое время года в таком месте. «Порта Коэльи» была едва различима: темный сгусток в пелене тумана. Окликнув ее во всю силу легких, Хорнблауэр получил слабый ответ, что по корме у нее виден «Нонсач», а несколько секунд спустя поступила дополнительная информация, что «Камилла» находится в пределах видимости с «Нонсача». Таким образом, его эскадра была в сборе, оставалось только ждать, и размышлять, уже в сотый раз, каким образом босым матросам, под ногами которых плескалась ледяная вода, удается исполнять свою каждодневную работу — драить палубу. Они, тем не менее, смеялись и веселились по мере ее выполнения: британские матросы сделаны из прочного материала. Вероятно, на нижней палубе почуяли, что концентрация сил обещает наступление новых событий, и там нашли эту перспективу обнадеживающей. Хорнблауэр знал, что отчасти это происходит в силу того, что они заранее уверены в успехе неизвестного предприятия. Должно быть, удивительно приятно положиться на кого-то и не иметь более никаких сомнений. Хорнблауэр смотрел на занятых работой людей и одновременно жалел их и завидовал им.
Сам он находился в состоянии лихорадочного возбуждения, без конца прокручивая в голове все приготовления, которые они произвели вместе с Лебреном, прежде чем последний отправился на берег. Они были простыми, простыми до абсурда, как казалось ему теперь. Весь замысел казался слишком примитивным, чтобы поколебать империю, повелевающую Европой. Но заговор и должен быть простым — чем сложнее механизм, тем больше вероятность его поломки. Именно в этом заключался один из доводов, когда он настоял, чтобы эта часть предприятия проводилась при свете дня. Он опасался недоразумений, которые вполне вероятны, если оказаться с маленькой армией в темноте в незнакомом городе. Днем шансы на успех удваивались, хотя в тоже время это как минимум вдвое увеличит потери в случае неудачи.
Хорнблауэр посмотрел на часы — последние десять минут он старался подавить в себе это желание.
— Мистер Кроули, — сказал он, обращаясь к помощнику штурмана, который здесь, на «Флейме», исполнял обязанности его первого помощника, — командуйте «все по местам» и приготовьте бриг к бою.
Ветер, как и ожидал Хорнблауэр, представлял собой лишь легкое дуновение с востока. Вход в Гавр будет нелегким делом, и он порадовался, что ему предстоит вести маленький и юркий «Флейм», и смотреть со стороны на передвижения неуклюжего старины «Нонсача».
— Корабль к бою готов, сэр, — доложил Кроули.
— Отлично.
Хорнблауэр взглянул на часы: прежде чем они смогут двинуться, должны пройти еще добрых четверть часа. Оклик с «Порта Коэльи» принес весть, что все суда готовы к бою, и он улыбнулся про себя. Фримен, Буш и Ховард также, как и он, оказались не в состоянии выжидать.
— Помните, мистер Кроули, — сказал он, — если меня убьют, когда мы войдем, «Флейм» должен расположиться вдоль мола. Капитана Буша необходимо будет срочно поставить в известность, но «Флейм» должен продолжать выполнение задачи.
— Есть сэр, — ответил Кроули, — я не забуду.
Проклятье, ему не стоило относиться к этому с таким дьявольским безразличием. Из тона Кроули можно было сделать вывод, что смерть Хорнблауэра — дело практически решенное. Хорнблауэр отвернулся от него и стремительно пошел вдоль по палубе, чтобы прогнать сковывавший холод. Он посмотрел на матросов, стоящих на боевых постах.
Веселее, ребята, — приказал он. — Покажите, как вы умеете прыгать.
Какой смысл был идти в бой с людьми, окоченевшими до бесчувствия. Моряки, стоящие у пушек и снастей начали подпрыгивать на месте.
— Прыгайте, ребята, прыгайте!
Хорнблауэр нелепо прыгал, чтобы показать им пример, ему нужно было, чтобы они согрелись. При прыжках он хлопал руками по бокам, эполеты на парадном мундире давили своей тяжестью на его плечи.
— Кто выше! Еще выше!
Ноги начали болеть, дыхание перехватило, однако он не мог остановиться раньше, чем матросы, хотя вскоре и пожалел, что затеял все это.
— Стой! — закричал он, наконец. Это односложное слово отняло у него остатки дыхания. Он стоял, хватая ртом воздух, люди улыбались.
— Да здравствует Хорни! — закричал впереди чей-то неразличимый голос, и по команде прокатилось нестройное «ура».
— Тихо!
Браун принес его пистолеты, в глазах его горели огоньки.
— Перестаньте улыбаться! — рыкнул Хорнблауэр.
Теперь по флоту распространится еще одна легенда о Хорнблауэре, подобной той, как танцевали хорнпайп на палубе «Лидии» во время преследования «Нативидада». Хорнблауэр достал часы, а убрав их, поднял рупор.
— Мистер Фримен! Я ложусь на другой галс. Передайте по эскадре, чтобы следовали за мной. Мистер Кроули!
— Да, сэр!
— Двух матросов на лот, пожалуйста.
Один человек может быть убит, а Хорнблауэр не желал допустить возможности, что прекратятся промеры глубины.
— Выбрать фока-шкоты! Выбрать грота-шкоты!
«Флейм» лег на правый галс, делая три узла под косыми парусами при легком бризе. Хорнблауэр видел, как окутанная туманом «Порта Коэльи» последовала примеру «Флейма». За ней, невидимый, шел старина «Нонсач»: со времени прибытия у Хорнблауэра так и не появилось возможности рассмотреть его. Если на то пошло, он не видел его со времени, когда покинул корабль, чтобы подхватить тиф в Риге. Добрый старина Буш. Хорнблауэру делалось спокойнее при мысли о том, что сегодня его будут поддерживать сокрушительные бортовые залпы «Нонсача» и стойкая преданность Буша.
Лотовые уже выкрикивали отметки глубин, когда «Флейм» вошел в фарватер, ведущий в Гавр. Хорнблауэр пытался представить, что происходит сейчас в городе, но затем одернул себя, сказав, что достаточно скоро все узнает. Ему казалось, что он может припомнить каждое слово, произнесенное во время длительных бесед с Лебреном, когда они обсуждали детали предложенного Лебреном рискованного плана. Они принимали во внимание возможность тумана — любой моряк был бы идиотом, не сделав этого, находясь зимой в заливе Сены.
— Буй справа по носу, сэр, — доложил Кроули.
Это знак, отмечающий траверз мыса — единственный буй, который французы оставили на подходах к Гавру. Хорнблауэр наблюдал, как они прошли рядом с ним, и затем оставили за кормой. Растущий прилив слегка приподнял его и притопил обращенную к морю сторону. Они находились рядом со входом.
— Послушайте, ребята, — громко сказал Хорнблауэр. — Ни единого выстрела не должно быть сделано без моего приказа. Человека, который выпалит из пушки, все равно по какой причине, не имея моего распоряжения, будет не просто выпорот. Я его повешу. Прежде, чем зайдет солнце, он будет болтаться на ноке рея. Вы меня слышите?
Хорнблауэр действительно был намерен это сделать, по крайней мере, в этот момент, и выражение его лица подтверждало это. Несколько приглушенных «Да, сэр» дали ему понять, что его услышали.
— Qui va là?[18] — раздался сквозь туман голос где-то недалеко от борта. Патрульный катер, как пришли к выводу Хорнблауэр и Лебрен, не так то просто отвлечь от выполнения своих обязанностей.
— Сообщения для господина барона Мома, — крикнул в ответ Хорнблауэр.
Уверенный голос, беглый французский, употребление имени Мома — все это могло дать возможность выиграть время и позволить эскадре войти в гавань.
— Что за корабль?
Невозможно было себе представить, что моряки на патрульном катере не узнали «Флейм» — вопрос был задан с единственной целью — дать командиру время собраться с мыслями.
— Британский бриг «Флейм», — отозвался Хорнблауэр. В этот момент он переложил руль, чтобы обогнуть мыс.
— Ложитесь в дрейф, или я буду стрелять!
— Если вы откроете огонь, то на вас ляжет ответственность, — ответил Хорнблауэр. — У нас сообщения для барона Мома.
Ветер теперь сделался попутным на их пути к молу. Поворот приблизил патрульный катер к борту: Хорнблауэр мог различить офицера, стоящего на носу у пушки и моряка с тлеющим пальником в руке рядом с ним. Парадный мундир Хорнблауэра был прекрасно виден, и это служило, должно быть, еще одной причиной промедления, ведь человек, готовящийся к бою, не станет надевать парадный мундир. Он видел, как вздрогнул офицер, заметив неясные очертания «Порта Коэльи», обрисовавшиеся за кормой «Флейма». Он услышал приказ и увидел искру, сверкнувшую в запале орудия. Трехфунтовик рявкнул, и ядро врезалось в борт «Флейма». Это поднимет тревогу на батареях на мысе и на молу.
— Не стрелять в ответ, — приказал он. Может быть, удастся выиграть еще немного времени, и, возможно, этот звук может оказаться им на руку, хотя он не был уверен в этом.
Здесь, внутри гавани, туман был не таким густым. Он мог различить туманные очертания мола, быстро обретающие четкость. Через несколько секунд он узнает, ловушка это или нет — если батареи разразятся ураганом огня. Часть его рассудка была занята анализом ситуации, в то время как другая прикидывала способы приблизится к молу. Ему не верилось, что Лебрен ведет двойную игру, но даже если это так, только он и «Флейм» будут потеряны — у остальных судов есть шанс ускользнуть.
— Привестись к ветру! — сказал он рулевому. Прошло несколько мучительных секунд, пока он старался подвести «Флейм» к молу как можно быстрее, но не причинив, в то же время, серьезных повреждений. Бриг притерся к стенке со скрипом и скрежетом, кранцы застонали, словно испуская дух. Хорнблауэр (со шпагой, шляпой с перьями, эполетами и прочим) запрыгнул на фальшборт, а оттуда — на мол. Ему некогда было оглядываться вокруг, но он не сомневался, что «Порта Коэльи» бросила якорь, готовая прийти на помощь в случае необходимости, и что «Нонсач» в свою очередь приближается к молу, с морскими пехотинцами, готовыми к высадке. Он зашагал по молу, сердце его стучало. Вот первая батарея, жерла орудий выглядывают из амбразур. У пушек заметно было движение, другие люди бежали к батарее из находящейся за ней караулки. Достигнув края рва, он поднял левую руку, чтобы привлечь внимание орудийной прислуги.
— Где ваш офицер? — закричал Хорнблауэр.
Последовала минутная пауза, потом молодой человек в сине-красном мундире артиллериста запрыгнул на парапет.
— Что вам нужно? — спросил он.
— Прикажите своим людям не открывать огонь, — сказал Хорнблауэр. — Разве вы не получили новые приказы?
— Новые приказы? — неуверенно переспросил офицер.
Хорнблауэр изобразил раздражение.
— Отзовите ваших людей от пушек, — заявил он, — в противном случае может случиться пренеприятнейший инцидент.
— Но месье… — артиллерийский лейтенант указал на мол. Хорнблауэр теперь имел возможность бросить взгляд назад, и посмотрел в указанном направлении. То, что он увидел, заставило его сердце биться еще быстрее от радости. У мола стоял «Нонсач», «Камилла» уже готовилась пристать, но, что еще важнее, на пристани строилась мощная колонна одетых в красные куртки солдат. Одна ее часть во главе с офицером уже направлялась к ним быстрым шагом, с мушкетами, взятыми на плечо.
— Немедленно пошлите человека на следующую батарею, — сказал Хорнблауэр, — чтобы убедиться, что ее командир все понял.
— Но месье…
Хорнблауэр топнул ногой от нетерпения. Он слышал ритмичную поступь морских пехотинцев, и делал им знаки спрятанной за спину рукой.
Они промаршировали мимо него.
— Равнение налево! — приказал их командир, отдавая честь французскому офицеру. Этот жест вежливости лишил француза остатков решимости, так что очередной протест замер на его губах. Отряд морских пехотинцев принял влево, огибая батарею с фланга по самому краю сухого рва. Хорнблауэр не сводил глаз с юного француза на парапете, но представлял, что происходит сейчас на батарее. Задние ворота были открыты, и пехотинцы вошли через них, по-прежнему колонной по четыре, и по-прежнему держа мушкеты на плече. Вот они среди орудий, оттесняют прислугу, вырывая из рук горящие пальники. Молодой офицер в отчаянии заламывал руки.
— Все хорошо, что хорошо кончается, месье, — сказал Хорнблауэр. — Мог произойти весьма пренеприятный инцидент.
Теперь у него появилась возможность оценить обстановку. Другой отряд морской пехоты быстрым шагом двигался к следующей батарее. Прочие подразделения, моряки и пехота, направлялись к тем стратегическим пунктам, которые он определил им в приказах. К нему спешил Браун, с натугой одолевая подъем.
Цоканье подков заставило его обернуться снова: к ним галопом подлетел верховой французский офицер. Он натянул поводья, и лошадь остановилась, подняв фонтанчики гравия.
— Что все это значит? — спросил француз. — Что здесь происходит?
— Очевидно, что до вас не успели дойти новости, месье, — сказал Хорнблауэр. — Величайшие новости, которые знала Франция за последние двадцать лет.
— Что такое?
— Бонапарт больше не у власти, — произнес Хорнблауэр. — Да здравствует король!
Это были магические слова, слова, подобные древнему заклинанию или заклятию. Ни единый человек на всем пространстве Империи не осмеливался сказать «Vive le Roi!»[19] с 1792 года. У конного офицер отвисла челюсть.
— Это ложь! — закричал он, придя в себя. — Император правит.
Он оглянулся и подобрал поводья, собираясь ускакать прочь.
— Остановите его, Браун! — скомандовал Хорнблауэр.
Браун ринулся вперед, ухватил своими мощными руками ногу офицера и одним рывком вытащил его из седла. Хорнблауэр как раз во время схватил поводья, не дав лошади умчаться прочь. Браун обежал ее вокруг и вытащил ноги упавшего офицера из стремян.
— Мне нужна ваша лошадь, сэр, — сказал Хорнблауэр.
Он продел ногу в стремя и неуклюже вскарабкался в седло. Испуганное животное взбрыкнуло, и едва не сбросило его, однако он выгнулся в седле, с помощью поводьев повернул голову лошади в другую сторону, и позволил ей сумасшедшим галопом помчаться к другой батарее. Его украшенную перьями шляпу снесло, шпага и эполеты подпрыгивали и звякали, пока он старался удержаться в седле. Он промчался сквозь отряд морских пехотинцев, слушая, как те приветствуют его, и сумел остановить несущуюся лошадь прямо у края рва. Ему в голову пришла новая идея, он объехал батарею кругом и оказался у главных ворот.
— Открывайте, — закричал он, — именем короля!
Это было магическое слово. Раздался лязг засова, и верхняя створка массивной дубовой двери открылась. Оттуда на него уставились две изумленные физиономии. За ними он увидел нацеленный мушкет — возможно, он принадлежал какому-то фанатику-бонапартисту, а может быть, кому-то, кто не так легко поддается внушению.
— Отберите у него этот идиотский мушкет! — приказал Хорнблауэр. Ответственность момента добавила силы его голосу, так что ему подчинились беспрекословно. — А теперь, откройте ворота.
За спиной он слышал приближающийся топот шагов морских пехотинцев.
— Открывайте ворота! — проревел он.
Они подчинились, и он въехал на батарею. Здесь располагались двенадцать огромных двадцатичетырехфунтовых орудий, глядящих сквозь амбразуры вниз, на гавань. Сзади стояла жаровня для каления ядер, рядом с которой была сложена пирамида ядер. Если бы эти две батареи открыли огонь, ничто враждебное не смогло бы долго продержаться на воде, мало этого, они ими полностью простреливались мол и вся акватория. И эти батареи, с их парапетами высотой пять футов, сухими рвами глубиной в десять футов, вырубленными в камне, немыслимо было штурмовать, не прибегая к методам правильной осады. Очумевшие артиллеристы изумленно смотрели на него и на облаченных в красные куртки морских пехотинцев, втягивающихся внутрь вслед за ним. К нему подошел совсем еще зеленый младший лейтенант.
— Я не понимаю, сэр, — сказал он. — Кто вы, и почему так говорите?
Лейтенант не мог заставить себя произнести слово «король», это слово являлось табу, и мялся, словно старая дева, пришедшая на прием к доктору с деликатным вопросом. Хорнблауэр улыбнулся ему, изо всех сил стремясь сохранить самообладание, так как открыто выказывать свое торжество было неуместно.
— Это начало новой эры для Франции, — сказал он.
До его уха долетели звуки музыки. Хорнблауэр слез с лошади, предоставив ей брести, куда вздумается, и взошел на парапет по вырубленным в его обратной стороне ступенькам, лейтенант следовал за ним. Они стояли на парапете, огромные крылья семафора высились над их головами, и вся панорама порта открылась перед ними. Эскадра расположилась у мола, подразделения десантной партии, одетые в красные куртки или белые рубашки, маршировали здесь и там, а прямо по молу, направляясь к городу, шел оркестр морской пехоты. Били барабаны, пели трубы, красные мундиры, белые портупеи и блестящие инструменты представляли собой вдохновляющее зрелище. Это была последняя идея Хорнблауэра: ничто не могло бы убедить колеблющийся горизонт в его мирных намерениях лучше, чем оркестр, марширующий и спокойно играющий избранные произведения.
Оборонительные сооружения гавани были теперь неопасны — он выполнил свою часть плана. Чтобы не случилось с Лебреном, эскадре не угрожала серьезная опасность: если главный гарнизон откажется сдаться, и атакует его, он может заклепать орудия, взорвать пороховые погреба, и, почти без спешки, отверповать суда, захватив с собой всех пленных и добычу, которую сможет взять. Самый опасный момент прошел, когда патрульный катер выстрелил из пушки — стрельба заразительна. Однако тот факт, что прозвучал только один выстрел, пауза, туман, заставили неопытного офицера, под руководством которого находились батареи, ждать распоряжений, и дали Хорнблауэру возможность использовать свое личное влияние. Стало очевидно, что по-крайней мере эта часть замысла Лебрена удалась. Покидая «Флейм», Лебрен не раскрыл карт, использует ли банкет или военный совет, чтобы собрать всех старших офицеров, как бы то ни было, он преуспел в попытке ослабить оборону гавани во всех смыслах. Нельзя также отрицать, что рассказ Лебрена про ожидаемое сегодняшней ночью прибытие прорывателя блокады, и его требование, чтобы укрепления не открывали огня до тех пор, пока точно не определят принадлежность входящего в порт судна, тоже сыграли свою роль. Лебрен говорил Хорнблауэру, что намерен выжать все возможное из факта, когда атака на «Флейм», намеревающийся сдаться, дала возможность англичанам отбить его.
— Мне больше не нужна подобная путаница, — сказал Лебрен с ухмылкой. — Приказ, контр-приказ, неразбериха.
Тем или иным образом, но он сумел создать такую неразбериху и атмосферу неуверенности, что создал для Хорнблауэра все шансы для успеха — этот человек оказался прирожденным интриганом. Однако Хорнблауэр до сих пор не знал, увенчалась ли успехом остальная часть его coup d'état. Терять время было недопустимо: история знала слишком много примеров, когда успешно начатое многообещающее предприятие терпело крах единственно по причине того, что кто-то упустил психологически важный момент.
— Где моя лошадь? — сказал Хорнблауэр, оставив неудовлетворенным любопытство младшего лейтенанта, за исключением туманной констатации факта, что для Франции началась новая эра.
Он спустился с парапета и увидел, что какой-то сообразительный морской пехотинец держит лошадь. «Красные куртки» предпринимали нечеловеческие усилия, чтобы наладить дружеские отношения с французскими рекрутами. Хорнблауэр забрался в седло и выехал на открытое пространство. Ему хотелось сохранить темп наступления, но в то же время его нервировала мысль ввести десантную партию в город с его узкими улицами, пока он не уверен, что ей там окажут дружественный прием. Прибыл Ховард, грациозно сидящий на коне: разумеется, он был способен хорошо управляться с лошадью.
— Какие будут приказания, сэр? — спросил Ховард. Рядом с ним бежали Браун и два мичмана, последние, видимо, предназначались на роль посыльных.
— Пока нет, — ответил Хорнблауэр, стремившийся сохранить спокойствие, но на самом деле сгорающий от беспокойства.
— Ваша шляпа, сэр, — сказал незаменимый Браун, подобравший головной убор по пути от предыдущей батареи.
К ним галопом мчался всадник, на рукаве которого была повязана белая лента, в руке развевался белый носовой платок. Увидев золотое шитье на мундире Хорнблауэра, он натянул поводья.
— Это вы месье… месье… — начал он.
— Хорнблауэр. — ни один француз не в состоянии выговорить это имя.
— От барона Мома, сэр. Цитадель под контролем. Сам он будет на главной площади.
— Солдаты в казармах?
— Сохраняют спокойствие.
— Охрана главных ворот?
— Не знаю, сэр.
— Ховард, возьмите резерв. Отправляйтесь к воротам как можно быстрее. Этот человек пойдет с вами и поможет объяснить все охране. Если они не перейдут на нашу сторону, позвольте им бежать. Они могут отправиться вглубь страны — это не важно. Никакого кровопролития, насколько это будет зависеть от вас, но возьмите ворота под контроль.
— Есть, сэр.
Хорнблауэр растолковал французу, что он сказал только что.
— Браун, идемте со мной. Если понадоблюсь, я буду на главной площади, Ховард.
Отряд, который сумел сформировать Ховард, был невелик — горсть матросов и моряков, зато оркестр старался на совесть, пока Хорнблауэр с триумфом следовал по улицам. Люди смотрели на него с любопытством, мрачно или безразлично, но нигде не было заметно признаков активного неподчинения. На площади Отель де Виль было более шумно и многолюдно. Много верховых, отряд полиции, выстроенный в шеренгу, придавал происходящему респектабельный вид. В глаза ему бросилось обилие белых эмблем. Белые кокарды на шляпах жандармов, белые шарфы и нарукавные повязки на конных чиновниках. Белые флаги — очевидно, белые простыни, были вывешены в большинстве окон. Впервые более чем за двадцать последних лет белый цвет Бурбонов реял над землей Франции. Полный мужчина, подвязанный белым кушаком, на месте которого, как подозревал Хорнблауэр, вчера красовался триколор, поспешил к Хорнблауэр. Хорнблауэр дал оркестру знак остановиться, слез с лошади, передал поводья Брауну и отправился на встречу этому человеку, который, как он догадывался, и есть барон Мома.
— Наш друг, — сказал Мома, раскрыв объятия, — наш союзник!
Хорнблауэр позволил обнять себя — даже в этот момент его не покидала мысль, что же подумают стоящие за ним «кожаные загривки»,[20] когда увидят, как толстый француз целует коммодора, затем отдал честь остальным членам штаба мэра, подошедшим, чтобы приветствовать его. Лебрен, ухмыляясь, шел впереди.
— Великий миг, сэр! — произнес мэр.
— Воистину, великий миг, месье барон.
Мэр указал рукой на установленный с внешней стороны мэрии флагшток.
— Все готово к началу церемонии, — сказал он.
Лебрен подал ему какую-то бумагу, и Мома, взяв ее, взобрался на ступеньки у подножия флагштока. Прочистив легкие, он приступил к чтению, изо всех сил напрягая голос. Даже сейчас, в момент, когда вершилась измена, было заметно, насколько любят французы придавать всему форму и видимость законности. Прокламация изобиловала архаизмами, и казалось, что это нудное чтиво никогда не закончится. Там говорилось о злодеяниях узурпатора, Наполеона Бонапарта, отрицались все его притязания на власть, отвергалось всякое подчинение ему. Вместо этого провозглашалось, что французы добровольно признают нерушимое правление Его наихристианнейшего величества Людовика XVIII, короля Франции и Наварры. При этих словах люди у подножья флагштока засуетились вокруг фала, и белый штандарт Бурбонов заполоскал на мачте. Пришло время ответного жеста со стороны британцев. Хорнблауэр повернулся к своим людям.
— Троекратное «ура» в честь короля! — закричал он.
Он взмахнул над головой своей украшенной плюмажем шляпой.
— Гип-гип-гип… — начал он.
— Уррраа! — отозвались морские пехотинцы.
Клич звонко распространился по площади. Скорее всего, девять из десяти пехотинцев не имели представления, в честь какого короля кричат «ура», но это не имело значения.
— Гип-гип-гип…
— Уррраа!
— Гип-гип-гип…
— Уррраа!
Хорнблауэр водрузил шляпу обратно и чопорно отсалютовал белому флагу. Теперь было самое время, чтобы приступить к организации обороны города от ярости Бонапарта.
Глава 11
— Ваше превосходительство, — произнес Лебрен, проскальзывая в комнату, где за столом расположился Хорнблауэр, — делегация рыбаков просит вашей аудиенции.
— Да? — сказал Хорнблауэр. Имея дело с Лебреном, он старался не делать поспешных шагов.
— Я постарался выяснить, чего они хотят, Ваше превосходительство.
Никто и не посмел бы сомневаться, что Лебрен вызнает положение вещей. И пока Хорнблауэр не спешил развеивать вполне естественное заблуждение Лебрена, что ему нравится повторяющееся через фразу обращение «Ваше превосходительство», и что в результате этого Хорнблауэр станет более уступчивым впоследствии.
— Да?
— Дело в том, что одно из их судов было захвачено в качестве приза.
— Да?
— У судна имелся подписанный вами сертификат, подтверждающий, что он вышло из свободного порта Гавр, и все-таки английский военный корабль захватил его.
— Правда?
Факт, не известный Лебрену, состоял в том, что на столе перед Хорнблауэром лежал рапорт капитана английского брига, совершившего захват. Капитан был уверен в том, что судно, незадолго до захвата, вышло из Онфлера, лежащего на другом берегу эстуария, продав там свой улов. Онфлер по-прежнему находился под властью Бонапарта, и как следствие, на него распространялась блокада, поэтому за рыбу там можно было выручить в три раза больше, чем в освобожденном Гавре. Речь шла о торговле с врагом, и Призовой суд вынесет по этому вопросу однозначное решение.
— Нам важно сохранить расположение жителей, Ваше превосходительство, особенно моряков. Не могли бы вы заверить делегацию, что лодка будет возвращена владельцам?
Хорнблауэр мог только догадываться, сколько владельцы рыболовных судов города отвалили Лебрену за то, чтобы он использовал свое влияние в их пользу. Если Лебрен будет стремиться к богатству так же, как стремился к власти, ему не трудно будет сделать себе состояние.
— Пригласите делегацию войти, — сказал Хорнблауэр. У него было несколько секунд, чтобы подготовить свою речь, это было к лучшему, так как его французский не вполне позволял найти подходящую замену какому-либо слову или грамматической конструкции в случае необходимости.
Вошла делегация — три седовласых нормандских рыбака, одетых в лучшие воскресные костюмы и хранящие выражение подчеркнутой почтительности. На лицах, конечно, насколько это допускала их сдержанная натура, просвечивала радость — в приемной Лебрен наверняка заверил их том, что удовлетворение их требований — дело решенное. Они были застигнуты врасплох, когда Хорнблауэр повел речь о торговле с врагом и ее последствиях. Хорнблауэр указал на то, что Гавр находится в состоянии в войны с Бонапартом, войны не на жизнь, а на смерть. Если Бонапарт выйдет из борьбы победителем и возьмет Гавр, головы сотнями полетят с плеч. Сцены террора, свидетелем которых стал двадцать лет назад Тулон, могут повториться в Гавре в гораздо большем масштабе. По-прежнему необходимо объединить усилия, чтобы низвергнуть тирана. Он предложил им сосредоточиться на этом, и не предпринимать дальнейших попыток улучшить собственное благосостояние. Хорнблауэр завершил разговор заявлением, что он не только передаст захваченное рыболовецкое судно под юрисдикцию британского Призового суда, но и что у него имеется твердое намерение в случае повторения подобных событий предавать экипаж судов суду военного трибунала, решение которого определенно будет означать смерть.
Лебрен препроводил делегацию на выход. На мгновение Хорнблауэр задумался, как объяснит Лебрен свою неудачу, однако лишь на мгновение. Плотность и напряженность работы губернатора Гавра были огромны: при взгляде на кипу бумаг, высившуюся на столе, Хорнблауэр вздохнул. Столько всего нужно сделать: из Англии только что прибыл Секстон, инженерный офицер, который требовал построить новую батарею — то ли полулюнет, то ли редан, как это звучало на его варварском саперском наречии — чтобы обеспечить оборону Руанских ворот. Все это хорошо, вот только чтобы построить его, необходимо организовать для жителей города принудительные работы. Была еще целая куча бумаг из Уайтхолла, по большей части донесения шпионов, касающиеся сил и передвижений Бонапарта. Он обычно просматривал их вскользь, однако одна или две из них требовали внимательного прочтения. А еще вопрос о разгрузке транспортов с продовольствием, которые прислал ему Уайтхолл: без сомнения, Гавр должен быть хорошо обеспечен на случай осады, но перед ним встала задача разместить тысячи бочек солонины. Потом — проблема патрулирования улиц. Хорнблауэр подозревал, что прежний персонал полиции оказался замешан в устранении нескольких видных бонапартистов (он даже догадывался, что к этому приложил руку Лебрен), и уже имели место попытки расправ путем тайных убийств. Сейчас, когда город находится под контролем, он не мог допустить риска его раскола на два лагеря. Военный трибунал продолжал рассмотрение дело мятежников с «Флейма» — тех, которых он не помиловал. Им неизбежно будет вынесен смертный приговор, и это тоже было пищей для размышлений. Будучи губернатором Гавра, он в то же время являлся коммодором британской эскадры, и великое множество дел, связанных с эскадрой, тоже требовали его внимания. Он обязан принять решение о …
Хорнблауэр уже встал и расхаживал вперед-назад. Эта просторная комната в Отель де Виль подходила для таких «прогулок» намного лучше, чем любой квартердек. Прошло уже две недели с тех пор, как он оказался лишен свежего воздуха и бесконечного горизонта. Он расхаживал, обдумывая необходимые решения, опустив голову и сцепив руки за спиной. Вот расплата за успех — быть запертым в кабинете, прикованным к письменному столу, распределяя свое время между дюжиной руководителей департаментов и бесчисленных количеством лиц, ищущих себе выгод. Он с таким же успехом мог быть городским торговцем, а не морским офицером, за исключением того, что как на морского офицера, на него возлагалась дополнительная ответственность и забота отсылать ежедневно в Уайтхолл пространные рапорты. Возможно, исполнять обязанности губернатора Гавра и находится на острие атаки против Бонапарта, было делом очень почетным, но крайне обременительным.
Потом появилась новая помеха — немолодой офицер в темно-зеленом мундире, размахивающий листком бумаги. Это был — как же его зовут… Да, Хоу — капитан Шестидесятого стрелкового. Никто не знает, к какой же нации принадлежит он на данный момент, возможно, даже он сам. Шестидесятый стрелковый, с тех пор как он утратил свое наименование Королевский Американский, стал прибежищем для всех иностранцев на службе короля. Кажется, до французской революции он был каким-то судебным чиновником в одном из бесчисленных крошечных государств на французской стороне Рейна. Его государь уже в течение двадцати лет являлся изгнанником, подданные этого государя стали за это время французами, а сам он в течение этих двадцати лет исполнял особые поручения британского правительства.
— Прибыл пакет из министерства иностранных дел, сэр, — сказал Хоу, — а это сообщение помечено грифом «Срочно».
Хорнблауэр отвлекся от вопроса о подборе новой кандидатуры на должность juge de paix,[21] призванного заменить прежнего, который, по всей видимости, сбежал на бонапартистскую территорию, чтобы заняться новой проблемой.
— Они посылают нам принца, — сказал Хорнблауэр, прочитав письмо.
— Какого именно, сэр? — спросил Хоу, с чрезвычайным любопытством.
— Герцога Ангулемского.
— Законный наследник по линии Бурбонов, — со знанием дела заявил Хоу. — Старший сын графа Артуа, брат Людовика. По материнской линии он отпрыск Савойского дома. И женат на Марии-Терезии — Пленнице Тампля, дочери замученного Людовика XVI. Хороший выбор. Ему сейчас должно быть около сорока.
Хорнблауэр смутно представлял, что будет для него означать приезд принца. В некоторых случаях удобно иметь формального начальника, однако Хорнблауэр предвидел (он старался избавиться от пустых иллюзий), что присутствие герцога частенько будет создавать для него дополнительные и ненужные трудности.
— Если ветер будет благоприятным, он прибудет завтра, — сказал Хоу.
— Это так, — произнес Хорнблауэр, глядя через окно на флагшток, где бок о бок развевались флаги Соединенного королевства и Бурбонов.
— Он должен быть принят со всей подобающей данному случаю торжественностью, — заявил Хоу, незаметно для себя перейдя на французский, видимо, в соответствии с направлением мыслей. — Впервые за двадцать лет нога Бурбонского принца ступает на французскую землю. На причале его должны приветствовать все официальные лица. Королевский салют. Процессия идет к церкви. Там исполняется «Te Deum».[22] Затем все идут в Отель де Виль, где проводится большой прием.
— Это все ваша забота, — сказал Хорнблауэр.
Стоял лютый зимний холод. Здесь, на причале, где Хорнблауэр ждал подхода фрегата, доставившего герцога, дул леденящий северо-восточный ветер, насквозь пронизывавший плотный плащ. Хорнблауэру было жаль матросов и солдат, выстроенных в шеренги, и других матросов, расположившихся на реях стоявшего в гавани линейного корабля. Сам он только что прибыл из Отель де Виль, оставаясь там до самого последнего момента, пока посыльный не сообщил, что герцог вот-вот прибудет, а гражданские чины и младшие офицеры провели здесь уже некоторое время. У Хорнблауэра создалось впечатление, что он звучащее в унисон клацанье зубов.
Он с профессиональным интересом наблюдал, как верпуется фрегат, до него доносилось звяканье брашпиля и отрывистые команды офицеров. Корабль медленно подходил к молу. Траповые и помощники боцманов засуетились, спуская трап, за ними следовали офицеры в парадных мундирах. Почетный караул из морских пехотинцев построился. С трапа на причал были перекинуты сходни, появился герцог — высокий, важный человек в гусарском мундире, с голубой лентой на груди. На корабле заиграли бацманские дудки, пехотинцы взяли «на караул», офицеры отдали честь.
— Подойдите и поприветствуйте Его королевское высочество, сэр, — подсказал Хоу, стоявший рядом с Хорнблауэром.
На сходнях располагалась магическая линия, перейдя которую герцог покинул британский корабль и оказался на земле Франции. Французский королевский штандарт пополз вниз с грот-мачты фрегата. Издав последний экстатический взвизг, замолкли дудки. Сводный оркестр разразился торжественным маршем, зазвучали приветственные крики, моряки и солдаты почетного караула салютовали оружием в манере, присущей двум различным видам войск и двум разным нациям.
Хорнблауэр вышел вперед, приложив к груди шляпу с плюмажем жестом, который он с таким трудом разучивал под руководством Хоу этим утром, и поклонился представителю Его наихристианнейшего величества.
— Сэр Орацио, — прочувствованно произнес герцог: за все годы пребывания в изгнании он так и не избавился от проблем с придыханием, свойственных французам. Оглядевшись вокруг, он произнес:
— Франция, прекрасная Франция.
Хорнблауэру трудно было представить себе что-то менее «прекрасное», чем набережная Гавра при северо-восточном ветре, но герцогу было виднее, кроме того, эти слова очень подходили для занесения в анналы. Не исключено, что их герцогу подсказал кто-то из степенных, облаченных в мундиры сановников, вслед за герцогом проследовавших по сходням. Одного из них герцог представил как месье …(Хорнблауэр не разобрал имени), кавалера ордена …, а этот джентльмен, в свою очередь, представил конюшего и военного секретаря.
Краем глаза Хорнблауэр видел толпу чиновников, стоящих позади него, которые распрямились после долгого поклона, но все еще продолжали держать шляпы в руках.
— Наденьте шляпы, господа, прошу вас, — произнес герцог, и седины и плеши скрылись из глаз, как только сановные чины получили милостивое разрешение укрыть их от зимнего ветра.
У герцога зубы тоже, наверняка, клацали от холода. Хорнблауэр бросил взгляд на Хоу и Лебрена, которые, сохраняя вид невозмутимой вежливости, старались локтями оттеснить друг друга так, чтобы оказаться ближе к нему и герцогу, и принял решение свести дальнейшие мероприятия к минимуму, проигнорировав обширную программу, которую предложили ему Хоу и Лебрен. Какой смысл было присылать сюда бурбонского принца и позволить ему умереть от пневмонии? Ему необходимо представить Мома — имя барона, конечно, должно войти в историю, и Буша, старшего морского офицера — по одному от каждой страны, чтобы продемонстрировать согласие между ними, что было весьма кстати, так как Буш обожал высокопоставленных персон и преклонялся перед монархией. Герцог займет важное место в памятном списке Буша, который открывал царь всея Руси. Хорнблауэр обернулся и сделал знак, чтобы подвели лошадей, конюший бросился, чтобы подержать стремя, и герцог вскочил в седло — прирожденный наездник, как и все в его семье. Хорнблауэр оседлал спокойную лошадку, которую выбрал для себя, остальные последовали его примеру: кое-кто из гражданских испытывал неудобства из-за непривычки носить шпагу. До церкви Богоматери было каких-то четверть мили, и Лебрен предусматривал, что каждый ярд этого пути должен выражать верноподданнические чувства по отношению к Бурбонам: белые флаги в каждом окне, украшенная лилиями триумфальная арка у западного портала церкви. Однако крики собравшихся на улице людей казались жидкими на пронизывающем ветру, да и сама процессия не выглядела очень торжественной, так как каждый старался протиснуться вперед в поисках убежища. Церковь милостиво предоставила им такое убежище — как в переносном смысле она служит таковым для грешников — подумал Хорнблауэр, прежде чем лавина дел снова захлестнула его. Он занял свое место позади герцога, держа в поле зрения Лебрена, специально разместившегося здесь для удобства Хорнблауэра. Наблюдая за ним, Хорнблауэр мог понять, как нужно себя вести: когда стоять, а когда опуститься на колени, ведь это был первый раз, когда он находился в католическом храме и присутствовал на католическом богослужении. Ему было немного жаль, что вереница мыслей не позволила ему наблюдать за происходящим с должным вниманием. Одеяния, вековые обряды могли заинтересовать его, если бы не размышления о том, на что надавил Лебрен, чтобы убедить священников преодолеть страх перед гневом Бонапарта и вести службу, и том, какую же толику реальной власти захочет получить этот отпрыск рода Бурбонов, а также о том, какая доля правды содержится в начавших стекаться к нему сведениях, говорящих, что императорские войска, стали, наконец, продвигаться к Гавру.
Аромат ладана, тепло, усталость и череда непоследовательных мыслей ввели его в дремотное состояние, подбородок его начал уже было клониться вниз, но заметив, что Лебрен поднялся на ноги, он проснулся. Хорнблауэр поспешил последовать его примеру, и процессия потянулась к выходу из церкви.
От Нотр Дам они, пронизываемые ветром, проехали по Рю де Пари, и сгрудились в кучу перед входом в Отель де Виль. Приветственные крики людей звучали тихо и без воодушевления, а движения герцога, когда он махал рукой или приподнимал шляпу, казались механическими. Его королевское высочество обладал стоическим терпением, позволявшим переносить трудности в присутствии народа — свойство, присущее монархическим особам, однако ему, видимо, пришлось заплатить за это дорогой ценой — он сделался молчаливым и замкнутым. Хорнблауэр размышлял, чего можно ожидать от герцога, ведь скоро под его формальным руководством французам предстоит проливать кровь французов, и наступит ли тот момент, когда он сможет положиться на сторонников Бурбонов в борьбе против бонапартистов?
Хорнблауэр продолжал наблюдать за ним в большом зале в Отель де Виль, где, вопреки зажженным в обоих концах каминах, было жутко холодно. Герцог приветствовал представителей местных властей с женами, которых по очереди подводили к нему. Искусственная улыбка, вежливое, но формальное приветствие, тщательно выверенный, в соответствии со статусом, знак внимания: от кивка головы до легкого поклона. Все это свидетельствовало о хорошей школе. Рядом и позади него стояли советники — émigré[23] аристократы, которых он привез с собой, Мома и Лебрен представляли Францию послереволюционного периода, Хоу следил за соблюдением интересов Британии. Немудрено, что герцог выглядел марионеткой в окружении этих людей, дергавших за веревочки.
Хорнблауэр видел красные носы и неприкрытые перчатками красные локти женщин, трясущихся от холода в до предела декольтированных придворных туалетах. Жены торговцев и мелких чиновников, получив приглашение в самый день приема, были одеты кое-как, на скорую руку. Полные туго зашнурованы в корсеты, более худые пытались демонстрировать не сдерживаемую корсетом томность нарядов, бывших в моде лет десять назад. Они бурлили от возбуждения при мысли о предстоящей встрече с царственной особой. Их мужья, казалось, заразились этим чувством, оживленно курсируя от группы к группе. Но Хорнблауэр знал, что является причиной их беспокойства: до тех пор, пока неизмеримая мощь Бонапарта не будет сломлена, лишь несколько дней могут отделять их, с их маленькими состояниями или надеждами на получение пенсиона, от того, чтобы стать нищими изгнанниками или жертвами гильотины. Одной из причин присутствия здесь герцога было заставить этих людей открыто признать себя сторонниками Бурбонов, и откровенные намеки Лебрена в частных беседах давали ясно понять, зачем они здесь. Конец сомнениям и терзаниям — в будущем история будет вспоминать лишь о блистательном приеме, ознаменовавшем прибытие бурбонского принца на землю Франции. Хорнблауэру пришла вдруг в голову мысль, что в подоплеке приема, устроенного Молодым Претендентом в Холируде,[24] лежали те же самые причины, чтобы там не утверждали позднейшие легенды. С другой стороны, прием у Претендента не был украшен присутствием красных мундиров морской пехоты и голубых с золотом флотских.
Кто-то прикоснулся к рукаву его мундира, прикосновение, как ему показалось, было предостерегающим. Неспешно повернувшись, он увидел Брауна, одетого в лучший костюм.
— Меня послал к вам полковник Доббс, сэр, — заявил Браун.
Он говорил тихо, стараясь не смотреть прямо на капитана и не шевелить губами больше, чем необходимо. Ему одинаково не хотелось привлекать внимание собравшихся к своему присутствию, и дать возможность кому-нибудь услышать его слова.
— Ну?
— Прибыло донесение, сэр, и полковник Доббс считает, что вы должны на него взглянуть, сэр.
— Я буду через секунду.
— Есть, сэр.
Браун исчез: несмотря на массивность и рост, он мог быть совершенно незаметным, когда это было ему нужно.
Хорнблауэр выждал достаточно долго для того, чтобы ни у кого не создалось впечатления, что его уход связан с сообщением Брауна, и затем миновал стоящих у двери часовых. Прыгая через ступеньку, он поднялся в свой кабинет, где его ждал одетый в красный мундир морской пехоты полковник.
— Они, наконец, идут, сэр, — сказал Доббс, протягивая Хорнблауэру донесение.
Оно представляло собой длинную, узкую полоску бумаги, и даже такая узкая, она была сложена как по длине, так и по ширине. Письмо было таким странным, что Хорнблауэр, прежде чем приступить к чтению, вопросительно посмотрел на Доббса.
— Оно было спрятано в пуговице плаща посланца, сэр, — пояснил Доббс. — От агента в Париже.
Хорнблауэр знал, что многие высокопоставленные лица предают своего владыку — императора, продавая военные и политические секреты, как ради сиюминутной выгоды, так и ради будущей карьеры. Это письмо, должно быть, послано одним из таких людей.
— Посланец выехал из Парижа вчера, — сказал Доббс. — Добрался на почтовых до Онфлера и пересек реку сегодня после наступления темноты.
Письмо было написано человеком, хорошо знавшим свое дело.
«Сегодня утром, — говорилось в нем, — осадные орудия из артиллерийского парка в Саблоне были отправлены вниз по реке. Они входят в 107-й артиллерийский полк. Орудия двадцатичетырехфунтовые, их, насколько мне известно, двадцать четыре. Полку приданы три инженерные роты и рота минеров. Говорят, что командует войсками генерал Кио. Мне неизвестно, какие еще силы будут переданы в его распоряжение».
Подписи не было, а почерк изменен.
— Оно подлинное? — задал вопрос Хорнблауэр.
— Да, сэр. Харрисон это подтверждает. И оно согласуется с другими сведениями, полученными из Руана.
Значит Бонапарт, увязший на востоке Франции в борьбе с русскими, австрийцами и пруссаками, на юге ведущий схватку не на жизнь, а на смерть с Веллингтоном, все-таки изыскал силы для устранения новой угрозы на севере. Пункт назначения осадной артиллерии не вызывал сомнений. Единственными противниками вниз по Сене от Парижа были только изменники из Гавра: присутствие саперов и минеров служило неопровержимым доказательством того, что готовится осада, и пушки явно направлялись не затем, чтобы усилить какие-нибудь береговые укрепления. Кроме того, в Руане Кио собрал около двух дивизий.
Сена предоставляла для Наполеона все удобства для нанесения удара по Гавру. По воде тяжелые орудия можно перевозить с гораздо большей скоростью, чем по дорогам, особенно по зимним дорогам. Даже войска, посаженные на баржи, будут двигаться быстрее, чем пешим порядком. День и ночь эти баржи будут идти вниз по реке — сейчас они, должно быть, уже приближаются к Руану. Подход Кио к городу — вопрос, возможно, лишь нескольких дней. В голове Хорнблауэра всплыли воспоминания о последней осаде, которую ему довелось пережить — осаде Риги. Он вспомнил про ползущие вперед апроши, неуклонное приближение туров и фашин — не исключено, что через несколько дней на него ляжет ответственность отражения этой смертельной угрозы.
Он почувствовал приступ ярости по отношению к Лондону, оказавшему ему такую слабую поддержку — за те две недели, которые Гавр находится в руках британцев, многое можно было бы сделать. В своих письмах он резко, насколько мог себе позволить, указывал на бесперспективность нерешительной политики — ему припомнилось, что он употребил именно эти слова, но Англия, истекшая кровью за двадцать лет войны, бросившая все силы на поддержку армии Веллингтона на юге, мало что могла уделить ему. Организованному им восстанию суждено было играть оборонительную роль, являясь лишь незначительным военным эпизодом в этом гигантском кризисе. С точки зрения политики и морали последствия сделанного им были огромны, в чем его льстиво заверяли политики, но средства, которыми он располагал для достижения военного результата, оставляли желать много лучшего. Бонапарт, империя которого разваливалась, который вел бой не на жизнь, а на смерть на заснеженных полях Шампани, все-таки изыскал две дивизии и осадный парк для того, чтобы отбить Гавр. Возможно ли победить этого человека?
Хорнблауэр забыл о присутствии полковника морской пехоты, глядя сквозь него невидящим взором. Пришло время, когда восстание должно перейти от обороны к нападению, и предпринять атаку на врага, какими скромными средствами оно бы не располагало, и каким сильным не был бы противник. Нужно что-то предпринять, на что-то отважиться. Он не допускал мысли о том, чтобы запереться в укреплениях Гавра, словно кролик в норе, ожидая, когда Кио со своими саперами придет и выкурит его оттуда.
— Дайте мне еще раз взглянуть на карту, — сказал он Доббсу. — В какой стадии сейчас прилив? Вы не знаете? В таком случае, выясните это, приятель, и немедленно. И еще — мне нужна информация о дорогах, связывающих Гавр и Руан. Браун! Ступайте, и вызовите капитана Буша с приема.
Он продолжал строить планы и отдавать распоряжения, когда в кабинет вошел Хоу.
— Прием подходит к концу, сэр — заявил он. — Его королевское высочество вот-вот уйдет.
Хорнблауэр бросил еще один взгляд на разложенную перед ним карту низовий Сены. Мозг его был занят расчетами, касающимися фаз приливов и расстояний.
— Ах да, хорошо, — сказал он, — я буду через пять минут.
Войдя в зал, он улыбался — множество наблюдавших за ним глаз заметило это. Была какая-то ирония в том, что собравшиеся на приеме добропорядочные люди почувствовали себя увереннее из-за того, что Хорнблауэр получил известие об угрожающей их городу скорой опасности.
Глава 12
Ветреный хмурый день уступал место столь же хмурой ночи. Пока Хорнблауэр стоял на причале, наблюдая за приготовлением шлюпок к отправке, сумерки становились все гуще. Было достаточно темно и пасмурно для того, чтобы сделать приготовления невидимыми из города, именно это преимущество он и собирался использовать. Это был удобный момент, чтобы начать посадку морских пехотинцев и моряков в шлюпки: до прилива оставался всего лишь час, и терять нельзя ни единой минуты.
Вот еще одна из издержек успеха — стоять здесь и смотреть, как другие отправляются в экспедицию, которую он с удовольствием возглавил бы сам. Но губернатор Гавра и коммодор не имеет права рисковать жизнью и свободой, участвуя в какой-то мелкой вылазке. Силы, которые он выделил для этого, умещались в полдюжины корабельных шлюпок, и были столь малы, что он сомневался, стоит ли отдавать их под командование пост-капитану.
Приковылял Буш: стук его деревянного протеза по булыжнику перемежался с легким шагом единственной ноги.
— Будут еще приказы, сэр? — спросил он.
— Нет, никаких. Я просто хочу пожелать вам удачи, — сказал Хорнблауэр.
Он протянул руку, и Буш пожал ее — удивительно, рука его оставалась такой же крепкой и мозолистой, точно до сих пор тянула брасы и фалы. Он встретил взгляд доверчивых голубых глаз Буша.
— Спасибо, сэр, — сказал тот, и после секундного колебания прибавил, — не беспокойтесь за нас, сэр.
— Поскольку командир — вы, я буду спокоен, — ответил Хорнблауэр.
Это отчасти было правдой. За годы совместной службы Буш изучил его методы, и можно быть уверенным, что план будет исполнен в точности. Так же как и он, Буш хорошо понимал ценность внезапности, важность нанесения быстрого и неожиданного удара, необходимость четкого взаимодействия между всеми подразделениями.
Шлюпка с «Нонсача» стояла у мола, в нее спускались морские пехотинцы. Пока моряки удерживали ее, пехотинцы, плотно прижимаясь друг к другу, рассаживались по банкам, держа мушкеты между коленями, стволами вверх.
— Все готово, сэр? — раздался голос с кормы.
— Счастливо, Буш, — сказал Хорнблауэр.
— До свидания, сэр.
Сильные руки Буша позволили ему, не смотря на протез, с легкостью забраться в шлюпку.
— Отваливай.
Шлюпка отошла от причала, две другие последовали ее примеру. Было еще достаточно светло, чтобы видеть, как от бортов кораблей, стоящих на якоре в гавани, отчаливают остальные шлюпки флотилии.
— Навались!
Шлюпка Буша повернула и повела караван к устью реки. Ночная тьма поглотила ее. Несмотря на это, Хорнблауэр, прежде чем повернуть назад, еще стоял некоторое время, вглядываясь в темноту. Принимая во внимание состояние дорог и донесения шпионов, не возникало сомнений в том, что Кио доставит осадный парк по воде до Кодебека — баржи смогут перемещать тяжелые двадцатичетырехфунтовые орудия на пятьдесят миль в день, в то время как по раскисшим дорогам такое расстояние не удастся преодолеть менее чем за неделю. В Кодебеке имеется эстакада, оборудованная приспособлениями, облегчающими работу с тяжелыми грузами. Он предполагал, что Кио выдвинет охрану к Лильбонну и Больбеку, чтобы прикрыть выгрузку. У шлюпок есть неплохие шансы подняться с помощью прилива вверх по реке, и незамеченными подобраться под покровом темноты к эстакаде. В таком случае десантный отряд сможет разорить и спалить все дотла. Скорее всего, наполеоновские войска, контролирующие сушу, не допускают даже возможности того, что высланная по воде экспедиция может обойти их с фланга, а если и допускают, то все равно остается значительная вероятность, что быстро двигаясь с помощью прилива, она сумеет в темноте прорваться сквозь оборонительные позиции и достичь барж. Хотя строить такие успокаивающие умозаключения было достаточно просто, он не с легким сердцем смотрел, как шлюпки исчезают в этой кромешной тьме. Хорнблауэр повернулся и пошел по Рю де Пари к Отель де Виль. С полдюжины смутно различимых фигур отделились от углов улицы и пристроились в нескольких шагах позади и впереди него — это были телохранители, приставленные к нему Хоу и Лебреном. При мысли о том, что он будет расхаживать по городу в одиночку, и, что еще хуже, пешком, оба они в ужасе замахали руками и стали закатывать глаза. А когда он наотрез оказался от приставленного к нему военного эскорта, они предприняли собственные меры. Хорнблауэр стремился идти с максимальной скоростью, которой позволяли ему развить длинные худые ноги. Это упражнение доставляло ему удовольствие, и он улыбался про себя, слыша топот своих сопровождающих, которые старались сохранить дистанцию — что интересно, у большинства из них были короткие ноги.
В своей спальне он мог найти уединение, на которое не смел надеяться в любом другом месте. Едва Браун зажег свечи в стоящем на ночном столике у изголовья подсвечнике, он отпустил его, и со вздохом облегчения растянулся на кровати, прямо в мундире. Он вновь поднялся, чтобы раскинуть над собой шлюпочный тент, так как в комнате, несмотря на пылавший в очаге огонь, было холодно и сыро. Теперь, наконец, он мог взять газеты из лежащей у изголовья постели кучи и приняться за внимательное чтение отмеченных статей, которые до этого только пробежал взглядом. Газеты прислала ему Барбара. Ее письма — читанные-перечитанные, лежали у него в кармане, однако за целый день он не смог выкроить время для газет.
Если пресса, как утверждают, является выразителем мнения народа, то значит, британская общественность очень высоко оценивала и его самого, и его недавние деяния. Удивительно, но Хорнблауэру потребовалось приложить немало усилий, чтобы уловить настроение того времени, а ведь прошло всего лишь несколько недель: разнообразные хлопоты, связанные с исполнением обязанностей губернатора Гавра, оттеснили события, относящиеся к захвату города, в глубь его воспоминаний, сделав их размытыми и неопределенными. Но перед ним лежала «Таймс», в хвалебных тонах расписывающая то, как он установил контроль над ситуацией в заливе Сены. Меры, предпринятые им для того, чтобы не допустить передачи «Флейма» мятежниками в руки французских властей, оценивались как «образец находчивости и мастерства, какого нам и следовало ожидать от такого выдающегося офицера». Высокопарный стиль статьи создал у Хорнблауэра впечатление, что слово «нам» здесь было бы более уместно писать с заглавной буквы.
«Морнинг кроникл» живописала захват «Флейма» через палубу «Бон Селестин». В истории существовал единственный пример подобного подвига — взятие Нельсоном корабля «Сан Хосеф» при Сент-Винсенте. От такой формулировки у Хорнблауэра полезли на лоб брови. Сравнение было совершенно неуместным. Ему не оставалось ничего иного — только одолеть команду «Бон Селестин», так как ни один человек из числа экипажа «Флейма» не пошевелил и пальцем, чтобы воспрепятствовать захвату судна. Сопоставлять его с Нельсоном было нелепо. Нельсон был человеком выдающимся, высокого полета мысли, заражавшим своей энергией всех, кто находился рядом с ним. В сравнении с ним он являлся всего лишь удачливым подмастерьем. Причиной всех его успехов было везение: везение, тщательное обдумывание и преданность подчиненных. Это ужасно, что его сравнивают с Нельсоном — ужасно и неприлично. Продолжая читать, Хорнблауэр ощутил, что у него начало посасывать под ложечкой, как это бывало в первые часы на корабле, после долгого пребывания на суше. Теперь, когда его поставили на один уровень с Нельсоном, и общественность, и флот будут оценивать его будущие действия по той же высокой шкале, и это больно отзовется на нем в случае неудачи. Он забрался высоко, и, как и следовало ожидать, оказался в результате на краю пропасти. Хорнблауэр вспомнил то, что почувствовал, когда еще гардемарином забрался в первый раз на грот-мачту «Индефатигейбла». Карабкаться наверх было нетрудно, даже идти по футоксам, но когда он оказался на верхушке и взглянул вниз, от ужаса перед разверзшейся перед ним бездной почувствовал тошноту и головокружение — как и сейчас.
Он отбросил «Морнинг кроникл» в сторону и взял «Анти галликан». Здесь автор статьи злорадствовал по поводу судьбы бунтовщиков. Он смаковал подробности смерти Натаниэля Свита, особо выделяя факт, что тот погиб именно от руки Хорнблауэра. Развивая тему, журналист выражал надежду, что сообщники Свита по ужасному преступлению понесут вскоре заслуженное наказание, и что удачное возвращение «Флейма» Хорнблауэром не будет использовано как обстоятельство, дающее им право на помилование или смягчающее вину. Хорнблауэр, подписи которого ждали двадцать смертных приговоров, вновь почувствовал приступ тошноты. Этот писака из «Анти Галликана» не знает, что такое смерть. Перед мысленным взором Хорнблауэра в который раз всплыло воспоминание о стелящихся по воде седых волосах Свита после того, как рассеялся дым от мушкетного выстрела. Этот тип — Чедвик, обещал разжаловать его и потом подвергнуть порке. Уже в двадцатый раз Хорнблауэр признался сам себе, что тоже взбунтовался бы, столкнувшись с перспективой такого наказания. Этот писатель представления не имел об отвратительном хрусте, с которым кошка-девятихвостка опускается на обнаженную спину. Ему никогда не приходилось слышать криков боли, которые издает взрослый человек под пыткой.
Более поздний номер «Таймс» обсуждал тему взятия Гавра. Тут были слова, которые так боялся Хорнблауэр, но на латыни, чего вполне можно было ожидать от «Таймс». Initium finis — начало конца. «Таймс» ожидала, что власть Наполеона, продержавшаяся все эти годы, рухнет за ближайшие несколько дней. Переправа через Рейн, падение Гавра, переход Бордо на сторону Бурбонов, укрепляли автора в мысли, что Бонапарта незамедлительно свергнут с трона. А Бонапарт тем самым временем во главе мощной армии отражал удары врагов. Последние донесения рассказывали о его победах над пруссаками и австрийцами, на юге Веллингтон лишь медленно теснил Сульта. За исключением этих бумагомарак, сидящих в своей пыльной конторе на Принтинг-Хауз Сквер, никто не предвидел скорого окончания войны.
Тем не менее, читая газеты, он испытывал какое-то болезненное наслаждение. Хорнблауэр отложил этот экземпляр и потянулся за другим, уверенный, что не найдет там ничего, что не огорчило или не испугало бы его. Противиться этому соблазну было также трудно, как наркоману удержаться от опиума. Хорнблауэр опять и опять пробегал отмеченные места, рассказывающие, в основном, о его достижениях. Так какая-нибудь старая дева, оставшись случайно одна дома в хмурую ночь, читает ужасные рассказы из «Монаха» Льюиса, слишком испуганная, чтобы остановиться, но понимающая, что с каждым прочитанным словом остановиться будет еще страшнее.
Он не успел еще разобраться с кипой газет, когда почувствовал, что кровать под ним слегка вздрогнула, а огоньки свечей затрепетали. Он почти не обратил внимания на этот феномен — может быть, выстрелила крупнокалиберная пушка (хотя разрыва слышно не было) — но через несколько секунд услышал, что дверь в спальню потихоньку отворилась. Выглянув, он увидел Брауна, крадущегося к кровати, чтобы посмотреть, не спит ли Хорнблауэр.
— Чего вам надо? — рявкнул он. Его плохое расположение духа было столь явным, что даже Браун не решался заговорить.
— Убирайтесь, — проворчал Хорнблауэр. — Почему меня беспокоят вопреки моему приказанию?
За спиной Брауна возникли Ховард и Доббс: это произошло по их вине, и они готовы были не только взять на себя ответственность, но и подвергнуться первому удару гнева коммодора.
— Произошел взрыв, сэр, — сказал Ховард. — Мы видели вспышку в небе, на северо-востоке отсюда, насколько могу судить. Это может быть в Кодебеке.
— Мы почувствовали сотрясение, сэр, — подхватил Доббс. — Но не было слышно ни звука — слишком далеко. Мощный взрыв, достаточно сильный, чтобы вызвать сотрясение, и не слышимый.
Это означало, почти наверняка, что Буш достиг успеха. Он должен был перехватить французские баржи с порохом и взорвать их. Тысяча зарядов на каждое из двадцатичетырехфунтовых орудий — это минимум, необходимый для осады, в каждом заряде по восемь фунтов пороха. Это будет восемь, умноженное на двадцать четыре тысячи. Около двухсот тысяч фунтов — почти сто тонн. Сто тонн орудийного пороха могут произвести изрядный взрыв. Закончив подсчеты, Хорнблауэр сфокусировал взгляд на Доббсе и Ховарде, до этого он буквально смотрел сквозь них. Браун почел за лучшее незаметно улизнуть с этого совета.
— Ну? — произнес Хорнблауэр.
— Мы подумали, что вас необходимо поставить в известность об этом, сэр, — пробормотал Доббс.
— Совершенно верно, — сказал Хорнблауэр, и снова отгородился от них газетой. Потом он опустил ее на мгновение и добавил:
— Спасибо.
Из-за газеты Хорнблауэр слышал, как оба офицера вышли из комнаты и осторожно прикрыли за собой дверь. Он был доволен собой: это завершающее «спасибо» было мастерским штрихом, создающим впечатление, что хотя такие пустяки, как подрыв осадного парка, его мало волнуют, это не повод забыть о хороших манерах в общении с подчиненными. Но не прошло и минуты, как он уже стал высмеивать себя за то, что прельстился таким дешевым успехом. Он почувствовал наступление внезапного приступа презрения к себе, который даже по завершении оставлял его подавленным и несчастным. У несчастья есть особое свойство: Хорнблауэр лежал, отбросив в сторону газеты и наблюдая за игрой тени на пологе кровати, и внезапно осознал, что он одинок. Ему хотелось общества. Хотелось дружбы. Более того, он мечтал об уюте, об обожании, ему хотелось того, чего нельзя было найти в этом унылом осажденном городе. Его тяготил страшный груз ответственности, и не было никого, кто мог бы разделить с ним его страхи и надежды. Хорнблауэр с трудом удержал себя от того, чтобы не рухнуть в бездну жалости к свой персоне. При этом открытии его чувство презрения к себе усилилось многократно. Он всегда был излишне самокритичен и отягчен сознанием своих недостатков, чтобы жалеть себя. Теперешнее одиночество — дело его собственных рук. Не стоило так беспричинно сдержанно вести себя с Доббсом и Ховардом: нормальный человек разделил бы с ними радость, послал бы за бутылкой шампанского, чтобы отметить успех, с удовольствием скоротал бы часок другой в их компании, и преумножил бы их радость и чувство преданности с помощью намеков на то, что победа достигнута в значительной степени благодаря их вкладу в разработку плана, пусть даже это и не соответствует действительности. За эфемерное и весьма сомнительное удовольствие казаться тем, кем он в действительности не был — человеком, которого не волнуют свойственные людям чувства, ему пришлось заплатить ценой одиночества. Что же, подумал Хорнблауэр, вынужденный признать горькую правду, это исправно ему служит.
Он достал часы: с момента взрыва прошло полчаса, отлив достиг устья реки еще за добрый час до этого. Теперь он уже должен чувствоваться в Кодебеке. Остается надеяться, что Буш и его флотилия, окрыленные победой, мчатся вместе с ним вниз по течению. Отделенные от ближайшего врага в Гавре расстоянием в двадцать пять миль — по реке это все тридцать, под охраной армии из почти двадцати тысяч штыков, солдаты французского осадного парка должны были чувствовать себя в полной безопасности от противника, не выказывавшего до этих пор признаков активности. И тем не менее, правильно управляемые шлюпки, подгоняемые приливом, могут менее чем за шесть часов, даже в темноте, пересечь расстояние, на которое пехоте потребуется не менее двух дней — двух световых дней. В течение одной лишь ночи шлюпки могут нанести удар и снова исчезнуть на широкой реке, не имеющей мостов — а именно тот факт, что она широка и не имеет мостов, заставляет армию Кио рассматривать Сену как прикрытие с фланга, забыв о том, что противники могут воспользоваться ей как удобной дорогой. До последнего времени Кио командовал дивизией в Императорской гвардии, и ни разу за десять победных лет гвардия не принимала участия в десантных операциях.
Хорнблауэр заметил, что вся эта череда мыслей проходила перед ним прежде, уже много-много раз. Он снял нагар с оплывших свечей, опять взглянул на часы и вытянул ноги под плащом. Его рука уже потянулась было за газетами, но в тот же миг отдернулась. Уж лучше яд своих мыслей, чем авторов «Таймз» или «Морнинг Кроникл». Куда ни кинь, всюду клин, и мысль о том, что ему нужно исполнять свой долг еще более усугубила положение. Он сбросил с ног плащ и встал. Он столкнулся с определенными трудностями, водворяя плащ на место, и, прежде чем покинуть спальню, привел в порядок волосы. Когда Хорнблауэр пересек холл, чтобы попасть в другую комнату, часовой у двери вздрогнул — Хорнблауэр заподозрил, что тот дремал на посту. За открывшейся дверью было душно. Единственная свеча с трудом позволяла осмотреться. Доббс спал, сидя за столом, опустив голову на руки, на стоящей позади стола кушетке лежал Ховард. Тень в том углу была настолько густой, что Хорнблауэр не мог различить его лица, и только слышал ритмичный, низкий храп.
Так, значит, в конце концов, никто не хочет составить ему компанию. Хорнблауэр вышел, потихоньку прикрыв за собой дверь. Браун, скорее всего, спал в своем чуланчике. Хорнблауэр некоторое время забавлялся мыслью: не стоит ли послать за ним и попросить его приготовить чашечку кофе, но отбросил эту идею из соображений простой гуманности. Он забрался обратно в кровать и укрылся плащом. Свист сквозняка подсказал ему, что стоит задернуть полог, что он и сделал, предварительно задув свечи. Ему пришло в голову, что неплохо бы раздеться и забраться под одеяло, но перспектива предпринимать подобные усилия была невыносимой. Внезапно он понял, что страшно устал. Очутившись в полной темноте, глаза его закрылись сами собой, и он заснул, как и был, в мундире.
Глава 13
Факт, что он лег, не снимая одежды, подсказал Брауну, Доббсу и Ховарду, что Хорнблауэр далеко не так самоуверен и спокоен, каким хочет казаться, но им хватило ума не высказывать этого вслух. Браун попросту отдернул полог и доложил:
— Рассвет только что наступил, сэр. Утро холодное, легкий туман. Последняя фаза отлива, сэр, и пока никаких вестей о капитане Буше и его флотилии.
— Хорошо, — произнес Хорнблауэр, с трудом поднимаясь на ноги. Он зевнул, потрогал обросшие щетиной щеки. Ему хотелось знать, как обстоят дела у Буша. Ему хотелось помыться и привести себя в порядок. Ему хотелось позавтракать, но услышать новости о Буше ему хотелось все-таки сильнее всего. Несмотря на несколько часов беспробудного сна он по-прежнему чувствовал страшное утомление. И тогда он вызвал свою усталость на бой, как Кристиан Апполиона.[25]
— Подготовьте для меня ванну, Браун. Она должна быть готова, когда я закончу бриться.
— Есть, сэр.
Хорнблауэр разделся и направился к умывальнику, висящему в углу, чтобы побриться. Он старался не смотреть на отражение своего обнаженного тела в зеркале: на худые, волосатые ноги и слегка отвислый живот, так же как старался не думать о своей усталости и беспокойстве о судьбе Буша. Браун и морской пехотинец внесли ванну и поставили ее на пол перед ним. Аккуратно брея кожу в уголках губ, Хорнблауэр услышал, как в ванну стали наливать горячую воду из ведер. Потребовалось еще некоторое время, чтобы разбавить ее холодной в нужной пропорции, чтобы температура сделалась приемлемой. Хорнблауэр вошел внутрь и со вздохом удовлетворения погрузился в воду — излишки, вытесняемые его телом, переливались через края, но он не обращал на это внимания. Нужно было намылиться, но ему была невыносима мысль об усилиях и неудобствах, которые придется претерпеть, вместо этого он просто откинулся назад, давая себе возможность отмокнуть и расслабиться. Его веки опустились.
— Сэр!
Голос Ховарда заставил их снова подняться вверх.
— В эстуарии видны две шлюпки, сэр. Только две.
Буш увел в Кодебек семь. Хорнблауэру оставалось только ждать, когда Ховард закончит рапорт.
— Одна из них — катер с «Камиллы», сэр, я разглядел его через подзорную трубу. Полагаю, что вторая не с «Нонсача», хотя не могу утверждать.
— Хорошо, капитан, я буду через минуту.
Провал и катастрофа: потеряно пять шлюпок из семи — и Буш, видимо, тоже. Для человека, привыкшего хладнокровно сводить баланс прибылей и убытков, гибель всей флотилии могла бы быть приемлемой ценой за уничтожение французского осадного парка, если, конечно, тот действительно уничтожен. Но смерть Буша! Хорнблауэр не мог вынести самой мысли об этом. Он выскочил из ванной и стал оглядываться в поисках полотенца. Не обнаружив его, сдернул полог с кровати, и только когда вытерся и одел чистую сорочку, обнаружил полотенце, лежащее на туалетном столике — именно там, где оно и должно было быть. Он одевался торопливо — с каждой секундой его страх и беспокойство о Буше нарастали — даже первый шок оказался на так мучителен, как растущее осознание невосполнимой утраты. Хорнблауэр вышел в переднюю.
— Одна из шлюпок подходит к причалу, сэр. Думаю, через пятнадцать минут мы услышим рапорт офицера, — сообщил Ховард.
Браун находился на другом конце комнаты, у дальней двери. Теперь или никогда, как подсказал Хорнблауэру его непостижимый ум, ему предоставлялась возможность выказать себя человеком, сделанным из стали. Нужно было лишь сказать: «Мой завтрак, Браун». А потом сесть и приняться за еду. Но перед лицом возможной смерти Буша он не мог позировать. Такими вещами хорошо заниматься, если намечается всего лишь обычная битва, но теперь он потерял лучшего друга. Браун понял то, что написано у него на лице, так как вышел, не сделав ни единого намека на завтрак. Хорнблауэр стоял в нерешительности.
— У меня тут вердикты военного трибунала на подпись, сэр, — произнес Ховард, указав на кипу бумаг.
Хорнблауэр сел, взял один из документов, посмотрел на него невидящим взором, и отложил в сторону.
— Я разберусь с этим позже, — сказал он.
— Из деревень в город начал в больших количествах поступать сидр, сэр, так как фермеры находят теперь здесь прекрасный рынок сбыта, — сказал Доббс. — Пьянство стремительно распространяется среди людей. Можем ли мы…
— Предоставляю это на ваше усмотрение, — ответил Хорнблауэр. Что вы собираетесь делать?
— Хочу предложить, сэр…
Обсуждение продолжалось несколько минут. Оно неизбежно замыкалось на крайне болезненном вопросе об установленном курсе обмена английских денег на французские. Но это не могло унять грызущее терзающее его беспокойство о судьбе Буша.
— Куда запропастился этот чертов офицер? — сорвался Ховард, в сердцах отбросил стул и вышел из комнаты. Почти тот час же он вернулся назад.
— Мистер Ливингстон, сэр, — доложил он, — третий лейтенант с «Камиллы».
Хорнблауэр внимательно посмотрел на вошедшего: лейтенант был средних лет, производил впечатление уверенности и надежности.
— Прошу, докладывайте.
— Мы поднялись вверх по реке без происшествий, сэр. Шлюпка с «Флейма» села на мель, но ее тут же сняли. Когда нас заметили с берега, уже видны были огни Кодебека — мы почти миновали поворот. Баркас капитана Буша шел первым, сэр.
— Где находилась ваша шлюпка?
— Она замыкала строй, сэр. Мы пошли дальше, не отвечая на оклик, как было приказано. Я увидел две баржи, стоящие на якоре на середине реки, и много других — у берега. Я переложил руль и направился к стоящей ниже других по течению, как предписывали полученные мной приказы, сэр. Выше по реке слышалась оживленная мушкетная пальба, но у нас французов было мало, и мы отогнали их. На берегу мы обнаружили две двадцатичетырехфунтовые пушки на походных станках. Я приказал заклепать орудия, и мы с помощью рычагов сбросили их в реку. Одно упало на баржу и проломило ей днище, сэр. Баржа затонула рядом с моим катером, погрузившись по палубу — это было самое начало отлива, сэр. Не знаю, что она везла, сэр, но, судя по малой осадке, была порожней, когда мы взяли ее. Люки были открыты.
— Да?
— Затем я повел своих людей вдоль берега, как было приказано, сэр. Мы обнаружили большое количество ядер, только что сгруженных со следующей баржи. Я оставил отряд для того, чтобы сделать пробоины в барже и скатить ядра в реку, а сам отправился дальше с пятнадцатью людьми, сэр. Там были люди с «Флейма», и их противники сбежали, когда мы обошли их с фланга. На берегу и на баржах были пушки. Мы все заклепали, сбросили те, что были выгружены, в воду, а баржи продырявили. Пороха не нашли, сэр. В приказе было сказано, что я должен при возможности разбить цапфы орудий, но такой возможности не представилось.
— Понимаю.
Заклепанные пушки, сброшенные в ил на дно реки, подверженной приливам, выйдут на определенное время из строя, хотя, конечно, лучше было бы, разбив цапфы, сделать их совершенно непригодными для стрельбы. А рассеянные по дну ядра обнаружить будет крайне непросто. Воображение Хорнблауэра нарисовало ему живописную картину короткой, но ожесточенной и кровопролитной схватки во тьме на речном берегу.
— В тот момент до нас донесся бой барабанов, и целая туча солдат ринулась на нас. Пехотный батальон, как я полагаю — до этого, видимо, нам приходилось иметь дело лишь с орудийной прислугой и саперами. Приказы предписывали отступать в случае столкновения с превосходящими силами, так что мы повернули назад к шлюпкам. Едва мы успели отвалить под огнем солдат, стрелявших с берега, как произошел взрыв.
Ливингстон замялся. Его небритое лицо было серым от усталости, а когда он заговорил о взрыве, на нем появилось выражение бессилия.
— Это были пороховые баржи выше по течению, сэр. Я не знаю, как это произошло. Возможно, выстрел с берега. Может быть капитан Буш…
— Вы не сталкивались с капитаном Бушем после начала атаки?
— Нет, сэр. Он находился на другом конце строя. Баржи были разделены на две группы — я атаковал одну, капитан Буш — другую.
— Понятно. Рассказывайте дальше про взрыв.
— Он был очень сильным, сэр. Нас всех сбросило с мест. Огромная волна залила шлюпки по плаширь, сэр. Когда она схлынула, мне показалось, что шлюпки коснулись речного дна. Какой-то летящий обломок попал в шлюпку с «Флейма». Гиббонс, помощник штурмана, был убит, а шлюпка разбита. Отчерпав воду, мы подобрали уцелевших. С берега в нас больше никто не стрелял, так что я выжидал. Была верхняя точка прилива, сэр. К нам присоединились две шлюпки: второй катер с «Камиллы» и рыбацкий баркас с морскими пехотинцами. Мы продолжали ждать, но шлюпки с «Нонсача» не появились. Мистер Хейк из морской пехоты рассказал, что капитан Буш и другие три лодки были ошвартованы у бортов пороховых барж, когда произошел взрыв. Скорее всего, груз воспламенился от выстрела. Потом стрельба с берега возобновилась, и, как старший офицер, я дал приказ к отступлению.
— Вы поступили совершенно правильно, мистер Ливингстон. И что было дальше?
— У следующего поворота они открыли по нам огонь из полевых орудий, сэр. Точность огня в темноте оставляла желать лучшего, но одним из последних выстрелов был потоплен второй катер, и мы потеряли еще несколько человек — течение тогда уже значительно усилилось.
Было ясно, что рассказ Ливингстона окончен, но Хорнблауэр не мог опустить его, не задав последнего вопроса:
— А что капитан Буш, мистер Ливингстон? Можете вы что-нибудь сказать о нем?
— Нет, сэр. Мне жаль, сэр. Мы не подобрали ни одного человека со шлюпок «Нонсача». Ни единого.
— Что ж, хорошо, мистер Ливингстон. Вам лучше пойти отдохнуть немного. Уверен, что вы все сделали правильно.
— Представьте мне письменный рапорт и список потерь до конца дня, мистер Ливингстон, — вмешался Доббс — как главный адъютант, он жил в атмосфере рапортов и списков потерь.
— Есть, сэр.
Ливингстон вышел, и не успела закрыться за ним дверь, как Хорнблауэр начал корить себя за то, что был так скуп на похвалу. Операция увенчалась блестящим успехом. Лишенный осадного парка и припасов, Кио окажется не в состоянии осаждать Гавр, и пройдет, наверняка, немало времени, прежде чем Военное министерство в Париже сможет наскрести новые силы. Но потеря Буша наложила отпечаток на все мысли Хорнблауэра. Ему уже хотелось, чтобы он никогда не разрабатывал этот план — пусть лучше Гавр оказался бы в осаде, зато Буш был бы рядом с ним, живой. Трудно было представить себе мир без Буша, будущее, в котором он никогда, никогда в жизни не увидит Буша. Люди будут думать о потере капитана и полутора сотен человек как о не слишком высокой цене за уничтожение всех осадных сил Кио, но люди ничего не понимают.
Он посмотрел на Доббса и Ховарда — те с мрачным видом сидели, храня молчание — они уважали его горе. Но вид их сочувственной скорби оказал на Хорнблауэра противоположное действие. Если они возомнили, что он потрясен и не может работать, им придется убедиться, что они глубоко заблуждаются.
— А теперь, если не возражаете, капитан Ховард, займемся бумагами из военного трибунала.
Начался обычный трудовой день. Оказалось, что несмотря на иссушающее его горе, он способен был трезво мыслить, принимать решения, работать, как если бы ничего не произошло. И не просто работать, но и строить планы на будущее.
— Ступайте и разыщите Хоу, — обратился он к Ховарду. — Скажите ему, что мне нужно сей же час видеть герцога.
— Есть, сэр. — Ховард вскочил.
С едва заметной усмешкой он перефразировал приказание Хорнблауэра в помпезном стиле:
— Сэр Горацио испрашивает у Его королевского высочества позволения на краткую аудиенцию, если Его королевское высочество будет милостив принять его.
— Совершенно верно, — сказал Хорнблауэр, улыбаясь против воли. Оказалось, что возможно даже смеяться.
Герцог принял его стоя, грея свою королевскую спину у гостеприимного очага.
— Не знаю, — начал Хорнблауэр, — известны ли Вашему королевскому высочеству обстоятельства, которые стали первопричиной моего появления в водах этой части побережья?
— Расскажите об этом, — сказал герцог. Возможно, этикет не допускал вероятности того, что королевская особа может быть о чем-либо не осведомлена. В любом случае, поведение герцога не позволяло заподозрить, что вопрос вызвал у него интерес.
— Это был мятеж на одном из кораблей Его величества — Его величества короля Британии. На военном корабле.
— Правда?
— Меня послали разобраться с этим делом, и мне удалось захватить судно и большую часть бунтовщиков, Ваше королевское высочество.
— Прекрасно, прекрасно.
— Около двадцати из них предстали перед трибуналом, были признаны виновными и приговорены к смертной казни.
— Превосходно.
— Меня очень обрадует, если эти приговоры не будут приведены в исполнение, Ваше королевское высочество.
— Неужели? — Его королевское высочество, видимо, действительно не заинтересовала тема разговора — ему с трудом удавалось подавить зевок.
— В соответствии с требованиями службы, я не могу помиловать их, не допустив серьезного нарушения дисциплины, Ваше королевское высочество.
— Вот именно, вот именно.
— Но если Ваше королевское высочество вмешается в судьбу этих людей, я смогу помиловать их без ущерба для дисциплины, так как не в состоянии буду отказать вам.
— И почему я должен вмешаться, сэр ‘Орацио?
Хорнблауэр решил повременить с ответом на этот вопрос.
— Ваше королевское высочество — начал он, — может выразить мнение, что славные дни возвращения королевской династии во Францию негоже было бы омрачить пролитием крови англичан, пусть даже виновных. Это сделает возможным для меня помиловать их, выразив крайнее нежелание это делать. Вряд ли стоит допускать, что люди, склонные к мятежу, будут всерьез поощрены к этому надеждой избежать наказания благодаря такому же событию в будущем — никогда более мир не испытает счастья видеть, как королевская династия Франции возвращается, чтобы занять свое законное место.
Последняя фраза представляла собой грубый комплимент, неумело сформулированный, и который вполне мог быть неправильно понят, но герцог, к счастью, воспринял его именно в том смысле, в каком тот задумывался. Тем не менее, это вряд ли произвело на герцога впечатление — с упрямством, присущим Бурбонам, он вернулся к первоначальной теме.
— Почему я должен делать это, сэр ‘Орацио?
— Из соображений гуманности, Ваше королевское высочество. Это сохранит жизнь двум десяткам человек, людям, способным приносить пользу.
— Пользу? Мятежники? Не исключено, что якобинцы, революционеры, эгалитаристы, а может быть даже — социалисты!
— Это люди, находящиеся в кандалах сегодня, и ожидающие повешения завтра, Ваше королевское высочество.
— Нисколько не сомневаюсь, что они этого заслуживают, сэр ‘Орацио. Хорошим же получится начало регентства, которое доверил мне Его величество, если первым публичным его актом станет ходатайство о помиловании шайки революционеров. Наихристианнейший король не для того вел двадцать один год борьбу против революционной заразы. Весь мир будет смотреть на меня с укором.
— Мне неизвестно ни единого случая, когда мир был бы оскорблен проявлением милосердия, Ваше королевское высочество.
— У вас странные представления о милосердии, сэр. У меня создается впечатление, что ваша необычная просьба продиктована иными соображениями, чем вы пытаетесь это представить. Может вы и сам либерал — один из тех опасных людей, которые называют себя мыслителями. Ловкий политический ход с вашей стороны: заставить мою семью скомпрометировать себя своим же первым документом, подстрекающим революцию.
Это чудовищное обвинение совершенно сразило Хорнблауэра.
— Сэр! — запротестовал он. — Ваше королевское высочество…
Даже если бы он говорил по-английски, то вряд ли смог бы найти подходящие слова, используя же французский, он оказался совершенно беспомощен. Это было не просто оскорбление, но и проявление узколобости и изворотливой подозрительности Бурбонов, позволившей нанести ему лишающий дара речи удар.
— Не вижу возможности удовлетворить вашу просьбу, сэр, — произнес герцог, положив руку на шнурок от звонка.
Выйдя из приемной, Хорнблауэр буквально пронесся мимо придворных и часовых. Щеки его пылали. Он был вне себя от гнева — очень редко ему приходилось испытывать большую ярость, чем сейчас: почти всегда его стремление принимать во внимание все точки зрения на вопрос позволяло ему быть спокойным и снисходительным — скорее, слабым, как он поправил сам себя в этот момент самоуничижения. Ворвавшись в свой кабинет, он плюхнулся в кресло, не через секунду снова вскочил, и начал расхаживать по комнате, потом снова сел. Доббс и Ховард с изумлением посмотрели на его сдвинутые, словно грозовые тучи, брови, и тут же опять уткнулись в свои бумаги. Хорнблауэр сорвал с шеи платок, расстегнул пуговицы жилета, и опасно подскочившее давление начало приходить в норму. В его уме бурлил водоворот мыслей, однако через них, как солнечный луч, пробивающийся через пелену облаков, просвечивало чувство иронии над своим гневом. Не ослабляя решимости, его неизменное чувство юмора брало свое; ему потребовалось лишь несколько минут, чтобы обдумать свой следующий шаг.
— Я хочу, чтобы сюда пришли те парни-французы, которые прибыли вместе с герцогом, — распорядился он, — конюший, кавалер ордена и раздатчик милостыни. Полковник Доббс, попрошу вас быть готовым записать то, что я продиктую.
Эмигранты-советники герцога, слегка напуганные и озадаченные, вошли в комнату; Хорнблауэр, развалившийся в кресле, предложил им сесть.
— Доброе утро, джентльмены, — добродушно сказал он. — Я пригласил вас для того, чтобы вы послушали, какое письмо я собираюсь написать премьер-министру. Полагаю, вы достаточно владеете английским, чтобы ухватить его суть? Вы готовы, полковник?
Многоуважаемому лорду Ливерпулю
Милорд, полагаю, что вынужден буду направить обратно в Англию Его королевское высочество герцога Ангулемского.
— Сэр! — в изумлении воскликнул конюший, пытаясь прервать Хорнблауэра, но тот махнул рукой, приказывая ему замолчать.
— Пожалуйста, полковник, продолжайте.
С прискорбием обязан сообщить вашей светлости, что Его королевское высочество не выказало того плодотворного духа, который народ Британии ожидал увидеть в своем союзнике.
Теперь уже конюший, кавалер и раздатчик милостыни вскочили на ноги. Ховард таращился на них с другого конца комнаты. Лица Доббса, склонившегося над столом, было не разглядеть, только розовая полоска шеи контрастировала с алым воротником кителя.
— Продолжайте, полковник.
В течение тех нескольких дней, когда я имел честь работать с Его королевским высочеством, мне стало совершенно очевидно, что Его королевское высочество не располагает ни чувством такта, ни управленческими способностями, необходимыми для такого высокого положения.
— Сэр! — заявил конюший, — вы не можете отправить такое письмо.
Он начал говорить по-французски, потом перешел на английский; кавалер и раздатчик милостыни сопровождали его речь возгласами одобрения на обоих языках.
— Не смогу? — произнес Хорнблауэр.
— И вы не можете отправить Его королевское высочество обратно в Англию. Не можете! Нет!
— Нет? — повторил Хорнблауэр, откидываясь в кресле.
Протесты замерли на губах трех французов. Вынужденные осознать горькую правду, они, также как и Хорнблауэр, хорошо понимали, кому принадлежит реальная власть в Гавре. В распоряжении этого человека находились единственные дисциплинированные и дееспособные военные силы, одного его слова будет достаточно, чтобы оставить город на произвол Бонапарта, именно по его приказу корабли приходят в гавань и уходят прочь.
— Не говорите мне, — сказал Хорнблауэр с тонко рассчитанной иронией, — что Его королевское высочество окажет физическое сопротивление моему приказу подняться на борт корабля. Джентльмены, вам приходилось когда-нибудь видеть, как ведут дезертиров? Заламывают руки за спину и толкают вперед — самый неудобный и неприличный способ передвижения. А также болезненный, насколько мне известно.
— Но это письмо, — произнес конюший, — скомпрометирует Его королевское высочество в глазах всего мира. Это будет серьезнейший удар по интересам королевской семьи. Оно может поставить под сомнение наследование престола.
— Именно поэтому я и пригласил вас послушать, как я диктую его.
— Вы никогда не отправите его, — заявил конюший, в глазах которого при виде решимости Хорнблауэра, промелькнула тень сомнения.
— Хочу заверить вас, джентльмены, что я и могу, и хочу сделать это.
Их взгляды встретились, и сомнения конюшего исчезли. Хорнблауэр одержал верх.
— Может быть, — начал конюший, прокашлявшись и обведя взором коллег в поисках поддержки, — произошло некое недоразумение. Если Его королевское высочество отклонил какие-то просьбы Вашего превосходительства, в чем, как я понимаю, все дело, осмелюсь предположить, что это случилось из-за того, что Его королевскому высочеству не было известно, какое важное значение придает Ваше превосходительство этому вопросу. Если Ваше превосходительство даст нам возможность представить Его королевскому высочеству все более детально, то …
Хорнблауэр бросил взгляд на Ховарда, который тотчас ухватил намек.
— Да, сэр, — сказал он. — Уверен, что Его королевское высочество все поймет.
Доббс поднял голову и промычал что-то в знак согласия. Тем не менее, потребовалось еще несколько минут для того, чтобы Хорнблауэр позволил убедить себя не претворять немедленно в жизнь свое решение. Лишь с большой неохотой он уступил настояниям своего штаба и свиты герцога. После того, как конюший повел своих коллег на встречу с герцогом, Хорнблауэр откинулся назад, ощущая, как показная расслабленность уступает место настоящей. В результате пережитого волнения и радости дипломатической победы его бросало то в жар, то в холод.
— Его королевское высочество будет благоразумным, — сказал Доббс.
— Без сомнения, — резонно согласился Ховард.
Хорнблауэр подумал о двадцати моряках, закованных в цепи в трюме «Нонсача» и ожидающих завтра повешения.
— Мне пришла в голову одна идея, сэр, — сказал Ховард. — Можно вступить в переговоры с французами. Послать парламентера — верхового офицера и белым флагом и трубачом. Он передаст генералу Кио ваше письмо с просьбой сообщить новости о капитане Буше. Если Кио что-нибудь известно, думаю, он будет достаточно благороден, чтобы сообщить вам, сэр.
Буш! В волнениях последнего часа Хорнблауэр совершенно забыл о Буше. Его радостное возбуждение стало неумолимо таять — так зерно утекает из разорванного мешка. На него снова навалилась депрессия. Остальные заметили произошедшую в нем перемену. О том, какую привязанность успел он вызвать у них за короткое время совместной службы, лучше всего свидетельствовало то, что им легче было перенести его сдвинутые в ярости брови, чем видеть своего коммодора совершенно несчастным.
Глава 14
Это было в тот день, когда вернулся парламентер: Хорнблауэр запомнил его именно по этой причине. Любезное послание Кио не оставляло никакой надежды — ужасные подробности, вошедшие в письмо, были достаточно красноречивы. Растерзанные останки людей были собраны и похоронены, но опознать кого-либо не представлялось возможным. Буш был мертв, его сильное тело разорвало на клочки взрывом. Хорнблауэр был зол на себя, и факт, что останки Буша нельзя будет придать земле, что у него не будет настоящей могилы, еще более усиливал его скорбь. Если у Буша был бы выбор, он предпочел бы умереть в море, сраженный ядром в миг победы, венчающей дуэль двух кораблей; его завернули бы в койку, положили в ноги ядро, и покрытое флагом тело исчезло бы под волнами под плач моряков, а корабль качался бы на волнах, дрейфуя под обстененными парусами. Была жуткая ирония в том, что он нашел свой конец в мелкой стычке на берегу реки, растерзанный на клочки, которые невозможно опознать.
Да и какое имеет значение то, как он умер? Только что он был жив, и вот уже мертв, такова судьба. Еще большая ирония заключалась в том, что он погиб именно сейчас, пережив двадцать лет жестокой войны. Мир уже маячил на горизонте: союзные армии приближались к Парижу, Франция истекала кровью, правительства уже готовились собраться для обсуждения условий мира. Если бы Буш пережил этот последний бой, он мог бы в течение многих лет наслаждаться плодами мира, пользуясь почетом, предоставляемым капитанским рангом, пенсией, окруженный обожанием сестер. Бушу понравилось бы все это, ибо, насколько понимал Хорнблауэр, любому нормальному человеку приятно жить в мире и безопасности. Мысль об этом еще более усиливала в Хорнблауэре чувство личной утраты. Он никогда не думал, что может оплакивать так кого-нибудь, как оплакивал Буша.
Парламентер только что вернулся с письмом Кио. Доббс все еще с пристрастием расспрашивал о его наблюдениях за состоянием сил французов, когда в комнату ворвался Ховард.
— «Газель», военный шлюп, входит в гавань, сэр. На грот-мачте несет флаг Бурбонов, сэр, и сигнал «Имею на борту герцогиню Ангулемскую».
— Неужели? — произнес Хорнблауэр. Он стал медленно пробуждаться от охватившей его летаргии. — Поставьте в известность герцога. Дайте знать Хоу, и пусть он позаботиться о приеме. Я встречу ее на причале вместе с герцогом. Браун! Браун! Мундир и шпагу.
День был сырой, предвещавший раннюю весну. «Газель» верповалась к причалу, эхо салюта все еще раздавалось в гавани, когда прибыл Его королевское высочество. Герцог и его окружение выстроились на причале почти как военное подразделение; на палубе «Газели» группа женщин, одетых в плащи, ожидала, когда на мол перекинут сходни. Похоже, придворный этикет Бурбонов строго запрещал любое проявление чувств: Хорнблауэр, расположившийся со своим штабом чуть позади и сбоку от свиты герцога, заметил, что ни дамы на палубе, ни мужчины на причале не сделали ни единого жеста, чтобы поприветствовать друг друга. За исключением одной единственной женщины, стоявшей и бизань-мачты, и махавшей платком. В каком-то роде приятно было видеть хотя бы кого-то, кто отказался подчиняться жестоким требованиям этикета. Хорнблауэр предположил, что это может быть служанка или горничная одной из дам, разглядевшая в шеренгах на причале своего возлюбленного.
Герцогиня и ее свита сошли по сходням на берег, герцог сделал предписанные регламентом несколько шагов ей навстречу, она совершила предусмотренный регламентом поклон, а он в соответствии с регламентом помог ей распрямиться, затем они прильнули щека к щеке друг друга в записанном в регламент объятии. Теперь Хорнблауэр выступил вперед, чтобы его могли представить, и склонился в поклоне, целуя протянутую ему руку в перчатке.
— Сэр ‘Орацио! Сэр ‘Орацио! — заговорила герцогиня.
Хорнблауэр поднял голову и натолкнулся на взгляд голубых бурбонских глаз. Герцогиня была красивой женщиной лет тридцати. Очевидно, ей нужно неотложно что-то сказать ему. Но сделать этого она не могла — правила этикета, не предусматривающие подобных случаев, запечатывали ей уста. Наконец, она жестом попыталась привлечь внимание Хорнблауэра к чему-то, находящемуся позади нее. Там стояла женщина, одна, поодаль от толпы фрейлин и придворных дам. Это была Барбара — Хорнблауэр не сразу поверил своим глазам. Улыбаясь, она двинулась ему навстречу. В два огромных шага он оказался рядом с ней — за это время в голове его пронеслась мысль, что нельзя поворачиваться спиной к особам королевской крови, но он отбросил все прочь и заключил ее в объятья. Целый хоровод мыслей теснился в его голове, когда ее губы, ледяные от холодного морского воздуха, прижались к его губам. «Очень хорошо, что она приехала», — подумал он, хотя всегда резко осуждал капитанов и адмиралов, которых во время службы сопровождали жены. Раз приехала герцогиня, то почему бы не приехать и Барбаре. Все эти рассуждения промелькнули словно вспышка, за которой не могли угнаться никакие человеческие чувства. За его спиной раздалось предостерегающее покашливание Хоу, напоминающее, что он не должен забывать о церемониале. Он убрал руки с плеч Барбары и несколько неуклюже отступил назад. Кареты ждали их.
— Вы едете с Их королевскими высочествами, — прошипел Хоу.
Экипажи, реквизированные в Гавре, не являли собой образец каретостроения, но служили исправно. Герцог и герцогиня заняли свои места, Хорнблауэр помог Барбаре подняться, и они тоже уселись, спиной к лошадям. В сопровождении цоканья копыт и изрядного скрипа кареты направились вверх по Рю де Пари.
— Ну неужели это не приятный сюрприз, сэр ‘Орацио? — спросила герцогиня.
— Ваше королевское высочество слишком добры, — ответил Хорнблауэр.
Герцогиня наклонилась вперед и положила руку на колено Барбары.
— У вас самая прекрасная и совершенная супруга, — заявила она.
Герцог заерзал и закашлялся в смущении, так как герцогиня вела себя со свободой, несколько неподобающей королевской дочери, будущей королеве Франции.
— Надеюсь, ваше путешествие было приятным, — произнес он, обращаясь к своей жене. Проклятое любопытство Хорнблауэра заставило его гадать, может ли когда-нибудь этот человек обращаться к супруге не таким сухим формальным тоном.
— Это было путешествие по волнам памяти, — с улыбкой сказал герцогиня.
Она была жизнерадостным и милым созданием, и новое приключение волновало ее. Хорнблауэр с любопытством наблюдал за ней. Свое детство она провела, будучи принцессой при одном из самых роскошных дворов Европы, отрочество — в плену у революционеров. Ее отец-король и мать-королева погибли на гильотине, брат умер в тюрьме. Ее саму обменяли на нескольких пленных генералов, и выдали замуж за кузена. Она скиталась по Европе в качестве жены нищего, но гордого Претендента. Жизненные испытания сохранили в ней человеческие чувства, или же лицемерие обнищавшей монархии не смогло убить в ней жизнь? Она была единственным уцелевшим ребенком Марии-Антуанетты, чье обаяние, жизнелюбие и непосредственность вошли в легенду. Это могло все объяснить.
Прибыв к Отель де Виль, они стали вылезать из кареты: украшенная плюмажем морская шляпа не самая удобная вещь на свете, когда приходится держать ее подмышкой, помогая дамам спуститься. Несколько позже должен был состояться прием, но требовалось время, чтобы выгрузить из трюма «Газели» багаж герцогини, а ей самой переодеться. Хорнблауэр повел Барбару в то крыло, где размещалась его штаб-квартира. Дневальные и часовые в фойе стояли навытяжку, а в штабе Доббс и Ховард изумленно уставились, увидев губернатора, провожающего леди. Они вскочили с мест, и Хорнблауэр их представил. Молодые люди поклонились и расшаркались перед ней — разумеется, они знали, кто перед ними — кто не слышал о леди Барбаре Хорнблауэр, сестре герцога Веллингтона.
Бросив непроизвольный взгляд на стол, Хорнблауэр заметил письмо Кио, лежавшее там, где он оставил его. Письмо было написано красивым почерком, с замысловатой росписью с завитушками. Это еще раз напомнило ему о смерти Буша. Эта печаль была настоящей, гложущей, ощутимой — приезд же Барбары был таким неожиданным, что, казалось, все происходит не на самом деле. Его непостижимый ум отказывался принять за отправную точку факт, что Барбара вновь рядом с ним, распыляясь на причудливые мелочи. Детали эти ему нравились, он настаивал на них — они не позволяли полностью раствориться в семейном счастье, заставляя решать практические вопросы, с которыми раньше он никогда не сталкивался — с обустройством жизни офицера на действительной службе, ведущего смертельный бой с императором, и у которого в то же время есть жена, требующая внимания и заботы. Сколь многогранной не была бы натура Хорнблауэра, главным смыслом жизни для него являлось выполнение профессионального долга. За более чем двадцать лет — всю свою сознательную жизнь, он привык приносить в жертву этому всего себя, до тех пор, пока жертва эта не стала обыденной и, как правило, чрезмерной. Схватка с Бонапартом так затянула его в течение последних месяцев, что любые обстоятельства, отвлекающие его, вызывали неприятие.
— Сюда, дорогая, — сказал он, наконец, несколько хрипло, — он собирался прочистить горло, но остановил себя. Необходимость прокашляться являлась верным симптомом того, что он нервничает или смущен. Барбара подшучивала над этой чертой в прошлом, и теперь ему не хотелось этого делать — как перед Барбарой, так и перед самим собой. Они пересекли маленькую переднюю, Хорнблауэр открыл дверь в спальню, отошел в сторону, чтобы пропустить Барбару вперед, затем вошел сам и закрыл дверь. Барбара стояла в центре комнаты, повернувшись спиной к передней части большой кровати. На губах ее играла улыбка, одна из бровей приподнялась чуть-чуть выше, чем другая. Она подняла руку, чтобы расстегнуть застежку плаща, но снова опустила ее. Имея дело со своим непредсказуемым супругом, не понятно было, плакать ей или смеяться, но она принадлежала к роду Уэлсли, и гордость не позволяла ей зарыдать. Она овладела собой как раз за секунду до того, как Хорнблауэр подошел к ней.
— Дорогая, — произнес он, взяв ее ледяные руки.
Она улыбнулась в ответ, но в улыбке ее, пусть веселой и игривой, могло быть немного больше нежности.
— Ты рад видеть меня? — спросила она. Голос ее звучал спокойно, не выдавая ни тени волнения.
— Конечно. Конечно, дорогая. — Хорнблауэр пытался вести себя сдержанно, подавляя инстинктивное желание уйти в себя, пробудившееся, когда присущая ему телепатическая чувствительность предупредила его об опасности. — Просто я с трудом могу поверить, что ты рядом, дорогая.
Это было истинной правдой, и высказавшись, Хорнблауэр почувствовал успокоение, избавившись частично от своей скованности. Он обнял и поцеловал ее, когда они разомкнули губы, можно было заметить, что в глазах ее застыли слезы.
— Кастльро, прежде чем отправиться в штаб-квартиру союзников, решил, что герцогиня должна приехать сюда, — пояснила она. — Так что я поинтересовалась, могу ли я отправиться вместе с ней.
— Рад, что ты так поступила, — сказал Хорнблауэр.
— Кастльро называет ее единственным мужчиной во всем бурбонском семействе.
— Не удивлюсь, если это окажется правдой.
Теперь они оттаяли — два гордых человека, в очередной раз понявших, что жертва, на которую один идет ради другого, необходима для удовлетворения их нужды друг в друге. Они снова поцеловались, и Хорнблауэр почувствовал, как тело ее расслабляется в его объятиях. Потом раздался стук в дверь, и они расцепили объятия. Это был Браун, присматривающий за полудюжиной моряков, несущих багаж Барбары. Горничная Барбары — маленькая негритянка Геба, немного помедлила в дверях прежде, чем войти. Барбара подошла к зеркалу и стала снимать плащ и шляпу.
— Маленький Ричард, — словоохотливо сообщила она, — чувствует себя хорошо и совершенно счастлив. Он без умолку болтает, и постоянно копает. Его собственный угол в саду выглядит так, будто там поработала целая армия кротов. В этом сундуке несколько его рисунков, которые я сохранила для тебя — хотя вряд ли кто сможет утверждать, что они говорят хоть о наличии хоть каких-нибудь способностей к рисованию.
— Было бы странно, если бы таковые имелись, — сказал Хорнблауэр, усаживаясь.
— Полегче с этим чемоданом, — прикрикнул Браун на одного из моряков. — Это тебе не бочонок с солониной. Осторожнее, так. Где разместить вещи ее светлости, сэр?
— Оставьте их здесь, у стены, Браун, — сказал Барбара. — Геба, вот ключи.
Казалось совершенно невероятным и неестественным сидеть здесь и смотреть, как Барбара прихорашивается у зеркала, как Геба распаковывает вещи — здесь, в том самом городе, в котором он является военным губернатором. Такая ситуация беспокоила узконаправленный ум Хорнблауэра. За двадцать лет жизни на море его мышление до некоторой степени утратило гибкость. Всему свое время и свое место.
Вдруг Геба негромко вскрикнула. Хорнблауэр, обернувшись, заметил, как Браун обменялся взглядами с одним из моряков: последний, видимо, не озабоченный представлениями о месте и времени, слегка ущипнул Гебу. В деле с моряком на Брауна вполне можно положиться, его собственное вмешательство в такие вопросы будет несовместимо с достоинством коммодора и губернатора. Едва Браун вместе с носильщиками вышел, стук в дверь возвестил о приходе целой процессии посетителей. Вошел конюший, передавший распоряжение герцога, что за обедом сегодня вечером все должны быть в парадной форме и напудренные. Хорнблауэра это привело в ярость: за свою жизнь он лишь трижды пудрил волосы, чувствуя себя при этом по-дурацки. Сразу следом вошел Хоу, озабоченный теми же проблемами, но с другого конца, что еще более озлило Хорнблауэра. Какая из властей должна поставить на довольствие леди Барбару и ее прислугу? Где будет размещаться последняя? Хорнблауэр выставил его вон с приказом прочитать правила и самому найти подходящую формулировку. Барбара, сосредоточенно поправляя страусиные перья, заявила, что Геба будет спать в гардеробной, в которую вела дверь из спальни. Затем пришел Доббс: он просмотрел почту, прибывшую на «Газели», и среди писем имелись такие, с которыми нужно было ознакомиться Хорнблауэру. Кроме того, определенные документы требовали внимания губернатора. Пакетбот отправляется ночью, а приказы должны быть подписаны губернатором. И еще …
— Хорошо, я сейчас буду, — сказал Хорнблауэр. — Извини меня, дорогая.
— Бони снова побили, — радостно объявил Доббс, едва они вышли из спальни. — Пруссаки взяли Суассон и разгромили два корпуса наполеоновской армии. Но это еще не все.
К этому времени они уже пришли в кабинет, и Доббс передал Хорнблауэру для изучения еще один документ.
— Лондон, наконец, решил предоставить в наше распоряжение какие-то силы, — пояснил Доббс. — Милиция начала набирать волонтеров для службы заграницей — сейчас, когда война вот-вот закончится — и мы получим столько батальонов, сколько захотим. На это письмо нужно ответить с ночным пакетботом, сэр.
Хорнблауэр старался выбросить из головы мысли о пудре для волос и о любвеобильности Гебы, чтобы сосредоточиться на проблеме организации наступления на Париж по долине Сены. Что ему известно о боевых возможностях милиции? Для того чтобы командовать ей, нужен генерал, который будет старше его по званию. Какими законами определяется старшинство между губернатором, назначенным согласно патенту и офицерами, командующими войсками? Ему должно было быть это известно, но формулировка ускользала из памяти. Пробежав послание в первый раз, он не понял ни слова, и заставил себя начать чтение снова, уже более внимательно. Подавив зародившееся в нем на секунду желание отложить письмо в сторону и приказать Доббсу действовать по собственному разумению, он овладел собой и начал спокойно диктовать ответ. Войдя во вкус, Хорнблауэр вынужден был даже несколько сдерживать себя, чтобы позволить легкому перу Доббса угнаться за ним.
Когда все было готово, он поставил свою подпись под дюжиной документов и вернулся в спальню. Барбара стояла перед зеркалом, оценивая, как она выглядит в белом парчовом платье, с перьями в прическе бриллиантами на шее и в ушах. Геба держала шлейф, готовая прийти на помощь.
При виде Барбары, прекрасной и исполненной достоинства, Хорнблауэр замер, но причиной этого был не только великолепная наружность его супруги. Внезапно он осознал, что теперь не сможет воспользоваться помощью Брауна, чтобы одеться, по крайней мере, не здесь. Как можно менять брюки, бриджи или чулки в присутствии всех — Барбары, Гебы и Брауна. Он извинился, так как Браун, шестым чувством определявший, что Хорнблауэр закончил разбираться с делами, уже стучался в дверь. Они взяли все, что, по их мнению, было нужно, и удалились в гардеробную (даже здесь сразу чувствовался аромат духов), где Хорнблауэр стал торопливо переодеваться. Бриджи, чулки, расшитая золотом перевязь для шпаги. Браун, как и следовало ожидать, уже подыскал в городе женщину, которая прекрасно умело крахмалить воротнички: так, чтобы они держали форму, но не хрустели при сгибании. Браун набросил на плечи Хорнблауэру накидку, тот сел, наклонив голову, над которой Браун стал хлопотать с флаконом пудры и расческой. Выпрямившись и поглядев в зеркало, Хорнблауэр испытал при виде результатов удовольствие, в котором не хотел себе признаться. Получилось так, что остатки шевелюры Хорнблауэра значительно отрасли за последнее время, просто по причине того, что ему некогда было постригаться, и Браун самым лучших образом собрал их белоснежную копну, сквозь которую совершенно не просвечивала лысина. Посыпанные пудрой волосы прекрасно сочетались с его загрубевшим от ветра лицом и карими глазами.
Щеки были слегка впалыми, а выражение глаз — грустным, но это все-таки было лицо пожилого человека, так что белые волосы создавали весьма эффектный контраст, заставляя выглядеть моложе своих лет и привлекая внимание к его персоне, на что, скорее всего, и была нацелена эта мода, когда она начиналась. Голубой с золотом мундир, белизна воротника и пудры, лента ордена Бани и сверкающая звезда — все это делало его весьма приметной фигурой. Пожалуй, ему хотелось бы, чтобы ноги в чулках выглядели немного более округло — единственный недостаток, который он обнаружил в своей внешности. Удостоверившись, что пояс и шпага прилажены должным образом, Хорнблауэр сунул подмышку шляпу, взял перчатки и вернулся в спальню, вовремя вспомнив, что надо постучать, прежде чем повернуть ручку.
Барбара была готова — в белой парче она выглядела торжественно, как статуя. Сравнение со статуей было не совсем случайным: Хорнблауэру вспомнилась статуя Дианы (если это была Диана), виденная им недавно — с полой туники, перекинутой через левое плечо, точно также, как шлейф у Барбары. Обсыпанные белой пудрой волосы придавали ее лицу несколько холодное выражение, макияж и перья не слишком подходили к стилю. Коммодор еще раз вспомнил про Диану. При виде Хорнблауэра Барбара улыбнулась.
— Самый красивый мужчина во всем британском военно-морском флоте, — сказала она.
В ответ он неуклюже поклонился.
— Я лишь стараюсь быть достойным своей леди.
Она взяла его за руку и встала рядом с ним у зеркала. Из-за ее высокого роста перья ее прически возвышались над ним, одним эффектным движением Барбара раскрыла веер.
— Ну, как мы выглядим? — спросила она.
— Повторюсь, — сказал Хорнблауэр, — я стараюсь быть достойным тебя.
Глядя в зеркало, он увидел, что Браун и Геба глазеют на них сзади, а отражение Барбары улыбается ему.
— Нам нужно идти, — сказал она, пожимая его руку, — мне не хотелось бы заставлять монсеньора ждать.
Им нужно было пройти с одного конца Отель де Виль на другой, минуя коридоры и фойе, в которых толпились одетые в мундиры всех родов войск люди — интересно, в силу каких обстоятельств это ничем не примечательное здание было выбрано в качестве дома правительства, резиденции регента, штаб-квартиры экспедиционного корпуса и эскадры — причем всех их вместе. При их приближении люди офицеры отдавали честь и почтительно расступались в стороны — Хорнблауэр обратил внимание, что приветствуя в ответ выстроившихся по обоим сторонам людей, он сильно напоминает королевскую особу. Это подобострастие и подхалимство очень отличалось от сдержанных знаков уважения, которые окружали его на корабле. Барбара шествовала рядом с ним, взгляды, которые искоса бросал на нее Хорнблауэр, убеждали его, что она старательно борется с проявлениями искусственности в своей улыбке.
На него нахлынул поток нелепых мыслей: ему хотелось быть простым, незатейливым человеком, который непритворно и безыскусственно радовался бы неожиданному прибытию жены, разделил бы с ней удовольствие без всяких самокопаний. Он знал о своей глупой приверженности поддаваться воздействию временных импульсов, и даже если они не существовали нигде более, как в его причудливом воображении, то от этого совершенно не утрачивали своей силы. Его мозг работал как плохой корабельный компас, не вполне выверенный, стрелка которого мечется и вращается при малейшем изменении курса судна, и в ответ на попытку внести коррекцию крутится еще сильнее, а тем временем судно, направляемое рукой бедолаги-рулевого, разворачивается назад, или, описав циркуляцию, входит в свой собственный кильватерный след. Он чувствовал, что также входит сейчас в свой кильватерный след. Хотя ему было известно, что вся сложность отношений с женой возникает по его собственной вине, что ее чувства к нему были бы простыми и недвусмысленными, не рассматривай он их под искривленным углом — это ничего не меняло, напротив, только усугубляло его внутренний сумбур.
Он пытался отогнать от себя меланхолию, уцепиться за какой-нибудь несомненный факт, чтобы обрести почву под ногами — и внезапно в его сознании, с ужасающей четкостью — как дергающаяся голова повешенного во время казни, которую ему довелось видеть однажды — всплыло одно из самых главных событий. Барбаре еще не сказали об этом.
— Дорогая, — сказал он, — ты еще не знаешь — Буш мертв.
Рука Барбары сжала его руку, но на лице ее по-прежнему застыло выражение улыбающейся статуи.
— Он был убит четыре дня назад, — продолжал он твердить, словно безумный, которого решили наказать боги.
Надо было совершенно сойти с ума, чтобы говорить об этом женщине в тот самый момент, когда нога ее вот-вот переступить порог королевских покоев, но Хорнблауэр ни в коей мере не догадывался о своем проступке. И все же в последний момент ему хватило проницательности, чтобы понять то, чего не мог понять прежде: что это один из важнейших моментов в жизни Барбары, что тогда, когда она одевалась, улыбалась ему в зеркале, сердце ее пело в предвкушении этой минуты. В его непонятливую голову не могла прийти мысль, что ей может нравиться все происходящее, что ей доставляет удовольствие вплывать вот так в сверкающую залу под руку с сэром Горацио Хорнблауэром, человеком дня. Он почему-то считал само собой разумеющимся, что она относится к подобным церемониям с тем же чувством снисходительного терпения, которое присуще ему.
— Их превосходительства губернатор и миледи Барбара ‘Орнблоур, — проревел мажордом у двери.
Все взгляды устремились на них. Последнее, что почувствовал Хорнблауэр, прежде чем его засосала трясина исполнения общественных обязанностей, было ощущение, что он в каком-то смысле испортил жене вечер, и в душе его шевельнулась обида — не на себя, а на нее.
Глава 15
Прибывшие солдаты милиции, все еще зеленые от морской болезни, хлынули из переполненных транспортов на берег. Облаченные в алые мундиры, они производили несколько лучшее впечатление, чем обычная толпа: умели строиться в шеренги и в колонну, довольно ловко маршировали вслед за полковым оркестром, хотя и не могли удержаться от того, чтобы не вертеть головами, глазея на чудеса заграничного города. Однако при любой возможности они напивались до бесчувствия, приставали к женщинам — когда безобидно, а когда и с насилием, были повинны в воровстве и хулиганстве, и во всех прочих пороках, присущих не знакомым с дисциплиной войскам. Офицерам (одним из батальонов командовал граф, другим — баронет) не хватало опыта, чтобы держать в руках своих людей. Хорнблауэр, предвидя поток жалоб со стороны мэра и городских властей, был обрадован прибытием транспортов, доставивших обещанные два кавалерийских полка ополчения. Они представляли собой конные части, необходимые для аванпостов, так что теперь у него появилась возможность отправить свою маленькую армию в поход на Руан, и, собственно говоря, на Париж.
Когда пришли новости, он завтракал вместе с Барбарой. Она, облаченная в серо-голубой домашний костюм, варила кофе в серебряном кофейнике, он же помогал ей приготовить яичницу с беконом: содержать прислугу все еще не представлялось возможным. Прежде чем отправиться завтракать, он посвятил три часа напряженной работе, и был все еще слишком озабочен своими проблемами, чтобы с легкостью перенестись из атмосферы войны к уюту семейного очага.
— Спасибо, дорогой, — сказал Барбара, принимая от него блюдо.
Раздался стук в дверь.
— Войдите! — крикнул Хорнблауэр.
Это был Доббс — один из немногих, кто пользовался привилегией стучать в дверь, когда сэр Горацио завтракает вместе с супругой.
— Донесение из войск, сэр. Лягушатники ушли.
— Ушли?
— Снялись и ушли, сэр. Кио прошлой ночью двинулся к Парижу. В Руане нет ни одного французского солдата.
В рапорте, который Хорнблауэр взял у Доббса, излагалось все то же самое, только более формальным языком. Бонапарт, должно быть, испытывал страшную нужду в войсках для защиты своей столицы — отзывая Кио, он оставлял всю Нормандию беззащитной перед захватчиками.
— Нам нужно идти за ним, — обращаясь к самому себе, сказал Хорнблауэр, затем, повернувшись к Доббсу, добавил, — передайте Ховарду… нет, я приду сам. Прошу простить меня, дорогая.
— Разве у тебя нет времени на то, чтобы выпить кофе и позавтракать? — резко произнесла Барбара.
Борьба, отражавшаяся на лице Хорнблауэра была такой явной, что она рассмеялась.
— Дрейку, — продолжила она, — хватило времени на то, чтобы закончить игру и побить испанцев. Я читала об этом в школе.
— Ты совершенно права, дорогая, — сказал Хорнблауэр. — Доббс, я буду через десять минут.
Хорнблауэр принялся за яичницу с беконом. Не исключено, что для дисциплины, в лучшем смысле этого слова, будет неплохо, если станет известно, что легендарный Хорнблауэр, свершивший столько подвигов, является настолько человечным, что может иногда прислушиваться к протестам своей жены.
— Это победа, — сказал он, посмотрев на Барбару, — это конец.
На этот раз он чувствовал, что для такого заявления есть основания, оно основывается не только на доводах рассудка. Тиран Европы, человек, заливший кровью весь мир, находился на грани крушения. Их взгляды встретились, и им не нужно было слов, чтобы понять друг друга. На континенте, который с самого времени их детства был охвачен войной, вот-вот должен был воцариться мир, а мир являлся чем-то неизведанным для них.
— Мир, — сказала Барбара.
Хорнблауэр чувствовал некоторую неуверенность. Для него не представлялось возможным проанализировать свои чувства, так как не имелось исходных данных, с которых он мог начать строить свои умозаключения. Поступив во флот юношей, он не знал с того самого времени ничего, кроме войны, ему сложно было, даже чисто гипотетически, представить себе Хорнблауэра, который может существовать вне войны. Двадцать один год страшного напряжения, бедствий и трудностей, сделали из него совсем другого человека по сравнению с тем, каким он должен был бы стать. Хорнблауэр не родился солдатом: он был одаренным и восприимчивым человеком, силой обстоятельств ставший военным, и его талант помог сделаться ему хорошим военным, так же как помог бы достичь успеха в других областях жизни. Но за это пришлось заплатить дорогой ценой. Его суровость, гордыня, непредсказуемость и недостатки характера могли быть результатом лишений и огорчений, которые ему пришлось пережить. В его отношениях с женой в этот момент образовалась холодность, замаскированная товарищескими отношениями, и страсть, которой они давали волю, не в силах была рассеять эту холодность. Холодность эта отчасти образовалась по вине Барбары, но большей частью проистекала из недостатков его характера. Хорнблауэр вытер губы и встал.
— Мне действительно нужно идти, дорогая. Прости меня.
— Конечно, ты должен идти, если есть долг, который ты обязан выполнять, — ответила она, подставив ему губы для поцелуя.
Он поцеловал ее и вышел из комнаты. Все еще ощущая ее поцелуй на губах, он думал о том, что человек, держащий при себе жену во время действительной службы, совершает ошибку: это расслабляет, не говоря уж о практических неудобствах. Как, например, позавчера ночью, когда ему пришло срочное донесение, а он был в постели с Барбарой. Придя в кабинет, Хорнблауэр еще раз перечитал рапорт. Там безапелляционно утверждалось, что контакта с наполеоновскими войсками нет нигде, и что некоторые видные жители Руана, сбежавшие из города, заверяли патруль, что там не осталось ни одного имперского солдата. Чтобы взять Руан оставалось только протянуть руку, и совершенно очевидно, что тенденция перехода сторонников Бонапарта к Бурбонам становится все более заметной. С каждым днем росло число людей, прибывавших в Гавр, кто по суше, кто по воде, чтобы засвидетельствовать свою верноподданность герцогу.
— «Vive le Roi!» — кричали они, приближаясь к часовым, — да здравствует король!
Это служило паролем, отличающим бурбонистов — ни бонапартист, ни якобинец, ни республиканец ни за что не осквернили бы своих уст такими словами. А число дезертиров и конскриптов-отказников, хлынувших в город, выросло просто неимоверно. Армия Бонапарта утекала, как песок сквозь пальцы, и императору непросто будет восстановить потери, в то время как конскрипты прячутся по лесам или ищут защиты у англичан, чтобы избежать службы. Можно было допустить, что бонапартистам удастся попытка построить армию из такого материала, но она была обречена на провал с самого начала. Эти беглецы не только не желали воевать за Наполеона, они не желали воевать вообще. Королевская армия, которую герцог Ангулемский принял решение создавать здесь, насчитывала менее тысячи человек, из которых более половины составляли офицеры — старые эмигранты, собранные из всех армий, ведущих войну с Францией.
Но в любом случае, Руан ждет нового хозяина. Бригада милиции в состоянии проделать путь к городу по раскисшей дороге, а он и герцог Ангулемский могут последовать за ней в экипажах. Вступление в город стоит сделать как можно более зрелищным: столица Нормандии — это не какой-нибудь захудалый городишко, а за ним лежит Париж — волнующий и загадочный. К нему пришла новая идея. В восточной Франции союзные монархи каждые несколько дней совершают торжественный въезд в какой-нибудь захваченный город. У него же есть возможность доставить Ангулема в Руан в еще более зрелищной манере, продемонстрировав, в тоже самое время, как далеко простирается английское морское могущество, заодно напомнив всем, что именно английский флот был силой, свершившей перелом в войне. Ветер дул с запада, имелись некоторые сомнения по поводу фазы прилива, но можно подождать, пока он не станет благоприятным.
— Капитан Ховард, — бросил он, — распорядитесь, чтобы «Флейм» и «Порта Коэльи» были готовы к выходу. Я беру герцога и герцогиню и отправляюсь в Руан по воде. Вместе со всей их свитой, да, Барбара тоже едет. Предупредите капитанов, чтобы они позаботились об их приеме и размещении. Пришлите ко мне Хоу, чтобы обговорить детали. Полковник Доббс, как вы посмотрите на небольшую прогулку под парусом?
На следующее утро, когда все они собрались на квартер-деке «Порта Коэльи»: мужчины в сверкающих мундирах, женщины в роскошных платьях, все это выглядело именно как увеселительная прогулка. «Порта Коэльи» уже отверповалась от причала, с которого все погрузились на нее, и Фримену оставалось только по знаку Хорнблауэра отдать приказы ставить паруса и поднять якорь, чтобы направиться вверх по широкому эстуарию. Солнце ярко светило, обещая теплую весну, легкие волны играли, поблескивая в его лучах. Внизу, под палубой, насколько Хорнблауэр мог судить по доносившимся оттуда звукам, продолжались суета и хлопоты — там еще старались приспособить все к приему высокого общества, но здесь, наверху, царили смех и воодушевление. Просто божественно было снова ощутить палубу под ногами, чувствовать щекой ветер, видеть за кормой «Флейм», идущий за ними в кильватер под косыми парусами, и знать, что наверху развеваются георгиевский флаг и его собственный вымпел, пусть даже по соседству с бело-золотым знаменем Бурбонов.
Он встретился взглядом с Барбарой и улыбнулся ей. Герцог и герцогиня снизошли подойти к нему и завязать разговор. Фарватер проходил у северного берега эстуария. Они миновали Арфлер, обменявшись салютом с расположенными там батареями. Корабли влетели в канал на скорости в добрых восемь узлов, быстрее, чем любой экипаж, однако совершенно очевидно, что когда река станет уже и извилистей, все будет совсем по-другому. Южный берег плавно уклонялся к северу, чтобы встретиться с ним, очертания низменного зеленого берега становились все более определенными, пока корабли, как показалось, в мгновение ока, не вышли из эстуария и не очутились между берегами реки, оставив позади Кильбеф и выйдя на отрезок, ведущий к Кодебеку. По левому берегу простирались зеленые пастбища, с разбросанными там и сям фермами, правый берег был холмистым и поросшим лесом. Руль был переложен, и они пошли круче к ветру. Но ветер, усиливавшийся в теснине между берегами, по-прежнему был благоприятным, и, подгоняемые приливом, они буквально неслись по реке. Прозвучал призыв к обеду, и все собравшиеся сгрудились внизу: женщины жаловались на тесноту и недостаток кавалеров. Чтобы сделать апартаменты их высочеств более просторными, переборки убрали: Хорнблауэр подозревал, что половине команды придется спать на палубе все время, пока герцог и герцогиня пребывают на борту. Герцогская прислуга с помощью корабельных стюардов (первых также пугала обстановка, в которой они оказались, как вторых то общество, которому они прислуживали) начала подносить блюда, но едва начался обед, как пришел Фримен, и прошептал на ухо Хорнблауэр, сидевшему между герцогиней и фрейлиной:
— Виден Кодебек, сэр.
Хорнблауэр распорядился, чтобы ему сообщили, когда это случится. Извинившись перед герцогиней и поклонившись герцогу, Хорнблауэр беспрепятственно выскользнул из комнаты: королевский этикет расписывал даже события корабельной жизни, и морякам дозволялось входить и выходить без излишних церемоний, если этого требовало выполнение их обязанностей. Кодебек находился на пределе видимости, но они быстро приближались к нему, так что через несколько минут в подзорной трубе, которую Хорнблауэр направил на городок, уже не было необходимости. Разрушения, причиненные взрывом, унесшим жизнь Буша, были весьма заметны. От домов остались только стены, возвышавшиеся на шесть-восемь футов над землей, массивное здание церкви выдержало удар, но лишилось большей части крыши и окон. Длинный деревянный причал обратился в руины, рядом с ним над водой виднелись почерневшие остатки нескольких затонувших судов. Над пристанью стояла на походном станке одна единственная двадцатичетырехфунтовая пушка — все, что осталось от осадного парка Кио. Людей было немного: они стояли, палясь на два военных брига, проходящих мимо них по реке.
— Печальное зрелище, сэр, — сказал Фримен, стоявший рядом.
— Да, — согласился Хорнблауэр.
Вот здесь принял смерть Буш. Хорнблауэр молча стоял, скорбя о своем друге. Когда война закончится, он воздвигнет маленький памятник на берегу реки над причалом. Ему хотелось, чтобы городок никогда не был бы отстроен вновь — это стало бы лучшим монументом в память о его друге — это, или пирамида из черепов.
— На грота-шкоты! На кливер-шкоты! — заорал Фримен.
Прямой отрезок пути закончился, начинался долгий изгиб вправо. Управлять большим бригом на узкой реке — совсем не детская забава. Обстененные паруса захлопали, как гром, поймав поток верхового встречного ветра. Инерция двигала бриг вперед, и он стал медленно поворачивать, следуя излучине. Оставленный грот придал им скорость, необходимую для того, чтобы корабль слушался руля, чем большую циркуляцию они описывали, тем более плоскими становились паруса, пока наконец, бриг не пошел в крутой бейдевинд курсом, почти противоположным тому, на котором они подходили к Кодебеку, двигаясь по новому прямому отрезку, открывшемуся перед их взорами.
Рядом с ним появился Хоу.
— Монсеньер хочет знать, — сказал он, — слишком ли вы заняты на палубе. Его высочество приготовил тост, и хотел бы, чтобы вы к нему присоединились.
— Я сейчас буду, — ответил Хорнблауэр.
Бросив последний взгляд на Кодебек, исчезающий за поворотом, он поспешил вниз. Просторная временная каюта освещалась полосами солнечного света, падавшего сквозь открытые порты. Герцог заметил приход Хорнблауэра и встал, согнувшись под низким палубным бимсом.
— За Его королевское высочество принца-регента! — провозгласил он, поднимая бокал. Все выпили и повернулись к Хорнблауэру в ожидании соответствующего ответа.
— За Его наихристианнейшее величество! — сказал Хорнблауэр, и когда церемония была окончена, снова поднял бокал.
— За регента его наихристианнейшего величества в Нормандии, его королевское высочество монсеньера герцога Ангулемского!
Тост был выпит под гул одобрения. Было что-то драматическое и горестное в том, как они сидели здесь, поднимая тосты, в то время как снаружи Империя обращалась в руины. «Порта Коэльи» шла так круто к ветру, как только могла выдержать — об этом Хорнблауэр судил по поведению судна под его ногами и шуму рассекаемой воды. Фримену трудновато будет пройти следующий поворот: прежде, чем спуститься вниз, коммодор обратил внимание, что изгиб реки еще круче поворачивал к ветру. Хорнблауэр слышал, как Фримен на палубе отдал очередной приказ. Его снедало беспокойство. Находиться здесь, внизу, было все равно что нянчиться с младенцами в яслях, играя в игрушки, пока взрослые на верху управляют миром. Он снова поклонился, прося извинить его, и выскользнул на палубу.
Его предположения подтвердились: «Порта Коэльи» шла так круто к ветру, как только могла, может быть даже еще круче. Паруса ее полоскали, движения замедлились, а поворот реки, который должен был принести облегчение, находился в доброй миле впереди по курсу. Фримен посмотрел на хлопающие паруса и покачал головой.
— Вам следует лечь на другой галс, мистер Фримен, — сказал Хорнблауэр. Ложиться на другой галс в таком узком канале было затеей крайне опасной, даже при попутном приливе.
— Есть, сэр, — отозвался Фримен.
Он постоял пару секунд, оценивая расстояния; матросы на реях, без сомнения понимающие всю сложность предстоящих маневров, ждали, готовясь к серии приказов, которые должны будут последовать. Наполнив паруса, они на мгновение снова приобрели достаточную скорость, но опасно приблизились к подветренному берегу. Затем реи были перебрасоплены, а руль переложен, и «Порта Коэльи» несколько ярдов двигалась прямо против ветра, почти совершенно утратив за эти мгновения остатки инерции. Затем паруса снова перебрасопили, руль переложили немного под ветер, и бриг снова стал набирать ход, идя по-прежнему круто к ветру, но достаточно далеко от кромки берега.
— Прекрасно сделано, — заявил Хорнблауэр. Он хотел было добавить к сказанному совет не доводить до такого состояния в следующий раз, но заметив, что Фримен занят оценкой расстояний, и счел это излишним. Теперь Фримен не стал ждать, пока бриг потеряет ход. Как только паруса захлопали, он обстенил их, переложил руль, и на этот раз с подветренной стороны у него оказалась вся ширина реки. Посмотрев назад, Хорнблауэр увидел, что «Флейм» во всем следует примеру консорта. Подветренный берег приближался прямо на глазах — очевидно, в ближайшее время маневр нужно будет повторить, и Хорнблауэр с облегчением заметил, что расстояние до поворота реки значительно сократилось. Именно в эту секунду из комингса появилась голова герцога, который вскарабкался наверх по маленькой лесенке, и весь двор снова высыпал на палубу. Фримен с отчаянием взглянул на Хорнблауэра, который принял нужное решение. Остановив ближайшего придворного — им оказался конюший — взглядом, заставившим застыть готовую сорваться с губ последнего остроту, адресованную стоявшей рядом даме, он решительно заявил:
— В данный момент пребывание герцога и его свиты на палубе неуместно.
Веселая болтовня стихла, как по мановению волшебной палочки. Хорнблауэр поглядел на помрачневшие лица, и ему вновь пришло в голову сравнение с детьми — избалованными детьми, у которых отобрали одну из многочисленных игрушек.
— Управление кораблем требует слишком много внимания, — продолжил Хорнблауэр, поясняя свое заявление. Фримен уже отдавал команды матросам у парусов.
— Хорошо, сэр ‘Орацио, — произнес герцог. — Пойдемте, дамы и господа.
Уходя, он по возможности стремился сохранить достоинство, однако последнего из придворных едва не смела с палубы толпа бегущих матросов.
— Круче к ветру! — приказал Фримен рулевому, а затем в паузе, образовавшейся, пока они набирали ход, идя в бейдевинд, добавил, — Может задраить их внизу, сэр?
Это пугающее предложение было произнесено с усмешкой.
— Нет, — отрезал Хорнблауэр, не расположенный шутить.
На следующем галсе «Порте Коэльи» удалось войти в излучину. Поворот становился все глубже, и наконец, под чутким управлением Фримена, бриг, идя в галфвинд, устремился к следующему изгибу реки, на правом берегу которой виднелись поросшие лесом холмы, а на левом расстилались сочные заливные луга. Хорнблауэр подумал, что можно отправить вниз сообщение, что общество может подняться на палубу на ближайшие четверть часа, но потом отбросил эту мысль. Пусть остаются внизу, и Барбара, и прочие. Он взял подзорную трубу и стал осторожно карабкаться по грот-вантам: с салинга перед ним открывался великолепный вид на окрестности. Каким-то странным удовольствием было сидеть вот так и любоваться этими прекрасными пейзажами, словно досужий путешественник. Крестьяне, занятые работой на полях, почти не обращали внимания на два стройных судна, проплывающие мимо. Нигде не было заметно следов войны или опустошения: Нормандия за Кодебеком не подверглась нашествиям вражеских армий. Затем, когда бриг подошел к следующему изгибу, и все уже было готово к повороту, вдалеке на мгновение показался Руан, башни и колокольни его собора. Это заставило Хорнблауэра почувствовать странное волнение, но в ту же секунду бриг повернул, и лесистые холмы закрыли обзор. Он сложил подзорную трубу и спустился вниз.
— Прилив почти закончился, сэр, — сказал Фримен.
— Да. Если вы не против, мистер Фримен, мы встанем на якорь у следующего поворота. Заведите якоря с носа и с кормы, и дайте сигнал на «Флейм», чтобы они поступили так же.
— Есть, сэр.
Природные явления, такие, как сумерки или прилив — намного более приятные вещи, чем человеческие создания с их капризами, чем принцы и жены. Два брига бросили якоря, чтобы переждать отлив и следующую за ним ночь. Хорнблауэр принял естественные меры предосторожности против внезапной атаки, приказав натянуть абордажные сети, и отрядив пару шлюпок нести дозор в течение ночи, но понимал, что эти истощенные и безразличные земли не представляют угрозы. Если бы в пределах досягаемости действовала какая-нибудь армия, если бы Бонапарт вел войну не востоке, а на западе от Парижа, то это было бы другое дело. Но за исключением Наполеона и армий, вынужденных сражаться за него, у Франции не осталось сил к сопротивлению, беззащитная, она станет легкой добычей первого завоевателя, который пожелает прийти.
Общество, собравшееся на «Порта Коэльи», продолжало веселиться. Раздражение вызывало то, что герцог, герцогиня и их свита постоянно обнаруживали, что слуги или предметы багажа, которые требовались на «Порта Коэльи», оказались на «Флейме», как и наоборот, так что между судами постоянно сновали шлюпки. Впрочем, чего еще можно было ожидать от таких людей? Жалоб на тесноту размещения было на удивление мало. Барбара философски отправилась спать в каюту Фримена вместе с четырьмя другими женщинами — а каюта Фримена вряд ли могла считаться удобным ночлегом даже для двоих. Прислуга без каких-либо возражений занялась натягиванием своих гамаков по аккомпанемент шуточек команды: похоже, за двадцать лет изгнания, кочевий по Европе, они усвоили полезный урок, не забытый ими до сих пор. Создавалось впечатление, что спать никто не намерен — впрочем, из-за возбуждения и радостных предчувствий, они, вероятно, не смогли бы заснуть даже в пуховых постелях дворца.
Так же и Хорнблауэр, после часа или двух бесплодных попыток уснуть в гамаке, растянутом для него на палубе (ему не приходилось спать в гамаке с тех пор, как «Лидия» ремонтировалась на острове Коиба), оставил надежду, и просто лежал, вглядываясь в ночное небо, за исключением пары случаев, когда налетевший ливень заставлял его укрыться с головой специально приготовленным куском брезента. Бессонница позволяла ему, по крайней мере, быть уверенным в том, что ветер по-прежнему дует с запада, как того и следовало ожидать в это время года. Если он спадет или переменится, ему останется буксировать корабли шлюпками до Руана. Такой необходимости не возникло: рассвет принес усиление западного бриза, а также дождь, через два часа начался прилив, и Хорнблауэр мог отдать команду сниматься с якоря.
За следующим поворотом перед их взорами предстали башни Руанского собора, а еще через один их отделяла от города лишь сравнительно узкая полоса земли, хотя по воде им предстояло еще преодолеть длинный и живописный изгиб реки. Едва перевалило за полдень, когда они, миновав последнюю излучину, полностью увидели расстелившийся перед ними город: остров с его мостами, причал с теснящимися у него лодками, рынок на пристани, и парящие в высоте готические башни, бывшие свидетелями сожжения Жанны д’Арк. Нелегким делом было встать на якорь прямо под городом при все еще продолжающемся приливе. Хорнблауэр воспользовался возможностью, предоставленной ему небольшим ответвлением в течении, чтобы развернуться и бросить якорь с кормы, в двух кабельтовых дальше от города, чем он сделал бы при иных обстоятельствах. Он осмотрел город в подзорную трубу в поисках признаков делегации, призванной встречать их. Герцог стоял рядом, готовый выйти из себя при малейшем промедлении.
— Мне понадобится шлюпка, мистер Фримен, — сказал, наконец, Хорнблауэр, — Не будете ли вы любезны передать поручение моему старшине?
На пристани уже начал собираться народ, чтобы поглазеть на английские корабли, на георгиевский крест и бурбонские лилии — двадцать лет прошло с тех пор, как их видели здесь в последний раз. Когда Браун подвел шлюпку к пристани под мостом, здесь скопилась уже масса народа. Под пристальными взорами толпы Хорнблауэр поднялся по ступенькам. Люди были апатичными и молчаливыми, совсем не напоминая ту французскую толпу, которую ему приходилось видеть и слышать раньше. Он заметил человека в мундире — сержанта-таможенника.
— Я хочу видеть мэра, — заявил Хорнблауэр.
— Да, сэр, — почтительно ответил таможенник.
— Найдите для меня экипаж, — распорядился коммодор.
Последовала небольшая заминка: таможенник в замешательстве глядел по сторонам, но скоро из толпы стали выкрикивать советы, и не прошло много времени, как появился грохочущий наемный экипаж. Хорнблауэр вскарабкался в него, и они отправились в путь. Мэр встретил их у дверей ратуши, поспешив сюда прямо из-за стола, как только услышал о его прибытии.
— Где делегация, встречающая Его королевское высочество? — насел на него Хорнблауэр. — Почему не дают салют? Почему не звонят колокола церквей?
— Месье… Ваше превосходительство… — мэр не знал точно, какой ранг обозначают мундир и лента Хорнблауэра, и предпочел перестраховаться, — мы не знали… не были уверены…
— Вы видели королевский штандарт, — настаивал Хорнблауэр. — Вам было известно, что Его королевское высочество направляется сюда из Гавра.
— Да, слухи об этом ходили, — неохотно признал мэр. — Но…
Мэр хотел сказать, что надеялся на то, что герцог не только прибудет с подавляющими силами, но и не станет совершать торжественный въезд в город, так что никто не будет стоять перед необходимостью открыто встать на сторону Бурбонов, оказывая ему гостеприимство. А именно этого и добивался от мэра Хорнблауэр.
— Его королевское высочество весьма разгневан, — сказал Хорнблауэр. — Если вы хотите оправдаться в его глазах, а также его величества короля, который следует за ним, вам следует сделать все, что в ваших силах. Соберите делегацию: вы, ваши советники, вся знать, префект и субпрефект, если они еще здесь, все люди с положением — все должны быть готовы через два часа, чтобы приветствовать монсеньора при его схождении на берег.
— Месье…
— Все, кто присутствовал, будут внесены в список. И кто отстутствовал, — продолжал Хорнблауэр. — Распорядитесь, чтобы колокола начали звонить тотчас же.
Мэр пытался поймать взгляд Хорнблауэра. Он все еще испытывал страх перед Бонапартом, ужас, что в случае очередного поворота колеса фортуны ему придется ответить перед Наполеоном за прием, оказанный Бурбону. С другой стороны, Хорнблауэр понимал, что если он сумеет вынудить город выказать открытое гостеприимство, Руан подумает дважды, прежде чем перейти на другую сторону. Ему важно было заполучить союзника.
— Двух часов, — сказал Хорнблауэр, — будет вполне достаточно, чтобы провести все приготовления: собрать делегацию, украсить улицы, подготовить апартаменты для герцога и его свиты.
— Месье не имеет представления, что все это подразумевает, — запротестовал мэр, — это значит, что …
— Это значит, что вам надо решить: хотите ли вы добиться расположения короля или нет, — отрезал Хорнблауэр. — Выбор перед вами.
Хорнблауэр не стал упоминать о том, что мэру необходимо будет также решить: подвергаться ли ему риску умереть на гильотине от рук Бонапарта или нет.
— Умный человек, — многозначительно заявил Хорнблауэр, — не стал бы колебаться и секунды.
Но мэр колебался так долго, что Хорнблауэр начал уже опасаться, что ему придется прибегнуть к угрозам. Можно припугнуть страшным возмездием, когда завтра или послезавтра подойдет приближающаяся армия, еще лучше — пообещать разнести город в щепки с помощью корабельных орудий, но все эти угрозы он не собирался приводить в действие, так как они вызовут в людях совсем не те чувства, с которыми, как ему хотелось, должен встречать народ своих правителей после долгих лет страданий под властью тирана.
— Время не ждет, — сказал Хорнблауэр, глядя на часы.
— Хорошо, — произнес мэр, принимая решение, которое могло стоить ему жизни. — я сделаю это. Что вы предлагаете, ваше превосходительство?
Обговорить детали было делом нескольких минут — от Хоу Хорнблауэр многое узнал о том, как надо обставлять появление королевских особ на публике. Затем он распрощался и отправился назад, протиснулся через молчаливую толпу к шлюпке, где его не находящий себе места от волнения Браун. Едва они отвалили от пристани, как Браун встрепенулся. Зазвонил карильон[26] одной из церквей, а через минуту к нему присоединился другой. На палубе «Порта Коэльи» герцог выслушал рассказ Хорнблауэра. Город готовился встретить его.
Когда они высадились на пристани, все было, как обещано: собрание знати, кареты и лошади, белые флаги на улицах. А еще — апатичная толпа, оцепеневшая от страха. Тем не менее, Руан хранил спокойствие во время их пребывания, прием хотя бы производил впечатление радостного, так что Хорнблауэр и Барбара отправились спать совершенно измученные.
Когда стук в дверь проник, наконец, в сознание Хорнблауэра, он оторвал голову от подушки.
— Войдите! — закричал он. Барбара, лежавшая рядом, беспокойно заворочалась, когда Хорнблауэр, все еще полусонный, встал и отдернул полог.
Это был Доббс, в тапочках и ночной рубашке, с взъерошенными волосами. В одной руке он держал свечу, а в другой — письмо.
— Все кончено, — заявил он. — Бони отрекся! Блюхер в Париже!
Вот и свершилось. Победа, конец двадцатилетней войны. Хорнблауэр сел и уставился на пламя свечи.
— Нужно сообщить герцогу, — сказал он. Коммодор старался собраться с мыслями. — Король все еще в Англии? Какие документы сообщают об этом?
Когда он поднялся, все еще в ночной сорочке, Барбара села в кровати. Волосы ее были в беспорядке.
— Хорошо, Доббс, — сказал Хорнблауэр. — Я буду через пять минут. Пошлите кого-нибудь разбудить герцога и предупредить, что я зайду к нему.
Едва Доббс вышел, он бросился за брюками, и, балансируя на одной ноге, встретился с сонным взглядом Барбары.
— Это мир, — пояснил он. — Войны больше нет.
Даже будучи поднятым на такой манер, Хорнблауэр одевался, впрочем, как всегда, очень быстро. Прежде, чем Барбара успела ответить, он уже заправил в брюки ночную рубашку — длинные полы из плотного материала создавали теперь в поясе неудобную полноту.
— Мы знали, что это произойдет, — проворчала Барбара. В свете последних событий ей пришлось поспать слишком мало.
— В любом случае, герцог должен быть поставлен в известность незамедлительно, — сказал Хорнблауэр, всовывая ноги в туфли. — Думаю, что на рассвете мы отправимся в Париж.
— На рассвете? А сколько сейчас времени?
— Шесть склянок. Извини — три часа.
— О! — произнесла Барбара, снова откидываясь на подушку.
Хорнблауэр надел мундир и задержался, чтобы поцеловать ее, но ответный поцелуй получился лишь формальным.
Герцог заставил его ждать пятнадцать минут в приемной бывшей резиденции префекта, где теперь разместился сам. Новости он выслушал в окружении своего совета, и под маской королевского стоицизма нельзя было разглядеть ни одной эмоции.
— Что с узурпатором? — таков был первый вопрос, который он задал, выслушав Хорнблауэра.
— Его будущее отчасти решено, Ваше королевское высочество. Ему был обещан трон какого-нибудь маленького государства, — сказал Хорнблауэр. Произнесенная им фраза показалась ему абсурдной.
— А Его величество, мой дядя?
— В донесении ничего не сказано, Ваше королевское высочество. Без сомнения, Его величество теперь покинет Англию. Возможно, сейчас он уже в пути.
— Мы должны быть в Тюильри, чтобы принять его.
Глава 16
Хорнблауэр сидел в гостиной отеля «Мерис» в Париже, перечитывая пришедшее вчера письмо, начертанное на хрустящем пергаменте. Человек, неравнодушный к подобного рода вещам, обозначил бы как содержание письма, так и употребляемые в нем выражения как благодарность.
Поскольку величие и незыблемость Британской империи зависят, в наибольшей степени, от знаний и опыта в морских делах, Мы ценим высочайшую доблесть тех, кто, отстаивая Наши интересы, борется за сохранение Нашего господства над морем. Именно по этой причине Мы решили пожаловать титул пэра нашему верному и преданному сэру Горацио Хорнблауэру, кавалеру ордена Бани, происходящему из древнего семейства в Кенте и посвятившему себя с ранних лет морской службе, достигшему высокого положения в Нашем флоте благодаря собственным достоинствам и заслужившему Нашу благодарность за исполнение многих важных поручений, проявившему при этом верность, отвагу и удачливость. В последних войнах, терзавших в течение многих лет Европу, войнах, столь щедрых на морские сражения и экспедиции, едва ли найдется значительное событие, в котором он не принимал бы существенного участия, и как бы не были велики опасность и трудности, он преодолевал их с присущим ему удивительным умением, и фортуна ни разу не отвернулась от него.
Из вышеизложенного становится ясно, что мы решили пожаловать этот высокий титул поданному, оказавшему столь выдающиеся услуги Нам и стране, как в знак признания его собственных достоинств, так и в силу того, что своим примером он поощрял других к ревностному исполнению долга.
Так что теперь он стал пэром королевства, бароном, лордом Хорнблауэром из Смоллбриджа, графство Кент. В истории существовало лишь два или три случая, когда морской офицер возводился в звание пэра до производства в адмиралы. Лорд Хорнблауэр из Смоллбриджа — разумеется, он решил сохранить в своем титуле фамилию. Возможно, в имени Хорнблауэр можно найти что-то гротескное, и все же оно ему нравилось, и он не собирался променять его на почти анонимное «лорд Смоллбридж» или «лорд Какой-то-там-еще». Пеллью, по слухам, решил называться лордом Эксмутом. Это, возможно, устраивает Пеллью, но не его. Его шурин, став пэром, предпочел личный титул поземельному, сделавшись маркизом Уэлсли, а не графом Морнингтоном. Другой шурин, из-за невозможности использовать имя Уэлсли, занятое старшим братом, назвался Веллингтоном, очевидно, из желания сохранить, насколько возможно, созвучие с родовым именем. Теперь он герцог, это намного выше барона, и тем не менее, все трое они являются пэрами, лордами, наследственными законодателями. Маленького Ричарда называют теперь досточтимым Ричардом Хорнблауэром, и со временем он унаследует от отца титул «лорд Хорнблауэр». Формальности, связанные с титулом, оказались довольно любопытными. Скажем, Барбара, как дочь графа — отцовский ранг имел здесь первостепенное значение, вне зависимости от того, что один из ее братьев теперь маркиз, а другой — герцог, имела преимущественное положение по сравнению с женой кавалера ордена Бани. До вчерашнего дня она называлась леди Барбара Хорнблауэр. Отныне, в результате возведения мужа в пэрское достоинство, ей придется стать просто леди Хорнблауэр. Лорд и леди Хорнблауэр. Звучит неплохо. Это высокая честь и достижение, венец его профессиональной карьеры. По правде говоря, невероятная удача для такого недотепы. Мантия и корона. Хорнблауэр вздрогнул, вспомнив кое-что. Нелепое предсказание Фримена насчет золотой короны, сделанное им во время гадания на картах в каюте «Флейма», теперь исполнилось. Предвидеть такое было слишком для Фримена — даже ему самому ни на миг не приходило в голову, что он может стать пэром. Однако другая часть предсказания оказалась блефом. Фримен толковал об опасности и белокурой женщине. Теперь, с наступлением мира, все опасности позади, и рядом с ним нет никаких белокурых женщин, если только не считать таковой Барбару с ее голубыми глазами и светло-каштановыми волосами. Разволновавшись, он вскочил, и готов был уже начать мерить шагами комнату, когда из спальни вышла Барбара, готовая к вечернему приему в посольстве. Она была вся в ослепительно белом, так как замысел вечеринки состоял в демонстрации наивысшей преданности Бурбонам, и женщины должны были одеться в белое, вне зависимости от того, идет им этот цвет или нет — это, наверное, могло послужить самым убедительным доказательством лояльности к только что восстановленной династии, какое только возможно.
Готовясь сопровождать ее, Хорнблауэр взял шляпу и плащ. «Вот уже в сороковой раз за сорок последних дней, — подумал он с иронией, — я делаю одно и то же».
— Мы не станем надолго задерживаться у Артура, — сказала Барбара.
Артур — ее брат, герцог Веллингтон, необъяснимым образом превратившийся недавно из командующего армией в посла Его британского величества при дворе Его наихристианнейшего величества короля Франции. Хорнблауэр выразил свое удивление.
— Нам нужно пойти к Полиньякам, — пояснила Барбара, — чтобы повстречаться с месье Принцем.
— Разумеется, дорогая, — сказал Хорнблауэр. Ему показалось, что он сумел полностью искоренить оттенок покорности в своем голосе.
Месье Принц — это принц Конде, представитель младшей ветви Бурбонов. Хорнблауэр начал уже ориентироваться в запутанных связях французского общества, на котором тяжело отразились завихрения прошедшего века. «Неужели я единственный, кто воспринимает их как вышедший из употребления анахронизм?» — подумал он. Месье Принц. Месье Герцог — это, насколько помнится, герцог Бурбонский? Месье — просто месье, без каких-либо титулов — это граф Артуа — брат и наследник короля. Далее: Монсеньор — это герцог Ангулемский, сын Месье, который однажды, если его отец переживет его дядю, может стать дофином. Само слово «дофин» было анахронизмом, отдававшим чем-то из Темных веков. А Хорнблауэр понимал, что будущий дофин — человек совершенно недалекого ума, характерной чертой которого является пронзительный безрадостный смех, напоминающий кудахтанье курицы.
Тем временем они уже спустились по ступенькам, где их встретил Браун, чтобы помочь забраться в карету.
— В британское посольство, Браун, — сказал Хорнблауэр.
— Слушаюсь, милорд.
С первого же дня новый титул не вызвал у Брауна никаких затруднений. Хорнблауэр раздраженно подумал, что поставил бы что угодно на то, что у Брауна проскочит привычное «есть, сэр». Но Браун был слишком сообразителен, чтобы совершить такую глупость. Хорнблауэра удивляло, почему он остался служить при нем, когда вполне мог сделать карьеру.
— Ты не слышишь ни слова из того, что я говорю, — упрекнула его Барбара.
— Прости меня, дорогая, — признался Хорнблауэр: оправдываться было нечем.
— Это действительно очень важно, — продолжала Барбара, — Артур отправляется в Вену, чтобы представлять нас на конгрессе. Кастльро возвращается к управлению страной.
— Артур оставляет посольство? — спросил Хорнблауэр, чтобы поддержать разговор. Карета громыхала по мостовой, огни, мелькавшие время от времени в окне, освещали одетую в мундиры всех цветов толпу Парижа, кружившуюся в водовороте наступившего мира.
— Разумеется. Это — намного важнее. Весь мир соберется в Вене, дворы всего света будут представлены там.
— Думаю, так, — произнес Хорнблауэр. Конгрессу предстоит решать судьбу всего мира.
— Об этом я и пытаюсь тебе сказать. Артуру там понадобится хозяйка — ведь ему, конечно, предстоят бесконечные приемы — и он попросил меня поехать с ним в этом качестве.
— О Боже! — Вежливый разговор привел его прямо на край пропасти.
— Это не кажется тебе замечательным? — спросила Барбара.
С губ Хорнблауэра уже готовы были сорваться слова «Конечно нет, дорогая», но в нем вдруг произошел переворот. Бесчисленное количество раз его жене приходилось приносить себя в жертву его профессии. Неужели так будет продолжаться и впредь? Барбара станет хозяйкой дома, где разместится самая важная делегация на этом самом важном на свете конгрессе. Как Хорнблауэр уже понял, семена дипломатии дают более обильные всходы в гостиных, чем кабинетах. Салон Барбары станет местом интриг и торговли. Она будет хозяйкой, Веллингтон — хозяином, а кем будет он? Кем-то еще более ненужным, чем сейчас. Хорнблауэр окинул мысленным взором трехмесячную перспективу салонов, балов, поездок на балет, при том, что он не войдет во внутренний круг общения, да и во внешний тоже. Ему не доверят секреты Кабинета, да у него и нет никакого желания иметь что-то общее со сплетнями и скандалами большой политики. Рыба, вынутая из воды — вот кем он будет — неплохое сравнение по отношению к морскому офицеру в салонах Вены.
— Ты не отвечаешь? — сказала Барбара.
— Будь я проклят, если пойду на это! — отрезал он. Странно, что при всем своем такте и интуиции, в редких спорах с Барбарой Хорнблауэр всегда прибегал к «тяжелой артиллерии», чтобы сразу расставить точки над «и».
— Ты не пойдешь на это, дорогой?
Само собой разумеется, пока она произносила эту короткую фразу, тон ее успел измениться с разочарованного до враждебного.
— Нет! — рявкнул Хорнблауэр. Поскольку его чувства долго кипели в котле с плотно закрытой крышкой, то, вырываясь наружу, они произвели настоящий взрыв.
— Ты не позволишь свершиться главному событию в моей жизни? — с ледяным оттенком в голосе сказала Барбара.
Хорнблауэр загнал свои чувства внутрь. Легче было бы дать им выплеснуться — намного легче. Но он не хотел этого допустить. Просто не мог. Все-таки Барбара права, что это будет великолепно. Играть такую важную роль на европейском конгрессе, участвовать в решении судеб мира — и все же, у Хорнблауэра не было желания становиться членом — причем малозначащим, клана Уэлсли.
Он слишком долго был капитаном корабля. Ему не нравились политики, даже европейского масштаба. Он не горел желанием целовать ручки венгерским графиням и обмениваться любезностями с русскими великими князьями. Это могло быть важно в прежние дни, когда его профессиональная репутация зависела от успеха в подобных делах. Но теперь ему нужны были иные мотивы, кроме поддержания реноме учтивого кавалера.
Как это всегда бывает, ссоры, происходящие в экипаже, достигают своей наивысшей точки именно в тот момент, когда поездка заканчивается. Карета остановилась, и лакеи, облаченные в ливреи Веллингтона, распахнули перед ними двери прежде, чем он успел объясниться или принести извинения. Когда они вошли в посольство, Хорнблауэр боковым зрением заметил, что на щеках Барбары играет румянец, а глаза опасно блестят. В течение всего вечера он наблюдал следующую картину: Барбара, окруженная кружком поклонников, вела оживленную беседу и смеялась, пребывая, очевидно, в прекрасном настроении. Неужели она флиртует? Мундиры красные, голубые, черные, зеленые — все склонялись перед ней в открытом обожании. Каждый раз, когда Хорнблауэр видел это, его раздражение нарастало.
Но он старался подавлять его, твердо решив принести извинения.
— Тебе лучше будет поехать в Вену, дорогая, — произнес он, когда они снова сели в карету и направились к Полиньякам. — Ты нужна Артуру — это твой долг.
— А ты? — голос Барбары звучал холодно.
— Зачем я тебе? Привидение на празднике, дорогая. Я поеду в Смоллбридж.
— Я очень признательна тебе, — сказала Барбара. При ее гордости, ей всегда было слегка не по себе, когда она оказывалась обязанной кому-то. Просить разрешения было нелегко, получить вынужденное согласие было ужасно.
Они подъехали к дому Полиньяков.
— Милорд и миледи Хорнблауэр! — громогласно объявил мажордом.
Засвидетельствовав свое почтение принцу, они стали здороваться с присутствующими. Но что это, скажите на милость!? Не может быть! У Хорнблауэра голова пошла кругом, сердце забилось, в ушах стоял шум, как в тот момент, когда он боролся за свою жизнь в водах Луары. Сверкающая огнями комната, казалось, погрузилась в туман, за исключением одного единственного лица. С вымученной улыбкой на губах на него смотрела Мари. Мари! За несколько месяцев до женитьбы на Барбаре он сказал Мари, что любит ее, и это было почти правдой. И она призналась, что любит его, и Хорнблауэр чувствовал ее слезы на своем лице. Мари — нежная, верная, искренняя. Мари, которая нуждалась в нем, и чью память он предал, женившись на Барбаре.
Хорнблауэр заставил себя пересечь комнату и подойти к ней, чтобы сугубо формально поцеловать протянутую ему руку. Вымученная улыбка по-прежнему застыла у нее на губах, она выглядела, как если бы… словно она готова отдать ему все, что он захочет, как послушное дитя, способное пойти на любую жертву ради любимой матери. Как сможет он снова посмотреть ей в глаза? И все же смог. Они смотрели друг на друга с каким-то странным чувством. У Хорнблауэра создалось ощущение чего-то живого и яркого. На Мари было расшитое золотом платье. Глаза ее, казалось жгли его — это не была просто метафора. Он попытался вызвать в памяти образ Барбары: так потерпевший кораблекрушение, мечась в волнах, цепляется за обломок мачты. Барбара — сдержанная и элегантная; Мари — горячая и пышная. Барбара в белом, которое не очень идет ей, Мари — в золотом. Глаза Барбары голубые, взгляд сверкающий; у Мари глаза карие, а взгляд нежный и приветливый. Волосы Барбары каштановые, даже почти коричневые, у Мари — золотистые, чуть-чуть рыжеватые. Как можно думать о Барбаре, глядя на Мари?
Здесь же ожидал своей очереди граф, чудаковатый добряк — самый замечательный человек на свете, трое сыновей которого погибли за Францию, и который однажды сказал Хорнблауэру, что относится к нему, как к сыну. Обуреваемый чувствами, Хорнблауэр обменялся с ним рукопожатием. Взаимное представление было нелегким делом — не просто представлять друг другу свою жену и свою любовницу.
— Леди Хорнблауэр — мадам виконтесса де Грасай. Барбара, дорогая — месье граф де Грасай.
Оценили ли они друг друга, эти две женщины? Скрестили ли они клинки: его жена и его любовница, женщина, которую он выбрал открыто, и та, которую любил втайне?
— Именно месье граф, — с чувством сказал Хорнблауэр, — и его сноха помогли мне бежать из Франции. Они укрывали меня, пока не прекратились розыски.
— Я припоминаю, — произнесла Барбара. Она повернулась к ним и сказала на своем ужасном школьном французском:
— Я бесконечно благодарна вам за все, что вы сделали для моего мужа.
Это было нелегко. На лицах Мари и графа читалось недоумение: супруга коммодора совершенно не подходила под описание, данное им Хорнблауэром четыре года назад, когда он, беззащитный беглец, прятался в их доме. Откуда им было знать, что Мария умерла, и что Хорнблауэр вскоре женился на Барбаре, являвшейся полной противоположностью своей предшественнице.
— Мы готовы это сделать и впредь, мадам, — сказал граф. — К счастью, теперь в этом не будет необходимости.
— А лейтенант Буш? — спросила Марию. — Надеюсь, с ним все в порядке?
— Он погиб, мадам. Был убит в последний месяц войны. До своей гибели он успел стать капитаном.
— О!
Глупо было говорить, что он стал капитаном. Для всех это несущественно. Морской офицер так невыразимо ревностно и трепетно относится к продвижению по службе, что в разговоре со случайным знакомым у последнего может создаться мнение, что смерть — достойная цена за капитанский патент. Но только не в случае с Бушем.
— Мне жаль, — сказал граф. Он несколько помедлил, прежде чем задать следующий вопрос — кошмар войны вновь всплыл из небытия, воплотившись в страхе, когда задавался о вопрос о друзьях, которых, возможно, больше нет. — А Браун, этот колосс? Он жив?
— С ним все в порядке, граф. В данный момент он является моим доверенным слугой.
— Мы немного читали о вашем побеге, — сказала Мари.
— В обычной извращенной манере Бонапарта, — добавил граф. — Вы захватили корабль — «Эн… Эндор…»
— «Эндорская волшебница», сэр.
Удовольствие это или мука? На него нахлынули воспоминания: о замке де Грасай, о бегстве вниз по Луаре, о почетном возвращении в Англию, воспоминания о Буше, и такие сладостные — о Мари. Он снова заглянул ей в глаза: светящаяся в них доброта была безмерной. Боже! Это невыносимо!
— Но мы не сделали того, что должны были сделать с самого начала! — воскликнул граф¸ — мы не высказали своих поздравлений с той наградой, которую вы получили в признание ваших заслуг перед родиной. Теперь вы английский лорд, и мне, как никому другому известно, насколько заслужено вами это звание. Примите мои искренние поздравления, милорд. Ничто, ничто не могло доставить мне большей радости.
— Так же, как и мне, — добавила Мари.
— Спасибо, благодарю вас, — ответил Хорнблауэр. Он шутливо поклонился. Для него также было наивысшим удовольствием видеть гордость и радость, светящиеся в глазах старого графа.
Хорнблауэру вдруг пришло в голову, что Барбара, стоящая рядом, утратила нить разговора. Он торопливо изложил ей суть сказанного на английском, и она кивнула и улыбнулась графу. И все-таки перевод — не самый лучший способ. Правильнее было бы дать возможность Барбаре пытаться говорить на французском — стоило ему начать переводить, как ее языковой барьер существенно вырос, и Хорнблауэр, стремясь держать ее в курсе, оказался в положении посредника в общении между своей супругой и друзьями.
— Вам понравилась жизнь в Париже, мадам? — задала вопрос Мари.
— Да, очень, благодарю вас, — ответила Барбара.
У Хорнблауэра создалось впечатление, что женщины не понравились друг другу. Он затронул тему возможной поездки Барбары в Вену, Мари слушала, изображая невероятное удовольствие при известии о такой удаче Барбары. Разговор стал формальным и напыщенным, Хорнблауэр никак не мог признаться себе, что это является следствием вмешательства в него Барбары, но такое умозаключение уже сложилось в его подсознании. Ему хотелось легко и свободно побеседовать с Мари и графом, что невозможно было при стоящей рядом Барбаре. Чувство разочарования и облегчения смешались в нем, когда из-за скопления вокруг них других людей и приближения хозяина разговор пришлось прервать. Они обменялись адресами и обещали нанести друг другу визиты, если у Барбары останется время до вероятной поездки в Вену. Когда он поклонился Мари при прощании, в глазах последней читалась глубокая печаль.
Возвращаясь обратно в отель в карете, Хорнблауэр пришел к выводу, что испытывает некоторое удовлетворение от того, что предложил Барбаре поехать в Вену одной прежде, чем они встретились с семьей де Грасай. Осознать источник удовлетворения не представлялось возможным, но расставаться с этим чувством он не спешил. Облаченный в халат, он разговаривал с Барбарой, пока Геба занималась сложным процессом разоблачения хозяйки и подготовки ее прически ко сну.
— Когда ты впервые сказала мне о предложении Артура, дорогая, — сказал он, — я не мог представить себе, что это означает. Я очень рад. Ты станешь первой леди Англии. Причем совершенно заслуженно.
— Ты не хочешь сопровождать меня? — поинтересовалась Барбара.
— Думаю, тебе будет лучше без меня, — искренне заявил Хорнблауэр. Он знал, что если ему придется столкнуться с чередой балов и приемов в Вене, то рано или поздно он станет портить ей удовольствие.
— А как ты? — задала вопрос Барбара, — ты полагаешь, что тебе будет хорошо в Смоллбридже?
— Так хорошо, как только может быть без тебя, дорогая, — ответил Хорнблауэр, не кривя душой.
До сих пор они не обмолвились ни словом о де Грасаях. Барбара была совершенно свободна от недостатка, так угнетавшего Хорнблауэра в его первой жене: стремления судачить о людях, с которыми они только что виделись. Они уже лежали в кровати, обнявшись, когда вдруг, без каких-либо околичностей, и, вполне очевидно, вовсе не между прочим, она подняла эту тему.
— Твои друзья, де Грасаи, очень милые, — сказала она.
— Разве я не говорил тебе об этом? — ответил Хорнблауэр, чрезвычайно довольный, что, рассказывая Барбаре о своих приключениях, не обошел молчанием этот частный эпизод, хотя, конечно, рассказал ей не все, далеко не все.
Потом он несколько некстати заявил:
— Граф — один из самых добрых и замечательных людей, которые когда-либо рождались на свет.
— Она красива, — сказала Барбара, неуклонно следуя череде собственных мыслей. — Ее глаза, фигура, волосы. Часто случается, что женщины с рыжими волосами и карими глазами плохо сложены.
— К ней это не относится, — сказал Хорнблауэр, сочтя за лучшее согласиться.
— Почему она не вышла замуж снова? — поинтересовалась Барбара. — Как ты рассказывал, она вышла замуж совсем юной и овдовела несколько лет назад.
— После Асперна, — пояснил он, — в 1809 году. Один из сыновей был убит при Аустерлице, второй умер в Испании, а ее муж, Марсель, погиб при Асперне.
— Почти шесть лет назад, — проговорила Барбара.
Хорнблауэр попытался объяснить, что Мари не «голубой крови», что при ее вторичном замужестве ей придется возместить крупную сумму роду де Грасай, что ее уединенная жизнь предоставляет мало шансов найти мужа.
— Теперь они станут вращаться в лучшем обществе, — задумчиво произнесла Барбара. А потом, как бы некстати, добавила, — у нее слишком большой рот.
Позже, ночью, когда Барбара спокойно заснула рядом с ним, Хорнблауэр задумался над ее словами. Ему не нравилась мысль о повторном замужестве Мари, и это удивляло его. Он практически никогда не увидит ее больше. Можно нанести им визит до отъезда в Англию, и это все. Скоро он вернется в Смоллбридж, в свой дом, к Ричарду, своим английским слугам. Будущая жизнь будет спокойной и однообразной, но счастливой. Барбара не навсегда останется в Вене. Рядом с женой и сыном он станет вести здоровую, упорядоченную, полезную жизнь. Придя к этому взвешенному решению, он закрыл глаза и настроился на сон.
Глава 17
Два месяца спустя Хорнблауэр сидел в коляске, следующей по Франции в направлении к Неверу и замку де Грасай. Конгресс в Вене все еще заседал, вернее, танцевал — кто-то подметил, что «конгресс танцует, но не движется вперед»,[27] и Барбара по-прежнему была занята. Маленький Ричард каждое утро теперь проводил в школе, и деятельному человеку было нечем заняться в Смоллбридже, кроме как чувствовать себя одиноким. Искушения подкрадывались к нему, как наемные убийцы. С него оказалось довольно шести недель бессмысленных прогулок вокруг дома, шести недель английской зимы с дождем и туманом, шести недель назойливой опеки со стороны дворецкого, экономки и гувернантки, шести недель бесцельных поездок по сельским тропам и общения с буколическими соседями. В бытность капитаном, он являлся человеком одиноким, но занятым, что составляет существенную разницу с одиноким человеком, которому нечего делать. Даже таскаться по приемам в Париже было бы предпочтительнее.
Он поймал себя на том, что разговаривает с Брауном, вновь прокручивает в памяти пережитые события, но это не помогало. Нельзя забывать о достоинстве — сильный человек не вправе выказывать слабость, выискивая себе занятия и увлечения. А Браун заманчиво толковал о Франции, о замке де Грасай, об их побеге по Луаре — не исключено, что именно Браун был повинен в том, что мысли Хорнблауэра все чаще обращались к Грасаям. Будучи беглецом, он нашел там радушный прием, обрел дом, дружбу и любовь. Он вспоминал о графе — возможно, поскольку его мучили угрызения совести, но все же, без сомнения, в первую очередь он думал о графе, а не о Мари — о его благородстве, доброте, человеколюбии. После смерти Буша, граф, похоже стал для Хорнблауэра человеком, которого он ценил выше всех прочих. То духовное родство, которое Хорнблауэр ощутил много лет назад, не исчезло до сих пор. Под покровом его сознания, видимо, крутились некие невысказанные мысли о Мари, но он и сам не мог дать себе отчет в этом. Все, что можно было сказать, это то, что в один из дней ноша беспокойства стала невыносимой. В руках его было любезное письмо от графа, полученное пару дней назад, где говорилось об их с Мари возвращением в замок, и повторялось приглашение погостить у них. Он приказал Брауну собирать вещи и заложить лошадей.
Позавчера они переночевали в гостинице «Под знаком сирен» в Монтаржи, а прошлую ночь провели на почте в Бриаре. Теперь они ехали по безлюдной дороге вдоль Луары, которая, подобно серому океану, широкая и пустынная, простиралась справа от них, жалкие ивы, наполовину затопленные водой, отчаянно цеплялись за ее берега. Проливной дождь барабанил по кожаному тенту коляски с такой силой, что трудно было поддерживать разговор. Браун сидел рядом с Хорнблауэром в коляске; бедолага-форейтор, нахлобучив поглубже шляпу, ехал на пристяжной. Браун — образец слуги, сидел, сцепив руки, готовый вежливо поддержать разговор, если так будет угодно господину, храня молчание до тех пор, пока к нему не обратятся. Он превосходно справлялся с решением любых проблем, связанных с путешествием по Франции, впрочем, оно не представило бы затруднений для любого английского лорда. Всякий почтовый смотритель, чтобы он не воображал о себе в своем офисе, рассыпался в любезностях при первом упоминании о титуле Хорнблауэра.
Хорнблауэр почувствовал, как Браун встрепенулся и стал всматриваться вперед сквозь завесу дождя.
— Бек д’Алье, — заявил Браун, впервые вступив в разговор без приглашения.
Хорнблауэр смог разглядеть место, где серые воды Алье под острым углом вливались в Луару — эта местность изобиловала небольшими реками. Было нелегко найти другого такого старшину, способного так свободно и с правильным произношением говорить по-французски, как Браун, который, как было известно Хорнблауэру, не даром потратил месяцы, проведенные под лестницей в замке Грасай, когда беглые военнопленные — они двое — и Буш, укрывались там. Хорнблауэр почувствовал, что как и в нем самом, так и в Брауне стремительно разрастается волнение, что в отношении Брауна было не совсем объяснимо. У него не было оснований чувствовать по отношению к замку той тоски по дому, которую испытывал Хорнблауэр.
— Помнишь, как мы попали сюда? — спросил коммодор.
— Да милорд, конечно, — ответил Браун.
Именно по Луаре они совершили свой исторический побег из Франции, долгое, на удивление удачное путешествие к Нанту, к Англии, к славе. Грасай находился лишь в нескольких милях отсюда, Браун в нетерпении высунулся из коляски. Вот и замок: его увенчанные коническими крышами сторожевые башенки едва видны на затянутом пеленой дождя горизонте. Развевающийся на флагштоке флаг темным пятнышком выделяется на фоне стен. Там граф. Там Мари. Форейтор заставил уставших лошадей перейти на рысь, и замок становился все ближе и ближе, казавшийся невероятным миг вот-вот должен был наступить. Всю дорогу из Смоллбриджа, когда Хорнблауэр решил отправиться в путь, у него создалось ощущение, что он словно не взаправду едет в Грасай. Ему приходило в голову сравнение с ребенком, требующим луну с неба: его цель была столь желанна, что казалась в силу этого недостижимой. И все-таки они здесь: останавливаются перед воротами, ворота открываются и они на рысях въезжают на так хорошо знакомый двор. Здесь навстречу к ним, не взирая на дождь, выскочил старый дворецкий Феликс, а в кухнях собралась группа из женской прислуги, в том числе толстая повариха Жанна. А рядом с коляской, на каменных ступеньках, укрытых от дождя крыльцом, стояли граф и Мари. Это было возвращение домой. Хорнблауэр неуклюже выбрался из экипажа, склонился, целуя руку Мари, обнялся с графом. Граф похлопал его по плечу:
— Добро пожаловать!
Что может сравниться с удовольствием от того ощущения, что ты долгожданный гость и твой приезд доставил радость. Вот и памятная гостиная с позолоченными креслами в стиле Луи Шестнадцатого. Морщинистое лицо старого графа излучало радость, Мари улыбалась. Этот человек разбил ей сердце однажды, она знала, что это повторится вновь, и все равно готова была пойти на все — потому что любила его. Все что видел Хорнблауэр, была ее улыбка, в которой читалось приглашение и проглядывало нечто материнское. В этой улыбке была какая-то печальная гордость: так мать смотрит на сына, ставшего взрослым и готового покинуть ее. Но все эти ощущения были лишь мимолетными — способность Хорнблауэра наблюдать моментально исчезла, смытая волной его собственных чувств. Он хотел прижаться к Мари, обнять ее роскошное тело, забыть свои печали, горести и разочарования в дурмане ее объятий, так, как это однажды случилось четыре года назад.
— Гораздо более приятное прибытие, чем в прошлый раз, милорд, — произнес граф.
В прошлый раз Хорнблауэр прибыл сюда в качестве беглеца, неся на руках раненного Буша и преследуемый по пятам наполеоновскими жандармами.
— Безусловно, — сказал Хорнблауэр. Потом он сообразил, как официально обратился к нему граф. — Неужели я для вас «милорд», сэр? Мне помнится…
Они улыбнулись друг другу.
— В таком случае, если позволите, я буду называть вас Орацио, — сказал граф. — Такая близость делает мне честь.
Хорнблауэр посмотрел на Мари.
— Орацио, — сказала она. — Орацио.
Ему уже приходилось слышать эти слова, произнесенные слегка другим тоном, когда они были наедине. Любовь переполняла его — та любовь, на которую он был способен. Ему до сих пор не пришла в голову мысль о неблаговидности его поступка — ведь он приехал сюда, чтобы тем самым снова подвергнуть Мари страданиям. Его обуревали собственные желания — но, возможно, в его оправдание стоит заметить, что в силу своей чрезмерной скромности он не способен был понять, как сильно его могут любить женщины. Феликс принес вино. Граф поднял бокал.
— За ваше счастливое возвращение, Орацио, — сказал он.
Эти простые слова вызвали в памяти Хорнблауэра целую вереницу ярких воспоминаний, подобно хороводу королей, возникшему в воображении Макбета. Жизнь моряка — череда расставаний и возвращений. Возвращений к Марии, которой больше нет, возвращений к Барбаре, и вот теперь — возвращение к Мари. Не хорошо думать о Барбаре, находясь рядом с Мари, как думал он о Мари, находясь рядом с Барбарой.
— Полагаю, Браун устроился нормально, Феликс? — спросил он. Хороший хозяин всегда должен заботиться о слуге, но этот вопрос был задан также с намерением отвлечься от череды своих мыслей.
— Да, милорд, — сказал Феликс. — Браун чувствует себя как дома.
Лицо Феликса не выражало никаких эмоций, как и голос. Не слишком ли? Нет ли в этом какого-то тонкого намека насчет Брауна, предназначающегося Хорнблауэру? Любопытно. Но когда Хорнблауэр вернулся в комнату, чтобы подготовиться к обеду, то обнаружил, что Браун по-прежнему являет собой идеального слугу. Чемоданы и дорожный сундук были распакованы, черный сюртук — последний писк лондонской моды — разложен вместе с сорочкой и галстуком. В спальне на каминной решетке весело плясали языки пламени.
— Ты рад, что вернулся сюда, Браун?
— Действительно очень рад, милорд.
Браун был настоящим полиглотом — с одинаковой легкостью он мог говорить на языке прислуги, нижней палубы, сельских аллей и лондонских улиц, и кроме того, знал французский. «Даже удивительно, как он ухитряется никогда не смешивать их», — подумал Хорнблауэр, завязывая галстук.
В верхней зале он столкнулся к Мари, так же спускающейся к обеду. Каждый застыл на мгновение, словно встретив человека, которого меньше всего мог ожидать здесь увидеть. Затем Хорнблауэр поклонился и предложил ей руку, а Мари сделала реверанс. Ее рука, опиравшаяся на его руку, дрожала, и с ее прикосновением он почувствовал, что бросило в жар, словно он подошел к открытой печи.
— Моя милая! Любовь моя! — прошептал Хорнблауэр, почти совершенно потеряв над собой контроль.
Ее рука затрепетала, но Мари решительно продолжала спускаться по лестнице.
Обед получился отменным, так как толстая Жанна-повариха превзошла саму себя, граф был в ударе, чередуя серьезность с юмором, демонстрируя ум и эрудицию. Они обсуждали политику бурбонского правительства, порассуждали о решениях, которые могут быть выработаны на конгрессе в Вене, уделили некоторое внимание Бонапарту на Эльбе.
— Перед тем, как мы выехали из Парижа, — заметил граф, — стали ходить разговоры, что он слишком опасен, находясь так близко. Подразумевалось, что его стоит переместить в более надежное место — в этой связи упоминался ваш остров Святой Елены в Южной Атлантике.
— Возможно, так будет лучше, — согласился Хорнблауэр.
— Брожение в Европе будет продолжаться до тех пор, пока этот человек находится в центре интриг, — сказала Мари. — Почему ему позволяют мучить всех нас?
— Царь сентиментален, а он был его другом, — пояснил граф, пожимая плечами. — Помимо прочего, император Австрии его тесть.
— Неужели они готовы отстаивать свои предпочтения ценой Франции, всей цивилизации? — с горечью спросила Мари.
Женщины всегда воспринимают все ближе к сердцу, чем мужчины.
— Не думаю, что Бонапарт представляет собой сколько-нибудь серьезную угрозу, — успокаивающе заявил Хорнблауэр.
После обеда, когда они пили кофе, взгляд графа с вожделением скользнул к карточному столу.
— Вы не утратили своих прежних навыков в игре в вист, Орацио? — спросил он. — Нас, правда, только трое, но я дума, что можно использовать болвана. В некоторых случаях, хотя мое мнение и может показаться ересью, игра с болваном носит более научный характер.
Никто не вспоминал про то, как Буш играл с ними, но все думали о нем. Они подснимали, тасовали и сдавали, подснимали, тасовали, сдавали. Заявление графа насчет более научного характера игры с болваном не было лишено определенного смысла: по крайней мере, это позволяло более точно рассчитывать шансы. Граф играл с обычной своей живостью, Мари, похоже не растеряла своих отличных навыков, а Хорнблауэр, как всегда выказывал присущий ему точный расчет. И все же что-то было не так. Вист с болваном сам есть нечто неустойчивое — может быть по причине того, что партнерам приходится меняться местами во время сдачи. Не было даже и речи о том, чтобы полностью погрузиться в игру, как это обычно происходило с Хорнблауэром. Его переполняли мысли о Мари, находившейся то рядом с ним, то напротив него, и пару раз он допускал в игре мелкие ошибки. К концу второго роббера Мари положила руки на колени.
— Полагаю, что на этот вечер с меня довольно, — сказала она, — уверена, что Орацио играет в пикет также замечательно, как в вист. Может быть, вы скоротаете время таким образом, тогда как я отправлюсь спать.
Граф тут же вскочил на ноги, с присущим ему тактом поинтересовавшись, хорошо ли она себя чувствует, и получив ответ, что это всего лишь усталость, проводил ее до двери с торжественностью, достойной королевы.
— Доброй ночи, Орацио, — сказала Мари.
— Доброй ночи, мадам, — ответил Хорнблауэр, вставая из-за стола.
Они обменялись взглядом, коротким, длившемся не более десятой доли секунды, но этого было достаточно для того, чтобы они могли сказали друг другу все, что нужно.
— Не сомневаюсь, что предположение Мари о вашем умении играть в пикет является верным, Орацио, — сказал граф, возвращаясь назад. — Мы с ней много играли в него взамен виста. Однако я принимаю как должное, что у вас есть желание играть. Как это невежливо с моей стороны! Пожалуйста…
Хорнблауэр поспешил заверить графа, что не и мечтал ни о чем прочем.
— Превосходно, — сказал граф, тасуя карты тонкими длинными пальцами. — Я удачлив.
По крайней мере в этот вечер удача была на его стороне: его обычная рискованная манера игры была вознаграждена везением при любой сдаче. Его шесть младших побили квинт старших Хорнблауэра, каре валетов спасло, когда у Хорнблауэра собрались три туза, три короля и три дамы, а дважды карт-бланш позволял ему избежать поражения при подавляющем перевесе Хорнблауэра. Когда Хорнблауэру приходила сильная карта, графу везло, когда карта была слабой, граф обладал огромным преимуществом. Под конец третьей партии Хорнблауэр беспомощно посмотрел на него.
— Боюсь, что игра не очень интересна для вас, — с раскаянием сказал граф. — Не самый вежливый способ встречать гостей.
— Мне доставляет больше удовольствия проигрывать в этом доме, — совершенно искренне признался Хорнблауэр, — чем выигрывать в другом.
Граф расплылся в улыбке.
— Вы слишком добры, — произнес он. — В свое оправдание могу только сказать, что когда вы находитесь в моем доме, для меня безразлично, выигрываю я или проигрываю. Надеюсь, я буду иметь счастье рассчитывать на ваше длительное пребывание здесь?
— Как и судьба Европы, — ответил Хорнблауэр, — это зависит от Венского конгресса.
— Вы знаете, что мы в полном вашем распоряжении, — горячо промолвил граф. — Мари и я хотели бы, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома.
— Вы слишком добры, сэр, — сказал Хорнблауэр. — Могу я попросить свечу?
— Позвольте, — произнес граф, торопливо дергая за шнурок звонка. — Надеюсь, путешествие не слишком утомило вас? Феликс, милорд уходит.
Они поднялись по отделанной резными панелями дубовой лестнице, Феликс, подагрически прихрамывая, нес свечу. Полусонный Браун, ожидавший в гостиной его маленьких апартаментов, был отпущен тотчас же, когда Хорнблауэр заявил, что намерен лечь спать. Спрятавшаяся в углу дверь вела к холлу, расположенному близ комнат Мари в башне — как хорошо Хорнблауэр помнил это. Поколения Ладонов, графов де Грасай, плели в замки интриги: не исключено, что через эту дверь короли и принцы отправлялись на свидание к своим возлюбленным.
Мари, переполняемая желанием и любовью, источающая нежность и ласку, ждала его. Погрузиться в ее объятия означало окунуться в мир покоя и счастья, покоя безграничного, подобно морю в лучах заката. Пышная грудь, к которой он преклонил голову, звала его, ее аромат успокаивал и кружил голову одновременно. Она обладала им, любила его, плача от счастья. Ей принадлежала лишь половина его сердца, она это знала. Он был сухим, черствым, эгоистичным, и все же этот худощавый человек, лежащий в ее объятьях, был для нее всем. Ужасно, что он вернулся, чтобы позвать ее вот так. Он заставил ее страдать прежде, и она понимала, что те страдания ничто по сравнению с теми, которые ждут ее в будущем. Но это ее судьба. Ведь она любила его. Время летит так быстро, только краткий миг отделяет их от прихода горя. Нужно спешить! Она судорожно прижала его к себе, рыдая от страсти, взывая ко времени замедлить свой ход. И казалось, что это произошло. Время остановилось, тогда как весь мир кружился вокруг нее.
Глава 18
— Могу я поговорить с вами, милорд? — спросил Браун.
Он поставил поднос с завтраком рядом с кроватью и раздвинул шторы на окне. Солнечные лучи играли на водной поверхности Луары. Браун почтительно выждал, пока Хорнблауэр не выпьет свою первую чашечку кофе и не вернется в окружающую его действительность.
— В чем дело? — спросил Хорнблауэр, бросив взгляд на стоящего у стены Брауна. Тот держался как-то необычно. Манера, свойственная слуге джентльмена, сменилась строгой выправкой прежних дней, когда уважающий себя матрос, прямо держал голову и плечи, ждало ли его наказание кошкой или награда за отвагу.
— В чем дело? — переспросил заинтригованный Хорнблауэр.
На мгновение у него появилось невероятное подозрение, что Брауну пришла в голову глупость сказать ему что-то о его отношениях с Мари, но оно тотчас же исчезло, едва он осознал нелепость и невозможность подобного факта. И все же с Брауном было что-то не так — могло показаться, что он смущен.
— Хорошо, сэр… я хотел сказать милорд, — это был первый раз с момента присвоения Хорнблауэру нового титула, когда Браун допустил оговорку, — не знаю, захочет ли ваша милость выслушать меня. Не могу набраться храбрости, сэр… милорд.
— А, брось это, парень, — буркнул Хорнблауэр, — можешь называть меня «сэр» если так тебе удобнее.
— Это я вот к чему, милорд — я собрался жениться.
— Боже правый! — произнес Хорнблауэр. У него сложилось убеждение, что Браун — гроза женщин, и возможность его женитьбы никогда не приходила ему в голову. Он поспешил сказать то, что, по его мнению, было подходящим случаю:
— И кто же счастливая избранница?
— Анетта, милорд, дочь Жанны и Бертрана. И я очень счастлив, милорд.
— Дочь Жанны? Ах, да. Симпатичная девушка с темными волосами.
Хорнблауэр подумал о темпераментной французской девушке, выходящей замуж за такого надежного английского парня, как Браун, и не мог найти никаких доводов против этого. Браун станет лучшем мужем, чем многие другие, воистину счастлива будет женщина, которая получит его.
— Ты самостоятельный человек, Браун, — сказал он, — и не обязан спрашивать меня о таких вещах. Уверен, что ты сделал правильный выбор, и хочу пожелать тебе добра и счастья.
— Спасибо, милорд.
— А если Анетта готовит также хорошо, как ее мать, — мечтательно протянул Хорнблауэр, — ты будешь счастлив вдвойне.
— Вот как раз об этом я тоже хотел поговорить с вами, милорд. Как поварихе ей нет равных, хоть она еще молода. Сама Жанна так говорит, а уж если она говорит…
— То мы можем быть уверены, что так оно и есть, — согласился Хорнблауэр.
— Я подумал милорд, — продолжал Браун, — не хочу быть навязчивым, но если я остаюсь на службе у вашей милости, то вы могли бы взять Анетту в качестве кухарки.
— Боже правый! — воскликнул Хорнблауэр.
Перед его мысленным взором нарисовалась перспектива постоянно питаться обедами столь же вкусными, как у Жанны. Еда в Смоллбридже была вполне приличной, но крайне однообразной. Смешение кулинарных школ Франции и Смоллбриджа обещало весьма интригующие контрасты. В любом случае, с Анеттой в качестве кухарки Смоллбридж станет гораздо привлекательнее. Но о чем это он думает? Куда подевались его сомнения насчет необходимости возвращения в Смоллбридж? Такие идеи крутились у него в голове, когда он размышлял о Мари, и вот теперь он думает о Смоллбридже и Анетте, которая возглавит его кухню. Он стряхнул с себя охватившую его задумчивость.
— Само собой разумеется, что я не вправе принять такое решение самостоятельно, — сказал он, стараясь выиграть время, — как ты понимаешь, Браун, необходимо принять во внимание мнение ее светлости. У тебя есть на примете какой-нибудь иной вариант?
— В избытке, милорд, если вам угодно. Я подумываю открыть маленькую гостиницу — на сбереженные призовые деньги.
— И где же?
— Возможно, в Лондоне, милорд. А может в Париже. Или в Риме. Я обсуждаю этот вопрос с Феликсом, Бертраном и Анеттой.
— Бог мой! — снова воскликнул Хорнблауэр. До этого момента ему не приходило в голову ничего подобного, но все же он произнес, — не сомневаюсь, что у тебя все получится, Браун.
— Спасибо, милорд.
— Скажи-ка, то, что произошло похоже на любовь с первого взгляда. Нет так ли?
— Не совсем, милорд. Когда мы были здесь в прошлый раз я и Анетта… ну вы понимаете, милорд.
— Теперь понимаю, — сказал Хорнблауэр.
Что за невероятный человек этот Браун — человек, заведший трос, спасший «Плутон», одним ударом кулака заставивший замолчать полковника Кайяра, а теперь хладнокровно рассуждающий о намерении открыть гостиницу в Риме. Впрочем, наверное, не более невероятный, чем он сам, на полном серьезе обдумывающий сам с собой идею сделаться французским сеньором и не возвращаться в Англию. Эта мысль пришла к нему не позднее, чем прошлой ночью: несмотря на то, что страсть его получила удовлетворение, любовь к Мари делалась все больше в течение последних пяти дней — а Хорнблауэр не относился к числу идиотов, не представляющих, что это все за собой влечет.
— Когда же будет свадьба, Браун? — поинтересовался он.
— Так скоро, как позволят законы этой страны, милорд.
— Не имею понятия, насколько это долго, — сказал Хорнблауэр.
— Я выясню, милорд. Вам сейчас нужно что-нибудь?
— Нет. Я собираюсь встать немедля: невозможно оставаться в постели после получения таких удивительных новостей, Браун. Мне нужно подыскать подходящий свадебный подарок.
— Спасибо, милорд. В таком случае, я принесу вам горячую воду.
Мари была в своем будуаре, ожидая, пока он закончит одеваться. Она поцеловала его, пожелав доброго утра, провела ладонью по гладкой выбритой щеке и, обняв, подвела к окну в башне, чтобы показать первые завязи на яблонях в саду. Была весна, и было так хорошо любить и быть любимым в этой прекрасной зеленой стране. Взяв ее руки, он в приливе благоговейной страсти покрыл пальцы на них поцелуями. С каждым новым днем он обожал ее все больше за доброту характера и самоотверженность ее любви. Смешение любви и уважения производили в Хорнблауэре своеобразное сочетание — он готов был преклонять пред ней колени, как перед святой. Она понимала обуревавшее его чувство, как понимала все, что относилось к нему.
— Орацио, — сказала она. И почему его так трогает, когда она произносит его имя на этот причудливый манер?
Он прильнул к ней, она обняла его и прижала к себе, как всегда. Ей сейчас не приходили в голову мысли о будущем. Она знала, что завтрашний день грозит ей бедой, но он пока не наступил, а сегодня Хорнблауэр нуждается в ней. Как всегда бывало, они расцепили объятия, улыбаясь.
— Ты слышала новости о Брауне? — спросил он.
— Он собирается жениться на Анетте. Это очень правильно.
— Так это для тебя не новость?
— Я узнала об этом раньше Брауна, — ответила Мари. На щеке ее на мгновение образовалась ямочка, а в глазах мелькнул озорной огонек. Какой невыносимо желанной она была!
— Из них получится прекрасная пара, — заявил Хорнблауэр.
— Ее сундук с бельем уже готов, — сообщила Мари, — а Бертран дает за ней приданое.
Они спустились вниз, чтобы рассказать графу новости, которые тот выслушал с удовольствием.
— Я могу сам произвести церемонию гражданского бракосочетания, — сказал граф. Вы не забыли, что я являюсь здесь мэром, Орацио? Должность эта почти что совершенная синекура, благодаря расторопности моего адъюнкта, и все же я могу употребить свою власть, когда мне придет в голову такая прихоть.
К счастью, с точки зрения экономии времени, Браун, когда его вызвали для расспросов, согласился признать себя сиротой и главой семьи, что позволяло избежать получения согласия родителей, на чем настаивали французские законы. Кроме того, король Людовик XVIII и Палата не претворили пока в жизнь провозглашенного намерения сделать церковный обряд обязательной составляющей законного брака.
Тем не менее, религиозная церемония тоже может быть проведена, и их союз может быть благословлен церковью, при условии соблюдения предосторожностей, неизбежных при смешанном браке. Анетта никогда не откажется от попыток обратить Брауна в свою веру, а дети их с рождения станут католиками. Когда это растолковали Брауну, тот кивнул в знак согласия: похоже, он не страдал щепетильностью в вопросах религии.
Деревушка Смоллбридж однажды уже испытала шок при появлении в ней негритянки — горничной Барбары, люди качали головой, осуждая привычку Барбары и Хорнблауэр каждый день принимать ванну. Что будет, когда там появится католичка, даже целая семья папистов, Хорнблауэр затруднялся себе представить. Ну вот, он опять думает о Смоллбрижде. Это именно то, что называется «двойная жизнь». Он задумчиво посмотрел на графа, гостеприимством которого так злоупотреблял. Недопустимо говорить о преступной любви, имея в виду Мари — она не виновата ни в чем. А он? Должен ли он чувствовать вину за поступок, от которого невозможно было удержаться? Виновен ли он в том, что водоворот выбросил его на берег Луары в миле от места, где он стоит сейчас? Хорнблауэр перевел взгляд на Мари, и как всегда, страстное влечение к ней заполнило его с такой силой, что он вздрогнул, осознав, что граф обращается к нему.
— Орацио, — произнес граф, — будем мы танцевать на свадьбе?
Они устроили из этого случая настоящий карнавал, что мало удивляло Хорнблауэра, имевшего весьма смутные и далекие от истины представления об отношениях между старорежимными сеньорами и их крепостными. На двор замка выкатили бочки с вином, там играл почти настоящий оркестр из скрипачей и свирельщиков из Оверни, извлекавших из своих инструментов звуки, подобные шотландской волынке, что причиняло лишенному музыкального слуха Хорнблауэру страшные мучения. Граф пошел танцевать с толстухой Жанной, а отец невесты вывел Мари. Лилось вино, поедались явства, звучали соленые шуточки и заздравные тосты. В округе, насколько можно было судить, брак местной девушки с еретиком-иностранцем восприняли на удивление спокойно: местные крестьяне похлопывали Брауна по спине, а их жены целовали его в иссеченные ветрами щеки под аккомпанемент радостных криков. Впрочем, Браун у всех умел снискать популярность, и, похоже, был прирожденным танцором.
Хорнблауэр, не имея возможности отличить одну мелодию от другой, вынужден был прислушиваться к ритму и стараться повторять движения остальных, в результате чего ему удавалось неуклюже следовать фигурам танца, переходя от одной одаренной аппетитными, как спелые яблоки, щечками, партнерши, к другой. Он то объедался лакомствами с ломящегося стола, то лихо приплясывал на замощенном булыжником дворе между двумя пышногрудыми девицами, держа их за руки и заливаясь безудержным смехом. Ему казалось странным (даже в этот момент он не переставал заниматься самоанализом), что он способен так веселиться. Мари улыбалась, украдкой бросая на него взоры из под ресниц.
Сидя, вытянув ноги, в салоне замка, он чувствовал себя невероятно усталым, но счастливым. Феликс, снова превратившийся в образцового мажордома, готов был выслушать их с графом приказания.
— Появились странные слухи, — сказал граф, казавшийся ничуть не уставшим и элегантным, как всегда. — Мне не хотелось портить праздник, обсуждая их, но поговаривают, что Бонапарт сбежал с Эльбы и высадился во Франции.
— Действительно странно, — лениво согласился Хорнблауэр, ему потребовалось время, чтобы значимость известий достигла его затуманенного рассудка. — Что он намерен предпринять?
— Снова претендовать на французский трон, — с полной серьезностью заявил граф.
— Не прошло и года, как народ отверг его.
— Это верно. Возможно, Бонапарт найдет решение той проблемы, которую мы обсуждали как-то на днях. Без сомнения, король прикажет расстрелять его, если сможет поймать, и, возможно, это положит конец всем интригам и неурядицам.
— Совершенно верно.
— Но мне хотелось бы, хоть это наивно, услышать о смерти Бонапарта одновременно с вестями о его высадке.
Граф казался мрачным, и Хорнблауэр почувствовал легкое беспокойство. Он знал, что его хозяина всегда отличали здравые суждения о политике.
— Чего вы боитесь, сэр? — задал вопрос Хорнблауэр, постепенно обретающий возможность мыслить снова.
— Боюсь, что он, вопреки ожиданиям, может достичь успеха. Вам известна власть его имени, а король, или его советники, не проявляли с момента реставрации столь необходимой в подобных случаях умеренности.
Приход Мари, улыбающейся и счастливой, прервал разговор, который не возобновился и после того, как они расселись по местам. В течение следующих двух дней у Хорнблауэра иногда возникало чувство, что что-то не так, хотя доходившие до них слухи только подтверждали известия о высадке, не сообщая никаких подробностей. Над его счастьем нависло облако, однако счастье это было таким большим и таким сильным, что омрачить его такому маленькому облачку было не под силу. Как прекрасны были эти весенние дни: прогулки под сенью плодовых деревьев, по берегу Луары, поездки верхом (как это могло доставлять ему удовольствие, если прежде он не любил лошадей?) по лесу, даже визиты в Невер на пару церемоний, участие в которых предусматривал его ранг — все эти моменты были замечательны, каждый из них. Страх перед действиями Бонапарта не омрачал их, этого не под силу было бы сделать даже письму из Вены, которое должно будет прийти поздно или рано. С формальной точки зрения у Барбары не могло быть поводов для беспокойства: она уехала в Вену, а в ее отсутствие Хорнблауэр решил навестить своих старых друзей. Но Барбара поймет. Возможно, она не скажет ни слова, но поймет.
И как бы не был счастлив Хорнблауэр, счастье это, в отличие от Брауна, не было безоблачным — Хорнблауэр поймал себя на том, что завидует Брауну, который мог открыто выражать свою любовь. Хорнблауэр и Мари нужно было скрываться, осторожничать, и совесть несколько мучила Хорнблауэра, когда он вспоминал про графа. Но все равно, он был счастлив, счастлив как никогда за всю свою жизнь, полную испытаний. Впервые самоанализ не мучил его. У него не было никаких сомнений ни в себе, ни в Мари, и новизна этих ощущений перебарывала его страхи и опасения по поводу будущего. Он мог жить в мире с собой до тех пор, пока трудности не дадут о себе знать — если ложка дегтя в бочке меда и была необходима (хотя на самом деле нет), то она состояла в знании, что трудности эти находятся в грядущем, и пока он может не думать о них. И это чувство вины и неуверенность лишь с еще большей силой толкали его в объятия Мари — не из стремления забыться, а побуждая успеть как можно больше.
Это была любовь — чистая, без какой-либо примеси. Блаженством было давать, а получать — делом само собой разумеющимся. Любовь, наконец, пришла к нему после всех этих долгих лет и терзаний. Если смотреть с циничной точки зрения, это можно было принять за еще один пример стремления Хорнблауэра заполучить недостижимое, но даже если так и было так на самом деле, Хорнблауэр не отдавал себе в этом отчета. В последние дни в голове Хорнблауэра крутилась фраза из молитвенника: «Чье рабство есть свобода истинная». Она как нельзя лучше описывала его отношение к Мари.
Луара по-прежнему стояла высоко. Водопад, в котором он однажды едва не погиб, и благодаря которому впервые встретился с Мари, представлял собой обрамленный пеной поток бурлящей зеленой воды. Он слышал его звук, будучи в объятиях Мари в ее комнате в башне, частенько они прогуливались возле него, и Хорнблауэр мог смотреть на водопад без дрожи и трепета. Все осталось позади. Разум говорил ему, что он — тот самый человек, который брал на абордаж «Кастилью», смотрел в глаза гневу Эль Супремо, дрался не на жизнь, а на смерть в бухте Росас, расхаживал по залитым кровью палубам, и все же у него не исчезало ощущение, что все это происходило с кем-то другим. Теперь он был человеком мирным, праздным, и водопад не воспринимался как нечто, что могло угрожать его жизни.
Поэтому добрые вести, принесенные графом, были восприняты вполне естественно.
— Граф Артуа разбил Бонапарта в сражении на юге, — сказал он. — Наполеон бежал, и скоро его схватят. Это сообщают из Парижа.
Все так, как должно быть: время войн миновало.
— Полагаю, вечером не помешает устроить праздничный костер, — заявил граф. И костер был разведен, и поднимались тосты за здоровье короля.
Но не далее, как на следующее утро Браун, поставив поднос с завтраком у постели Хорнблауэра, объявил, что граф желает переговорить с ним как можно быстрее, и не успел он произнести эти слова, как в комнату вошел граф — в халате, непричесанный и осунувшийся.
— Простите за это вторжение, — сказал он, — даже в этот момент старый аристократ не мог оставить хорошие манеры, — но я не в силах был ждать. Плохие новости. Хуже некуда.
Хорнблауэру оставалось только смотреть и ждать, пока граф соберется с силами. Требовалось усилие, чтобы произнести эти слова:
— Бонапарт в Париже. Король бежал, и Наполеон снова император. Вся Франция подчинилась ему.
— А как же проигранная им битва?
— Слухи…ложь. Все ложь. Бонапарт снова император.
Потребовалось время, чтобы осознать, что все это значит. Снова война, это неизбежно. Что бы ни думали другие великие державы, Англия никогда не согласиться терпеть у себя под боком столь могущественного и коварного врага. Англия и Франция еще раз вцепятся друг другу в глотку. С начала последней войны прошло двадцать два года; похоже, потребуется еще двадцать два, чтобы снова низвергнуть Бонапарта с трона. Еще двадцать два года страданий и кровопролития. Невероятно жуткая перспектива.
— Как это произошло? — спросил Хорнблауэр, желая, скорее, выиграть время, чем получить информацию.
Граф беспомощно развел руки.
— Ни прозвучало ни единого выстрела, — сказал он. — Армия целиком перешла на его сторону. Ней, Лабедуайер, Сульт — все предали короля. За две недели Бонапарт прошел от побережья до Парижа. С такой скоростью, словно ехал в карете, запряженной шестеркой лошадей.
— Но народ не хочет его, — запротестовал Хорнблауэр. — Мы все это знаем.
— Народ ничего не значит против армии, — ответил граф. — Новости пришли вместе с первыми декретами узурпатора. Призываются классы 1815 и 1816 годов. Королевская армия распущена, восстанавливается императорская гвардия. Бонапарт снова готов к борьбе против Европы.
В воображении Хорнблауэр представил себя стоящим опять на палубе корабля, придавленным грузом ответственности, окруженным опасностями, одиноким и лишенным друзей. Гнетущая перспектива.
Стук в дверь возвестил о приходе Мари, она также была в халате, ее великолепные волосы рассыпались по плечам.
— Ты уже слышала новости, дорогая? — спросил граф. Он ни словом не обмолвился ни по поводу ее прихода сюда, ни о том, как она выглядит.
— Да, — сказала Мари. — Мы в опасности.
— Действительно, — произнес граф. — Все мы.
Новости были столь потрясающими, что Хорнблауэр просто не имел возможности проанализировать, как они скажутся лично на нем. Как офицера британского флота его немедленно схватят и заключат в тюрьму. Но это не все: много лет назад Бонапарт намеревался предать его суду и приговорить к расстрелу за пиратство. Ничто не помешает ему претворить это намерение в жизнь — у тиранов долгая память. А что будет с графом и Мари?
— Бонапарт теперь знает, что вы помогли мне бежать, — сказал Хорнблауэр. — Он никогда этого не простит.
— Он расстреляет меня, если сумеет схватить, — произнес граф. Он ничего не сказал про Мари, но посмотрел на нее. Бонапарт прикажет расстрелять и ее тоже.
— Нам нужно уходить, — заявил Хорнблауэр. — Страна не может быть пока целиком под контролем Бонапарта. На быстрых лошадях мы успеем достичь побережья…
Побуждаемый недостатком времени, он собрался сбросить с себя одеяло не взирая на присутствие Мари.
— Я буду готова через десять минут, — сказала Мари.
Как только за Мари и графом закрылась дверь, Хорнблауэр выпрыгнул из постели и позвал Брауна. Превращение из сибарита в человека действия потребовало времени, но очень краткого. Переодеваясь, он держал перед мысленным взором карту Франции, воспроизводя в памяти дороги и порты. За два дня стремительной скачки, перебравшись через горы, они могут достичь Ла Рошели. Он надел брюки. Граф — лицо известное, никто не посмеет арестовать его или тех, кто с ним без прямого указания из Парижа, блеф и самоуверенность помогут им прорваться. В секретном отделении его чемодана лежат две сотни золотых наполеонодоров. У графа, наверное, есть еще больше. Этого хватит для подкупа. Можно нанять какого-нибудь рыбака, чтобы он перевез их через пролив, на худой конец, можно украсть лодку.
Унизительно, конечно, бежать, подобно кролику, при первом появлении Бонапарта, это не очень согласовывается с его достоинством пэра и коммодора, но он прежде всего обязан сохранить жизнь и возможность приносить пользу. Глухая ненависть по отношению к Наполеону, нарушителю мира, росла в нем, но ей не под силу было овладеть его сознанием целиком.
Он испытывал скорее обиду, чем ярость. Постепенно негодование, вызванное переменой условий, стало уступать место робким мыслям насчет того, не в состоянии ли он принять более активное участие в начинающейся борьбе, вместо того, чтобы бежать в надежде включиться в нее когда-нибудь потом. Он находится во Франции, в сердце вражеской страны. У него есть прекрасная возможность нанести именно здесь чувствительный удар. Одевая сапоги для верховой езды, он обратился к Брауну:
— А как твоя жена?
— Надеюсь, она поедет с нами, милорд, — спокойно ответил Браун.
Оставив ее здесь, он может не увидеть ее до конца войны — лет двадцать; если останется здесь с ней — попадет в тюрьму.
— Она сможет ехать верхом?
— Сможет, сэр.
— Проследите, чтобы она была готова. Мы возьмем с собой только седельные вьюки. Она будет сопровождать мадам виконтессу.
— Спасибо, милорд.
Две сотни золотых наполеонодоров представляли собой нелегкую ношу, но обойтись без них было никак нельзя. Хорнблауэр, обутый в сапоги для верховой езды, сбежал вниз по ступенькам. Мари, в черном платье и элегантной треуголке с пером, была уже в главном зале. Он окинул ее взглядом: ничто в ее наружности не могло привлечь излишнего внимания — по моде, но скромно одетая дама.
— Мы возьмем с собой кого-нибудь из слуг? — спросила она.
— Они все слишком стары. Лучше обойтись без них. Граф, ты, я, Браун и Анетта. Нам понадобится пять лошадей.
— Так думала и я, — ответила Мари. Она великолепно держалась в трудную минуту.
— Мы пересечем мост в Невере и направимся к Буржу и Ла Рошели. В Вандее наши шансы будут наибольшими.
— Лучше выбираться из рыбацкой деревушки, чем из крупного порта, — заявила Мари.
— Совершенно верно. В прочем, мы озаботимся этим, когда доберемся до побережья.
— Хорошо.
Она понимала важность единоначалия, хотя в любой момент готова была помочь советом.
— Что с твоими драгоценностями? — спросил Хорнблауэр.
— Я положила бриллианты в седельный мешок.
В этот момент вошел граф, в сапогах со шпорами. Он принес маленький кожаный саквояж, в котором что-то звякнуло, когда его поставили на пол.
— Двести наполеонодоров, — сказал граф.
— У меня столько же. Этого должно хватить.
— Думаю, будет лучше, если они не будут звенеть. Я оберну их тканью, — сказала Мари.
Вошел Феликс, который принес седельные сумы графа и сообщил, что лошади готовы, а Браун и Анетта ожидают их во дворе.
— Нам пора, — сказал Хорнблауэр.
Прощание было печальным. Женщины плакали, милое личико Анетты было все залито слезами, только мужчины, прошедшие суровую школу службы у господ, хранили молчание.
— Прощай, мой друг, — произнес граф, протягивая руку Феликсу. Оба они были старыми людьми, и нельзя было исключать возможности, что они никогда не свидятся вновь.
Всадники выехали со двора замка и направились по дороге вдоль реки. Была грустная ирония в том, что стоял прекрасный весенний день, яблоневые цветы дождем сыпались на них, а Луара весело поблескивала. За первым поворотом дороги открылся вид на шпили и башни Невера, за следующим они уже могли ясно различить украшенный орнаментом дворец Гонзага. Хорнблауэр бросил на него рассеянный взгляд, моргнул, затем посмотрел снова. Рядом с ним была Мари, за ней ехал граф. Хорнблауэр повернулся к ним, прося подтвердить свое предположение.
— Это белый флаг, — сказала Мари.
— Я тоже так думаю, — удивился Хорнблауэр.
— Мое зрение таково, что я вообще не вижу никакого флага, — с сожалением произнес граф.
Хорнблауэр повернулся к Брауну, едущему рядом с Анеттой.
— Над дворцом белый флаг, милорд.
— В это трудно поверить, — сказал граф. — Новости, полученные мной утром, пришли из Невера. Борегар, здешний перфект, сразу перешел на сторону Бонапарта.
Действительно странно, даже если белый флаг случайно оказался здесь.
— Скоро мы все узнаем, — сказал Хорнблауэр, подавляя естественное желание перевести лошадь с рыси на галоп.
Они приближались, белый флаг развевался по-прежнему. У ворот таможни стояло с полдюжины солдат в серых мундирах, за которыми были привязаны серые кони.
— Это королевские Серые мушкетеры, — сказала Мари. Хорнблауэр узнал эти мундиры. Он видел их в резиденциях короля как в Тюильри, так и в Версале.
— Серые мушкетеры не причинят нам вреда, — заявил граф.
Возглавлявший пикет сержант внимательно посмотрел на них, и подошел ближе, требуя назвать их имена.
— Луи-Антуан-Эктор-Савиньен де Ладон, граф де Грасай, и его свита, — сказал граф.
— Проходите, господин граф, — произнес сержант. — Ее королевское высочество находится в префектуре.
— Что за королевское высочество? — удивился граф.
На главном дворе еще несколько серых мушкетеров седлали лошадей. Кое-где виднелись белые флаги, а когда они въехали на площадь, то увидели, как из префектуры выбежал человек, начавший клеить на стену отпечатанный в типографии плакат. Приблизившись, они ясно разглядели первое слово: «Французы!».
— Ее королевское высочество герцогиня Ангулемская, — произнес граф.
Прокламация призывала всех французов встать на борьбу против тирана-узурпатора, проявить верность древнему дому Бурбонов. Если верить плакату, король с армией находился в окрестностях Лилля, юг восстал под руководством герцога Ангулемского, а армии всех держав Европы пришли в движение, чтобы свергнуть корсиканского людоеда и восстановить Отца народа на троне его предков.
В префектуре их тепло встретила герцогиня. На ее прекрасном лице застыла маска усталости, а на дорожном плаще виднелись пятна грязи: она скакала всю ночь вместе со своим эскадроном мушкетеров, и ворвалась в Невер по другой дороге сразу следом за наполеоновской прокламацией.
— Они снова с легкостью перешли на другую сторону, — сказала герцогиня.
Невер не принадлежал к городам, имеющим гарнизон, никаких войск в нем не было, и с сотней своих мушкетеров она без единого выстрела сделалась хозяйкой положения.
— Я уже собиралась послать за вами, господин граф, — продолжала герцогиня, — не ожидая, что по счастливой случайности здесь окажется лорд Орнблоуэр. У меня есть намерение назначить вас лейтенант-генералом короля в Нивернэ.
— Вы полагаете, восстание может иметь успех, ваше королевское высочество? — спросил Хорнблауэр.
— Восстание? — переспросила герцогиня с легким оттенком недоумения.
У Хорнблауэра это вызвало тревогу. Герцогиня представляла собой самого умного и одаренного члена семьи Бурбонов, но даже у нее не поворачивался язык назвать то, что она планировала возглавить, «восстанием». В ее глазах Бонапарт был мятежником, а ей предстояло подавить мятеж, и это несмотря на то, что Наполеон сидел в Тюильри, и армия подчинялась его приказам. Но это была война, речь шла о жизни и смерти, и Хорнблауэр был не в том настроении, чтобы препираться по пустякам.
— Давайте не будем тратить время на спор о терминах, мадам, — произнес он. — Вы считаете, что здесь, во Франции, достаточно сил, чтобы свалить Бонапарта?
— В этой стране никого не ненавидят сильнее, чем его.
— Но это не ответ на вопрос, — упрямился Хорнблауэр.
— Вандея будет сражаться, — сказала герцогиня. — Там Лярош-Жаклен, и люди пойдут за ним. Мой муж поднимет юг. Король и двор удерживают Лилль. Гасконь будет сопротивляться узурпатору — припомните, что Бордо предал его в прошлом году.
Вандея может восстать, не исключено, что так и будет. Но то, что герцог Ангулемский на юге, так же как старый, толстый, страдающий подагрой король на севере, сумеют разжечь дух преданности, Хорнблауэр с трудом мог себе представить. Что до Бордо, то можно вспомнить Руан и Гавр, апатичных жителей, уклоняющихся от призыва конскриптов, единственным желанием которых было не воевать ни за кого. В течение года они наслаждались миром и свободой, и может быть, встанут на их защиту. Может быть.
— Вся Франция знает, что Бонапарта можно одолеть и свергнуть, — с напором заметила герцогиня. — В этом большая разница.
— Пороховой погреб из недовольства и разобщенности, — сказал граф. — Любая искра может вызвать взрыв.
Входя в Гавр Хорнблауэр считал так же, сравнивая себя с такой искрой. Сравнение оказалось неудачным.
— У Бонапарта есть армия, — сказал он. — Чтобы победить армию нужна другая армия. Откуда ее взять? Старые солдаты преданы Наполеону. Будут ли сражаться гражданские, а если будут, то удастся ли вооружить и выучить их в срок?
— Вы пессимист, милорд, — воскликнула герцогиня.
— Бонапарт — самый талантливый, деятельный, опасный и коварный полководец за всю историю человечества, — ответил Хорнблауэр. — Чтобы парировать его удары мне нужен щит из стали, а не картонный цирковой обруч.
Хорнблауэр оглядел всех присутствующих: герцогиня, граф, Мари, не проронивший ни слова придворный, стоявший рядом с герцогиней с самого начала разговора. Лица были хмурыми, но на них нельзя было заметить ни тени сомнения.
— Так вы призываете к тому, чтобы, скажем, господин граф безропотно подчинился власти узурпатора и ждал, пока армии Европы не освободят Францию? — спросила герцогиня с легкой иронией. Она лучше других Бурбонов умела держать себя в руках.
— Господин граф вынужден бежать, спасая свою жизнь, из-за того, чтобы был добр ко мне, — сказал Хорнблауэр, понимая, впрочем, что уходит от прямого ответа.
Любое сопротивление Бонапарту внутри Франции, как бы легко оно не могло быть подавлено и какой бы кровью не обошлось, это лучше, чем ничего. Оно может иметь успех, хотя Хорнблауэр и не надеялся на это. По крайней мере, это помешает Бонапарту заявлять, что он представляет всю Францию, заставит удерживать здесь хотя бы часть сил, отвлекая их от решительной схватки на северо-восточных границах. Хорнблауэр не рассчитывал достичь победы, но предполагал, что есть шанс, пусть маленький, развязать партизанскую войну с участием небольших отрядов в лесах и горах, которая со временем может разрастись в нечто более существенное. Он — слуга короля Георга, и если ему удастся убить хотя бы одного из солдат Бонапарта, пусть даже ценой жизни сотни мирных жителей, он должен сделать это. В уме его мелькнуло сомнение: только ли гуманистические мотивы руководят его действиями? Или в нем ослабла способность принимать решения? Ему и в прежние времена случалось отправлять людей в безнадежные предприятия, в некоторых он принимал участие сам, но в данном случае, по его глубокому убеждению, предприятие было безнадежным совершенно — а в него будет вовлечен граф.
— Так что же, милорд, — настаивала герцогиня, — вы советуете сдаться без боя?
Хорнблауэр чувствовал себя как человек, стоящий на эшафоте и в последний раз глядящий на этот мир перед казнью. Суровые реалии войны не оставляли ему выбора.
— Нет, — сказал он, — я советую сопротивляться.
Хмурые лица вокруг него просветлели, и он понял, что в его руках находился выбор между войной и миром. Если бы он продолжал разубеждать их в организации восстания, то мог бы достичь цели. Эта мысль усилила его грусть, хотя Хорнблауэр убеждал себя, и не без основания, что позиция, в которой он оказался, не давала ему возможности сопротивляться далее. Наступившая пауза была гнетущей, и он поспешил возобновить разговор.
— Ваше королевское высочество обвиняет меня в том, что я пессимист, — сказал он. — Так и есть. Это отчаянная затея, но это не означает, что от нее нужно отказаться. Однако нам не стоит относиться к ней легкомысленно. Мы должны иметь в виду, что она может прийти к бесславному или драматическому концу. Борьба не прибавит нам чести, зато будет долгой и трудной. Ее суть будет заключаться в том, что надо будет подстрелить французского солдата из-за дерева и скрыться. Снять ножом часового. Поджечь мост, перерезать глотки тягловым лошадям — таковы будут наши крупнейшие победы.
Он хотел сказать «таковы будут наши Маренго и Иены[28]», но спохватился, что не стоит упоминать о победах Бонапарта в обществе бурбонистов. Хорнблауэр покопался в памяти в поисках побед Бурбонов.
— Таковы будут наши Стеенкерки и Фонтенуа,[29] — продолжил он.
Описать в нескольких словах технику партизанской войны людям, бесконечно далеким от этого, было не простым делом.
— Лейтенант-генерал короля в Нивернэ станет скрывающимся беглецом. Он будет спать на камнях и есть сырое мясо, потому что дым костра может его выдать. Только если мы примем такие методы борьбы, то можем рассчитывать в итоге на победу.
— Я готов к такой борьбе, — сказал граф, — до последнего моего вздоха.
Хорнблауэр знал, что альтернативой для старика является пожизненное изгнание.
— Никогда не сомневалась, что могу положиться на преданность Ладонов, — заявила герцогиня. — Ваши полномочия будут подписаны немедленно, господин граф. Вы будете осуществлять всю полноту королевской власти в Нивернэ.
— А что вы сами собираетесь делать, ваше королевское высочество? — задал вопрос Хорнблауэр.
— Отправлюсь в Бордо, поднимать Гасконь.
Видимо, это самый правильный образ действий — чем шире распространится движение против Бонапарта, тем больше проблем оно доставит императору. Мари может отправиться с герцогиней, и если предприятие закончится крахом, у них останется возможность бежать морем.
— А как вы, милорд? — поинтересовалась герцогиня.
Все взгляды устремились на него, но в тот момент он даже не подозревал об этом. Решение, которое он должен был принять, являлось исключительно личным. Как высокопоставленному морскому офицеру, ему сам Бог велел отправиться в Англию и вступить в командование эскадрой линейных кораблей. Большие флоты вновь станут бороздить моря, и ему предстоит сыграть в управлении ими не последнюю роль. Несколько лет спустя он может стать адмиралом, командующим флотом, человеком, от которого будет зависеть судьба Англии. Если он останется здесь, то в лучшем случае его ждет жизнь преследуемого беглеца, возглавляющего шайку оборванных и голодных людей, в худшем — виселица. Возможно, долг его в том, чтобы сохранить себя и свои способности для Англии, но талантливых морских офицеров в Англии в избытке, в то время как он довольно хорошо знает Францию и французов, и они тоже его знают. Однако все эти аргументы были побочными. Он не хотел, и не мог раздуть здесь слабую искру восстания и затем бежать, оставив своих друзей расплачиваться за возможную неудачу.
— Я остаюсь с господином графом, — произнес он. — В случае, если вы, ваше королевское высочество, и граф будете не против. Надеюсь быть полезным вам.
— Еще бы, — ответила герцогиня.
Хорнблауэр поймал взгляд Мари, и внезапно в голове его зародилось ужасное сомнение.
— Мадам, — сказал он, обращаясь к ней, — вы, как я полагаю, поедете вместе с ее королевским высочеством?
— Нет, — ответила Мари, — у вас будет на счету каждый человек, а от меня пользы будет не меньше, чем от любого мужчины. Мне известны все броды и тропы в этой округе. Я тоже остаюсь с господином графом.
— Но Мари… — стал возражать граф.
Хорнблауэр даже не пытался протестовать. Он понимал, что с таким же успехом мог протестовать против падения еловой ветки или перемены ветра. У него создалось ощущение, что во всем этом виден знак судьбы, неотвратимой и неизбежной. Посмотрев на Мари, граф бросил попытки увещевать ее.
— Прекрасно, — произнесла герцогиня.
Она оглядела их — для начала восстания время было самым подходящим. Хорнблауэр отбросил в сторону все свои личные переживания. Шла война, война со всеми ее проблемами, связанными с местом, временем и психикой. Сам того не желая, но он ввязался в эту кутерьму. Над столом, за которым префект изучал инструкции парижского правительства, висела крупномасштабная карта департамента. На других стенах были еще более подробные карты суб-префектур. Он посмотрел на них. Реки, дороги, леса. Прощай, Англия!
— Первое, что нам нужно узнать, — начал он, — это где расположены ближайшие части регулярных войск.
Кампания в Верхней Луаре началась.
Глава 19
Лесная тропа, по которой они шли, под острым углом соединялась с другой. Даже здесь, в тени сосен, было ужасно жарко. Собиралась гроза. Ноги Хорнблауэра были сбиты до волдырей, и он с трудом плелся даже по мягкому покрывалу из сосновых игл. Ветер был слишком слабым чтобы шевелить кроны деревьев — все кругом было объято тишиной. Не было слышно даже стука подков: три вьючные лошади везли запас продовольствия и боеприпасы, две перевозили раненых, а на последней сидел его превосходительство лейтенант-генерал короля в Нивернэ. Главные силы армии его величества наихристианнейшего короля Франции — двадцать мужчин (включая Хорнблауэра) и две женщины, брели вперед по тропе. Существовал еще авангард из пяти человек во главе с Брауном, шедший впереди, и арьергард, также из пяти, охранявший тыл.
Там, где тропы соединялись, их ждал человек — связной, которого Браун, как разумный командир, оставил позади, чтобы у главных сил не возникло сомнений, по какой тропе следовать. Когда они приблизились, человек указал на нечто серое с белым, висящее за тропой. Это был труп, облаченный в одежду крестьянина, висящий на сосновом суку. Белый цвет принадлежал плакату, прикрепленному к его груди.
Французы Нивернэ! — говорилось там. — С момента моего прибытия во главе большого отряда войск все безрассудные попытки сопротивления правительству нашего императора-августа Наполеона должны быть прекращены немедленно. Мне обрадовало то, какой плохой прием встретили безумные попытки графа де Грасай сопротивляться власти императора, восстановленного на троне по настоянию и при одобрении сорока миллионов его верноподданных. И все же некоторые несчастные обманом оказались вовлечены в вооруженный мятеж.
Да будет вам известно, что мне по милости его императорского величества велено довести до сведения всех французов, за оговоренными ниже исключениями, что те, кто сложит оружие и лично сдастся находящимся под моим командованием войскам до истечения пятнадцати дней с даты выхода этой прокламации, получат полное прощение и помилование. Они смогут вернуться к своим полям, лавкам, в лоно своей семьи.
Все, кто не сдаст оружие, подлежат смертной казни на месте.
Любая деревня, которая окажет приют мятежникам, будет сожжена дотла, а ее взрослые жители расстреляны.
Любой, кто окажет помощь мятежникам либо служа им проводником, либо сообщив какую-либо информацию, будет расстрелян.
Амнистии не подлежат: упомянутый выше граф де Грасай, его сноха, известная как виконтесса де Грасай, а также англичанин, известный как лорд Хорнблауэр, который должен заплатить жизнью за произвол и преступления.
Подписано:
Граф Эмманюэль Клозан, дивизионный генерал,
Июня месяца 6 дня, 1815 года.
Граф посмотрел на почерневшее лицо повешенного.
— Кто это, — спросил он.
— Поль-Мари с мельницы, сэр, — ответил встретивший их человек.
— Бедный Поль-Мари!
— Значит, они уже пересекли эту тропу, — заметил Хорнблауэр, — Мы окружены.
Кто-то протянул руку к трупу, видимо, намереваясь сорвать плакат.
— Стой! — как раз вовремя крикнул Хорнблауэр. — Они не должны узнать, что мы проходили здесь.
— По той же самой причине мы должны оставить беднягу без погребения, — добавил граф.
— Нам нужно идти вперед, — сказал Хорнблауэр. — Вот пересечем брод, тогда и сможем перевести дух.
Он окинул взором свою жалкую маленькую армию. Некоторые, едва произошла остановка, попадали наземь. Другие оперлись на мушкеты, а кое-кто пытался по слогам читать плакат, прикрепленный к груди Поля-Мари. Это была не первая копия, какую им приходилось видеть.
— Вперед, дети мои, — скомандовал граф.
Лицо старика было бледным от усталости, он качался в седле. Состояние клячи, на которой он ехал, было едва ли лучшим: повесив голову, она неохотно поплелась вперед, повинуясь удару шпор. Остальные — шатающиеся, голодные и оборванные, последовали за предводителем, большинство провожало глазами тело Поля-Мари. Хорнблауэр заметил, что некоторые отстали, и задержался, чтобы поторопить их. За поясом у него были пистолеты. Дезертиры, помимо ослабления сил, могли выдать их намерение пересечь брод. Клозан сделал правильный ход, предлагая амнистию, так как многие в отряде — Хорнблауэр знал кто — уже задавались вопросом о необходимости продолжать борьбу. Люди, которым нечего терять, будут лучше сражаться в смертельном бою, чем те, у кого есть шанс сдаться, а его последователи наверняка уже испытывают сожаление при мысли о том, как быстро истекают пятнадцать дней, предоставленных им прокламацией. Сегодня было воскресенье, восемнадцатое июня — восемнадцатое июня 1815 года. Ему нужно удержать людей еще в течение трех дней, тогда он может быть уверен в том, что они станут сражаться ни на жизнь, а на смерть.
Покрытые мозолями ноги причиняли ему жуткую боль, и краткая остановка перед телом повешенного Поля-Мари снова вернула их к жизни, так что он мог сделать еще несколько шагов прежде, чем они опять онемеют. Хорнблауэр заставил себя идти быстрее, чтобы догнать Мари, идущую рядом с Анеттой в середине колонны. За спиной у нее висел мушкет. Мари обрезала свои роскошные волосы, обкорнав их ножом после первой же ночи в качестве бойца партизанского отряда, и концы прядей свисали у нее вокруг лица, запыленного и лоснящегося от пота. Однако и она, и Анетта находились в гораздо лучшем физическом состоянии, чем Хорнблауэр, на ногах у них не было мозолей и шаг их было гораздо тверже шатающейся походки Хорнблауэра. Они были соответственно на десять и пятнадцать лет моложе его.
— Почему бы не бросить Пьера и не взять его лошадь, Орацио? — спросила Мари.
— Нет, — отрезал Хорнблауэр.
— Он все равно умрет, — не согласилась Мари. — Такая рана вызывает гангрену.
— На людей плохо повлияет, если мы оставим его одного умирать в лесу, — сказал Хорнблауэр. — Кроме того, Клозан может найти его раньше, чем он умрет, и вызнает у него про наши планы.
— Значит надо убить и похоронить его, — заявила Мари.
Женщины, попадая на войну, становятся более жестокими, чем мужчины, и склонны следовать логике войны до крайних ее пределов. А ведь это была та самая Мари — нежная, ласковая, которая плакала от любви к нему.
— Нет, — повторил Хорнблауэр. — Скоро мы добудем еще лошадей.
— Если получится, — сказала Мари.
Трудно было сберечь лошадей в таких условиях — они погибали или начинали хромать, в то время как люди продолжали жить и идти вперед. Только две недели прошло с тех пор, как Клозан, выдвинувшись из Бриара, заставил их покинуть Невер, и в последующей за этим ужасной погоне лошади умирали дюжинами. Клозан, должно быть, деятельный и энергичный офицер: его колонны, не прерываясь ни на минуту, следуют за ними по пятам.
Только предпринимая один ночной марш за другим, с помощью стретегем и военных хитростей удавалось им избежать его капканов. Дважды случались ожесточенные арьергардные бои, однажды они заманили в засаду подразделение преследующих их гусар — в памяти Хорнблауэра всплыла картина, как одетые в нарядные мундиры солдаты валятся из седел после обрушившегося на них из-за обочины дороги залпа. И вот теперь партизанский отряд, утративший уже половину людей, делал дневной переход сразу после ночного марша, чтобы проскочить в тылу одной из окружающих его колонн Клозана. Мари знала об одном труднодоступном и малоизвестном броде через Луару, расположенном впереди. Перебравшись через него, они смогут устроить себе дневку в лесах Рюна, прежде чем объявиться в долине Алье и устроить там очередной переполох. Клозан, конечно, опять тут же сядет им на хвост, но заглядывать так далеко вперед было еще рано: новые обстоятельства подскажут новый образ действий.
Клозан действительно был деятельным и энергичным — должно быть, у него имелся опыт боев с испанской герильей. Но в его распоряжении находились также значительные силы, позволяющие ему так действовать: Хорнблауэр располагал сведениями о 14-м Leger и 40-м Ligne — Четырнадцатом полку легкой и Сороковом линейной пехоты, кроме того был еще полк, с которым они пока не соприкасались, и по крайней мере один эскадрон Десятого гусарского. Девять батальонов, или даже более — шесть или семь тысяч человек — и все гоняются за тремя десятками изможденных партизан. Хорнблауэр выполнял свой долг, так как эти семь тысяч штыков принесли бы гораздо больше пользы на бельгийской границе, где происходило, без сомнения, что-то важное. И если ему удастся просто не выйти из борьбы, он может измотать эти семь тысяч штыков, заставляя растрачивать амуницию и боевой дух. Он может! Хорнблауэр стиснул зубы и двинулся дальше: ноги снова занемели и перестали чувствовать боль. Теперь его беспокоила только жуткая усталость в мышцах. Вдали раздался низкий раскатистый звук.
— Пушки? — спросил он, слегка озадаченно.
— Гром, — ответила Мари.
Когда-то они так весело болтали, прогуливаясь рука об руку, беззаботно и радостно. Сейчас трудно было поверить, что это происходило с ними в то счастливое мирное время до возвращения Бонапарта с Эльбы. Теперь Хорнблауэр слишком устал, чтобы чувствовать любовь. Снова прогремел гром, духота стала еще более гнетущей. Хорнблауэр ощущал, как одежда его насквозь пропитывается потом. Ему также хотелось пить, но жажда была не такой мучительной, как физическая усталость. В лесу начало темнеть — не из-за приближения сумерек, до которых было еще далеко, а из-за скопления грозовых туч. Кто-то рядом с ним застонал, и Хорнблауэр заставил себя обернуться с усмешкой.
— Кто это тут мычит, как корова? — спросил он. — Старый папаша Фермиак? На пять лет моложе меня, а называется папаша Фермиак, да еще мычит, как корова! Бодрей, папаша! Может быть на той стороне Луары мы подыщем для тебя быка.
Раздалось несколько смешков: некоторые были попросту проявлением истерии, другие смеялись над не совсем правильным французским Хорнблауэра, а кто-то над несообразностью ситуации — высокопоставленный английский лорд перекидывается шутками с простыми французскими крестьянами. Раскат грома раздался почти над головой, было слышно, как дождь забарабанил по ветвям деревьев. Несколько капель пробили себе дорогу сквозь ветви и упали на покрытые потом лица.
— Вот и дождь, — сказал кто-то.
— У меня вода под ступнями уже в течение двух дней, — сказал Хорнблауэр. — Взгляните на мои мозоли. Даже Иисус не ходил по воде так долго, как я.
Богохульная шутка вызвала новый взрыв смеха, продвинувший людей еще на сотню ярдов вперед. Хляби небесные разверзлись, и на землю обрушился настоящий водопад. Хорнблауэр проверил седельные тюки, чтобы удостовериться, что кожаные чехлы на них закреплены надежно. Здесь хранились две тысячи ружейных зарядов, и ему вовсе не хотелось лишиться их — потерю боеприпасов будет гораздо труднее возместить, чем недостаток продовольствия или даже обуви. Они продолжали брести в полутьме, одежда их стала тяжелой от насытившей ткань влаги. Грунт под ногами сделался вязким и скользким, а дождь не собирался заканчиваться. По-прежнему гремел гром и сверкали молнии, выхватывая из темноты провалы между деревьями.
— Сколько нам еще? — спросил Хорнблауэр у Мари.
— Думаю, лиги две с половиной.
Еще три часа ходу: когда они доберутся до места, будет уже почти совсем темно.
— Из-за дождя уровень воды на броде поднимется, — произнесла Мари, ощутив вдруг укол беспокойства.
— Боже мой! — воскликнул, не сдержавшись, Хорнблауэр.
Восемнадцать колонн в полубатальон каждая рыскают повсюду в поисках их отряда, и он пытается проскользнуть между них. Он все поставил на карту ради возможности пересечь реку в неожиданном месте, что позволило бы им по крайней мере на время оторваться от преследователей. Если перейти реку не удастся, опасность станет неминуемой. Местность по преимуществу была гористой, с бедными почвами, и здесь, в верховьях большой реки дождь вызовет подъем воды только на непродолжительное время. Он заставил свои усталые ноги повернуться, чтобы побудить людей прибавить шаг. Это ему приходилось делать каждые несколько минут за все оставшееся время марша, тем временем как вокруг них преждевременно сгущалась темнота, дождь продолжал лить не переставая, ведомые в поводу лошади оступались и вздрагивали, заставляя раненых стонать от боли. Граф ехал молча, наклонившись вперед в седле, вода струями стекала с него. Хорнблауэр знал, что старик изможден до предела. Впереди из завесы дождя и сумерек вынырнула какая-то фигура — это был посыльный из авангарда Брауна. Браун достиг опушки леса, на небольшом расстоянии от которого, отделенная полузатопленной скалистой равниной, текла река. Все расположились под прикрытием крайних деревьев, а разведчики осторожно двинулись вперед, чтобы проверить, не патрулируется ли этот пустынный участок берега. Впрочем, большой необходимости в предосторожностях не было, так как в такую ночь любой уважающий себя часовой наверняка улизнет куда-нибудь в поисках убежища.
— Река сильно шумит, — сказала Мари. Лежа в жидкой грязи, они явственно слышали рев, долетавший до них даже сквозь шум дождя. Хорнблауэр не осмеливался предположить, что это означает.
Вернулся посыльный от Брауна: он исследовал берег реки и не обнаружил следов вражеского присутствия, как того и следовало ожидать. Дивизия Клозана рассредоточилась, охраняя наиболее подозрительные места, оставив прочие без присмотра. Они поднялись. Хорнблауэр, ступив на свои мозоли, почувствовал новый спазм боли. Усталые и одервеневшие ноги с трудом повиновались ему, и поначалу он едва мог передвигать их. Граф еще мог держаться в седле, но измученное животное способно было, похоже, передвигаться не лучше Хорнблауэра. Они представляли собой жалкое зрелище, когда, спотыкаясь и хромая, брели вперед в сгущающихся сумерках. Гроза давно кончилась, но дождь продолжал лить с прежней силой. Все говорило в пользу того, что он не перестанет до утра.
Перед ними расстилалась взбаламученная поверхность реки, поблескивающая в последнем свете уходящего дня.
— Брод начинается как раз под этими деревьями, — сказала Мари. — Отсюда до середины реки диагонально идет гряда, которая позволит пересечь самое глубокое место.
— Тогда идем, — ответил Хорнблауэр. Из-за боли и усталости он предпочел бы проползти последние полмили на четвереньках.
Они достигли уреза воды — стремительные воды бурлили между камней у самых их ног.
— Уже слишком глубоко, — сказала Мари. Она всего лишь высказала вслух то подозрение, которое сидело в уме у каждого. Голос ее не выражал ничего, он был ровным и безжизненным.
— Я возьму лошадь и попробую, — продолжила она. — Помогите Пьеру спуститься.
— Позвольте мне, мадам, — сказал Браун, но Мари не обратила на него никакого внимания. Подобрав подол, она по-мужски уселась в седло. Потом направила лошадь в воду. Животное сопротивлялось, чуть не падая на скрытых водой камнях, и шло вперед с крайней неохотой, только повинуясь шенкелям Мари. Когда они достигли конца каменистой гряды, о которой говорила Мари, вода, как показалось Хорнблауэру, достигла уже брюха лошади. Здесь состоялся новый поединок воли между лошадью и Мари, и они опять двинулись вперед. Еще три шага, и они погрузились в воду, лошадь почти исчезла из виду, отчаянно пытаясь достать уходящее дно. Прежде, чем ей это удалось, их со страшной скоростью понесло вниз по течению. Мари, выскочив из седла, уцепилась за луку, стараясь уберечься от ударов копыт лошади, которая развернулась и направилась к берегу. Выйдя на отмель, животное хрипело от ужаса. Мари рухнула на землю, придавленная тяжестью намокшей одежды. Пока разыгрывалась вся эта сцена, никто не издал ни звука, даже когда Мари угрожала самая серьезная опасность. Всем стало ясно, что брод непроходим.
— Теперь нам всем, как и милорду, придется идти по воде, — сказал кто-то. Это должно было служить шуткой, но все, кто ее слышал, знали, что это не так.
Хорнблауэр заставил себя очнуться. Ему нужно было время, чтобы подумать и принять решение.
— Нет, — сказал он. — Я единственный, кто умеет это делать. И никто из нас не умеет плавать. Разве нет? В таком случае нам остается идти вдоль берега до тех пор, пока мы не найдем лодку. Меняю десять чудес на одну лодку.
Предложение было встречено угрюмым молчанием. Хорнблауэр подумал, что люди едва ли наполовину устали так, как он. Он заставил себя подняться, страшным усилием воли принудив не обращать внимания на ноющие мозоли.
— Идемте, — произнес он. — В любом случае нам нельзя оставаться здесь.
Ни один партизанский вожак не останется, будучи в здравом уме, на ночевку перед рекой, через которую нельзя перебраться, и к которой его могут прижать, тем более если идет дождь и потребуется не менее суток, чтобы брод снова стал проходимым.
— Идемте, — повторил он. — Вперед, французы.
И тут его ждала неудача. Несколько человек нехотя поднялись, более с намерением посмотреть на реакцию своих товарищей, а затем вновь опустились, кто лег на спину, кто сел, подперев голову руками. А дождь продолжал лить.
— Один час на привал, — взмолился кто-то.
Кто-то — Хорнблауэр подозревал, что это молодой Жан, которому не исполнилось еще семнадцати — громко, не стесняясь, рыдал. Люди дошли до предела. Кто-нибудь другой, обладающий большей силой убеждения, заставил бы их пойти дальше, но не он, признался сам себе Хорнблауэр. Если бы брод оказался проходимым, они смогли бы пересечь его и пройти еще пару миль по другой стороне, но перед лицом страшного разочарования руки их опустились, и они были неспособны ничего предпринять сейчас. Кроме того, им было ясно, как и Хорнблауэру, что идти некуда. Восстание подошло к концу, вне зависимости от того, будут ли они идти, пока не умрут от усталости, или останутся и умрут здесь. Буря и затопление брода подписали мятежу приговор. Опыт партизанской войны сделал людей реалистами, они понимали, что все попытки действовать будут не более чем притворством. А еще все знали о прокламации Клозана, обещающей амнистию. Браун стоял рядом, храня красноречивое молчание и положа руку на рукоять заткнутого за пояс пистолета. Он сам, Браун, Мари, граф и Анетта, вот на кого можно рассчитывать. К этому можно прибавить еще одного или двоих, в том числе папашу Фермиака. На данный момент этого достаточно. Можно пристрелить пару самых непокорных, и остальным ничего не останется, как повиноваться. Но вряд ли он сумеет сохранить людей на марше в темноте против их воли. Им не составит труда бежать, а кто-то, более недовольный и ожесточенный, чем остальные, может воткнуть нож ему в спину или, приставив мушкет, спустить курок. Он был готов рискнуть и пристрелить нескольких недовольных, но не видел смысла делать это. Ему оставалось только одно — последнее средство загнанного в угол предводителя партизан: распустить отряд и ждать наступления лучших времен. Смириться с этим было нелегко, особенно учитывая страшную опасность, угрожающую графу и Мари, но выбирать приходилось меньшее из зол. Но осознание провала было горьким.
— Что ж, — сказал он, — в таком случае нам остается распрощаться.
Некоторые из людей встрепенулись при этих словах.
— Орацио, — воскликнула Мари, но резко смолкла. Она помнила о важности дисциплины.
— Вашим жизням ничто не угрожает, — продолжил Хорнблауэр. — Все вы читали декларацию Клозана. Утром, а если захотите, сейчас, вы можете пойти в расположение войск и сдаться. Можете отправиться по домам. Мадам, граф и я пойдем дальше, так как мы должны идти. И мы пойдем, даже через силу.
Услышав это, люди онемели. Ни единого звука, ни единого жеста в темноте. Две недели пережитых ими испытаний и опасностей для многих, казалось, вместили всю жизнь, и осознать, что жизнь эта подошла к концу, было непросто.
— Мы вернемся, — продолжал Хорнблауэр. — Вспоминайте о нас, когда вернетесь домой. Думайте о нас. Мы вернемся, и снова позовем вас к оружию. Тогда мы соберем все наши силы, чтобы низвергнуть тирана. Не забывайте об этом. А теперь давайте в последний раз крикнем «ура» в честь короля: Vive le Roi![30]
Они подхватили крик, не слишком воодушевленно, но Хорнблауэр достиг намеченной цели. Он посеял семена будущего восстания: когда дивизия Клозана уйдет, можно будет снова возмутить Нивернэ, как только появится вождь — если они с графом сумеют вернуться в провинцию. Надежда была призрачной, но ничего иного не оставалось.
— Во имя Божье, — произнес Фермиак, — я вас не оставлю.
— И я, — раздался другой голос в темноте.
Не исключено, что имея дело с этими французами, можно было исступленно воззвать к их чувствам, повести за собой на волне эмоций, заставить их опять подняться на марш. Хорнблауэр чувствовал такое искушение, но нужно было трезво взвесить все за и против. Такое истеричное возбуждение резко пойдет на убыль, как только люди снова ощутят боль в усталых ногах. Некоторые просто не смогут идти дальше. Нельзя этого делать: на рассвете при нем останется человек шесть, не больше, а время будет безвозвратно потеряно.
— Благодарю вас, — сказал Хорнблауэр. — Я не забуду этого, когда придет час, Фермиак, дружище. Но нам нужно ехать, и как можно быстрее. Когда нас четверо на шесть лошадей, это дает лучшие шансы. Возвращайтесь к своей супруге, Фермиак, и постарайтесь не колотить ее по вечерам в субботу.
В этот момент, самый важный из всех, ему даже удалось заставить их рассмеяться. Это позволило сохранить при прощании тот настрой, который Хорнблауэр собирался использовать в будущем. И в то же время он знал, что будущего у них нет. Он чувствовал это нутром, позвоночником, чувствовал, даже когда отдавал приказ освободить вьючных лошадей от их ноши, даже когда заставлял Брауна не брать с собой Анетту ради спасения ее жизни. Хорнблауэр отправлялся на смерть, возможно и Браун тоже. А Мари, милая Мари!? Пока настроение его менялось с каждой новой волной эмоций, переходя от раскаяния к самоедству, от страха к сожалению, от неуверенности к отчаянию, любовь его становилась все крепче и все больше, так что имя ее сопровождало все его мысли, а образ ее стоял у него перед глазами, о чем бы он не думал. Дорогая Мари, милая, любимая Мари!
Они сели на лучших четырех лошадей, одну из запасных вела в поводу Мари, другую Браун. Животные скользили и спотыкались на каменистой кромке берега, пока, наконец, не достигли тропы, шедшей над рекой. Началась отчаянная скачка в ночи. Хорнблауэр едва держался в седле от усталости, голова кружилась, так что ему пришлось покрепче ухватиться за переднюю луку седла. Он смежил на мгновение глаза и тут же его с неудержимой силой закружил водоворот, заглатывающий его, как тогда, четыре года назад, их лодку, попавшую в водопад на Луаре. Он очнулся, едва уже не вывалившись из седла, выровнялся и мертвой хваткой уцепился за луку. Но даже на грани сознания он помнил, что Мари ждет и любит его.
Хорнблауэр стряхнул дремоту. Ему необходимо подготовить план, придумать путь к спасению. Он вызвал перед своим мысленным взором карту окрестностей, и отметил на ней все, что ему было известно о передвижении походных колонн Клозана. Они образовывали полукольцо, диаметром которого служила река, а центром на данный момент являлся он сам. Вот в такое опасное положение он поставил себя, понадеявшись форсировать реку через брод Мари. Ему было известно, что прямо по пятам за ними идет полубатальон Четырнадцатого полка легкой пехоты, на который была возложена обязанность непосредственного их преследования, в то время как остальные колонны играли роль загонщиков. К наступлению темноты этот полубатальон должен был находиться на расстоянии шести или семи миль позади, если, конечно, что вполне могло случиться, командующий им офицер не поднял солдат на ночной марш. Стоит ли ему попытаться прорвать кордон или попробовать форсировать реку?
Лошадь графа с шумом рухнула на землю прямо перед ним, так что сам Хорнблауэр едва избежал подобной участи.
— Вы не ранены, сэр? — раздался в темноте голос Брауна. Несмотря на помеху в виде заводной лошади он уже успел выскочить из седла.
— Нет, — спокойно ответил граф, — но боюсь, что лошади повезло меньше.
Браун и граф завозились в темноте, послышался звон уздечки.
— Так и есть, она вывихнула ногу, сэр, — доложил, наконец, Браун. — Я оседлаю для вас другую.
— Вы уверены, что с вами все в порядке, отец? — спросила Мари, используя доверительную форму обращения, явно принятую между ними.
— Совершенно, милая, — ответил граф таким тоном, как если бы дело происходило в гостиной.
— Если мы бросим здесь эту лошадь, они найдут ее, милорд, — сказал Браун.
Под словом «они» подразумевались, естественно, преследующие их войска.
— Конечно, — согласился Хорнблауэр.
— Я оттащу ее в сторону и пристрелю, милорд.
— У вас не получится оттащить ее далеко, — заметил граф.
— Нескольких ярдов будет достаточно, — ответил Браун, — не будете ли вы любезны подержать этих двух лошадей, сэр?
Им пришлось подождать, пока Браун не оттащил покалеченное животное в сторону. Сквозь мелодичный шум дождя было слышно, как щелкнул, дав осечку, курок, Браун обновил затравку, раздался треск выстрела.
— Благодарю вас, сэр, — услышал Хорнблауэр голос Брауна, когда тот принял поводья лошади из рук графа. Затем Браун обратился к Мари:
— Могу я взять вашу заводную лошадь, мадам?
В этот момент Хорнблауэр принял решение.
— Мы проедем еще немного по берегу, — сказал он, — а потом сможем передохнуть до утра и попробовать перебраться через реку.
Глава 20
Они мало спали в эту ночь — возможно, час или около того, постоянно просыпаясь и ворочаясь. Одежда у всех промокла насквозь, и хотя им и удалось разыскать в темноте покрытый травой участок берега, на котором можно было расположиться, скала находилась прямо под поверхностью и давала о себе знать. Но усталость и недосыпание были таковы, что, забыв про холод и боль в ноющих суставах, они провалились в беспамятство. Не вызывало ни малейшего смущения то, что Хорнблауэр и Мари спали в объятиях друг друга, постелив на землю его мокрый плащ и укрывшись ее плащом сверху. Так было теплее. Возможно, что вот так, обнявшись, они спали бы, даже если между ними ничего не было, к тому же сейчас, в силу усталости, ничего быть и не могло. Огромный прилив любви и нежности, который переживал Хорнблауэр по отношению к Мари, не мог пересилить разбитости его тела. Он слишком устал и замерз, чтобы испытывать страсть вообще. Но Мари лежала рядом, обняв его рукой: она была моложе и не так устала, а может быть, любила сильнее. И были те благословенные полчаса, когда дождь прекратился, и рассвет еще не наступил. Хорнблауэр спокойно спал, положив голову ей на плечо, и принадлежал ей целиком, без остатка. Война была позади, смерть — впереди, и в этот момент ничто не могло встать между ними. Быть может, это были счастливейшие полчаса, которые Хорнблауэр подарил ей.
Хорнблауэр проснулся с первыми лучами рассвета. Над рекой и набухшими полями стелился густой туман, и сквозь него в нескольких ярдах можно было различить фигуру, в которой он с трудом узнал графа, сидящего, завернувшись в плащ. Рядом с ним лежал Браун, сладко посапывая — видимо, они тоже спали в обнимку друг с другом. Хорнблауэру потребовалось несколько секунд, чтобы стряхнуть сон. Первое, что он осознал, был рев несущегося рядом стремительного потока. Он сел, и Мари проснулась. Стоило ему встать, как боль в стертых ногах и измученных суставах остро напомнила о себе. Не обращать внимания на боль было невозможно, поскольку каждый шаг был пыткой, с которой не могли сравниться никакие изобретения средневековья, но он не выдал себя ни единым словом.
Вскоре, оседлав лошадей, пребывавших, по видимости, нисколько не в лучшем состоянии, чем вчера ночью, они отправились в путь. Такая жизнь убивала лошадей. Быстро светало. Хорнблауэр пришел к мнению, что день будет типичным для центральной Франции: ветреный и солнечный одновременно. Можно рассчитывать, что туман рассеется в течение часа, а то и быстрее. Рядом с ними пела и шумела река. Когда пелена тумана истончилась, стала видна ее уходящая вдаль серая, испещренная белыми бурунами, ширь. Невдалеке справа проходила большая дорога на Бриар и Париж, они же ехали по проселочной дороге, шедшей по краю поймы. Рассматривая реку, Хорнблауэр мог прикинуть, что предстоит ему пересечь. Им было известно, что это огромное пространство воды скрывало под собой отмели, занимавшие более половины его ширины. Главное русло с самым сильным течением образовывало фарватер, проходивший когда у одного берега, когда у другого, когда в середине — как хорошо познакомился с этим феноменом Хорнблауэр в то время, когда плыл вниз по реке на маленькой лодке! Если им удастся перебраться через фарватер и перевести вплавь лошадей, преодолеть отмели не составит труда. На броде Мари они полагались на каменистую гряду, пересекающую фарватер на глубине, достаточной для переправы на другою сторону при низкой воде. Поскольку их надежды на брод не оправдались, следует попробовать другие средства. Даже маленькой гребной лодки, какие имелись на прибрежных фермах, будет вполне достаточно. Конечно, намного удобнее было бы воспользоваться бродом Мари, ибо в таком случае преследователи не узнают об их переправе на другой берег, но что-то лучше, чем ничего. За рекой они могут украсть свежих лошадей и оторваться от погони. Когда Хорнблауэр произнес слово «украсть» граф хмыкнул, но в словесную форму свой протест так и не облек.
Из-за тумана показалось солнце, оно светило на них, почти касаясь склона, тянувшегося справа. Над поверхностью реки пока еще висела дымка. День обещал быть жарким. И тут они увидели то, что искали: между склоном и кромкой берега притаилась небольшая ферма с дворовыми постройками. В свете солнечных лучей ее очертания были предельно четкими и ясными. Военная привычка заставила их тут же свернуть в неглубокую ложбинку, скрытую ивами. Они спешились и принялись обсуждать ситуацию.
— Разрешите мне отправиться вперед, милорд? — спросил Браун.
Видимо, придерживаясь обращения и формальностей образцового слуги, он на свой манер пытался уберечься от потери рассудка.
— Конечно, отправляйтесь, — сказал Хорнблауэр.
Хорнблауэр занял удобную для наблюдений позицию, откуда мог видеть, как Браун осторожно пробирается к ферме. Если где-нибудь поблизости есть войска, они расположатся здесь. С другой стороны, в такое время суток солдаты сновали бы между построек, но ни одного человека в форме видно не было. Пока Хорнблауэр наблюдал, появилась молодая женщина, за ней старик. А потом он заметил нечто, заставившее его замереть от радости. Под фермой, на каменистом берегу реки, у самого уреза воды лежала лодка — ошибиться было невозможно. Молодая женщина направилась к винограднику, расположенному выше фермы, когда Браун, притаившийся в канаве, привлек ее внимание. Хорнблауэр видел, как они разговаривали, как Браун поднялся и пошел к дому. Минутой позже он вышел и замахал им рукой, чтобы показать, что все в порядке. Взобравшись на коней, они поскакали к ферме; Мари вела в поводу лошадь Брауна, а Хорнблауэр — запасную. Браун поджидал их, держа пистолет под рукой, а старик внимательно рассматривал приезжих, пока они спешивались. На них стоило посмотреть, подумалось Хорнблауэру: грязные, оборванные, небритые. Мари выглядела как нищая попрошайка.
— Лягушатники побывали здесь вчера, милорд, — сказал Браун. — Кавалерия — насколько я понял, те самые гусары, которых мы побили на прошлой неделе. Но вчера рано утром они уехали.
— Прекрасно, — произнес Хорнблауэр. — Давайте спускать лодку.
— Лодка! — закричал старик, — Лодка!
— Что вы хотите этим сказать? — резко оборвал его Хорнблауэр, с ужасом размышляя, какой новый удар приготовила ему Судьба.
— Взгляните на лодку! — сказал старик.
Они подошли к лодке. Кто-то нанес посудине четыре мощных удара топором, и в днище зияли четыре огромные пробоины.
— Это сделали гусары, — запричитал старик, смакую ужасные подробности: «Разломайте лодку» — так сказал офицер, и они сломали ее.
Разумеется, войска, как и Хорнблауэр, прекрасно осознавали важность использования реки в качестве преграды. Поэтому приняли все мыслимые меры к тому, чтобы ненужные лица не могли ее пересечь. Вот почему брод Мари сыграл бы невероятно важную роль, если бы им удалось форсировать его вчера вечером.
Это был сокрушительный удар. Хорнблауэр рассеянно посмотрел на залитые светом нарождающегося дня поля, виноградники и бурлящую реку. Мари и граф ждали, какое решение он примет.
— Мы сможем спустить ее на воду, — заявил Хорнблауэр. — Весла остались на месте. Закрепим два пустых бочонка под банками — здесь должны найтись бочонки, учитывая, что они делают вино. Немного проконопатим, заделаем пробоины, и с помощью бочонков вполне сможем достичь того берега. Этим лучше заняться мне и Брауну.
— Есть, сэр, — сказал Браун. — Вон в том фургоне должны найтись какие-нибудь инструменты.
Необходимо было принять меры предосторожности, чтобы их не застали врасплох, так как починка лодки могла потребовать несколько часов.
— Мари, — позвал Хорнблауэр.
— Что, Орацио?
— Поезжай к верхней оконечности виноградника. Следи за дорогой. Помни, что и ты и лошадь должны быть хорошо укрыты.
— Да, Орацио.
Просто: «Да, Орацио». Хорнблауэр осознал это секундой позже. Любая другая женщина словом или интонацией дала бы понять, что последний пункт его инструкций совершенно излишен для того, кто знает свое дело. Как бы то ни было, она беспрекословно села на лошадь и уехала. Хорнблауэр встретился глазами с графом. Ему хотелось отправить старика отдохнуть — лицо графа было серым от усталости, как щетина, которой густо заросли его щеки — но он удержался от того, чтобы напрямую сказать об этом. Необходимо сохранить в графе бодрость духа, а поступая таким образом, этого не достичь.
— Вскоре нам потребуется ваша помощь, сэр, — сказал Хорнблауэр. — Можем мы позвать вас, когда будет нужно?
— Разумеется, — ответил граф.
Появился Браун с бочарными принадлежностями, молотком, гвоздями и куском веревки.
— Замечательно! — воскликнул Хорнблауэр.
Они лихорадочно принялись за работу. В двух местах были разломаны как шпангоуты, так и лонжероны. Заделать пробоины было делом сравнительно несложным. А вот сломанные шпангоуты представляли более серьезную проблему. Чтобы преодолеть такое сильное течение придется грести изо всех сил, и под нагрузкой лодка может разломиться. Самым простым способом избежать этого было усилить шпангоуты диагональным наложением двух дополнительных планок.
— Когда мы перевернем ее, увидим, как она выглядит, — сказал Хорнблауэр.
Они застучали молотками, забивая гвозди. Хорнблауэр подумал, что для переправы через такую бурную реку на весла придется навалиться всерьез. Нагрузка на корпус, как продольная, так и поперечная, будет значительной. Они работали как одержимые. Старик постоянно слонялся вокруг них, говоря, что гусары вот-вот должны вернуться, поскольку они постоянно патрулируют берег реки. Все это он излагал со свойственным такому типу людей стремлением упиваться бедствиями.
Едва только он в очередной раз повторил свое предупреждение, раздался стук копыт: это была Мари, во весь опор гнавшая свою лошадь вниз по склону.
— Гусары! — коротко бросила она. — Приближаются с юга по большой дороге. Человек двадцать, насколько я могу судить.
Неужели возможно, что Судьба окажется к ним настолько немилосердна? Еще час работы, и лодку можно было бы спустить на воду.
— Они спустятся сюда, — злорадно проговорил старик. — Они всегда так делают.
Еще раз пришло время принимать неотложное решение.
— Мы должны уехать отсюда и спрятаться, — сказал Хорнблауэр. — Ничего иного нам не остается. Поехали!
— Но ремонт лодки, сэр? Они заметят, — произнес Браун.
— Они всего лишь в миле отсюда, — сказала Мари. — И будут здесь через пять минут.
— Поехали, повторил Хорнблауэр. — Граф, пожалуйста, садитесь на лошадь.
— Скажи гусарам, если они придут, что это ты занимался починкой лодки, — сказал Браун старику, поднеся свое заросшее щетиной лицо к его морщинистой физиономии.
— Поехали, Браун, — торопил Хорнблауэр.
Они поскакали к лощине, в которой прятались прежде. Привязав лошадей к ивам, они распластались среди камней и стали наблюдать. Едва успели беглецы устроиться, как восклицание Мари привлекло их внимание к приближению гусар. Это был всего лишь небольшой патруль — полдюжины солдат и юнкер. Сначала над гребнем показались украшенные перьями кивера, затем серые ментики. Они скакали по проселочной дороге, идущей от виноградника к ферме. Старик ждал их у ворот двора, и беглецы видели, как гусары натянули поводья и стали расспрашивать его. Хорнблауэр, глядя на то, как старик отвечает на вопросы, почувствовал комок в горле. Было видно, как юнкер наклонился в седле, схватил крестьянина за грудки и встряхнул. Теперь можно было не сомневаться, что тот расскажет все. Угрозы, содержащиеся в декларации Клозана, не пропали даром. Одно упоминание о них заставит старика говорить, разве что только тот потянет некоторое время, чтобы очистить совесть. Юнкер тряхнул его снова. Один из солдат демонстративно неспешно направил лошадь к реке, и вскачь принесся обратно с рапортом о ремонте лодки. Теперь старик заговорил. Возбуждение передалось даже гусарским лошадям, беспокойно гарцевавшим на месте. Повинуясь взмаху юнкера, один из солдат направил лошадь вверх по склону, очевидно, чтобы передать донесение остальной части подразделения. Старик указал рукой в их направлении, гусары развернули лошадей, и, рассредоточившись, поскакали к лощине. Это был конец.
Хорнблауэр обменялся взглядом со своими товарищами. В мгновения опасности мозг работает быстро. Пытаться убежать не имело смысла — на свежих лошадях гусары догнали бы их в считанные секунды. Граф достал пистолеты и проверил затравку.
— Я оставила мушкет на броду, — сдавленно произнесла Мари. В руке она тоже держала пистолет.
Браун хладнокровно осматривался вокруг, оценивая тактическую обстановку.
Значит, они решили сражаться до конца. Чувство безысходности и обреченности, преследовавшее Хорнблауэра с самого начала восстания — с момента разговора с герцогиней Ангулемской — нахлынуло на него с новой силой. Это действительно конец. Выбор прост: умереть сегодня здесь, среди этих скал, или умереть завтра, стоя перед расстрельной командой. Исход не почетный в любом случае, но первый, наверное, предпочтительней. Однако идея умереть сейчас не вдохновляла его и не казалась правильной. В течение нескольких мгновений он не мог смириться с такой судьбой, как это сделали его товарищи. Его охватил страх. Потом он прошел так же внезапно, как появился, и Хорнблауэр почувствовал, что готов к борьбе, готов разыграть эту партию до конца, до последней карты.
По направлению к ним несся один из гусар, вот он уже на расстоянии нескольких ярдов.
Браун навел пистолет и выстрелил.
— Бог мой, осечка! — выругался Браун.
Гусар повернул лошадь и отъехал за пределы досягаемости. Звук выстрела привлек внимание остальных солдат патруля, который быстро рассредоточились, держась на дистанции мушкетного выстрела, и начали окружать их. Безнадежность положения беглецов в этой каменистой лощине стала сразу же очевидна. В случае попытки бежать верховые настигнут их немедленно, так что спешить не было необходимости. Гусары сидели в седлах и ждали.
Не прошло и полчаса, как подоспели подкрепления: отряд вдвое более многочисленный во главе с офицером, чей султан и расшитый золотом доломан выдавал принятый в гусарских частях дендизм. Ехавший рядом с ним трубач мало уступал ему в великолепии. Хорнблауэр смотрел, как сержант, показывая рукой, знакомит офицера с тактической ситуацией, а затем увидел, как последний жестами поясняет солдатам маневр, который им следует предпринять. Офицер мог оценить, что грунт слишком вязкий для действий кавалерии: с вымуштрованной быстротой новоприбывшие спешились, а лошадей отвели за деревья. Тем временем оставшиеся от обоих отрядов, с карабинами в руках, приготовились в рассыпном порядке вести наступление на лощину с двух направлений. К этим спешенным кавалеристам, используемым в качестве стрелков, с их высокими сапогами, шпорами, неточными карабинами и отсутствием подготовки, Хорнблауэр не мог испытывать ничего, кроме презрения. Но когда их пятьдесят против трех мужчин и женщины, вооруженных только пистолетами, это означает поражение и гибель.
— Теперь не тратьте даром ни единого выстрела, — сказал Хорнблауэр. Это были первые слова, произнесенные им за долгое время.
Браун и граф залегли в расселинах между скалами, Мари ползком перебиралась на другую сторону, чтобы держаться лицом к обходившей их с фланга колонне. Подойдя ярдов на сто, атакующие стали более осторожными, стараясь, по мере продвижения вперед, укрываться за кустами и скалами. Они явно ожидали, что их встретят залпами из мушкетов, но этого не произошло. Один или два пальнули из карабинов, настолько неточно, что Хорнблауэр не услышал даже свиста пуль. Он представил себе юнкера, отчитывающего солдат за бесполезную трату боеприпасов. Нападающие теперь оказались на дистанции выстрела из его нарезных пистолетов — подарка Барбары. Он вытянул правую руку, положив предплечье на камень, служивший ему укрытием, и тщательно прицелился в наиболее уязвимую мишень — гусара, который шел по открытому пространству, держа карабин наперевес. Хорнблауэр спустил курок, и когда дым рассеялся, увидел, как гусар завертелся и упал, потом, секунду спустя, сел, зажимая ладонью раненую руку. Охваченный боевым запалом, Хорнблауэр выстрелил из другого ствола, и гусар упал и замер. Хорнблауэр обругал себя за то, что потратил заряд на раненого, который в любом случае вышел из боя. Пока Хорнблауэр перезаряжал пистолет, стараясь не поддаться горячке, по кольцу нападающих прокатился вопль ярости. Он засыпал в стволы порох, обернул пули в пыж и загнал их на место, после чего аккуратно установил капсюли. Несмотря на боевой клич, вид погибшего товарища побудил стрелков быть еще осторожнее: никому не хотелось стать еще одной бесславной жертвой. Тогда сержант поднялся, призывая людей идти вперед. Хорнблауэр еще раз прицелился и выстрелил. Сержант рухнул. Так-то лучше. Есть какое-то свирепое удовольствие в том, чтобы убивать, когда вот-вот убьют тебя. Карабины заговорили по всему периметру, Хорнблауэр слышал, как пули свистят у него над головой.
В этот момент внимание всех привлек громкий звук фанфар. Он повторился, и Хорнблауэр, пользуясь тем, что огонь карабинов замер, огляделся. К ним, размахивая белым платком, направлялся верховой офицер. Рядом с ним ехал трубач, подавая горном принятый в военном этикете сигнал — приглашение к переговорам.
— Мне его подстрелить, сэр? — спросил Браун.
— Нет, — отрезал Хорнблауэр. Неплохо было бы забрать с собой в преисподнюю офицера, но это даст Бонапарту хорошую возможность замарать его имя и дискредитировать тем самым бурбонское движение. Он встал на колени среди скал и крикнул:
— Не подходите ближе!
Офицер натянул поводья.
— Почему вы не сдаетесь? — закричал он. — Дальнейшее сопротивление ничего вам не даст.
— Какие условия вы предлагаете?
Офицер едва удержался от того, чтобы пожать плечами:
— Справедливый суд. Вы можете воззвать к милости императора.
Даже если бы он старался преднамеренно вложить издевку в эти слова, у него не вышло бы лучше.
— Убирайтесь к дьяволу! — проревел Хорнблауэр. — И захватите с собой Десятый гусарский! Уезжайте, или я буду стрелять!
Он поднял пистолет, и офицер, поспешно развернув лошадь, рысью поскакал назад, не заботясь о сохранении достоинства. Как можно испытывать удовлетворение от унижения человека, хотя каких-то полчаса отделяют тебя самого от смерти? Офицер всего лишь выполнял долг, стараясь спасти жизни своих людей. Откуда взялась эта личная неприязнь? Все эти идиотские упреки самоанализа проносились в голове Хорнблауэра в то время, пока он падал на живот и занимал огневую позицию.
У него было время думать о себе с презрением до тех пор, пока пронесшаяся прямо у него над головой пуля не заставила его думать исключительно о том, что происходит сейчас. Если гусары поднимутся разом в атаку, то, хоть это и обойдется им в полдюжины жизней, все будет быстро кончено. Пистолет Мари выстрелил где-то рядом справа, и он обернулся, чтобы посмотреть на нее.
В этот момент все и случилось. Хорнблауэр услышал удар пули и увидел, как сила толчка заставила ее наполовину развернуться. Он увидел озадаченное выражение на ее лице, которое сменилось гримасой боли, и, не отдавая себе отчета в том, что делает, бросился к ней и опустился рядом на колени. Пуля попала в бедро. Хорнблауэр отвернул короткий подол ее дорожного платья. Черный чулок на раненой ноге уже весь пропитался кровью. Пока Хорнблауэр пытался сообразить, что же ему делать, он дважды видел, как толчками выливается алая кровь — задета большая артерия. Жгут… сдавить… Память Хорнблауэра торопливо подсказывала, что нужно делать при оказании первой помощи раненым. Он попробовал сдавить бедро пальцами, но безрезультатно: мешали завязки чулок. Ему пришла в голову мысль о перочинном ноже, которым можно разрезать чулок, и в эту секунду сокрушительный удар в плечо заставил его рухнуть на землю рядом с Мари. Он не слышал, как гусары пошли в атаку, не слышал пистолетных выстрелов, которыми Браун и граф безрезультатно пытались отразить штурм. Пока его не свалил удар прикладом карабина, он не имел представления ни о чем, происходящем вокруг. Даже после этого он пытался подняться на колени, обуреваемый единственной мыслью — нужно срочно пережать артерию. Как в тумане он слышал чей-то крик — это сержант приказал солдату не наносить Хорнблауэру новый удар, но это его не заботило. Он раскрыл нож, но тело Мари перед ним было холодным и безжизненным. Он посмотрел на ее искаженное гримасой лицо: сквозь покрывавшие кожу загар и пыль просвечивает бледность, рот приоткрыт, а глаза смотрят в небо так, как смотрят только мертвые. Оцепенев, Хорнблауэр склонился над ней, стоя на коленях, все еще сжимая в руке раскрытый перочинный нож. Нож выскользну у него из пальцев, и он понял, что кроме него еще кто-то склонился над Мари.
— Она умерла, — сказал чей-то голос по-французски. — Жаль.
Офицер встал, а Хорнблауэр так и остался стоять над телом.
— Эй, ты, пошел, — раздался другой, резкий голос, и Хорнблауэр почувствовал, как кто-то грубо дернул его за плечо. Он поднялся, по-прежнему в полубесчувственном состоянии, и осмотрелся вокруг. Граф стоял между двумя гусарами, Браун сидел, держась рукой за голову и медленно приходя в себя после удара, лишившего его сознания, а рядом с ним стоял солдат с карабином наизготовку.
— Суд пощадил бы мадам, — сказал офицер. Голос его слышался словно издалека. Горький смысл этого замечания помог рассеяться туману, окутавшему ум Хорнблауэра. Он дернулся, и два человека подскочили и схватили его за руки, вызвав спазм боли в плече, по которому пришелся удар прикладом. Последовала недолгая пауза.
— Я доставлю этих людей в штаб-квартиру, — заявил офицер. — Сержант, отнесите тела убитых к ферме. Распоряжения получите позднее.
У графа вырвался глухой стон, похожий на плач больного ребенка.
— Хорошо, сэр, — ответил сержант.
— Подведите лошадей, — продолжал офицер. — Сможет этот человек ехать верхом? Сможет.
Браун тупо смотрел вокруг, на половину лица у него расплывался огромный кровоподтек. Все это, и Мари, глядящая незрячими глазами в небо, воспринималось как сон.
— Пошли, — скомандовал кто-то, и солдаты потащили Хорнблауэра под руки из лощины. Ноги отказывались повиноваться ему, покрытые мозолями ступни не желали идти, и если бы его не волокли под руки, он бы упал.
— Смелее, трус, — сказал один из конвоиров.
Никто, кроме него самого, не называл его так раньше. Он попытался стряхнуть с себя их руки, чтобы выпрямиться, но они только крепче вцепились в него, заставляя плечо мучительно ныть. Третий человек ухватил его за спину, и они без всякого почтения выволокли его из лощины. Здесь находились лошади, штук сто, нервно перебирающие ногами в возбуждении от недавних волнений. Его втащили в седло, разделив поводья между расположившимися рядом солдатами. Необходимость сидеть в седле вот так, не имея даже возможности держать поводья, еще более усилила в Хорнблауэре чувство беспомощности. Кроме того, он настолько устал, что не мог сидеть выпрямившись. Когда лошадь под ним крутанулась, он увидел, что Брауна и графа усаживают верхом подобным образом. Потом кавалькада выехала на дорогу. Здесь они перешли на быструю рысь, в результате чего Хорнблауэр, держащийся за луку седла, раскачивался и подпрыгивал. Один раз он едва не потерял равновесие, но гусар, скакавший рядом с ним, ухватил его и помог вернуться в вертикальное положение.
— Если ты свалишься в такой колонне, — не без сочувствия сказал солдат, — это будет конец всем твоим проблемам.
Проблемам! Мертвая Мари осталась там, и он почти что собственной рукой убил ее. Она мертва, мертва, мертва! Он был безумен, когда начинал это восстание, и еще более, бесконечно более безумен, когда позволил Мари принять в нем участие. Почему он так поступил? И еще: более ловкий, собранный человек сумел бы пережать кровоточащую артерию. Хэнки, хирург с «Лидии», сказал как-то (словно облизнувшись при этом), что никто не проживет дольше тридцати секунд с перебитой бедренной артерией. Не важно. Он позволил Мари умереть прямо у него на руках. У него были эти тридцать секунд, и он не смог ничего сделать. Он потерпел фиаско во всем: в войне, в любви, в отношениях с Барбарой… Господи, почему он вспомнил о Барбаре?
От сумасшествия его спасла боль в плече, так как тряска на лошади причиняла ему мучения, которые он не мог больше не замечать. Чтобы на время заменить повязку, он просунул свисающую плетью руку между пуговицами сюртука, в результате чего почувствовал некоторое облегчение, а некоторое время спустя облегчение стало еще больше, так как офицер, ехавший во главе колонны, приказал перевести лошадей на шаг. Помимо прочего, его одолевала усталость. Хотя мысли по-прежнему бурлили в его голове, они утратили определенность и логику, напоминая, скорее, картины из ночных кошмаров — пугающие, но расплывчатые. Он впал в некое полубредовое состояние, до тех пор, пока новый приказ перейти на рысь не вырвал его оттуда. Шаг — рысь, рысь — шаг. Кавалерия двигалась по дороге настолько быстро, насколько позволяли лошади, приближая его к моменту свершения рока.
Штаб-квартирой генерала Клозана служил замок, охраняемый полубатальоном пехоты. Пленники и эскорт въехали во внутренний двор и спешились. Графа почти невозможно было узнать из-за серой щетины, покрывавшей его лицо, Браун тоже сильно зарос, а один глаз и щека заплыли от кровоподтека. Они не успели перекинуться ни единым словом, только обменялись взглядами, так как щеголеватый офицер, спешившись, подошел к ним.
— Генерал ждет вас, — сказал он.
— Давайте, вперед, — скомандовал командир гусар. Два солдата подхватили Хорнблауэра под руки, чтобы заставить его идти быстрее, но ноги опять отказались служить ему. Мышцы его совершенно утратили способность сокращаться, а покрытые мозолями ступни не выдерживали даже малейшего соприкосновения с землей. Он попытался сделать шаг, но колени подкосились. Гусары не дали ему упасть, и он предпринял еще одну попытку, но с тем же успехом — ноги разъезжались, как у загнанной лошади, впрочем, по той же самой причине.
— Живей! — рявкнул офицер.
Гусары подхватили его, и почти волоком потащили за собой: вверх по мраморной лестнице, обрамленной портиком, в отделанный панелями кабинет, где за столом сидел генерал Клозан — крупный эльзасец с голубыми глазами навыкате, красными щеками и торчащими рыжими усами.
Когда перед его взором предстали три изможденные фигуры, голубые глаза выкатились из орбит еще больше. Не скрывая удивления, он переводил взгляд с одного на другого, щеголеватый адъютант, проскользнувший в кресло рядом с генералом и приготовивший перо и бумагу, более преуспел в попытке сохранить невозмутимость.
— Кто вы? — спросил генерал.
После минутного колебания первым заговорил граф:
— Луи-Антуан-Эктор-Савиньен де Ладон, граф де Грасай, — заявил он, гордо вздернув подбородок.
Взор округлых голубых глаз направился на Брауна.
— А вы?
— Меня зовут Браун.
— А, слуга одного из тех, кто был вожаком. А вы?
— Горацио, лорд Хорнблауэр. — Голос Хорнблауэра был хриплым: в горле у него совершенно пересохло.
— Лорд Орнблоуэр. Граф де Грасай, — проговорил генерал, переводя взгляд с одного на другого. Он не говорил ни слова — но взгляд его был достаточно красноречивым. Эти два изможденных голодранца — глава одного из старейших семейств Франции и один из самых многообещающих офицеров британского флота.
— Военный трибунал, который будет судить вас, соберется сегодня вечером, — сказал генерал. — У вас есть несколько часов, чтобы подготовиться к защите.
Он не добавил «если считаете нужным».
Хорнблауэру пришла в голову одна мысль:
— Этот человек, месье — Браун. Он военнопленный.
Изогнутые аркой песочного цвета брови взметнулись еще выше.
— Он матрос флота его величества короля Британии. Он выполнял долг, подчиняясь приказам вышестоящего офицера. Вследствие этого он не подлежит трибуналу и является законным комбатантом.
— Он сражался вместе с мятежниками.
— Это не имеет отношения к делу, сэр. Он входит в состав вооруженных сил британской короны в чине …
Никакие усилия не помогали Хорнблауэру подобрать французский эквивалент званию «старшина», и за отсутствием лучшего он употребил английский термин. Голубые глаза вдруг сузились.
— Это те самые доводы, которые вы станете приводить в свою защиту на трибунале, — сказал Клозан. — Это вам не поможет.
— Я говорю не о своей защите, — ответил Хорнблауэр тоном, который не позволял усомниться в его искренности. — Я думаю о Брауне. Вам не в чем обвинить его. Вы сам солдат, и должны понимать это.
Заинтересованность в развернувшемся споре заставила его забыть об усталости, о собственном отчаянном положении. Его глубокое и искреннее беспокойство о судьбе Брауна произвело впечатление на Клозана, которого не могла не тронуть такая забота о подчиненном со стороны человека, который сам вот-вот лишится жизни. Выражение голубых глаз смягчилось, в нем даже проскользнули оттенки восхищения, которые остались незамеченными Хорнблауэром, несмотря на чуткость и острый ум последнего. Для него забота о Брауне казалась совершенно естественной, так что ему даже не приходило в голову, что это может вызвать восхищение.
— Я приму это к сведению, — сказал Клозан. Затем он обратился к эскорту:
— Уведите пленников.
Щеголеватый адъютант что-то торопливо зашептал ему на ухо. Генерал кивнул с присущей эльзасцам важностью.
— Делайте, что сочтете нужным, — сказал он. — Назначаю вас ответственным.
Адъютант вскочил и вышел в холл следом за ними. Прямо за дверью он стал раздавать приказания:
— Вот этого, — указал он на Брауна, — на гауптвахту. Этого, — имелся в виду граф, — поместите здесь, в комнате. Сержант, вы будете его охранять. Лейтенант, вы персонально отвечаете за этого человека — Орнблоуэра. Возьмите двоих солдат, и не спускайте с него глаз. Ни на секунду. Под замком есть темница. Отведите его туда, и оставайтесь с ним. Я буду время от времени проверять. Этот человек сбежал четыре года назад от императорских жандармов и был приговорен к смерти заочно. Он отчаянный, и вы должны быть готовы к любым хитростям с его стороны.
— Хорошо, сэр, — сказал лейтенант.
Каменная лестница вела вниз, к темнице, этому пережитку не столь далеких дней, когда господин поместья был наделен правом низшего, среднего и высшего суда. Теперь, когда перед ними с лязгом засовов отворилась дверь, ведущая внутрь, все говорило о том, что темница давно уже не использовалась. Здесь не было сыро, напротив, все покрывал густой слой пыли. Сквозь высокое зарешеченное окно пробивался луч света, вполне достаточный, чтобы осветить помещение. Лейтенант скользнул взглядом по голым стенам: единственную «мебель» составляла пара железных кандалов, приклепанных к полу.
— Принесите несколько стульев, — скомандовал он одному из солдат, а потом, оценив состояние пленника, добавил, — И еще найдите какой-нибудь матрас, на худой конец, соломенный тюфяк.
В темнице было холодно, но Хорнблауэр чувствовал, тем не менее, как по лбу у него стекают капли пота. Слабость его возрастала с каждой секундой, ноги подкашивались даже когда он просто стоял, перед глазами все плыло. Едва на полу постелили матрас, Хорнблауэр с трудом доковылял и буквально рухнул на него. В этот момент он забыл обо всем, даже о горе из-за смерти Мари.
Не осталось места ни для сожалений, ни для предчувствий. Он лежал лицом вниз, не совсем без сознания, не совсем во сне, но будто впав в забытье. В этот момент коллапса он не чувствовал ничего: ни пульсации в ногах, ни рева в ушах, ни боли в плече, ни душевных терзаний — ничего.
Когда лязг засовов возвестил о приходе адъютанта, Хорнблауэр немного пришел в себя. Когда адъютант вошел, Хорнблауэр по-прежнему лежал лицом вниз, испытывая почти удовольствие из-за отсутствия необходимости двигаться или думать.
— Пленник сказал что-нибудь? — услышал он вопрос адъютанта.
— Ни единого слова, — ответил лейтенант.
— Впал в отчаяние, — слегка раздраженно прокомментировал адъютант.
Это замечание взбесило Хорнблауэра, как еще раньше бесило то, что его видят в таком непрезентабельном положении. Он повернулся, уселся на своем тюфяке и посмотрел на адъютанта.
— Вам нужно что-нибудь? — спросил тот. — Может быть, желаете написать письмо?
Он не собирался писать писем, на которые его тюремщики набросятся как коршуны на добычу. И все же нужно было сделать что-то, чтобы рассеять впечатление об его отчаянии. И он знал, что ему требуется, и как сильно ему это нужно.
— Принять ванну, — заявил он. Провел рукой по заросшей щеке. — Побриться. Переодеться в чистое.
— Ванну? — в некотором замешательстве повторил адъютант. Потом на лице его появилось выражение подозрительности. — Я не дам вам лезвие. Вы хотите оставить с носом расстрельную команду.
— Пусть один из ваших людей побреет меня, — произнес Хорнблауэр, и, желая ужалить побольнее, добавил, — можете связать мне руки на время бритья. Но сначала — чан с горячей водой, мыло и полотенце. И чистую рубашку.
Адъютант сдался:
— Ладно.
На выручку Хорнблауэру пришло состояние странного легкомысленного возбуждения. У него не вызвала смущения необходимость раздеваться перед четырьмя парами любопытных глаз, чтобы смыть с тела грязь и насухо обтереться, не взирая на боль в раненом плече. Он вызывал у них интерес не столько как знаменитый чудак-англичанин, сколько как человек, которому скоро предстоит умереть. Вскоре этому человеку, натирающему себя мылом, предстоит возглавить процессию, и это белое тело окажется растерзанным на куски мушкетными пулями. Он телепатически ощущал этот нездоровый интерес, и с гордой презрительностью позволял удовлетворить его. Пока Хорнблауэр одевался, тюремщики следили за каждым его движением. Вошел солдат, держа в руках кожаные ремешки и бритвы.
— Полковой брадобрей, — пояснил адъютант. — Он будет брить вас.
Теперь не было даже речи о том, чтобы связать ему руки. Когда бритва скользила по горлу Хорнблауэра, у того мелькнула мысль внезапно дернуться и схватить лезвие. Здесь проходят яремная вена и сонная артерия: один глубокий порез — и все мучения кончатся, дополнительное же удовольствие крылось в возможности оставить в дураках подозрительного адъютанта. На секунду искушение стало почти неодолимым. В его воображении возникла картина: бьющееся в конвульсиях тело, кровь, хлещущая из горла, оцепеневшие офицеры. Видение было настолько четким, что какое-то время он медлил расставаться с ним, наслаждаясь. Но участь самоубийцы не вызовет такого сочувствия, какое привлечет жертва судебного приговора. Он обязан дать Бонапарту убить его, принеся, таким образом, последнюю жертву на алтарь долга. И Барбара — ему не хотелось, чтобы Барбара думала о нем, как о самоубийце.
Брадобрей поднес ему зеркало как раз вовремя, чтобы прервать новую цепь его мыслей. Лицо, смотревшее на него, было уже вполне узнаваемым, только сильно загорелым. Может, складки у губ стали более заметными. Взгляд, похоже, более возвышенный, чем обычно, более выразительный. Лоб определенно стал выше, залысины увеличились. Он кивнул брадобрею, и, как только салфетку из-под подбородка убрали, поднялся, стараясь держаться прямо, несмотря на боль в стертых ногах. Окинул всех повелительным взором, заставив любопытствующих потупить глаза. Адъютант полез за часами, стремясь, скорее, скрыть свое замешательство.
— Военный трибунал соберется через час, — сказал он. — Не хотите ли чего-нибудь поесть?
— Разумеется, — ответил Хорнблауэр.
Ему принесли омлет, хлеб, вино и сыр. Не подразумевалось, что кто-то должен составить ему компанию, поэтому все сидели и пристально наблюдали за каждым куском, который он отправлял в рот. Хорнблауэр не ел уже давно, и теперь почувствовал, что невероятно проголодался. Пусть себе смотрят — он хочет есть и пить. Вино оказалось приятным, и он пил с удовольствием.
— На прошлой неделе император одержал две крупные победы, — заявил адъютант, вторгаясь в ход мыслей Хорнблауэра. Прежде, чем посмотреть на него, Хорнблауэр не спеша вытер рот салфеткой.
— Ваш Веллингтон, — продолжал адъютант, — наконец-то получил по заслугам. Ней разбил его наголову у городка, расположенного южнее Брюсселя, который называется Катр-Бра.[31] И в этот же день его императорское величество разгромил пруссаков Блюхера у Линьи.[32] Если верить карте, это произошло в том самом месте, где состоялось сражение при Флерюсе.[33] Эта двойная победа такая же решительная, как под Иеной и Ауэрштедтом.[34]
Хорнблауэр, заставляя себя сохранять невозмутимый вид, закончил вытирать губы. Затем налил сам себе вина. Он чувствовал, что адъютант, раздраженный демонстративным равнодушием Хорнблауэра к своей судьбе, сообщил ему эти новости в расчете пробить его защитную броню. Стоит подумать, как сделать ответный выпад.
— Откуда вы получили эти известия? — спросил он, окруженный вежливым вниманием.
— Официальный бюллетень пришел три дня назад. Император полным ходом идет на Брюссель.
— Мои поздравления, месье. Надеюсь, что на ваше счастье, эти новости окажутся правдивыми. Однако не вашей ли армии бытует выражение «врет, как бюллетень»?
— Этот бюллетень пришел непосредственно из штаб-квартиры императора, — возмутился адъютант.
— В таком случае, конечно, он не может вызывать никаких сомнений. Будем надеяться, что Ней точно донес императору о произошедшем, так как поражение, нанесенное им Веллингтону — факт, опровергающий весь исторический опыт. В Испании Веллингтон несколько раз побил Нея, так же как Массену, Сульта, Виктора, Жюно, и всех прочих.
Выражение лица адъютанта показывало, как сильно задела его эта реплика.
— Эта победа не вызывает сомнений, — сказал он, а потом мстительно добавил, — Париж в один день услышит о входе императора в Брюссель и об окончательном уничтожении разбоя в Нивернэ.
— О! — вежливо произнес Хорнблауэр, вскинув брови. — У вас в Нивернэ есть разбойники? Сочувствую, сэр. Тем не менее, за время путешествия по провинции я не встретил ни одного из них.
Унижение проявилось на лице адъютанта еще явственнее, чем прежде, и Хорнблауэр, допив вино, почувствовал удовлетворение собой. В результате действия вина и легкого душевного подъема его не слишком беспокоила перспектива скорой смерти. Адъютант вскочил и выбежал из камеры, а Хорнблауэр откинулся в кресле и, вытянув ноги, принял позу человека, довольного жизнью, что было наиграно лишь отчасти. Вот так, в течение достаточно длительного времени, они молча сидели — он и три его стража. Наконец, лязг засовов известил их о том, что двери открываются вновь.
— Трибунал ждет. Идемте, — сказал адъютант.
Никакое чувство внутреннего удовлетворения не могло избавить Хорнблауэра от боли в ногах. Он старался держаться с достоинством, но в результате только гротескно хромал. Ему вспомнилось, как еще вчера первые сто шагов, пока ноги не занемеют, причиняли ему столько мучений. А сегодня ему предстояло проделать до большого зала замка менее ста шагов. Когда Хорнблауэр со своим эскортом поднялся наверх, он встретил графа в сопровождении двух гусаров. Обе группы приостановились на минуту.
— Сын мой, — произнес граф, — простите меня за все.
Для Хорнблауэра не было ничего странного в том, что граф назвал его сыном. Почти не задумываясь, он ответил в том же тоне:
— Вам не за что просить прощения, отец. Это я должен извиниться перед вами.
Какая необоримая сила заставила его упасть на колено и склонить голову? И почему граф, этот закоренелый вольнодумец и вольтерьянец, простер над ним руку?
— Да благословит вас господь, сын мой, — сказал он.
Потом он ушел, и когда Хорнблауэр обернулся, то увидел, как седая голова и щуплая фигура скрываются за углом.
— Его расстреляют завтра на рассвете, — пояснил адъютант, открывая дверь в большой зал.
Справа и слева от Клозана за столом сидели по три офицера, а на обоих концах стола примостились младшие офицеры, разложив перед собой бумаги. Хорнблауэр заковылял вперед, безуспешно пытаясь сохранить достойный вид. Когда он приблизился к столу, один из офицеров встал.
— Как вас зовут? — спросил он.
— Горацио, лорд Хорнблауэр, кавалер досточтимого ордена Бани, коммодор флота его величества короля Британии.
Члены суда переглянулись между собой. Офицеры на концах стола, выполнявшие, по видимости, роль секретарей, заскрипели перьями. Офицер, задавший вопрос, судя по всему, обвинитель, обратился к трибуналу:
— Заключенный назвал себя. Насколько я понимаю, он делал это и прежде — перед генералом Клозаном и капитаном Флери. Его внешность также соответствует опубликованному описанию. Таким образом, мы можем считать, что личность его установлена.
Клозан обвел взглядом своих коллег-судей, которые закивали в знак согласия.
— В таком случае остается лишь довести до членов суда, — продолжал обвинитель, — вердикт военного трибунала от десятого июня одна тысяча восемьсот одиннадцатого года, каковым вышеназванный Орацио Орнблоуэр, в его предумышленное отсутствие, был приговорен к смерти за пиратство и нарушение законов войны. Приговор подписан четырнадцатого июня того же года его императорским величеством. У судей имеется заверенная копия этого документа. Я требую, чтобы этот смертный приговор был подтвержден.
Клозан снова посмотрел на судей, и снова ответом ему был шестикратный кивок. Клозан потупил взор, и некоторое время барабанил пальцами по столу, затем поднял голову. Он поймал взгляд Хорнблауэра, и удивительная проницательность последнего позволила ему понять, что в уме Клозана звучат сейчас не раз повторенные приказы Бонапарта: «этот Хорнблауэр должен быть схвачен и расстрелян на месте», — или что-нибудь в таком духе. Голубые глаза Клозана просили у него прощения.
— Приговор трибунала гласит, — тихо проговорил Клозан, — что означенный Орацио Орнблоуэр подлежит смерти через расстрел. Приговор будет приведен в исполнение завтра на рассвете, сразу вслед за казнью изменника Грасая.
— Пиратов вешают, ваше превосходительство, — заявил обвинитель.
— В приговоре сказано, что Орнболоуэр должен быть расстрелян, — повторил Клозан. — Увести заключенного. Трибунал закрыт.
Вот и все. Хорнблауэр знал, что когда он повернулся и пошел к выходу, все смотрели ему вслед. Ему хотелось шагать прямо, подняв голову и расправив плечи, но он мог только ковылять, спотыкаясь на каждом шагу и сгорбившись. У него не было возможности сказать что-либо в свою защиту, но, возможно, это и к лучшему. Он мог начать запинаться, заикаться, мямлить, так как не подготовил речь заранее. Хромая, он стал спускаться по лестнице. В конце концов, его хотя бы расстреляют, а не повесят: только окажутся ли пули, разрывающие грудь, менее мучительными, чем веревка, сдавливающая шею? Вот и камера, в которой теперь стало почти совсем темно. Он разыскал матрас и сел. Это окончательное поражение. Эта мысль как-то не приходила до сих пор ему в голову. В их схватке, длившейся двадцать с лишним лет, последний раунд остался за Бонапартом. Против пуль не поспоришь.
Принесли три свечи, ярко осветившие темницу. Да, это поражение. С чувством острого презрения к себе Хорнблауэр вспомнил, как кичился недавно, одержав пустячную победу в словесной баталии с адъютантом. Каким он был идиотом! Граф приговорен к смерти. Мари… О, Мари…Мари! Он почувствовал, как на глазах у него выступают слезы, и торопливо повернулся так, чтобы никто не заметил их. Мари любила его, и погибла благодаря его глупости. Его глупости и необоримому гению Бонапарта. О Боже, если бы у него был шанс прожить три этих последних месяца заново. Мари, Мари. Ему хотелось спрятать лицо в ладонях, но он вовремя спохватился, что три пары глаз неотрывно наблюдают за ним. Нельзя позволить, чтобы говорили, что он умер как трус. Ради Ричарда, ради Барбары, нельзя этого допустить. Барбара будет любить Ричарда и заботиться о нем, в этот нет никакого сомнения. Но что она подумает о своем покойном супруге? Она узнает, она догадается, почему он поехал во Францию, она догадается о его неверности. Это больно ранит ее. Ее на за что будет упрекнуть, если она постарается вытравить из своей памяти воспоминания о нем. Она снова выйдет замуж. Без сомнения, так и будет: еще молодая, красивая, богатая, с хорошими связями. Господи, боль стала еще сильнее, когда он представил ее в объятиях другого мужчины, смеющуюся от радости. Но он же был в объятиях Мари. О! Мари…
Его кулаки сжались с такой силой, что ногти впились в ладони. Хорнблауэр оглянулся, и удостоверился, что за ним по-прежнему наблюдают. Он не должен выказывать слабости. Если бы не та буря, заставившая Луару выйти из берегов, он был бы сейчас свободен, Мари была бы жива, а восстание продолжалось. Для того, чтобы одолеть Хорнблауэра, потребовалось прямое вмешательство судьбы и гений Бонапарта. Что до тех сражений в Бельгии — не исключено, что бюллетень лжет, говоря о победах Наполеона. Возможно, они не такие решительные. Может быть отсутствие дивизии Клозана, увязшей в Нивернэ, не позволило стать им решительными. Может… Как же он глуп, пытаясь тешить себя напрасными иллюзиями. Скоро ему предстоит умереть, и он сможет разгадать загадку, о которой лишь изредка дозволял себе размышлять. Завтра, точнее, через несколько часов, ему предстоит пройти по дороге, по которой столь многие прошли прежде него.
Зажгли новые свечи, так как старые догорели дотла. Неужто ночь проходит так быстро? Скоро, скоро взойдет солнце — в июне светает рано. Он поймал взгляд одного из охранников, хотя тот и старался отвести глаза. Хорнблауэр попытался улыбнуться, но тут же понял, что улыбка вышла натянутой и фальшивой. Какой-то шум за дверью. Не может быть, неужели за ним уже пришли? Так и есть. Лязгнули засовы, открылась дверь, и вошел адъютант. Хорнблауэр попытался встать, но к ужасу своему обнаружил, что ноги отказываются служить ему. Он сделал еще одну попытку, и опять неудачно. Ему остается сидеть и ждать, пока его не поволокут, как труса. Он заставил себя поднять голову и посмотреть на адъютанта, стараясь, чтобы взгляд не казался таким тупым и стеклянным, каким был на самом деле.
— Это не смерть, — сказал адъютант.
Хорнблауэр не сводил с него глаз. Он попытался заговорить, но из раскрытого рта не вырывалось ни слова. Адъютант тоже попробовал улыбнуться — улыбка вышла какая-то заискивающая.
— Новости из Бельгии, — продолжал он. — Император разбит в большом сражении. У местечка, называющегося Ватерлоо.[35] Веллингтон и Блюхер перешли границу и движутся на Париж. Император уже там, и Сенат настаивает на его повторном отречении.
Сердце Хорнблауэра забилось так сильно, что он по-прежнему не мог произнести ни слова.
— Его превосходительство — господин генерал, — продолжал адъютант, — решил, что по этой причине казни сегодня утром не состоятся.
Хорнблауэр обрел, наконец, дар речи:
— Я не буду настаивать на их исполнении.
Адъютант продолжал говорить что-то о реставрации его христианнейшего величества, но Хорнблауэр не слушал его. Он думал о Ричарде. И о Барбаре.