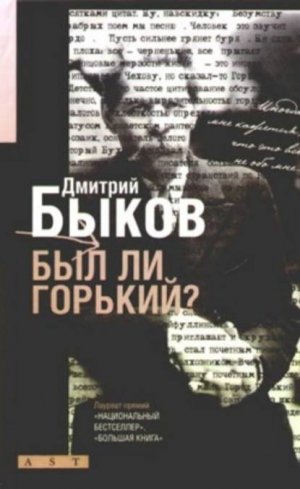
ОТ АВТОРА
Петербургское телевидение предложило мне написать сценарий фильма о Горьком к его 140-летию. Я за эту задачу взялся с радостью, поскольку Горького, со всеми оговорками, всегда любил и занимался им лет с восемнадцати, с курсовой работы по «Рассказам 1922–1924 годов», осуществлявшейся под терпеливым научным руководством Н.А. Богомолова. Огромное количество материала – в том числе недавно изданная книга Павла Басинского в серии «ЖЗЛ», пользующаяся заслуженным успехом, – меня не останавливало, а скорей раззадоривало. Если собрать все качественные тексты о Горьком, включая отзывы современников, – они не перевесят его полного собрания в 60-ти томах (художественные произведения изданы в 1968–1973 гг., публицистика – только после перестройки, а третья серия – письма – не закончена поныне). Да и вообще – от таких предложений грех отказываться, особенно если они исходят от историка Льва Лурье, сотрудничество с которым всегда казалось мне большой честью.
Фильм мы сделали (его поставил мой давний друг, телевизионный режиссер Давид Ройтберг, а редакторами выступили замечательные питерские документалистки Ирина Малярова и Анна Ганшина, которых я, пользуясь случаем, благодарю). В апреле 2008 года он вышел в эфир на Пятом канале, а потом и на диске – и вызвал споры, доказавшие, что списывать Горького со счетов отнюдь не пора. В нашей нынешней сонной оторопи, в почти поголовной летаргии все еще имеет смысл обращаться к последним вопросам, первоисточникам, социальным утопиям и антиутопиям – иными словами, усыпляющая стабильность еще не есть венец общественного развития, и никаким консюмеризмом человеческие потребности не исчерпываются. Горький продолжает будоражить умы, как занимался этим при жизни, – поскольку безошибочным чутьем угадывал самую больную проблему и самого сильного противника. Художественное качество его текстов здесь играет роль второстепенную – хотя по самому строгому счету он войдет в первую десятку русских прозаиков XX века, кто бы ее ни составлял.
Сколь ни ужасно слово «формат», против него не попрешь, и сценарий в процессе работы сократился чуть не вчетверо. Поскольку многое осталось недосказанным, а тема оказалась горячей, – я решил опубликовать очерк полностью, чтобы снять вопросы и высказаться по возможности исчерпывающе. Цель у меня одна – вернуть широкому читателю большого и сложного писателя, который при всех своих ошибках, отступлениях и заблуждениях всегда учил нетерпимости к скотству. Что-то подсказывает мне, что это хорошо.
Приношу благодарность отделу спецпроектов Санкт-Петербургского телевидения (Пятый канал) за предоставленный иллюстративный материал.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
БРОДЯГА
1
Максим Горький обогатил советскую разговорную речь десятками цитат. Ну, навскидку: «Безумству храбрых поем мы песню»; «Человек – это звучит гордо»; «Пусть сильнее грянет буря»; «Ни одна блоха не плоха: все – черненькие, все – прыгают». «Свинцовые мерзости жизни»– это иногда приписывают Чехову, но сказал-то Горький, в повести «Детство». Это частое цитирование обусловлено было, конечно, не только выразительностью горьковских диалогов и хлесткостью определений, но и особым его статусом в советском пантеоне: главный советский прозаик, основатель целого литературного метода, который Бухарин назвал «социалистическим реализмом». Большая трудовая биография, огромный опыт странствий по России – все это предписывалось. Выдумывание «из головы» не приветствовалось. Горький навязывался в качестве литератора, деятеля, мыслителя, друга власти, защитника интеллигенции. В тридцатые ходила острота, что все у нас теперь имени Максима Горького. Самолет «Максим Горький». Пароход «Максим Горький». Парк имени Максима Горького. Да и сама жизнь – максимально горькая. Повторяли это не то Стенич, не то Радек, а то будто бы и Олеша, но художник Юрий Анненков, хорошо его знавший, уверяет, что словцо запустил он сам – самоироничность Горького была общеизвестна. Сказал же он Лидии Сейфуллиной в 1933 году:
«Меня теперь везде приглашают и окружают – почетом. Был у пионеров – стал почетным пионером. У колхозников – почетным колхозником. Вчера посетил душевнобольных. Видимо, стану почетным сумасшедшим».
От всего этого осталось очень мало. Город Горький переименован обратно в Нижний Новгород, из школьной программы исключено основополагающее произведение социалистического реализма «Мать», сочинения Горького переиздаются редко и продаются неважно – скажем, полное собрание, подготовленное издательством «Наука» в семидесятые, уходит в букинистическом за тысячу рублей. А из всех горьковских цитат самой употребительной оказалась в результате одна, никакого отношения не имеющая к безумству храбрых или к гордо звучащему человеку. Это фраза из романа «Жизнь Клима Самгина» – помните сцену, когда в проруби тонет одиннадцатилетний Борис Варавка, заклятый враг Клима? Он провалился под лед вместе с тучной, бесцветной Варей Сомовой и утонул, и что самое странное – его не нашли.
«И особенно поразил Клима чей-то серьезный, недоверчивый вопрос:
– Да был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?»
Вот этот вопрос «А был ли мальчик?» – и есть самая употребительная сегодня горьковская цитата. Для нее теперь самое время. Сегодня кажется, что иначе мы и не жили никогда, что только так и можно, а любые великие задачи и утопические проекты с необходимостью ведут только к ГУЛАГам и отсутствию ширпотреба в магазинах. Была ли великая русская литература, русская интеллигенция, русская революция? Был ли, в конце концов, сам Горький?
2
Кажется, в СССР, как и в каждой настоящей империи, сознавали недолговечность проекта и силу энтропии, поэтому старались оставить как можно больше памятников. Горький увековечивался множество раз, уступая, пожалуй, только Ленину. Ленин почти всегда ораторствует – то выбросив руку вперед, то засунув в карман, то сжав в кулак и прижав к боку, но все это как бы с трибуны или в крайнем случае с броневика. Все памятники Горькому – молодому ли, старому – изображают его словно остановившимся с разбега, замершим после долгого пути: странствовал человек – и вдруг увидел нечто неожиданное, или, как он любил говорить, «изумительное». Вот и застыл в недоумении, даже сняв шляпу, как петербургский памятник напротив станции «Горьковская», как бы изумляясь делу рук человеческих и запечатлевая все в своей уникальной, всевместительной памяти – сам поражался ее всеядности и мучился ею в старости:
«Лет с шестнадцати и по сей день я живу приемником чужих тайн и мыслей, словно бы некий перст незримый начертал на лбу моем: „здесь свалка мусора“. Ох, сколько я знаю и как это трудно забыть».
Это из письма к Леониду Андрееву, в ответ на упрек в холодности и замкнутости. И действительно, контраст налицо: люди часто упрекали его в равнодушии – и они же страстно, готовно, при первой возможности выкладывали ему свои биографии и мнения, и он все это верно запоминал, чтобы когда-нибудь изложить. Запомнил, кстати, и за Андреевым, которого считал единственным другом. Странно, что Горький, этот жесточайший, брезгливый реалист, знаток чужих грязных тайн, умудрявшийся в каждом подметить отвратительную или смешную черточку, – всю жизнь проносил ярлык идеалиста и романтика. Хотя что ж тут странного: романтику и положено ненавидеть действительность, он ее не щадит, любя только мечту. Нет больших мизантропов, чем идеалисты. Потому-то столь многие и считали Горького холодным, расчетливым, никого к себе не допускающим, даже Лев Толстой говорил о нем: «Злой, злой. Ходит, высматривает и все докладывает своему неведомому Богу. А Бог у него урод». В последней по времени биографии Горького, написанной Павлом Басинским, содержится даже предположение, что Горький вполне мог быть инопланетянином, заброшенным сюда для наблюдений и бесконечно чужим всему, что делалось вокруг. То-то и на памятниках он стоит как случайный пришелец, с зоркостью лазутчика и недоумением чужестранца вглядывающийся в нас.
Откуда он пришел?
3
Говорят, люди, взявшие псевдоним, подчеркивают тем изначальную двойственность своей натуры: даже если подлинное имя почти исчезло, заслоненное выдуманным, – маска остается маской. К происхождению горьковского псевдонима мы еще вернемся, но заметим, что пресловутая двойственность стала основой его репутации: мало кого столь часто упрекали в двуличии, двурушничестве и даже двоедушии. Классической в горьковедении стала статья Корнея Чуковского «Две души Максима Горького» – ответ на собственную горьковскую статью «Две души», о разделении России на кровожадную деспотическую Азию и деятельную мыслящую Европу. Трудно сказать, насколько реальный Горький отличался от выдуманного, – биографию свою он излагал многажды, всякий раз с разными деталями, с подтасовками, на которых его ловили, – даже дат рождения у него две. Вспомните, как чествовала его по случаю пятидесятилетия «Всемирная литература» – 16 марта 1919 года. Блок еще записал: «День не простой, а музыкальный. Никогда этого дня не забыть».
Хрестоматийная история его жизни – бродяга, босяк, разнорабочий, выбившийся из нищеты в люди, – тоже не раз подвергалась сомнению. Еще при его жизни Бунин в язвительных мемуарах сводил счеты с былым другом и благодетелем:
«Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? Все повторяют: „Босяк, поднялся со дна моря народного…“ Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: „Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 69-м году, в среде вполне буржуазной: отец – управляющий большой пароходной конторы, мать – дочь богатого купца красильщика“… Дальнейшее никому в точности не ведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю…»
Апофеоз недоверия – в статье Корнея Чуковского «Максим Горький», писанной двадцатью годами раньше:
«Как хотите, а я не верю в его биографию.
Сын мастерового? Босяк? Исходил Россию пешком? Не верю.
По-моему, Горький – сын консисторского чиновника; он окончил Харьковский университет и теперь состоит – ну хотя бы кандидатом на судебные должности. И до сих пор живет при родителях, и в восемь часов пьет чай с молоком и с бутербродами, в час завтракает, а в семь обедает. От спиртных напитков воздерживается: вредно.
И такая аккуратная жизнь, натурально, отражается на его творениях. Написав однажды «Песнь о Соколе», он ровненько и симметрично разделил все мироздание на Ужей и Соколов, да так всю жизнь, с монотонной аккуратностью во всех своих драмах, рассказах, повестях – и действовал в этом направлении».
И дальше приводит штук десять примеров такого разделения – действительно аккуратного, по линейке.
Ну, начнем с того, что Брокгауз Бунину солгал и что Алексей Максимович Пешков родился в Нижнем Новгороде, в два часа ночи 16 марта 1868 года по старому стилю. Его отец – Максим Савватиевич Пешков, мать – Варвара Васильевна, в девичестве Каширина. В один день с ним родились, кстати, великая русская просветительница Екатерина Дашкова, чешский гуманист Ян Коменский, поэт Мерзляков (автор песни «Среди долины ровныя»), а также старший сын Ивана Грозного Иван – согласно легенде, убитый отцом в припадке гнева. Сам отец, Иван Грозный, в этот день, как известно, умер. Набор, как видим, весьма символический.
Басинский в своей книге проводит версию о том, что именно Алексей Пешков стал причиной краха каширинского рода. В общем, убедительно: в трехлетнем возрасте он заболел холерой и заразил отца, который его выхаживал. Это случилось в Астрахани, куда Максим Пешков с семьей был откомандирован пароходством Колчина: он получил там должность конторщика. После его смерти жена там же, в Астрахани, до срока родила второго сына, которого в честь отца назвали Максимом, – но мальчик родился недоношенным и слабым, он умер по дороге обратно в Нижний и похоронен в Саратове.
«Пароход. Глухой шум. Комната. Мимо окон куда-то бежит и пенится очень много воды. Я сижу у окна, круглого, как блин, и смотрю: кроме меня в комнате маленький гробик на столе, среди ее моя мать и бабушка. Я знаю, что в гробе лежит мой брат Максим, родившийся в день смерти отца и умерший через восемь после ее. Этот поступок его указывает на то обстоятельство, что он обладал недюжинным и очень проницательным умом». («Изложение фактов и дум…».)
Возвращение Варвары Пешковой в Нижний как раз и стало причиной краха каширинского красильного дела: братья перессорились из-за дележа наследства, поскольку не хотели уступать сестре ее законную долю. Тогда Василию Каширину пришлось разделиться с сыновьями, оставив Варвару при себе. Дело от этого зачахло, и красильщик Каширин разорился. Конечно, никакой вины Алеши Пешкова во всем этом нет – виноват не он, а холера, да и не в холере дело, а в жадности, – однако способность приносить несчастье он заметил за собой рано. С ним в мир словно входили разлад, беспокойство, повевал ветерок из опасных сфер, – не эту ли свою печоринскую особенность, вообще присущую людям одиноким и самостоятельным, он всю жизнь пытался компенсировать, чуть не насильно благотворительствуя направо и налево?
В конце 1871 года Варвара Каширина с сыном вернулась под отцовский кров, и началась та страшно густая, насыщенная, зверская и по сути совершенно адская жизнь, о которой Горький в 1913 году написал едва ли не самую известную свою прозу – повесть «Детство».
4
«Когда читаешь его книгу „Детство“, – писал Чуковский, – кажется, что читаешь о каторге: столько там драк, зуботычин, убийств. Воры и убийцы окружали его колыбель, и право, не их вина, если он не пошел их путем. Мальчику показывали изо дня в день развороченные черепа и раздробленные скулы. Ему показывали, как в голову женщины вбивать острые железные шпильки, как напяливать на палец слепому докрасна накаленный наперсток, как калечить дубиной родную мать, как швырять в родного отца кирпичами, изрыгая на него идиотски-гнусную ругань. Среди самых близких своих родных он мог бы с гордостью назвать нескольких профессоров поножовщины, поджигателей, громил и убийц. Оба его дяди по матери – дядя Яша и дядя Миша – оба до смерти заколотили своих жен, один одну, а другой двух, убили его друга Цыганка – и убили не топором, а крестом! В десять лет он и сам уже знал, что такое схватить в ярости нож и кинуться с топором на человека».
Дальше Чуковский выводит из этой беспросветной жизни и детского горьковского бунтарства всю так называемую «горьковщину», романтику бури, которая составила эпоху в русской литературе, – но, думается, здесь корень не столько бунта, сколько другой, куда более важной горьковской черты: вечного, врожденного недоверия к человеческой природе. Иной увидит здесь противоречие: да как же «Человек – это великолепно! Человек – это звучит гордо!» Никакого противоречия нет: для Горького все, что не зверство и не истязание, – уже подвиг. Он рассматривает человека от такого минуса, что любое – даже малейшее – проявление милосердия или самовоспитания начинает ему казаться чудом, достойным слез умиления, которые он и проливал в изобилии по любому поводу. Ведь, если называть вещи своими именами, он вырос под властью патологического садиста. Дед его, Василий Каширин, однажды засекший его чуть ли не до смерти, избивавший бабку в молодости целыми сутками, отдыхавший и снова избивавший, – другого названия не заслуживает. Бабушка его, Акулина Ивановна, – одна из самых обаятельных женщин во всей русской литературе: большая, круглая, толстая, с басовитым голосом, с носом-картошкой, с неисчерпаемым запасом сказок, песен, поверий, с неистребимой лаской ко всем встречным и поперечным, с пристрастием к водке, с нищенской кротостью – из рассказов ее можно понять, что в детстве она побиралась Христа ради, но послушать ее – и это хорошо:
«Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой-осенью по городу, а как Гаврило-архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обымет, – так мы подальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по тихой Оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить, земля ласковая, трава бархатная; Пресвятая Богородица цветами осыпала поля, тут тебе радость, тут ли сердцу простор! А матушка-то, бывало, прикроет синие глаза да как заведет песню на великую высоту, – голосок у ней не силен был, а звонок, – и все кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает ее. Хорошо было Христа ради жить! А как минуло мне девять лет, зазорно стало матушке по миру водить меня, застыдилась она и осела на Балахне; кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздниках – по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести, тороплюсь-учусь, хочется скорее помочь матушке-то; бывало, не удается чего – слезы лью. В два года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам; ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки! А я и рада, мне праздник!»
Страшная симметрия есть во всей этой истории, описанной Горьким в «Детстве», – ведь в конце концов и дед Каширин, державший всю семью в страхе, сойдет с ума и будет побираться. Бабушка это и предрекала.
«– Помяни мое слово: горестно накажет нас господь за этого человека! Накажет…
Она не ошиблась: лет через десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами:
– Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то мне бы! Эх вы-и…
Прежнего от него только и осталось, что это горькое, тягучее, волнующее душу:
– Эх вы-и…»
Именно этот эпизод, пронзительный, слезный, несмотря на весь понятный читательский ужас перед дедом Кашириным, скрыто процитирует Розанов в предсмертном письме к Мережковским: «Творожка хочется, пирожка хочется…» Обратится он и к Горькому, с такой же нищенской мольбой о помощи, – часто о нем думал в эти последние годы; и Горький поможет, да поздно. Может быть, в детстве исток не столько его бунтарства, сколько мучительной жалости к людям: он столько навидался этой беспомощности, что в просьбах отказывать не мог. Да и ненависть его к слабым людям, которую так часто называли ницшеанской, – она, конечно, не от культа силы, а от того, что Гейне называл «зубной болью в сердце». Горький ведь так и написал в предсмертной записке, готовясь к юношескому самоубийству, не состоявшемуся, слава богу: «В смерти моей прошу винить Генриха Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце». Он так мучительно переживал сострадание, так часто говорил о содранной, обваренной коже собственного сердца («кожа сердца» – это его словцо, часто у него встречается), что не мог не возненавидеть страдание во всех его проявлениях, ну, а заодно со страданием – и страдальцев. Босяки ему импонируют тем, что никогда ни на что не жалуются. И бабушка не жалуется – у нее всегда все хорошо. Это не дед с его постоянным визгливым «Эх вы-и-и»…
Горький выучился читать в шестилетнем возрасте, по церковной Псалтыри, под руководством деда, с радостным удивлением обнаружившего: «Память у него, слава богу, лошадиная». Вскоре после этого мать выучила его и гражданской печати: сына она воспитывала от случая к случаю, занималась им редко, нерегулярность этих педагогических вспышек компенсировалась их бурностью. Заставляла его километрами заучивать любые стихи – он и заучивал, благодаря все той же памяти, но противился. Ему постоянно хотелось их коверкать, отсюда постоянная горьковская страсть к переделке, пародии, издевательству над каноническими образцами, – он и свой похвальный лист, полученный в Кунавинском начальном училище 18 июня 1878 года, испортил самодельными надписями, расшифровав НСК (Нижегородское Слободское Кунавинское) как «Наше свинское кунавинское». Действительно, смышленый был мальчик. В училище у него была кличка Башлык – он любил там пересказывать сверстникам истории о разбойнике Максиме Башлыке, о котором часто говорил ему дед.
Из Кунавинского училища ему вскоре пришлось уйти, как и уехать из самого Кунавина – пригорода Нижнего, где он жил с матерью и отчимом. Мать во второй раз вышла замуж, когда ему было восемь лет, забрала к себе, но не любила – признавалась, что любить Алексея не может, потому что видела в нем причину смерти первого мужа, действительно любимого. Максимов был младше Варвары Кашириной, бил ее, скоро довел до чахотки. Однажды Алексей увидел, как отчим замахивается ногой на мать, стоящую перед ним на коленях. Он схватил нож – единственную вещь, оставшуюся от отца, – и бросился на отчима с намерением зарезать его и тут же зарезаться самому. Мать его удержала, но оставить его в доме уже не могла: он вернулся к деду. Туда же, с маленьким сыном Николаем, переехала и Варвара Каширина: Максимову отказали от места, и он уехал из города. А 5 августа 1879 года мать Горького умерла от чахотки, и вскоре после ее смерти старик Каширин сказал сироте слова, неизменно поражающие добросердечных читателей «Детства»: «Ну, Лексей, ты – не медаль, на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди…»
Фразой «И пошел я в люди» завершается эта повесть – финал явно обещает, что «в людях» Алешу ждало нечто еще более ужасное, чем в семье, да так оно и вышло отчасти. До шестнадцати лет, до 1884 года будет продолжаться эта жизнь, наполненная, как напишет он впоследствии, «мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом». Кажется, любой труд, кроме радостного, азартного, артельного, творческого, он с тех пор возненавидел: скажем, бесконечно отвращал его труд крестьянский, результаты которого всегда несоизмеримы с затраченными усилиями. Титанически трудоспособный во всем, что касалось его главного ремесла, он от души презирал любую подневольную работу и не находил в ней ни смысла, ни поэзии, чем радикально отличался от певцов народного быта.
5
Уже осенью 1879 года его отдали в «мальчики» в обувной магазин Порхунова на главной улице тогдашнего Нижнего – Большой Покровской. Порхунов запомнился ему как маленький человечек с водянистыми глазами и зелеными зубами, а также с дежурной фразой: «Мальчик должен стоять при двери, как статуй!» Он прислуживал Порхуновым не только в магазине, но и дома, и зимой обварил руку горячими щами, после чего попал в больницу. Пролежав там неделю и прожив лето дома, где все учащались ссоры бабушки с дедушкой, он поступил учеником к чертежнику и строителю Сергееву – правда, чертить ему не довелось: он был там мальчиком на посылках, чистил самовар, колол дрова, мыл полы и лестницы во всей квартире. Жизнь у Сергеевых была невыносимо скучна, и опять все дрались и ссорились, но уже не так грубо и живописно, как в «Детстве», а худосочно, по-мещански. Вот почему повесть «В людях», при всем богатстве материала, не произвела на публику того впечатления, что «Детство», и не имела половины того успеха: в ней очень много скучных людей и нудной работы. Постараемся поскорей миновать этот унылый период: до весны 1880 года Леша Пешков пробыл у Сергеевых, потом сбежал, поступил буфетчиком на пароход «Добрый», который иногда, вопреки своему названию, буксировал по Волге баржи с арестантами – до Камы, до Тобола, до Сибири. На одной из таких барж ехал в сибирскую ссылку Короленко – как раз летом восьмидесятого года, – но Алексей тогда понятия о нем не имел и лишь десять лет спустя явился к нему – уже прославленному журналисту и, по-нынешнему говоря, правозащитнику – с первыми опусами.
Пароходный повар Михаил Акимович Смурый стал в русской литературе фигурой принципиальной: без него никакого писателя Горького не было бы. Это он привил маленькому буфетчику не любовь даже, а страсть к поглощению любых книг в произвольном количестве. Он заставлял Пешкова читать себе вслух – так Алексей ознакомился с «Тарасом Бульбой» и навсегда пленился им. Осенью, однако, рейсы парохода кончились, в ноябре Волга встала, и Пешкова отдали учеником в мастерскую иконописи, к хозяйке, которую он запомнил как мягкую и пьяненькую старушку. Там ему пришлось служить не только иконописцем, но и приказчиком в лавке, торгующей иконами и богослужебными книгами; основной клиентурой были купцы-старообрядцы. Горький вспоминал, что с обязанностями приказчика в свои неполные тринадцать справлялся неплохо, но заманивать покупателей, лебезить и кланяться не умел совершенно. Здесь он, однако, освоил ряд полезных премудростей: в лавке скупали у крестьян иконы древнего письма и продавали потом богатым старообрядцам за сотни рублей. Оценщик выработал свою систему шифров, чтобы надурить продавца, но намекнуть приказчику на истинную стоимость товара: если он говорил «фальша» – товар был подлинный и стоил до сотни, слова «уныние и скорбь» означали десятку, а проклятие в адрес патриарха Никона «Никон-тигр» – четвертной. «Грехи» – покупай. Думается, наблюдение таких сценок, сопровождаемых бурной божбой, не отвращало Горького от веры, а, напротив, подталкивало к ней – создаст же Господь такое чудо, как человек, во всем диапазоне его мерзости и святости! Другим чудом был приказчик Мишка, способный за два часа ухомячить десять фунтов ветчины, запивая ее пивом; эту забаву Алеша Пешков ненавидел, как и налитых, жирных купцов, державших на Мишку пари. Не исключено, что из устного рассказа о ненасытном приказчике, который Горький часто повторял для друзей, прежде чем вставить в повесть, вырос рассказ Бунина «Захар Воробьев» – о мужике-богатыре, выпившем на пари корец водки и умершем от этого. Некоторые детали – перевод часов, например, – совпадают буквально.
Старообрядчество поначалу очень нравилось Пешкову, но с годами он к нему охладел, возненавидев всякое упорствование в предрассудках.
«Эта вера по привычке – одно из наиболее печальных и вредных явлений нашей жизни,– пишет он в «Моих университетах», – в области этой веры, как в тени каменной стены, все новое растет медленно, искаженно, вырастает худосочным. В этой темной вере слишком мало лучей любви, слишком много обиды, озлобления и зависти, всегда дружной с ненавистью. Огонь этой веры – фосфорический блеск гниения».
Отсюда и его богоискательство – поиск новой веры, нового Бога, который еще не существует, но может быть создан. В чем-то эта вера, зародившаяся очень рано, в Нижнем, – сродни учению Николая Федорова, русского космиста, уверенного, что человек рожден выполнить главный божественный завет: осуществить физическое бессмертие и воскрешение всех умерших. Так же и у Горького: Бога еще нет, но можно создать Его по образу и подобию человека, отталкиваясь именно от человечности как от главного чуда. Ход мысли интересный и по-своему логичный – Горький всю жизнь создавал церковь человека, неустанно ища лучшие образцы человеческой природы. В старообрядчестве его больше всего привлекал нонконформизм, вражда к официальной церкви, – но взамен никонианского гнета она предлагала свой, и это Пешкова никак не устраивало. Вдобавок вокруг слишком много врали.
6
Был в нижегородской жизни Пешкова эпизод, о котором он во всех биографиях умалчивал, но рассказывал критику Аркадию Горнфельду (несчастному карлику-калеке, вошедшему в историю литературы, увы, главным образом скандалом с Мандельштамом, описанным в «Четвертой прозе»). Горнфельд был человек талантливый, отличный переводчик, и уж во всяком случае его свидетельства достоверны. Так вот, он рассказывал философу Аарону Штернбергу, что тринадцати– или четырнадцатилетним подростком Горький зашел к отцу Якова Свердлова, влиятельного большевика, впоследствии председателя ЦИКа. Отец Свердлова Михаил держал в Нижнем граверную мастерскую, у него по поручению хозяйки побывал подросток Пешков, и мастер-гравер вдруг ему сказал: «Ты будешь большим писателем». Он уже мечтал тогда о литературной карьере, но никому ни о чем подобном не рассказывал – его поразил пророческий дар старика, который он впоследствии приписывал всем евреям. Может быть, отсюда и знаменитое горьковское юдофильство, ненависть его к малейшим проявлениям антисемитизма, подчеркнутое уважение к еврейской целеустремленности, национальной солидарности, которой так мало у русских, и т. д. Кстати, официальная версия знакомства Горького с семьей Свердловых относится ко времени Всероссийской хозяйственной выставки, к 1896 году. Впоследствии Горький был крестным отцом старшего брата Свердлова – Зиновия – и дал ему свою фамилию.
Из иконописной мастерской он вернулся к чертежнику и строительному подрядчику Сергееву – после старообрядческой среды ему показалось там даже весело, но три года кряду работать десятником, наблюдая, как сначала строят, а потом разбирают уродливые палатки Нижегородской ярмарки, – было, с его точки зрения, вовсе уж бессмысленно. Иногда он ходил подрабатывать грузчиком в порт и там общался со средой весьма колоритной, навевавшей ему, по собственному признанию, мысли о Брет-Гарте, которого он тоже успел проглотить во время неразборчивого юношеского чтения. Там его образованием занялся бывший студент, а ныне вор и поэт Башкин, автор, кстати, известной песни «Хороша я, хороша, плохо я одета, никто замуж не берет девушку за это». По крайней мере, так утверждает Горький, не приводя никаких доказательств. После неудачной попытки устроиться в ярмарочный балаган он решился уехать в Казань и поступить там в университет. Укрепил его в этой мысли гимназист Евреинов, повторявший: «Вы созданы для служения науке!»
В Казани он оказался летом 1884 года. Об университете нечего было и думать, как раз в 1884 году по новому университетскому уставу университеты утратили самостоятельность, руководство их перестало выбираться и стало назначаться, – в общем, Александр III укреплял вертикаль власти. Еще в 1881 году министр внутренних дел Лорис-Меликов получил записку от графа Игнатьева – мол, все террористы обучались в университетах, пора кончать с рассадниками террора… Резко – до 15 процентов – сократилась квота на беднейших студентов, обучаемых за государственный счет. Это было следствие той самой политики Победоносцева, которую так горячо воспринял его воспитанник Александр III: не надо нам столько образованной молодежи, в особенности из числа бедняков, именно это и чревато социальными потрясениями! Чревата потрясениями, как легко было догадаться заранее, оказалась именно эта политика искусственного ограничения университетского образования: студенты взбунтовались, с 1899 года пошла череда студенческих стачек, и в конце концов исключенный студент Карпович в 1901 году убил министра народного просвещения Боголепова. Это лучшая иллюстрация к тому, чем кончаются запретительные меры. Короче, университет не светил, и Горький поступил работать в булочную, принадлежавшую Василию Семенову. Семенов был человек интересный – Горький подробно запечатлел его в очерке «Хозяин» и в рассказе «Коновалов». Сохранились и фотографии – на них Семенов толст и добродушен. Из горьковских характеристик видно, что он, в общем, не зверь – а точней, в нем автор подмечает те же две души, что знал и в себе, и вообще в русском народе. Один глаз у Семенова зеленый, второй серый, сам Семенов в зависимости от настроения то зверь, то добряк, и к Пешкову, которого он за громкий голос прозвал Грохало, относится он то опасливо и враждебно, то поощрительно и дружелюбно.
7
В пекарне Пешков выжил, кажется, только благодаря исключительной физической силе. Работа эта была, по его воспоминаниям, из самых изнурительных.
«Мое дело – превратить 4–5 мешков муки в тесто и оформить его для печения. Тесто нужно хорошо месить, а это делалось руками. Караваи печеного весового хлеба я нес в лавку Деренкова рано утром, часов в 6–7. Затем накладывал большую корзину булками, розанами, сайками-подковками – два, два с половиной пуда и нес ее за город на Арское поле в Родионовский институт, в духовную академию. У меня не хватало времени в баню сходить, я почти не мог читать, так где уж там пропагандой заниматься!»
По утрам Пешков относил хлеб в булочную к Андрею Деренкову. Деренков был народник, обладатель лучшей в городе библиотеки нелегальной литературы, студенты наводняли его лавку днем и ночью; впоследствии, кстати, он за свое народничество попал в «лишенцы» и жил в сибирской ссылке, обратился к Горькому за заступничеством, и тот за полгода до смерти выхлопотал ему пенсию.
Народники Пешкова уважали, восхищались, называли самородком, его все это скорее забавляло, и никакого особого народа он не видел, так что не понимал истерического поклонения, которым его окружали эти кроткие бородачи. Тем не менее всю библиотеку Деренкова – частью переплетенную из журналов, частью рукописную – он проштудировал внимательно. Тогда же он начал писать стихи. В пекарне Семенова познакомился он и с одним из самых обаятельных своих героев – пекарем, бродягой, певцом, запойным алкоголиком Коноваловым. Пожалуй, Запад долго еще будет представлять русских примерно такими, как Горький описал Коновалова: в этом рассказе 1896 года окончательно закрепилось множество национальных стереотипов, а поскольку Горький умел писать просто и выразительно – Коновалова запомнили.
«А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого нет. И все мне в ту пору противеет – и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай они – не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и пить начал…»
Запойный, поющий, тоскующий, огромный, неутомимый, добрый Коновалов – в один миг пропивающий все отложенные деньги, гонимый непонятной своей тоской прочь от всех, кого жалеет и любит, – совсем не похож на горьковских босяков, гордых и озлобленных, действительно выталкивающих себя из жизни. Но не похож он и на крестьян-хищников, на скучных тружеников, больше всего озабоченных выгодой. Коновалов – художник. Этот типаж появился у Горького впервые, да и негде ему было с ним столкнуться до Казани – не так часто он встречается в столь классической чистоте. Конечно, он у Горького додуман, доведен до гротеска, – а все-таки узнаваем мгновенно, и особенно точен автор в главном: этот человек тоже как бы заранее согласился с тем, что он в жизни не нужен. Только это не озлобило его, как босяка, – он мирится с этим совершенно спокойно.
«Я встречал только людей, которые всегда все винили, на все жаловались, упорно отодвигая самих себя в сторону из ряда очевидностей, опровергавших их настойчивые доказательства личной непогрешимости, – они всегда сваливали свои неудачи на безмолвную судьбу, на злых людей… Коновалов судьбу не винил, о людях не говорил. Во всей неурядице личной жизни был виноват только он сам, и чем упорнее я старался доказать ему, что он „жертва среды и условий“, тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности пред самим собой за свою печальную долю… Это было оригинально, но это бесило меня».
Потому и бесило, что в лице Коновалова Горький впервые столкнулся с толстовским, каратаевским типом, с тем маляром Николкой из Достоевского, который и не хочет спасаться, а хочет пострадать; словом, ему впервые встретился тот настоящий русский, о котором столько говорила русская литература. И первым во всей этой литературе Горький наотрез отказался умиляться Коновалову – он решил всем назло показать, до чего доходит его рабское, скотское смирение. Коновалов у него повесился в тюрьме, арестованный за бродяжничество и пересылаемый на родину, в Нижний. И зачем была вся его жизнь – автору решительно непонятно. Здесь и обозначилась главная точка расхождения Горького с русской литературой – не зря «Коноваловым» открывался его первый двухтомник. Кстати, не став идеальным героем, Коновалов все-таки остался в памяти Горького идеальным читателем: он плакал, когда Пешков читал ему «Подлиповцев» Решетникова, и горячо переживал за мужиков Пилу и Сысойку. Впрочем, давно замечено: или читать – или жить…
8
В 1887 году, 16 февраля, умерла бабушка Акулина, проболев две недели, – упала на паперти, расшибла спину. Дед плакал на ее могиле, пережил ее на три месяца и умер 1 мая. А 12 декабря, купив за три рубля на базаре тульский пистолет с четырьмя пулями, покончил с собой сам Алексей Пешков.
Правда, попытка эта оказалась неудачной – даже изучив в анатомическом атласе строение человеческой грудной клетки, он все-таки промахнулся, сердца не задел, пробил легкое. Но если человек решился на такое и выстрелил, причем ранил себя достаточно серьезно, – можно говорить не просто о попытке самоубийства, а о решительном расставании с прежней жизнью и прежним собой, вне зависимости от того, насколько удачным оказалось покушение. В самом деле, с этого момента для девятнадцатилетнего Пешкова что-то окончилось бесповоротно. Пожалуй, до декабря 1887 года он искренне пытался если не приспособиться к миру – до этого он не снисходил, – то по крайней мере примириться с таким его устройством: неправильным, мучительным, отвратительным, но неизбежным. Раз он до такой степени чувствовал себя чужим всему этому – надо устранить себя. Кстати, в предсмертной записке он попросил вскрыть его тело, чтобы посмотреть, что за черт в нем сидит. К счастью, обошлось, да и черт никуда не делся – просто Пешков после неудавшегося самоубийства сделался другим человеком, твердо решившим не себя устранять, а мир переделать. В бреду он слышит четвертый кондак из великопостной службы: «Ныне время делательное явися, при дверех суд», а когда слышит слова соседа-учителя, умирающего от рака, о том, что надо смириться и не хотеть невозможного, – в нем крепнет «желание сопротивляться всему, что непонятно, раздражает, и – упрощенным ответам в том числе». Вообще в рассказе «Случай из жизни Макара», писанном на Капри в 1912 году и явно в ответ на эпидемию самоубийств в России – тогда много об этом писали, ища причины повального самоуничтожения, особенно среди молодежи, – все правда, включая фамилию профессора Студентского, который Пешкова приговорил. «Макар» придуман не ради того, чтобы как-то дистанцироваться от этой истории, а наоборот – чтобы сделать ее более типичной: я, мол, не о себе, я, в сущности, о любом. Кстати, схема будущего горьковского, а покамест пешковского отношения к жизни и смерти в этом рассказе дана очень наглядно: когда Студентский говорит, что раненый и двух дней не проживет, – этот самый раненый хватает стоящую у постели бутыль хлоралгидрата и начинает из нее глотать: раз помирать, так чтобы уж скорее, всем назло, в том числе и профессору. «Назло» – это очень точный мотив горьковского самоубийства: не хотите жить по-моему, по-человечески, – живите без меня. Как можно оставаться в мире, где профессор при еще живом пациенте вслух, для ординарцев, дает ему смертельный прогноз?! Но после хлоралгидрата его откачали, и на третий день ему захотелось уже не умирать назло этому миру, а жить вопреки ему: близость смерти – серьезная верификация, и она окончательно укрепила Пешкова в мысли, что прав он, а не мир. Убедился он в этом вот как: все две недели своего больничного выздоровления он ждал человеческого слова. Не дождался ни от кого, даже от хорошенькой приказчицы Насти, работавшей в булочной Деренкова: она пришла и принялась рассказывать, как ей было весело вчера кататься с горы с подругами. Но потом вдруг явился добрый старый сторож-татарин, который и спас самоубийцу, заметив его в снегу, – и это единственное человеческое слово перевесило всю злость и скуку мира. А потом явились к нему трое рабочих, пекарь с двумя приятелями, – ничего особо идейного, слава богу, они ему не говорят, просто изо всех сил стараются казаться спокойными и развязными, но и этого довольно, чтобы он почти расплакался. А потом один из них укоризненно шепчет:
– Как же… братцы, говорил… правда, говорил… а сам?
«Смеясь, плача, задыхаясь от радости, тиская две разные руки, ничего не видя и всем существом чувствуя, что он выздоровел на долгую, упрямую жизнь, Макар молчал. За окнами густо падал снег, хороня прошлое».
9
Вот так он и родился заново – на долгую упрямую жизнь. Некоторое время после этого он еще поработал у Семенова, поучаствовал в небольшой забастовке крендельщиков – но они легко примирились с хозяином, а это Пешкова не устраивало. Вскоре он вернулся в булочную к Деренкову, там познакомился с народником Михаилом Ромасем и под влиянием народнической, а отчасти толстовской проповеди отправился в село Красновидово. Ромась был из железнодорожных рабочих, успел побывать в якутской ссылке, Пешкова привлекал немногословием и серьезностью. Заметив, что Пешков не находит себе места, тоскует, явно перерос и рабочую, и студенческую среду и не видит достойного собеседника, – он позвал его пожить в село, где уже год держал лавку и библиотеку. Впечатление Пешкова от Красновидова определило его отношение к деревне на годы: крестьянства он очень не любил, не верил в него и особенно поражался злобе, с которой тут смотрели на чужаков. В первый же свой красновидовский день он думает: «Как-то я буду жить здесь?» Ромась первый сказал ему золотые слова: «Народ любить нельзя». Любить – значит снисходить, прощать, безоглядно восхищаться, а восхищаться нечем – это трезвый народник Ромась видит лучше прочих. Свобода мужикам не нужна – они сами говорят: «При господах лучше жили, к земле мужик не прикреплен». Горький настаивает на точности всего, о чем пишет в «Моих университетах», специально делает сноску, что плохо помнит фамилии мужиков, – но за точность, стало быть, ручается: мужики тоскуют по крепостному праву.