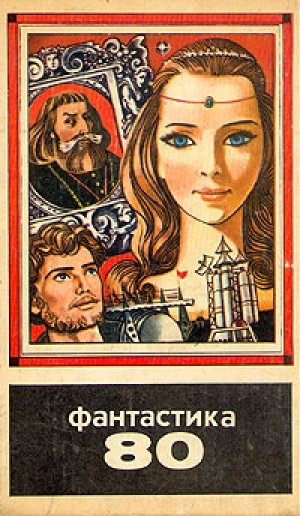
Хотя было уже начало седьмого, кафе все еще оставалось полупустым, и Ганшин увидел ее, едва вернувшись в зал. Час назад, когда она шла к нему, Ганшин тоже смотрел на нее, но тогда — сидящему — она казалась выше, строже, пожалуй, даже недоступнее. Или нет, отчужденнее. Впрочем, можно ли говорить об отчужденности, видя человека впервые? Когда Ганшин поднялся ей навстречу, оказалось, что не так уж она и высока — чуть выше ганшинского плеча. А сейчас, сидящая, чуть ссутулившаяся, она казалась и вовсе маленькой, хрупкой, и потому еще более привлекательной. И почему красивые женщины вечно достаются таким, как Йензен? Ганшин даже замер на полушаге, сообразив, что думает о Йензене как о живом. Да что же это?
Женщина за его столиком шевельнулась, и в движении ее Ганшину почудилось нетерпение. Он ускорил шаг:
— Договорился, — сказал он, садясь. Столики здесь были необычные, треугольные с вогнутыми сторонами. Массивная колонка подающего канала, служившая одновременно единственной ножкой, придавала им сходство с какими-то невиданными грибами. — Теперь весь вечер наш.
— Спасибо. Ваш друг не обиделся?
— Нет, — не испытывая особых угрызений совести, соврал Ганшин. — Он понятливый. И знаете что? По-моему, нам обоим стоило бы выпить.
Женщина вопросительно посмотрела на него.
— Чего-нибудь покрепче, — уточнил Ганшин.
— Здесь этого не подают.
— Ну, это не беда. — Ганшин поймал себя на том, что ему почему-то трудно называть ее по имени и фазы сами собой организуются в этакие безличные обороты. Чтобы пересилить себя, он старательно вдавил в разговор ее имя: Ора. — Это-то, Ора, не беда. Нам подадут. Главное — было бы желание. А оно у нас есть?
Ора кивнула. Она вообще говорила мало, короткими, четкими фразами, но не от скованности, а скорее от избытка силы. Причем Ганшина сила эта не подавляла, хотя обычно он сторонился таких вот женщин, под чьим взглядом вечно чувствуешь себя нашкодившим школьником, мучительно доискиваясь, когда и что сделал не то и не так. С Орой он сразу же почувствовал себя уверенно и спокойно. Потому, наверное, что был в ее немногословии интерес — пусть не к нему, а к тому, что он должен рассказать. Интерес, помноженный на редкостное умение слушать.
— Эт-то, Ора, не беда, — повторил Ганшин, запустив руку под стол и нашаривая кнопку запора. — С этим мы управимся. Нам подадут. — Кнопка наконец нашлась. Ганшин выдернул шплинт, вдавил ее, потом подцепил ногтем крышку податчика. — Знаем мы эту систему. «Ауста» называется. Знатоки говорят, что от «аустерии» — были во время оно заведения такие. Только вы, Ора, им не верьте, снобы они и все врут. Потому как на самом деле это всего-навсего АУ-100. Она, между прочим, единая, «Ауста», — и сюда выходы имеет, и в «Эксцельсиор»… — Ганшин привстал и посмотрел схему. — Так что мы сейчас ограничитель того… долой, и все в порядке будет. — Он порылся в карманах. — Ора, а шпилька у вас есть?
— Есть. — Впервые за полтора часа их знакомства в голосе ее промелькнуло что-то похожее на удивление. Она вытащила из прически шпильку, слава богу, металлическую, потому что окажись она пластмассовой, — и горел бы Ганшин синим огнем вместе со своим электронным гусарством. Он согнул шпильку скобой и обошел ею ограничитель.
— Ну вот и все, Ора. И вся недолга. — Ганшин закрыл крышку и воровато оглянулся. Вроде бы его самоуправства никто не заметил. Впрочем, столик их был угловым, да и сидел Ганшин спиной к залу. — Что же мы будем пить?
— Коктейль, пожалуй. Только не слишком сладкий. Из мимикрических соображений лучше и не придумаешь: бокалы одинаковые, поди отличи алкогольный коктейль от безалкогольного. И что несладкий тоже хорошо. Почудилось в этом Ганшину какое-то доброе предзнаменование. Словно неявное обещание. Эх, зря назначила она встречу здесь, в этом дурацком пригородном кафе, где даже выпить нельзя по-человечески! Но в другом заведении он лишился бы возможности вот так тянуть время, исподтишка любуясь сотрапезницей и демонстрируя ей свой технический гений. Ганшин прокрутил карту напитков, чертыхнулся про себя, — конечно же, вымарано все крепче лимонада! — по памяти набрал код. Через минуту крышка податчика утонула и тотчас возвратилась с двумя искрящимися сахарным ободком фужерами.
— Браво, — сказала Ора. — Сразу видно специалиста. Ганшин попробовал. Не «солнышко», конечно, но вполне прилично. Итак, антракт окончен. Продолжим наши экзерсисы.
Ора сосредоточенно гоняла в фужере соломинкой ягоду, которая то всплывала, то медленно шла ко дну. В молчании Оры Ганшин явно ощущал ожидание. Господи, ну зачем ей это нужно? На кой черт красивой молодой женщине так себя травить? Ведь давно же разошлась она с Йензеном. Четыре года ведь. И лучше бы не ворошить ей сейчас это старое, отболевшее. Лучше бы потанцевать сейчас, а потом…
Бра на стенах потускнели и сникли, как увядшие колокольчики. Ударили цветные прожектора, высветив в центре зала эллипс, в котором уже замерли в ожидании две или три пары. Разом, безо всякой постепенности зарождения, упала музыка — что-то похожее на свинг, только помедленнее и поголубее. Ноги Ганшина невольно напряглись, ловя ритм, но тут Ора посмотрела на него, просто скользнула по лицу взглядом, быстрым и легким, и он сразу же понял, что сейчас нельзя, ни в коем случае нельзя.
Не торопись, сказал он себе. Не торопись. Отдадим долг прошлому. Мертвому прошлому. А потом — потом будет все. Потому что мы-то живы, и наше дело жить.
Но все равно ладони Ганшина ощущали упругость ее талии, он чувствовал щекой тепло ее дыхания, а выбившийся из прически волос озорно щекотал висок. И чтобы прогнать это наваждение, он начал наконец рассказ, ради которого Ора разыскала его, позвонила по телефону и пригласила сюда.
Приглашение было неожиданным, и Ганшин долго не мог взять в толк, чего, собственно, хочет от него незнакомая женщина на другом конце провода, так бесцеремонно ворвавшаяся в его сон. Телефон в этой заштатной гостинице был старинный, безэкранный, и это раздражало, хотя, с другой стороны, было совсем неплохо, что собеседница не может увидеть Ганшина — в полосатой не по росту Витькиной пижаме, с опухшей то ли со сна, то ли после вчерашнего физиономией. Потом до него наконец дошло, и он заколебался, потому что вовсе не горел желанием вспоминать эту историю, в которой так и осталось что-то непонятое, недосказанное, смутное. И он уже совсем было приготовился повежливее соврать что-нибудь подходящее: простите, мол, срочная командировка, мы же энергетикимеждународники, сами знаете, жизнь на колесах, так что с удовольствием, но как-нибудь в другой раз…
— Мне нужно знать, как все было, — сказала Ора. — Мне нужно знать.
И столько требовательности прозвучало в этом «нужно», что Ганшин сдался, чему откровенно радовался теперь, здесь, в кафе, сидя рядом с женщиной по имени Ора, при виде которой очень хочется жить… И раз ей нужно пожалуйста, он расскажет, он все расскажет, особенно если сообразит, с чего же начать.
Но ничего путного в голову не приходило, и Ганшин начал от Адама, то есть с того самого момента, когда в иллюминаторе межорбитального подкидыша сперва стремительно вырос, а потом, заслоняя Землю, скользнул вниз диск полей гелиостанции и совсем рядом оказался полосатый борт ее корпуса, освещенный мощным корабельным прожектором. Тогда наступила невесомость, и они с Юлькой поплыли в кессон, где здоровенный бортмеханик с неснимаемой — от уха до уха — улыбкой помог им надеть скафандры, проверил жизнеобеспечение и гулко хлопнул по спинам (Юлька отлетела к стене и взвизгнула, а механик, зардевшись, с неожиданной при такой массе прытью смылся внутрь, так и не сказав им на прощание традиционного «хоп!»).
Ганшин надеялся, что Ора перебьет его, попросит поскорее перейти к тому, главному, хотя бы каким-то наводящим вопросов введет его рассказ в нужное русло. Но она молчала, молчала и слушала, и лицо ее при этом было удивительно живым, остро и быстро реагирующим на каждое его, Ганшина, слово. Только вот не всегда можно было понять, истолковать ее реакцию, но сейчас Ганшин не придавал этому большого значения. Она слушала, и, значит, ей было нужно все, о чем он говорил. А раз так, надо было продолжать, продолжать столь же подробно и пространно, и это было хорошо, потому что Ганшин, как ни крути, не очень-то понимал, что именно хочет она от него услышать.
Он подробно описал станцию. Ни к Йензену, ни тем более к этой женщине орбитальная гелиоэлектростанция никакого отношения не имела, если не считать того, что погиб Йензен именно здесь, точнее — по дороге сюда, а женщину эту интересовала гибель Йензена, которого она бросила четыре года назад.
Станция на суточной орбите висела над Сейшельскими островами — этакий паучок с махоньким туловищем и двухкилометровыми ножками. Из брюшка паука высовывался параболоид передающей антенны, а на ажурных фермах ножек была натянута пленка, превращавшая солнечный свет в пятнадцать тысяч мегаватт даровой энергии, непрерывным потоком микроволнового излучения низвергавшейся вниз, в пасть энергоприемника на Сейшелах. Конечно, внешнее сходство это было весьма отдаленным, и, чтобы уловить его, требовалась фантазия древнего звездочета, узревшего в ковше профиль Большой Медведицы. Но кто-то все же его заметил, и обе запущенные в рамках программы Международного года развивающихся стран орбитальные гелиоэлектростанции были названы «Арабелла» и «Анита» — в честь крестовиков, когда-то первыми очутившихся в Приземелье на борту «Скайлэба». Полностью автоматизированные, станции лишь раз в два года требовали профилактического осмотра и замены вышедших из строя солнечных батарей, если количество поврежденных ячеек превышало расчетные семь процентов. Вот на такую-то профилактику, пятую в жизни «Арабеллы», и прилетели сюда Ганшин с Юлькой, более известной в управлении как «инженер-инженю».
Профилактика — это курорт. Рабочий день — прелесть! — семьдесят две минуты в сутки, пока станция проходит тень Земли. Остальным временем каждый распоряжается по своему усмотрению. Как распоряжалась им предыдущая пара, Ганшин выяснил, едва войдя в жилую каюту, он добрых четверть часа ловил порхающие по ней карты (добро бы еще просто карты, а то ведь эта… сингапурская продукция!), твердо решив сразу же по возвращении узнать имена предшественников и дать им хорошего дрозда, а заодно благословляя предусмотрительность, с которой он оставил Юльку наводить порядок на складе.
О самой профилактике рассказывать Ганшин не стал: рутинка это. Скукота. Иное дело гостевание. Гостевание было плодом его собственных вдохновенных исканий, и он со смаком живописал Оре, как мучил компьютер астронавигационной службы запросами об орбитах спутников ближайших горизонтов, ловя моменты наибольшего сближения. Среди спутников, которые в моменты противостояния (за точность применения термина Ганшин поручиться не мог, но Ора вряд ли уловила бы эту его вольность) оказывались в пределах достигаемости для маленького двухместного скуттерка «Арабеллы», была обсерватория — орбитальный филиал Памирской. И уже на второй день они с Юлькой отправились туда с визитом. Бездельники в Приземелье — не то что редкость, а попросту явление уникальное, и потому их неожиданный визит застал астрономов врасплох; но ведь в космосе даже месячная вахта — это срок, и любой свежий человек воспринимается чуть ли не как ближайший родственник, по которому до смерти истосковались. И потому радушию хозяев не было предела, тем более что Юлькины охи и ахи умасливали их сердца, в то время как Ганшин с двумя инженерами из техобслуги расписывал в кают-компании «пульку». Вот тут-то из случайно оброненной кем-то фразы Ганшин и узнал, что на «СОС-третьем» (это ж рукой подать, километров сто в противостоянии!) начальником… Кто б вы думали? Ашотик Антарян собственной персоной! Бог ты мой, Ашотик, семь лет за одной партой, нога, сломанная на западном склоне Аханари, а в девятнадцать — бросок на плотах. По Урте… Ну дела, на Земле в одном городе месяцами, да что там — годами времени встретиться не находим, а стоило в Приземелье вылезти — на тебе, сосед, заходи, дорогой, гостем будешь! Во всяком случае, именно так сказал назавтра Ашот, когда Ганшин связался с ним по радио. А без четверти шесть по среднеевропейскому Ганшин уже оседлал скуттер, и, подстраховав Юльку для вящей надежности коротеньким фалом, повел его, повинуясь командам астрогационного компьютера, к той точке, где через четверть часа должен был оказаться «Третий-СОС».
Здесь Ганшин дал себе передышку. Ора слушала его попрежнему внимательно, но теперь он уже и сам чувствовал, что подходит к главному, к тому, что и нужно ей, этой упорной тоненькой женщине с необычным именем. Вот только зачем? Ведь быть не может, чтобы до сих пор любила она Йензена, Бывает, конечно, — бросают, продолжая любить… Но здесь другое! Ганшин нутром чуял это, чуял какую-то противоестественность в настырном ее стремлении знать, да и та Юлькина фраза всплыла вдруг и упорно не хотела уходить. Какая там любовь! Это было любопытство, холодное, хирургически-острое, болезненная почти потребность убедиться в чем-то, может быть, для нее очень важном.
Танцы кончились, и в зале вспыхнул свет. Ганшин хотел было заказать еще по коктейлю, но тут сообразил, что обедал он часа в два, а посему сейчас самое время поужинать. Он поделился этой мыслью с Орой, и та признала ее полную обоснованность. Тогда, предоставив ей разбираться в меню («Только миног, пожалуйста, не надо. И синтикры тоже»), Ганшин чуть убавил свет ближайшего бра, затем утопил в торец столешницы голубую кнопку изола. С потолка упала тонкая завеса, упершаяся в неширокий желобок, дугой опоясывавший столик. Завеса была почти прозрачная, но не настолько, чтобы сквозь нее можно было смотреть, она была тонкая и живая — пленка воды, непрерывно падавшей с легким, гасящим все посторонние звуки шорохом.
Теперь они были только вдвоем, и заполнившийся уже зал перестал для них существовать. Ора сидела напротив, совсем близко, она склонилась над прорезью, в которой строка за строкой проползало меню. Правая ее рука изредка нажимала клавишу заказа, а левая свободно лежала на столе — узкая кисть с тонкими нервными пальцами и лекально вычерченными лунками на удлиненных ногтях. Еще час назад Ганшина так и подмывало бы положить на эту руку свою, чтобы почувствовать ее бархатистое тепло, но сейчас что-то сковало его, не только в поступках, но и в желаниях; бессознательно он боялся оказаться этаким Пигмалионом навыворот, ощутить вместо теплой плоти искристый холод мрамора.
Заметив, что Ора уже закончила заказ и теперь сгоняет меню на ноль, он быстро сунул в прорезь свой кредитный жетон. Поршень податчика засновал вверх-вниз, Ора быстрыми и удивительно экономными (так, наверное, действовал бы идеальный робот) движениями расставляла по столу приносимые им тарелочки и чашки, и Ганшин снова залюбовался отточенным совершенством ее рук, которые и ласкать, наверное, умели с таким же совершенством. Но одновременно с этой мыслью выросла перед ним взлохмаченная тень Йензена, которого эти руки ласкали, и где-то в глубине души зашевелилась ревность, древняя и дремучая, особенно болезненная потому, что изменить уже было ничего нельзя, все было в прошлом, только в прошлом, над которым не властен никто, кроме мертвого Йензена.
Ганшин собирался за ужином вести разговор светский и легкий, оставив в стороне воспоминания, но теперь ему стало ясно, что с этим надо кончать, кончать как можно скорее, хотя именно эти воспоминания и соединяли их, а потом связь могла оборваться столь же быстро и неожиданно, как возникла. И Ора тоже, как видно, почувствовала это, потому что подняла на Ганшина свои карие с золотистыми искрами глаза и спросила:
— Тогда вы и познакомились с Хорхе?
— Да. Но не сразу.
Потому что в кессоне по всем правилам приземсльского гостеприимства их встретил Ашот, и они пошли в его каюту, а двое ребят завладели Юлькой и тут же потащили ее осматривать все, куда можно было сунуть ее курносый нос. И куда нельзя — тоже. Был у Юльки такой дар — пожелай она, и для нее сняли бы даже защитный кожух с реактора, чтобы показать, как оно там внутри…
А тем временем Ганшин сидел с Ашотом в тесной каютке, которую тот делил со своим заместителем, доктором Йензеном из Исследовательского центра имени Эймса. На экране, заменявшем здесь иллюминатор, клубилась под координатной сеткой Земля, то есть, конечно, не вся Земля, а кусок Южной Атлантики, закрытый разводами почти непроницаемой облачности. Изображение было сильно увеличенным, но Ганшина это не удивляло: ведь «СОС-третий», как и оба других спутника Службы охраны среды ООН, занимался наблюдением земной поверхности. Появление орбитальных гелиостанций, потоками микроволнового излучения сильно осложнивших приземельскую астрогацию, вынудило поднять орбиты постоянных и обитаемых спутников почти до уровня стационарных, и наблюдения теперь приходилось вести не столько визуально, сколько инструментально. К тому же нижние горизонты были сильно захламлены старыми, отслужившими свой век спутниками, носителями и их частями, которые сейчас «мирмеки» недавно созданной Службы очистки, в просторечии именуемые мусорщиками, сволакивали в Лагранжевы точки, ставшие первыми в истории внеземными свалками.
Ганшин с Ашотом проболтали часа полтора, не меньше, а потом в дверь просунулась чья-то лопоухая голова, возвестившая что «ужин подан, джентльмены», и они поплыли в салон, как именовали здесь кают-компанию, где был уже сервирован стол и где собрались все свободные от вахты, а центром внимания — ну как же иначе?! — была Юлька, глядевшая на всех своими хлопающими глазищами, и Ганшину в который уже раз стало чуть-чуть тоскливо, потому что на него она никогда не смотрела так.
Ашот представил всех Ганшину. Обладатель лопоухой головы оказался старшим оператором комплекса ЕРЕП, доктором Рихардом Вильком из Познаньского института экологии; тощий верзила, в патрицианской позе повисший у стола, как выяснилось, был ни много ни мало сэр Роберт Чарлз Ренделл, семнадцатый граф Кроуфорд, эрл Саутбриджский, причем этот самый сэр и эрл нахально и противно ржал, пока Ашот с каменной физиономией произносил неудобоваримую титулатуру; впоследствии, впрочем, сэр и эрл, откликавшийся в быту на гораздо более банальное обращение «доктор Ренделл», оказался парнем общительным и свойским.
О третьем, докторе Йензене, Ашот уже успел кое-что порассказать. В Службе охраны среды он был притчей во языцех. Полуиспанец-полудатчанин по происхождению и американец по подданству, Хорхе Йензен окончил Колумбийский университет, получил стипендию Национального фонда поощрения и три года стажировался у Мрнявчевича в Дубровнике. Потом его пригласили в Центр имени Эймса, откуда впоследствии он и был откомандирован в распоряжение Службы охраны среды ООН. Первые года два он работал как и все, три раза нес месячные вахты на спутниках — тогда как раз проходил Международный год охраны среды. А потом начались чудеса. Как Йензен этого добился — осталось тайной, разгадку которой знал только он сам да еще старик Эбервальд. Известно одно: вот уже три года, как Йензен не возвращался на Землю, за исключением коротких спусков для медицинского переосвидетельствования. На спутниках Службы, где каждый проводил не больше месяца, а своей очереди дожидались многие, это было даже не ЧП, а чудо.
Ганшину Йензен не понравился. И в словах, и во всем его облике, в манере держаться сквозила какая-то поперечность, этакое ерничанье, от которого Ганшина передергивало, и он мог лишь дивиться долготерпению Антаряна, не только уживавшегося с этим типом, но и относившегося к нему с явным уважением.
— Он превосходный специалист, Коля, — сказал Ашот. — Превосходнейший. Ну а характер… Тут все мы не без греха. В конце концов, не зря же я, психолог, ем хлеб Службы: вот и уживаемся. И неплохо уживаемся, поверь.
Стычка началась внезапно, и Ганшин, увлеченный болтовней с Ашотом и салатом из крабов (к тому же из натуральных, а не синтетических), даже не понял, с чего именно. Вполуха он слышал, правда, как Юлька вытягивала что-то из доктора Вилька, которого уже запросто называла Рыхом. Тот, стосковавшись по женскому обществу и млея от Юлькиного любопытства, рассказывал ей об облысении автострад, наблюдением за которыми он занимался, а Юлька, хитрюга, конечно, таращилась на него и — вся внимание — даже чуть-чуть высовывала кончик языка, ни дать ни взять школьница, увлеченная списыванием.
Тут-то Йензен и встрял в разговор, причем с ходу в повышенном тоне, словно продолжая какой-то старый спор.
Ну и что? К чему все эти вздохи скорби? Ему, Йензену, например, совершенно непонятно, из-за чего тратить столько эмоций. Ну, облысение автострад. Лес, видите, ли, гибнет… Да, гибнет. Ну и что? Это же естественно. С того самого часа, как человек стал человеком, он начал создавать вокруг себя вторую природу. И с этого самого момента первая была уже обречена. Это диктуют законы развития нашей цивилизации, столь же объективные, как Ньютоновы. Ибо наша цивилизация — цивилизация технологическая.
Агония первой природы? Ну и что? Ведь на ее месте вырастает вторая, которая и есть единственная настоящая, естественная среда обитания человека. Вот, например, здесь, на спутниках. Где здесь первая природа? Нет ее. А он, Йензен, живет здесь уже три года и жаловаться ему пока ни на что не приходилось.
Юлька пыталась возражать, ее поддержал сэр и эрл, а с ним еще один из наблюдателей, имени которого Ганшин не запомнил. Но Йензен спорил, и в логике отказать ему было нельзя, хотя то ожесточение, почти озлобление, с которым он говорил, невольно отталкивало, потому что было необъяснимо, словно бы этот достаточно отвлеченный спор задевал в Йензене что-то глубоко личное, интимное и больное.
И когда разошедшийся Йензен стал живописать блестящее человеческое будущее, лирическую сценку из жизни двадцать второго века, любовное свидание парочки, облаченной в изящные скафандры, возлежащей на полиэтиленовой горе у берега радужнонефтяного океана, Ганшин почувствовал, что больше не может его слушать. Ему было тошно. Он встал, и вместе с ним ушел Ашот, они вернулись в каюту, и Ганшин как-то упустил из виду Юльку, которая снова исчезла с кем-то, удовлетворяя ненасытное свое любопытство.
На борт «Арабеллы» они вернулись всего за полчаса до начала своего семидесятидвухминутного рабочего дня.
Следующие трое суток им все же пришлось потрудиться всерьез, потому что, кроме замены поврежденных ячеек солнечных батарей — квадратных, десять на десять метров полотнищ пленки, покрытой арсенидом галлия, — нужно было еще подготовить станцию к очередной консервации. Уставали они изрядно, к тому же Ганшин был обижен явным Юлькиным невниманием к своей особе. В общемто ему было наплевать на это, конечно, но и немного царапало по самолюбию.
А в субботу вечером Юлька вдруг уединилась в каюте, чтобы через час выйти оттуда в таком виде, что Ганшин аж застонал: куда делся его «инженер-инженю»? Вместо него появилась этакая юная принцесса, перед которой невольно хотелось преклонить колено, салютовать шпагой и вообще… как это?.. «Дайте мне мантилью, дайте мне гитару…» Как она ухитрилась протащить с собой такое платье, да еще и приделать магнитные подковы к серебряным туфелькам с какими-то хитрыми блестящими пряжками? Куда, ну куда смотрит космодромный контроль?!
Вот оно что! Оказывается, это невинное создание умудрилось договориться об ответном визите, который через час должен нанести им Йензен… Прекрасно. Особенно если учесть, что Ганшин, ее непосредственный начальник, об этом ничего знать не знал.
— А вы слышали о существовании субординации, инженер?
Ганшин чувствовал, что, рассказывая все это, причиняет Оре боль, но не мог уже сдержаться, даже больше, чем стоило, акцентируя этот эпизод. Делать этого явно не следовало, но должен же он был хоть как-то сквитаться с Йензеном, счастливчиком Йензеном, который манил женщин, как манит чаек маяк, мертвым Йензеном, даже сейчас сидевшим за этим треугольным столиком рядом с ним.
В сердцах Ганшин напялил скафандр и вышел в кессон, тем более что вчера забарахлил механизм внешней двери. Может, это даже и помстилось, но Ганшин решил все же для очистки совести поковыряться в нем. Он ковырялся с полчаса, нашел, в чем дело, но тут — бог знает, как это получилось — у него выпала из рук универсальная отвертка, да еще поводок соскочил с карабина, и она махонькая серебряная рыбка — улетела куда-то, и ловить ее теперь имело смысла не больше, чем злиться на Юльку. Ганшин вконец рассвирепел: ведь об этой ерунде придется докладывать теперь всем и вся, потому что это ЧП седьмой категории, и компьютер астрогационной службы, оценив предварительно силу и направление броска, рассчитает гипотетическую орбиту этой злосчастной отвертки, и включат ее, грешную, в Женевский каталог под какимнибудь номером 11788493, где и будет она значиться до тех пор, пока не попадет в трал одного из мусорщиков и сортировщик не сообщит куда следует, что отвертка универсальная с клеймом Московского инструментального завода поступила на свалку Лагранж-2… Ганшин задвинул крышку приводного механизма двери и сел на комингс, свесив ноги наружу. Собственно, он, конечно, не сидел, просто такая поза казалась привычнее и естественнее. Непринужденнее.
Так он и сидел, глядя, как глубоко внизу медленно проползают позиционные огни не то межорбитального буксира, не то мусорщика, — в таких тонкостях он разбирался плохо. Потом он взглянул на часы: по расчету времени Йензену пора бы уже появиться. Ганшин поднял глаза и тотчас увидел три огонька — красный, зеленый и белый пульсирующий, — стремительно несшихся прямо на него. Йензен в самом деле был асом малого пилотажа, — его скуттер шел прямо на открытый люк кессона. Только почему он не снижает скорость? Сбрось, сбрось, болван! Адмиральским подходом блеснуть хочешь, что ли?
Ганшин сам не понял, в какой момент до него дошло, что затормозить Йензен уже не сможет. То ли с двигателем что-то случилось, то ли… Ганшин рванулся, с ходу дал максимальный импульс, потом был удар, его закрутило, понесло, он обеими руками вцепился в раму скуттера и только жал и жал на клавишу своего ранцевого движка. Затем он почувствовал, что удалось, что борт «Арабеллы» скользит под ними, и, значит, они избежали-таки самого страшного. Наверное, на несколько секунд он все же потерял сознание, потому что позиционные огни станции оказались вдруг уже далеко. Боль чуть-чуть отошла, и Ганшин смог перебраться к пульту управления скуттера. С двигателем все было в порядке. Йензен явно был без сознания.
Ганшин примостился сбоку на раме и начал разворачивать скуттер к станции, попутно благословляя судьбу за то, что во время этой скачки с препятствиями они не изорвали солнечных батарей. Тото работы было бы! Потом он перетащил Йензена в кессон, кое-как стянул с него скафандр и только тогда — вдруг, разом — понял, что Йензен мертв. Мертвее, чем вакуум Приземелья.
Все завертелось, потому что смерть — это ЧП первой категории. Через сорок минут примчался Ашот, потом прибыл со старт-спутника врач, который смог лишь констатировать то, что было ясно и так, вскрытие же на «Арабелле» проводить было невозможно, и тело (теперь уже просто тело) увезли на старт-спутник, откуда ближайший подкидыш должен был доставить его на Землю. И еще была Юлька, в какой-то совершенно нечеловеческой позе вжавшаяся в угол. Она смотрела на Ганшина, но не видела его, и Ганшин не стал подходить к ней. А когда с ней попытался заговорить Ашот, она вдруг негромко, но очень отчетливо произнесла:
— Все-таки она его добила…
— Кто — она?
— Неважно. Теперь уже неважно. Но и вы — вы тоже. Юлька вдруг дернулась, вскочила, — боже, до чего неуместны было сейчас ее платье и эти туфельки со сверкающими пряжками! — уткнулась носом в Ашота и заплакала, совсем по-девчоночьи, всхлипывая и хлюпая носом, и от этого Ганшину вдруг стало легче.
— Ашот, — бормотала Юлька, — вы же психолог, Ашот, как же вы… Ведь он же… Сломанный он был. А вы… Вы его должны были… на Землю. Давно уже на Землю. А теперь…
Потом она кое-как успокоилась, выпила какое-то зелье, которое подсунул ей врач со старт-спутника, и Ганшин уложил ее в сетку в каюте, и она так и заснула в этом своем платье с высоким стоячим воротником.
Им пришлось задержаться на «Арабелле» еще на два дня, потому что назавтра прибыл с Земли старший инспектор космического отдела Интерпола, до безумия вежливый и обходительный не то индиец, не то непалец по имени Рахия Бадхидарма, присланный потому, что умер Йензен, как показало вскрытие, от асфиксии, в то время как баллон был цел, а запас кислорода в нем был полным. Ганшин давал показания, потом повторял их уже на Земле, и лишь много позже узнал, что все дело было в манометре: крошечный микрометеорит, силы которого едваедва хватило на то, чтобы пробить стенку манометра и заклинить собой канал, этот микрометеорит убил Йензена, потому что манометр показывал ноль при полном баллоне, а Йензен оказался не в состоянии не поверить прибору, безгрешному регистратору второй природы. И случай этот теперь войдет во все учебники космопсихологии и космомедицины, где появится какой-нибудь «синдром Йензена» или что-нибудь в этом роде.
До самого возвращения па Землю все разговоры Ганшина с Юлькой ограничивались самыми необходимыми бытовыми фразами. И только уже в корабле (со старт-спутника на Землю их прихватил рейсовый лунник) Юлька вдруг заговорила.
Они сидели в креслах в самом конце салона, далеко впереди над рядами голов на световом табло горели слова: «Внимание! Пассажиров просят пристегнуть ремни», а ниже выскакивали цифры, показывавшие время, оставшееся до начала посадки:
«17, 10», «17, 09», «17, 08»… Голос у Юльки был тихий, но каждое слово она выговаривала своим звучным, низким контральто, так не вязавшимся со всем се обликом инженю, отчетливо и точно.
— У одного из древних народов, африканских народов, не то в Великом Бенине, не то в Великом Бушонге среди пантеона богов, обычного пантеона, в котором были боги войны, судьбы, любви, был еще один, особо почитаемый — бог Ненастоящего. Каждому, кто поклонялся ему, он давал все. Только ненастоящее. Но кто может всегда отличить настоящее от ненастоящего? Это был великий бог. И страшный бог. Ему ставили идолов — вытесанных из черного базальта огромных истуканов, в глаза которым вставляли агаты. Идолы смотрели на запад, и заходящее солнце кровавило их черные руки и лица и багровыми огнями полыхало в глазах. Он давал все, этот бог. Только попроси. Но он и брал. Брал жизнь. Настоящую.
Ганшин хотел спросить что-то, но промолчал. Молчала и Юлька — уже до самого Мурзука. Молчала так же, как теперь молчала Ора. Ганшин в упор смотрел на нее, потому что теперь он сказал все, что мог, и было непонятно, что же делать дальше.
— Спасибо, — сказала наконец Ора.
Ганшин молча кивнул. Они сидели втроем: Ора, Ганшин и мертвый Йензен — за маленьким треугольным столиком с вогнутыми сторонами. Но теперь уже Йензен не мешал Ганшину — человек, так веривший во вторую природу, что это убило его. «Все-таки она его добила…» Кого имела в виду Юлька? Вторую природу? Веру в нее? Ору?
Ору. Ганшин понял это вдруг, не умом, а чутьем, которому поверил сразу и до конца. Вот сидит она и молчит, женщина, которой так нужно было узнать, как умер человек, брошенный ею четыре года назад. Она узнала. И теперь спокойна, потому что знает, потому что все ясно, потому что… Ганшин не додумал до конца. На миг почудилось ему, что это она, Ора, стоит лицом к закату, и последние солнечные лучи кровавят ее узкие пальцы и багрово отблескивают в почему-то не карих, а черных глазах.
— Еще раз спасибо. — Ора задумчиво крутила в пальцах пустой фужер. — И простите, я отняла у вас столько времени…
По тону ее, по взгляду Ганшин понял, что перестал существовать для нее.
Он встал.
— Пустяки. Прощайте, Ора.
Он плечом прорвал тонкую водяную пленку и пошел через зал, снова погруженный в полумрак и наполненный танцующими парами. Только танцевали сейчас что-то быстрое, четкое. Он шел, лавируя между людьми, стряхивая на ходу брызги, орденской перевязью осевшие на пиджаке, а там, позади, оставалась женщина, хрупкая и сильная, влекущая и убивающая. «Все-таки она его добила…» Ненастоящая женщина с ненастоящей любовью. Женщина, с которой можно умереть от одиночества.
Ганшин вышел в холл. Здесь было светло и прохладно. Он похлопал себя по карманам, потом подошел к стоявшему у стены автомату, сунул в прорезь кредитный жетон и, подождав секунду, вынул из лотка хрустящую целлюлозой обертки пачку. На ней был изображен череп с дымящейся сигаретой в зубах. Почти Веселый Роджер. Ганшин хмыкнул, распечатал пачку и закурил.
На улице было уже темно. Ганшин с минуту постоял на ступеньках, потом зашагал по извивающейся дорожке, выложенной белыми квадратными плитами. По сторонам матово отблескивали корой в свете повисших над шоссе «сириусов» березы. Ганшин остановился и приложил ладонь к стволу. Кора была нежная, чуть бархатистая и прохладная. Настоящая.
Ганшин вспомнил руки Оры, руки, двигавшиеся с таким нечеловеческим совершенством, каким мог бы обладать робот или ангел; ее лицо, напряженно-внимательное и такой чужое… Что же надо сделать с человеком, чтобы он перестал верить даже себе… И в Приземелье нашел он своего должника. Ганшин бросил окурок и растер его подошвой. Метафизика! Юлькины бредни.
Хватит! Задел он эта чужие судьбы, и будет. Незачем копаться в них. Все равно никогда и никто не узнает, что же получил — пусть ненастоящее — от этой женщины Йензен и за что он заплатил такой ценой. Или — вернуться?
У самого выхода на шоссе стояла телефонная будка — плексигласовый колпак на трубчатых стойках, похожий на пузырек паука-серебрянки. Ганшин нырнул в этот пузырек, набрал номер. Ему долго не отвечали. Он насчитал восемь, девять, десять гудков… Потом трубку сняли.
— Слушаю. Ганшин молчал.
— Алло! — потом требовательнее: — Алло! Ну, говорите же!
Ганшин подождал еще секунду, потом повесил трубку. Что он мог сказать сейчас Юльке?
Ганшин вышел из будки и медленно, а потом вой быстрее и быстрее зашагал по шоссе к городу. Он убегал, зная, что прав, что так и надо, и зная, что никогда не простит себе этого бегства, убегал, гоня перед собой то исчезавшую, то выраставшую чуть ли не до бесконечности тень.