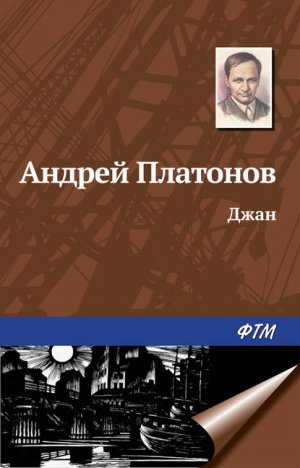
1
Во двор Московского экономического института вышел молодой нерусский человек Назар Чагатаев. Он с удивлением осмотрелся кругом и опомнился от минувшего долгого времени. Здесь, по этому двору, он ходил несколько лет, и здесь прошла его юность, но он не жалеет о ней, – он взошел теперь высоко, на гору своего ума, откуда виднее весь этот летний мир, нагретый вечерним отшумевшим солнцем.
По двору росла случайная трава, в углу стоял рундук для мусора, затем находился ветхий деревянный сарай, и около него жила одинокая старая яблоня без всякого участья человека. Вскоре после этого дерева лежал самородный камень весом пудов, наверно, в сто, – неизвестно откуда, и еще далее впилось в землю железное колесо от локомобиля девятнадцатого века.
Двор был пуст. Молодой человек сел на порог сарая и сосредоточился. Он получил в канцелярии института справку о защите дипломной работы, а самый диплом ему вышлют после по почте. Больше он сюда не вернется. Он втайне прощался со всеми здешними, мертвыми предметами. Когда-нибудь они тоже станут живыми – сами по себе или посредством человека. Он обошел все ненужные дворовые вещи и потрогал их рукою; он хотел почему-то, чтобы предметы запомнили его и полюбили. Но сам в это не верил. По детскому воспоминанию он знал, что после долгой разлуки странно и грустно видеть знакомое место: ты с ним еще связан сердцем, а неподвижные предметы тебя уже забыли и не узнают, точно они прожили без тебя деятельную, счастливую жизнь, а ты был им чужой, одинок в своем чувстве и теперь стоишь перед ними жалким неизвестным существом.
За сараем рос старый сад. Там сейчас ставили столы, проводили временный свет и делали разное убранство. Директор института назначал сегодня вечернее торжество для второго выпуска советских экономистов и инженеров. Со двора своего училища Назар Чагатаев пошел в общежитие, чтобы отдохнуть и переодеться для вечера. Он лег на свою кровать и нечаянно уснул – с тем ощущением внезапного телесного счастья, которое бывает лишь в молодости.
Позже, во время темного вечера, Чагатаев снова пришел в сад экономического института. Он надел свой хороший серый костюм, сбереженный в долгие студенческие годы, и побрился перед ручным девичьим зеркалом. Все его имущество лежало под подушкой и в тумбочке около кровати. Чагатаев, уходя на вечер, с сожалением поглядел во внутреннюю тьму своего шкафа; скоро он забудет его, и запах одежды и тела Чагатаева навсегда исчезнет из этого деревянного ящика.
В общежитии жили студенты других вузов, поэтому Чагатаев отправился один. В саду играл оркестр, приглашенный из кинотеатра, столы были составлены в одну длинную очередь, и над ними горели прожекторные лампы, подвешенные электриками на времянках между деревьями. Пустая летняя ночь стояла над головами собравшихся на свое торжество, на свое последнее свидание, и вся прелесть той ночи была в открытом и теплом пространстве, в тишине неба и растений.
Музыка играла. Молодые люди сидели за столами, готовые разойтись отсюда по окружающей земле, чтобы устроить себе там счастье. Скрипка музыканта иногда замирала, как удаленный, слабеющий голос.
Чагатаеву казалось, что это плачет человек за горизонтом, – может быть, в той, никому не знакомой стране, где он когда-то родился, где теперь живет или умерла его мать.
– Гюльчатай! – сказал он вслух.
– Что такое? – спросила его соседка, технолог.
– Ничего не значит, – объяснил Чагатаев. – Гюльчатай – моя мать, горный цветок. Людей называют, когда они маленькие и похожи на все хорошее…
Скрипка играла снова, ее голос не только жаловался, но и звал – уйти и не вернуться, потому что музыка всегда играет ради победы, даже когда она печальная.
Вскоре начались танцы, игры, обычное торжество молодости. Чагатаев глядел на людей и в ночную природу; ему еще долго предстояло здесь находиться, может быть вечно, бороться с мученьем, работать и быть счастливым.
Против Чагатаева сидела неизвестная ему юная женщина, с глазами, блестевшими черным светом, в синем платье, надетом высоко, до подбородка, как на старухе, что ей придавало неудобный и милый вид. Она не танцевала, стесняясь или не умея, и с увлечением глядела на Чагатаева. Ей нравилось его смуглое лицо с узкими чистыми глазами, направленными на нее в упор с добром и угрюмостью, его широкая грудь, скрывающая сердце с тайными чувствами, и мягкий, немощный рот, способный плакать и смеяться. Она не скрывала своей симпатии и улыбнулась Чагатаеву; он ей ничем не ответил. Общее веселье все более увеличивалось. Студенты – экономисты, плановики и инженеры – брали со столов цветы, рвали траву в саду и делали из них своим подругам подарки или прямо посыпали им растения на их густые волосы. Затем появилось конфетти, и оно тоже пошло в дело удовольствия. Женщина, сидевшая против Чагатаева, исчезла – она танцевала теперь на садовой тропинке, обсыпанная разноцветными бумажками, и была довольна.
Другие женщины, оставшиеся за столом, тоже были счастливы от внимания своих друзей, от окружавшей их природы и от предчувствия своего будущего, равного по долготе и надеждам бессмертию. Лишь одна между ними была без цветов и конфетти на голове; к ней никто не склонялся с шутливыми словами; и она жалко улыбалась, чтобы показать, что принимает участие в общем празднике и ей здесь приятно и весело. Глаза же ее были грустны и терпеливы, как у большого [рабочего животного][2]. Иногда она чутко глядела по сторонам и, убедившись, что никому не нужна, быстро собирала со стульев соседей упавшие цветы и красочные бумажки и прятала их незаметно. Чагатаев изредка видел ее действия, но понять не мог; ему уже стало скучно от долгого одинакового торжества, и он собирался уйти отсюда. Женщина, собиравшая цветы, павшие с других людей, тоже ушла куда-то, – время вечера вышло, звезды стали большими, начиналась ночь. Чагатаев встал с места и поклонился ближним товарищам – он не скоро с ними увидится.
Чагатаев пошел мимо деревьев и заметил ту женщину с [лошадиным] лицом, спрятавшуюся в тени; она его не видела, она сейчас накладывала себе на волосы цветы и ленты, потом она вышла из-за деревьев опять к освещенному столу. Чагатаев сейчас же возвратился туда: он хотел немедленно опрокинуть столы, повалить деревья и прекратить это наслаждение, над которым капают жалкие слезы, но женщина была теперь счастливая, смеющаяся, с розой в темных волосах, хотя глаза ее были заплаканы. Чагатаев остался в саду; он подошел к ней и познакомился; она оказалась студенткой-дипломницей химического института. Он ее пригласил танцевать, хотя сам не умел, но она танцевала отлично и вела его в такт музыке, как нужно. Глаза ее быстро высохли, лицо похорошело, и тело, привыкшее к дикой робости, теперь с доверием прижималось к нему, полное поздней девственности, пахнущее добрым теплом, как хлеб. Чагатаев забылся около нее, сон и счастье исходили от этой чужой женщины, с которой он, вероятно, не встретится более; так часто живет рядом с нами незаметное блаженство.
Свидание и веселье продолжалось до света на небе; затем сад опустел, осталась мертвая утварь, все разошлись. Чагатаев и его новая подруга Вера пошли по Москве, освещенной зарею. Чужеземец Чагатаев любил этот город, как родину, и был благодарен, что он здесь долго жил, узнал науку и съел много хлеба без попрека. Он посмотрел на свою спутницу – ее лицо стало красивым от встающего вдалеке солнца.
Прошло время, небо стало высоким и чистым, напряженное солнце беспрерывно посылало свое добро земле – свет. Вера шла молча. Чагатаев изредка всматривался в нее и удивлялся, почему она кажется всем нехорошей, когда даже скромное молчание ее напоминает безмолвие травы, верность привычного друга. Ведь это только издали можно ненавидеть ее, отрицать или быть вообще равнодушным к человеку. Но когда Чагатаев видел теперь вблизи морщины утомления на ее щеках, выражение лица, прячущего ее желания, глаза, хранимые веками, опухшие губы – все таинственное воодушевление этой женщины, скрытое в ее живом веществе, все доброе и сильное создание ее тела, то он робел от нежности к ней и не мог бы ничего сделать против нее, и ему даже стыдно было думать о том, красива она или нет.
– Я уморилась, мы ведь не спали, – сказала Вера, – давайте прощаться.
– Ничего, – ответил Чагатаев. – Я скоро уезжаю, давайте немного побудем [вместе].
Они еще пошли вперед, миновали долгие улицы и где-то остановились.
– Здесь я живу, – указала Вера на новое большое жилище.
– Пойдемте к вам. Вы ляжете отдыхать, а я посижу около вас и потом уйду.
Вера стояла в смущении.
– Ну, хорошо, – сказала она и повела гостя.
У нее была большая комната с обычной мебелью девушки, но эта комната была какой-то грустной, занавешенной шторами, скучной и почти пустой.
Вера сняла летний плащ, и Чагатаев заметил, что она полнее, чем кажется. Затем Вера стала рыться в своих хозяйственных закоулках, чтобы покормить гостя, а Чагатаев засмотрелся на старинную двойную картину, висевшую над кроватью этой девушки. Картина изображала мечту, когда земля считалась плоской, а небо – близким. Там некий большой человек встал на землю, пробил головой отверстие в небесном куполе и высунулся до плеч по ту сторону неба, в странную бесконечность того времени, и загляделся туда. И он настолько долго глядел в неизвестное, чуждое пространство, что забыл про свое остальное тело, оставшееся ниже обычного неба. На другой половине картины изображался тот же вид, но в другом положении. Туловище человека истомилось, похудело и, наверно, умерло, а отсохшая голова скатилась на тот свет – по наружной поверхности неба, похожего на жестяной таз, – голова искателя новой бесконечности, где действительно нет конца и откуда нет возвращения на скудное, плоское место земли.
Но Чагатаеву, как больному, ничто теперь стало не мило и не интересно. С оробевшим сердцем он обнял Веру, склонившуюся близ него по своему хозяйскому делу, и прижал ее к себе с силой и осторожностью, будто желая как можно ближе приникнуть к ней, чтобы согреться и успокоиться. Вера сразу поняла его и не оттолкнула. Она выпрямилась, склонила его голову ниже своей и стала ласкать его черные жесткие волосы, а сама глядела в сторону, отстраняя лицо, но все же слезы ее изредка падали на голову Чагатаева и там высыхали. Вера плакала бесшумно, одними слезами, бегущими из глаз, стараясь не менять выражения лица, чтобы не всхлипывать. Чагатаев услышал ее, однако ему было все равно, что сейчас случается, и он бы не мог теперь никому помочь.
– Я ведь беременная, – сказала Вера.
– Пусть! – ответил Чагатаев, прощая ей все, храбрый в сердце, как обреченный на смерть.
– Нет! – печально говорила Вера, закрываясь концом рукава, чтобы высушить слезы и скрыть свое некрасивое лицо, о котором она помнила даже во сне. – Нет. Я ничего не могу.
Чагатаев оставил ее. Ему не нужно было обязательно утешать себя яростным наслаждением с Верой, чтобы иметь счастье. Достаточно быть с нею вблизи, держать ее руку и спросить, почему она плачет – от горя или оскорбления.
– У меня недавно умер муж, – сказала Вера. – А мертвого, вы знаете, как трудно забыть. И ребенок, когда родится, он не увидит отца, а одной матери ему мало будет… Ведь правда, мало?
– Мало, – согласился Чагатаев. – Теперь я буду его отцом.
Он обнял ее, и они уснули в светлое время дня, и шум строящейся Москвы, бурение недр, ссоры населения на уличном транспорте – все умолкло в их ушах; они лишь друг друга держали руками, и каждый из них слушал сквозь сон глухое, кроткое дыхание другого.
Под вечер, незадолго до окончания занятий в учреждениях, они зарегистрировались в ближнем загсе. Они стояли между двумя букетами цветов; заведующий загсом поздравил их краткой речью, предложил поцеловаться в знак пожизненной верности и посоветовал иметь много детей. чтобы революционное поколение распространилось на вечные времена. Чагатаев дважды поцеловал Веру и дружески попрощался с заведующим, думая о том, что хорошо было бы, если бы и он поцеловал Веру, а не ограничился служебной необходимостью.
С тех пор Чагатаев каждый день приходил по вечерам в гости к Вере, когда она уже ждала его и радовалась его приходу. Они сразу же обнимались, причем Чагатаев обращался с Верой крайне осторожно, храня в ней ребенка от погибшего отца. Затем они шли гулять, как все люди обычно, под руку по улице, осматривали внимательно витрины, точно готовясь многое приобрести, следили за небом, где были свои происшествия, и не забывали ничего из окружающих их, беспрерывно текучих событий, как будто сердце во время любви настолько тяжело, что его надо все время развлекать пустяками, чтоб оно не чувствовало своей работы.
Но Чагатаев еще не был настоящим мужем Веры, она все время отклоняла его сожительство – с нежностью и страхом, чтобы не обидеть его и не отдаться ему. Она словно боялась погубить в страсти свое бедное утешение, которое явилось внезапно и странно; или она просто хитрила, расчетливо и разумно, желая иметь в своем муже неостывающую теплоту, чтобы самой согреваться в ней долго и надежно. Однако Чагатаев не мог вынести своего чувства к Вере на одной духовной и бесчеловечной привязанности, и он вскоре заплакал над нею, когда она лежала на кровати, по виду беспомощная, но улыбающаяся и непобедимая.
Чагатаев не умел терпеть силу своей жизни, он знал ее невинность и доброту, поэтому его оскорбляла чужая недоступность, и он терял память и соображение. Еще в детстве он так же топал босыми ногами в землю, обливался слезами от безутешного неистовства и грозился прохожим, когда видел еду за толстым стеклом и не мог ее немедленно съесть.
2
Лето продолжалось. От жары тлели торфяные болота вокруг Москвы, и по вечерам в воздухе стояла гарь, смешанная с теплым парующим духом удаленных колхозов и полей, точно всюду в природе готовили пищу на ужин. Чагатаев проводил с Верой последние дни: он получил назначение на работу; ему нужно было уезжать на родину, в середину азиатской пустыни, где жила или уже давно умерла его мать. Чагатаев пропал оттуда мальчиком, пятнадцать лет тому назад. Старая мать его, туркменка Гюльчатай, надела ему шапку-папаху, положила в сумку кусок старого чурека и еще добавила лепешку, испеченную из растертых корней камыша, катрана и ярмалыка, затем дала тростинку в руку, чтобы вместо старшего друга шло растение рядом, и велела идти.
– Ступай, Назар, – сказала она, не. желая видеть его мертвым рядом с собой. – Если узнаешь отца своего, ты к нему не подходи. Увидишь базары и богатство, в Куня-Ургенче, в Ташаузе, Хиве – ты туда не иди, ступай мимо всех, иди далеко к чужим. Пусть отец твой будет незнакомым человеком.
Маленький Назар не хотел уходить от матери. Он ей говорил, что привык умирать и больше не боится, что он мало будет есть. Но мать прогоняла его.
– Нет, – говорила она. – Я уже так слаба, что любить тебя не могу, живи теперь один. Я забуду тебя.
Назар заплакал около матери. Он обнял одну ее худую холодную ногу и долго стоял, впившись в ослабевшее привычное тело; небольшое сердце его стало тогда больным, оно сразу вдруг утомилось и билось тяжело, как намокшее. Мальчик сел в пыль земли и сказал матери:
– Я тоже тебя забуду, я тоже тебя не люблю. Вы маленького человека кормить не можете, а когда умрете, то никого у вас не будет.
Он лег лицом вниз и заснул в сырости слез и своего дыхания. Проснулся Назар в пустом месте. Мать ушла, с пустыни шел ничтожный чужой ветер – без всякого запаха и без живого звука. Некоторое время мальчик сидел смирно, он ел материнский чурек, оглядывался и думал ту мысль, которую теперь с возрастом забыл. Перед ним была земля, где он родился и захотел жить. Та детская страна находилась в черной тени, где кончается пустыня; там пустыня опускает свою землю в глубокую впадину, будто готовя себе погребение и плоские горы, изглоданные сухим ветром, загораживают то низкое место от небесного света, покрывая родину Чагатаева тьмою и тишиной: Лишь поздний свет доходит туда и освещает грустным сумраком редкие травы на бледной засоленной земле, будто на ней высохли слезы, но горе ее не прошло.
Назар стоял на краю темной земли, павшей вниз; далее начиналась песчаная пустыня, более счастливая и светлая, и среди песчаных покойных бугров даже в тихое время, в тот исчезнувший детский день, ютился мелкий ветер, бредущий и плачущий, изгнанный издалека. Мальчик прислушался к этому ветру и повел глазами за ним, чтобы увидеть его и быть с ним вдвоем, но не увидел ничего, и тогда он закричал. Ветер пропал от него, никто не отозвался. Вдалеке наступала ночь; на темную низкую землю, откуда вывела его мать, уже легла тень, и лишь курился белый дым из кибиток и землянок, где прежде жил ребенок. Назар в недоумении попробовал свои ноги и тело: есть ли он на свете, раз его никто теперь не помнит и не любит; ему нечего стало думать, будто он жил от силы и желания других близких людей, а сейчас их нет, и они прогнали его… Шершавый куст – бродяга, по-русски – перекати-поле, без ветра склонялся и перекатывался по песку, уходя отсюда мимо. Куст был пыльный, усталый, еле живой от труда своей жизни и движения; он не имел никого – ни родных, ни близких, и всегда удалялся прочь. Назар потрогал его ладонью и сказал ему: «Я пойду с тобою, одному мне скучно, – ты думай про меня что-нибудь, а я буду про тебя. А с ними я жить не хочу, они мне не велели, пускай сами умрут!» И он погрозил тростниковой палкой на родину и забывшей его матери.
Назар пошел за кустом перекати-поле и шел до самой тьмы. Во тьме он лег и уснул от слабости, трогая куст рукой, чтоб он остался с ним. Наутро он проснулся и сразу испугался, что нет с ним куста: он укатился один ночью. Назар хотел заплакать, но увидел, что куст шевелился сейчас на верху ближнего песчаного холма, и мальчик догнал его.
Родина и мать давно скрылись – пусть их забудет его сердце, пока оно растет. В тот день бредущий куст довел Назара до овечьего пастуха, и пастух напоил мальчика и накормил, а куст его привязал к палке, чтобы он тоже отдохнул. Долгое время Назар ходил с пастухом и жил у него, пока не выпал снег, тогда хозяин отпустил пастуха по делам в Чарджуй, потому что пастух стал слепнуть, и пастух отправился с мальчиком, а в городе отдал его Советской власти, как не нужного никому. Советская власть всегда собирает всех ненужных и забытых, подобно многодетной вдовице, которой ничего не сделает один лишний рот.
Теперь прошли многие годы, но ничто не было забыто, и потерянная мать была такой же любимой, и для воспоминания о ней всегда будет одинокая сила в сердце, точно детство не прекратилось. Отца своего Чагатаев никогда не знал. Русский солдат Хивинских экспедиционных войск Иван Чагатаев пропал прежде, чем родила Гюльчатай, бывшая тогда молодой женой Кочмата, от которого она уже имела двоих маленьких детей; но дети от Кочмата умерли, когда Назар был в младенчестве, о них только говорила ему мать впоследствии, что они жили когда-то. Кочмат же был беден и гораздо старше своей жены; он жил тем, что ходил на байские земли в Куня-Ургенч и в Ташауз – работать на хошарах, чтобы хоть в летнее время питать семейство хлебом. А в зимнее время он почти беспрерывно спал в землянке, вырытой у подножья Усть-Урта. Он берег свою неимущую силу, и Гюльчатай лежала с ним под одною кошмой; она тоже грелась и дремала в долгие зимы, чтобы меньше есть, а между ними лежали их дети, когда они были живы. Изредка Гюльчатай выходила, добывала траву на пищу или шла наниматься батрачкой в Хиву… Однажды в Хиве она не нашла работы; была в то время зима, богатые пили чай и ели баранину, а бедные ждали тепла и роста растений. Гюльчатай ютилась на базаре, ела кое-что, что оставалось на земле от торговцев, но побираться стыдилась людей. На том хивинском базаре ее заметил солдат Иван Чагатаев и стал приносить ей каждый день казенную пищу в котелке. Гюльчатай ела солдатский суп с говядиной на вечернем пустом базаре, а солдат понемногу касался ее и затем обнимал. Но женщине совестно было в ответ на угощение отвергать человека: она молчала и не сопротивлялась. Она думала, чем отблагодарить русского, и не было у нее ничего, кроме того, что выросло от природы.
– Отчего у тебя слезы на глазах? – спросила Вера у Чагатаева в день его отъезда на родину.
– Я вспомнил свою мать, как она улыбалась мне, когда я был маленьким.
– Но как же?
Чагатаев затруднился.
– Не помню… Она мне радовалась и оплакивала меня, – теперь люди так не улыбаются. У ней слезы лились по счастливому лицу.
Мать говорила Назару, что муж ее, Кочмат, когда узнал, что Назар – сын русского солдата, а не его, то он не ударил ее и не сделался яростным, а только стал скучным и чуждым для всех. Он ушел отдельно вдаль и там один отдышался от своей печали; потом он вернулся и любил Гюльчатай по-прежнему.
Назар Чагатаев пошел гулять с Верой в последний раз. Вечером его поезд уйдет в Азию. Вера уже собрала его в дальнюю дорогу: заштопала чулки, пришила нужные пуговицы, сама выгладила белье и несколько раз перепробовала и проверила все вещи, лаская их и завидуя им, что они поедут вместе с ее мужем.
На улице Вера попросила Чагатаева зайти с нею к знакомым. Может быть, через полчаса он навсегда перестанет любить ее.
Они вошли в большую квартиру. Вера познакомила мужа с пожилой женщиной и спросила:
– Что Ксеня – дома или еще где-нибудь?
– Дома, дома, она только что пришла, – сказала хозяйка.
В просторной неубранной комнате сидела черноволосая девочка лет тринадцати или пятнадцати. Она читала книжку и вертела конец своей косы в руке.
– Мама! – И девочка обрадовалась пришедшей матери.
– Здравствуй, Ксеня! – сказала Вера. – Это моя дочь, – познакомила она девочку с Чагатаевым.
Чагатаев пожал странную руку, детскую и женскую; рука была липкая и нечистая, потому что дети не сразу приучаются к чистоте.
Ксеня улыбалась. Она не походила на мать – у нее было правильное лицо юноши, немного грустное от стыда и непривычки жить и бледное от усталости роста. Глаза ее имели разный цвет – один черный, другой голубой, что придавало всему выражению лица кроткое, беспомощное значение, точно Чагатаев видел жалкое и нежное уродство. Лишь рот портил Ксеню – он уже разрастался, губы полнели, словно постоянно жаждали пить, и было похоже, что сквозь невинное безмолвие кожи пробивалось наружу сильное разрушительное растение.
Все молчали от неопределенного положения, хотя Ксеня уже догадывалась про все.
– Вы здесь живете? – спросил пустяковое дело Чагатаев.
– Да, у матери моего папы, – сказала Ксеня.
– А где папа, он умер?
Вера была в стороне, она глядела в окно, на Москву.
Ксеня засмеялась.
– Нет, что вы! Мой папа молодой, он живет на Дальнем Востоке и строит мосты. Два уже построил!
– Большие мосты? – спросил Чагатаев.
– Большие: один висячий, другой с двумя опорными быками и потерянными кессонами. Они скрылись навсегда, они потерялись! – радостно сказала Ксеня. – У меня фотографии из газеты есть!
– Папа вас любит?
– Нет, он любит незнакомых, он нас с мамой любить не хочет.
Они говорили еще, в сердце Чагатаева было неясное сожаление – он сидел с легким, грустным чувством, как во сне и путешествии. Забывая обыкновенную жизнь, он взял руку Ксени к себе и стал держать ее, не разлучаясь.
Ксеня сидела со страхом и удивлением, разноцветные глаза ее смотрели мучительно, как двое близких и незнакомых между собой людей. Ее мать, Вера, стояла в отдалении, молча улыбаясь дочери и мужу.
– Тебе не пора собираться на вокзал? – спросила она.
– Нет, я не поеду сегодня, – сказал Чагатаев. Он скреб башмаками по полу, борясь с нетерпением своей души перед этой девочкой. Ему было, кроме того, стыдно, что его состояние Вера и Ксеня могут принять за жестокую мужскую любовь; он же чувствовал перед Ксеней лишь привязанность, полную смутного наслаждения, человеческого родства и заботы о ее лучшей судьбе. Он хотел бы быть для нее берегущей силой, отцом и вечной памятью в ее душе.
Извинившись, Чагатаев вышел на полчаса, купил в Мосторге различных вещей на триста рублей и принес их в подарок Ксене; если бы он не сделал этого, то сожалел бы многие дни.
Ксеня обрадовалась подаркам, а мать ее – нет.
– У Ксени всего два платья, и последняя обувь развалилась, – сказала Вера. – Отец ведь ничего не присылает, а я работаю недавно… Зачем ты накупил этих пустяков, на что девочке дорогие духи, замшевая сумка, какое-то пестрое покрывало?..