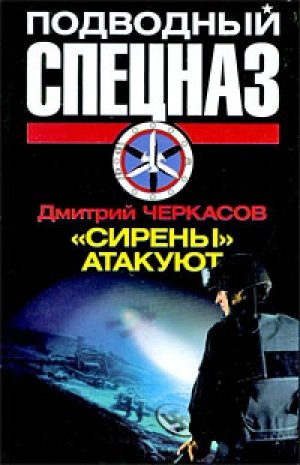
Пролог
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА
– Следующий! – нетерпеливо пригласил врач.
Через его кабинет уже прошло сорок четыре пациента, много выше нормы. И не было никакой надежды, что поток вдруг иссякнет. Эти бабушки могут тянуться к нему до утра, все равно им не спится, и не с кем поговорить, и спина болит, и ноги не ходят.
Он нажал кнопку вызова, и лампочка в коридоре призывно мигнула, но очередной пациент замешкался. Врач крикнул погромче, и из-за двери донесся слабый шум: кто-то нерешительно перетаптывался.
Пришлось повторить в третий раз.
Дверь чуть приотворилась, и хрипловатый голос осторожно осведомился:
– Можно на прием?
Как будто он не войдет, если даже нельзя.
Врач тяжело вздохнул, покоряясь неизбежному.
Этот вопрос, причем заданный тем же голосом, он слышал уже тысячу раз. Этот невыносимый голос преследовал его во сне, вызывал дурноту и желание бить и крушить.
Почтенный субъект, являвшийся обладателем этого голоса, имел обыкновение наведываться в самом конце рабочего дня, когда доктор уже всей душой мечтал снять осточертевший халат, пружинящим шагом выйти из поликлиники и выпить пива в ближайшем баре. Когда доктору мучительно хотелось уйти, хоронясь под сенью лип и акаций, дабы не попасться на глаза случайному прохожему из числа хронических пациентов, который притормозит его, доверительно возьмет за пуговицу и подробно расскажет о последнем посещении некоего профессора, такого же, по сути, несчастного медика.
Докучливый субъект заявлялся без номерка, и это давно стало нормой. Отвертеться от пространных бесед с ним было решительно невозможно. Похоже, он просто не понимал, что такое номерок, зачем нужно заполнять статталон, к чему ему полис – «полюс», как неизменно выговаривал этот пациент, да, впрочем, и не только он, а еще и девяносто процентов остальных. Он, однако, неплохо соображал, когда именно следует появиться, чтобы не выстаивать в очереди. У него, надо заметить, вообще была отменная интуиция, ибо никто ведь не мог знать заранее, сколько именно людей примет доктор – сорок или пятьдесят; кстати, в особо жестокие дни бывало, что и все шестьдесят...
Иногда у доктора возникало подозрение, что клиент караулит в вестибюле или торчит где-то в сторонке, высчитывая среднее арифметическое. Доктор специально выходил покурить, искал его глазами и... никогда клиента не обнаруживал.
А клиент, словно вечный больной, традиционно являлся, доканывая доктора стереотипным и бессмысленным вопросом: «Можно ли ему?..»
Эх, черт подери!!!
Фамилия пациента была Остапенко.
Она была прекрасно известна не только участковому терапевту, но и всей поликлинике, начиная с главврача и заканчивая гардеробщицей. Рыхлый, шарообразный дядюшка, которому не так давно перевалило за семьдесят, страдал неисчислимым множеством недугов. Вылечить его было решительно невозможно. Никто не мог ему помочь на протяжении десятилетий; Остапенко уже похоронил трех участковых врачей, но продолжал ходить в поликлинику как на работу.
Нынешний доктор предчувствовал, что станет четвертым лекарем, которого переживет неизлечимо больной Остапенко.
Никто не мог понять, что с ним такое. Никаких смертельных заболеваний у этого бедняги не было, однако по совокупности его недуги способны были свалить с ног слона. У Остапенко не было ни единого здорового органа – сплошные воспаления, дистрофии, а вдобавок еще и мелкие нестрашные – зато многочисленные – новообразования. Все это досаждало ему медленно, хронически, назойливо. А кроме самого Остапенко – всем окружающим, кого угораздило оказаться в орбите его интересов и жалоб.
Одно обнадеживало: вслед за Остапенко обычно уже никто не приходил. Как правило, он оказывался последним, словно обрубал за собой все хвосты.
Доктор взглянул на часы: без двадцати девять вечера. Двадцать минут до конца приема. Остапенко, конечно, урвет себе, как обычно, дополнительное время, но после него клиентов уже не будет. Никто не заблудится в нехитром поликлиническом лабиринте, никакая бабулька с чужого участка не попросит слезно выписать ей рецепт на валокордин. Остапенко всегда оказывался жирной точкой в конце рабочего дня. Вернее, многоточием и обещанием продолжения.
– Проходите, – обреченно пригласил доктор, стараясь говорить громче: Остапенко плохо слышал.
Тот сразу же вошел, аккуратно притворив за собой дверь. Лицо его казалось застывшей маской – следствие давнишнего атеросклероза.
Доктор мрачно воззрился на амбулаторную карту, которую Остапенко прижимал к груди, как переношенного младенца. По своему весу карта явно превосходила среднестатистического новорожденного. Она была невероятно пухлой и ужасно истрепалась. «Новорожденный» был поистине вундеркиндом: запомнить все, что хранилось в его уникальной памяти, любому взрослому явно было не под силу.
На обложке значилось: «ЧДБ» – бесполезное предупреждение для сотрудников. Тогда как непосвященные клиенты не придавали аббревиатуре значения, люди знающие с ходу расшифровывали эту позорную надпись: Часто и Длительно Болеющий. Хуже нее была только пометка «Потатор» – читай: алкоголик.
В этом «ЧДБ» содержался обидный намек если не на симуляцию, то на ипохондрию. Или на аггравацию – умышленное (или невольное) преувеличение тяжести симптоматики. Практической разницы, впрочем, не было никакой. На предмет ипохондрии Остапенко уже посылали к психиатру, в диспансер, и единственным результатом этого героического похода было то, что карта обогатилась еще одной внушительной записью. А потом психиатр, не сильно церемонясь, отфутболил беднягу, назначив ни к чему не обязывавшие таблетки, которые тот немедленно начал принимать – вместе с доброй сотней других...
Доктор не сомневался, что Остапенко прекрасно известно, что именно означают оскорбительные буквы. В настойчивости, с которой тот бродил по врачам, доктор усматривал умысел, граничащий с... местью. Остапенко явно был особым фруктом – из числа тех, что рано или поздно добиваются своего; результат к моменту победы обычно уже становится ненужным, но принцип есть принцип.
– Присаживайтесь, – вздохнул врач.
Он был довольно молод и еще не вполне овладел искусством изгнания пациентов. Хотя вполне мог бы направить надоеду к любому другому специалисту, благо разницы никакой. У Остапенко имелись заболевания на любой вкус.
Отдуваясь, пациент сел. Не сел – основательно утвердился на стуле, показывая, что разговор будет долгим и что он намеревается высосать доктора до капли.
– Что скажете, Сергей Семеныч? – жизнерадостно осведомился доктор. – Чем порадуете?
На лице Остапенко нарисовалась формальная улыбка. Глаза оставались бесстрастными.
– Мне бы комиссию пройти... – доверительно сообщил он.
Ничего хуже вообразить было нельзя!
У доктора потемнело в очах.
Наличие инвалидности устанавливает и утверждает специальная комиссия. Это сплошной геморрой, болезненный и кровавый. Во-первых, долгая писанина; во-вторых, выписывание направлений ко всем специалистам, на все анализы и исследования; в-третьих, личное присутствие на пресловутой комиссии, тогда как прочих пациентов никто, естественно, не отменит, и они будут томиться под дверью, наливаться злобой, ругаться между собой и желать доктору хитроумной мучительной смерти.
– Позвольте, позвольте, – в смятении забормотал доктор. – Сергей Семеныч! Что это вы вдруг придумали? У вас же уже есть группа! Вторая... Вы что, рассчитываете на первую? Но вам ее не дадут, клянусь чем угодно. Вы ведь в состоянии самостоятельно себя обслужить. Первую группу дают лежачим больным, нуждающимся в уходе... Вы, наверное, наслушались старух, так они вам еще и не такое расскажут, никто же из них реально не разбирается в вопросе; все думают, что нам жалко, что мы их в чем-то обкрадываем...
– Нет, первая мне не нужна, – возразил Остапенко, ерзая на стуле и пытаясь устроиться поудобнее. – Мне нужно изменить формулировку. Диагноз.
Диагнозов у него было столько же, сколько таблеток, – около сотни.
Чем же именно болел Остапенко в действительности, какой недуг был ведущим – этого опять-таки не могло сказать ни одно светило. И где он только ни лежал, злополучный Сергей Семеныч! И в Академии он лежал, и в Институте усовершенствования врачей – ныне МАПО, и во многих других институтах. Он даже в столицу ездил, но это нисколько не помогло. Его непрестанно изучали маститые профессора и академики, и каждый твердил свое – неизменно расплывчатое и крайне сложное.
У Остапенко болели все суставы, он страдал полиартритом – и это подтверждалось рентгенологически. Старик не врал. Помимо суставов, у него болели позвоночник, желудок, кишечник, печень, почки; не лучше обстояло дело и с сосудами, да и нервная система тоже была не ахти – сам черт не смог бы разобрать, где начинается нечто особенное, необычное, а где – заурядная возрастная патология. Анализы тоже не радовали: как будто ничего фатального, но все какое-то не такое. Чего-то маловато, чего-то многовато – как хочешь, так и толкуй.
Между тем Остапенко никогда не производил впечатления тяжелобольного. Казалось, что он полон сил. И действительно – постоянные набеги на лечебные учреждения требовали богатырского здоровья. И нет ничего удивительного в том, что многие полагали: в этих-то набегах и заключается его основная хворь.
...Предчувствуя очередную гадость, доктор спросил, какой же диагноз будет угоден господину больному, а главное – зачем.
Тот пожал плечами.
– Диагнозы – они по вашей части. Я в них не разбираюсь.
«Ой, врешь», – подумал доктор.
Сергей Семеныч продолжил:
– Мне нужны дополнительные льготы. Я прочел в газете, что такие теперь существуют... для бывших узников...
Врач озадаченно потер переносицу.
– Позвольте, Сергей Семеныч. То, что вы были узником, – этот факт в вашей истории болезни отражен. Это всеми признано...
Что и говорить, биография Остапенко не могла не вызвать сочувствия. Мальчишкой он угодил в немецкий плен, оказался в концлагере. Утверждал, что над ним там осуществляли медицинские опыты. Так оно было или иначе – узнать уже не представлялось возможным, да и ни к чему. Пребывания в концлагере самого по себе было достаточно для каких угодно льгот. Конечно, они не могли компенсировать пережитое, но тут уже претензии к государству – и неизвестно еще, к которому.
Остапенко вновь улыбнулся, на сей раз победоносно. Похоже было, что его распирало, какая-то сногсшибательная новость вертелась на языке.
Он понизил голос едва ли не до шепота:
– Радиация.
Доктор страдальчески наморщил лоб.
– Теперь об этом можно сказать, – продолжал Остапенко, – не так уж долго мне осталось коптить небо. Пора предъявить народу героев.
– Тоцкий полигон? – Доктор брякнул первое, что пришло в голову, благо уже сталкивался с ветеранами ядерных испытаний. – Так это давно рассекретили... Во всех газетах было, я сто раз читал. У нас есть такие больные, вы напрасно молчали...
Остапенко медленно покачал головой:
– Нет... Много раньше. В плену...
– Немцы испытывали на вас воздействие радиации?
Доктору всегда казалось, что радиация – история позднейшая, он никогда не связывал ее в своем представлении с нацистами.
Остапенко кивнул:
– В том-то и дело. И не только ее... В Балтийском море... В Пиллау... Это теперь город Балтийск.
У Сергея Семеныча, помимо прочих хворей, имелся паркинсонизм. Мимика у него была бедная, но предмет разговора оказался настолько захватывающим, что и паркинсонизм временно отступил. Остапенко оживился и даже помогал себе жестами.
Доктор слушал его и постепенно светлел лицом.
Это не к нему.
Это к другим специалистам.
Остапенко придется пройти через новые, ранее не изведанные обследования, и они займут не один день. Если его рассказ подтвердится, то оформлять его на комиссию будут совсем другие люди.
На секунду врач усомнился: не бредит ли сей завсегдатай? Может быть, он просто спятил на старости лет?
Впрочем, это тоже не его дело. Даже если у Остапенко и имеет место помешательство, оно, скорее всего, не представляет опасности ни для самого пациента, ни для окружающих.
Однако придется все записать. Что же – он к этому привычный... И обязательно назначить повторный осмотр психиатра. К доктору уже приходили люди, объявлявшие себя жертвами репрессий, и поначалу, когда тема была свежа, он им верил с полуслова. Но когда многие репрессии приобрели фантастическую окраску, у него прорезалось зрение.
Доктор раскрыл карту и принялся подробно заносить туда все, что несколько сумбурно изливал на него Сергей Семеныч. Остапенко старался украсить свое повествование живописными подробностями, и доктор записывал слово в слово. Если клиент рехнулся, то психиатрическая наука требует подробной фиксации его высказываний.
«Та еще наука», – усмехнулся про себя доктор, усердно строча.
Но спустя какое-то время он перестал усмехаться. Более того: настал момент, когда он поймал себя на том, что хочет услышать дальнейшее, и даже натруженная за день рука готова писать бесконечно. Такое происходило с ним, пожалуй, впервые за всю практику.
– Сергей Семеныч, – сказал доктор проникновенно, когда Остапенко закончил рассказ и стал повторяться. – Дело, как вы понимаете, довольно сложное. Не побоюсь сказать – уникальное.
Он старательно подбирал слова. Врач разволновался и уже почти не мог этого скрывать, однако крепился: профессионал не должен давать волю эмоциям.
Остапенко не спорил. Он снова кивнул, на сей раз важно. Еще бы он не понимал. Он и не ходит к врачам с пустяками. Он не первый год живет на свете.
Доктор осторожно продолжил:
– История будет долгая, вынужден вас сразу предупредить. Я стрелочник, регулировщик. Сортировщик, если угодно. В вопросах, которые вы подняли, я совершенно некомпетентен.
– Не Копенгаген, – хохотнул Остапенко, полагая, что пошутил удачно и оригинально. Старость не радость, что поделаешь... – Шуточкой своей он несколько снизил накал, вызванный повествованием.
– Именно так. Вот направления. А вот телефоны...
Остапенко встревожился:
– Это, наверное, все платное? Я не...
Доктор остановил его жестом:
– Не волнуйтесь. Это государственные структуры. Ведь ваше дело – государственное, согласны? Если начнут вымогать, напирайте на то, что они обязаны... Вы же понимаете, что направление мое – это не филькина грамота, в конце-то концов. У нас еще остались кое-какие структуры.
– Напрем, – уверенно отозвался Сергей Семеныч.
«Кто бы сомневался!» – пронеслось в голове у доктора.
Доктор на секунду задумался.
– А в ФСБ вы обращались?
Остапенко медленно поднял брови:
– После того, что я вам рассказал?..
– Ну да, ну да...
«Вот это уже точно не мое дело. И куда меня понесло?» – подумал про себя доктор.
Обругав себя, он вынул бланк, начал его заполнять. Остапенко удовлетворенно следил за его работой.
– Это куда? – спросил он деловито.
– Туда же... Это выписка из карты. Больничные выписки тоже с собой захватите, обязательно.
– Само собой. А карточка... разве вы не дадите мне карточку?
Доктор с сожалением развел руками:
– Не могу. Карточка должна находиться в поликлинике. Только по официальному запросу.
– А все же носят с собой. Я же сам с ней пришел, она у меня дома лежала всегда...
Доктор улыбнулся:
– Сами виноваты, Сергей Семеныч, с вашим рассказом. Теперь все. На руки не получите.
Остапенко что-то прикинул, пожевал губами и, по-видимому, решил, что остальных документов будет вполне достаточно.
Что до доктора, то ему было, откровенно говоря, наплевать, соблюдается ли означенное правило. Его нарушали все кому не лень. Но он опасался, что Остапенко свою карточку потеряет, а тогда придется все восстанавливать, и в этом случае ему небо с овчинку покажется. О каких-либо санкциях в отношении себя он не задумывался, благо никогда прежде не оказывался в центре внимания спецслужб.
Доктор посмотрел на часы: начало десятого. Пора закругляться, черт побери.
– Все, Сергей Семеныч. Время позднее, скоро закроемся. Берите бумаги – и желаю удачи.
– Премного благодарю. – Остапенко, морщась, встал. Суставы давали о себе знать.
Доктор смотрел на него с искренним сочувствием. Радиация может аукнуться самым причудливым образом, поразить все подряд. Не зная, в чем дело, догадаться о причине практически невозможно – тем более спустя столько лет.
«Не фонит ли он?» – запоздало подумал доктор. И отогнал эту мысль: она же везде, зараза разнообразная. На каждом шагу и радиация, и инфекция, и прочая отрава – спокойнее не знать. Взять хотя бы стандартный рентгеновский кабинет – разве он так уж безобиден? Да, нормы не нарушены, но как они выводились? Кем устанавливались? Кто может знать наверняка, сколь малая доза понадобится для толчка, чтобы из родинки выросла злокачественная опухоль?
И ведь ничего никому не докажешь.
Остапенко затолкал бумаги в карман пиджака. Сложил кисти в замок, потряс ими:
– Мы победим! Но пасаран...
«Нет, все же и впрямь старость не радость...» – подумал доктор.
Шаркающей походкой Сергей Семеныч вышел из кабинета.
Доктор пошел следом, выглянул в коридор – никого. Да никого и не должно быть. Во-первых, уже всякое время вышло, а во-вторых – это же Остапенко.
Доктор снял халат, сбросил с вешалки простыню, прикрывавшую куртку. Собрал портфель и замер, услышав в коридоре шаги.
Неужто по его душу?!
Коллеги давно разошлись, и он один на этаже. Ну нет, никаких поблажек. С номерком, без номерка – хорошего понемножку. Да и шаги больно бодрые, для его-то пациентов.
Он уже решительно надевал куртку, когда дверь распахнулась.
На пороге стояли двое.
Одного взгляда было достаточно, чтобы понять: нежданные визитеры ничуть не нуждались в медицинской помощи. Они выглядели здоровыми, как лоси.
Не спрашиваясь и вообще не говоря ничего, один шагнул к столу, взял карту Остапенко, коротко вздохнул и обернулся к своему спутнику.
Все происходило в полном молчании.
Возможно, он прикрыл глаза на миг – доктор не видел.
Он, доктор, вообще больше ничего не видел. И звука не услышал – с похожим звуком из бутылок вылетают пробки.
Первая пуля попала доктору в сердце, и он умер еще до того, как повалился на пол. Вторая, уже ненужная совершенно, догнала его в падении и продырявила легкое. Третий выстрел традиционно стал контрольным, и между бровей образовалось черно-красное отверстие.
Пока напарник нашпиговывал хозяина кабинета свинцом, первый вошедший прибрал к рукам карту Остапенко. Быстро просмотрел последнюю запись. Взялся за лист с намерением выдрать его, но передумал и сунул карту в обычный «дипломат». Щелкнули замки.
На все ушло не более двух минут.
По их истечении в кабинете не осталось ни души – впрочем, о душе доктора, покинувшей тело, нельзя сказать ничего определенного. Не исключено, что она все еще оставалась на рабочем месте и в ужасе взирала на свое недавнее пристанище.
Незнакомцы проворно сбежали по лестнице в вестибюль, где один на пару секунд задержался. Со стороны могло показаться, что у него возник какой-то вопрос к регистраторше. Вскоре он нагнал товарища, и оба вышли из поликлиники, пересекли темнеющий двор, скрылись под аркой.
Вестибюль был залит ровным электрическим светом. Оконца справочного и квартирной помощи были закрыты заслонками.
Из регистратуры не доносилось ни шороха.
Медсестры-регистраторши не было видно, и не удивительно: она вытянулась на полу, наконец-то сравнявшись с недосягаемым доктором – хотя бы по количеству пуль, засевших в теле.
Медсестры часто страдают комплексом неполноценности – на фоне врачей. Но вряд ли кому-то захочется стать равным небожителям по воле горячего свинца.
...Остапенко обнаружили через двое суток.
Шум подняла почтальонша, принесшая Сергею Семенычу пенсию. Остапенко отличался отменной пунктуальностью. В положенные дни он всегда сидел дома, ждал. Он именно сидел, на табурете, у двери, потому что слышал не очень хорошо. Отстегивал благодетельнице за труды, по чуть-чуть, и та была к нему искренне расположена.
Он жил один, у него не было ни жены, ни детей.
То, что он не отворил дверь на звонки и стук – впервые за много лет, – показалось почтальонше подозрительным. Она насторожилась, хотя никаких серьезных причин для волнения не имела – мало ли, куда ушел пенсионер.
Почтальонша, однако, сочла за лучшее наведаться к соседям.
Заглянуть в замочную скважину она не догадалась, зато догадались они. Видно было чертовски плохо, но в полумраке все же удалось различить запрокинутую руку. Сразу стало ясно, что Сергей Семенович лежит навзничь, в гостиной, потому и виднеется лишь его рука со скрюченными пальцами.
...Вызвали всех, кого касаются такого рода происшествия.
– Как болел, уж как болел, – сокрушалась соседка. – Все бодрился, а мне намедни сон вышел, что не жилец он...
Но вскоре она умолкла.
Когда стало очевидно, что если сон ее и имел некоторое касательство к случившемуся, то состояние здоровья Сергея Семеныча тут оказалось уж явно ни при чем.
Труп пенсионера представлял собой такое зрелище, что услуги скорой помощи, прибывшей на место, понадобились именно соседке, а не Остапенко. Сердобольную старушку увели под руки и долго пребывали в сомнениях – оставить ли ее дома или все-таки отвезти в больницу.
Сергея Семеновича, как сразу стало понятно, долго допрашивали. Допрос этот включал в себя многие методы, широко практиковавшиеся гестапо и другими родственными службами. Кровоподтеки, выдернутые ногти, следы ожогов. По завершении допроса Остапенко задушили его же собственным ремнем.
В квартире царил разгром, убийцы что-то искали. Если и были следы борьбы, то они терялись среди общего хаоса. Впрочем, вряд ли пенсионер-инвалид мог активно сопротивляться. Случившееся – не имея даже к тому очевидных оснований – незамедлительно привязали к недавней бойне, устроенной в поликлинике, по поводу которой уже вовсю гудел весь город. Не сразу даже вспомнили и осознали, что да – Остапенко, можно сказать, дневал там и ночевал; «компетентным лицам» достаточно было самого факта убийства, совершенного по соседству со злополучным учреждением.
Следствие взяли на контроль в самой высокой инстанции.
Работники прокуратуры готовы были землю рыть, подгоняемые властями всех вышестоящих уровней. Но они так и не успели ничего нарыть, ибо дело неожиданно забрали в ФСБ, а слухам и сплетням постарались по возможности положить конец.
Лишившись подпитки, слухи мало-помалу сошли на нет.
Ребенку известно, что ФСБ весьма неохотно делится своими секретами. Вмешательству госбезопасности никто не удивился, хотя ФСБ объявилась внезапно, как это чаще всего и бывает. Обычные работники следственных органов, обладая отменным чутьем и богатым опытом, с самого первого дня смекнули, что дело гнилое и лучше бы в него не влезать. Заурядным криминалом здесь и близко не пахло.
Никто не станет заказывать заурядного лекаря, участкового терапевта.
Никто не станет драть ногти безденежному пенсионеру, все достояние которого – старенький телевизор да радиола, уже десять лет как безнадежно вышедшая из строя. Единственной драгоценностью покойного была сберкнижка с жалкой парой тысяч рублей на счете.
И никто не будет с бухты-барахты похищать медицинские документы – опять же единственное, что исчезло как из квартиры убитого, так и из поликлиники. Медицинскую карту Остапенко искали везде, и хотя всю регистратуру перерыли буквально вверх дном, но так и не нашли.
Часть первая
ВАЛЕНТИНОВЫ ДНИ
Глава первая
ЛАЗАРЕТ
За Сережкой пришли на рассвете.
Рассвет выглядел серым: всегда был таким – моросил ли дождь, сияло ли солнце.
Сережка не спал, его просто не было. Кто-то выключал свет, чтобы включить его заново через полсекунды. Проходили часы, но Сережка не замечал их. Не только счастливые не наблюдают часов. Из утра в утро ему чудилось, что он только что рухнул на нары; внезапное пробуждение не удивляло его, и не злило, и вовсе не огорчало. У него не было никаких осознанных чувств.
Он не видел пасмурного рассвета, заползавшего в щели; не ощущал сквозняков, не осознавал голода. Голод давным-давно выродился в автоматическое, лишенное каких-либо эмоций желание проглатывать любую субстанцию, хотя бы отдаленно напоминающую пищу. Холод не брал Сережку, температура его тела достигла того минимума, при котором еще ходят и дышат.
Полосатая роба свободно болталась на нем, иногда он в ней даже путался.
За ним явились, когда до побудки оставалось несколько минут. Сережка вскочил, глядя перед собой тупо и равнодушно. Липкий страх, разлившийся по членам, был сам по себе, а Сережка – отдельно. Страх облегал его, как трико, не сливаясь с кожей.
Снаружи доносился отрывистый лай овчарок.
– Ruhe, – доброжелательно произнес Рудольф Райнеке. – Спокойствие. Подойди ближе, два шага вперед.
Позади него стояли еще двое – автоматчики. Слишком расточительно для Сережки, которого можно было повалить на землю одним мизинцем.
Сережка сразу понял, что это значит.
Он знал, что рано или поздно это произойдет. На миг он испытал нечто вроде облегчения: сегодня не придется ворочать камни. Может быть, больше никогда не придется.
Райнеке улыбнулся. И этой улыбки хватило, чтобы страх перешел в наступление. Нащупав брешь, он просочился в воспаленный желудок и устремился вверх, мутя сознание. Сережка пошатнулся. Унтерштурмфюрер придержал его за плечо.
– Ты нездоров. – Райнеке сдвинул брови, изображая озабоченность. Он погрозил Сережке пальцем и покачал головой. – Тебе обязательно нужно лечиться. Мы отведем тебя в амбулаторию.
В амбулаторию до Сережки уже отвели половину барака. Иной раз выдергивали по одному, в другие дни забирали нескольких. Ни один не вернулся.
Тем не менее, практически все обитатели барака прекрасно знали о многом, что происходило в амбулатории. А если чего и не знали, то воображение с лихвой окупало неосведомленность. Узники, однако, догадывались и о том, что действительность гораздо хуже их фантазий.
Хуже она была тем, что отличалась будничной бесхитростностью. Примитивизм амбулаторных событий имел исключительно антигуманную основу.
Зденек, которого увели неделей раньше, подробно рассказывал об уколах, которые доктор Валентино делал прямо в сердце. Зденек утверждал, будто видел это собственными глазами. Подтвердить его слова было некому, но слухи об уколах циркулировали по лагерю и помимо Зденека уже достаточно долго, чтобы приобрести качество неоспоримой истины.
Зденек добавлял подробность, снимавшую последние сомнения. Он говорил, что Валентино колет фенол.
Что такое фенол, никто из ребят не знал. Неизвестность сообщала слову запредельную жуть, и слушатели получали бледное представление об истинном положении дел.
Альтернативой фенолу были печи и душевые, где вместо воды время от времени подавалось вещество, обыкновенно существующее в ином агрегатном состоянии. И еще брали кровь, когда приходила разнарядка. Гуляли слухи, что Валентино не любит эту процедуру, потому что приходится возиться, соблюдать чистоту, а доктор слыл человеком нетерпеливым.
Гришка и Мирра, не выдержав ожидания, бросились на проволоку под током, и солдаты сбивали их длинными палками, а на руки у них для подстраховки были надеты длинные резиновые перчатки. Ярослав, собравшийся поступить так же, был застрелен с вышки, не добежав двух метров до ограждения. Густава затравили собаками. Эти собаки остановили впоследствии многих. Гибель под током казалась выходом, но животные представлялись не лучше смертельных инъекций.
Сережка приготовился ко всему. Он обессилел настолько, что любой отчетливо прорисованный финал его устраивал, главное – успеть отключиться. Но он справедливо считал, что может быть нечто и похуже фенола. Имя ему – неведомое. Неведомое в отношении фенола и его действия не могло сравниться с неведомым как таковым. Последнее было неведомым в квадрате, ибо в лагере знали и то, что фенолом врачебная деятельность доктора Валентино не ограничивалась.
Он еще ставил опыты.
Из чистого любопытства и желания посмотреть, что будет, если сделать это и то, а потом еще и третье, если субъект останется жив.
А опыты означали, что существуют вещи, о которых и сам Валентино не ведал, – иначе к чему быть опытам? Кошмары, с которыми незнаком сам Валентино, – вот эту реальность уже никто не мог вообразить без того, чтобы не сойти с ума.
Пока что понятно было одно: эксперименты кончались неудачно. Все до одного. Никто не вышел из амбулатории, чтобы о них рассказать.
С другой стороны, было вполне вероятно, что все они заканчивались успешно. Это зависело от поставленной задачи.
...Покуда Райнеке кривлялся перед Сережкой, староста барака встал и побрел объявлять подъем. Тоскливо ударил гонг. С полсотни теней разом сели, свесив с нар ноги. Десятки огромных глаз без малейшей тени сна в них внимательно следили за унтерштурмфюрером.
Тот развернул папку.
– Ос-та-пен-ко, – проговорил он нараспев. – Это ты, правильно?
Он неплохо говорил по-русски, хотя и с сильным акцентом.
– Я, – отозвался Сережка бесцветным голосом.
Райнеке посторонился, вновь взял его за плечо, на сей раз двумя пальцами, легонько подтолкнул к выходу. Брезгливо обнюхал перчатку.
– Доктор Валентино не любит ждать, – изрек он так, чтобы слышали остальные.
Сережка пошел на выход.
Он не оглядывался, хотя знал, что уходит навсегда. За спиной не оставалось ничего, с чем хотелось бы попрощаться.
Он оглядывался, когда его заталкивали в вагон; дело было под Минском. И после оглядывался, когда родное село уже давно скрылось за горизонтом. Даже подпрыгивал, стараясь дотянуться до широкой щели меж досками; расталкивал товарищей по несчастью, ругался, получал тычки под ребра и сам отвечал тем же.
Потом оглядывался на состав, когда их высадили и повели сквозь строй собак и человекоподобных существ.
А дальше уже ни-ни.
Амбулатория – еще ее называли лазаретом, хотя там никогда никто не лежал, чтобы лечиться, все больные приходили в себя в бараке, и это если им везло, или не везло, как посмотреть, – занимала почетное место, располагаясь в центре лагеря, по соседству с администрацией. Можно сказать, что она являлась лагерным сердцем. Ее окна были забраны решетками и – сверх того – на две трети закрашены зеленой масляной краской; поверх ее границы вечерами выбивался зловещий свет; ночами – тоже. Создавалось впечатление, что доктор Валентино вообще никогда не спит.
Он, разумеется, спал, и много больше, чем остальные, даже лагерная администрация.
Бредя под отеческим присмотром Райнеке, Сережка механически сожалел о пропущенном завтраке. Не думать о нем было не в его власти. Кружка кипятку и пайка хлеба с отрубями. Завтрак либо зажмут, либо поделят на весь барак. Но, скорее всего, аккуратные немцы уже вычеркнули Остапенко из продовольственной ведомости.
Еще один автоматчик размеренно прохаживался перед крыльцом.
При виде офицера он вытянулся в струну. Райнеке небрежно махнул ему, солдат отошел в сторону, пропуская Сережку.
– Будь как дома, – хохотнул Райнеке, берясь за дверную ручку.
Сережка помедлил на пороге, и унтерштурмфюрер тут же грубо втащил его за шиворот – от «доброго» обхождения не осталось и следа.
Церемонии закончились.
Валентино вышел к ним лично, хотя обычно подопытный контингент принимали двое его подручных, которых доктор именовал санитарами.
Это повышенное внимание было связано с секретным циркуляром, полученным накануне.
Спектр интересов доктора – по совместительству гауптштурмфюрера СС, то есть капитана, – был довольно широк. Доктор изучал все, что приходило ему в голову: воздействие на человеческий организм высоких и низких температур – читай: ожогов и обморожений; электрического тока, кислот и щелочей, разнообразных ядов, сильнодействующих лекарственных препаратов, а то и просто грязной воды, эффект которой особенно замечателен при ее внутривенном введении. Однако теперь сверху ему дали понять, что пора бы и перестать валять дурака. Пора вспомнить о долге перед германской медицинской наукой, иначе выходит, что Валентино Баутце даром ест хлеб германских бауэров.
Берлинское руководство Валентино вдруг по-настоящему озаботилось важными биологическими исследованиями и вспомнило, что лазареты в концентрационных лагерях были созданы, в частности, именно для решения такого рода научных проблем. Вспомнило и напомнило – не одному Валентино, но и его коллегам в других исправительно-трудовых учреждениях.
Конечно, перед медиками Третьего рейха стояли и задачи куда более насущные. Их решение не терпело отлагательства – например, поставки донорской крови для раненых германских солдат. Под Москвой, например, эскулапы фюрера вчистую «высосали» целый детский дом, начиная с грудных младенцев. Соображения о расовой неполноценности славян и евреев почему-то не распространялись на их кровь.
Но надо же и науку двигать!
Вместе с циркуляром доктор Валентино получил два цинковых ящика с культурами разнообразных бактерий. Ввиду заведомо низкого уровня как лагерной медицины, так и профессионализма Баутце, ему не доверили работать с так называемыми особо опасными инфекциями. Но и того, что прислали, хватило бы за глаза и за уши, чтобы десять раз кряду отправить на небеса не только весь лагерь, но и все население прилегающей местности в радиусе двадцати километров. С одной стороны, можно было бы и не тратиться – навозная жижа, которую Валентино впрыскивал своим пациентам в живот, была ничем не хуже. С другой же – наука требовала строгости; Третий рейх не в игрушки играл, он рассчитывал простоять еще тысячу лет и создать среди прочего медицину, равной которой человечество не видывало. А здесь без чистоты эксперимента не обойтись.
Валентино была поставлена предельно ясная задача: отсортировать выживших. Руководство интересовало не само по себе воздействие микробов, давно известное медикам, но мощь естественного иммунитета.
Откуда взялся вдруг такой интерес, доктор Баутце не имел ни малейшего представления. Как исправный солдат Рейха, он даже не задумывался, зачем и кому понадобились подобные изыскания. Добро бы речь шла об арийцах! Их иммунитет и в самом деле представлял интерес. Однако Валентино предпочитал не вникать в тонкости. Он просто выполнял приказ – именно так он и будет рассказывать впоследствии, когда окажется перед лицом международного трибунала, который почему-то не оценит его исполнительность и распорядится вздернуть доктора без долгих разбирательств.
Доктор, кстати, не согласится с этим и предпочтет побег, вследствие чего приговор какое-то время не будет приведен в исполнение – возможно, он не был бы приведен никогда, не вмешайся израильская разведка.
...В первый момент Валентино растерялся. Задача подразумевала достаточно продолжительное наблюдение в динамике, тогда как амбулатория не была обустроена для таких мероприятий. Требовался, как минимум, десяток коек, а у Валентино вообще не было ни одной – зачем? Процедуры не занимали и часа, а потом пациенты превращались в пепел и дым.
Пришлось позаимствовать лежаки у господ офицеров. Те, конечно же, пришли в негодование, но ненадолго. Кое-как устроились, позаимствовали кровати в ближайшей деревеньке. Реквизировали – где именем фюрера и Великого Рейха, а где и просто так, без объяснений.
Когда помещение более или менее оборудовали, Валентино приказал набрать группу. Он предупредил, что привести нужно старожилов.
– Они же почти на ладан дышат, – удивился комендант лагеря фон Троттнов. – Вчера прибыла свежая партия, они будут покрепче...
– Это только так кажется, герр комендант, – проникновенно возразил Валентино. – Первое впечатление обманчиво, вы знаете это не хуже меня. Пройдет пара дней, и девяносто процентов из них превратится в гниющие полутрупы. А вот те, что продержались недели...
Фон Троттнов пожал плечами:
– Эти недели не сделали их здоровее. По своему потенциалу они уже мало чем отличаются от упомянутых вами полутрупов, он у них изрядно подорван.
– Потенциал можно восстановить, – прищурился доктор. – Главное, что мы определили его наличие в прошлом, а с новичками черта с два угадаешь. Как говорят русские: «Были бы кости, мясо нарастет». А кости у них неплохие. В переносном смысле, я говорю о задатках.
– Как же вы собираетесь восстановить потенциал? – скептически усмехнулся комендант. С такими задачами он еще не сталкивался. Ему вменялось в обязанность прямо противоположное.
Теперь пожал плечами Валентино:
– Это наша общая задача, герр комендант. Усиленное питание, отдых, здоровый сон. Витамины...
Герр комендант нехорошо расхохотался:
– Вы путаете наш лагерь с Карлсруэ... Позволю себе напомнить, что здесь не курорт. Витамины! Господа офицеры – и те не помнят, как они выглядят.
– Приказ Берлина адресован не только мне. Ответственность общая, и первый спрос – с администрации...
– Вы угрожаете мне?
Фон Троттнов побагровел.
Валентино искренне удивился:
– Бог с вами, герр комендант! Зачем мне это? Господь свидетель – какое мне дело до выносливости этого сброда? Чтобы я стал рисковать нашими дружескими отношениями – ради них?
– Я далек от этой мысли... Вы дрожите за собственную задницу и хотите переложить ответственность на меня...
– У нас с вами общая задница, Рихард. Я левая половина, вы – правая. Или наоборот, как вам будет угодно. Я всецело доверяюсь вашему чувству прекрасного. Мы два полушария единого мозга.
Фон Троттнов, прикинув в уме, признал правоту доктора. Сравнение с полушарием он расценил как комплимент. В прошлом торговец кожей, он плохо разбирался в анатомии и не знал, какое из двух почетнее.
– Хорошо, – буркнул он. – Если руководство настаивает, мы устроим этим обезьянам райские кущи. Но подписей на ходатайствах будет две – моя и ваша... Если ветер переменится, то расход витаминов на скот сочтут диверсией.
– Иначе и быть не может. И в тексте мы сошлемся на директиву с указанием номера...
Комендант подумал еще немного.
– Знаете, дружище, я бы на вашем месте не слишком распространялся об этих витаминах и прочих излишествах. Солдаты и офицеры могут понять нас неправильно. Восстания не будет, но доносов не избежать.
– Из моего санатория еще никто не выписывался, – улыбнулся Валентино. – И не существует потенциала, который бы устоял перед моим клиническим опытом.
...Сережка ничего не понял, когда его провели в палату.
Здесь были настоящие постели с чистым бельем. И вообще было чисто – не как в нормальной больнице, конечно, но и не сравнить с обычными для амбулатории доктора Валентино застенками, запачканными кровью и дерьмом.
Под каждой кроватью – персональный ночной горшок, тоже позаимствованный у офицерского состава.
Правда, Сережку приковали к спинке кровати цепью.
Как и девятерых других.
Пятерых мальчиков и четырех девочек.
Разделять пациентов по половому признаку никто не собирался. Да и самих подопытных вопросы пола интересовали в последнюю очередь.
Доктор Валентино вышел на середину комнаты, держа в руках список.
По-русски он говорил значительно хуже Райнеке, поэтому и речь его приводится здесь с естественными поправками.
– Друзья мои, – торжественно заговорил Валентино, поблескивая очками в тонкой оправе. Он был неимоверно худ, лыс, с огромными кистями и лошадиным оскалом. – Германский Рейх высоко оценил вашу трудовую деятельность на благо Германии. Германский Рейх беспощаден к тунеядцам и лодырям, но он справедлив и щедр к тем, кто оправдывает его надежды. Вы хорошо поработали, что стало для всех приятной неожиданностью, и личным распоряжением фюрера поощряетесь двухнедельным отдыхом. Ваши цепи – вынужденная мера, продиктованная соображениями безопасности и спецификой пенитенциарного заведения. Вы пройдете ускоренный курс оздоровительных процедур, которые помогут вам восстановить силы и послужить к торжеству вашей новой родины...
Никто не понял его слов, будучи не в силах поверить, что Рейх оказывает узникам некую милость.
Не пытаясь далее убедить детей в очевидном, добрый доктор Валентино приступил к перекличке.
– Штребко!
– Я...
– Кудасова!
– Я...
– Остапенко!
– Я, – ответил Сережка.
Доктор Валентино сделал паузу и всмотрелся в него.
– Ты находишься здесь полтора месяца, – заметил он уважительно. – Возможно, это ошибка? Или я действительно прав? Почему же мы с тобой до сих пор не встречались? Почти вся твоя партия уже получила прививки.
– Не знаю... я здесь давно.
Баутце хмыкнул.
– Ты стойкий парень, настоящий солдат. Я возлагаю на тебя очень, очень большие надежды.
Он продолжил:
– Мрожек!
– Я...
– Розенблюм!.. Шацкая... Черединченко... Штокман... Григорян... Плужек...
Удовлетворившись присутствием названных, Валентино аккуратно сложил лист и положил в карман халата.
Халат был свежий.
Валентино питал слабость к чистым халатам. Он старался не замараться, даже когда забавлялся с фенолом, потому что агония, которой заканчивались эти веселые игры, сопровождалась многими нежелательными физиологическими явлениями. Он умудрялся оставаться чистым, когда рвал зубы, выполнял без наркоза полостные операции, вскрывал перочинным ножом позвоночный канал, переливал собачью кровь...
Доктор распахнул дверь и сделал широкий приглашающий жест. Он вел себя как заправский паяц.
Вошли солдаты-санитары с подносами. Витамины еще не подоспели, но пища была с господского стола, и пациенты потеряли дар речи.
– Яд, – вырвалось у мальчугана по фамилии Мрожек.
Он произнес это чуть слышно, как констатацию факта, но Валентино уловил. Доктор укоризненно вскинул редкие светлые брови:
– Нехорошо, юнге... Я вижу последствия враждебной пропаганды. Я обязательно доложу об этом герру коменданту и попрошу его обратить внимание на идеологическую атмосферу в лагере.
Мрожек испуганно замолчал. Он понял только, что печально известный доктор намерен о чем-то наябедничать герру фон Троттнову.
– Ешьте спокойно, – ослепительно улыбнулся Валентино. – Вы заслужили еду. Порции маленькие, потому что вам вредно наедаться сразу. Впоследствии они непременно будут увеличены...
Санитары раздали подносы.
Валентино снял очки и начал сосредоточенно протирать их носовым платком. Когда он поднял глаза, посуда была пуста.
Его новоиспеченные подопечные сидели на постелях и с прежней тупостью смотрели в пол. Выражения их лиц нисколько не изменились.
На лице Валентино, в свою очередь, отразилось секундное отвращение. Он быстро взял себя в руки: медику не пристало испытывать подобные эмоции при виде пациентов.
Он вспомнил, каких трудов ему стоило сдержать это чувство, когда накануне великой войны он участвовал в ликвидации крупной группы пациентов, которые самим фактом своего дармового проживания в психиатрической лечебнице подрывали могущество Рейха и бросали тень на арийскую расу. Немцев среди них было большинство. Тогда ему тоже стало противно: перед ним перетаптывались какие-то грязные животные, но он пересилил себя, заставил себя дотрагиваться до них – нельзя сделать смертельную инъекцию, не касаясь пациента, а пули на них было жалко, государство и без того изрядно потратилось на эту никчемную публику.
– Отдыхайте, милые дети. – Валентино Баутце заставил себя подмигнуть пациентам. Впрочем, шутки давались ему почти без натуги.
Он проследил, чтобы санитары хорошенько проверили замки на цепях.
Сережка Остапенко лежал и смотрел в потолок.
Потолок был испещрен трещинами, в углах – седая паутина. Тускловатая лампа, забранная в железную сетку. Желтые пятна от протечек. Обычно немцы строят на совесть, но здесь они явно поработали спустя рукава. А может быть, амбулаторию строили никакие не немцы, а «работнички» вроде него самого.
Сережка не наелся.
Но пища, про которую он уже позабыл, что такая бывает на свете, усваивалась, и в голове постепенно оживали мысли. Сперва простейшие, коротенькие, но постепенно они усложнялись.
Щеки слегка порозовели.
На последней мысли: «Все это не к добру» – Сережка отключился, заснул и проспал до обеда.
Его товарищи занимались тем же. К обеду их с шутовской деликатностью разбудили, накормили мясным бульоном. К вечеру доставили витамины, и все получили по первой инъекции.
При виде шприцев ни у кого не осталось сомнений по поводу предстоящего: здесь хорошо знали, что несет в себе шприц.
Ребята были уверены, что теперь-то все и кончится, но жестоко ошиблись.
Все только начиналось.
Глава вторая
МЫШИ ДЛЯ ФЮРЕРА
Две недели, отмеренные доктором Валентино на восстановление подорванного потенциала, пролетели как один тревожный сон.
Подопытные усиленно питались и усиленно отдыхали, однако цепи неизменно напоминали им о реальном положении вещей, и никто не верил в удивительные милости, якобы излившиеся от Великого Рейха и лично от фюрера. Хотя поверить хотелось, как, наверное, хочется верить в чудеса.
Иногда они вплотную приближались к мысли, что чем черт не шутит – слова Валентино могли оказаться правдой, но тут в дело вступали санитары. Эти высшие приматы не привыкли к роли, обычно играемой младшим медицинским персоналом. Они устали прислуживать заведомым покойникам – да их, в конце концов, никто и не заставлял вести себя любезно и обходительно. Начальник пусть шутит и развлекается, коли ему нравится, а им эти игрища давно опротивели.
Поначалу, будучи в легком смятении от режима, назначенного подопытным, санитары держались более или менее тихо. Но очень скоро природа взяла свое. Хотя рук эти дегенераты и не распускали, но с удовольствием позволяли себе разнообразные гримасы, намекавшие детям о скором прекращении вольницы.
Зверские рожи, которые они корчили, в сочетании с ядовитыми улыбками возвещали близкий конец безоблачного оздоровления.
Однажды санитары застали Штребко за проверкой цепи на прочность. Штребко взбрела в голову бредовая идея: он заподозрил, что если режим смягчился, то это смягчение распространилось и на все остальное. Возможно, что оковы не такие прочные, как обычно, а часовой на входе безалабернее и глупее, чем его однополчане.
Значит, можно попробовать смыться.
Штребко не думал, что ни колючая проволока, ни минные заграждения, ни вышки никуда не делись. Он давно разучился размышлять обстоятельно. И вообще рассуждал в духе английского субъективного идеализма, тогда как германский дух охотнее склонялся к вещам в себе и требовал того же от славянских и еврейских, да, впрочем, и английских недоумков.
Ну, тут уж санитары отвели душу, хотя мятежник и не позволил себе ничего из ряда вон выходящего. Он просто теребил цепь – со стороны вообще могло показаться, что он развлекается как обычный ребенок – за неимением лучшей игрушки. Но игры тоже считались серьезным проступком.
Конечно, в бараке Штребко ждало бы более суровое наказание, но и в амбулатории ему мало не показалось. Санитары били умело и грамотно, не оставляя следов, – доктор Валентино по-прежнему вел себя странно и мог рассвирепеть, если бы увидел ссадины и синяки.
Цель между тем была достигнута: дети вновь вспомнили, на какой они планете. Планета называлась Земля. Ничего не изменилось.
А когда две недели прошли, цепи укоротили. И этих цепей стало по четыре вместо одной, для рук и для ног.
В арсенале Валентино имелись и ошейники, но к ним не прибегли, так как была опасность, что подопытные задушат себя. Прецеденты имелись. В обычной ситуации это даже приветствовалось бы, но требования эксперимента исключали подобный финал. А так, в обычной своей практике, Валентино иногда предлагал пациентам выбрать: удавиться самостоятельно (ведь сделать это сможет каждый дурак!) или испытать на себе весь комплекс лечебно-профилактических мероприятий.
До сих пор цепь была достаточно длинной, чтобы пациент мог встать с постели и воспользоваться тем же персональным горшком. Но теперь это сделалось невозможным.
Санитары восприняли эту меру со смешанным чувством. С одной стороны, они облегченно вздохнули: все возвращалось на круги своя. С другой же, стало ясно, что больных придется перестилать. К этому арийцы не были готовы. Сама мысль о такой перспективе казалась им оскорбительной. Пока что еще обходились тем, что детей ненадолго расковывали, когда те просились по нужде, но обольщаться не следовало. Процедуры, назначавшиеся в лазарете, рано или поздно приводили к полной утрате контроля над естественными отправлениями.
Доктору пришлось провести суровый инструктаж и даже говорить в повышенном тоне. Никто не роптал вслух, но Валентино чувствовал, что необходимо продемонстрировать жесткость и категоричность.
– Вы солдаты, – напомнил он: так оно и было. Санитары, будучи в ефрейторском чине, строго говоря, никакими медицинскими работниками не являлись. – Это приказ!
...Доктор Валентино озабоченно расхаживал по своему кабинету, ломая голову над формой отчетности. Наверху полагали, что ему и без того было известно, в каком виде подавать результаты научного исследования. Армейский подход в таких делах известен: если ты медик, то твоя специализация никого не интересует. Будь любезен и аппендикс вырезать, и зубы выдрать, и зрение починить. Тогда как на деле все обстояло хуже: он понятия не имел, как следует преподносить документы такого рода. Валентино в жизни не занимался наукой и не без оснований подозревал, что условия проведения эксперимента сильно отличаются от классических.
Но у него имелась зацепка: он знал, какого именно результата от него ждали. Ожидания были предельно понятны, а потому тонкостями можно было пренебречь.
Он подсел к столу, развернул все тот же список и начал делать пометки, задумываясь над каждой фамилией. Приходилось действовать наобум – ему не из чего было исходить, назначая конкретную культуру тому или иному подопытному.
Все подопечные пребывали сейчас приблизительно в одинаковой форме. Да и микробы своими болезнетворными свойствами мало чем отличались друг от друга.
И доктор Валентино махнул рукой, пуская все на произвол. Он быстро расписал материал, после чего принялся собственноручно готовить растворы. Разумеется, приняв все меры предосторожности. Он не какой-нибудь там Кох или Дженнер, Великая Германия ждет от него совсем иного подвига.
Покончив с приготовлениями, он снова вызвал санитаров и осведомился, достаточно ли надежно обездвижены дети.
– Никто не дернется, герр доктор, – заверили его санитары.
Доктор усмехнулся.
– Еще как дернутся. Только не сейчас – после...
Он знал, о чем говорит. Одной лишь столбнячной культуры было вполне достаточно, чтобы цепи, в которые были закованы дети, подверглись серьезному испытанию на прочность.
Валентино распорядился готовить вторую группу. Новых кандидатов следовало освободить от работ, не подвергать избиениям – о восстановлении потенциала речь пока что не шла, ибо в барачных условиях заниматься этим было решительно невозможно.
Шприцы были разложены на подносе и прикрыты белоснежной салфеткой.
Валентино вошел в палату, лучась особо радостной улыбкой.
– Дети, – объявил он. – Ваш отдых вступает в новую стадию. Сейчас вам будут введены сильнодействующие лекарства, от которых могут возникнуть осложнения. Назначая их вам, Великий Рейх преследует две цели. Во-первых, продолжить ваше лечение; во-вторых, испытать эти лекарства для применения на других нуждающихся. Поэтому и были приняты не очень приятные меры, в силу которых ваша свобода сейчас ограничена.
Помедлив, доктор добавил:
– Если кто-то позволит себе – не знаю уж, как – нарушить чистоту эксперимента, то его будет ждать жестокое наказание.
Долгожданные слова были произнесены.
Что ж, дети всегда знали, что наказанием все и кончится.
Предусмотрительный Валентино снабдил шприцы накладными ярлычками, чтобы не было путаницы. Он обвел палату взглядом, с удовольствием сознавая, что никто из присутствующих пока не знал, кому что достанется. Кому-то столбняк, кому-то брюшной тиф, дизентерия, гепатит... Он был уверен, что эти малолетние ублюдки и слов-то таких не слышали.
В большинстве случаев внутривенное введение культуры предполагало неизбежный сепсис, опаснейшее заражение крови. Высоко контагиозных – то есть особо заразных и опасных – инфекций Валентино, как уже сказано, не доверили: слишком высокий риск для персонала, да и вообще... Берлин не нуждался в эпидемиях. Берлин не интересовала и устойчивость к какому-то конкретному возбудителю – ему было важно выявить устойчивость как таковую, отобрать наиболее выносливых, способных справиться с заразой даже в условиях концлагеря.
...Валентино подсел к Сережке.
Санитар, пребывавший наготове, тяжело шагнул вперед и перехватил плечо мальчика жгутом.
– Поработай кулаком, – попросил Валентино. Просьба прозвучала как ласковый приказ и оттого показалась еще ужаснее.
Юный Остапенко подчинился.
Обозначилась тоненькая, как ниточка, вена, и Валентино ловко ввел иглу.
«Надо было внутрибрюшинно», – запоздало сообразил доктор, но делать было нечего. Ладно, пусть эта группа получает бактерии внутривенно – следующей устроим повальный перитонит.
Сережка закрыл глаза, ожидая, что умрет сию же секунду. Но он не умер – он вообще ничего не почувствовал. Это его больше насторожило, чем удивило и обрадовало.
Валентино обходил пациентов, щедро накачивая их убийственной заразой. Второй санитар вел киносъемку: состояние до, во время и после.
Покончив с процедурой, Валентино вернулся в кабинет и стал заполнять истории болезни, заведенные на каждого, с точным указанием времени введения культуры, общего состояния подопытного и предварительного прогноза. Страхуясь, в последнем пункте он не баловал разнообразием. Прогноз неизменно оказывался, как выражаются медики, серьезным.
Эффекты сильнодействующего чудо-лекарства не заставили себя ждать.
Несколькими часами позже зазвучали первые стоны, в самом скором времени перешедшие в крики. У всех резко повысилась температура; у многих открылись кровавые понос и рвота. Заботливым санитарам приходилось быть начеку и следить, чтобы никто из испытуемых не захлебнулся. Им пришлось освободить по одной руке, чтобы дети могли хотя бы повернуться на бок.
Все напускное добродушие доктора и персонала улетучилось, как надоевший мираж. Палата превратилась в ад.
Санитары проклинали больных и, как умели, обрисовывали их недалекое будущее. Говорили по-немецки, но интонаций хватало, чтобы уловить общую направленность сказанного.
Вопли разносились далеко за пределы амбулатории, и Валентино подумал, что со следующей партией номер с благодарностью от Великой Германии не пройдет. Что ж – оно и легче. Ему и без того наскучил весь этот балаган.
К вечеру в палату наведался сильно выпивший фон Троттнов.
В расстегнутом кителе, в сбитой на затылок фуражке, он остановился в дверях и мутным взором уставился на пациентов. Примерно половина из них корчилась в судорогах. Подоспевший Валентино горестно посетовал на невозможность лабораторных исследований.
– Анализов, – пояснил он в ответ на недоуменный взгляд коменданта.
Тот осклабился:
– Не открыть ли для них госпиталь?
Доктор Баутце рассмеялся дробным смешком.
Научное исследование, безусловно, требовало лабораторных данных. Но руководство не требовало подобных тонкостей. Оно подходило к делу, так сказать, феноменологически. Выжил – вот и есть результат; сдох – то же самое. Валентино справедливо полагал, что если в анализах и возникнет необходимость, то лишь позднее, когда будут выявлены самые стойкие.
Он, правда, был убежден, что даже самые стойкие вряд ли доживут до анализов. В лучшем случае, они просто продержатся дольше других.
Пошатываясь, комендант направился к больным. В руке у него была наполовину опорожненная бутылка шнапса.
– Осторожнее, герр комендант. – Валентино предупреждающе выставил ладонь. – Это заразно...
– Ничего страшного... сейчас я устрою им дезинфекцию...
Фон Троттнов поочередно останавливался у каждой койки и поливал детей спиртным, избегая при этом до них дотрагиваться. Иногда ему везло, и он ухитрялся попасть в распахнутые, кричащие рты.
Валентино не препятствовал этой приятной забаве. Он не видел, чем она может помешать опыту.
– Нельзя ли велеть им сплясать? – осведомился комендант и радостно заржал.
Ему представилась уморительная картина. Немцы любят потанцевать, а новейшая идеология, она же культура, приучила их веселиться при виде разного рода подневольных танцев. Когда изнемогающие от желудочного расстройства заморыши заковыляют гуськом, приплясывая, это будет забавное зрелище.
Валентино ответил отказом.
– Никак нельзя, герр комендант. Они сдохнут от физического напряжения, а должны – от болезни. В Берлине нас не поймут.
– В Берлине никто не узнает!
– Вы в этом уверены?
Фон Троттнов уже позабыл о своих танцевальных фантазиях. Он вдруг схватился за лицо, нагнулся, и шнапс хлынул из него пополам с офицерской закуской.
Валентино пришел в восторг:
– Герр комендант! Не угодно ли прилечь рядом? Отплевываясь, тот вышел из палаты, и доктор вскоре услышал, как герр комендант споткнулся на крыльце и загремел со ступенек, отчаянно сквернословя. Валентино сделал знак санитарам, и те бросились вытирать за приболевшей администрацией.
...Сережка видел происходящее, но ему не было дела ни до коменданта, ни до Валентино, ни до всего прочего. Его сотрясал озноб. В голове проносились огненные колесницы, влекомые чудовищами, и восседали в них чудовища еще худшие. Монстры надвигались на пике болей и растворялись где-то в затылке – с тем, чтобы сразу нарисоваться снова.
В скором времени начались судороги, а потом у Сережки развился эпилептический припадок. Он прикусил язык, обмочился. Валентино не сделал ни малейшей попытки прекратить приступ, он наблюдал. Распорядился лишь об одном: следить, чтобы «подопытный материал» не задохнулся.
Санитары, чтобы у мальчика не запал язык, применили надежный испытанный метод: ножом разжали Остапенко зубы, кое-как вытянули язык и прикололи булавкой к воротнику пижамы – той же робы, только до сегодняшнего дня чистой.
...Худая, как скелет, украинская девчонка с трудно произносимой фамилией Черединченко умерла первой, вскоре после полуночи.
Ее небрежно выволокли за ноги, словно окончательно уничтожая миф о личной заботе фюрера. Впрочем, этого мифа и так уже не существовало.
К утру умерли Штребко и Плужек.
У обитателей лагеря кровь стыла в жилах от криков, несшихся из епархии лагерного здравоохранителя.
...Валентино, выспавшийся и благоухающий одеколоном, провел утренний осмотр, сделал записи. Поразмыслив немного, он решил не затягивать время – койкам не след пустовать. Санаторием уже никого не обманешь, да и ни к чему это – можно было и с этими не церемониться; Валентино теперь вовсю распоясался. Среди возбудителей, присланных из центра, не было ни одного, что мог бы передаваться воздушно-капельным путем. Поэтому не было риска, что новички подцепят хворь... да хоть бы и подцепили. Ведь им ее же и привьют...
Поэтому Валентино распорядился наладить конвейер.
На место умерших немедленно укладывали новеньких – то есть уже «стареньких», каким-то чудом выживших на каторжных работах. Их сразу же начинали откармливать, «восстанавливая потенциал». Он же иммунитет.
Поначалу Валентино опасался, что вид умирающих отрицательно скажется на физическом состоянии «нового материала», но быстро успокоился. В конце концов, для проводившейся процедуры не были прописаны стандарты, а значит, небольшие отклонения вполне допускались.
...Когда из первой группы в живых остался один Остапенко, Валентино приказал санитарам не истязать его без нужды. Ему даже самому сделалось любопытно. Шли уже четвертые сутки, а бравый юнге непостижимым образом оставался в живых! Такая выносливость заслуживала определенных поблажек. Кроме того, Остапенко явно претендовал на роль кандидата, успешно выдержавшего экзамен, и снисходительность по отношению к нему казалась целесообразной. Его следовало беречь, иначе предъявить будет нечего, и Берлин может остаться недовольным.
На пятые сутки Валентино Баутце осмелился выйти на связь с руководством.
Он рапортовал о положении дел и осведомлялся о дальнейших шагах. Как поступить с выносливым экземпляром? Подвергать ли его новым испытаниям? Оказывать ли ему медицинскую помощь?
Центр ответил директивой: испытания в отношении экземпляра прекратить, но помощи не оказывать. Особь должна выкарабкаться сама – или естественным образом отправиться в преисподнюю следом за остальными.
На шестые сутки Сережка пришел в себя, и Валентино принял на себя ответственность назначить ему усиленный паек.
Он сидел в изголовье кровати и с любопытством рассматривал подростка, лишь отдаленно напоминавшего человеческое существо.
– Вы мужественный молодой человек, – заметил Валентино. – Посмотрите вокруг – все ваши товарищи давно отправились, куда им и положено Создателем, – к чертям... А вы, упрямое животное, все еще держитесь. Это удивительно, не скрою. Великий Рейх по достоинству оценит вашу выдержку...
Сережка молчал.
Что он мог ответить?
Ответы здесь вообще были не в чести, их никто и не ждал. Он думал только, что охотно поменялся бы судьбой с погибшими, ибо уже в полной мере ознакомился с чаяниями Великого Рейха. Он предчувствовал, что благодарность Великой Германии обернется для него пытками, куда более страшными, чем те, через которые он чудом прошел.
...В Берлин полетел новый рапорт. Подопытный заключенный по фамилии Остапенко, номер такой-то, обнаружил редкую устойчивость к Clostridium tetani, возбудителю столбняка. Факт удивительный, ибо столбняк без лечения обычно сводит в могилу и здоровых мужчин, даже истинных арийцев. Причем тут уже никакое лечение не помогает. Что тогда говорить об истощенном, несмотря на бульоны и витамины, узнике, который и без того стоял одной ногой в могиле?! Налицо редкостные резервы жизненных сил, подлежащие занесению в анналы и углубленному изучению...
Как поступить с этим славянским феноменом, неполноценным во всех прочих отношениях?
Может быть, все же привить ему новую заразу? И если да, то через какой временной интервал?
Центр предписал доктору Валентино перевести неполноценную особь по имени Остапенко в специальный бокс и содержать там вместе с прочими феноменами, буде таковые появятся. Режим содержания прежний – усиленное питание, витаминотерапия, освобождение от каких бы то ни было работ, недопущение контактов с обычными заключенными.
В Берлин последовал вопрос: как долго его содержать?
Пришел ответ: вплоть до особого распоряжения.
Валентино было решительно наплевать на судьбу уникального экземпляра. Кормить так кормить, на мыло так на мыло...
Под бокс освободили небольшое подсобное помещение, поставили там еще несколько коек.
Фон Троттнов лично пришел посмотреть на чудо-ребенка. Он снизошел до того, чтобы потрепать Сережку по щеке и угостить его солдатским шоколадом.
Остапенко съел угощение в один присест. Он не испытывал к мучителям никаких чувств. Он вел себя как растение, пробившееся сквозь асфальт и готовое в любую секунду быть расплющенным первым военным грузовиком.
Прошла неделя, и у Сережки появился сосед – из евреев, Оська. Через два дня их стало трое; компанию пополнила Дашка Лисогурская.
Они почти не общались друг с другом, бессознательно ограничивая поток входящей информации. Жизнь научила их не ждать добра от внешнего мира. Им вполне хватало внутреннего, который, увы, был немногим лучше...
Часть вторая
Я – ЦЫГАНСКИЙ БАРОН
Глава третья
«РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
После тяжелых многомесячных трудов Ахмета, наконец, вычислили и засекли, так что теперь ему было уже не отвертеться. Он засветился по полной программе – как фотопленка, выдернутая из кассеты. И потянул за собой в преисподнюю остальных, среди которых выделялся Ромео.
У наркоконтроля давно чесались руки при одном упоминании имени этого персонажа, но брать его до поры до времени не хотелось.
Цыганский барон наладил широкую торговлю героином, от его благородных услуг на тот свет переселилось уже не менее пятнадцати человек – не считая тех, что были затоптаны на рейв-марафоне в СКК. Там сам черт не мог разобрать, чем накачались молодые люди. Наверное, всем подряд, хотя ниточки вели, в частности, и к Ромео с его героином. Однако органы прекрасно понимали, что у Ромео пока еще нет мощностей для самостоятельного героинового производства. Наркотик был афганский, высочайшего качества очистки, и кто-то исправно поставлял его в табор.
Ромео мог позволить себе и собственный завод по месту проживания – он давно не кочевал, но предпочитал не рисковать. Импорт казался ему более безопасным бизнесом, хотя со временем он надеялся приобрести такой заводик за кордоном.
Пришлось объединить усилия нескольких групп, и вот канал был доподлинно установлен.
Удалось проследить практически всю цепочку, так что при острой необходимости – об этом было особо объявлено – как Ахмета, так и Ромео можно было живыми не брать. Помимо наркоторговли за Ромео и Ахметом числилось немало других славных дел. В частности, Ахмет организовал бандформирование, а Ромео и организовывать ничего не приходилось – его табор и без того был прочно спаенной бандой наглых боевиков, ворья всех мастей и верных марух-гадалок.
Дом наркобарона был виден издалека: стереотипное новорусское строение, особняк красного кирпича с нелепыми башенками и шпилями. Витражи, плющ, флюгер, личный штандарт барона, личный герб – конь, взвившийся на дыбы, да бубновый туз в придачу. Высокий забор, колючая проволока, битое стекло поверху, литые ворота; вокруг на много метров – пустырь, что отнюдь не было случайностью: любой посторонний обнаруживался загодя. И так же загодя обезвреживался – при наличии оснований.
Ромео поселился в пригороде, отдав предпочтение Ладожскому направлению. Здесь было как-то грязнее, запущеннее, здесь в известной степени царила анархия, разгул которой был положен еще в лихие 1990-е годы. Народная тропа к его бандитскому логову не зарастала, но Ромео долго никто не трогал – за ним наблюдали. Барон же ошибочно уверовал в свою безнаказанность и несколько снизил бдительность. Теперь ему предстояло расплатиться за свою недальновидность, но он об этом, похоже, пока не догадывался.
Он понятия не имел о легендарной боевой группе номер один под предводительством Мадонны и Маэстро, залегшей в ближайшем подлеске.
Ромео, правда, приходилось слышать о ней, но он пребывал в уверенности, что никогда не соприкоснется с этими людьми лично.
Ахмет с тремя вооруженными сопровождающими подъехал на «шестисотом» «мерине», уже вышедшем из моды, но по-прежнему являвшемся для кавказцев символом неоспоримого могущества. Под пристальным взглядом видеокамер низкорослый, уродливо толстый Ахмет, покряхтывая, выбрался из сверкающего автомобиля и выжидающе остановился перед воротами.
Видеокамеры удовлетворились видом его лоснящейся рожи.
Зажужжал мотор, створки ворот медленно распахнулись. Ахмет зашагал вперед, «мерседес» медленно двинулся следом. Ворота замкнулись позади гостей, не подозревавших, что вместе с воротами захлопнулся и капкан.
Особая опасность фигурантов понудила органы наркоконтроля отказаться от применения собственных сил и средств и обратиться за помощью в УФСБ по Петербургу и области с просьбой выделить лучших из лучших. О первой боевой группе давно гуляла слава, и заказчики полностью удовлетворились ее содействием.
Узнав о приказе стрелять на поражение в случае надобности и не щадить никого, Маэстро пренебрежительно фыркнул:
– Детский сад. Я понимаю еще, если бы нужно было всех тут скрутить и доставить целыми и невредимыми. А если можно мочить... да тут и ребенок справится. Дай ему РПГ – и за дело...
Пыл Маэстро несколько охладили: мочить-то мочить, но разрушения должны быть минимальными. В особняке полно вещдоков; их нужно сохранить для дальнейшего раскручивания операции.
– Ее еще не раскрутили? – недоуменно спросила опытная Мадонна. – Мы не можем действовать молниеносно. Когда начнется штурм, они выйдут на связь и предупредят остальных...
– Подельников уже берут, – ответили ей. – По всей стране, и не только. Но доказательная база крепка лишь в отношении некоторых лиц... так что документы должны уцелеть, особенно электронные носители.
Мадонна покачала головой.
Носители будут уничтожены в первую очередь, если только Ромео не будет поставлен перед надобностью спасать прежде них свою голову. Она изучила местность, и пустынное пространство вокруг имения барона ей сильно не понравилось.
– Нет ли других путей подхода? При таком раскладе мы не можем гарантировать внезапность.
– Если только подкоп. Но такие работы не скроешь, и времени на них нет.
– Высадка с воздуха?
– Она ничего не решит, получится даже дольше.
– Да знаю я... – пробормотала Мадонна.
А Маэстро внезапно спросил:
– Послушайте, а нет ли у этих артистов конкурентов?
В бизнесе такого рода всегда существует противоборство. И конкуренты у Ромео с Ахметом, конечно, имелись. На них давно были заведены дела, и арест был только вопросом времени.
В конце концов, Ахмет и Ромео сами были конкуренты – в широком смысле. До поры до времени их интересы не пересекались, но рано или поздно столкновение станет весьма вероятным.
– А к чему этот вопрос?
– К тому, – объяснил Маэстро, – что конкурентов эта публика боится меньше, чем ФСБ... Никто не станет уничтожать вещдоки ввиду обычной перестрелки с себе подобными. На этом можно сыграть.
Его поняли.
– Но вы подставитесь, – возразили ему – Это крайне опасно.
– Но в противном случае нас бы и не позвали, – парировал Маэстро. – В первый раз, что ли, подставиться? – Он криво усмехнулся.
...Было принято решение применить маскировку. Вместо обычной боевой амуниции члены первой боевой группы обрядились в шмотки, за версту выдававшие в них представителей криминалитета. Всем постарались придать «кавказскую внешность», в ход пошли парики и накладные усы. Экзотический вид Гусара – темнокожего весельчака, наполовину африканца – придавал маскараду дополнительное правдоподобие. Точнее, неправдоподобие, и здесь срабатывал парадокс: чем «прикольнее», тем вроде бы и безобиднее.
Было решено открыто подъехать к особняку, воспользовавшись грунтовой дорогой, которая надвое пересекала подлесок. Приготовили джипы – в точности такие, на каких имела обыкновение разъезжать и «быковать» противная сторона. И номера поставили те же, благо они были хорошо известны сотрудникам правоохранительных органов. Не приходилось сомневаться, что при виде джипов люди Ромео в первую очередь пробьют эти номера и установят владельцев.
Было понятно, что «конкурентов» никто не пропустит внутрь. Их намерения однозначно расценят как попытку воспрепятствовать очередной сделке между Ахметом и Ромео. И, скорее всего, предпочтут расстрелять на месте, но могут, на всякий случай, и переговорить для порядка. Сомнительно, чтобы незваные гости вот так вот явились крушить и громить неприятеля – скорее, они прибыли с ультиматумом, а то, может, и в надежде о чем-то договориться. Их можно хотя бы выслушать, но никаких договоренностей не будет. Расстрел свидетелей, посмевших вмешаться в переговорный процесс, неизбежен, уж слишком большие деньги на кону, а в перспективе – еще большие.
Однако группа Маэстро выигрывала при этом драгоценные минуты, которые в противном случае ушли бы на пересечение местности. Ради этих несчастных пятисот метров и затевался весь цирк.
Но тогда засевших в особняке ожидал бы сюрприз. Номера номерами, но как только люди Ромео присмотрятся к ряженым кавказцам, они если и не признают в них спецназовцев, то, во всяком случае, им откроется их непричастность к традиционно противоборствующей группировке.
Поэтому гостям предстояло вести себя с необычной дерзостью. Все должно было решиться в первые же секунды. Далее из подлеска должен был появиться второй эшелон – куда более многочисленная группа, которой предстояло обеспечить оцепление и огневую поддержку.
Отряд Маэстро признавал, что затея рискованная, насквозь фальшивая: жутко надуманная и безумно навороченная. Ставка делалась на внезапность и неясность происходящего. Пока в особняке будет царить неразбериха, подтянутся основные силы. Может быть, они и ни к чему, Маэстро с Мадонной брали и не такие крепости. Но хорошо бы все-таки знать, сколько народу там засело. Нет ли заложников, и так далее.
...На место прибыли затемно, соблюдая при этом, впрочем, все положенные меры предосторожности. Никто не сомневался в наличии у Ромео инфракрасных датчиков. Расположить незаметно в подлеске целое воинство – задача не из легких. Люди прибывали отдельными малыми группами. На их счастье, находившиеся в особняке гораздо пристальнее следили за дорогой.
Ближе всех к особняку, почти что на самой границе подлеска, лежали и наблюдали за домом люди Маэстро – Макс, Киндер, Гусар, Томас, Прибалт и, разумеется, Мадонна. Их было не узнать; они были сами себе противны в новых нарядах.
Маэстро посмотрел на часы: половина восьмого утра. Давным-давно рассвело; по оперативным данным, Ахмета следовало ждать с минуты на минуту.
И Ахмет не обманул ожиданий.
В такого рода делах пунктуальность чрезвычайно важна. Когда высокий гость скрылся за воротами, Маэстро подал знак, сигнализируя о повышенной готовности.
– Десять минут, – произнес он одними губами.
Но группа и без того отлично знала свое расписание. Все было оговорено заранее чуть ли не сотню раз.
Когда десять минут истекли, отряд Маэстро расселся по машинам. За рулем первого джипа находился сам Маэстро, вторым управлял Томас. Все были вооружены, кожаные куртки топорщились, и это было частью декорации – люди Ромео наверняка насторожились бы, не заметь они оружия. Правда, их ожидали сюрпризы: далеко не вся амуниция была на виду, да и та, что угадывалась, отличалась от обычных средств, состоявших на вооружении у знакомых бандформирований.
Ромео шагнул к Ахмету с раскинутыми руками, намереваясь задушить дорогого гостя в объятиях. Если уж иначе пока никак.
Он был высок, сравнительно молод и всячески старался соответствовать общеизвестному образу цыганского вожака, в чем перебарщивал: носил, к примеру, атласную рубаху, в широком вырезе которой кустилась обильная поросль, тронутая сединой; свободного покроя штаны были заправлены в сапоги-бутылки, пальцы унизаны массивными золотыми кольцами, в ухе – серьга. Такие субъекты танцуют с медведями в голливудской клюкве, изображая страшную русскую мафию. В данном случае образ максимально приблизился к оригиналу.
Его гость тоже не отставал: елейная улыбка, преувеличенное восточное дружелюбие, опять же – избыток золота на пальцах, шее и во рту.
– К делу, дорогой друг? – подмигнул Ромео, когда с медвежьими объятиями было покончено. Он спешил перейти к медвежьим услугам, но знал, что ответ будет отрицательный, с толикой наигранного негодования.
– Какое дело, брат? – возмутился Ахмет. – Разве так принимают дорогих гостей?
Ромео погрозил ему пальцем:
– Зубы заговариваешь? Ладно, я знаю обычаи. Прошу к столу...
Настороженно позыркивая по сторонам поросячьими глазками, Ахмет направился за хозяином в гостиную, где уже был накрыт стол.
В особняке, в отличие от прочих мест, где располагался табор, царил относительный порядок, было чисто и в то же время грязно от какой-то невидимой, прямо мистической мерзости. От роскоши рябило в глазах. Все было чрезмерно, избыточно, кричаще, аляповато; предметы старины пополам с техническими новинками были нахватаны где ни попадя. Ковры, музыкальная аппаратура, сабли, дуэльные пистолеты, старинные светильники, иконы, гитара с пышным бантом на стене. Кабанья голова против оленьей, алебарды, кальяны десяти разновидностей, тяжелые душные шторы, золоченые решетки на окнах...
Стол на низеньких кривых ножках ломился от яств. Фрукты, зелень, икра, коньяк и виски, специи для плова и шашлыка, которые должны были вот-вот подать.
Ромео уселся по-турецки, на ковер, Ахмет неуклюже последовал его примеру. Хозяин щелкнул пальцами, вбежала размалеванная цыганская красавица. В руках у нее был поднос со сластями.
Ахмет обернулся и подал своим людям знак. Те поставили на пол две туго набитые спортивные сумки и вышли в коридор.
Ромео быстро покосился на сумки, вопросительно поднял бутылку.
– Нет-нет. – Ахмет выставил ладони.
– А ты упрямый, – усмехнулся Ромео. – Похвальная стойкость в вере.
– Аллах видит все...
Возможно, насчет Аллаха Ахмет сказал правильно, но сам он не видел многого. В частности, двух джипов, приблизившихся к воротам.
В комнату вбежал черноусый красавец, нагнулся к Ромео и что-то проговорил. Тот нахмурился.
– Кто такие? – спросил он, мгновенно подобравшись.
– Карапетяновские тачки, – ответил черноусый.
Ромео поджал губы.
– Обожди, друг...
Ахмет встал. Он ни секунды не верил партнеру и сразу заподозрил некую провокацию, имевшую целью заполучить товар и не заплатить. Такое бывает. Всем хочется с ходу напилить бабла, пусть даже будет упущена серьезная выгода в будущем. Ахмет доставил пробную партию, но Ромео был патологически жаден. Он может махнуть рукой на гипотетические фуры с героином, соблазнившись малостью, которую уже видит перед собой.
Ромео вышел.
Ахмет выглянул из гостиной: его люди вопросительно повернули головы. Все живы, все на месте. Ахмет немного успокоился.
Как оказалось, напрасно.
Дальняя дверь распахнулась настежь, на пороге возник хозяин особняка с «Калашниковым» наперевес. Ахмет непроизвольно вскинул руки, закрылся локтем. Но Ромео и не собирался в него стрелять. Пробежав несколько метров, он безмолвно повалился ничком. Ахмет в ужасе смотрел, как кровь, вытекающая из-под тела, пропитывает дорогой ковер...
Его собственная охрана вскинула оружие, но выстрелить никто не успел – кроме, конечно, Киндера и Томаса, которые к охране Ахмета не принадлежали и смеха ради разрядили в каждого из боевиков по полрожка. Люди Ахмета умерли быстро – чуть быстрее, чем он сам.
Ахмет, возможно, даже остался бы жив, если бы не сморозил глупость – полез за «береттой». Он выхватил оружие, хотя и не был намерен стрелять, действовал машинально. Увы, в первой боевой группе не было телепатов. Ее члены умели многое, но телепатия, увы, была им не подвластна. Поэтому истинные намерения Ахмета остались для бойцов группы ужасной тайной за семью сургучными печатями.
Томас вскинул опущенный было автомат – короткий, странной формы, Ахмет таких никогда не видел. Наркоторговец тоже вскинул кисть, собираясь бросить пистолет, который начал жечь ему руку, но Томас неправильно истолковал это роковое движение. Автомат ударил почти бесшумно, и с широкого лица Ахмета начисто стерло улыбку – вернее, то, чем он недавно улыбался. Пухлые щеки рваными клочьями разлетелись в стороны. Левая глазница безнадежно осиротела, остатки глазного яблока вылетели через затылок вместе с пулей.
Ахмета отбросило шагов на пять, он рухнул и замер.
Особняк вдруг наполнился грохотом, все заволокло синим дымом. Бесшумный этап операции завершился.
Черноусый красавец вел огонь из окна второго этажа и был снят прицельным выстрелом Мадонны. Маэстро методично и вдумчиво зачищал первый этаж, поливая свинцом все, что шевелилось, и не оставляя шедшим за ним Максу и Прибалту никаких надежд отличиться.
Здание уже взяли в кольцо подоспевшие спецназовцы. Отдельная цепочка вбегала в пустые ворота, створки которых обвалились, едва обитатели особняка взялись допрашивать нежданных гостей из карапетяновских джипов.
Немногочисленные очаги сопротивления были ликвидированы за считанные минуты. Ни Мадонне, ни Маэстро происходящее не особенно нравилось. Странная получилась операция – сплошная бойня, кровавая каша. Хотя они сами ее и устроили, но такой уж был отдан приказ. Даже если установлены все связи и каналы, прослежены все цепочки, идентифицированы участники – все равно всю эту братию лучше вязать живыми, судить и отправлять по этапу. Какой смысл в подобной акции?
Впрочем, их дело десятое. Они просто выполняют распоряжение свыше.
Но не худо бы проверить, кто конкретно отдал этот приказ. Просто выяснить для себя... Уж больно нецелесообразной выглядит вся эта зачистка.
...Очень скоро обнаружилось, что Ромео повезло чуть больше других. Ахмет счел его мертвым – ошибочно спроецировав на свою собственную судьбу, но барон был еще жив, хотя и тяжело ранен.
Томас, покончивший с Ахметом, пошел по коридору и вскоре притормозил, услышав слабые стоны. Он присел на корточки, осторожно перевернул Ромео. Пули пробили правое легкое, кровотечение было обильным, но барон постепенно приходил в сознание и постигал уродливую действительность.
Вскрыв индивидуальный пакет, Томас кое-как обработал рану и перевязал барона. Расщедрившись, кольнул его промедолом, но почти тут же обругал себя ослом. Руки барона были испещрены следами инъекций, ему этот промедол – что слону дробина. Теперь еще отчитывайся за наркотик и доказывай, что не ширялся удовольствия ради и не продавал его на ближайшей толкучке...
Рядом с Томасом вырос Маэстро.
– Что тут у тебя?
– Трехсотый...
Груз триста – раненый.
Маэстро склонился над бароном.
– Может, оно и к лучшему, что не двухсотый... Одни жмуры – замочили по-взрослому...
– Так кровь застоялась, командир. Давно в деле не были.
Прикинув, Маэстро принял решение допросить Ромео, хотя никто не уполномочивал его к этому.
– Эй, орел! Говорить можешь?
Ромео молча смотрел на него выпуклыми глазами, чуть подернутыми предсмертной пленкой.
– Я к тебе обращаюсь. Жить хочешь? Запоешь – через пару минут поедешь в больничку... а нет, так прямо здесь сдохнешь.
Барон судорожно кивнул, сделал глотательное движение. Он не сводил взгляда с лица Маэстро.
Маэстро на миг задумался. Он, собственно говоря, не знал, о чем спрашивать. Поэтому спросил о первом, что по логике происходящего пришло в голову:
– Где деньги?
Вопрос не удивил Ромео. Естественный интерес. Все хотят знать, где деньги.
– Там... – Он слабо мотнул головой. – В гостиной... сейф... за портретом...
Цыган не лгал, он действительно приготовил крупную сумму для расчетов с несчастным Ахметом.
Следующий вопрос вытекал из первого:
– А товар?
– Там же...
– Говори шифр.
Помедлив с секунду, Ромео с видимым трудом назвал комбинацию. Трудно было сказать, с чем больше были связаны его затруднения – не то ранение сказывалось, не то нежелание расставаться с валютой.
– Иди, посмотри, – приказал Маэстро Томасу. Тот было двинулся к гостиной, но Ромео заговорил вновь:
– Там... дипломат. Это... из-за него... я знаю... и вы знаете...
Маэстро не знал ничего, но вида не подал.
– Очень хорошо. Сейчас подгонят транспорт, и ты поедешь. Скажи только, что и откуда. Ты меня понял.
Барон помотал головой:
– Это не мое... Жиганы надыбали... на вокзале... Там... маяк был, я выдрал... остальное на месте... клянусь...
Маэстро лихорадочно соображал. Он чувствовал, что Ромео не должен понять, что он впервые слышит о каком-то дипломате. Как и о деньгах с товаром. И тем более о маяке – когда на сцене появляется подобная техника, излишнее любопытство становится строго наказуемым.
Оно ему нужно? Инициатива карается, да. Но Маэстро, взяв след, уже не умел останавливаться.
– Еще вопрос, – сказал он. – Последний.
Но отвечать было некому.
По телу барона внезапно пробежала долгая судорога, и он обмяк. Теперь Ромео был мертв.
– Стань у двери и никого не пускай, – распорядился Маэстро.
Томас занял пост, а он прошел в гостиную, где не без труда снял со стены огромный портрет самого барона в полный рост.
Очень скоро он недоуменно рассматривал содержимое дипломата: пистолет иностранного производства, с глушителем, наручники, но прежде всего – заурядную амбулаторную карту некоего Сергея Семеновича Остапенко.
Глава четвертая
СЕМЕНА СОМНЕНИЙ
Двумя днями спустя к Маэстро наведался капитан Каретников.
Они не однажды соприкасались при выполнении разного рода заданий, неплохо знали друг друга, хотя крепкая дружба так и не завязалась – обычные уважительные отношения между людьми, делающими одно дело.
Александр Владимирович Каретников возглавлял особое подразделение морского спецназа, именовавшееся «Сиренами». Особенность его группы заключалась, как это обычно бывает с особенностями такого рода, в том, что подразделению зачастую поручались не то что секретные задания, а ставились задачи, нигде и никогда не прописанные на бумаге. У «Сирен» имелся карт-бланш на практически любую деятельность, продиктованную государственными интересами – случалось, что и ведомственными. Приказы зачастую отдавались в устной форме, и группа действовала на свой страх и риск. Каретникову разрешали все. В его послужном списке фигурировали и официальные акции по обезвреживанию террористов, вызволению заложников, обеспечению охраны важных объектов с моря... Но в нем же числились – точнее, не числились, ибо не фиксировались – и другие операции, в том числе за рубежом, и документация на сей счет в лучшем случае существовала в единственном экземпляре, хранившемся под неусыпной охраной и сотней замков.
Каретников работал под бесхитростным псевдонимом Посейдон. Водная стихия, грозный персонаж из начальников над небожественной мелочью. В конторе его иначе никто и не звал, многие не помнили ни его настоящего имени, ни отчества, а большинство и вообще не знало.
Он позвонил Маэстро на трубку и напросился в гости. Тот удивился, но вида не подал и согласился сразу. Такие просьбы случайными не бывают.
И еще он понял, что Каретников наводил о нем справки – знал, что у Маэстро нынче выходной, событие редкое, из ряда вон выходящее. Тот жил один и дома бывал весьма нерегулярно, застать его на отдыхе не удавалось практически никому – за исключением непосредственных подчиненных и непосредственного начальства.
Кроме того, звонок поступил на трубу «ДСП» – второй телефон Маэстро в такие дни держал отключенным. Засекреченный номер был известен лишь ограниченному кругу лиц, куда Каретников не входил, и капитану, понятно, пришлось похлопотать, чтобы заполучить его. Большой проблемы для сотрудников конторы в этом не было, но сам факт поисков говорил о многом. Тем более что на второй телефон звонков не поступало, Маэстро проверил – это означало, что Каретников знает, куда и в каких случаях названивать.
Но Маэстро не насторожился. Сделал стойку, конечно, но больше по привычке не доверять никому. Вообще же Посейдон был ему симпатичен, и опасаться неформального контакта не стоило.
Правда, он все равно принял меры предосторожности. В их службе возможно все, а предают, как известно, всегда свои, а не чужие. Поэтому Маэстро поставил Мадонну в известность о назначенной встрече, хотя и не дал никаких особых указаний.
В восемь вечера в дверь позвонили.
Маэстро пошел открывать, по привычке заткнув за пояс ствол – сзади, прикрыл его спортивной курткой. Посмотрел в глазок, отомкнул замок.
Каретников был один. Высокий, атлетического сложения, коротко стриженный, он дружески улыбнулся и предъявил верительные грамоты – бутылку «Джонни Уокера». Не живой человек – вылитый манекен, накачанный Иван Данко из фильма про боксера Рокки Бальбоа. Только глаза настоящие, и они сводили упомянутое сходство на нет.
– Проходи. – Маэстро посторонился. Они были на «ты». – Солидно подготовился! Сейчас мы тебе отомстим...
Он провел гостя в кухню, где в России, как повелось, решаются все важные вопросы. Стол был уже застелен чистой скатертью. Стояли рюмки, но Маэстро заменил их квадратными стаканами.
– М-м, – промычал он. – Вот чего у меня нет, так это льда. Сразу убьешь или дашь помучаться?
– Льда в нашей жизни хватает, – отмахнулся Посейдон и доверительно пояснил: – только вчера из Арктики...
– Понятно.
Вопросов не последовало, это считалось дурным и даже опасным тоном. Одному Богу было известно, каких дел наворотили «Сирены» в арктических льдах. Не иначе, заряжали тротилом бельков и белых медведей. Хотя для бельков не сезон...
Вслед за стаканами на столе появились огурцы-корнишоны, маринованные помидоры, шпроты, крупно нарубленная вареная колбаса и прочие ингредиенты, без которых, конечно, никакой «Джонни Уокер» не обойдется. При виде этой закуски любого западного гурмана хватил бы кондратий.
Востоком хоть и не пахло, но к делу мужчины перешли не сразу, что отчасти свидетельствовало о том, что восточные традиции укоренились – до некоторой степени – в сознании русского человека. Выпили по первой, потом по второй, не делая разницы в технике между обычной водкой и благородным джентльменским напитком.
Обменивались репликами о том и о сем, шутили, налаживали атмосферу сотрудничества и взаимопонимания. Наконец Маэстро замолчал и выжидающе уставился на гостя.
Посейдон правильно понял его взгляд, похрустел огурцом, занес было бутылку над стаканами, но вдруг отставил.
– После, – сказал он. – У меня к тебе дело, Маэстро.
– Я догадался, – прищурился тот.
– И дело такое, что рассказать я не могу, а расспросить мне очень нужно.
– Знакомая история.
– Да уж, не говори. Одним я из уважения к тебе поделюсь: вчера нашей группе дали задание.
Маэстро поднял брови:
– Вот уж новость так новость. Небывалый случай. Но ты же сказал, что вчера из Арктики...
– Что с того? Из Арктики утром, а задание – днем...
– Ну да. Выкладывай, что с тебя взять. Мы люди подневольные.
Посейдон вертел в пальцах увесистую вилку.
– На днях ты брал одного урода, – произнес он утвердительно, словно вколачивал первый гвоздь – Маэстро искренне надеялся, что не в крышку гроба.
– Брал, – согласился хозяин. – Только не одного. Мы, как ты знаешь, не мелочимся. И не только на днях, мы все время кого-то берем. Правда, в последнее время было много простоев. Ребята заскучали.
Посейдон пропустил его реплику мимо ушей.
– Его звали Ромео. Цыганский барон.
Маэстро согласно кивнул:
– Была такая крыса. Отбегалась.
– Но ведь не сразу, верно?
Хозяин помолчал, раздумывая над ответом.
– Не сразу, – признал он наконец. – Немножко поговорила, а потом сдохла. Откуда узнал?
Посейдон поднял на Маэстро глаза, до сих пор опущенные.
– Мне нужно знать, о чем она поговорила.
Тот откинулся на спинку стула и задумчиво уставился на гостя. Тот, бесспорно, был хорошо осведомлен. В коридоре их было двое – Томас и сам Маэстро. Томас не стал бы распространяться о скоротечном допросе, не поставив его в известность. Но их могли видеть. Кто угодно – как люди барона, где-то укрывшиеся и уцелевшие, так и спецназовцы, приданные в помощь первой боевой группе.
Второе казалось более вероятным. И это означало... да, факт беседы могли отследить. Но подслушать ее – вряд ли. О самой беседе зачем-то поставили в известность Посейдона. Пожалуй что так – Маэстро не очень верилось, что Каретников имел свой интерес и хотел до чего-то докопаться самостоятельно. Хотя и это не исключено – что, в конце концов, он знает о Каретникове? Куда вероятнее, однако, то, что Посейдона специально прислали выведать подробности. К чему такие маневры? Ведь можно было допросить Маэстро и Томаса официально, им нет резона что-то скрывать. Во всяком случае, не было до сих пор. Теперь придется вести себя осмотрительно. Маэстро доверял своей интуиции, а ведь он сразу заподозрил в операции что-то неладное.
Дипломат с медкартой Остапенко Маэстро передал руководству.
Тут скрывать нечего. С какой стати? Да и вообще скрывать нечего, барон ничего другого не сказал...
– Крыса говорила про дипломат, спрятанный в сейфе, – медленно и с расстановкой произнес Маэстро.
Посейдон кивнул:
– Я знаю про дипломат. И про его содержимое тоже.
– Я так понимаю, что это шибко важно. Не ради этого ли дипломата затеяна вся возня?
Каретников разлил виски.
– Послушай, старина. Мы с тобой тертые калачи. Я не стану скрывать, мне известно немного больше, чем тебе. Но я не имею права распространяться об этом. Тебе придется либо поверить мне на слово, либо нет. Мне очень нужно знать, что тебе сказал этот чертов Ромео. Пожалуйста...
Маэстро смотрел на него, не говоря ни слова. Потом выпил, не чокаясь.
Обо всем, что поведал перед смертью Ромео, он доложил по инстанции. И про маяк, и про жигана, промышлявшего на вокзале. Похоже, что ему не поверили. И прислали Каретникова.
Тот угадал его мысли.
– Мне понятно, о чем ты думаешь. Хочешь верь, хочешь нет, но меня никто не подсылал. Я действую на свой страх и риск. Можешь, если хочешь, обыскать меня, разговор не пишется.
Маэстро взглянул на окно: шторы задернуты. Чтобы нельзя было списать разговоры с оконных вибраций, он даже в кухне завел шторы. Но предложение Каретникова нелепо: если их захотят прослушать – прослушают. Микрофон можно в заднице пронести...
Посейдон вздохнул.
– Кое-что еще, впрочем, я рассказать могу...
Маэстро предостерегающе выставил ладонь:
– Ты уверен, что мне следует это знать? Меньше знаешь – крепче спишь.
– Если неприятности возможны, то они уже неизбежны. Приехав к тебе, я тебя подставил. Если дело нечисто, мы ничего не докажем.
– Это мне уже ясно.
– Так вот. Моей группе поручили организовать ряд действий... ну, точное место не имеет значения. На воде, как сам понимаешь. Мне показали карту этого самого Остапенко и обязали заполучить нечто, с ним связанное. Мне неизвестно, что это и существует ли оно. Известно только, что это чрезвычайно важно. Важно-то важно, а все возможные свидетели мертвы. Зачем было зачищать особняк барона? Вырезать всех под корень?
Он слово в слово повторял мысли, донимавшие самого Маэстро.
– И это не все. Ты наверняка слышал о поликлиническом деле.
– Конечно, – не стал отрицать хозяин. – Странно было бы не слышать.
– И какие у тебя на этот счет соображения?
Маэстро пожал плечами:
– А почему у меня должны быть какие-то соображения? Мне никто не поручал этим заниматься. Я ведь не следователь, я боец.
Посейдон усмехнулся:
– Тогда позволь тебя спросить: а что же ты знаешь об этом деле?
– Да ничего конкретного. Убили врача и медсестру. И еще кого-то прихлопнули, неподалеку – вроде бы пациента... – Маэстро вдруг замолчал.
– Ты и фамилии пациента не слышал? – усмехнулся Посейдон.
– Не слышал, – признал Маэстро. – Но теперь твоими стараниями догадался. Медкарта, выходит, оттуда?
– Совершенно верно. Убитый пациент – Остапенко Сергей Семенович. А врач – его участковый терапевт, к которому тот ходил не один год. Медсестра, судя по всему, – случайная жертва, свидетель. Щепка, отлетевшая при рубке леса.
– Щепка... – пробормотал Маэстро. – О щепках говорили известно где. Это, знаешь ли, специфическая фразеология...
– Я ничего такого не сказал, – быстро перебил его Посейдон. – Выводы делай сам, меня они не касаются.
– И что же – наверху полагают, что наркобарон имел какое-то отношение к этим убийствам? – недоверчиво спросил Маэстро. – Довольно необычно...
– Там этого не исключают, но предпочитают иную версию. Ромео, как ни странно, тоже сделался ненужным свидетелем. В недобрый для него час кто-то из его подручных действительно увел этот чемодан...
Снова повисла пауза.
В конце концов, Маэстро нарушил молчание.
– Ненужным свидетелем, – повторил он. – Ненужным – для кого? Врач и сестра были ненужными свидетелями для убийц. А Ромео?
– Ты в корень зришь, – откликнулся Посейдон. – А я не люблю играть втемную. Теперь доходит?
– Доходит...
– Значит, расскажешь?
Маэстро потер переносицу.
– Видишь ли, старик... Мне и в самом деле нечего тебе сказать. Если только тебя не ознакомили с моим рапортом.
– Ознакомили, – сказал Посейдон.
Маэстро продолжил, будто не слыша:
– Судя по всему, Ромео решил, что мы пожаловали за дипломатом. Я спрашивал его про деньги – наугад, и он сказал, где они, но тут же добавил про дипломат.
– Очки себе зарабатывал, – предположил Посейдон.
– Может быть. Скорее всего. Сказал, что выломал маяк...
– Что? – Посейдон привстал.
– Маяк. Я написал об этом...
– Мне ничего не сказали про маяк, – напряженно заметил Каретников.
– Вот как? Странно. Видимо, не в твоей компетенции...
– Возможно... и что с этим маяком?
– Да ничего. Ромео просто сказал, что нашел маяк... и выломал его...
– И выбросил, да?
– Очевидно.
– Получается, что наши вышли на него по этому маяку?
– Это если маяк устанавливали наши... Но он и без того давно был в разработке. Его и без маяка собирались брать...
– Это точно? Может быть, весь захват – прикрытие? Представился удобный случай – и все проблемы долой?
– Ты про визит Ахмета, что ли?
– Ну да.
– Сомнительно, – пробормотал Маэстро. – Хотя, ради убиения двух зайцев... Бывает же удачное стечение обстоятельств.
– Мы думаем об одном? Мы понимаем друг друга? – напрямую спросил Каретников.
– Пожалуй что да.
– Тогда выкладывай все до конца.
Маэстро развел руками:
– Мне больше нечего выкладывать. После сказанного он отправился к праотцам. – Маэстро помедлил. – Ты сам читал рапорт или тебе его зачитывали?
– Зачитывали.
– И про маяк опустили?
– Если они оперировали оригиналом, то получается, что да.
Маэстро встал и начал прохаживаться по кухне, заложа руки за спину. Время от времени он останавливался и покачивался с пятки на носок. Посейдон закурил, что случалось с ним очень редко. Маэстро поморщился, он не курил и не терпел табачного дыма.
У него сложилось впечатление, что Каретников все же явился по собственной инициативе. Никто не присылал его выведывать про маяк. Конечно, все могло оказаться спектаклем – в частности, удивление Посейдона, тогда как в действительности он охотился за дополнительной информацией, которой Маэстро и в самом деле не располагал. И притворился, будто маяк для него – неожиданная новость. Но ради такого дела... да, ради такого дела прислали бы кого-то другого.
Посейдон – такой же боец, как и он сам. Боевая машина. Он занимается силовыми акциями, зачем же поручать ему вещи, с которыми лучше справляются специально обученные люди?
– Ты кого-то опередил, – изрек Посейдон.
– Думаешь?
– Да. Кто-то должен был забрать дипломат, но ты сделал это первым. Ромео избавился от маяка, и неизвестный нам агент не смог сориентироваться.
– Как Ромео вообще обнаружил эту штуковину?
– Ну, – хмыкнул Посейдон, – сейчас цыгане не те, что сто лет назад. Романсы с медведями сочетаются с героином и компьютерными технологиями.
– Да, верно... Знаешь что, Посейдон? Это ведь все меня не касается. Если кто-то затеял малопонятные игры, то у меня нет ни малейшего желания в них участвовать. Я всегда старался держаться подальше от таких вещей. Слышал про смежников, их приключения с дельфинами? Ливия, Европа? То-то же.
– Очень разумная позиция, – поддержал его Каретников. – Я сам рассуждал бы точно так же. Теперь ты веришь, что я пожаловал в частном, так сказать, порядке? Тебя-то дело не касается, но зато оно касается меня. А я люблю ясность. И мне не хочется испачкаться. Еще мне не хочется соваться под пули ради вещей, мне непонятных и сомнительных. А еще больше – подставлять под эти пули моих ребят.
Маэстро решился:
– Кого ты подозреваешь?
– В Управлении? – Посейдон отрицательно помотал головой. – Никого. По крайней мере, пока. Может быть, и подозревать некого. И не в чем. А если бы и подозревал, то это тебе знать уж точно ни к чему. Это моя забота, задание поручено мне...
Маэстро не стал с ним спорить. В конце концов, у него хватало своих забот.
Он решил не сообщать о разговоре никому, даже Мадонне. Хотя Томаса стоило предупредить – возможно, к нему будут подкатываться.
Маэстро не хотелось думать о других вариантах.
К ним могли и не подкатываться. Их могли ликвидировать. Звучало дико, но когда возникают непонятности подобного рода, разумно учитывать даже невероятные перспективы.
Каретников поднялся из-за стола.
– Пожалуй, я пойду. Тебе точно больше нечего сказать?
– Слово офицера, – буркнул Маэстро. – За кого ты меня держишь?
– Ладно. Тогда удачи тебе. И смотри по сторонам.
– И тебе удачи. Я уже сообразил, что поглядывать придется. На посошок? – Он взялся за бутылку.
– Нет, спасибо, мне хватит. Они обменялись рукопожатием.
Маэстро быстро заглянул Посейдону в глаза. И не увидел там ничего, кроме дружелюбного спокойствия.
Каретников вышел, а хозяин прошел к окну, отодвинул штору и стал ждать, когда тот появится в поле зрения. Посейдон не заставил себя ждать: он быстро, не оглядываясь, пошел по улице.
Машину он, конечно, оставил в паре кварталов от дома Маэстро.
Командир первой боевой группы присмотрелся внимательнее: два автомобиля припаркованы напротив. В одном кто-то есть, тлеет огонек сигареты.
Ни одна не тронулась с места, чтобы догнать Каретникова. Тот скоро скрылся из вида, свернул за угол.
Постояв еще немного, Маэстро отошел, вернулся к столу. Налил полстакана виски, выпил залпом и задержал дыхание. Накатило тепло, мысли немного успокоились. И хорошо, давно пора: выходной-то на исходе.
Он не сказал ничего лишнего. Никто не приказывал ему утаивать информацию от коллеги.
Но это не его дело точно. Он не собирается в это влезать. Ему за глаза и за уши хватает своих проблем.
Глава пятая
«СИРЕНЫ»
Каретников не солгал Маэстро ни в одном пункте. Его и в самом деле достаточно подробно проинформировали о событиях последних дней, но необычная жесткость зачистки цыганского особняка сидела в его сознании досадной занозой, а Посейдон не любил неясностей.
Выйдя от Маэстро, он проверился и хвоста не обнаружил.
Посейдон дошел до своей машины, уселся за руль, но никуда не поехал. Он снова закурил, что выдавало исключительную степень задумчивости.
Он не мог рисковать людьми понапрасну. Что-то подсказывало ему, что риск – неизбежный в его работе – на сей раз будет связан не только с операцией как таковой. Это «что-то» следовало привести к осознанию.
Местом проведения операции был остров Коневец, что в Ладожском озере. Если точнее – Коневецкий монастырь. У команды Посейдона был богатый опыт оперативных действий и на Ладоге, и в акватории Невы, и в Финском заливе, однако указанный остров пока ни разу не попадал в сферу ее интересов.
У берегов этого острова, «на дне морском», находилось нечто, напрямую, как ему намекнули, связанное и с покойным Сергеем Семеновичем Остапенко, и с террористическим актом в поликлинике, и с цыганским бароном Ромео.
Ликвидация потенциальных свидетелей и умалчивание насчет маяка наводили Посейдона на мысль, что ему рассказали о предстоящем деле далеко не все.
И это ему не нравилось.
Не то, что сказали не все, – скорее, наоборот: тот факт, что вообще сказали нечто, не входившее в его компетенцию.
Зачем?
Просидев за рулем около десяти минут, он решительно завел мотор. Слишком мало данных, чтобы сориентироваться прямо сейчас. Надо собирать ребят.
Он вынул сотовый и позвонил по одному из номеров, менявшихся ежедневно, а в случае надобности – и ежечасно.
– Чайка, готовность два. Третья база, общий сбор через сорок минут.
– Поняла тебя, Посейдон, – ответил женский голос.
Связь прервалась.
Петербург – город маленький. Сорока минут отряду «Сирены» вполне достаточно, и никакие пробки ему не помеха.
Отряд получил свое название по инициативе Чайки, единственной женщины в группе. Бойцы поначалу заартачились, не видя себя ни сиренами, ни русалками, ни прочими особями женского пола, но Посейдон предложил им уважить даму – тем более что в выборе звучных персональных псевдонимов их никто не ограничивал. Он подал пример первым, назвавшись Посейдоном.
Так появились другие морские персонажи: Нельсон, Флинт, Торпеда, Магеллан и Мина. Семеро смелых, как сообща называли их за глаза.
...База номер три располагалась на южной окраине города, во втором этаже молодежного клуба. Клуб в свое время был специально открыт госбезопасностью для отслеживания разнообразного криминала. Внедряться в ряды противника можно не только лично, но и целыми заведениями. Клуб служил своего рода капканом, обманкой, приманкой. В нем все было натурально, вплоть до «крыши», которую изображали звероподобные громилы. Никто не знал, в штате какой организации они числятся на самом деле.
Посетители клуба баловались наркотой – в основном, таблетками экстази, и в этом им никто не препятствовал. Оперативные интересы – жестокая вещь.
Держатели клуба старались действовать с максимальной осторожностью, чтобы о злачном месте не поползла дурная слава. В самом клубе по возможности никого не брали и не вязали, в нем только фиксировали, вели наблюдение, ставили на контроль, отслеживали контакты.
Трудно было заподозрить, что второй этаж здания отведен не под сходки паханов средней руки, но под собрания оперативных групп и прочие мероприятия подобного рода.
Посейдону понадобилось полчаса, чтобы добраться до места.
Вывеска клуба переливалась разноцветными огнями, ничем не выделяясь среди сотен себе подобных. Внутри дым стоял коромыслом; шатались тени, гремела музыка, не подпадавшая ни под какое внятное направление. Неформалы всех мастей угощались коктейлями, выламывались на площадке. Многие явно были под «кайфом», и Посейдон усмехнулся – давайте, давайте. Вынужденное зло: конечно, можно было бы сразу всех и повинтить, но что это даст?
Юные дурни потянутся в другие злачные места, где отследить каналы поставки наркотиков куда сложнее.
Иногда Посейдон задавался неприятной мыслью: а не приторговывает ли экстази сама контора?
Вполне возможно – а куда деваться?
Он не верил, что легендарный Штирлиц – вернее, его прототип – не уничтожил за свою жизнь ни одного еврея и не преследовал германских коммунистов.
Посейдон поднялся наверх и обнаружил, что отряд уже в сборе.
Иного он и не ждал.
Долговязая Чайка – мужеподобная женщина лет тридцати, с короткой стрижкой, без следа косметики. Рыхловатый рыжий Нельсон, обманчиво кажущийся добродушным тюфяком-семьянином. Тем, кому приходилось видеть его в деле, становилось не по себе от свирепости, с которой тот вершил расправу над недальновидными злодеями, рискнувшими оказаться у него на пути.
Флинт выглядел типичным братком – бритоголовый, с чугунным торсом, на шее – золотая цепь, мощные челюсти бесстрастно пережевывают резину. Торпеда был ему под стать, и они часто ходили парой, наводя ужас на встречных, – дружили. В то же время у обоих имелись высшие образования, и им приходилось даже специально следить за речью, чтобы не выдать излишней начитанности.
Магеллан казался полной им противоположностью – тщедушный очкарик, отличник, одним словом, «ботаник» – губастый, застенчивый. На деле же у него – черный пояс по карате. Сломав противнику шею, он обычно недоуменно улыбался и поправлял очки. Увечье наносил небрежно, будто нечаянно, и окружающим казалось, что он глубоко сожалеет о содеянном, тогда как в действительности Магеллан никогда ни о чем не сожалел.
Мина был старше всех, под сороковник – ежик волос тронут инеем, лицо задубело от северных ветров; он один происходил из потомственных моряков и отдал флоту десять лет жизни.
Группа расселась вкруг деревянного стола, уже повидавшего виды, – не исключено, что контора для придания видимости разгульной жизни специально портила его, пятнала, резала. Из напитков стояло пиво – безалкогольное, «Балтика»-ноль. Об отсутствии градусов знал, конечно, лишь сам отряд. Сторонний наблюдатель не смог бы определить, что там такое налито у них в бокалы.
Посейдон сел, и Мина, оказавшийся ближе других, непроизвольно потянул носом. «Джонни Уокер» давал о себе знать, но никто из группы не сказал ни слова. Командир есть командир, его действия не обсуждаются.
Тем более что Каретников был трезв, как стекло.
Он не собирался оповещать товарищей о сомнениях и опасениях, в силу которых встречался с Маэстро. Во-первых, у него нет ничего определенного, и незачем тревожить людей. Во-вторых, помещение прослушивалось конторой. В обычном инструктаже не было ничего особенного – он намеревался произнести вещи, которые и без того были известны многим лицам с соответствующим допуском. И именно эти лица прослушивали клуб.
Прослушивание нетрудно заблокировать, да только это уже точно вызвало бы ненужные подозрения, перерастающие в уверенность.
– Остров Коневец, – изрек Посейдон без всяких предисловий.
На лицах бойцов не дрогнул ни один мускул. Все ждали продолжения. Коневец так Коневец.
– Мужской монастырь. Гостиничный комплекс и необычная туристическая активность в последнее время. Зарубежные гости, чрезмерно интересующиеся православием и местными природными красотами. Подводными – в том числе; некоторые брали с собой специальное снаряжение... Плавать – плавали, но ни в чем криминальном замечены не были. Нельзя исключить, что часть амуниции заложена ранее, в особых схронах – возможно, что и в подводных. Очередной заезд туристов почти совпадает со временем начала операции по подъему трофейного немецкого эсминца, затопленного невдалеке от берега в 1960-м году... Конечно, это пока еще подготовительный этап. На борту эсминца есть вещи, интересующие наше руководство, – скорее всего, они же интересуют и гостей. Нам важно успеть первыми, это раз; во-вторых, по возможности дать проявиться гостям и нейтрализовать их.
– Если они уже там, мы рискуем не успеть, – подал голос Нельсон. – Дорога не самая близкая. Там выставлена охрана?
Посейдон кивнул:
– Участок акватории патрулируется военными катерами, побережье – милицейскими нарядами. Но особой суеты нет, иначе гости насторожатся. Они еще не подтянулись, но скоро выдвинутся. За ними наблюдают, и пока нет оснований полагать, что кто-то из них собирается предпринимать активные действия. Нет даже уверенности в том, что это не обычные туристы. Никто из приезжих ни разу не проходил по нашему ведомству. Нас доставят вертолетом.
Чайка вскинула брови:
– Но мы же засветимся вчистую! Тогда уж лучше с парашютами десантироваться.
– Не засветимся, – возразил Посейдон. – Вертолет, конечно, будет гражданский. По легенде мы – реставраторы; направляемся в монастырь работать...
Флинт и Торпеда переглянулись, дружно расхохотались:
– Шеф! Из нас реставраторы, как из дерьма пуля! Ты погляди на нас...
– Ничего... Платок на бошку, фартук – нормально получится...
– Да мы и кисти-то в руках не держали! Если только в детском саду. Мы таких святых намалюем – точно выносить придется...
– Я детдомовский, – добавил в бочку дегтя Торпеда. – Но и там не держал. Нам если там что и выдавали, так только ...дюлей без меры, которые мы и огребали.
– Вы дурные, что ли?! – Посейдон повысил голос – Вам и не нужно ничего реставрировать. Вы думаете, что реставраторы так вот, с ходу, уселись в люльки, взяли резцы да кисти – и вперед, труба зовет? Они сначала все осматривают, фотографируют, делают замеры, знакомятся с источниками...
Мина прищурился:
– Говоришь, монастырь, шеф? А нет ли у них на подхвате солдатиков? Не у них ли произрастает сие уникальное явление – православная воинская часть?
– Ты путаешь, Мина. Это на Валааме.
– Жаль, – разочарованно протянул тот. – Интересно было бы, плечом к плечу... поглядеть, как святые отцы махаются.
– Тебе бы, безбожнику, все зубы скалить.
– А что за эсминец, командир? – заговорил Магеллан. – И что там за «вещи»? Или нам не положено знать?
Повисла напряженная тишина.
Все догадывались, что хороших сюрпризов ждать не приходится.
Посейдон отхлебнул пива. Он не видел нужды что-либо утаивать.
– Руководство сообщило мне следующее, – начал он медленно. – Немецкий эсминец «Хюгенау» был взят в качестве трофея в конце войны, прямо в Балтийском море. Это произошло в акватории близ Пиллау, то бишь Балтийска. Эсминец был не простой, он выполнял роль плавучей базы для физико-биологических исследований. Легко догадаться, кого там держали в качестве подопытных.
Чайка автоматически кивнула.
Посейдон продолжил:
– Будучи захвачен, эсминец какое-то время оставался, где был, а впоследствии его транспортировали на Ладогу. Где корабль, как я уже сказал, и был затоплен спустя полтора десятка лет...
– Зачем? – вырвалось у Магеллана.
Каретников повел плечами.
– Там радиация, – сказал он после короткой паузы. – Очень высокий уровень. Сейчас уже наверняка меньше, но еще есть.
И вновь повисло молчание.
– Вот же хрень, – проговорил в никуда Нельсон. – Как чувствовал... Ну почему, почему не пираты какие-нибудь, не шпионы?
Магеллан тоже не унимался:
– Ну и зачем? – повторил он.
– Зачем – что? – терпеливо осведомился Каретников.
– Зачем его доставили на Ладогу? Почему не затопили сразу? Вы сами подумайте: из Балтийска да в Ладожское озеро. Эта зараза плыла себе, а вокруг люди...
Посейдон недовольно вздохнул:
– Этого я не знаю. Руководство сочло, что и так сообщило мне достаточно. А людей в то время никто не ценил, государственные интересы ставились превыше всего. Как и сегодня, между прочим.
– Как же достаточно? – взбунтовалась Чайка. – Лично мне пока ничего не понятно. Какой-то минимум хоть должен быть.
– А я еще не закончил. На эсминце остался сейф. Не очень большой. Этот сейф почему-то представляет большую ценность. И если наши туристы за чем-то охотятся, то именно за ним.
– Ерунда какая-то, – пробормотал Магеллан. – Если в сейфе что-то ценное, то топить эсминец тем более ни к чему. И потом – его же, как я понял, собираются поднимать. К чему тогда мы?
– Руководство опасается, что после подъема похитить сейф будет труднее. Практически невозможно.
– Так это же замечательно!
– Само по себе – да. Но это лишит нас возможности прижать иностранцев. Они затаятся и выдумают какой-то новый фортель, а нашим разбираться, какой.
– То есть эсминец, пока он на дне, – приманка для их аквалангистов?
– Я так понимаю, что да, – ответил Посейдон. – Руководству важно установить, кто именно интересуется этой посудиной и почему. Могут потянуться нити... Можно, как я понял, выйти на очень серьезную публику.
– А почему, собственно говоря, руководство так уж сильно подозревает этих гостей? Откуда такая уверенность в том, что эсминцем вообще кто-то интересуется? Он сколько лет уже пролежал.
Каретников побарабанил пальцами по столу.
– Да. Пролежал. И никто бы, возможно, не сунулся, не возникни идея его поднять – все-таки отрава.... Один из подопытных дожил до наших дней, – сказал он, наконец. – Похоже, что он все эти годы молчал. И если заговорил, то совсем недавно. Его фамилия Остапенко. Несколько дней назад его задушили в собственной квартире, а перед этим жестоко пытали. А несколько ранее прямо в рабочем кабинете застрелили его лечащего врача. И случайную медсестру-регистраторшу. Вдобавок похитили медицинскую карту Остапенко... Эту карту в скором времени обнаружили в ходе проведения совсем другой операции, в особняке одного наркодельца. Всех крыс перебили... – Посейдон проговорил это быстро, чтобы не заострять внимания на скользком моменте. – Но главарь, цыганский барон по имени Ромео, успел сказать, что чемодан с картой попал к нему случайно; кто-то из его орлов прихватил на вокзале... у кого прихватил – сказать теперь некому. Руководство считает, что интерес, проявленный к фигуре Остапенко и истории его болезни, напрямую связан с действиями в отношении затопленного эсминца...
«Сирены» переваривали информацию.
Смекалистый Магеллан остро взглянул на Посейдона. Похоже, он что-то заподозрил, но предпочел промолчать.
Посейдон, впрочем, перехватил его взгляд и слегка сдвинул брови, призывая к молчанию. Всему есть предел, и прослушка остается прослушкой.
– Хотелось бы поподробнее про этого Остапенко, – заметил Мина.
– Я дал запрос, но мне отказали, – сказал Каретников. – И вот еще что. По имеющимся сведениям, наши заграничные гости – все сплошь гринписовцы.
– И?.. – эхом отозвалась Чайка.
– Эсминец остается радиоактивным. Если гостям не удастся осуществить свои намерения до подъема, они все же могут предпринять попытку сделать это после, поднять шум. Я не знаю, зачем им это может понадобиться, но начнутся инспекции, приедут комиссии...
– Но это наше внутреннее дело, – удивился Флинт. – Какая им, к черту, разница, что мы поднимем со дна собственного озера?
– После подъема эсминец собираются транспортировать в бухту Видяево. Это Баренцево море. До Норвегии, скажем так, рукой подать...
Нельсон махнул рукой:
– Слушай, Чайка, – на хрена нам эти детали? Наше дело маленькое. Фонить нам потом всяко придется, служба не мед. Ну и успокоимся на этом.
– Подыхать – так хочется хотя бы знать, за что, – отреагировала Чайка. – Я еще надеюсь детей нарожать.
Посейдон мысленно согласился с ней. Его терзали те же соображения. Да и детей у него пока тоже не было, хотя он сомневался, что стоит их заводить. С его работой дети легко могут остаться сиротами.
– Поднять такую махину – дело нелегкое, – задумчиво произнес опытный Мина. – Это целое событие, дело не одного дня. Там, небось, уже пропасть техники... А технику обслуживают люди. Каждого не проверишь.
– Увидим на месте, – сказал Посейдон. – Понятно, что чем больше участников, тем хуже. Но мне не кажется, что основная угроза будет исходить от соответствующих спецов. Среди них, конечно, могут быть агенты, но их роль наверняка окажется вспомогательной. Вся гадость, думаю, сосредоточится на берегу.
– Ладно. – Торпеда пристукнул кулаком по столу – Самое интересное: что нам можно и чего нельзя.
Посейдон посмотрел на него с усмешкой.
– Можно все. По обстоятельствам.
– Полный карт-бланш?
– Да.
– Можно не брать живыми?
– Точно.
– Странно, – не сдержался Магеллан.
– Не обсуждается, – пресек его выступление Каретников.
– Шеф. – Чайка прищурила глаза. – Мы с тобой не первый год. Нам лишнего не нужно. Скажи одно: ты все нам сказал? Мы не будем допытываться, но нам необходимо знать. Я печенкой чую, что ты не договариваешь.
Посейдон отвел глаза. Помолчал.
– Почти все, – ответил он, в конце концов. – Я даю вам слово: это «почти» – такого рода, что нисколько не прояснит ситуацию. У меня есть основания не договаривать. Но это не делает предприятие более рискованным.
Вот так.
Получите, товарищи кураторы.
Слушайте на здоровье.
Если его отзовут, это будет означать многое.
Но Посейдона не отозвали.
Глава шестая
НОВЫЕ ТЕВТОНЦЫ НА ЛАДОГЕ
Остров Коневец – красивейшее место. Превосходная степень употреблена, конечно, условно, ибо в России много мест, заслуживающих этой степени ничуть не меньше.
Он расположен в западной части Ладожского озера, всего в нескольких километрах от берега. В хорошую погоду добраться до него не составляет никакого труда – минут тридцать-сорок на приличном катере.
Остров совсем невелик, его можно обойти за пару часов, если не останавливаться. Если пользоваться катером, то при заходе со стороны Владимировской бухты приходится обогнуть мыс Стрелку, который представляет собой узкую песчаную косу, уходящую далеко в акваторию. Здесь, в окружении сосен, на заре двадцатого века была воздвигнута деревянная часовенка.
Далее катер входит во Владычную бухту. Взору предстает песчаный берег, кое-где переходящий в высокий уступ; затем последний снижается, появляются каменные россыпи, переходящие в еще один, совсем небольшой островок – Журавлиный, а точнее – каменный, так как он есть не что иное, как нагромождение валунов.
Западный берег острова Коневец крут и отделяется от вод узкой полосой пляжа.
Восточный берег сплошь изрезан, неровен; он изобилует полуостровами, между которыми простираются широкие заливы. Каменистые отмели вытягиваются вдаль на сотни и сотни метров; ветер колышет тростник, которым они густо усеяны.
Свою «лошадиную фамилию» остров получил благодаря огромному валуну, издревле именовавшемуся Конь-камнем. Русь давно уж была крещена, а Конь-камень по-прежнему так и оставался местом, где язычники приносили свои жертвы. К счастью, не человеческие – обитатели побережья, для которых остров служил пастбищем, из года в год жертвовали здесь богам добрых коней.
Ныне же главной достопримечательностью острова является Коневский монастырь.
Его основали в самом конце четырнадцатого века, основателем же был Преподобный Арсений. Будучи родом из Великого Новгорода, он совсем молодым ушел в Лисогорский монастырь ради иноческого служения, и там, на Лисьей Горе, он и постригся в монахи.
Сперва Арсений избрал себе местом жительства живописную возвышенность, которая в дальнейшем, после явления Пресвятой Богородицы, стала именоваться Святой Горой. На исходе столетия Арсений, после долгих поисков уединенного места для обители, переселился на берег Ладожского озера. Судно, на котором он путешествовал, дважды прибивало к острову Коневец, и благочестивый Арсений усмотрел в этом чудесный знак свыше.
Вскоре после того, как Преподобный обосновался на острове Коневец, построили и церковь во имя Рождества Богородицы, а позднее монастырь перенесли на место повыше, чтобы уберечь от разрушительных наводнений. С легендарного Афона Арсений доставил туда главную монастырскую святыню, икону Пресвятой Богородицы, которую стали называть Коневской, или Акафестной. Много позже она очутилась в Ново-Валаамском монастыре.
Когда Арсений почил в бозе, настали тяжелые времена. Монастырь много раз разорялся, ибо располагался между русскими и шведскими владениями. Русские цари неизменно покровительствовали монастырю, а Иван Грозный даже построил новый – каменный – собор, от которого, впрочем, впоследствии мало что осталось.
В основании церкви были положены мощи Преподобного Арсения, которого после кончины стали почитать как святого.
Коневский монастырь – наряду с Валаамским – считался главным оплотом православия в карельских землях. В начале пятнадцатого века остров Коневец был захвачен шведами и находился под их владычеством вплоть до окончания Северной войны. Указ о возобновлении монастыря был подписан Петром Великим. После этого жизнь на острове протекала сравнительно спокойно, и даже революция семнадцатого года его не затронула, так как он оказался на территории Финляндии, и монастырь продолжал действовать, хотя о процветании говорить не приходилось.
Когда началась советско-финская война, монастырь пришел в окончательный упадок, а в 1944 году остров отошел к Советскому Союзу. Жизнь в монастыре чудом теплилась до 1956 года, пока в нем не осталось всего девять монахов. Иноки забрали с собой чудотворную Коневскую икону и под предводительством иеромонаха Дорофея переселились в Ново-Валаамский монастырь.
Монастырские постройки отдали под военно-морскую часть – спасибо, что не под овощехранилище или тюрьму, но после крушения Советского Союза все изменилось. Незадолго до этого события монастырь вернули Санкт-Петербургской епархии, и в 1991 году остров принял архимандрита Назария. Вскоре под полом нижнего храма обрели мощи Преподобного Арсения. Монастырская братия и по сей день остается немногочисленной, но возрождение прежнего иноческого быта началось.
Любое возрождение требует сил и средств. Монастырские власти всячески поощряют паломничество, но рады и туристам, к услугам которых был открыт неплохой гостиничный комплекс: две монастырские гостиницы. До Владимировской бухты гости добираются автобусами – либо своими средствами, а дальше переправляются на остров специальным катером...
Германская группа, собравшаяся посетить остров Коневец, в этом смысле ничем не выделялась из числа прочих посетителей.
Десять человек, записные любители русской экзотики. И все как один – убежденные борцы за экологию, но довольно цивилизованные и не склонные к агрессии и хулиганству. Так говорилось в оперативной сводке.
Сидя в кабине вертолета, Посейдон изучал список фигурантов, взятых спецслужбами под пристальное наблюдение.
Настораживал возраст приехавших: все, как на подбор, молодые и крепкие ребята. В их годы интерес к русской ортодоксии весьма похвален, но не вполне обычен. Две женщины, восемь мужчин.
Дитер Браун, Клаус Ваффензее, Эрих фон Кирстов, Хельга Лагенербе, Иоганн Данхофф, Рихард Кнопф, Ирма Золлингер, Норберт Ланг, Отто фон Кирхенау и Людвиг Маркс.
Три варианта.
Либо кто-то – как у Агаты Кристи.
Либо все – как у нее же.
Либо никто. Это уже постмодернизм.
Каретников склонялся к варианту номер один. Заслать сразу десяток диверсантов или хотя бы шпионов – дело опасное. Это, считай, целая армия. Чем больше такого рода залегендированных лиц, тем выше вероятность того, что кто-то проколется. И даже проколоться не обязательно: российские службы при сборе данных о всей компании наверняка зацепятся за что-то подозрительное. Больше оборотней – больше риска раскрытия. Ведь ни легенды, ни документы прикрытия не бывают идеальными – когда они слишком хороши, это тоже подозрительно.
В том, что группа подвергнется пристальной проверке, у гипотетических европейских боссов не должно было быть сомнений. Независимо от предмета их интереса они должны быть в курсе событий, разворачивающихся близ острова.
Более того – даже обычные туристические фирмы вполне могут быть осведомлены о повышенной активности в пункте назначения. В конце концов, это их обязанность – учитывать возможные неблагоприятные факторы.
В третий вариант тоже верилось слабо. Подозрения конторы, как правило, не бывают совершенно беспочвенными. Каретников и сам по себе предпочитал не верить в совпадения.
Хотя они случались.
И редко оказывались благоприятными. Посейдон очень не любил неучтенных случайностей.
Продолжая держать список в руках, он невидящим взглядом уставился на водную гладь, проплывавшую под брюхом вертолета.
Они опережают немцев на несколько часов. К моменту их прибытия «Сирены» уже расселятся в монастырской гостинице. Вертолет не должен вызвать у гостей особых подозрений – мало ли, какими соображениями руководятся русские, планируя реставрационные работы. Если в группе находятся враги, то их наверняка так или иначе уведомят и о появлении «Сирен» – навряд ли, конечно, осведомители будут знать, что это именно «Сирены», – и об избранном ими транспорте.
Стоя на берегу Владимировской бухты, благообразного вида немец по имени Эрих фон Кирстов следил в армейский бинокль за приближением специально отряженного военного катера.
Он усмехнулся:
– У русских все военизировано. Даже монастыри. Не удивлюсь, если нас встретит военный православный оркестр...
Данхофф не уловил иронии.
– Да, – кивнул он одобрительно. – Между прочим, это у них пошло от нас. У вас бинокль тоже не гражданский.
– Хотите сказать, что с царя Петра? Но он, насколько мне известно, предпочитал голландцев...
– Все равно это был порядок по сравнению с тем свинарником, что здесь творился, – возразил Данхофф. – А после Петра был Пауль...
– Павел, – поправил его Эрих. – Но Павел был не сразу, до него прошло почти целых сто лет...
– За эти сто лет Россия только пропитывалась немецким духом. Елизавета, Екатерина Великая...
– Особенно пригодился герр Бирон, – поддразнил Данхоффа тот.
Данхофф недоуменно вскинул брови. Он давал понять, что не настолько хорошо разбирался в российской истории, как могло показаться. Он утверждал, что посещает Россию не в первый раз, но знает ее, в основном, по глянцевым путеводителям и лекциям экскурсоводов, которые всегда записывал с великим старанием и даже высовывал при этом кончик языка.
Фон Кирстов опустил бинокль.
– Их нынешний президент продолжает традицию. Его называют немцем в Кремле. Но толку от этого что-то не видно.
– Разве? По-моему, так порядка стало больше. В самый последний раз, когда я здесь был...
– Вы смотрели по сторонам, пока мы ехали? – перебил его Эрих.
– Разумеется. Я по-прежнему угнетен увиденным, но вижу обнадеживающие ростки цивилизации...
Фон Кирстов внимательно смотрел на него. Замечание, не характерное для гринписовца. Гринписовцев не радуют достижения цивилизации. Они не обнадеживаются этими ростками, они их выпалывают. Он давно обратил внимание на туповатого Данхоффа, и тот чем дальше, тем больше делался для него непонятным.
– Где вы учились, Иоганн? – спросил он неожиданно.
Данхофф просветлел лицом.
– Я закончил Лейпцигский университет, пять лет тому назад.
– О! Альма матер Фехнера и Шеллинга!
– Как вы узнали? Действительно, я закончил философский факультет.
– Поздравляю. Философа видишь издалека.
Данхофф зарделся от удовольствия и скромно потупил глаза.
Эрих фон Кирстов вздохнул. Фехнер – да, он учился в Лейпцигском университете. Чего не скажешь о Шеллинге. Философ из Данхоффа был такой же, как из него самого – добрый христианин.
И конспиратор дерьмовый, не только философ. Переигрывает, прикидываясь провинциальным дурнем, поднахватавшимся знаний в большом городе. Что же это за птица?
– Позволю себе вас поправить, – смущенно произнес Данхофф. – Шеллинг учился в Тюбингенском университете. Он поступил туда, когда ему было всего пятнадцать лет.
«Я – добрый христианин», – подумал фон Кирстов.
– Ужасно, – сказал он с чувством. – Я-то по образованию медик, но все равно непростительно...
Их беседу прервала миловидная девушка – невысокая, курносая, с пышной гривой каштановых волос, перехваченных зеленой лентой.
– Господа, не желаете кофе?
Она вопросительно подняла маленький китайский термос.
Господа желали.
– Фройлейн Ирма, ваша доброта не знает границ, – поклонился Данхофф, принимая пластиковый стаканчик. – Я искренне завидую вашему будущему мужу.
Ирма рассмеялась жемчужным смехом.
– А я – нет, дорогой Иоганн...
Эрих привычно прикинул, вполне ли она искренна. Он проверял людей, даже когда в этом не было очевидной надобности. Оплошность с Данхоффом заставила его усомниться в своей прозорливости.
Но Ирма Золлингер, студентка последнего курса биологического факультета, была совершенно искренна в своем сочувствии к будущему супругу.
Подавая стаканчик фон Кирстову, она чуть нахмурилась.
Ей показалось, что в рукаве ее мешковатой спортивной куртки отстегнулся однозарядный пистолет, выполненный под авторучку. Убедившись, что тревога ложная, она облегченно перевела дыхание.
Со стороны этого никто не заметил.
Глава седьмая
СВОИ И ЧУЖИЕ
«Сирены» покидали вертолет налегке: обычные спортивные сумки с нехитрыми пожитками да рабочими принадлежностями – не теми, что были назначены им звездами, но реставрационным инвентарем.
Кое-какое оружие члены отряда, конечно, оставили при себе, но основной арсенал был заблаговременно приготовлен для них в схроне, оборудованном на отмели, среди камней. Всем своим видом «Сирены» не внушали серьезных подозрений, хотя один из двух иноков, их встречавших, посмотрел на гостей несколько недоверчиво. Зато второй выглядел совершенно безмятежным. Оно было и понятно – инок Артемий объявился в монастыре лишь недавно, буквально на днях, и в действительности не был никаким иноком. Он был штатным сотрудником конторы.
Монастырская братия приняла его сдержанно.
Поначалу руководство обители возроптало, не желая иметь ничего общего с госбезопасностью, но ему быстро напомнили, что на дворе – новая эпоха, которая ознаменуется возрождением России, и этот процесс невозможен без тесного сотрудничества государства и духовенства. Глава обители резко возразил тем, что церковь остается отделенной от государства, на что ему заметили, что сам факт сотрудничества без принуждения как раз и подчеркивает сию отделенность.
– Если бы государство не было светским, то и разговор шел бы совсем другой, – заявил приезжий куратор.
На это можно было, конечно, сказать, что не будь власть светской, то и в госбезопасности заседали бы святые отцы, но диспут получился бы пустым и бесплодным, а кому это нужно?
Всякая власть от Бога, монастырские власти смирились – тем более после разъяснений, полученных от Московской Патриархии.
Братию не поставили в известность об этих договоренностях, но она не ввелась в заблуждение нехитрой легендой, которую преподнес новый инок. Легко было догадаться, что с братом Артемием что-то не так и вряд ли он задержится надолго.
Артемий хорошо ориентировался в монастырском уставе, выказывал искреннюю приверженность православной вере и вообще чувствовал себя как рыба в воде, не замечая косых взглядов. Он ни с кем не сходился специально и держался особняком, но был открыт для общения, приветлив, работящ, не отказывался от работ по хозяйству, которыми его немедленно нагрузили – «для конспирации», как объяснил куратору настоятель. Не без некоторого предосудительного злорадства, в котором он впоследствии раскаивался и долго замаливал грех.
Известие о прибытии реставраторов поначалу наполнило сердца монахов светлой радостью, но когда встречать дорогих гостей отправился загадочный брат Артемий, все приуныли.
Сотрудничество церкви и государства усилилось до такой степени, что чаша весов явно склонилась в пользу последнего.
Настоятель связался с курирующим отделом госбезопасности, где его успокоили, сказав, что принятые меры носят временный характер, и напомнили о работах, начавшихся неподалеку от острова.
Продолжая тягостную беседу, настоятель машинально взглянул в окно.
Он в который раз увидел военно-морские плавсредства, дремавшие на рейде, и мысленно воззвал к Господу с просьбой оградить его монастырь от всякого лиха. Он угадывал, что грядущее сулит монастырю серьезные испытания, настолько серьезные, что теперь оставалось уповать лишь на Господа...
...Улыбаясь в бородку, брат Артемий смотрел, как высаживаются долгожданные мастера.
– Однако удивительные нынче пошли мастера, – пробормотал стоявший рядом брат Зосима. – Не припомню, чтобы кто-то из их братии прибывал по воздуху. Это, видно, какие-то особо ценные специалисты.
Мысленно согласившись с этим, осведомленный Артемий ответил ему:
– Так ведь водное сообщение ограничили. В связи с работами...
– Но иностранцы-то едут.
– По особому повышенному тарифу. Они платят втридорога.
– Неужто для реставраторов нельзя было сделать исключение?
Артемий пожал плечами:
– Думаю, можно. Да везде бюрократия, брат. Реставраторы сейчас нарасхват – сколько их выпускают? Немало, и никто не сидит без работы. Упустим время – они уйдут на другой объект. Вот и подсуетились.
Зосима, полный сомнений, умолк. Повышенные тарифы, на его взгляд, безнадежно съедались арендой вертолета.
«Сирены» по-военному выстроились перед встречающими, и Посейдон оглянулся на свою группу, сделав яростные глаза. Еще бы вытянулись во фрунт, деятели искусства! Что за недоумки...
Реставраторы спохватились и нарушили строй, стараясь выглядеть художественными разгильдяями. Вольность в манерах, свойственная людям искусства, давалась им не особенно хорошо.
Артемий шагнул вперед:
– С прибытием, благослови вас Господь.
Он быстро перекрестился и ненадолго склонил голову.
Каретников чуть замешкался, не зная, можно ли приветствовать духовное лицо рукопожатием. Решил, что художнику можно все, и протянул ладонь. Артемий пожал ее, и то же сделал Зосима.
– Мир вам, спаси вас Христос, – Артемий перекрестил группу.
Зосима сопел и перетаптывался на месте.
Похоже было, что новый инок делал что-то не так и несколько нарушал каноны, но ничего вопиющего в его поведении не усматривалось. Только сердце Зосимы все равно наполнялось тревогой.
– Прошу проследовать в гостиницу – Артемий чуть посторонился и сделал приглашающий жест.
– Спасибо, – отозвался Посейдон и кивнул остальным.
Группа снялась с места и сколь можно непринужденно зашагала за монахами. Артемий чуть отстал, пропуская Зосиму вперед, и дождался, когда командир «Сирен» поравняется с ним.
– Красивые здесь места, – громко сказал Посейдон.
– Божьей милостью, – кивнул инок. И вполголоса добавил: – Этажом ниже.
Тот ничего не ответил, все шло по плану. «Сирены» должны были поселиться этажом ниже немцев, чтобы приобрести дополнительное преимущество благодаря возможности отслеживать их перемещения.
– Хотелось бы сразу ознакомиться с фронтом работ...
– Зосима, – Артемий дернул бородкой, указывая на шедшего впереди монаха, – проведет вам небольшую экскурсию.
Экскурсия была необходима, так как «Сирены» слабо представляли себе специфику реставрационных работ и сам материал, над которым им предстояло трудиться. Они должны были составить хотя бы общее приблизительное впечатление о предмете своей гипотетической деятельности.
– Двое, – сказал Каретников.
Он имел в виду, что в его группе есть два человека со специально натренированными памятными навыками, способные усваивать и с первой подачи запоминать огромные объемы информации. В дальнейшем предполагалось, что в случае непредусмотренных бесед именно они будут якобы легко и свободно оперировать специальными сведениями. Без знания профессиональных деталей легенда «Сирен» грозила лопнуть при малейшем испытании.
– Битте шен. – Военный, принимавший немецкую группу на катер, чувствовал себя не в своей тарелке и неуклюже раскланялся.
Туристы заулыбались, прозвучали приветственные возгласы.
Циник и язва Клаус Ваффензее, видя, что немецкий встречающего оставляет желать лучшего и вообще, похоже, пребывает в прискорбном зачаточном состоянии, с улыбкой сказал стоявшему рядом Норберту Лангу:
– Услышать нечто подобное от русского моряка – в этом есть особенная прелесть, тонкий шарм... Вообразите, что каких-то шестьдесят с лишним лет назад...
Ланг пожал плечами:
– Шестьдесят лет – солидный срок. Давайте уж углубимся дальше... В начало, скажем, прошлого века. Вполне естественное приветствие.
– Это так, – согласился Ваффензее. – Однако мне кажется, что события середины минувшего столетия навсегда изменили отношения между нашими народами. Бесповоротно. Я слышал, что русских по сей день передергивает, стоит им заслышать немецкую речь.
– Это пройдет, – утешил его Норберт.
– Через тысячу лет.
– Но прошло же у них это с монголами и татарами. А иго длилось триста лет – так, что ли? Оно и сейчас поднимает голову – ненавязчиво...
– С теми – другое. Они ассимилировали их культуру. Они даже ругаются на их языке, а это уже корневое.
– Когда-нибудь станут ругаться и на нашем.
– Вряд ли. Если бы Адольф победил – то да. Лет через триста...
– Если бы Адольф их победил, то через триста лет, поверьте, ругаться было бы уже некому...
– С этим трудно поспорить, вы правы.
Клаус Ваффензее замолчал и стал смотреть на пасмурные волны, лениво стучавшие в борт катера. Было прохладно, он зябко поежился. Чайки разорались, как оглашенные, и крики их начинали ему досаждать. Он услышал команду к отплытию и перешел к другому борту, откуда открывался лучший вид на покидаемый берег. Красоты были последним, что заботило Клауса. Его больше интересовали люди. Их было мало, хотя время приближалось обеденное. Тем любопытнее было устанавливать личности – кое-кто вызывал у Ваффензее нешуточные подозрения.
Например, те, что сидели в неприглядных «Жигулях» с номерами, заляпанными грязью. Может быть, он правильно насторожился, а может быть, и нет.
Или столь же невзрачные работяги, которым почему-то нечем заняться, – курят, плюют с причала и время от времени поглядывают на катер. Или вон тот рыбак, которого еле видно – так он далеко.
Клаус остановился по соседству с Кнопфом, навалился на перила. Тот мельком взглянул на белокурого великана и отвернулся.
Мрачный тип, неразговорчивый. Держится особняком. Непонятно, зачем он поехал – может быть, настоящий унылый ортодокс? Хотя православные хором твердят, что их вера самая радостная. Но не похоже, судя по их постным физиономиям, – те же католики выглядят куда здоровее.
Оно и понятно. Католическую мессу, к примеру, можно слушать сидя, а православные выстаивают часами.
– Через час будем на месте, – проговорил Ваффензее в никуда. Это и без него все знали, он просто приглашал соседа к разговору.
Кнопф не ответил.
– Как вы думаете, в монастырском отеле будет постный стол?
Тот долго медлил, прежде чем отозваться:
– Русские жадны до денег. Чтобы привлечь инвестиции, они готовы нарушить все, в том числе и церковные правила.
– Все-таки монастырь, – сказал Ваффензее с сомнением. – В русских монастырях очень строгие правила. Однажды я посетил в Петербурге две литургии, потратил два дня. Первая состоялась в обычном храме, а вторая – на монастырском подворье. И вот последняя длилась намного дольше. У русских же не принято сидеть во время службы, и это стояние чрезвычайно утомительно. К концу я едва не потерял сознание... Там были пожилые женщины, и я удивлялся их выдержке.
Кнопф безучастно воззрился на него:
– Вас так интересуют вопросы религии?
– О да, я религиовед.
– А ваше собственное вероисповедание?
Клаус Ваффензее рассмеялся заразительным детским смехом и обреченно развел руками:
– Неловко сказать, но сам я до сих пор вне вероисповедания... Я вырос в протестантской семье и увлекся другими религиями, пожалуй, из чувства протеста. Простите за невольный каламбур. Мои родители были слишком строги... Вообразите – секли меня, как секли крепостных в России. Протест состоялся, а вот к Божественному как таковому во мне напрочь отбили интерес.
– Я протестант, – заметил Кнопф.
Ваффензее зарделся.
– Простите, – сказал он с чувством. – Я не хотел вас задеть. Это сугубо семейное дело, частный случай...
– Пустяки, – тот решительно оттолкнулся от перил. – Вынужден вас покинуть, мне немного нездоровится. Благодарю за компанию и приятную беседу.
Он проводил Кнопфа взглядом, раздумывая, на ком же остановиться.
Если все пойдет не так, как задумывалось, придется переводить стрелки. Ланг или Кнопф? Оба – темные лошадки. Но кто здесь не темная лошадь? Он сам не лучше и очень даже доволен этим обстоятельством. Ему нет никакого резона дополнительно выбеливаться, можно переборщить.
Эсминец на грунте – крепкий орешек. Если с изъятием материала ничего не получится, придется взрывать, и вполне вероятно, что не только эсминец. Пострадать могут русские плавсредства, а в наихудшем случае – не только они.
Возможен международный скандал.
Что там скандал – катастрофа.
Никто не знает, в каком состоянии материал и что с ним происходило после событий, о которых известно Клаусу Ваффензее и его руководству. Если это состояние хотя бы просто не претерпело изменений, то опасность представляется исключительно высокой. Но если все-таки претерпело, и не те благоприятные изменения, что связаны с временным фактором, а с другими, более неприятными вещами, то масштабы этой опасности трудно вообразить.
...Может быть, вообще послать к черту Ланга и Кнопфа? Остановиться, к примеру, на фон Кирстове. Скользкий тип. И отчасти похожий на него самого: лезет ко всем, всюду сует свой нос. Инициатива наказуема, чем бы она ни диктовалась, а потому наказать можно и Кирстова.
Клаус Ваффензее привык работать в одиночку, но сейчас испытывал острую потребность в союзнике. В группе он был не один, однако хотелось аборигена. Один уже имелся, но мало, мало... Нельзя исключить, что он найдет такового на острове. Времени в обрез, и на серьезную вербовку его не хватит, но для разовой акции можно попробовать подыскать и кого-то из местных...
Хотя достаточно того, что есть, подумал он. Не стоит злоупотреблять, можно здорово влипнуть.
Но мысли о новых кадрах продолжали кружиться в его голове.
Многое зависит от ситуации в монастырском отеле. Маловероятно, что Клаусу удастся договориться с кем-нибудь из монахов, зато среди паломников и заявившихся ради забавы праздных ротозеев вполне можно попробовать поискать.
Он, конечно, рискует угодить в крутую переделку. Заведомо ясно, что никому из постояльцев отеля ни в коей мере нельзя доверять. Там запросто может поселиться кто угодно. У русских есть собственный интерес, ради которого они и затеяли всю эту возню с подъемом мертвого корабля, а потому они, скорее всего, направили на остров агентов спецслужб.
Спецслужбы – да, именно во множественном числе.
Расклад такой, что в деле могут участвовать разные структуры, не только привычная госбезопасность. И очень может статься, что они действуют вразнобой, имея самые смутные представления о конкуренте.
Хорошо бы их столкнуть. Но опять же нет времени. Такие операции требуют долгой и тщательной подготовки. А связь с руководством практически невозможна; попытка связаться с заказчиками означает почти неминуемое разоблачение.
Созерцая пустынный горизонт, Клаус Ваффензее глубоко вздохнул. Он сунул руку в карман широких штанов: миниатюрное оружие, на вид ничем не отличавшееся от сигаретной пачки, было на месте и терпеливо ждало, когда же его, наконец, пустят в ход. Оно истомилось.
Хотя Клаус предпочел бы обойтись без огневых контактов.
Но он, несмотря на кажущуюся молодость, не первый год был замужем и понимал, что мирное развитие событий в данном случае – нечто из области ненаучной фантастики, прекрасная утопия.
Держа в уме тройку вероятных кандидатов, он прикрыл глаза и начал думать об остальных.
Четыре человека, и все они устраивали его меньше, чем Ланг, Кнопф и – с оговоркой – фон Кирстов.
У Ваффензее не было никаких разумных оснований предпочесть этих троих остальным шестерым, но он доверял интуиции. Чутье очень редко подводило его. Он чувствовал, так сказать, сцепление, улавливал флюиды. Очень полезное качество в ситуации, когда и в прочих отношениях приходится двигаться на ощупь.
Часть третья
ЭСМИНЕЦ «ХЮГЕНАУ»
Глава восьмая
ПЛАВУЧАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Эсминец – аббревиатура от «эскадренный миноносец».
Это многоцелевой боевой быстроходный маневренный корабль, предназначенный для уничтожения подводных лодок, самолетов и кораблей противника. Эсминцы издавна широко используются для обороны соединений кораблей и морских конвоев, а также для несения разведывательной и дозорной службы. Они оказывают эффективную артиллерийскую поддержку при высадке десанта, а также служат для постановки минных заграждений.
Само название этих кораблей говорит о том, что они могут действовать в составе эскадр – как на море, так и в океане.
На первых порах эсминцы были дешевыми кораблями, однако в годы Второй мировой войны их оснащение значительно усложнилось, так как они оказались абсолютно неподготовленными к новым угрозам – тем же подводным лодкам и авиации, которые к тому времени стали намного совершеннее. Эсминцы пришлось оборудовать зенитными орудиями, радарами, бомбометами, глубинными бомбами и торпедами. Так они сделались большими многоцелевыми кораблями, которые уже сами по себе превратились в лакомую добычу. Они участвовали почти во всех значительных морских сражениях.
Эсминец «Хюгенау» был одним из многих, ничем не выделяясь из общего числа. Германское командование использовало его в самых разных морских операциях, пока при сопровождении одного из конвоев «Хюгенау» не попал в переплет и не получил серьезные повреждения.
Ему удалось благополучно добраться до порта Пиллау и стать на ремонт. Командир эсминца предвкушал новые славные бои, но перед этим рассчитывал отдохнуть, подлечиться и развлечься; внезапный перевод на другой корабль явился для него полной и неприятной неожиданностью. Перемещению подвергся не только командир, но и весь экипаж, членов которого раскидали кого куда. Солдаты не рассуждают, и командир списал пертурбации на счет малопонятных штабных игрищ. Он не видел никакой военной необходимости в такого рода переменах, но покорно отправился на новое место службы, где вскоре и сложил голову при атаке британской подлодки.
Он так и не узнал, что командование отвело «Хюгенау» роль, совершенно не характерную для надводных кораблей – и для подводных тоже.
А если бы узнал, будучи в статусе командира этого корабля, то мог бы и возроптать, причем с печальными для себя последствиями – потому-то и был смещен. В конце концов, он был честным служакой; можно служить гитлеровцам, но при этом не обязательно являться таковым – в смысле нацистом.
Доктор Валентино предвидел триумф со всеми вытекающими радостными последствиями.
Вся лагерная администрация ждала высокопоставленных эмиссаров из Берлина. Сперва Валентино надеялся встретить особую комиссию, ибо чувствовал важность возложенной на него миссии. Высокий статус комиссии автоматически повышал и статус самого доктора, так что тот мог рассчитывать и на повышение в звании, и на отпуск, и на прочие радости военного времени. Однако Берлин ограничился простыми посыльными, что несколько разочаровало администрацию.
Все мероприятие сводилось к сугубо техническим процедурам без помпы и пафоса, но успех остается успехом, и Валентино с фон Троттновым по-прежнему рассчитывали на высочайшие милости за проделанную работу. Лазаретом подвиги не исчерпывались, лагерное начальство стремилось поставить себе в заслугу вообще всякое уже осуществленное истребление.
К приезду гостей они успели уничтожить еще одну сотню юных заключенных, перезаражав их всеми болезнетворными штаммами, какими только располагал Баутце. Выжили единицы. Их продолжали содержать в сносных условиях, которые, однако, весьма напоминали те, что создаются для скота, отобранного на убой.
Когда ворота лагеря распахнулись, чтобы пропустить черный «опель» и санитарный фургон, лагерное начальство выстроилось в шеренгу – не хватало разве что «хлеба-соли». Территория была вылизана едва ли не до стерильной частоты; треть уборщиков, не выдержав нагрузки, отправилась в душевые, и это было дополнительным плюсом общей лакировки действительности.
Из «опеля» вышел высокий эсэсовский чин в сопровождении адъютанта.
Валентино сразу узнал в нем доктора Иоахима Месснера, далеко обошедшего его в продвижении по служебной лестнице. Когда-то они начинали почти на равных, у Месснера в силу более знатного происхождения была некоторая толика форы, но он использовал ее с неповторимой эффективностью.
Месснер тоже признал Валентино. После дежурного приветствия в виде «хайль» он дружески потрепал коллегу по плечу:
– Рад встрече, геноссе! И как тебя занесло в такую дыру?
Не дожидаясь ответа, Месснер направился к фон Троттнову. То, что сначала он обратился к Валентино, было добрым знаком для последнего, несмотря на некоторую снисходительность приветствия.
Фон Троттнов как хлебосольный хозяин немедленно пригласил высокого гостя к столу. Доктор Месснер отказался:
– Дело срочное, мой дорогой Троттнов. У меня есть предписание как можно скорее доставить материал по назначению.
Комендант взглянул на фургон.
– Позволю себе заметить, что у вас неудовлетворительная охрана. Если материал имеет ценность...
Тот перебил его со смехом:
– Бросьте! Кому они нужны? Неужели вы думаете, что кто-то вознамерится отбить эту мразь? Они нужны нам, но больше – никому... Да и кто бы посмел? Мы в Германии, а не в белорусских лесах.
– Совершенно верно, господин штурмбанфюрер, – комендант почтительно склонил голову.
Противореча себе, Месснер добавил:
– Усиленная охрана лишь вызовет ненужные подозрения.
После этого непродолжительного вступления вся верхушка направилась к амбулатории. Доктор Валентино держал наготове папку с сопроводительными бумагами. Он трудился всю ночь, пытаясь придать записям наукообразный вид. Получилась, правда, какая-то ахинея, и дело спасла лишь немецкая педантичность, благодаря которой рапорт приобрел вполне товарный вид.
В амбулатории Валентино преобразовался в услужливого ординатора, докладывающего матерому профессору. Месснер, не имевший никаких ученых степеней и званий, воспринимал это как должное, переходя от койки к койке. Игриво взял Оську за подбородок, потрепал по щеке Сережку Остапенко. Зато на девочек внимания почти совсем не обращал, из чего Валентино сделал для себя соответствующие выводы. Возможно, когда-нибудь это еще пригодится ему – в плане служебного роста.
Волнуясь, как школьник, Валентино зачитывал результаты. Он старался говорить четко и ровно, но Месснер в какой-то момент перебил его, отобрал папку и начал сам вчитываться в «документы». На лице его постепенно укрепилось брезгливое выражение. Баутце заметил и поспешил оправдаться:
– Если бы я, господин штурмбанфюрер, был больше осведомлен в задачах эксперимента, я смог бы лучше сформулировать...
Но Месснер опять перебил собеседника:
– В ваших интересах, дорогой коллега, знать как можно меньше. Много знаний – много печали, как сказано в Библии. Читайте Екклезиаста, хоть он и еврей. Ваше усердие в любом случае похвально, и я доложу о нем командованию. Уверен, что оно будет оценено по заслугам.
Валентино щелкнул каблуками, поклонился. Он не сомневался, что ничего подобного Месснер в жизни не сделает.
Перечитав бумаги вторично, эсэсовец ткнул пальцем в лист:
– Этот образец продержался в вашей живодерне дольше других. Остапенко – я верно прочел?
– Совершенно верно, господин штурмбанфюрер. Вы только что изволили потрепать его по щеке.
Месснер вернулся к койке, где лежал Сережка. Он обратился к нему по-русски:
– Откуда ты родом?
Тот назвался.
– Надо добавлять «господин штурмбанфюрер», – нравоучительно заметил Иоахим Месснер.
Остапенко был до того напуган, что только кивнул. Валентино вмешался:
– Нельзя исключить врожденную устойчивость лишь к одному конкретному агенту, клостридиум тетани. В моем отчете указывается, что оснований для общих выводов недостаточно...
– А почему же вы, доктор, ограничились одним агентом, натолкнувшись на сопротивление?
Доктор Баутце побледнел:
– Недостаточность еще не означает полного отсутствия. Я не осмелился подвергать потенциально ценный экземпляр новому риску...
Месснер усмехнулся:
– Действовали строго по инструкции? Это похвально. Никто и не ждал от вас инициативы. Вы хороший солдат, Валентино, но ученого из вас, боюсь, не получится. Большая наука не делается без дерзновения.
Теперь Баутце покрылся испариной.
– Виноват...
Штурмбанфюрер пренебрежительно махнул рукой:
– Забудьте. Никто и не требует от вас особой пытливости. Упражняйтесь с фенолом, каждому свое.
Последние два слова, представленные на воротах Бухенвальда, придали его фразе особый издевательский смысл. Месснер никогда не упускал случая пнуть беззащитного, не видя большой разницы между подчиненными и расовым быдлом.
– Грузите их, – распорядился он и передал папку адъютанту.
К амбулатории Месснер потерял всякий интерес. Таких лазаретов он повидал десятки. Он пошел к выходу, а Валентино затрусил следом:
– Прикажете продолжать эксперименты?
– Что? – Месснер недоуменно наморщил лоб.
– У меня еще остался материал, – пояснил Баутце. – Я имею в виду не особей, а культуры...
Штурмбанфюрер пожал плечами:
– Я не получал указаний на сей счет. Если угодно – развлекайтесь дальше. Не пропадать же добру.
Лицо Валентино, хоть и огорченного пренебрежительным отношением бывшего однокашника, осветилось радостью. Он значительно посмотрел на коменданта. Фон Троттнов пожал плечами – ему было все равно.
Однако на выходе он предупредил доктора:
– На сей раз – никаких санаториев...
– Об этом и речи нет, господин комендант, – отозвался тот. – Меня самого угнетало это усиленное питание. А фенол забавен, но со временем приедается.
Их долго везли, нигде не задерживаясь.
Немецкие дороги пребывали в отличном состоянии, и невольники спустя какое-то время задремали. Караулившие их автоматчики испытывали сильное желание пресечь эту возмутительную вольность, но им вменили в обязанность бережно обращаться с пассажирами.
Конечным пунктом их путешествия стал военный аэродром.
Узники испытали очередной шок: ни одному из них еще ни разу не приходилось летать самолетом.
У Сережки мелькнула безумная мысль: столь резкие перемены в судьбе могут означать что-то хорошее. Никто не повез бы их за тридевять земель, если бы речь шла об уничтожении. Наверное, они и в самом деле имеют большую ценность для немцев – может быть, им сохранят жизнь, а уж какой она будет, не так и важно.
– Спинной мозг вырежут, – Оська разрушил его фантазии.
– Зачем? – задавая вопрос, Сережка ни на секунду не усомнился в вероятности сказанного.
– Для опытов, ясное дело. Они так часто делают. Марта, вон, из-под Кракова, говорила, что там всем вырезали.
Марта сидела рядом на скамье, ничем не реагируя на сказанное.
– И Валентино вырезает, – добавил Оська.
– А нам почему не вырезал? – подала голос Дашка.
– У нас особенный, – у Оськи на все был готов ответ.
– Они его едят, – отсутствующим тоном произнесла Марта.
– Откуда знаешь?
– Видела. Наш доктор велел готовить ему. Я была в хозобслуге. Вымачивали в вине и поджаривали на углях. А иногда сырыми ел.
Все надолго замолчали.
– Нет, нам не вырежут, – изрек, наконец, Сережка. – Мы зачем-то еще нужны. Не Гитлеру же на обед.
– А может, и ему.
Один из солдат, уловив имя любимого фюрера, нахмурился и прикрикнул на «особей». Он правильно сообразил, что его подопечные вряд ли скажут что-то хорошее о вожде. Вновь наступила тишина, теперь надолго.
Прошло несколько минут, и вот двери фургона распахнулись.
...На аэродроме стояло несколько машин. Самая ближняя была готова к полету, пилот застегивал планшетку. Месснер стоял рядом и нетерпеливо смотрел на фургон.
– Ведите их сюда! – закричал он. – Пусть пошевеливаются – зря, что ли, их кормили деликатесами?
Дети под конвоем автоматчиков припустили трусцой.
Едва они разместились внутри, как взревели двигатели и винты начали набирать обороты. В салоне были оборудованы сиденья, но узников усадили на пол, лишив – сомнительного, впрочем – удовольствия наблюдать в иллюминаторы красоты победоносного фатерлянда.
Месснер же со всеми удобствами расположился на переднем сиденье.
Когда самолет взлетел, он обернулся и подмигнул «особям»:
– Вам очень повезло, дети. Сначала на машине, потом на самолете, а скоро будет и корабль! Настоящий эсминец! Впечатления на всю жизнь... Дома вам такое, небось, и не снилось.
В последнем Месснер был абсолютно прав. Никому из его пленников не снилось дома ни то, что он перечислил, ни тем более то, что последовало.
...В Кенигсберге, где состоялась посадка, их ждал очередной фургон. Ничего не понимающих детей поспешно затолкали внутрь и доставили в порт Пиллау, где на рейде стоял отремонтированный эсминец «Хюгенау».
Он был превращен в научно-исследовательскую лабораторию.
Противнику и в голову не пришло бы подозревать, что на военном корабле ведутся сверхсекретные исследования. На то и делался расчет.
Положение на фронтах было удручающим, война неотвратимо катилась к бесславному для Германии финалу. Близилось время, когда противник примется рыскать по ее территории, ведя охоту за учеными головами – те, однако, могли еще послужить делу возрождения Рейха. Когда дела пойдут совсем плохо, весь коллектив вместе с подопытными будет снят с борта эсминца «Хюгенау», высажен на подводную лодку и переправлен в более спокойные места, например, в Южную Америку. Хотя подготовительные работы велись и в других местах – даже в Антарктике.
Конечно, для коллектива не исключалась и иная судьба.
Эсминец выглядел самым обыкновенным кораблем, и только усиленная охрана, обеспеченная другими эсминцами и катерами, а также береговыми средствами, позволяла заподозрить нечто необычное.
Да и то больше с берега – при большом желании вникнуть в происходящее. С воздуха же все казалось едино, и вражеская авиация в любом случае должна была получить достойный отпор.
У пристани печальный отряд уже поджидал катер.
Под дулами автоматов «особей» стали переправлять на борт. Неизвестно, какая мелочь явилась последней каплей, финальным толчком, но вид эсминца, маячившего вдали, знаменовал приближение чего-то непостижимого, пока не познанного и чреватого невообразимым кошмаром.
Загадочность происходящего отзывалась безумием в поступках. Всегда рвется, где тонко, и Оська оказался слабым звеном.
Оська внезапно рванулся вправо и через секунду очутился в воде. Сразу стало ясно, что пловец из него никакой. Нелепо загребая руками, он поплыл куда-то в сторону – в расчете неизвестно на что.
– Живым! Выудить его живым! – запоздало выкрикнул Месснер.
Солдаты отреагировали раньше, автоматически, как учили. Автоматы дернулись, сухо затрещали; пули выбили из свинцовой воды цепочку фонтанов. Два фонтана вышли красными.
Проклиная на чем свет стоит исполнительных и твердолобых сынов вермахта, Иоахим Месснер беспомощно наблюдал, как ценный подотчетный экземпляр скрывается под водой.
Остальные экземпляры взирали на место, где только что был Оська, с ужасом, к которому примешивалась толика зависти. Месснер, придя в себя, отбросил благодушие и решил, что пара затрещин не повредит «материалу», пережившему застенки фон Троттнова и опыты доктора Валентино.
Увлекшись, он не обошелся одной парой затрещин, и «материал» в полубессознательном состоянии доставили на катер почти что волоком.
Глава девятая
МЕДИКИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
После снятия экипажа на эсминец «Хюгенау» пожаловали новые люди. Команда стала приходящей и работала посменно; базировалась на берегу и два раза в сутки менялась, будучи доставляема все тем же катером.
Члены нового экипажа не были похожи на моряков.
Все они сплошь были, конечно же, военными – иначе и быть не могло, – но явно не имели никакого отношения к морю. Количество людей, разбирающихся в устройстве эсминца, сократилось до минимума и приобрело статус хозяйственно-технической обслуги. Их было ровно столько, сколько требовалось для поддержания в корабле жизнеспособности. Даже его боеготовность отодвинулась на второй план.
Ремонтные работы, проведенные ранее на «Хюгенау», тоже не укладывались в привычную схему. Конечно, все повреждения, полученные в ходе атаки, были залечены, но этим дело не кончилось. Наоборот, эсминец был дополнительно подвергнут странным преобразованиям. Последние коснулись, в основном, перекрытий, нижней палубы, переборок и люков.
Крейсер заметно отяжелел.
Во многих местах появились необычные свинцовые настилы, в которых угадывалась изолирующая функция, но с какой целью делалась изоляция, никто из ремонтников не знал, благо никогда прежде не сталкивался с подобным. И не особенно стремился узнать.
Кроме того, на борт эсминца были доставлены прежде невиданные контейнеры, под усиленной охраной.
Появились медики – на сей раз настоящие, сведущие в инфекционных болезнях, не чета «доктору» Валентине Баутце.
По окончании ремонтных работ прибыла особая комиссия, чего раньше тоже никогда не случалось. Все говорило о том, что эсминцу выпало некое особое предназначение.
Со всех ремонтников взяли строжайшую подписку о неразглашении. Им повезло: в штабе высказывались и более радикальные предложения. Некоторые чины ратовали за физическую ликвидацию участников. Но рабочих рук катастрофически не хватало, и бригаду оставили в живых. Что до расформированного экипажа, то всех моряков постарались спровадить в наиболее горячие точки. Эти люди вообще ничего не знали о происходящем, но командование предпочло дополнительно подстраховаться.
Но самые странные метаморфозы претерпели трюмные помещения.
В них были выстроены жилые отсеки, несколько штук. По комфортабельности они сильно отличались от тех, что обычно предназначались для экипажа, а ведь и традиционные каюты нельзя назвать хоромами. Новые отсеки были похожи, скорее, на тюремные камеры.
Там же оборудовали еще две «комнаты». В них разместили медицинское оборудование и необычного вида аппаратуру. Упомянутые контейнеры поставили на пол, и все последующее прикрылось завесой уже абсолютной секретности.
Разительно изменилось и пищевое довольствие. Были выписаны продукты, по калорийности значительно превосходившие обычные пайки. О причинах могли догадаться лишь сами участники будущей драмы, знакомые с усиленным питанием по лазарету Валентино. Впрочем, новые обитатели эсминца не забыли и о себе, запаслись с размахом. Заказанного провианта было слишком много для нескольких заморышей-заключенных – нацистские исследователи пользовались случаем пожить в свое удовольствие, коль скоро есть такая возможность. К тому же особенности предстоявших экспериментов оправдывали оздоровительные мероприятия – в том числе и для персонала. В известном смысле гитлеровцы, будучи живыми существами, очутились в одной лодке со своими жертвами и тоже могли повредить здоровье.
Иоахим Месснер был назначен ответственным за все.
...Раскидав узников по «каютам», он обошел лаборатории, где шли последние приготовления. Обе лаборатории располагались на максимальном удалении одна от другой – во избежание погрешностей.
Убедившись в удовлетворительном состоянии помещений и оборудования, штурмбанфюрер взялся за противочумные костюмы. Надев один, он придирчиво проверил подачу воздуха, герметичность. Убедился, что костюм не особенно стесняет в движениях: прошелся по новоиспеченным отсекам, показался подопытным. Две девочки, увидев жуткую фигуру в противогазе и комбинезоне с капюшоном, потеряли сознание. Из-под маски прыснул довольный смешок.
Немецкий юмор, как правило, не отличается особой утонченностью, так и Месснеру особенно нравились примитивные забавы.
Непродолжительное братство по несчастью распалось, и Сережка Остапенко остался в одиночестве.
Вид человека, наряженного в защитный костюм – понять, что это Месснер, было невозможно, – дополнительно укрепил его в мысли, что мучения, начавшиеся в лагерной амбулатории, послужили только началом чего-то большего, главного. И это главное такого рода, что выпутаться уже не удастся. И никто уже не намерен беречь «материал», коль скоро хозяева стараются в первую очередь обезопасить самих себя, напяливают неудобную и тяжеловесную одежду, а детей содержат в чем мать родила.
У заключенных и в самом деле отобрали одежду. Во-первых, голым не убежишь, хотя бежать и без того было невозможно. Во-вторых, на одежде экономили. Выходили гроши, не шедшие ни в какое сравнение с расходами на питание, но проявления бюрократии зачастую поистине иррациональны. В-третьих, так легче было отслеживать внешние изменения, которые неизбежно наступят в результате «воздействия».
Это гнусное иносказательное слово прекрасно вписывалось в ряд прочих, горячо любимых во все времена разнообразными душегубами в погонах, – «изделие», «событие», «мероприятие» и т. д.
В камере, однако, было чисто. Койка, привинченная к стене, была заправлена свежим бельем. Стерильность в ходе эксперимента совершенно необходима, воздействие должно быть по возможности беспримесным. Горшка не поставили – даже в прибрежных водах случается непогода, сопровождающаяся сильным волнением. Не исключалась и ничтожная вероятность бегства с выходом в открытое море. Поэтому для отправления естественных нужд в каждой камере соорудили отдельный гальюн с фиксатором, не позволявшим фекалиям выводиться наружу. Все отходы подлежали исследованию и далее – при необходимости – обеззараживанию. Обеззараживать планировалось не все каюты, половина заключенных подлежала особым, не связанным с применением инфекционных агентов, воздействиям.
Для них приготовили кое-что другое.
Сережка Остапенко, сам того не ведая, являлся исключением.
На нем собирались попробовать все.
В назначенный день Месснер созвал высокомудрых коллег в кают-компанию на совещание, оно же инструктаж.
Вокруг стола расселись военные врачи в офицерской форме. Халатов на эсминце никто не носил, чтобы не возбуждать стороннего любопытства. Никто ничего не записывал, все воспринималось на слух.
И никто из присутствующих понятия не имел о стратегических задачах, которые им предстояло решать.
Отобрали, однако, тех, чьи личные качества не помешали бы осуществлению задуманного. Достаточно упомянуть, что двое были откомандированы прямо из команды зловещего доктора Менгеле.
Конечно, все офицеры догадывались о специфике работ. Принятые меры безопасности не оставляли сомнения в том, что последние сопряжены со значительным риском для собственных здоровья и жизни экспериментаторов. Между собой доктора, естественно, поговаривали об особо опасных инфекциях, но были правы лишь наполовину. Вторая составляющая их деятельности являлась делом совершенно новым и незнакомым для всех, то была новая отрасль в медицине.
Когда штурмбанфюрер Месснер проинформировал присутствовавших, у многих из них по спине пробежал ледяной озноб.
Опасность куда страшнее, если она невидима. Микроорганизмы хотя бы видны под микроскопом. Но это...
Прохаживаясь по кают-компании, Месснер говорил:
– Я воздержусь от высокопарных слов. Нам всем понятно, во имя чего мы служим. Фюрер и Германия ждут от нас подвига, который может коренным образом переломить ситуацию на фронтах...
Забавно, что, сам того не подозревая, он оперировал теми же аргументами, что и доктор Валентино в его первом обращении к подопытным детям. Разница, как ни парадоксально, была невелика. Фюрер и Германия относились к своим верным сынам примерно так же. При первой необходимости их самих, не колеблясь, спустили бы в трюм, где заковали бы в кандалы, разместив на чистых койках...
Штурмбанфюрер продолжал:
– Как вам известно, в нашем распоряжении на данный момент имеются восемь неполовозрелых особей славянских и еврейских кровей. Предварительный отбор, который они прошли, осуществлялся весьма грубо и примитивно, без соблюдения принятых в науке протоколов исследования. Это было продиктовано объективными условиями их содержания и дефицитом времени. Времени у нас мало – можно сказать, что в обрез. Но грубость выполненного отбора имеет и плюс, свидетельствуя о способности особей выживать в условиях, далеких от оранжерейных. Последние явились дополнительным стрессовым фактором, повысившим значимость испытания. Наши работы будут вестись сразу в трех направлениях. Первое – изучение влияния на подопытных особо опасных инфекционных агентов. Это, что называется, контроль. Все они заведомо обречены, и наша задача – усердно фиксировать базовую динамику патологического процесса. Второе направление: изучить воздействие на испытуемых радиоактивных агентов. Это, как вы прекрасно знаете, малоизученная отрасль медицинской науки. Молодая. Этим испытаниям будут подвергнуты два экземпляра – тоже контрольная группа. Слишком мало, это очевидно, но ждать пополнения некогда. Скорее всего, они тоже обречены. И остаются еще двое, считающиеся наиболее выносливыми. В отношении них будет развернуто третье, главное направление. Оно связано с воздействием радиоактивных агентов на инфекционные. Я выражаюсь понятно?
– Не совсем, – откликнулся пожилой врач по фамилии Берг, похожий на доброго дедушку – Вы планируете изучить воздействие радиации на инфицированный материал? Зачем?
– Нет, на инфекционный, – с улыбкой возразил Месснер. – Облучению в третьем случае будут подвергнуты не особи, а микроорганизмы. Изменения, которые в них произойдут, будут изучаться на примере особей повышенной стойкости... я говорю о воздействии измененных бактерий.
– Идет ли речь о создании нового биологического оружия?
– Именно так, – кивнул штурмбанфюрер. – И я полагаю, вам теперь очевидно, какая ответственность возложена на ваши плечи.
Присутствующие подавленно молчали. Дело выглядело очень серьезным. Оно было из разряда тех, после которых от слишком осведомленных участников и свидетелей нередко предпочитают избавиться.
– У меня вопрос, господин штурмбанфюрер, – заговорил еще один военврач, Моргенкопф. – Почему было принято решение облучать инфекционные агенты именно здесь? Это разумнее было сделать заранее и избавить нас от лишних трудов. Вывести устойчивые штаммы и заниматься непосредственно их воздействием на человеческий организм. По-моему, это рационально.
– Безусловно, – согласился Месснер. – К несчастью, исследования в этой области только начались, и выполнить то, что сейчас было предложено вами, никто просто-напросто не успел – или не позаботился. Так что мы находимся, можно сказать, на передовой. А ситуация, повторю банальность, складывается, увы, не в нашу пользу. Вы знаете это не хуже меня. Кстати сказать, не рекомендую доносить на меня за пораженческие настроения. Я особо уполномочен произносить в этих стенах все, что сочту нужным, – в том числе даже провоцировать вас. Не угодите в собственную ловушку... Теперь, возвращаясь к вопросу: да, нас нагрузили еще и этим. Кто-то же должен быть первым.
– Но расходного материала явно недостаточно, чтобы делать хоть приблизительные выводы!
– Руководству это известно. Положение таково, что будут рады всякому результату, дающему хотя бы небольшие шансы. Если время позволит, у нас будут и другие подопытные. В Германии много лагерей.
– А почему взяли заключенных? – прищурилась Анна Лессинг, единственная женщина среди присутствующих. – У Рейха не было возможности привлечь здоровых людей? Полноценных арийцев?
– Надежду фюрера? – усмехнулся Месснер.
– Почему нет? – Лицо у Лессинг было каменное. – Не говорите мне только об этике. В нашем случае такой подход видится целесообразным.
– И не собираюсь. Плевать мне на этику. Вы правы, такая возможность была. И ею воспользовались, исходя из того, что по физическим параметрам арийцы превосходят прочие нации.
– Воспользовались, вот как?!
– Да, именно так. Никто не продержался и половины срока, что выдержали эти животные. До радиации дело даже не дошло. А поскольку нам предстоит сражаться с родителями зверенышей, а не с собственным народом, то выбор очевиден...
Штурмбанфюрер замолчал, обводя собрание взглядом и напряженно следя за реакцией на слова, оскорбляющие арийскую расу.
– Я поясню... Неполноценность, как ни парадоксально, имеет свои преимущества. Возьмем слабо организованную раковую опухоль – с ней гораздо труднее справиться, чем с опухолью высоко дифференцированной, почти неотличимой от здоровой ткани. Чем примитивнее образование, тем оно устойчивее. Примерно то же самое мы наблюдаем и в низших народностях. Это как вредные насекомые или крысы, которых ничем не вытравишь. Не удивительно, что арийцы оказались в этом смысле слабее. Будут другие вопросы?
– Сугубо технические, – ответил за всех Берг. – Но их, мы полагаем, вы растолкуете и без нашей просьбы.
– Конечно, – кивнул Месснер. – Об этом, собственно, мы сейчас и побеседуем. Я только подчеркну еще одно не самое приятное обстоятельство. У нас... у вас нет вспомогательного персонала. Ни среднего, ни младшего. Этого требуют соображения секретности. Вам придется все выполнять собственноручно.
– Что вы имеете в виду? – напрягся Берг.
– То, что вы слышали. Уход за подопытными входит в ваши обязанности. Вы и врачи, и медсестры, и санитары.
Седые усы Берга гневно вспушились:
– Мои заслуги перед Рейхом достаточно велики, чтобы я был избавлен от сомнительной чести вытирать свинячье заразное дерьмо...
Ни слова не говоря, Месснер расстегнул кобуру, вынул пистолет, передернул затвор и навел на старика.
Тот потерял дар речи, уставившись в пистолетный зрачок.
– Полагаю, что я исчерпывающе ответил на вашу реплику, – спокойно сказал штурмбанфюрер, пряча оружие в кобуру.
Берг промолчал. Лицо его покрылось влажными красными пятнами.
– Что произойдет, если мы заразимся? – осведомился доктор Грюнвальд, до сего момента безмолвствовавший.
– То, что вы заразитесь, – пожал плечами Месснер. И успокаивающе добавил: – У нас есть пенициллин.
– С 1941-го года используется, – проворчал Моргенкопф. – Нет ли чего посвежее? Пенициллин не всегда эффективен.
– Увы, – сокрушенно отозвался тот.
– А будет ли вводиться пенициллин подопытным?
– Не всем. Его получит половина контрольной группы инфицированных и оба члена основной.
– С инфекцией более или менее ясно. А как быть, если мы подвергнемся радиоактивному облучению?
– В какой-то степени мы все ему уже подвергаемся. Это неизбежно. Влияние радиации на человека изучено плохо, так что я не в состоянии должным образом ответить на ваш вопрос.
Месснер лгал. Он был из немногих, пусть поверхностно, но посвященных в разработку оружия возмездия, где изучение лучевой болезни шло полным ходом. Результаты впечатляли. И Месснер собирался приложить все усилия к тому, чтобы для него самого эти данные не сделались актуальными.
На секунду он отвернулся, и доктор Моргенкопф украдкой провел ребром ладони по горлу.
Вероятно, он намекал на какие-то будущие события. Не вполне было ясно, к кому он их относит – к себе и коллегам или же исключительно к Месснеру.
– Все обязуются пользоваться просвинцованными фартуками, – продолжил штурмбанфюрер.
Но это известие никого не утешило.
– С какого рода излучением нам предстоит иметь дело? – бесстрастно осведомилась Лессинг.
– Пока что с гамма-лучами, так как их разрушительный потенциал куда выше, а нам приходится работать, что называется, по максимальной ставке. Но в перспективе наверняка будут задействованы и другие виды.
Возможность перспектив как таковых немного радовала. Они обещали некое будущее. Но их содержание не обнадеживало.
– Да, вот еще что, – будто только сейчас вспомнил Месснер. – Предлагаю вам сдать оружие. Оно вам не понадобится...
Глава десятая
РАСОВАЯ НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ
Вокруг Сережкиной камеры уже который день разворачивалась какая-то суета, но его самого никто не трогал.
Ему приносили пищу, ежедневно измеряли температуру и давление, выслушивали легкие, смотрели горло, мяли живот – с доброжелательными улыбками, с профессиональной деликатностью. На второй день заточения взяли анализы, и всем перечисленным до сих пор и ограничивались.
Между тем в возне, отзвуки которой доносились до его слуха, угадывались прежние семена чего-то жуткого. Да, жуткое угадывалось во всем – это чувство не покидало Сережку уже очень долго, и ему начинало казаться, что никакой прежней жизни у него не было. Были только последние месяцы, а все остальное происходило с кем-то другим. Потому что жизнь ужасна в принципе, а все, что не подпадает под эту характеристику, есть заблуждение и галлюцинация.
Довольно часто до него доносились вопли – в этом смысле трюм «Хюгенау» ничем не отличался от лазарета Валентино. Они звучали слева и справа, сильно ослабленные переборками; мироощущение Остапенко извратилось настолько, что ему представлялось диким не участвовать в этом несомненном страдании. В то же время он понимал, что его берегут для чего-то худшего.
Спустя несколько дней в камерах слева наступила многозначительная тишина. Сережка анализировал. Слева начали кричать раньше, чем справа; раньше и перестали. Одно из двух: либо за правые каюты взялись позднее, либо над его товарищами проделывали не одинаковые процедуры, и справа эффект запаздывал.
Каждое утро начиналось с ожидания того, что справа тоже замолчат.
Но он не дождался этого, за него взялись раньше.
В утро, ничем не отличавшееся от прочих, в каюту-тюрьму вошла большая группа людей в защитных костюмах. Явились все, хотя Сережка этого не знал. В экспериментаторах сосуществовали два чувства: естественный страх и научный интерес. Вернее, интерес ребенка-дебила, увлеченно отрывающего насекомому лапки. Такое любопытство нередко лежит в основе естествознания.
Уродливые очкастые хари таращились на Сережку, а он пытался прочесть сквозь линзы противогазов свою судьбу.
Предводитель, в котором Остапенко угадал эсэсовца, доставившего их компанию на эсминец, шагнул вперед. За ним последовала другая фигура – похоже, это была женщина. Она держала поднос, накрытый знакомой белоснежной салфеткой. В амбулатории Валентине Сережка уже видел такие и знал, что под салфеткой прячется шприц. Когда оба приблизились, он резко выбросил ногу и ударил по подносу.
Конечно, Сережка не рассчитывал на удачу. Будущее неотвратимо. Он лишь надеялся, что до крайности разозлит докторов своей выходкой, и они прибьют его на месте, о чем потом наверняка пожалеют.
Но Остапенко был неловок, да и силенок все еще оставалось маловато. Пятка скользнула по самому краю подноса; тот подпрыгнул, что-то звякнуло под салфеткой; женщина увернулась, а эсэсовец механически влепил Сережке звонкую оплеуху, от которой тот опрокинулся навзничь.
Остальные перебросились несколькими словами, которых Остапенко, конечно же, не понял. Судя по всему, визитеры развеселились.
Один из них даже начал притоптывать ногой, выстукивая марш. Женщина сняла салфетку и присела на койку, покуда другой мужчина крепко удерживал Сережку за плечи. Сам же предводитель критически осмотрел шприц, протер спиртом локтевую вену.
– Господа, возможно, мы присутствуем при историческом событии, – объявил Месснер. – Великие свершения начинались с пустяков. Даже если мы не получим внятного результата, мы делаем первый шаг...
Он ввел раствор.
– Инфекция, введенная внутривенно, почти неизбежно приводит к фатальным последствиям, – заметил Берг. – Может быть, вы напрасно отказались от подкожного впрыскивания?
– Мы работаем по максимуму, – напомнил Месснер. – Какая разница, на чем изучать эффект – на общем сепсисе или на классической картине...
– С этим можно поспорить, – не унимался старый мерзавец. – Классическая картина – тот же контроль.
– Мы с вами не в научных кулуарах, – отрезал штурмбанфюрер. – Идет война.
Он пристально всмотрелся в Сережкины зрачки. Остапенко дернулся и вдруг задрожал крупной дрожью.
– Хлористый кальций, быстро, – приказал Месснер, вставая и не собираясь утруждать себя рутинными процедурами.
Женщина быстро наполнила новый шприц.
– Разве мы не должны предоставить событиям развиваться своим чередом? – глухо осведомился из-под маски Моргенкопф.
– Должны, вы правы. Однако, как вы видите, у подопытного стремительно развивается токсико-аллергический шок; если он умрет, мы ничего не узнаем о динамике патологии. Глядите, он может прямо сейчас сдохнуть от отека гортани.
– Но ведь шок и есть своего рода динамика...
– От нас ждут другого, – отрезал Месснер. – Помолчите, Моргенкопф. За ход эксперимента отвечаю я. Доктор Лессинг, держите наготове адреналин. При необходимости будете колоть в сердце.
Эти слова повергли Сережку в больший шок, чем микробная взвесь. Он хорошо знал, чем заканчиваются инъекции в сердце. Пять минут назад он хотел умереть, а сейчас вдруг понял, что отчаянно хочет выжить. Он понятия не имел, что введенный в сердце адреналин не останавливает жизнь, а возвращает ее.
И он попытался мобилизовать все силы, чтобы малопонятная необходимость не наступила. По жилам его разливался не то жар, не то холод. В голове застучали уже знакомые молоты, перед глазами все плыло.
Врачебная делегация наблюдала за его состоянием добрых полчаса, пока Месснер не решил, что непосредственная угроза миновала.
– Вот теперь мы положимся на Божью волю, – изрек он.
Оставив Остапенко на попечение Анны Лессинг, которой было строго предписано не отходить от особи ни на шаг, Месснер навестил больных из кают, находившихся справа от Сережкиной.
Эти каюты особенно занимали его воображение.
Левые не несли в себе ничего принципиально нового – кроме того, там было довольно опасно находиться. Они, как и камера Остапенко, были превращены в герметичные боксы; там приходилось вести себя с предельной осмотрительностью. С особо опасными инфекциями не шутят. Но клиника этих заболеваний была давно изучена, и Месснер наблюдал лишь явления, давно описанные в медицинской литературе. Дохли, как по учебнику.
В правом же крыле начиналось неизведанное.
Прежде чем попасть туда, Месснер прошел санобработку. Система боксов распространялась и на внешний проход; без этой процедуры попасть на «чистую» половину было невозможно.
Чистота, конечно, оставалась сомнительной.
Изучение воздействия радиации на человека и в самом деле пребывало в зачаточном состоянии. Месснер плохо разбирался в таких вещах, как радиация наведенная, и не мог с уверенностью судить, насколько опасными являются манипуляции с подопытным материалом.
Поэтому «лучевиков» посещали с соблюдением тех же мер безопасности, что и инфекционных больных. А после посещения проходили дезактивацию.
Все это было довольно муторно, бесконечное мытье надоедало, и Месснер со временем утратил первоначальный энтузиазм. Ему все чаще казалось, что обезумевшая нацистская верхушка цепляется за миражи, не брезгуя псевдонаучными изысканиями. В самом деле – что это за группа, восемь человек? Тысяча восемь! Вот это было бы дело, это уже статистика. Еще большой вопрос, дадут ли ему новых, когда передохнут эти. Как говорят ученые, нерепрезентативная выборка. Любой результат можно счесть казуистикой. Какие бы выводы ни были сделаны, их засмеют на любом ученом совете – если только сверху не поступит команда заткнуться.
Размышляя об этих невеселых вещах, Месснер вышел из душевой и равнодушно отсалютовал охранникам, выкинув руку в нацистском приветствии.
Потом он вошел в первую камеру и мрачно воззрился на покрытое язвами, привязанное к койке существо. Девчонка была почти совершенно лысая и вяло металась в бреду. В камере остро пахло рвотой, но Месснер был в противогазе и не уловил запаха. Проверив жизненные показатели умирающей, он мысленно сделал записи в отчете и направился в следующую «палату».
Он не делал записей на бумаге, так как в опасной зоне такая практика считалась недопустимой, и обработка привела бы бумаги в негодность.
Во втором боксе ситуация была не лучше. Даже еще безнадежнее: экземпляр выглядел без пяти минут мертвым.
Смотреть было особенно не на что, и Месснер предпочел не задерживаться. Он знал, что так или иначе уже получил известную дозу, и не хотел усугублять свое печальное положение. Он воображал себя мучеником, и потому, разделяя в какой-то мере судьбу испытуемых, питал к ним еще меньше сочувствия.
О том, что случится именно так, его уведомили еще задолго до начала операции.
Его предупредили, что, несмотря на все заслуги, которые, конечно же, будут по достоинству оценены и вознаграждены Рейхом, ему заказан путь к нацистской верхушке. Не в смысле карьерного продвижения, которое продолжится, так сказать, исподволь, а в смысле буквальном. Месснера и на пушечный выстрел не подпустят к фюреру и его ближайшему окружению, здоровье которых превыше всего – вопреки догме, согласно которой превыше всего была Германия. Мало ли чего наберется штурмбанфюрер от зараженных особей...
...Когда Месснер уже собирался покинуть трюм, прозвучал зуммер: его приглашали в камеру под номером пять.
Чертыхнувшись, штурмбанфюрер пошел обратно.
В пятой камере содержался Соломон Красавчик.
У двери Месснера поджидал доктор Берг.
– Господин штурмбанфюрер, экземпляр номер пять демонстрирует стабильность. Жизненные показатели без ухудшения.
– А шестой?
– Его состояние вызывает опасение.
Опасений, естественно, не было – Берг просто выразился обычной врачебной фразой.
Экземпляр номер пять составлял пару с Остапенко. Он был вторым, на ком испытывали бактерии, подвергнутые лучевой обработке. Его лагерный стаж оказался меньше Сережкиного, но достаточно долгим, чтобы Месснер согласился использовать его в качестве основного испытуемого.
Красавчик и Остапенко за всю дорогу до «Хюгенау» не перебросились словом и знать не знали, что образуют тандем с одинаковой судьбой.
Сережка Остапенко значился под номером шестым.
Месснер вскинул брови.
– Что же – ему не хуже?
– Именно так. Состояние тяжелое, но патологической динамики нет.
Оба вошли в пятый бокс и остановились в шаге от койки, где неподвижно лежал Красавчик. Бритый наголо, тот некогда вполне оправдывал свою фамилию, и по его черным кудрям уже заранее, предвидя соломонову зрелость, вздыхало пол-Одессы. Сейчас же вздыхать могла бы уже вся Одесса, но совсем по другому поводу.
В амбулатории Валентино Соломон чудом сумел справиться с тяжелейшим сальмонеллезом.
А сейчас он был болен сибирской язвой.
Последнюю предпочли по той причине, что эта зараза не передается от человека к человеку. Красавчика заразили двумя днями раньше Остапенко, и инкубационный период оказался минимальным. Тело Соломона уже покрылось нарывами; понос и рвота открылись в первые часы после начала сепсиса. Теперь живот у него был вздут; Красавчик задыхался. Все говорило за то, что жить ему осталось считанные часы. Если бы не одно «но»: сегодняшняя картина полностью повторяла вчерашнюю.
Месснер уже навещал Красавчика перед тем, как инфицировать Остапенко, и отметил, что летальный исход не за горами.
То, что за прошедшее время ему не стало хуже, удивляло.
– Если он выживет, это будет невероятный случай, – сказал Берг.
Штурмбанфюрер пожал плечами.
– Этого ли от нас ждут? Мне всегда казалось, что наша задача заключается в получении штаммов с повышенной вирулентностью, от которых противник отправится на тот свет через пару минут после вдыхания спор...
– Вам виднее, господин штурмбанфюрер.
– Конечно. Возможно, что задача несколько иная. Если предполагается выяснить воздействие на человеческий организм сочетанных факторов...
Месснер резко осекся. Он едва не выболтал старику то, чего ему знать никак не полагалось.
Месснеру намекнули, что руководство хотело бы изучить резервы организма при действии в условиях одновременного применения биологических средств, боевых отравляющих веществ и пресловутого «оружия возмездия».
И на кону стояли жизни будущих германских солдат, а не ущербных народов.
В распоряжении Месснера пока еще не было отравляющих веществ, они должны были вступить в игру на следующем этапе.
Сейчас же ему предстояло, грубо говоря, выяснить... впрочем, он и сам запутался. Он понимал лишь, что сочетание ослабленных радиацией штаммов с профилактическим приемом антибиотиков способны повысить шансы непобедимой германской армии на выживание в грядущих боях, где все перечисленное будет применяться массированно и одновременно.
А может быть, измененные споры нужны для чего-то другого.
– Как бы там ни было, это уже какой-то результат, – молвил Месснер. – Во всяком случае, нам будет о чем доложить, даже если он сдохнет.
– Вы по-прежнему отказываетесь от пробной антибактериальной терапии?
– Никто не вменял мне в обязанность испытывать лекарства.
Штурмбанфюрер помолчал.
– Что ж, хотя бы один, даст Бог. Я и на это не надеялся, если честно признаться. Слишком большая удача.
– Да, второй, похоже, не жилец, – кивнул Берг.
Он ошибся.
Сережка Остапенко выжил.
«Вот вам и расовая неполноценность», – неожиданно для себя подумал Месснер и поморщился: еще брякнет что-то подобное вслух, раз уж на ум пришло.
Он лежал, плохо соображая, на каком свете находится. Свет, не выключавшийся круглые сутки, резал глаза, но уже не так, как в самом начале, когда у Сережки развился менингит. Он знать не знал, что это такое; он не имел понятия, что в его состоянии гибельной может стать обычная простуда, не то что сибиреязвенное поражение мозговых оболочек. То, что он остался в живых, действительно было настоящим чудом. Чудеса случаются редко, но не так чтобы очень, их просто не замечают, списывая на счет неизвестных науке явлений, которые, однако, со временем обязательно получат заслуженное объяснение.
К нему продолжали ходить прорезиненные и просвинцованные садисты; им занимались, его изучали, ему удивлялись.
И Остапенко интуитивно догадывался, что ценность его особы постепенно и непонятным образом растет.
Он видел недоумение немцев и понимал, что теперь его хотя бы не прибьют, как муху. Точно, не прибьют... А к опытам он постепенно стал привыкать. Он терпел невыносимые мучения, но неизменно выздоравливал, и этот последний процесс даже начал доставлять ему естественное удовольствие.
И еще Сережка размышлял о побеге.
Размышлял – это, ясное дело, сильно сказано. Не размышлял – мечтал. Сбежать из трюма не сумел бы и вооруженный до зубов диверсант.
Но он уже познал чудо – почему бы не произойти еще одному? Он давно перестал полагаться на Бога. Но зачем-то Бог берег его, и не хотелось думать, что Господь покровительствует нацистам, сохраняя удивительный экземпляр для новых испытаний во имя торжества германского оружия.
Часть четвертая
ТАЙНАЯ АКТИВНОСТЬ
Глава одиннадцатая
ЛЮБУЯСЬ КРАСОТАМИ
Номера в монастырской гостинице были двухместные, и Чайке как даме выпало поселиться одной, в ожидании соседки. Из этого можно было извлечь пользу, и Посейдон отвел Артемия в сторону.
– Постарайтесь сделать вот что, – сказал он негромко. – В прибывающей немецкой группе есть женщины. Постарайтесь поселить одну в этот номер.
Монах с сомнением покачал головой.
– Это будет трудно устроить. Там две женщины, и естественнее будет поселить их вместе.
– Понимаю, но вы все-таки попытайтесь. Организуйте путаницу с бронью. Если немка слишком явно заартачится, то уступите. Пусть хотя бы проявится: активное нежелание послужит косвенной уликой.
– Как и активное желание, – заметил Артемий.
– Это верно, – согласился Посейдон.
– Зосима будет ждать вас в церкви через полчаса. Желательно, чтобы вы вошли в курс дела до прибытия группы.
– Да, конечно. Мои люди уже переодеваются...
Брови Артемия поползли вверх:
– Что значит – они уже переодеваются? Вы уже готовы, что ли, выступить в роли реставраторов?
– Да нет, – улыбнулся Каретников. – Никаких фартуков и косынок. Я не вполне правильно выразился. Они... оснащаются.
Монах понимающе кивнул.
– Надеюсь, что вы не проявите вопиющую неосведомленность в профессиональных вопросах.
– Не беспокойтесь. Мы будем молчать как рыбы, лишнего не ляпнем. В конце концов, вода – наша привычная стихия.
Помявшись, Артемий сказал:
– Руководство обители... очень просит не забывать, что на территории находится детский лагерь...
Каретников, уже направившийся в свой номер, резко остановился.
– Какой еще, к черту, детский лагерь?
– Но разве вас не поставили в известность? На острове разбит детский православный лагерь. Дети помладше приехали с родителями, те, что постарше, – без сопровождения. Целая орава.
Забавно, что Артемий никак не отреагировал на поминание черта. Посейдон сжал кулаки.
– Но это ведь не лезет ни в какие ворота! Здесь же черт знает что может начаться!.. И потом – работы по подъему объекта тоже небезопасны, насколько я понимаю. Как же сюда пустили детей?
– Это так, и все родители были предупреждены. Но паломники есть паломники. Это глубоко верующие люди. Некоторые даже усмотрели в этом некий подвиг. Заставь дурака Богу молиться...
Очередное ругательство, произнесенное Каретниковым, крепко превзошло прежнее и прозвучало абсолютно неуместно в этих стенах.
– Бардак! – продолжил он гневно. – Сущий бардак! Одна рука не знает, что делает другая, – вот уж воистину по Писанию... Почему нас не предупредили? Это может сорвать операцию! Детей нужно немедленно эвакуировать!
– Их, безусловно, не следовало пускать, – возразил Артемий. – А теперь уже поздно. Эвакуацию невозможно провести незаметно, поскольку все может пойти прахом.
«Сирены» послушно ходили за братом Зосимой, который несколько успокоился и был приятно удивлен вниманием, с которым его слушали. Он ненадолго сделался истинным пастырем, наставляющим благочестивое стадо.
Ему почтительно внимали, Торпеда и Магеллан даже делали пометки. Именно они прошли курс специальной тренировки памяти, и записи требовались им на всякий случай, больше для видимости, если вдруг придется объяснять, каким чудесным образом им удалось так хорошо все запомнить.
– Ну, доминанты архитектурного ансамбля очевидны, – говорил Зосима. – Колокольня и купола собора, здесь не на чем особо останавливаться. Из старого комплекса монастырской гавани сохранились только странноприимный дом, для бедных, и часовня. Часовню Святителя Николая построили в восемьсот пятнадцатом году. Ее, кстати заметить, уже отреставрировали, потом можете полюбоваться как профессионалы... А саму гавань еще семьдесят лет назад окружал этакий обруч. – Зосима сделал движение, как будто заключал кого-то в объятия. – Обруч из бревенчатых ряжей с камнями внутри, а со стороны берега были гранитные блоки.
Экскурсанты обходили остров, то и дело останавливаясь и осматривая достопримечательности, на которые обращал их внимание Зосима.
Впитывание материала экскурсии было возложено на Магеллана и Торпеду, для прочих экскурсия в большей мере имела совсем другое содержание. «Сирены» отмечали про себя пути подхода и отступления, естественные и искусственные укрытия; высоты, с которых удобно вести огонь; наличие подозрительных лиц и систем слежения. На их лицах застыли обманчиво кроткие маски; старый морской волк Мина рисковал даже переусердствовать, настолько несвойственно было ему это выражение.
Зосима простирал руку:
– Вон там вы видите скит, сооруженный во имя Коневской иконы Божией Матери. Он расположен на месте самого первого монастыря, который возвел основатель обители Преподобный Арсений. Скит построили лишь в конце девятнадцатого столетия по проекту архитектора Слуцкого. Центром композиции, как вы видите, является редкая по красоте церковь; налицо русско-византийский стиль...
Магеллан записывал, от усердия высунув кончик языка. Торпеда стрелял глазами, фиксируя все не хуже фотокамеры с высокой разрешающей способностью. От его внимания не укрывалась ни одна деталь.
– Двухэтажный келейный корпус, конечно, будет поскромнее. Вы видите башенки с шатровым завершением, главки с крестами. С запада возведены трехчастные ворота с килевидными арками. Все это нынче, увы, пребывает в упадке, но мы надеемся, что вашими стараниями удастся поправить дело...
«Воображаю, что с ним стало бы, застань он нас за реставрационными работами, – подумал Посейдон. – А если бы увидел за работами другими, его уж точно хватил бы удар... впрочем, от последнего зрелища он не застрахован».
Каретников посмотрел на часы: до прибытия катера с немцами оставалось уже совсем недолго.
Зосима вел экскурсантов дальше:
– ...Итак, кленовая аллея восходит к собственно монастырю. Слева гостиница, тоже детище Слуцкого. Предлагаю оценить мезонины и полуциркульные окна, без них строение не вписалось бы в общий ансамбль. И еще витраж над центральным входом... А вон там, за гостиницей, – кузница. Сначала думали сделать там мельницу, но место оказалось неудобным, так что назначение сменили... Дальше – монастырское гумно, с сараями для хлеба и соломы. И снова все в руинах... «И страусы, и ежи, и косматые будут скакать...» Справа – вторая гостиница, деревянная...
– Насчет гостиниц мы в курсе, брат Зосима, – мягко напомнил экскурсоводу Каретников. – Нам бы поближе к объектам...
– Да здесь все сплошные объекты, – с горечью ответил удрученный монах. – Руки опускаются...
– Ничего... С Божьей помощью справимся... дайте срок.
Произнося это, Посейдон испытал чувство стыда. Бессовестный обман. И вряд ли акции, которые они проведут взамен реставрационных работ, покажутся Зосиме достойной альтернативой – тем более что он не будет знать об их сути...
Речь Зосимы струилась плавно, все больше наполняясь благоговением; постепенно в голосе монаха начал звучать благоговейный надрыв.
– Ярус звона выполнен в форме восьмерика, и в каждой его грани сооружены высокие полуциркульные проемы с деревянными балками для развески колоколов. Последних во время оно насчитывалось до десяти. Самый главный из них весил двести четыре пуда и висел на мощных крестовых балках внутри восьмерика. Святые Врата закрывали собой арочный проход под колокольней. Их сладили из дерева и – предположительно – обили медными листами, по которым выполнили роспись. На правой половине изображался основатель обители Преподобный Арсений, над главою которого Коневская Божия Матерь с парящими ангелами, на левой половине – Святитель Евфимий, архиепископ Новгородский, над главою которого нерукотворный образ Христа Спасителя с ангелами. В самой верхней части ворот, в полуциркуле, был изображен Господь Бог Саваоф с исходящим от него Духом Святым в виде голубя. Ко дню сегодняшнему, – махнул рукой Зосима, – у нас не осталось ни ворот, ни росписи... Все это безвозвратно утеряно.
Дойдя до колокольни, группа проследовала в арочный проход на территорию монастыря. В проходе они задержались, разглядывая фрески.
– Вот, – с гордостью сообщил монах, – здесь постарались ваши товарищи из Петербурга. Известно ли вам сие?
– А как же, – откликнулась Чайка. «Товарищей» она не видела в глаза, но знала всех поименно, как и остальные члены отряда. Иначе легко было угодить впросак. «Сирены» были осведомлены не только о личном составе прошлых реставраторов, но и представляли приблизительный объем работы, выполненной ими.
– Большевики все замазали известью, – сказал Зосима. – Толстенным таким слоем. Спрашивается – зачем? Но все восстановлено – ведь эта живопись уникальна, она характерна только для этих мест. Посмотрите на правую стену – вам, должно быть, известен сюжет?
Монах выжидающе прищурился. Что-то подозревает?
Пауза была совсем недолгой, Зосима ответил сам:
– Русско-шведская война, конец семнадцатого века. Монастырь разорили, а двух монахов захватили в полон. Они чудесным образом спаслись по заступничеству Коневской Божией Матери... А здесь живописуется посещение острова архиепископом Новгородским Евфимием...
От обилия непривычной информации у Посейдона шла кругом голова. Долго им не продержаться, выдавая себя за людей, сведущих в истории и искусстве.
– А здесь, – не уставал вещать Зосима, – когда-то находился памятник в виде пирамиды, в честь визита императора Александра Второго с семейством... вы видели его близ аллеи, что идет от причала... А здесь хранили овощи, а здесь была келия для звонаря и привратника. Третий изворот... надстроен в восемьсот пятьдесят первом... академик архитектуры Горностаев... внутренний игуменский дворик... хлебопекарня... келия трапезария...
Спустя полчаса Каретников снова взглянул на часы.
– Простите, брат Зосима, – сказал он решительно. – Если не возражаете, мы продолжим знакомство с фронтом работ самостоятельно. А экскурсию продолжим, когда определимся. Нельзя объять необъятное.
Монах пришел в недоумение.
– Как же – самостоятельно? Ведь я должен вам указать...
– Нам предоставлена свобода выбора, – возразил командир «Сирен». – В зависимости от соответствия имеющихся ресурсов поставленным задачам. Здесь почти все нуждается в восстановлении – ну, за редким исключением. Хотя бы в частичном. Мы обойдем все вторично, уже сами, и определимся окончательно.
Зосима пожал плечами. Он выглядел обиженным.
– Как вам будет угодно...
Посейдон дружески улыбнулся:
– Не сердитесь на нас. Поверьте, что мы приехали к вам с самыми благими намерениями и постараемся... чтобы здешняя обитель всячески укрепилась к славе Преподобного Арсения.
Говоря это, он не кривил душой.
Зосима подозрительно взглянул на него и не сказал ни слова: быстро перекрестил отряд и пошел прочь.
Каретников повернулся к своей группе:
– Ну, други мои, предварительную рекогносцировку мы провели, а теперь давайте встретим наших деловых партнеров...
Он говорил совершенно серьезно. Обе стороны были партнерами в действе, сути которого не знали ни «Сирены», ни, как подозревал Посейдон, прибывающие гринписовцы религиозной закваски. Не исключено, что у них был один режиссер. С обеих сторон должны были выступить профессиональные головорезы. Каретников был уверен, что столкнется именно с этой публикой, – как был почему-то уверен и в том, что предполагаемые душегубы не имеют никакого отношения к убийству Остапенко и его лечащего врача. Не тот почерк, и он чувствовал это хребтом.
Высадившиеся на остров туристы ничем не отличались от сотен обычных групп, прибывших знакомиться с русской экзотикой. Строгая монастырская атмосфера контрастировала с вольницей, обещаемой водным простором и диковатой природой местности. Очаги коммерциализации выглядели инородными включениями, по странной ошибке очутившиеся в неподходящей среде. Избушка с сувенирами казалась жалкой и неуместной. Однако Хельга, Ирма и Людвиг немедленно ринулись к ней и через несколько минут отошли, сделавшись счастливыми обладателями разной лубочной псевдорелигиозной дребедени.
Ваффензее снисходительно улыбнулся:
– Зачем вам эти побрякушки? Вы же не думаете, что приобрели нечто уникальное... кстати, русские называют это ширпотребом.
Встречавший группу Артемий вмешался:
– Конечно, это не святыни, уважаемые господа, но все предметы в нашей лавке освящены церковью.
Ваффензее прищурился:
– Освящены? Неужели? Вы уверены?
– Я имел в виду патриаршее благословение и окропление святой водой, – уточнил монах. Он свободно изъяснялся на немецком языке. – Конечно, сами по себе они не могут быть святы.
– Как и ничто другое, – заметил Кнопф. – Ни один предмет, созданный человеческими руками, не может быть свят.
Артемий улыбнулся:
– Слышу слова протестанта... Но разве не вы полагаете во главу угла человеческие деяния?
– Мы отрицаем идолопоклонство и мистику...
– Дорогой Рихард, – вмешался Ваффензее, – я призываю вас уважать чужую веру. Тем более что почитание икон далеко не всеми расценивается как идолопоклонство. Это очень старый спор...
– Я не спорю, – насупился тот. – Просто мне огорчительно, что торговля, уместная, скажем, на Дворцовой площади, проникает в святые места.
– Нам же нужно на что-то существовать, – отозвался Артемий. – Не будем устраивать религиозный диспут, но я не вижу большого греха в продаже сувениров.
– Именно, – с чувством сказала Хельга. – Это настоящие шедевры. – Она вертела в руках маленький прозрачный ящичек с заключенным внутрь макетом монастыря. – Ведь это все ручная работа, верно?
– Конечно. В нашей стране просто нет соответствующих производств. Это искусство в чистом виде, исключающее конвейер.
К ним подошел фон Кирстов:
– Уважаемый святой отец... если не трудно – нам бы очень хотелось поскорее попасть в отель. Некоторые затруднения естественного свойства... – Он не договорил, беспомощно озираясь в поисках кабинки.
Артемий пропустил мимо ушей неподобающее обращение.
– Да-да, разумеется. Здесь совсем недалеко, потерпите немного. – Он чуть возвысил голос: – Следуйте за мной, уважаемые гости, мы будем на месте буквально через несколько минут.
Дорога до монастырской гостиницы заняла немного больше времени, но фон Кирстов, похоже, перестал испытывать какие-либо неудобства. Он с искренним любопытством глазел по сторонам и шел чуть вприпрыжку, глубоко вдыхая бодрящий воздух.
Ваффензее вышагивал рядом с Артемием.
– Я полагаю, нынче сезон, – заговорил он. – Наплыв большой?
– Да не особенно, – ответил монах. – Паломников душ двадцать, все одиночки – ну, есть и пары, конечно. Реставраторы недавно прибыли. Ребятишки в лагере...
– Не густо, – согласился Ваффензее. – А почему же так получается? Такое замечательное место. Мне казалось, что в России достаточно верующих, чтобы здесь шагу некуда было ступить.
Артемий скорбно вздохнул:
– Больше суеты, чем веры... Ведь как у нас было? Когда Церковь начала возрождаться, в годы перестройки, все бросились креститься. Все вдруг сделались ревностными христианами. Уже тогда было ясно, что все это лишь в угоду моде. Потом, как и следовало ожидать, начался обратный процесс...
– Что же, отрекались? Или вероисповедание меняли?
– Да нет... обычное бездействие, пассивность. Новизна выветрилась. Но нам и не нужно многих. Иисус сказал: много званых, мало избранных. Вот избранные и приезжают. А нынче их мало еще и по причине этих военных работ... весьма некстати...
Он дернул головой в сторону озера. Ваффензее оглянулся:
– О каких работах вы говорите? О подъеме судна?
– Ну да. Почти полвека назад здесь затопили какой-то корабль. И теперь – не раньше, не позже – его захотели поднять. Запакостят воду, это уж точно...
Немец внимательно вглядывался в горизонт, где в легкой влажной дымке вычерчивались катера, мелкие суда и еще какая-то техника, вроде бы на понтонах. Краны, не иначе...
– Но это же очень далеко. Мы думали, что это намного ближе...
Он сделал вид, будто спохватился и прикусил язык, сболтнув лишнее. Артемий притворился, что заглотил наживку.
– Вы думали? Вам что-то известно о корабле?
Ваффензее помедлил, словно подбирал слова:
– Нам положено знать о таких вещах, ведь все мы имеем отношение к Гринпису.
Артемий нахмурился, с тревогой взглянул на немца:
– Вот оно как! Прошу прощения... ведь вы не собираетесь устраивать здесь акции? Пикеты, водные демарши... Ваши мероприятия всегда оборачиваются скандалом, и нам не хотелось бы...
Тот успокоил монаха:
– Не скрою, что мы были готовы к активным действиям. До нас дошли сведения, что загрязнение озера может оказаться куда серьезнее, чем вам кажется. Но работы действительно ведутся далеко от острова, и я не думаю, что для людей существует реальная опасность.
Это прозвучало не очень убедительно. Если немец подозревал о радиоактивном грузе, то должен был понимать, что расстояние на самом деле мизерное. Артемий примирительно сказал ему:
– Видите ли, нас огорчает лишь выбранное время. С другой стороны, чем раньше – тем лучше. Ведь у вас, зеленых, на сей раз общие задачи с нашими военными. Существует радиационная опасность, и чем скорее этот корабль будет выведен из наших вод, тем лучше. Пусть его отправляют на дезактивацию или что там планируется... я не специалист. Это благое, богоугодное дело.
Ваффензее прикоснулся к плечу Артемия:
– Пусть наше присутствие вас не волнует. Вы же понимаете, что любое подобное мероприятие для гринписовцев – как красная тряпка для быка. Мы сразу делаем стойку. Но если все идет подобающим образом, без нарушений и вреда для экологии, то мы никогда не вмешиваемся. А во-вторых, эта наша цель – не главное. В нашей группе собрались верующие люди, подгоняемые искренним интересом к вашей обители... Кое-кто даже склоняется к мысли принять православие.
Они вступили под арку, проследовали в двор.
Магеллан покосился на немцев и вернулся к своему занятию: он вел фотосъемку. Он переводил камеру с купола на купол, и туристы попадали в кадр по чистой случайности. Они попали туда не более шести раз.
Глава двенадцатая
ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ
О человеке невозможно узнать всего.
Да что человек – даже кирпич остается загадкой как кантовская «вещь в себе».
Можно следить за человеком годами, устанавливать его привычки и контакты, слушать телефонные разговоры, отслеживать движение глазных яблок под веками во время сна, изучать кровь и мочу, допрашивать под гипнозом и на детекторе лжи – и при всем этом не узнать о фигуранте окончательной правды. Или же упустить из вида несущественную, на первый взгляд, мелочь, которая волей случая сыграет, когда нужно или не нужно, решающую роль.
Что уж говорить о руководителях «Сирен», которым пришлось собирать данные на немецких туристов. Времени на это было очень мало – и то спецслужбы сработали на пятерку с плюсом. Собрали все, что только можно было собрать и даже худо-бедно проанализировать, но данные эти, естественно, не могли быть исчерпывающими.
Ерундовая мелочь, упущенная ими из вида, значительно осложнила оперативную обстановку.
Ею стало неучтенное хобби Людвига Маркса. Вернее сказать, это хобби учли и даже отметили отдельной строкой, но никому не пришло в голову заострить на этом увлечении внимание. Кроме того, неизвестной осталась и страстность, с которой Маркс отдавался своему занятию.
А она была нешуточной.
Людвиг Маркс был помешан... на радиотехнике. Добропорядочный лютеранин, отец семейства и скромный банковский служащий, он с детства бредил радиоприемниками, передатчиками, телефонами и прочими вещами того же сорта. Помешательство его было тихим, он никому не причинял неудобств. Все только радовались, видя, как глава семейства, пребывая в прекрасном расположении духа, попыхивает короткой трубкой и сосредоточенно перепаивает схемы.
Маркс не принадлежал к числу сумасшедших изобретателей и рационализаторов, он не рассчитывал открыть в области своих интересов что-либо новое. Патентные бюро могли спать спокойно: Людвиг не собирался их осаждать. Ему было достаточно собирать и разбирать уже существующее, вникать в устройство, знакомиться с новинками, строить модели.
Его познания в области современных средств связи превосходили осведомленность узкого специалиста.
И только один аспект его увлечения можно было счесть некоторой помехой: стоило Марксу столкнуться с чем-то, прежде не виданным, как он сразу садился разбираться в этом редком предмете. Он раскурочивал прибор до основания, удовлетворялся и собирал его заново.
Именно это нездоровое чувство он испытал при виде допотопного советского телефона, каким-то чудом затесавшегося в гостиничный номер. Одному Преподобному Арсению, небесному покровителю обители, было ведомо, откуда взялась в монастырских гостиницах подобная техника – и это при том, что все прочее полностью отвечало последним требованиям цивилизации.
Старинный телефон привел Маркса в восторг. Поросячье рыльце радиолюбителя вытянулось и тоже превратилось в своего рода передатчик, излучая увлеченность. Забыв обо всем, он вынул отвертку, которую вместе с несколькими другими инструментами всегда носил с собой, и в считанные минуты разобрал «полезное ископаемое» до основания. Благодушно взирая на горку деталей, он брал одну за другой и подносил поближе к глазам, близоруко щурясь. Внезапно на его лице написалось удивление. Ему попалось нечто странное, из более поздней эпохи: маленький внутренний элемент, похожий на пуговицу. Материал был современный, невозможный в древнем аппарате. И Людвиг отлично знал, что это за штуковина.
Хмурясь, он встал и подошел к окну, рассматривая предмет в лучах бледноватого солнца.
Это был «клоп», он же «жучок». Американского производства, широко использующийся спецслужбами в целях прослушивания.
Маркс растерянно взирал на находку, не имея ни малейшего представления, как с ней поступить. Само присутствие подслушивающего устройства его не удивило: он был из тех, кто считал, что противостояние Запада и Востока – хроническая болезнь на века, и оно вовсе не завершилось с окончанием холодной войны. Русские всегда отличались исключительной подозрительностью, и подслушивать мирных постояльцев было вполне в их духе.
Правильнее будет, наверное, поставить «клопа» на место и забыть о нем. Маркс не видел в этой штуковине никакой опасности для себя, однако, с другой стороны, что-то подмывало его выступить с обличительной речью.
В сердцах, поддавшись внезапному порыву, Маркс бросил «жучка» на пол и раздавил ногой. Он вдруг озлился на хлебосольных хозяев. Правда, тут же пожалел о содеянном – хотя бы потому, что ему было жаль хитроумной и беззащитной техники.
Чуть позже Маркс рассказал о находке Дитеру Брауну, своему соседу по номеру.
Это стало самой большой ошибкой в его жизни. И последней.
– Двадцатый номер не прослушивается, – угрюмо сообщил Флинт, рывком снимая наушники.
– Ты все проверил? – Посейдон нахмурился.
– Конечно, шеф. Все работало.
– Там Браун и Маркс, – сказал Нельсон.
Они с Флинтом действовали на пару, устанавливая подслушивающие устройства. Проще было бы заранее поручить это тому же Артемию, но с расселением немцев тогда еще не было полной ясности. То, что обитель оказалась в центре спецоперации, могло выплыть наружу, если бы к определенным номерам заранее был проявлен подозрительный интерес. Поэтому приходилось заниматься всякой технической ерундой, так сказать, на ходу.
– Что на них есть? – обратился Посейдон к Чайке.
– Оба невинны, как агнцы. Браун – специалист по пресноводным млекопитающим, Маркс – банковский служащий.
– Подводные, значит, млекопитающие, – усмехнулся Каретников. – Это, значит, он по нам специалист. Мы же Сирены.
Присутствующие согласно кивнули. Любая связь с подводным миром в сложившейся ситуации едва ли не выдавала фигуранта с головой.
– Нельсон, нужно будет проверить еще раз, – распорядился Посейдон. – Скорее всего, это ваша недоработка. Хотя...
– Если недоработка – исправим. А если «жучок» обнаружен, там наверняка понаставят ловушек, – отозвался Нельсон. – Нитки, крошки...
– Ну и не трогай их, если заметишь. Ловушек может и не быть. На них легко засветиться.
Нельсон с сомнением кивнул. Каретников снова взялся за Чайку:
– Как отнеслась госпожа Золлингер к твоему подселению?
Чайка пожала плечами:
– Пришла в восторг. Она немного понимает по-русски. Сказала, что всегда мечтала поближе познакомиться с российской гражданкой.
Брови Каретникова поползли вверх:
– Это что же она имела в виду, хотелось бы знать?
– Кто ее знает. Ночь впереди.
– Мы будем ревновать, – заметил Мина.
Чайка усмехнулась:
– Все включено. Ничего личного. Это входит в мои должностные обязанности, если придется.
На лице Мины, отпетого сексиста и мачо, написалось отвращение.
– Приезжает всякая сволочь... а народ потом лечится да с ума сходит.
– Интим отставить, – улыбнулся Посейдон. – Такого приказа не было. Значит, обрадовалась, говоришь? Немного необычно. Немцы любят порядок, а вышла накладка – ей следовало выказать недовольство. Как она тебе вообще?
Чайка задумалась.
– Пока ничего определенного. Баба как баба. Немного неряшливая, все висит на ней, как на вешалке. Косит под любительницу русской старины. Когда вышла, я проверила ее шмотки – ничего необычного.
Посейдон присел на кровать, уставился в окно. Немцы пробудут на острове три дня. Это очень мало, времени у них в обрез – если они те, за кого принимает их начальство. И вероятнее всего, что попытку проникнуть на эсминец они предпримут в первую же ночь. Что же их там интересует? Вряд ли это что-то объемное и тяжелое, ведь вынести такой груз и уехать с ним никому не удастся. Устроить диверсию, взорвать корабль? Зачем? Ничего немецкого, представляющего собой тайну, там никак не должно остаться. «Хюгенау» много лет находился в распоряжении русских.
Такое расследование, впрочем, не входило в задачу «Сирен». От них требовалось одно: пресечь незаконную деятельность, если таковая последует.
Где они, хотелось бы знать, прячут подводное снаряжение? И кто им помогает? Ведь группа прибыла налегке, не имея при себе ничего, даже отдаленно напоминающего акваланги, гидрокостюмы, оружие...
Плохо вот что: если подслушивающее устройство найдено, то диверсант или диверсанты наверняка придут в уверенность, что туристы находятся под надежным колпаком.
Что бы сделал на их месте он, Каретников?
Он постарался бы спутать противнику карты и, пожалуй, поднять шум. Осуществить отвлекающий маневр.
Постепенно он пришел к выводу, что обнаружение «жучка», если тот и в самом деле был обнаружен, явилось случайностью. В чем она заключалась, он пока не знал. Но было ясно, что профессионал не стал бы трогать это устройство. Если кто-то вмешался, то дилетант. А дилетант, или нечаянный свидетель, всегда представляет опасность в силу своей непредсказуемости.
Предположим, что кто-то из двоих – Маркс или Браун – полез в телефон и нашел «клопа». Это уже неправдоподобно. Зачем дилетанту и дураку соваться в телефон? Но допустим, что так и было. Он находит устройство и как поступает? Выбрасывает его? Возможно. Ставит на место? Маловероятно. Выбрасывает, ломает или еще что и делится новостью с кем-то еще? Вот если несчастный проболтался, то положение его незавидное. По крайней мере, опасное.
Допустим, он рассказывает о «жучке» такому же дураку. Тогда вся группа начинает с его же помощью, его же шаловливыми лапами разбирать свои аппараты в поисках таких же точно «жучков». Но этого не произошло, связь нарушилась только с одним номером. Значит, если предположить, что все развивалось именно так, то дурак нарвался на хищника, которому вовсе ни к чему светить группу посредством раскурочивания телефонов. Но и бездействовать нельзя.
Дураку придется замолчать.
Все эти соображения были даже не притянуты за уши, а выглядели неуемной фантазией. Но у Каретникова был профессиональный нюх. И он чувствовал, что рассуждает правильно, хотя и не мог предложить ни единого факта в подкрепление своих умопостроений.
Его опасения подтвердились ближе к вечеру.
В обильно разросшемся справа от аллеи кустарнике был найден труп инока Артемия. А Людвиг Маркс вообще бесследно пропал. Он не явился на обед, и никто из спутников не мог внятно сказать, когда видел его в последний раз.
Каретников узнал об убийстве первым.
К нему примчался Зосима, который догадывался, что с реставраторами не все так просто. Он интуитивно чувствовал силу и власть, исходившие от Посейдона, и по наитию обратился сразу к нему.
Каретников растерянно развел руками, изображая непонимание:
– Это ужасно, дорогой брат... но что я могу сделать? Я простой трудяга, здесь придется обратиться к властям...
По лицу монаха текли слезы.
– Да, да, – пробормотал он. – Я не подумал. Я пойду к настоятелю – чего это я, в самом-то деле...
– Постойте, – удержал его Посейдон. – Может быть, он еще жив? Я умею оказывать первую помощь – пойдемте, посмотрим.
Зосима взглянул на него в сомнении.
– Нет, он никак не может быть живым...
Посейдон оборвал его:
– Вы врач, чтобы об этом судить?
Надо было действовать напором, пока монах не пришел в себя.
Согбенный, беззвучно плачущий Зосима повел Каретникова к скорбному месту. Посейдон, не однажды видевший смерть, удивлялся глубине его горя. У него сложилось впечатление, что Зосима неприязненно относился к погибшему и явно подозревал того в каких-то темных делах.
Прибыв на место, Каретников увидел, что у монаха имелись все основания сомневаться в оптимистичном прогнозе. После таких травм не выживают. Артемия ударили по голове чем-то тяжелым и снесли чуть ли не половину черепа. Посейдон обратил внимание на грубость – можно сказать, топорность и неряшливость – содеянного. Убийца даже не потрудился оттащить тело подальше, любой мало-мальски внимательный прохожий мог заметить не только кровь на листьях, но и сам труп, его нижнюю часть. Покойник лежал ничком, уткнувшись лицом в сырой мох.
Возможно, его спугнули. А возможно, дело в другом. Это тот самый переполох, о котором только что думал Посейдон.
И не видел никакой возможности предотвратить шум, который вскоре неизбежно поднимется.
– Я скорблю вместе с вами, – сказал Каретников. Он поискал глазами: – Вот! Вот чем его приложили...
Окровавленный булыжник с прилипшими волосами валялся в пяти шагах от покойника. Зосима, как слепой, приблизился к орудию убийства.
– Не трогайте! – остановил его Каретников. – Вообще не прикасайтесь ни к чему. Это вещдоки.
Монах остановился.
– А? – Он не смотрел криминальных сериалов и не сразу понял слова, с недавних пор прочно вошедшие в обыденную речь. – Да, конечно, – прошептал он. – Отпечатки, следы... Господи Иисусе, ведь это ужасно подумать, что придется вникать в такое злодеяние... и где? Здесь, в этих стенах... Вся эта криминалистика... она несовместима с самим духом этих мест...
– Позволю себе возразить, – мягко сказал Посейдон. – Здесь все пропитано кровью. Вы сами рассказывали нам историю...
Зосима оставил его слова без внимания, не в силах отвести взгляда от умолкнувшего навсегда Артемия.
– Я пойду к настоятелю, – пробормотал он.
– Да, конечно. – Посейдон больше его не удерживал. – Мы готовы оказать любую помощь, но какой от нас толк?
Произнеся это, он неспешно двинулся в направлении гостиницы, соображая на ходу, как поступить дальше.
Об исчезновении Людвига Маркса он еще ничего не знал.
Глава тринадцатая
ИЛЛЮЗИЯ КОНТРОЛЯ
Следственная группа под началом капитана Гладилина прибыла на остров Коневец, выказав поистине удивительную расторопность.
Гладилин выглядел совсем молодым человеком – коротко стриженный блондин, немного склонный к полноте; он постоянно заливался румянцем и, казалось, почти не нуждался в бритье. Подбородок, однако, выдавал недюжинное упрямство, которое достаточно быстро о себе заявило. Вместе с Гладилиным на остров явились двое вооруженных автоматами милиционеров и эксперт-криминалист с портативной лабораторией.
«Сирены» ничем не выказали своей заинтересованности в происходящем.
Посейдон, Торпеда и Мина обследовали часовню на предмет ее надобности в текущем ремонте. Чайка и Нельсон сосредоточенно изучали побитые временем фрески, Магеллан продолжал упоенно фотографировать, а Флинт делал вид, будто занят химикалиями, и оставался в гостинице.
Все переоделись в рабочее платье и вполне могли сойти за подлинных реставраторов, энтузиастов своего дела.
Однако капитана Гладилина это не обмануло.
Он мигом выделил мастеров из общего числа приезжих и взялся за них с усиленным рвением. Каретников нехотя признал, что капитану нельзя было отказать в интуиции. «Сирены» излучали опасность, и Гладилин ухитрился уловить эти флюиды.
Он скрупулезно допросил каждого о местонахождении в предполагаемый момент убийства и дал понять, что не удовлетворен представленными алиби. «Сирены», как один, ссылались друг на друга; алиби одного подтверждалось показаниями второго или двоих.
«Рука руку моет», – читалось в его глазах.
За кого же он, собака, их принимает? За банду сатанистов, явившихся убивать под видом художников?!
Это же верх нелепости!
Гладилин так крепко прижал Посейдона, что тот, едва освободившись из объятий следствия, вышел на связь с начальством и запросил помощи, прося угомонить излишне деятельного сыскаря.
На это он получил... отказ.
Ему ответили, что оперативные соображения не позволяют давить на внезапно возникшее следствие и что во избежание демаскировки «Сиренам» придется мириться со всеми неудобствами изменившейся обстановки. Мало того – Каретникову намекнули, что «Сирены», возможно, сами виноваты в столь пристальном интересе капитана Гладилина, свалившегося им на головы. В конце концов, они допустили убийство своего сослуживца-агента – оплошность непростительная.
Гладилин потребовал было даже, чтобы реставраторы не покидали гостиницу. Но здесь Посейдон взбунтовался.
– Товарищ следователь, – сказал он притворно дрожащим от обиды голосом. – Или мне уже называть вас гражданином? В чем дело? Вы в чем-то нас подозреваете? Вы полагаете, что мы в состоянии каким-то образом скрыться с острова? Опомнитесь! Кругом вода! Половина наших даже не умеет плавать!
Гладилин несколько стушевался. Последнего обстоятельства – воды – он как-то в спешке не учел.
Я ни в чем вас не подозреваю, господин Сажин. – (Под этой фамилией Посейдон влился в ряды деятелей искусства.) – Но вы и ваши люди единственные, кто не является здесь паломниками. Гостей здесь мало, люди большей частью пожилые, да родители ребятни из лагеря... Никто вас не знает – согласитесь, что вы первые заслуживаете внимания.
– Не согласимся, – запальчиво произнес Магеллан, стоявший рядом. Он был похож сейчас на недотепу-Паганеля и никак не годился на роль убийцы монахов. – Не согласимся! Мы не менее верующие, чем названные вами паломники, – это раз...
– У вас на лбу это не написано, – не менее запальчиво перебил его Гладилин и побагровел.
– У остальных тоже... Можете навести о нас справки!
– Это непременно, – кивнул капитан. – Я уже сделал запрос. И не только в отношении вас.
Посейдон улыбнулся краешком рта. Сведения, которые получит Гладилин о реставраторах, будут такой липой, что капитана даже жалко.
Магеллан гнул свое:
– Во-вторых, мы не первые новички на острове. Сегодня прибыла целая группа иностранных туристов.
– Это немцы. – Гладилин скривил лицо, как будто глубоко сожалел о непонятливости Магеллана.
– Ну и что с того? Вот уж добросердечный народ! Любой из них мог...
– Приложить монаха булыжником? Знаете, уважаемый, здесь мне отказывает воображение.
– И напрасно. В их группе запросто может быть какой-нибудь маньяк.
– А в вашей? – взвился Гладилин.
– В их – вероятнее.
– Потому что слово не русское, да?
– Именно так. – Магеллан тяжело дышал, весь кипя праведным гневом. Посейдон одобрительно посматривал на него: хладнокровный ликвидатор с руками по локоть в крови играл чрезвычайно убедительно.
– Мне кажется, – сказал Каретников, – вам просто не хочется связываться с иностранцами. Боитесь международного скандала.
– Боюсь, – не стал возражать капитан. – И я в любом случае ограничен в действиях, направленных против них.
– А ведь они подозрительные типы, – не отставал Посейдон.
– Чем именно?
Тот напустил на себя беззаботный вид, уставился в потолок.
– На острове убийство, а они помалкивают. Никто не паникует, не стремится уехать. Странные европейцы.
– Я обратил на это внимание, – нехотя сказал Гладилин. – Но, с другой стороны, они заплатили деньги, а это соображение может перевесить все остальные. И вы, по-моему, путаете европейцев с американцами. Вот те избалованные, да.
– Правильно, – вдруг поддержал его Магеллан и подмигнул, меняя гнев на милость. – За копейку эти немцы удавятся.
Он разряжал обстановку, чтобы не выглядеть необычно строптивым реставратором. Иначе, чего доброго, Гладилин и впрямь запрет их в номерах. Выбраться наружу, конечно, не составит никакого труда, но это добавит ненужных сложностей. А выбраться придется. Резонно усмотрев в убийстве монаха отвлекающий маневр, «Сирены» готовились к пресечению возможной ночной акции.
Между тем отсутствие Артемия явилось для «Сирен» ощутимым ударом. Они лишились осведомителя, который мог бы информировать их о происходящем в обители. Необходимо было что-то предпринимать, и Посейдон вышел на связь с центром вторично, прося о замене. Однако центр снова ответил отказом, сославшись на нехватку людей. Похоже было, что спецназовцев вообще бросили на произвол судьбы.
Каретникову велели задействовать местные ресурсы.
Немного поразмыслив, он остановился на Зосиме. Вернее было бы использовать самого настоятеля, но если это не было сделано до сих пор, то нетрудно было догадаться: вербовка не удалась, коса нашла на камень. Настоятель был из числа священнослужителей, на дух не переносивших спецслужбы, и, видимо, наотрез отказался иметь с ними дело. С учетом новейшей истории православной церкви его можно было понять.
Оставался Зосима – единственный, с кем «Сирены» вступали в контакт.
С одной стороны, это было плюсом, с другой – рискованно. Ведь кто-то же, черт побери, убил Артемия – почему обязательно немец-турист? У диверсантов могли быть на острове свои люди, и почему бы таким человеком не оказаться самому Зосиме? Да, он уже не первый год в обители – Каретников успел это выяснить у Артемия, но человек слаб и грешен. Любого можно завербовать, даже того же настоятеля, – были бы время и острая надобность, Посейдон всегда был в этом уверен.
Но выбирать не приходилось. «Сирены» должны были быть в курсе событий. Чайка вызвалась обработать монаха, но Посейдон лишь покачал головой:
– Ты мало того что оборотень – еще и женщина. Заведомое зло, убийственный коктейль. Нет, это слишком круто. Еще порубит себе пальцы, как отец Сергий...
Остановились на интеллигентом Магеллане.
Тому пока вообще выпадала львиная доля работы, потому что он больше других походил на того, за кого себя выдавал. Он был в буквальном смысле сорвиголовой: носил длинные волосы, столь нежелательные в боевых контактах; голову ему, впрочем, пока никто не сорвал, а те, кто пытался это провернуть, горько пожалели о своем намерении. Потому что однажды Магеллан свернул шею одному недоумку всего-навсего за разбитые очки. У Магеллана имелся карт-бланш на действия по его личному усмотрению, и он своим правом с удовольствием воспользовался.
Одетый в драные джинсы и клетчатую рубаху, завязанную на животе узлом, с перехваченными тесьмой волосами, Магеллан вызвал Зосиму якобы для консультаций по поводу работ.
Монах, убитый горем, стоял перед спецназовцем и смотрел в землю.
– Послушайте, Зосима, – мягко говорил Магеллан, то и дело дотрагиваясь до плеча монаха: в нейролингвистическом программировании это называется «постановкой якорей». Якоря позволяют лучше усвоить сказанное, они закрепляют незримую связь между собеседниками. – Вы ведь хотите, чтобы убийца был наказан? Справедливость не есть для вас нечто предосудительное?
Зосима с шумом втянул в себя воздух. Он был отчаянно похож на нахохлившегося воробья.
– Бог накажет, – сказал он твердо.
– Это обязательно, – согласился Магеллан. – Но чьими руками? Бог действует через людей.
– Не только Бог...
– Мы будем устраивать диспут? Дорогой Зосима, у нас нет на это времени. Я заранее прошу у вас прощения за вынужденную откровенность.
– Чем же плоха откровенность?
– Тем, что меньше знаешь – крепче спишь. Мы ставим вас под удар.
– Этого я не боюсь. Вы ведь никакие не реставраторы, правильно?
– Это так заметно? – нахмурился Магеллан.
– Для обывателя – нет. Но я другое дело, у меня глаз наметан.
– Если так, то вы, небось, на нас и подумали... что это мы сами и постарались, с Артемием...
– К чему скрывать? – пожал плечами Зосима. – Я не сыщик. Почему бы и нет?
– Не только вы так подумали, – усмехнулся Магеллан. – Сыщик тоже нарезает вокруг нас круги. А мы помалкиваем, потому что сами в некотором роде сыщики. Мы – спецгруппа, прибывшая с поручением обеспечить безопасность работ по подъему крейсера и, возможно, предотвратить диверсию.
– Госбезопасность? – Монах обреченно вздохнул.
– Считайте, что так. Госбезопасность бывает разная. Одна сажает диссидентов в психушки, а другая обезвреживает бандитов.
– По мне все едино, – махнул рукой Зосима. – Но теперь, открывшись, вы не оставили мне выбора, так?
– Получается, что так, – кивнул Магеллан.
– Тогда излагайте поскорее, чего от меня хотите.
– Ничего особенного. Того же, чем занимался Артемий, – информации.
– Артемий тоже был из ваших?
– Угадали.
– Чего там гадать... Все это поняли очень быстро.
– Все? – быстро переспросил Магеллан.
– Конечно. Притворщика сразу видно.
– А что ж вы так убиваетесь по притворщику, Зосима?
– Человек же был. Мы не видели от него зла.
– Однако поглядывали на него волком...
– Грешен. Я предугадывал беды. Он лукавил, а лукавство поощрить невозможно.
– Он лукавил во благо.
– Все зло творится во благо...
Магеллан смотрел на инока со смешанными чувствами. Зосима выглядел странником, застрявшим на распутье. Бог говорил с ним противоречиво, сострадание соседствовало с неодобрением, скорбь с гневом, недоверие с желанием оказать помощь. Очень ненадежная фигура. Симпатичная чисто в человеческом смысле – пожалуй что да, но полагаться на него опрометчиво. К несчастью, другого выхода Магеллан – как и Посейдон – не видел. Теперь, после сказанного, уже поздно шерстить остальную братию.
Тон его сделался жестче.
– Наблюдайте за приезжими. Сообщайте нам о любой непонятной мелочи, даже если она покажется незначительной. И на этом ваши функции заканчиваются. Никто не ждет от вас профессионального шпионажа и стрельбы по движущимся мишеням. Вообще не стойте под стрелой.
Монах помолчал.
– Я должен получить благословение от игумена, – произнес он не менее жестко. – Дело весьма серьезное.
– Очень не советую этого делать.
– Но настоятель знает, кто вы такие.
– Знает. Но он не знает о вас.
– Вы и его подозреваете? – зло спросил Зосима.
– Оставьте подозрения нам. – Магеллан в очередной раз дотронулся до его рясы. – Никто не требует от вас обета молчания. Никто не записывает вас в кадровые сексоты. Вы все расскажете вашему игумену, но очень прошу вас сделать это после нашего отъезда. Чем меньше людей будет знать о содержании нашей деятельности, тем лучше. Вы в любом случае сможете покаяться – неужто Бог не простит вам?
Магеллан умолчал о том, что если придет соответствующий приказ, то беднягу Зосиму придется ликвидировать как посвященного – как бы ни противилось этому все существо спецназовца.
– У каждой работы своя специфика, – добавил он убедительно. – Ваша требует молитв, созерцаний, медитаций... не знаю еще, чего. Вас благословляют на пост, наставляют, и это обычная практика. Она не кажется вам бессмысленным ритуалом. А наша работа тоже имеет особенности, и смысла в них не меньше, чем в ваших кадильницах... Давайте будем уважать друг друга.
Зосима думал так долго, что Магеллану захотелось взять его за ворот и хорошенько потрясти.
– Ну, извольте, – сказал монах, наконец. – Я возьму на себя дерзость согласиться – да не усмотрит Господь в этом гордыни. Я чувствую себя принужденным, но что-то подсказывает мне, что я не должен отказывать вам.
– Очень хорошо, – быстро ответил Магеллан. – Тогда не смею вас задерживать, почтенный брат, мы и так потеряли много времени. Занимайтесь своими делами и поглядывайте по сторонам, этого будет достаточно. Особо следите за нашими друзьями-иностранцами.
– Вы думаете, это они? – Зосима впервые за весь разговор посмотрел собеседнику в глаза.
– Мы пока не знаем, но глупо скрывать, что они привлекают нас в первую очередь. Вы же сложите два и два.
– Чем же? Тем, что из-за бугра? – Жаргонное словечко прозвучало в устах инока настолько неуместно, что спецназовец едва не расхохотался. Он понял, что Зосима с грехом пополам пытается разделаться с чувством неловкости.
– Нет, разумеется... У нас есть иные основания, вам ни к чему о них знать.
– Не настаиваю. Тогда вот вам первый доклад, раз на то дело пошло. Один из этих немцев не явился нынче к обеду.
Магеллан, собравшийся было отчалить, застыл как вкопанный.
– В самом деле? – спросил он отрывисто. – И кого же не было?
– Они называли его Людвигом, – сказал Зосима. – Сильно удивлялись – куда он, дескать, пропал.
– Искали?
– Кто их знает. – Зосима развел руками. – Специально, по-моему, нет, игумену никто не докладывал. Но мне кажется, они должны рано или поздно обеспокоиться. В связи со смертоубийством...
– Да, конечно. – Магеллан задумчиво почесывал подбородок. – Значит, Людвиг.
– Да. Фамилию я не знаю.
– Это неважно. И паники нет?
– Во всяком случае, я не заметил. Хотя некоторые встревожились.
– Кто именно?
Монах наморщил лоб, взялся за бороду.
– Я ведь не знаю их поименно... Женщины – точно. И еще мужчина, высокий такой. Статный.
– Который с фоторужьем?
– Может быть, я ружья не видел.
– Попробуйте описать.
Зосима описал, как мог, и Магеллан узнал фон Кирстова.
– Очень хорошо, брат Зосима. Сердечное вам спасибо. Продолжайте в том же духе, и чуть что – сразу ко мне... Или к первому, кого встретите, лучше к шефу.
– Это который Сажин?
– Сажин, да. К нему.
Отпустив Зосиму, Магеллан поспешил в гостиницу, где доложил об услышанном Каретникову. Номер Людвига Маркса по-прежнему не прослушивался, но его сосед, Дитер Браун, после обеда вернулся к себе и с тех пор никуда не выходил.
Глава четырнадцатая
КТО ЕСТЬ КТО
Подразделения спецназначения по самому определению являются структурами глубоко засекреченными; это относится как к диверсионным, так и антидиверсионным отрядам. О российском спецназе мало что известно не то что за рубежом, но и на родине. А его подразделения в составе военно-морского флота вообще окутаны непроницаемой завесой секретности.
Последняя возникла не из стремления превратить в тайну все и вся, а исходя из требований действительности. Морской спецназ Советского Союза оставил далеко позади все страны вероятного противника в том, что касалось подготовки, тактики, вооружения и вспомогательной техники. Кроме того, в последние десятилетия существования СССР морские спецназовцы принимали участие в боевых операциях по всему миру – в частности, в Египте, Анголе, Никарагуа, Мозамбике, Вьетнаме, Эфиопии и прочих. Но информация об этих действиях не стала достоянием мировой общественности; груз ответственности взяли на себя соответствующие государства, которым Союз оказывал военную помощь. Отсюда и пошел режим строгой секретности.
История морского спецназа в СССР началась в 1955 году, в октябре месяце, когда советский крейсер «Орджоникидзе» посетил Великобританию, пристав к берегу в Портсмуте. Там разразился небольшой скандал. Крейсер доставил в Портсмут важный груз – советских руководителей, с Хрущевым и Булганиным во главе. И сильные мира сего, не чуя беды, преспокойно отправились в Лондон общаться с английским премьер-министром. А крейсер остался. И стал объектом пристального внимания британских военно-морских спецов, потому что развивал скорость хода выше тридцати пяти узлов, тогда как турбины работали вполсилы, и англичане предполагали, что это достигается за счет особенной формы его винтов. Чтобы разобраться в этом животрепещущем вопросе, под воду спустился капитан второго ранга Лайонелл Крэбб, боевой пловец королевского флота.
Но Советы не дремали и засекли Крэбба. Тот обнаглел, одним погружением не ограничился и полез изучать винты во второй раз. Тут случилось несчастье: черт их знает, почему и как, но корабельные винты очень кстати вдруг провернулись – по чистой случайности, конечно. Вероломного Лайонелла порубило в капусту и фарш, а советская сторона сообщила, что глубоко огорчена этим случаем, по поводу чего и выражает сочувствие, а также, на всякий случай, извиняется.
Демарш Крэбба привел Хрущева в ярость.
Он поручил министерству обороны рассмотреть вопрос «о необходимости создания специальных подводных разведывательно-диверсионных формирований». Этим делом работники министерства занимались добрых полтора года, и вот в 1957 году тогдашний министр Жуков издал соответствующий приказ: специальным силам – быть. Но вскоре Жукова сняли, и заодно – как это часто случается – были прикрыты многие его начинания, в том числе и это.
К вопросу вернулись лишь через десять лет. Приказом главкома ВМФ был создан «Учебно-тренировочный отряд легких водолазов Краснознаменного Черноморского флота».
Отряд занимался самыми обычными водолазными делами: испытывал новые модели снаряжения, изучал акваторию, выполнял плановые работы и учебные погружения. Но не только. В отряде собрались настоящие головорезы, акулы, диверсанты от Бога. Вне ведения высшего начальства они усердно трудились по собственной программе. Результаты которой и предъявили на больших учениях с высадкой десанта. Действуя под водой, они точно «прокачали» оптимальный плацдарм, обрушились смерчем и захватили его. Их никто не ждал, и они обрыскали все – доты, танки, нарушили связь. Действовали настолько умело – особенно в том, что касалось взрывотехники и огневых контактов, – что командиры, ветераны войны, знавшие о таких вещах не по Академии, пришли в полный восторг.
Министерство обороны постановило: преобразовать это образцовое подразделение в отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС).
Не прошло и двух лет, как аналогичные формирования появились в составе остальных флотов. Такие отряды существовали на всех крупных базах, особенно тех, где стояли подлодки, оснащенные ядерным оружием. Судьба многих отрядов впоследствии, после распада Союза, была незавидной: российские вооруженные силы вывели из Германии, Польши, Прибалтики; Черноморский флот развалился, и часть этих структур подверглась расформированию, а те, что уцелели, значительно сократили.
Но это случилось потом. А в 1970 году ГРУ Генштаба создало разведывательно-диверсионное формирование под названием «Дельфин». В его задачу входило проведение секретных операций против иностранных военно-морских баз. Все пришлось начинать с чистого листа за неимением опыта – от тактики подводных действий и методов обучения до вооружения и технического оснащения. В распоряжении командования имелись лишь отдельные инициативные эксперименты. Но всего за несколько лет удалось добиться невероятного: не только догнать, но и обогнать соответствующие подразделения всех государств, входивших в блок НАТО.
Задачи ставились следующие: в случае начала войны с натовскими странами морские спецназовцы должны были привести в негодность всю систему противолодочной обороны в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном море; осуществить диверсии в центрах управления и связи основных морских соединений, подвергнуть блокировке передовые операционные базы легких сил – катеров, десантно-амфибийных соединений, противолодочных сил. Для осуществления перечисленного им, в частности, предстояло высаживаться с транспортных подводных лодок, коммерческих и промысловых кораблей – ходящих под чужими флагами, с воздуха...
В общем и целом, боевые пловцы должны были нанести удар на всех морских театрах – за исключением тех, где предполагалось использовать ядерное оружие.
Не удивителен тот факт, что бойцы-подводники набирались, главным образом, среди морских пехотинцев-волонтеров, при наличии рекомендаций от непосредственного начальства. Требования к личным качествам предъявлялись высокие: эмоциональная устойчивость, выдержка в чрезвычайных ситуациях, отсутствие клаустрофобии и прочих невротических расстройств, хорошая переносимость погружения на большие глубины и перепадов давления. По прохождении медкомиссии и психологического тестирования кандидата зачисляли в курсанты. Ему предстояла трехэтапная подготовка, длившаяся полгода.
Это была еще та учеба. Занятия по 15 часов в сутки, и так – на протяжении семи недель. Кроссы, плавание, гребля, полосы препятствий; нагрузки растут, требования ужесточаются. Приходится плыть сквозь горящую нефть, в окружении взрывов... и так – до последнего испытания, предполагавшего крайние степени физического и психологического воздействия. Спали по 3 – 4 часа в сутки, марш-броски с полной выкладкой – на сотню километров, заплывы в гидрокостюмах – на 10 миль, с буксировкой сорокакилограммового груза. Выдерживал каждый пятнадцатый, а то и двадцатый.
Затем начинался второй акт «марлезонского балета»: новые одиннадцать недель. Здесь уже появлялась конкретика: знакомство с водолазным снаряжением, минно-взрывное дело, тактика боевых малогрупповых наземных и водных операций, начала разведки, радиосвязь, владение оружием – обычным и специальным... Прыжки с парашютом, альпинизм, управление разнообразными транспортными средствами – тоже наземными и водными. Отработка боевых действий под водой, пути эвакуации с берега... Рукопашный бой, особенно подводный – с обычным ножом и иглой. Шоковое и травматическое воздействие на противника...
По ходу учебы формировали мелкие и средние подразделения – троек, четверок и более крупных, так как каждый такой отряд должен был состоять из взаимно «притершихся» людей и действовать слаженно, как единый механизм.
По завершении второго этапа курсанты сдавали экзамен, который представлял собой модель реальной боевой операции. Последняя касалась охраны и обороны береговых объектов и кораблей от диверсантов неприятеля. То есть устраивались учения, максимально приближенные к боевым. Курсанты отчитывались в своем умении действовать под водой на разной глубине – ориентироваться и наблюдать при плохой видимости, вести бой и преследование, отрываться от погони, маскироваться на грунте... Тех, кто успешно выдерживал испытание, направляли в отдельную бригаду морской пехоты, где полученные навыки закреплялись. И в этом заключался третий этап, длившийся остальные восемь недель. После него боевые пловцы либо оставались в бригаде, либо возвращались в отряды, где обучались, а самые отличившиеся получали приглашение пройти двухгодичное обучение в специальном разведывательно-диверсионном центре.
До новейшего времени этот центр находился на озере Балхаш, что в Казахстане, – огромный водоем, глубина которого местами достигает более двухсот метров. Курсанты десантировались с парашютом, используя всю шкалу высот, в том числе совершая затяжные прыжки из стратосферы; они высаживались на самую разную местность – на воду, в лес, горы, степь, в любых погодных условиях. Высаживались с вертолетов по канатам и без канатов, прыгали в воду с пятиметровой высоты, учились покидать подлодки через торпедные аппараты, уничтожать корабли, шлюзы, мосты и дамбы; захватывать аэродромы и командные пункты, работать на всех видах радиостанций, пользоваться ядами... Они упражнялись в стрельбе из самого разного оружия – как отечественного, так и зарубежного, в том числе, к примеру, из укороченного и облегченного автомата АПС-55 для надводной и подводной стрельбы, который вообще не имеет аналогов в мире. Эта штуковина в состоянии действовать на глубине сорок метров – ниже в снаряжении на сжатом воздухе погружаться нельзя; может поразить неприятельского водолаза на расстоянии до десяти метров, пробить обшивку подводной минилодки, днище катера...
Но главным, конечно, оставалось умение преодолевать любые рубежи подводной охраны. Самые разные – пояс донных мин, которые взрываются с берега по проводам, при подаче сигнала с гидроакустической станции. Пояс сигнальных тросов, которые натянуты под водой в различных направлениях. Подводные взрывные сети с зарядами, под эти сети нельзя поднырнуть и резать их – тоже. Не перебраться и сверху, так как там светят прожекторы, и пулеметы береговых постов мгновенно покосят нежданных гостей.
Но удавалось пройти и это, да еще форсировать отвесную скальную стену, снять часовых и заминировать объект, после чего – уйти тем же путем, что и прибыли...
...«Сирены» Каретникова прошли все эти процедуры и с честью выдержали экзамен. Все они в свое время отучились в упомянутом центре и специализировались в нескольких регионах боевой деятельности – в Западной Европе, на Ближнем Востоке и в Средиземном море. Также они обучались в Севастополе, где был оборудован дельфинарий: там они учились противостоять морским животным, тренированным для уничтожения боевых пловцов. Дельфинов тренировали как на манекенах, так и на подводных пловцах: животные пробивали жертву металлическим штырем, закрепленным на рыле. В этих работах американцы опережали русских, так что создание альтернативной программы велось в большой спешке, но успех был налицо: животные были уничтожены при попытке США применить их против советских пловцов у берегов Никарагуа... Посейдон участвовал в этой операции, и ему было что рассказать.
Но вернемся еще ненадолго к истории вопроса, хотя изъясняться будем уже в настоящем времени.
Итак, когда инструкторы видят, что диверсант подготовлен в достаточной мере, он начинает принимать участие собственно в боевых операциях. Один раз в год бойцы обязательно проходят переподготовку, знакомятся с новинками вооружения и впитывают новейшую информацию о последних операциях морских спецназовцев по всему миру – не только отечественных, но и зарубежных.
Кроме того, деятельность боевых пловцов должна поддерживаться специальными научными подразделениями, которые извещают группы о гидрографической ситуации – течениях, рельефе береговой линии, температуре и прозрачности воды, характеристиках приливов и отливов и так далее. Часто бывает, что они же поддерживают и звукоподводную связь с пловцами, снабжают их гидроакустическими маяками, производят тайную заброску и принимают обратно на борт. Эту функцию часто берут на себя «научно-исследовательские» корабли или плавучие заводы по переработке морепродуктов, где оборудованы специальные отсеки.
Одно такое судно стояло на якоре близ острова Коневец, якобы будучи предназначено для научного обеспечения подъемных работ. Отчасти так оно и было, но в случае внештатной ситуации оно готово было оказать «Сиренам» всю возможную помощь.
На судне имелось в резерве все необходимое оружие и снаряжение, но все эти запасы были дополнительно дублированы; их заложили в тайник близ косы, на отмели, среди камней. Помимо упомянутых и любимых «Сиренами» автоматов АПС-55 там было бесшумное скорострельное оружие с инфракрасными и лазерными прицелами и целеуказателями; фугасы объемного взрыва, вакуумные боеприпасы, реактивные гранатометы и даже средства подавления гидроакустических и электронных приборов – на всякий случай, хотя большой надобности в них не предвиделось; недоставало разве что буксируемых малых ядерных фугасов.
Имелись там также дыхательные аппараты замкнутого типа, благодаря которым бойцы обладали возможностью часами находиться под водой и дышать так, что выдыхаемый воздух не демаскировал их; плюс приборы подводного ориентирования, благодаря которым группа могла действовать даже при нулевой видимости. Посейдон был уверен, что противодействовать «Сиренам» способны лишь диверсанты того же уровня, и сильно сомневался, что среди немецких гостей найдутся соответствующие фигуры. Проверка, хоть и недостаточная, все же имела место, а факт обучения по программе для диверсантов скрыть нелегко...
Помимо судна обеспечения, к услугам «Сирен» была и сверхмалая подводная лодка «Пиранья», способная подойти к объекту и принять шесть диверсантов плюс дополнительное снаряжение; возможна была ситуация, что и больше. Но превыше всего «Сирены» восхищались устройством, в честь которого когда-то назвали и свой отряд. Эта отдельная «Сирена» представляла собой особым образом оборудованную торпеду, внутри которой могли поместиться двое до зубов вооруженных диверсантов; «Сирену» выстреливали через торпедный аппарат подводной лодки.
Все перечисленное находилось в состоянии полной готовности и могло быть применено в зависимости обстоятельств.
Каретников полагал, что обстоятельства эти не потребуют использования всего арсенала. Он не видел повода к применению, в частности, сверхмалой подлодки.
Но он был готов и к этому варианту. Потому что не знал, какими средствами располагает противник. Немцы прибыли налегке, и это означало, что для них тоже заложен тайник – но где? Когда? Кем?
Или снаряжение будет доставлено каким-то иным путем? С воздуха? Но это немыслимо, они не на войне, чтобы так вот, в открытую...
Или это вообще не немцы, которые окажутся группой безобидных туристов?
Тогда – кто?
Посейдон надеялся выяснить это ночью. Он не сомневался, что неприятель – кем бы он ни был – воспользуется шумихой, которую сам же и организовал, и попытается осуществить задуманное – опять же, чем бы ни было это задуманное.
«Сирены» готовились к выходу.
Капитан Гладилин и его люди, пристально следившие за «Сиренами», были досадной помехой, но уйти от этого наблюдения профессиональным диверсантам казалось проще, чем выиграть в детские догонялки.
Глава пятнадцатая
ТЕМНАЯ ЛОШАДЬ БЬЕТ КОПЫТОМ
Людвига Маркса нашли в номере, где поселились фон Кирстов и Отто фон Кирхенау.
Это произошло уже поздним вечером, когда паломники поужинали и разбрелись по острову, стараясь держаться малыми группами. Любопытство оказалось сильнее страха, который, естественно, многие тоже испытывали после одного убийства и одного исчезновения.
Маркс был найден случайно. Обстоятельства его обнаружения годились, скорее, для комедии положений, нежели для детектива.
Он находился в шкафу.
И пребывал там, похоже, уже несколько часов. Ни у фон Кирстова, ни у фон Кирхенау не возникло надобности туда заглянуть и проверить – иначе труп обнаружили бы намного раньше.
Людвиг был задушен собственным галстуком. Глаза его – вопреки расхожему представлению – были закрыты, но почерневший язык вывалился, а конечности уже начали коченеть.
Фон Кирхенау полез в шкаф за теплой одеждой: к ночи заметно похолодало; Людвиг Маркс вывалился к нему, как будто в намерении заключить в объятия. Отто пронзительно взвизгнул, и Кирстов, сидевший к ним спиной, подпрыгнул от неожиданности на постели. Рука его метнулась под пиджак, к пояснице; вовремя разглядев, что имеет дело с покойником, фон Кирстов поднялся на ноги и резко сказал:
– Не трогайте его, Отто.
Тот и не собирался; прижав скрюченные руки к груди, Кирхенау то и дело мелко подпрыгивал и сопровождал эти эволюции короткими вскриками. Фон Кирстов подошел к нему и влепил затрещину, потом извлек из своей сумки бутылку русской водки в экспортно-сувенирном исполнении, свернул пробку, налил полстакана.
– Выпейте и заткнитесь. Нам нужно немедленно поставить в известность власти.
Зубы фон Кирхенау стучали о край стакана. Он выпил, прыжки прекратились; Отто рухнул в кресло.
– Давайте вышвырнем его к чертям, – пробормотал он.
Эрих фон Кирстов изумленно уставился на него:
– Не ожидал от вас, сюрприз... Это хорошая мысль, но лучше тогда сразу пойти и признаться, что мы его укокошили. Как вы думаете провернуть это незаметно? Вокруг полно людей, опомнитесь!
– Но как, Матерь Божья, он сюда попал?
– Как – догадаться нетрудно. Вопрос – когда...
Кирхенау обессиленно уронил лицо в ладони.
Когда?
Да когда угодно.
Они то и дело выходили из номера, подолгу отсутствовали... Правда, на этаже были и другие постояльцы, так что убийца в любом случае рисковал.
– Есть и посерьезнее вопрос – зачем? – продолжил фон Кирстов.
Кирхенау посмотрел на него с ужасом.
– Разве вы не понимаете?! Это убийство собираются повесить на нас!
– На обоих? Или на кого-то одного?
– Но кто может подумать на меня? Это нелепо!
– А думать на меня, по-вашему, уместнее? – прищурился Эрих.
Отто замолчал. Фон Кирстов был для него полной загадкой, но до сего момента это обстоятельство ничуть его не смущало. Ему и не хотелось ничего знать о соседе – они ведь так, случайные попутчики. Он вдруг осмыслил недавнее движение Эриха и снова задрожал.
– Что у вас под пиджаком? – спросил он с истеричными нотками. – Покажите немедленно.
Пожав плечами, фон Кирстов взялся за полы пиджака, приподнял его, повернулся к Отто спиной, и взору того открылась поясница, каких миллионы.
– Чего это вы? – спокойно осведомился фон Кирстов.
Пистолет крепился к подкладке пиджака, находясь в специальной кобуре, рукояткой вниз.
– Мне показалось, – пробурчал тот.
Фон Кирстов обошел вокруг тела, присел на корточки, осторожно запустил руки в карманы Маркса.
– Что вы делаете? Нельзя ничего трогать!
– Нельзя, – согласился Эрих. – Но мы попали в скверную историю. Мы понятия не имеем, с чем столкнемся дальше. Вы же не хотите, дорогой Отто, чтобы в кармане у него нашли написанную кровью записку с обвинением в ваш адрес? Обвинением в шантаже, изнасиловании, похищении фамильного серебра и государственной измене?
Отто сделалось совсем неуютно.
– Что за дичь? Может быть, там написано про вас...
– Очень возможно. Тогда я тем более должен на это взглянуть...
Фон Кирхенау отвернулся. Эрих, орудуя вполне профессионально, обыскал труп и не нашел ничего подозрительного. Задумчиво уставился на сжатые кулаки Маркса, потом осторожно разжал правый, присмотрелся.
Там были обломки, какой-то мусор. Фон Кирстов быстро повернулся к Отто, тот по-прежнему смотрел в сторону, борясь с брезгливостью.
– Что там? – поинтересовался Отто через плечо.
– Ничего особенного. – Эрих сгреб мусор и вернул пальцы Маркса в первоначальное положение. Найденное положил в карман брюк. Для Кирхенау, возможно, это и впрямь было бы мусором, но Эрих мгновенно узнал остатки раздавленного «жучка».
Он сам еще не знал, зачем спрятал улику, – понимал лишь, что ему ни в коем случае не следует оказываться в какой-то связи с находкой. А связь эту моментально установили бы: ведь труп находится в его номере...
Объяснить находку можно было по-разному.
Все могло случиться естественным образом, если в данном случае было вообще уместно говорить о естественности: Маркс сжимал раскуроченного «жучка» в кулаке, с чем и умер. Но Кирстов плохо представлял себе такое: человек, которого душат, наверняка не станет так действовать, он разожмет кулаки, хотя бы непроизвольно, или попытается защититься. Вряд ли обломки имели для Маркса такую ценность, что он не желал их отдать даже будучи при смерти.
Второй вариант: обломки подложили уже после смерти. И здесь уже открывались многие возможности. Бросить тень на Маркса? На фон Кирстова? На фон Кирхенау? На тех, кто установил устройство? «Жучок» был западного производства – слава Богу, в этом Эрих разбирался.
Маркса и в самом деле могли убрать хозяева этой электронной дряни. Но зачем так светиться и оставлять улику? Могли и в самом деле не заметить, и покойник не разжимал кулака...
Фон Кирстов в глубокой задумчивости заходил по номеру. В связи с убийством монаха на остров прибыла русская полиция. За немцев пока никто не принимался, но это вопрос времени. А уж теперь, когда погиб западногерманский турист, можно ждать чего угодно. Подключат МИД, приедет посол или консул... Скорее же всего – их просто побыстрее уберут с острова, и тогда вся подготовка к предстоящему, занявшая не один месяц, окажется напрасной...
Может быть, расчет делается как раз на то, что они уберутся? Или уберутся, но не все? Или все, но кто-то вернется? И чей это расчет?
Поразмыслив, он изменил свое мнение.
– Вот что, мой дорогой Кирхенау – Он сел напротив Отто и крепко сжал ему запястья. – Я передумал. Мы известим власти, но позднее.
Тот глядел на него непонимающими глазами.
– Позднее, – терпеливо повторил фон Кирстов. – Хотя бы завтра.
– Почему?
Надо было что-то соврать.
– Необходимо отвести от себя всякие подозрения. И мне придется подумать еще. Положитесь во всем на меня.
– А что делать с этим? – Фон Кирхенау покосился на труп Маркса.
– С ним? Ничего. Положим на место.
– То есть как, на какое место?
– Туда, где нашли...
– Нет! – взвизгнул Отто. – Я к нему не прикоснусь! И... вы что же – хотите сказать, что мне предстоит спать с ним в одном помещении? Да я лучше... я лучше отправлюсь в русскую тюрьму!
– Вы, может быть, и отправитесь, но мне этого совершенно не хочется, – спокойно возразил Эрих. – И я постараюсь не допустить такого оборота событий. Вам не нужно к нему прикасаться, я сделаю все сам.
– Но я не засну, – тот едва не плакал.
– Заснете, – уверенно ответил фон Кирстов.
– Но как?
Эрих ничего не сказал, только кивнул на початую бутылку «Столичной».
...Когда спустя полчаса фон Кирхенау повалился без чувств и захрапел, Эрих глубоко вздохнул, еще раз прошелся по номеру и остановился перед телефонным аппаратом. В его глубинах, как он давно и точно установил, находился «жучок», аналогичный тому, что сжимал в кулаке мертвый Людвиг. Неизвестные установщики устройства слышали весь их разговор. Неизвестно, какие выводы они сделают из услышанного. Оставлять труп в номере, безусловно, крайне опасно. Приходилось надеяться, что слушающие поняли Кирстова именно так, как он хотел.
Но всякой откровенности есть предел.
Он налил себе щедрую порцию, выпил и вышел в коридор. Изображая чуть нетвердую походку, постучал в третью дверь от лестницы слева. Хельга Лагенербе, которую туда поселили, сначала должна была делить помещение с какой-то простой русской бабой. Но потом неразбериха усилилась, и Хельге дали-таки отдельный номер.
Дурацкая путаница или нечто большее?
Русскую поселили с Ирмой Золлингер, благо та ничего не имела против.
Итак, никаких доверительных бесед при «клопах»...
– Фройляйн Лагенербе? – Голова фон Кирстова просунулась в номер.
Хельга – высокая и худая, сплошные мышцы – стояла возле окна, одетая к выходу.
– Позвольте пригласить вас прогуляться, – любезно предложил Эрих. – Я слышал, здесь есть казино...
Изображая идиота, он, естественно, переигрывал. Какое может быть казино в православной обители?!
Хельга ответила ему ледяной улыбкой.
– С большим удовольствием, герр Кирстов.
Кутаясь в куртку, она вышла; в коридоре Эрих галантно взял ее под руку и повел к выходу.
– Работаем сегодня, – произнес он негромко. – Маркс мертв. Он у меня в номере.
– Браун? – Голос Хельги был абсолютно спокоен.
– Я почти не сомневаюсь.
– Но он не один.
– И это более чем вероятно.
Непринужденно беседуя, они спустились в вестибюль.
Каретников прослушивал запись, по ходу пытаясь проанализировать ситуацию и принять решение. Действовать предстояло быстро.
– Этих двоих не трогать, – произнес он сквозь зубы. – Тут какая-то своя игра, и надо дать им проявиться. Не пересекаться и ни в коем случае не мешать – разве что при прямом нападении...
– Нападении – на кого? – спросил Флинт.
Посейдон задумался.
– На нас, – ответил он после паузы. – Насчет остальных я пока ничего не могу сказать. Придется действовать по обстоятельствам.
– Думаете, они и есть наши объекты? – В голосе Флинта звучало сомнение.
– Вполне возможно, но я не уверен. Похоже, что группа более разнородна, чем нам представлялось. Налицо столкновение каких-то интересов. Все за то, что Кирстов и Кирхенау не убивали Маркса, – во всяком случае, один из них точно не при делах. Иначе в происходящем нет никакой логики.
Вошел Магеллан.
Остальные было вскинулись, готовые к неожиданностям, но при виде товарища расслабились.
– Люди Гладилина в вестибюле, – доложил Магеллан. – Самого его не видно. Катер на месте.
– Ты выяснил, где он остановился?
– Ему дали второй номер. Дверь заперта, никто не отвечает.
– Он опрашивает монахов, – подал голос Торпеда. – Я видел, как он направлялся к игумену.
– Так это когда было, – поморщился Посейдон.
– У него работы непочатый край. Паломники, родители ребятни из лагеря, те же немцы...
– Тогда почему его люди бездействуют, сидят внизу?
Торпеда пожал плечами:
– Они не следователи, полномочий не хватает.
– Очень странно, что прислали такую маленькую группу, – пробормотал Посейдон. – Он должен был запросить больше.
Посмотрел на часы:
– Выходим через десять минут, разбиваемся по двое. Чайка, ты останешься здесь, будешь вести прослушку.
Чайка потемнела лицом.
– Шеф, – произнесла она негромко. – Это откровенный сексизм. Почему я? Мне есть чем заняться. Моя дорогая соседка – фигура подозрительная, уж очень приветливая и сладкая, аж противно. Мне лучше быть к ней поближе...
– Она в номере? – усмехнулся Каретников.
– Была в номере.
– Вот и слушай ее номер... Капитан, это приказ. Вы собираетесь возразить?
– Никак нет. – Чайка испепеляла Посейдона взглядом.
Тот оставил ее недовольство без внимания, повернулся к остальным.
– Задействуем три направления, сходимся на косе. Выходим через окно. Все ловят маяк?
Маяк находился в закладке для ее безошибочного обнаружения в темноте.
– Если наш выход засекут, это будет означать полную демаскировку и срыв легенды, – заметил Мина.
– Значит, надо действовать быстро и незаметно. Хотя возможно, что легенды нам больше не понадобятся. Весь этот шум для чего-то нужен...
Он не договорил, дверь неожиданно распахнулась. На пороге стоял капитан Гладилин, выглядевший озабоченным и будто готовым принести извинения. Щеки его, как обычно, пылали румянцем.
Когда он заговорил, в его тоне и вправду обозначились извиняющиеся нотки.
– Гражданин Сажин, – произнес он с некоторым усилием.
Посейдон смотрел поверх его плеча; помощники Гладилина покинули вестибюль и теперь сопровождали начальника.
– Я попрошу вас пройти со мной. Всем остальным предлагаю оставаться здесь и не покидать номер. Отрадно видеть вас собравшимися вместе, это облегчает мою не очень приятную задачу.
Каретников вскинул брови:
– Какую задачу, капитан? Что вам от нас надо, черт побери?
– Пройдемте со мной, и я постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Погиб еще один человек, и я не могу позволить себе сидеть сложа руки.
– Да мы-то при чем? Что вы к нам привязались, в самом деле? Вам больше нечем заняться? Я арестован?
– Что-то вы слишком буйный для реставратора, – удовлетворенно отметил капитан. В нем больше не было ничего мальчишеского, в голосе прорезалась сталь, глаза заледенели, а кровь отхлынула от щек. – Вы не арестованы, а задержаны. Прошу на выход, – он посторонился.
Каретников какое-то время смотрел на него, затем молча пошел к двери.
– А с вами, – Гладилин обратился к «Сиренам», – побудет мой человек. Если не возражаете.
Автоматчик шагнул в номер. Он выглядел вполне миролюбиво, но каждый боец из группы Посейдона сразу же отметил, что автомат снят с предохранителя и переведен в режим стрельбы очередями.
Чуть задержавшись на пороге, Посейдон дотронулся до правого уха, словно поправляя косынку.
Это означало: «Валить».
– Кто погиб-то? – спросил он громко – с преувеличенной, но вполне натуральной тревогой.
– Придет время – узнаете. Идите вперед.
– Руки поднять?
– Как хотите. Не обязательно.
Посейдон исчез из вида, Гладилин пошел следом, держа правую руку в кармане. Второй милиционер следовал за ним по пятам.
Оставшийся автоматчик притворил дверь, не спуская с реставраторов глаз. И замер, готовый в любую секунду принять бой.
Глава шестнадцатая
ОСТРОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО КАК ЗАЛОГ ВЫЖИВАНИЯ
Где, спрашивается, этот чертов криминалист?
Их прибыло четверо – не иначе, эксперт засел на катере и там химичит.
Посейдон быстро осматривал номер, как будто криминалист мог прятаться под кроватью. А что? Случалось и такое.
...Милиционера, шедшего сзади, он вырубил первым, как только процессия вошла внутрь. Гладилину следовало надеть на него браслеты, хотя, честно говоря, и это не помогло бы.
Каретников небрежно махнул рукой, забросив ее за спину, не глядя. Ребро ладони ударило сержанта в адамово яблоко, и тот выпустил автомат, маятником закачавшийся на ремне. Рот приоткрылся, из горла вылетел сдавленный хрип, глаза выкатились, колени подогнулись.
Не тратя на него времени, Посейдон шагнул вперед.
Гладилин уже развернулся, реакция у него оказалась весьма хорошая. Он резко отпрянул, одновременно вытягивая из кармана оружие, и Посейдон ударил его по запястью носком ботинка. Реставраторы не носят такой обуви, Каретников успел переобуться; сношенные кроссовки окончательно переселились в его вымышленную и ныне забытую жизнь.
Капитан успел вытащить пистолет, и тот полетел на пол, а не остался в кармане, и это было хорошо. Сделав еще шаг, Посейдон отшвырнул его ногой. Тут же пришлось отвлечься на сержанта, так как удар, очевидно, оказался недостаточно сильным, и тот начал приходить в себя, выпрямляться. Посейдон провернулся на носке, как циркуль, правая нога описала широкую дугу, и милиционер – довольно грузный товарищ – обрушился, так что пол загудел. А уже в следующий миг предводитель «Сирен» еле успел увернуться от кулака Гладилина, пронесшегося в паре дюймов от его виска.
– Что же это вы, гражданин Сажин... – задыхаясь от гнева, спросил капитан. – Приехали чинить, а сами ломаете?..
– Реставрирую, – отозвался Каретников. – Убираю лишнее, а потом нанесу новые краски... Кто тебе приказал меня арестовать?
Гладилин смешался.
Всего на какое-то мгновение. В его глазах метнулся страх, и Посейдон вдруг обо всем догадался.
Не говоря больше ничего, Гладилин бросился на него, и оба покатились по полу. В какой-то момент капитан очутился сверху, схватил Каретникова за уши и принялся лупить затылком о пол; Посейдон ударил его коленом в промежность, капитан разжал руки, упал на ладони, шумно выдохнул. Каретников двинул ему по ушам, столкнул с себя. Тот было опомнился, но получил очередной удар – на сей раз в челюсть, и это закончилось глубоким нокаутом.
– Не путайся под ногами, салажонок, – бормотал Посейдон, связывая ему руки шнуром от шторы. – Откуда ты взялся на мою голову? Знаешь, что бывает за предательство? И сколько тебе, интересно, заплатили, иуда?..
Гладилин не мог ему ответить, он был без сознания. Впрочем, будь он в уме – тоже навряд ли ответил бы.
Каретников бросил взгляд на часы: «Сирены» должны уже покинуть гостиницу. За шумом схватки он не слышал никаких подозрительных звуков снаружи, но это еще не означало, что все на мази.
Связав капитана, он взялся за неподвижного сержанта. Посейдон надеялся, что у того при себе есть наручники, и Посейдон без колебаний воспользовался бы ими. Наручников не было; поискал скотч – тоже не нашел. Правда, скотч имелся у него в номере, но времени было в обрез. Пришлось затыкать рты носовыми платками. Вторым шнуром он крепко-накрепко связал капитана и сержанта ногами вместе.
Наскоро осмотрел помещение и ничего не нашел.
Совсем ничего, что могло бы представлять оперативный интерес. Ни бумаг, ни компьютеров – еще один примечательный штрих. Может быть, он ошибся, и документация тоже на катере?
Он решил разобраться с этим позднее.
Посейдон выскользнул в коридор, бесшумно добежал до своего номера. Толкнул дверь, та не поддалась; проклиная все на свете, командир высадил ее одним ударом плеча. Выяснилось, что открыванию препятствовал второй милиционер, без сознания лежавший у порога.
Больше в номере никого не было.
В своих действиях «Сирены» в очередной раз продемонстрировали единство: страж был обездвижен в точности так же, как только что сделал Посейдон.
Окно оставалось плотно прикрытым, но Каретников не сомневался, что группа ушла именно этим путем. Вдруг его ужалила скверная мысль: где Чайка? Ей было приказано оставаться, и он не помнил случая, чтобы кто-то из его людей ослушался.
Обуреваемый дурными предчувствиями, Посейдон выскочил из номера, добежал до апартаментов, которые Чайка делила с госпожой Золлингер. Дверь была не просто закрыта – заперта на ключ. Пришлось повторить пройденное, и дверь провалилась внутрь. Фрау Золлингер отсутствовала, а вот Чайка нашлась. Она лежала на полу в позе, которая заставила Посейдона заподозрить худшее.
Крови натекла уже целая лужа.
Каретников проклял все на свете: аптечка находилась в схроне, вместе с прочим снаряжением, а звать посторонних не позволяли обстоятельства... впрочем, делать было нечего.
Он прикоснулся к шее Чайки, ощутил слабую пульсацию сонной артерии. Пуля, судя по всему, прошила легкое и чудом не задела сердце. Каретников наскоро перевязал рану, переложил Чайку на кровать.
Между прочим, он не слышал никакого выстрела. Либо глушитель, либо что-то похуже, чреватое непредвиденными осложнениями. Пулевое отверстие оказалось совсем крошечным.
Каретников снял телефонную трубку, позвонил в «ресепшен»:
– Пришлите врача, – лаконично распорядился он и назвал номер. – Побыстрее, женщина умирает.
На «ресепшене» сдержанно разволновались. Столько событий, а они спят, как сурки. Не слушая расспросов, Каретников отключился и через секунду уже вновь был в коридоре.
Таиться не было смысла, и он вышел из гостиницы через общий выход. Двое паломников в вестибюле изучали проспект; судя по виду, ничто до сих пор не нарушило их внимания. Администратор переминался за стойкой, негромко и нервно наговаривая что-то в телефон.
С напускным безразличием Посейдон прошел мимо него. Уже совсем стемнело, и он мгновенно растворился в темноте.
В первые секунды капитану Гладилину почудилось, будто к ногам его привязали пушечное ядро. А сам он уже некоторое время лежит на морском дне, расстрелянный дробью, картечью и теми же ядрами.
Он разомкнул веки, снова зажмурил, потому что электрический свет резал глаза. Морское дно отошло в область воображаемого, но реальность оказалась куда неприятнее. Ситуация вышла из-под контроля, а это было куда хуже.
Капитан еще недавно воображал, будто полностью контролирует эту ситуацию.
Он вообще отличался излишней самоуверенностью, и это был один из самых досадных его недостатков.
Обнаружив, что руки плотно стянуты за спиной, Гладилин попытался сесть без их помощи и посмотреть, что его держит. Это ему удалось без большого труда; сев на полу, он уставился на бездыханного сержанта, которому явно досталось крепче. Капитан замычал: он не звал на помощь, он нечленораздельно сквернословил. Потом стал вертеть головой по сторонам в поисках острого предмета и ничего подходящего не увидел.
Теперь в лице капитана и вовсе ничего не осталось от молодого и чуть застенчивого служаки, всего какими-то часами раньше ступившего на остров Коневец. Казалось, что сквозь умело наложенный грим проступили истинный возраст, истинное мироощущение, истинные виды на будущее. Гладилин состарился на добрый десяток лет, и даже светлые, почти белые волосы его несколько потемнели. Рот, если бы не мешал платочный кляп, растянулся бы в оскале; глаза налились кровью.
Все шло насмарку. В случае провала ему светит пуля в белокурую башку. Сейчас, конечно, не расстреливают, но его, скорее всего, и не будут судить. Прикончат втихаря, как собаку, закопают в лесу.
Какого дьявола ему вообще пришла в голову эта дикая мысль: обезглавливать группу, тащить командира к себе? Он полагал, что так выйдет надежнее... а вместо этого располовинил свой собственный, довольно жалкий отряд. Нужно было запереть их и выставить караул в коридоре и под окном. Тогда «сажинцам», как минимум, пришлось бы поднимать шум, и это уже было бы хорошо, демаскировка, невозможность скрытых акций... Его ребят положили бы, но они и так не жильцы. Эксперта он напоил, тот спит без памяти, а хорошо бы подключить и его – человеком меньше, человеком больше...
Теперь Гладилину предстоит расплачиваться.
Противник, скорее всего, уже занял позиции и вот-вот сорвет операцию, которую сам капитан призван охранять.
Гладилин понятия не имел, кто именно его завербовал. Знал одно: это состоятельные люди – раз, и они наверняка иностранцы – два. Скорее всего, немчура. Это подтверждается составом туристической группы, прибывшей на остров.
Возможно, «Сажин» что-то успел заподозрить, натолкнувшись на нежелание следователя работать с иностранными гостями.
Не исключено, что он догадался и о многом другом... о том, например, что монаха убили с единственной целью: иметь повод официально пригласить на остров Гладилина и что еще важнее – его катер. Гладилин, когда к нему начали подкатываться несколькими месяцами раньше, был сильно удивлен. Он и подумать не мог, что способен представить интерес для достаточно могущественных, как он понял, фигур – вероятнее всего, шпионов и диверсантов. Он работал себе в тмутаракани, занимался обыденной уголовщиной – большей частью бытовухой, кражами, убийствами по пьянке. Он так и заявил хлыщу, явившемуся по его душу: не там ищете, господа, я мелкая сошка. Подъем затопленного эсминца? Вообще не мое дело, но я догадываюсь, что это больше по части госбезопасности и Минобороны. И мне будет странно сюда встревать.
Чуть позже он отловил себя на мысли: ведь он не послал этого гада куда подальше, не сдал его в ФСБ, не запер в обезьянник, не начистил морду. Он сразу повел себя так, будто в принципе был не против, просто задача, судя по всему, оказалась не по уму и рангу.
Хлыщ снисходительно улыбнулся: какие мелочи, капитан. Все, что вам предстоит, вполне укладывается в вашу компетенцию. Кое-что доставить, кое-кого задержать до выяснения да приступить к расследованию обычного лиходейства, каких в его округе творятся сотни.
Лиходейство и задержание не вызвали в Гладилине протеста, но вот доставка неизвестного груза сильно обеспокоила. Нельзя ли это проделать без него?
Можно, последовал ответ, но это рискованно. В виду предстоящих работ остров будут прочесывать, и не однажды. Разумнее доставить все необходимое непосредственно перед акцией. Хотя это и опаснее, что спорить. Ну так не за красивые же глаза ему заплатят.
А глаза у Гладилина были и в самом деле красивые.
Он еще немного поупирался для вида, интересуясь, почему для такого опасного и ответственного дела выбрали именно его кандидатуру. А больше и некого, ответили ему, недоуменно пожав плечами.
И действительно: случись на острове что необычное, Гладилин и так прибыл бы туда первым по долгу службы. Ему оставалось лишь совместить этот долг с некоторыми дополнительными задачами.
...Запродав душу неизвестному дьяволу, капитан уже не мог пойти на попятный. Но чем лучше вырисовывались предстоявшие задачи, тем яснее он постигал, во что ввязался. До него доходили слухи о необычности операции по подъему эсминца; как всякие слухи, они были весьма диковинного содержания. Сплетники не удовлетворялись радиацией, для них это было слишком мелко. В своих гипотезах они доходили до пришельцев; Гладилин в последних не очень верил, но понимал, что с эсминцем нехорошо. Это было ясно и так, по тому же интересу иностранных работодателей, но ему все больше казалось, что дела обстоят намного хуже, чем он предполагал.
Он, кстати, и сам не знал, каким чутьем распознал в новых хозяевах иностранцев. Их русский был безупречен, и одевались они как самые обычные граждане, но что-то в них чувствовалось чужое, забугорное. Выражение лиц, пожалуй... Нечто неуловимое, продезинфицированное. А немцы в нем сызмальства ассоциировались с нечеловеческой тягой к стерильности в сочетании со столь же нечеловеческими зверствами. И готовность к последним он безошибочно угадывал в глазах вербовщиков.
Но распознал ее не сразу, только позднее. А к тому времени у него самого уже появилось в глазах нечто подобное – вернее, оно таилось там всегда и лишь ждало случая вырваться на поверхность.
Что сейчас и произошло.
Сдавленно рыча от бешенства, Гладилин изловчился и дотянулся до кармана сержантовых брюк. Улегшись на спину и орудуя крайне неуклюже, он, моля Бога об удаче, все же нащупал зажигалку. По ходу действий он безуспешно пытался достучаться до милиционера, негромко звал его: «Снетков! Снетков!..» Ему не хотелось привлекать внимание посторонних. Пока еще ничто не разъяснилось, пока следует соблюдать осторожность.
Ничто?
Он жестоко заблуждается.
Он вдруг вспомнил бормотание Сажина, услышанное сквозь ватную пелену. Тот называл его иудой и любопытствовал насчет стоимости его, гладилинских, услуг.
...Снетков не отзывался.
Обжигая руки, капитан развязался с путами. Выдернул изо рта платок. Дальнейшее заняло у него не более минуты. Вскоре он стоял, мрачно взирая на неподвижного сержанта. Тот оставался связанным, и Гладилин не знал, как с ним поступить. Развязывать верного помощника он не спешил.
С собой не возьмешь. И так вот запросто не оставишь: этот придурок ни о чем не знал и мог, придя в сознание, начудить всякой всячины.
Гладилин еще никогда не убивал вот так запросто, ради собственной выгоды. Но надо же когда-то начинать и говорить Б, если сказал А. Немцы не ошиблись, выбрав его кандидатуру. Они были тертые калачи и угадали в нем наличие чего-то важного, что позволяет человеку отважиться на поступок с большой буквы.
А что потом?
Не думает же он вступить с единоборство целым отрядом оперативников, кем бы они ни были?
Нет, разумеется.
Но он тщательно изучит ситуацию и постарается извлечь из нее максимум пользы для хозяев – и для себя, понятно. Если из нее еще можно что-то извлечь. Потому что эти мерзавцы наверняка сейчас заняты тем, что срывают хозяйские планы, и ему конец.
Капитан склонился над милиционером, потянул кляп. Вытянул платок изо рта, накрыл им лицо, придавил широкой ладонью так, чтобы захватить нос и рот. Снетков захрипел, но никакого сопротивления не оказал. Гладилин терпеливо подождал, пока тот перестанет дышать, затем затолкал платок обратно в рот. Все будет выглядеть так, будто сержант задохнулся. И виновата в этом, естественно, та самая сволочь по фамилии Сажин, наверняка, кстати, выдуманной.
Гладилин не пошел в вестибюль.
Он, как и «Сирены», воспользовался окном, но прежде проверил, как обстоят дела со вторым милиционером.
Тот уже приходил в себя, но ничего не сумел сделать, когда капитан затянул на его шее шнур.
Часть пятая
РАЗГРОМ
Глава семнадцатая
ВАРИАНТЫ ПОБЕГА ДЛЯ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ
Грохот канонады проникал даже в надежно изолированный трюм.
Сережка Остапенко и Соломон Красавчик – единственные из узников, кто остался в живых, – не получали никаких сведений из внешнего мира. Но не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о значении далеких раскатов.
То, что выжили именно эти двое, казалось чудом – им самим даже в меньшей степени, чем их экспериментаторам. Двоих ребят подвергали воздействию микрофлоры, которая по всем статьям должна была оказаться значительно агрессивнее обычной. Об этом свидетельствовали данные, предоставленные берлинской лабораторией, где уже были ранее получены опытные образцы, которые, однако, до сих пор не проходили испытания на людях.
Но то ли флора оказалась мягче – возможно, в силу иного режима облучения, то ли Красавчик и Остапенко действительно были уникумами, но факт оставался фактом: они до сих пор жили.
Медики пришли в растерянность и временно приостановили опыты.
В Берлин были отправлены отчеты, но распоряжения запаздывали. Руководству явно сделалось не до научных экспериментов. Настало время решать проблемы сугубо практического свойства, не имевшие никакого отношения к военной микробиологии и радиологии. Гамбург уже давно лежал в руинах, Дрезден практически стерли с лица земли, а теперь наступала очередь Кенигсберга.
Узников оставили в покое.
...Спустя какое-то время Сережку и Соломона свели вместе в одну каюту; зачем это было сделано, они так и не узнали.
Но теперь у них появилась возможность общаться; за истекшие месяцы оба едва не разучились разговаривать, так как вступать в беседы было не с кем. Разговоры обостряли мышление; орудийные залпы наводили на мысль о близких переменах, и подопытные догадывались, что будущее не сулит им ничего доброго, даже если немцы будут разгромлены – а это казалось все более вероятным.
Оба узника часами прислушивались к работе артиллерии, пытаясь так или иначе истолковать малейшие изменения в доносившихся звуках. В какой-то момент им стало мерещиться, будто они в состоянии различить между собой залпы немецких и советских орудий.
Однажды вечером Красавчик сказал:
– Надо смываться.
Он всего лишь высказал то, о чем оба пленника думали безостановочно. Побег представлялся невероятным, но, будучи оговорен, он уже переставал быть отвлеченной мечтой. Первый шаг, пускай безнадежный, был сделан.
– Только не отсюда, – отозвался Сережка. Глаза его заблестели. – Отсюда черта с два убежишь. Попробуем выскочить, когда повезут.
– А если не повезут?
– Должны, – без особой уверенности возразил Остапенко. – Иначе на кой черт держать нас столько времени? Мы им еще зачем-то нужны.
Красавчик помотал головой:
– Если жареным запахнет, они свои шкуры побегут спасать.
– Нам же и лучше, – сумрачно сказал Сережка. В его голосе тоже не было сильной уверенности.
– Это почему еще?
– Ну... бросят нас и слиняют.
– Ага, бросят, – с горечью кивнул Соломон. – Рыбам на корм. Только нас и рыбы не станут жрать, мы целиком отравленные.
Сережка тоскливо кивнул, он и сам этого опасался. Чем ближе казалось избавление – в любом случае невозможное, тем сильнее ему хотелось жить, хотя совсем недавно ему было все равно, жить ли, умереть ли, – он настолько вымотался, что даже не мог предпочесть смерть.
Никто из них не знал о радиации, в то время как оба уже некоторое время страдали лучевой болезнью – правда, не в тяжелой форме. О своей отравленности они судили по препаратам, которые им вводили, – они даже не осознавали, что это микробы, и думали, что им впрыскивают какие-то яды.
– Я вот что думаю, – произнес после паузы Красавчик. – Я думаю, что потопят они нас. Концы в воду. Все корыто потопят.
– Ну, нет, – не поверил Сережка. – Корабль-то зачем топить? Он еще воевать может. И потом, тут приборов ихних полно, дорогущие наверняка. Фрицы – жмоты, они удавятся за копейку.
Жмоты не жмоты, а рассуждали фрицы приблизительно так же, как и Сережка. Материал решили беречь до последнего. Когда бои вплотную приблизились к Кенигсбергу, а от советской авиации не стало никакого спасу, адмирал Дениц лично отдал приказ о перебазировании корабля.
Этого приказа ждали давно.
Медики сидели как на иголках, в любую минуту готовые броситься врассыпную. Когда Иоахим фон Месснер собрал их в кают-компании, он с неудовольствием отметил, что в коллегах стало намного меньше почтительности к его высокому званию. Они и раньше не баловали его дружеским отношением, а теперь напоминали затравленных волков и явно рассчитывали уйти от ответственности.
– Я знаю, о чем вы думаете, – медленно проговорил эсэсовец. – Вы рано расслабились, господа офицеры... Вы, похоже, забыли, что были и остаетесь офицерами Рейха. Трусость и измена будут караться беспощадно. Игра еще не проиграна, и я советую вам взять себя в руки. Полчаса назад поступило распоряжение о передислокации «Хюгенау». Нами дорожат, наша работа имеет огромное научное и военное значение. Мы отступаем, спора нет, но нам есть куда отступить и где залечить раны...
– Где же, позвольте узнать? – ядовито осведомился доктор Берг. Голова его мелко тряслась: у старика от волнений обострился паркинсонизм, в нормальном состоянии почти незаметный.
Месснер мог его осадить, но решил не нагнетать напряжение.
– Конечный пункт мне неизвестен. Пока что получено предписание двигаться в Киль, где сосредоточены наши основные силы.
– Силы, – пробормотал Берг. – Откуда им взяться?
– Прекратите, – жестко сказал Месснер. – Армия терпит серьезные поражения, но наш флот еще достаточно силен.
– В Киле уже, должно быть, высадились англоамериканцы, – поделился сомнениями Моргенкопф.
– Прекратите, если не хотите быть арестованным за паникерство! С чего вы это взяли? Киль остается в наших руках.
– Послушайте, Месснер, – Моргенкопф оставил угрозу без внимания. – Вы и сами отлично знаете, что если этого еще не произошло, то произойдет со дня на день. Хорошо. Допустим, «Хюгенау» передислоцируется в Киль. Что дальше?
– Это секретная информация, – нехотя проговорил штурмбанфюрер. – Повторяю: у меня нет для вас точных сведений. Могу лишь сказать, что оттуда наш путь будет лежать либо в Норвегию...
– В Норвегию уже вошли русские, – заметила Лессинг.
– Либо в Норвегию, либо – минуя ее – в Арктику... Пути в Атлантику для нас, как вы догадываетесь, в настоящее время нет.
– Но зачем в Арктику? – взвизгнул Берг. – Что это за игры?
– Очевидно, там нас примет на борт либо подводная лодка, либо самолет... о дальнейшем маршруте я не имею понятия.
– Почему бы не сделать этого в том же Киле? Да хотя бы и здесь, в Пиллау?
– У меня нет ответа на этот вопрос, – отрезал Месснер. – Я руководствуюсь лишь домыслами и не уверен, что имею право этим заниматься.
Его подчиненные сидели угрюмые, нахохленные. Было видно, что всем им с трудом верится в арктические путешествия, которые и сами по себе не особенно приятны. В Рейхе больше склонялись к Южной Америке. Киль казался правдоподобным местом назначения – но дальше?
– До Киля еще нужно дойти, – задумчиво сказал Грюнвальд.
– Мы пойдем под конвоем.
Штурмбанфюрер говорил с легким раздражением, показывая, что ничто человеческое ему не чуждо и в глубине души он встревожен не меньше остальных. Это ему неплохо удавалось; конечно, он жертвовал своим авторитетом, зато оставался неразгаданным в более важных вещах.
Собственно, он не врал. Эсминец «Хюгенау» действительно должен был взять курс на Киль, и Месснер от души желал всем присутствующим попутного ветра. Однако последние месяцы были богаты на военные сюрпризы, и на эти случаи у Месснера имелась особая инструкция.
Ее содержание очень не понравилось бы почтенному собранию. Оно, честно говоря, не нравилось и ему самому. И штурмбанфюрер не собирался во всем следовать букве этой инструкции, хотя ее дух его вполне устраивал.
...Когда взревели двигатели и «Хюгенау» вздрогнул всем своим смертоносным корпусом, Сережка Остапенко и Соломон Красавчик вцепились в раму, установленную над кроватью. Это был стальной брус, предназначенный для удерживания в сидячем положении и перемещения при параличе ног. Такой паралич был вполне возможен, если учесть, что в распоряжении медиков был возбудитель полиомиелита. Им, правда, так и не воспользовались по причине его вирусной природы; до поры до времени радиоактивному облучению подвергали бактерии.
Брус был плотно вложен в специальные «уключины», которыми заканчивались стальные стойки, расположенные в головном и ножном концах кровати. Кольца уключин оставались открытыми сверху; брус крепился толстыми болтами, вывернуть которые было нечем.
Рассчитывать на свои силы в попытке выбить эту штуковину было сущим безумием, но у Сережки и Соломона не оставалось выхода.
Все их беседы неизбежно сводились к одному выводу: придется защищаться. Но ничего похожего на оружие у них под руками не было, да и сами они оставались прикованными, хотя длина цепей предоставляла некоторое пространство для маневра.
– Иначе ключей не получим, – рассудил Соломон.
Конкретного плана у них не было, да и быть не могло. Они не знали ни внутреннего устройства корабля, ни того, что могло их ждать снаружи. Вся их затея являлась болезненным бредом от начала и до конца, это была даже не русская рулетка с одним пустым гнездом в барабане. Пули сидели во всех гнездах, и об удаче можно было говорить лишь в случае осечки. Сражаться с мучителями нелепо; каждый из них, даже немощный, но жуткий старикашка, казался в несколько раз сильнее их обоих, вместе взятых.
Но даже обреченная на провал попытка лучше бездействия. В конце концов, если их прикончат при попытке бунта, это тоже явится долгожданным выходом. Они устали. Канонада не внушала серьезных надежд: близок локоть, да не укусишь.
...Брус не поддавался.
– Зубами бы вывернуть эти болты, – проговорил Сережка, тяжело дыша.
Пустые надежды. Зубы их давно не отличались крепостью, теперь же многие вообще шатались, и узники не знали, отчего.
– Нажмем еще, – предложил Красавчик.
Они нажали – и раз, и другой, и третий – бесполезно.
– Ложку бы, – беспомощно сказал Остапенко. – Черенком зацепить.
Ложек им не давали вообще. Они либо хлебали из алюминиевых мисок, либо выбирали пищу руками.
Красавчик посмотрел на свои ногти: коротко острижены. Несмотря на питание вручную, за их гигиеной строго следили. От доктора Лессинг, убиравшей за ними, исходили такие волны ненависти, что Сережке и Соломону становилось физически дурно. Дурнее, чем обычно, – фонового плохого самочувствия они уже не замечали.
Да и смешно было надеяться отвернуть детскими ногтями эту штуковину, завернутую намертво.
– А если краем миски?
– Нет, слишком толстый, – вздохнул Соломон.
Дался им этот брус! Можно накинуть на шею цепь и задушить. Только это было бы еще смешнее.
Подошло бы многое: монета, линейка... крест!
На шее Сережки болтался маленький, дешевый крестильный крест. Можно верить, можно нет, но этот предмет сохранился. Будучи никчемной безделушкой, он никого не заинтересовал в лагере; медики тоже почему-то не придали ему значения. Крест был слишком мал, чтобы им можно было причинить себе вред, проглотив. Вены им тоже не вскроешь, и подкопа не сделаешь. Крест подвергался опасности не только в неволе, но и прежде, хотя и меньшей. Верующих преследовали, и факт ношения креста не подлежал огласке – ведь Сережка состоял в пионерах.
– Смотри сюда, – Сережка положил крест на ладонь и глядел на него через выпяченную губу.
Красавчик взглянул с деланным пренебрежением. Он хоть и не происходил из ортодоксальной иудейской семьи, но был приучен держаться подальше от всего, что связано с христианством.
Однако в такой ситуации и он не мог не возбудиться; его выдержки хватило недолго.
– Дай мне!
– Нет, я сам...
Основание креста легко вошло в бороздку.
– Сломается, – пробормотал Соломон.
Они не разбирались в металлах; латунь, железо, олово – все казалось едино; крест выглядел несерьезным и, казалось, никак не мог совладать со сталью, выплавленной на прославленных заводах Круппа.
...Крест выдержал.
Болт провернулся на пару миллиметров.
Глава восемнадцатая
СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ
Огромный водяной столб взметнулся прямо перед носом «Хюгенау»; второй через секунду вырос справа по борту, и палубу окатило солеными брызгами. Эсминец тяжело завалился на левый бок – немного, но достаточно, чтобы Иоахим фон Месснер потерял равновесие и растянулся, неловко грохнувшись на бок. Фуражка сползла на глаза; под белым черепом с перекрещенными костями оскалились зубы, из горла непроизвольно вырвалось каркающее ругательство.
Два катера сопровождения были объяты пламенем; третий разворачивался с явным намерением дать деру. Краснозвездные бомбардировщики с воем пронеслись над эсминцем, и штурмбанфюрер невольно прикрылся рукой.
...Небольшой караван вышел из порта Пиллау накануне; налет ожидался много раньше. Его все не было, и Месснер уже начал надеяться, что беда каким-нибудь чудом пройдет стороной – увы, не прошла.
А потом всплыла лодка.
Всплыла очень близко, по морским меркам. Море волновалось; еще далеко не шторм, но уже повод обеспокоиться; среди этого волнения из волн вдруг выросла черная рубка, вслед за которой наметилась основная сигара.
Советская лодка.
С нее был отдан приказ стопорить двигатели.
Месснер мгновенно догадался, что это значит. Эсминец представлял ценность для русских, иначе был бы расстрелян без всяких проволочек. Русские либо доподлинно знали, либо подозревали о его секретном предназначении. И в этой ситуации предусматривались именно те действия, о которых штурмбанфюрер умалчивал во время недавней беседы в кают-компании.
Для себя он давно решил, что приказ будет выполнен частично. В той его части, что касалась остальных; в отношении себя самого Месснер думал руководствоваться собственными соображениями.
– Тяните время, – велел он капитану, выцеживая слова сквозь зубы. – Будем сдаваться... но не спешите. Мне нужно закончить дела. Не провоцируйте русских, не давайте им повода к торпедной атаке...
Капитан не без облегчения козырнул. Русский плен – не самая приятная вещь на свете, но он уже проникался лагерной философией «ты умри сегодня, а я завтра».
Месснер поспешил к люку и добежал до него в тот момент, когда встревоженный доктор Моргенкопф наполовину выбрался на палубу. Лицо медика выражало крайнюю степень беспокойства. Штурмбанфюрер не стал дожидаться, пока тот потребует разъяснений, и выстрелил доктору в лицо. Тело Моргенкопфа провалилось вниз и застряло на полпути; Месснер протолкнул его ногой и спустился сам. Едва его ноги коснулись пола, как перед ним вырос Грюнвальд, уже все понявший. Хорошо, что Месснер отобрал у подчиненных оружие. Но Грюнвальд был дюжий малый, сумел бы справиться с ним и голыми руками...
Теперь две пули впились ему в брюхо, и Грюнвальд медленно опустился на колени. Эсминец резко бросило вправо, и доктор упал – уже мертвый.
Штурмбанфюрер снова выругался: он отводил Моргенкопфу – или Грюнвальду, кто подвернется первым, – другую роль: тот должен был находиться в трюме и понести основную ответственность за все, что там вскоре произойдет. Что ж – подойдет и Лессинг; Берг слишком стар. Хотя можно будет вложить в руку Моргенкопфа свой пистолет, но есть ли в этом смысл? Сомнительно, чтобы русские занялись баллистической экспертизой. Они должны удовлетвориться общей картиной, если вообще поверят Месснеру.
...Берг был застрелен в своей каюте.
Старик паковал вещи. Месснер не сомневался, что старая сволочь вынашивала в его отношении аналогичные планы. И шансов у него было больше: старик больше походил на жертву принуждения и обстоятельств.
– Как же так, доктор? – укоризненно спросил штурмбанфюрер с порога. – Крысы бегут с корабля? Но корабль пока не тонет... вы торопите события.
Берг повернулся к нему лицом и увидел наведенный на себя ствол.
– Постойте, Месснер, – заговорил он торопливо. Прозрачные глаза наполнились ужасом, руки затряслись. – Я не собирался...
Иоахим фон Месснер, не сумев отказать себе в удовольствии, тщательно прицелился и нажал на курок. Каюту заволокло дымом, Берга отшвырнуло к стене. Пуля влетела ему между прыгавших губ и вышла сзади, разворотив шею. Старик застыл в неестественной позе, как сломанный манекен.
Месснер вышел и направился к апартаментам Лессинг. С дамой пришлось немного повозиться. Доктор Лессинг слышала выстрелы и сразу же догадалась, что они означали. Она заперлась; Месснер громко выругался и столь же нарочито громко затопал прочь. Возле люка он быстро разулся и вернулся на цыпочках, неслышной походкой. Немного подождал; совсем недолго. Анна не выдержала; ей мерещилось, что на палубе, на виду, она будет в большей безопасности. Она имела неосторожность выйти, и Месснер тут же вышиб ей мозги. Потом забрал у нее пистолет.
Не медля больше, он спустился в трюм.
Согласно приказу, он должен был ликвидировать всех участников драмы и затопить эсминец, ликвидировав тем самым и себя самого.
Последнее распоряжение он, естественно, и не думал выполнять.
Месснер собирался выставить себя как героя-энтузиаста, стремившегося воспрепятствовать уничтожению заключенных. Спасти их. Отрицать свое участие в экспериментах было невозможно, всю команду не перебьешь, и его наверняка сдадут с потрохами. Но можно частично сгладить вину, это во-первых. А во-вторых, поскольку появление подлодки не показалось ему случайным, Месснер предполагал, что еще сможет пригодиться Советам в качестве консультанта. У русских наверняка есть интерес к нацистским разработкам. Перспективы сомнительные, но они оставляли шанс на выживание. Во всех прочих случаях шансов не было никаких.
Он уничтожит подопытных из оружия Лессинг, а насчет себя объяснит, что защищался от фанатиков-подчиненных. Что мешал им выполнить приказ, который получил сам: уничтожить все следы их научной деятельности вместе с эсминцем. Но сначала перестрелять людей для большей надежности – вдруг кому-то чудом удастся спастись с тонущего корабля....
Самолеты больше не возвращались. Очевидно, у русских произошла накладка; караван вообще не должны были бомбить, и теперь авиацию отозвали. А может быть, ее задачей было лишь уничтожение эскорта?
Разбираться в этом было некогда и незачем.
Месснер спустился в трюм. Нужно бы переодеться в защитный костюм, но время поджимало. Если эти ублюдки до сих пор не загнулись от радиации, то не загнется и он – все равно уже схватил какую-то дозу. И в смысле бактерий они уже вряд ли опасны – многократная дезинфекция плюс профилактика антибиотиками; последнюю порцию Месснер принял еще с утра.
Держа пистолет на запоре, штурмбанфюрер отомкнул дверь и шагнул в «палату». Что-то насторожило его, он сразу не разобрал, что именно.
Обнаженные пленники сидели на своих койках. Все, как обычно, – цепи на месте. Бессловесные, вконец отупевшие скоты. Но звук... какой-то посторонний звук. Двигатели молчали, эсминец остановился, но легкая качка сохранялась, и что-то еле слышно дребезжало.
Месснер нахмурился. Его внимание было обострено, он подмечал все странное. Он сделал два шага вперед и поднял глаза: дребезжание исходило от стального бруса. Казалось, что он чуть подрагивает. Но это было невозможно, штурмбанфюрер сам проверял крепления.
Выяснять, в чем дело, было некогда.
Он на секунду замешкался, выбирая, кого пристрелить первым. И вдруг особь по фамилии Остапенко, сидевшая прямо перед ним, встала на ноги.
Вроде ничего особенного, но прежде такого не случалось. Это было инициативное действие – настолько невероятное, что Месснер удивился бы меньше, возникни перед ним рассвирепевший ангел с крыльями. Как посмело это придурковатое двуногое подняться без спроса?
Двуногое вдруг вскинуло руки, сорвало брус и что было мочи врезало Месснеру по голове.
Фуражка полетела на пол. Удар был не слишком силен, и Месснер больше оторопел, чем пострадал физически. Он даже опустил пистолет, хотя и не выронил его; он отступил назад и хватал воздух ртом.
Второе двуногое тоже вскочило на ноги.
– Давай мне! – пронзительно закричало оно, обнаруживая способность к членораздельной речи.
Штурмбанфюрер вскинул оружие вновь, но брус уже находился в руках Красавчика. Соломон был не сильнее Сережки, но зато хладнокровнее. Брус опустился на руку Месснера, и пистолет выпал; второй удар по голове оказался значительно крепче первого. Месснер упал, в глазах у него потемнело, к горлу подступила тошнота.
Он попытался дотянуться до пистолета, но последний удар оборвал его связь с действительностью. Хрустнула кость, ручьем хлынула кровь, марая белоснежный воротничок.
– Гад! Гад! – только и знал, что выкрикивать, Сережка. Он исступленно топтался на месте и был вне себя, тогда как Соломон выказывал поразительную собранность и деловитость.
– Не стой столбом, кретин! Ищи ключи!
Плохо соображая своим умом, но исправно повинуясь командам товарища, Остапенко присел на корточки, запустил руки в карманы Месснера.
– Здесь ничего нет, – пробормотал он в отчаянии.
Глаза Красавчика сузились.
– Он, сволочь, не собирался нас расковывать... можно было и догадаться. Давай сюда пистолет.
Сережка автоматически, как в полусне, протянул ему оружие.
– Натяни мне цепь! И отвернись... Хотя нет, не трогай ничего, я сам отойду и натяну...
Остапенко повиновался. Соломон нажимал на спуск, но ничего не происходило. Красавчик выругался.
– Тут же предохранитель! Как он снимается, холера?
Сережка беспомощно смотрел на него и не знал, что делать. Соломон, впрочем, и не надеялся на него. Он вертел пистолет в руках и был осторожен, стараясь не направлять ствол ни на себя, ни на товарища. Вертел, пока не раздался приглушенный щелчок.
– Отверни рожу!..
Прогремел выстрел, и Красавчик взвыл. Цепь разлетелась надвое, и у Сережки зазвенело в ушах. Соломон страдальчески морщился от боли в ноге.
– Порядок! Давай теперь ты... натяни ее!
Остапенко отошел, сколько позволяла его цепь. Соломон приставил пистолет к среднему звену и выстрелил вновь.
– А теперь деру отсюда!
– Мы же голые, ты забыл?
– Да и черт с ним...
Красавчик замялся, оценивающе глядя на распростертого Месснера.
– Возьмем его шмотки...
Давно привыкший ко всему, Сережка Остапенко вдруг испытал отвращение. Ему ни разу не было противно – ни в лагере, ни в лазаретах, хотя поводов был избыток, а теперь вдруг стало.
Соломон принюхался:
– Чего ты ждешь? Он даже не обделался...
Красавчик с трудом перевернул тело Месснера на спину, начал расстегивать черный китель.
– Помогай, стягивай портки... Брезгуешь – я надену исподнее, мне плевать.
Вскоре они кое-как оделись; все болталось на них, как на вешалке, и выглядело бы уморительно, если бы не лица ребят. Красавчик оделся в рубашку и белье, Сережка напялил прямо на голое тело брюки и китель.
Фуражку не тронули.
Они осторожно приоткрыли дверь, выглянули, на цыпочках вышли. Оборванные цепи предательски позвякивали и волочились по полу. Вокруг стояла тишина. Соломон поднял пистолет:
– Если кто сунется, я выстрелю, а ты хоронись...
Но он не выстрелил, потому что противогазная харя нарисовалась внезапно, и оба растерялись. В следующее мгновение обоих уже крепко держали сильные руки.
«Ну, вот и все», – промелькнуло в голове у Сережки.
Красавчик извивался, пытаясь укусить прорезиненное чудовище за руку.
– Тихо, звереныш, – ответила маска на чистом русском языке. И на всякий случай добавила: – Ферштейн?
Ребята обмякли. Они прекратили сопротивляться и дали вывести себя на верхнюю палубу, где от яркого дневного света стало больно глазам, а свежий воздух вынудил задохнуться и вызвал кашель. Кричали чайки, вернувшиеся, едва лишь закончилась бомбардировка.
Палуба была заполнена советскими моряками; немецкий экипаж, сгрудившись в унылое стадо, маячил в отдалении. На небольшом удалении от эсминца монолитом стояла черная подводная лодка.
Часть шестая
ПОРАЖЕНИЕ
Глава девятнадцатая
ПОД ВОДОЙ ВСЕ КОШКИ СЕРЫ
Какое-то время Посейдон передвигался, не таясь. Он ничем не отличался от редких гостей острова, встречавшихся ему на пути. Час был поздний, и основная масса паломников и туристов находилась в гостинице – за исключением немецкой группы. Она отсутствовала почти в полном составе, а у капитана Каретникова создалось впечатление, что и вся целиком. У него не было времени выяснить это доподлинно, и он предпочел, как учили, исходить из худшего.
Он шел быстро, а когда ему перестали встречаться люди, перешел на бег. Вскоре он сошел с аллеи и дальше пробирался лесом и кустарником. Когда Каретников достиг косы, он почувствовал себя немного неуютно: виден, как на ладони. Луны не было, но при наличии приборов ночного видения она ни к чему. На границе леса он чуть задержался, озираясь в поиске своих, и ему сразу ответила ночная птица: условный сигнал. Так притворяться умел только Флинт.
Посейдон метнулся обратно в заросли и через несколько секунд даже не услышал и не увидел, а ощутил близкое движение. Рука скользнула в карман, пальцы нащупали рукоятку пистолета.
– Это я, шеф, – шепнула темнота.
– Где остальные? – спросил Посейдон, не теряя времени.
– Здесь, ждут вас.
– Что произошло с Чайкой?
– Она что-то забыла в номере, – в голосе Флинта проступила тревога. – Велела нам отправляться и сказала, что вернется через минуту. Что с ней?
– Реально – не знаю. Я нашел ее раненой, причем раненой тяжело. Стреляли один раз. Я вызвал врачей.
Флинт тихо выматерился.
– Нужно было ее дождаться...
– Вы все сделали правильно. Гости были?
– Пока нет.
– И не должны. Они пойдут морем.
– Но откуда? – недоуменно спросил Флинт.
– Я уверен, что все их снаряжение на катере... который доставил сюда следственную бригаду.
Тот помотал головой:
– Не может быть. Контрабанда?
– Хуже. Наш разудалый сыскарь – один из них...
– Понятно. То есть – нет. Как вы узнали?
– Мы провели легкий спарринг. Достаточно заглянуть в глаза противнику, чтобы понять, чем он дышит...
– Это верно... но все равно не верится...
– Тебе и не нужно верить – слушай и мотай на ус.
– Да я что, я не спорю, – пробасил Флинт.
Каретников приставил ладонь ко рту и дважды крикнул птичьим криком, созывая остальных. Не прошло и полминуты, как готовые к бою «Сирены» окружили его плотным кольцом.
– Демаскируем схрон, – коротко инструктировал их Каретников. – Торпеда и Флинт, остаетесь на берегу, обеспечиваете поддержку и прикрытие.
– Есть, – отозвались те.
– Магеллан, Нельсон – выдвигаетесь к катеру. Переодеться, на катер заходить с суши. Действовать по обстановке.
– Вас поняли.
– Мы с Миной идем к эсминцу. Если позволит ситуация – с заходом на судно поддержки. Если не возвращаемся и не выходим на связь – действовать по обстановке. Разрешаю стрелять на поражение. Возможны варианты, но крайне желательно, чтобы к утру мы вновь сделались мирными художниками. Для непосвященных. Нам ни к чему паника. Конечно, это зависит от выполнения задачи. Вопросы?
– В чем все же заключается задача? – осведомился Магеллан.
– Если бы я знал, – вздохнул Посейдон.
По степени видимости подводный мир мало чем отличался от надводного, но это не имело никакого значения. В кромешной холодной тьме «Сирены» чувствовали себя не менее уверенно, чем на бульваре в погожий день. Посейдону, которому приходилось бывать в арктических льдах и норвежских фьордах, окрестности острова Коневец казались плавательным бассейном – той его частью, что в просторечии именуется лягушатником, лужей для мелюзги.
Так что холодной среду привычного обитания пловцов можно было назвать лишь с оговорками, воды Ладоги не шли ни в какое сравнение с водами Баренцева и Охотского морей. И разного рода подводных гадов, которыми изобиловали моря южные, можно было не опасаться – разве что гадов иного рода, наделенных интеллектом.
Посейдон и Мина разрезали водную толщу подобно стрелам. Они двигались с поразительной слаженностью – шли нога в ногу, как на параде, если уместно такое сравнение под водой. Со стороны могло показаться, будто они не прилагают ни малейших усилий к продвижению и вяло пошевеливают ластами, вытянув руки по швам. Но факт оставался фактом: они стремительно приближались к затонувшему кораблю.
Гидрокостюмы их имели особенность, обычно не свойственную этой одежде: «Сиренам» предстояло соприкоснуться с источником радиоактивного излучения, а потому приходилось защищать хотя бы жизненно важные органы. Костюмы были просвинцованы, а только пловцу понятно, что означает под водой лишний килограмм груза. Но Посейдон и Мина двигались как ни в чем не бывало, хотя помимо свинца были отягощены аквалангами и оружием для подводной стрельбы, а также готовились к захвату груза, каким бы тот ни был, – на случай, если целью противника являлся захват неких материалов.
Торпеда, оставшийся на берегу, передал на корабль поддержки распоряжение ждать возможных гостей, после чего включил систему радиоподавления, дабы затруднить деятельность противника. «Сирен» это не затрагивало, они могли общаться на своей частоте.
Пловцы умели отслеживать под водой как время, так и расстояние. Выросшая перед ними черная стена не стала неожиданностью; оба резко затормозили. Визуализации среды помогали особые оптические устройства, исключавшие, в отличие от простых фонарей, возможность демаскировки.
Посейдон подал напарнику знак: разделяемся. Мальчики направо, девочки налево. Мина нисколько не возражал против роли девочки и устремился в обход железной туши. А Посейдон замер, весь обратившись – в слух? Слушать под водой особенно нечего. Каретников использовал сразу все положенные репрезентативные системы – визуальную, слуховую, кинетикостатическую...
Плюс интуицию. Он чувствовал, что они не одни с Миной.
Либо внутри корабля, либо рядом находился кто-то еще.
Интересно, и сколько же там всего человек?
Подслушивающие устройства, расставленные в гостинице, показывали, что можно ручаться за двоих: Кирхенау и Кнопфа. Кирхенау спал беспробудным сном, Кнопф что-то набивал на своем ноутбуке. Перед уходом из гостиницы «Сирены» сняли последние данные. Об остальных сведений не было. Невозможно, чтобы все восемь человек караулили «Сирен» здесь, близ «Хюгенау». Кто-то должен остаться на берегу, как остался Торпеда. И катер, на котором прибыл Гладилин, тоже требует надзора...
Может быть, он ошибся? Мало ли кто как ведет себя в поединке, и у кого какие глаза... Даже кажущаяся иррациональность ничего не доказывает. Конечно, капитана в любом случае пришлось бы обездвижить, но был ли он врагом?
Что, если немцы все же располагали схроном на острове и не нуждались в доставке снаряжения извне? Да, остров и обитель прочесали опытные люди, но и на старуху бывает проруха.
...Черт его знает, как он ухитрился засечь стремительный пенный след, оставляемый пулей. Скорее, Каретников сначала уклонился, а уже потом осознал картинку – миг, запечатленный цепким сознанием. Он вскинул оружие и выстрелил в темноту. В секторе, что выхватывался прибором видения, никого не было. Посейдон оттолкнулся от корпуса «Хюгенау» и рванулся вперед. Мгновенно перед ним замаячила фигура аквалангиста. Тот был вооружен короткоствольным автоматом, но попытки выстрелить не сделал: вскинул руки.
Это было бесполезно. Пленники в такой ситуации, когда даже не определен круг задач, – излишняя роскошь. Каретников выстрелил, и вода вокруг его визави мгновенно почернела – куда больше, казалось бы... Аквалангист дернулся, обмяк, выпустил оружие и медленно пошел ко дну. Посейдон успел его подхватить.
Сдернул маску, всмотрелся в белый овал лица: Норберт Ланг.
Обыскивать тело было некогда, да Каретников и не надеялся найти что-то ценное. При Ланге – помимо подобающей экипировки – не оказалось ничего, а если на эсминце и было нечто ценное, за чем шла охота, то уж вряд ли это поместится в карман, хотя...
Всегда будет время вернуться к трупу, если Каретников уцелеет.
Он отпустил мертвеца, и тот плавно опустился в придонную мглу.
Держа свой автомат наготове, Посейдон поплыл вокруг эсминца. И буквально через какую-то пару минут стал свидетелем безмолвного поединка.
Бились двое: две гибкие фигуры в одинаковых гидрокостюмах. Оба борца были при пистолетах, но извлечь их явно не успели, застав друг друга врасплох. Тускло поблескивали клинки; тот из двоих, что был немного выше, постепенно одолевал противника и пытался перекрыть ему кислород.
Неожиданная сцена, хотя Посейдон был готов и к такому обороту событий.
Он быстро принял решение обнаружить свое присутствие. Послал сигнал Мине и вырос перед дерущимися, как чертик из колбы. Неизвестные мгновенно разжали объятия, забыли о поединке и замерли перед Каретниковым, перебирая ногами. Они не сводили глаз с направленного на них ствола. Ствол неспешно, еле заметно смещался из стороны в сторону – не зная, на какой из мишеней остановиться.
Посейдон был далек от мысли, что двое подельников что-то не поделили. Это не уголовная шпана, перессорившаяся из-за кошелька. Перед ним – профессионалы.
Он понял, что стал свидетелем противостояния двух сил, и в полном смысле врагом для себя мог, видимо, считать лишь кого-то одного. Второй же мог стать ему пусть временным, но союзником.
Да только кто же из двоих?
Даже без масок они не дали бы ему возможности сделать правильный выбор.
Пятьдесят на пятьдесят.
Любые их действия следовало подвергать сомнению; откровенное дружелюбие и готовность пойти на контакт могли оказаться обманным ходом.
Маски подняли руки.
Левый не заметил ножа, поднятого правым. Нож был повернут лезвием вниз, как будто пловец собирался уронить его из расчета вонзить в далекий песок.
Каретников знаком велел обоим переместиться к корпусу эсминца, прижаться спиной. У него при себе имелась лишь пара наручников, и он был рад, что не израсходовал их на первую жертву. Если сковать этих двоих, предварительно разоружив, то они никуда не денутся.
Аквалангисты начали неспешно разворачиваться, и клинок правого вонзился левому в сердце.
Правый, не обращая внимания на Посейдона, подхватил противника и дернул маску к себе. Потом развернул труп лицом к Каретникову.
Эрих фон Кирстов.
Оставшийся в живых напряженно смотрел на Посейдона. Понять, кто это, было невозможно. Аквалангист и сам видел, что командир «Сирен» пребывает в затруднении, так что желательно раскрыть инкогнито.
Каретников пребывал не только в затруднении, но и в ярости. Задержанный проявил инициативу, которую присутствие Посейдона, казалось бы, исключало. Только Посейдон мог решать, кому жить, а кому умереть.
Фон Кирстов убит в доказательство.
Но в доказательство чего?
Лояльности убийцы?
Оперативной надобности в ликвидации Посейдон не видел.
Аквалангист выпустил труп из рук и мотнул головой в сторону «Хюгенау». Посейдон кивнул: двигай, дескать, но без лишних телодвижений. Тот послушно поплыл и вскоре остановился, коснувшись ладонью железа. Оглянулся на Каретникова, вторично дернул головой, приглашая смотреть. Тот приблизился. Аквалангист принялся медленно чертить пальцем невидимые буквы. Можно было прочертить их и в воде, но на корпусе казалось удобнее. Буквы одна за другой отпечатывались в сознании Каретникова. Пловец писал по-русски.
Начертанное сложилось в имя: Клаус Ваффензее.
Увидев, что Посейдон прочел, Ваффензее кивнул и написал лаконичную фразу: «Браун рядом».
Посейдон ничем не отреагировал, дожидаясь дальнейшего.
Вычертилось слово: «Враг».
Аквалангист ткнул себя пальцем в грудь и написал: «BND».
BND! Разведка ФРГ.
Каретников задумался. Если это правда, то многое объяснялось. Немецкая группа и впрямь разнородна: две противоборствующие стороны плюс нейтралы. Маркс, скорее всего, принадлежал к числу последних, профессионал не засветился бы с «жучком». И Браун ликвидировал его во избежание шума, потому что уже расставленные «жучки» были лучше чего-то нового, на что пошла бы русская сторона в случае раскрытия. Или не русская, а противодействующая немецкая.
Ваффензее сделал нетерпеливый жест, означавший, что Браун может объявиться в любую секунду. Посейдон принял решение: оставить аквалангиста в живых. Назвавшись сотрудником BND, тот осложнил ситуацию. Немецких разведчиков вряд ли можно считать друзьями, однако те, против кого они выступают, скорее всего, еще хуже, так что есть смысл объединиться. Но тот ли он, за кого себя выдает?
Посейдон, продолжая одной рукой удерживать автомат, свободной достал наручники. Ваффензее без проволочек вытянул руки, браслеты защелкнулись. Немец укоризненно покачал головой; Каретников не стал это комментировать. Он указал стволом направление следования; Ваффензее поплыл первым.
Они огибали эсминец с носа, когда им навстречу вырулил Дитер Браун. Он двигался очень быстро, прижимая к себе небольшой металлический ящик. Столкновение с подконвойным и конвоиром явилось для него полной неожиданностью. Он резко выпрямился и ушел вверх. Ваффензее вскинул руки, демонстрируя наручники.
При виде ноши Посейдон переместил Ваффензее на второй план. Чем бы ни был груз, он представлял первостепенную важность. Весьма вероятно, что весь сыр-бор был поднят именно из-за него. Странно, конечно, что из-за такой ерунды затеяли поднимать весь эсминец. Как будто нельзя было взять просто так! Те же «Сирены» и взяли бы, если на то пошло...
Но времени на обдумывание этой странности не было, Каретников вскинул автомат. Он решил не заморачиваться с дальнейшим выбором – в конце концов, на территории России орудовали иноземцы, ничуть не стесняясь в средствах; ему же по штату не положено много рассуждать. Он был обязан пресечь эту деятельность, а потому выпустил в Брауна целую очередь.
Мимо!
Браун уходил, Посейдон выругался. Он изготовился к преследованию, но пули, посланные подоспевшим с тыла Миной, пробили немцу поясницу, и тот приостановил подъем.
Тогда Каретников выпустил вторую порцию свинца, и новая очередь прошила Дитера снизу вверх, аккуратно по оси, едва не разорвав надвое. Крови на этот раз стало куда больше, чем натекло из Ланга и фон Кирстова вместе взятых. Посейдон непроизвольно уклонился от мутного облака вроде того, что выбрасывает кальмар. Ваффензее было труднее сделать то же самое, и его окутала кровавая взвесь. Каретникову не было до этого дела, все свое внимание он сосредоточил на ящике. Тот упал прямо ему в руки.
Мина деловито плыл к Ваффензее, принимая обязанность конвоира на себя. Тот держался спокойно – что, впрочем, было не удивительно.
Каретников включил переговорное устройство.
– Докладывай.
– Все чисто, командир. Ни души.
– Ты проверил детектором?
– Так точно. Со своей стороны. Закладок нет.
Детекторы, имевшиеся у них при себе, позволяли обнаружить разного рода взрывные устройства.
– Следы проникновения?
– Не найдено.
– Культурная нация – пришли, как положено. Рулим домой.
– А это что за фрукт, командир?
– Назвался Клаусом Ваффензее, сотрудником BND. На суше выясним...
– Торпеда с Флинтом не выходили на связь?
– Нет. Магеллан и Нельсон – тоже.
Посейдон промолчал. Ему было немного тревожно. Самому выходить на связь не хотелось – это может демаскировать оставшихся на берегу.
У Брауна, фон Кирстова и Ланга еще мог остаться пособник на берегу. Вполне вероятно, что у Ваффензее – тоже. «Сирены» могли, не разобравшись, вступить в боевое столкновение с германской спецслужбой, что простительно, но в данном случае не слишком желательно.
...Мине и Посейдону показалось, что обратный путь занял у них больше времени, хотя пленник плыл хорошо, а позаимствованный у Брауна ящик никак нельзя было счесть обременительным грузом.
Когда они выбрались на сушу, немец остановился у кромки воды и выжидающе уставился на «Сирен», намекая на желание вернуть себе нормальный облик. Расковывать его не стали, но от маски избавили сразу.
Под нею и в самом деле оказался Клаус Ваффензее.
– Вы могли все сорвать, они чуть не ушли, – произнес он сердито на хорошем русском языке.
Каретников усмехнулся:
– Ну, вы и наглец, герр Ваффензее. Нет бы представиться, объединить усилия – вы предпочли действовать втихаря. Скажите еще спасибо, что живы остались.
– У меня не было полномочий откровенничать, – огрызнулся немец. – Впрочем, спасибо... Но мы теряем время, надо ее обезвредить. Если сразу снесем голову – тем лучше. Это не женщина, а гюрза...
– Вы о ком говорите?
– Вы и этого не знаете? О Хельге, конечно... Она должна ждать на катере.
– Мы послали туда людей, – вмешался Мина.
– Да? – Лицо Ваффензее помрачнело. – Мне их жаль...
Глава двадцатая
СЕВЕРНАЯ АМАЗОНКА
Торпеда и Флинт объявились, как и положено, беззвучно. Не дожидаясь приказа, они присоединились к Мине и держали зарубежного партнера на прицеле.
Посейдон лихорадочно прикидывал, как быть дальше.
– Когда вы в последний раз с ними связывались?
– Сорок минут назад. Нас кто-то глушит, шеф. Ума не приложу, как они сориентировались. С вами та же история.
– Понятно. Никто не переодевается – идем как есть. Нельсон и Торпеда, вы сменяете нас, добираетесь до катера вплавь, мы идем берегом.
«Сирены» кивнули.
– Что делать с этим?
Посейдон потер переносицу.
– На острове есть ваши люди? – спросил он подозрительно.
– Я работаю в паре с Ирмой Золлингер. Но боюсь, что с Хельгой она в одиночку не справится.
– Почему же в одиночку? Там все-таки двое наших бойцов.
– Это ясно... Но если Хельга задействовала фактор внезапности, а это она умеет, то очень возможно, что никаких ваших бойцов там уже нет...
Каретников поджал губы.
– Вы не знаете, о ком говорите. Эти ребята стоят десятерых каждый. Хорошо, скоро увидим...
Он собрался отдать приказ о выступлении, но в последний момент задал еще один вопрос:
– Что в ящике, герр Ваффензее? Я думаю, для всех будет лучше знать, с чем мы имеем дело.
Тот покачал головой:
– Простите, но этого я не могу вам сказать. Если ваше начальство не потрудилось вас проинформировать, то мое и подавно будет крайне недовольно моей болтливостью. Разбирайтесь сами, раз уж успели первыми. Предупреждаю только об одном: не нужно его открывать. Это настолько опасно, что мне трудно подобрать слова.
Посейдон какое-то время оценивающе смотрел на него. Потом кивнул:
– Принято к сведению. Мина, мы отправляемся. А вы, ребята, свяжите господину разведчику ноги и уложите его поудобнее – все же коллега. И догоняйте нас по воде. Простите нас, герр Ваффензее. У нас нет выбора. Договор о сотрудничестве, насколько я понимаю, никем не подписан.
Ваффензее не стал артачиться.
– Вы совершенно правы, на вашем месте я поступил бы так же. Остается надеяться, что вы обернетесь быстро. Ночь довольно прохладная.
– Вас угостят спиртом, не унывайте.
Тот возразил:
– Благодарю, я воздержусь. Выпьем после, когда все закончится...
– Дело ваше.
Каретников кивнул Торпеде и Флинту; те взяли немца под локти и повели в лес. Посейдон и Мина тоже скрылись среди деревьев, но двинулись в противоположном направлении. В ночном лесу они перемещались почти с той же скоростью, что и на открытой местности.
– Время? – спросил на бегу Посейдон.
– Два сорок две, – отозвался Мина.
– Как дойдем – снова рассредоточимся. Никого не ждем, сразу идем на катер. Стреляем по ногам.
– Может, побережетесь, шеф? Вы с грузом – мало ли что...
– Поберегусь, не бойся. Я заговоренный...
Мина крепко сомневался в последнем, но спорить, конечно, не стал.
И здесь марш-бросок выглядел жалким подобием того, что им случалось выполнять в тренировочных лагерях; примитивная пробежка, не сбивающая дыхания ни на один цикл. Среда вообще перестала существовать для них в дифференцированном виде, и все было едино – что вода, что суша; пожалуй, под водой было даже несколько легче по причине единообразия окружения. Неизвестно, как это получалось, но бег Посейдона и Мины почти не сопровождался какими-либо звуками – лишь изредка хрустнет сучок или прошелестит отведенная ветка, но и это звучало настолько естественно и невинно, что вполне могло быть расценено как фоновые природные шумы.
Не было слышно и других звуков – ни криков, ни стрельбы; ничто не горело, не пахло дымом, и это особенно настораживало, так как оба сознавали: ситуация далека от идеальной. Даже если не было боевого столкновения, враг до конца не обезврежен. А содержимое ящика наводило Каретникова на все более неприятные подозрения.
Там не взрывчатка – слишком мал, да и смешно считать взрывчатку такой уж страшной угрозой. И не документы, они не кусаются – во всяком случае, не в буквальном смысле. Там что-то другое.
Химия. Или еще что. Думать об этом не хотелось.
Катер притаился у причала черной глыбой; рубка была освещена, но вполсилы. Других признаков жизни не наблюдалось, да и этот еще ничего не означал.
Посейдон рассматривал объект в специальный бинокль; Мина пытался наладить связь.
– Свет горит, но никакого движения, – пробормотал командир.
– Если бы все выключили, это смотрелось бы подозрительнее, – отозвался Мина.
– Да, конечно...
Выждав еще немного, Посейдон принял решение войти на катер.
– Мина, теперь можно не таиться. Стреляем без колебаний. Ребята уже должны подтянуться – странно, что их нет.
Мина взглянул на часы: действительно, Флинту и Торпеде пора было объявиться.
– Идем крайне осторожно. Смотри за растяжками, с них станется все тут заминировать.
– Смысл?
Каретников пожал плечами:
– А во всем остальном? Может быть, они располагают другими средствами для отхода. Или рассчитывают сохранить лицо и убраться, как прибыли, под видом невинных туристов. Но это им уже никак не удастся.
Больше говорить было не о чем, и оба выскочили на пустынный берег. Еще пара секунд, и оба уже стояли на палубе, заранее пригибаясь. Мина снова бросился влево, Посейдон – направо. Сделав круг, они встретились. Посейдон указал на дверь, Мина кивнул. Посейдон выбросил один палец, второй, третий. Ударил ногой в дверь, та распахнулась настежь, и Мина вкатился внутрь, готовый залить свинцом всю начинку.
В последний миг он сдержался, и так же сдержался Посейдон, нарисовавшийся в дверном проеме.
Нельсон лежал на полу, не подавая признаков жизни. На месте правого глаза зияла дыра, казавшаяся совсем небольшой в сравнении с его могучей медвежьей фигурой. Было просто невероятно, что этот мелкий дефект выбил жизнь из такого здоровяка. В случившемся усматривалась чудовищная ирония, если принять во внимание кличку спецназовца.
Магеллан, поджав губы, смотрел, не отрываясь, на Ирму Золлингер, державшую его под прицелом. На вошедших «Сирен» он даже не взглянул.
Судя по всему, сидели они довольно давно. Ирма расположилась со всеми удобствами, выказывая готовность в любую секунду отправить Магеллана следом за Нельсоном. Какими ухищрениями ей удалось провести двух асов, профессионалов экстра-класса, оставалось неясным. Разбираться в этом было некогда.
– Оружие на пол, – спокойно произнесла Ирма.
– Что-то в этом роде я и подозревал, – отозвался Посейдон. – Вы двойной агент, не так ли? Кое-кто будет разочарован.
На лице Ирмы проступило непонимание, но лишь ненадолго.
– Оружие на пол, – повторила та.
Посейдон и Мина подчинились. Они медленно положили автоматы и столь же медленно выпрямились, держа руки поднятыми.
– К стене. – Золлингер мотнула челкой в сторону Магеллана.
– Как скажете.
Оба присоединились к товарищу, который чуть подвинулся, и Золлингер мгновенно напряглась.
– Она из рукава выстрелила, – быстро произнес Магеллан.
Он предупреждал коллег об опасности. Это обошлось ему в пулю, которую Ирма выпустила из пистолета с глушителем. Она уже не нуждалась в тайниках, хотя в воображении Каретникова мгновенно возникла Василиса Премудрая, сыпавшая из рукавов лебедями и целыми озерами с островами... на островах проводились спецоперации, а с озерных глубин поднимали радиоактивные эсминцы...
Пуля впилась в бедро, и лицо Магеллана на миг исказилось болезненной гримасой. Он не проронил ни звука.
– Вы подписали себе приговор, – произнес Каретников. – Госпожа Лагенербе, я полагаю, где-то неподалеку?
В глазах Ирмы промелькнуло удивление, но ответила она с тем же спокойствием:
– Госпожа Лагенербе кормит рыб.
Теперь удивился Каретников и тоже постарался ничем это не обнаружить. Ирма Золлингер не особенно походила на сотрудницу BND, но если она вела двойную игру, то оно и естественно. Проблеск недоумения в ее глазах – вот что странно. Это возможно лишь в случае, если... если это не бравада, конечно. Только Ирма совсем не похожа на недоумка, склонного бравировать в подобной ситуации.
Мина пошевелился, и ствол немедленно повернулся в его сторону.
– Сиди тихо, – процедил Посейдон сквозь зубы.
Он оценивал расстояние – слишком далеко. Не допрыгнуть. Если только помощь придет со стороны... Надо отдать Ирме должное: она расположила Магеллана и мертвого Нельсона так умело, что с палубы, если заглянуть в рубку, никого не было видно. В противном случае они с Миной никак не сунулись бы внутрь без зачистки.
– И долго мы будем сидеть? – осведомился Посейдон.
– Пока не подтянутся ваши люди, – последовал ответ.
Мысли Золлингер совпадали с мыслями командира.
– Здраво, – заметил он. – Когда они подтянутся, вам станет не до того, чтобы рассиживаться.
– Заткнитесь, иначе следующая пуля – ваша. Я выстрелю не в ногу.
– Хорошо-хорошо, – послушно сказал Посейдон.
Он обратился в слух, время от времени скашивая глаза на ногу Магеллана. Тот старался зажать рану ладонью, однако выходило у него не слишком хорошо. Пока Магеллан еще держался молодцом, но лицо уже сильно побледнело. Кровь, правда, не фонтанировала, и можно было надеяться, что крупные сосуды не задеты. Хотя кость, судя по локализации раны, наверняка пострадала.
Заговорил Мина:
– Его надо перевязать, хозяйка. Хотя бы наложить жгут.
– Не шевелитесь.
Голос Ирмы Золлингер был голосом робота. Ей бы в концлагерь, в надсмотрщицы. От былой жизнерадостной и симпатичной немки, увы, не осталось и следа.
...Снаружи плеснула вода. Посейдон напрягся, и то же сделали остальные. Сам по себе плеск не был чем-то необычным, но присутствующие хорошо разбирались в оттенках. Звук, последовавший за плеском, был едва различим, но в его источнике тоже не оставалось сомнений.
– Берегись! – крикнул Магеллан.
Он не хотел, чтобы за него это сделал кто-то другой. В нем и так сидит пуля – если будет новая, то пусть достается ему же. Пуля, наверное, ему бы и досталась, поскольку лицо Золлингер исказилось от ярости, но личность вошедшего в рубку, похоже, заставила ее отказаться от первоначального порыва. Что до Магеллана, то он увидел, что геройствовал напрасно.
– Доброй ночи, – дружелюбно приветствовал собравшихся Клаус Ваффензее. – Но вообще-то уже утро. Правда, я никогда не мог понять, когда оно начинается, а ночь сходит на нет. На сей счет ведь нет единого мнения – верно я говорю, господа офицеры?
Он пережил шок и теперь трепался, нес какую-то околесицу.
Наручников на Клаусе не было. Он был безоружен, но вел себя очень уверенно.
Посейдон мысленно проклял себя, переводя глаза с него на Ирму и обратно.
– Ты вовремя, – произнесла Золлингер по-немецки.
– Прости, меня задержали дела... Дитер погиб, но Кирстов отправился следом...
– Хельга будет рада с ним встретиться.
Ваффензее осклабился в улыбке.
– Видите, коллега, – обратился он к Посейдону, – как легко ошибиться в темноте. Но вообще-то говоря, русские крайне доверчивы, что бы о них ни говорили. Я всегда считал сказками эти домыслы о вашей врожденной паранойе.
– Сука, – сказал Мина.
– От суки слышу – Клаус отвесил ему поклон. – Это не оскорбление. Это констатация факта – ведь вы приняли меня за своего. За коллегу. Ну, немного ошиблись – вашим коллегой был герр фон Кирстов. Но не горюйте, он мало чем отличался от меня... и от вас. А вот его помощница госпожа Лагенербе значительно уступала госпоже Золлингер. Но не будем отвлекаться. Давайте сюда ваш ящик.
– Что с моими людьми? – спросил Каретников.
– Они были искренне удивлены. Они хорошие бойцы. Не надо только было расковывать меня, чтобы заново пристегнуть к сосновому стволу... мне вовсе не хотелось простоять с ним в обнимку всю ночь. Я искренний сторонник Гринписа, но не настолько влюблен в растительность...
– Что с ними? – настойчиво повторил Посейдон.
– За бритого дебила не поручусь, а второй погнался за мной, но заблудился, я думаю... Хватит болтать языком. – Ваффензее шагнул вперед и требовательно протянул руку – Давайте сюда контейнер.
Каретников взялся за лямки плотно набитого рюкзака.
– Медленно и спокойно, – напомнила Ирма Золлингер. – Снимите рюкзак и подтолкните к нам.
– Как вам будет угодно.
Посейдон неторопливо освободился от поклажи, подтолкнул ногой. Прикрываемый Ирмой, Клаус Ваффензее нагнулся, быстро ознакомился с содержимым. Увиденное привело его в хорошее расположение духа.
– Полагаю, наши дела закончены, и нам нет смысла задерживаться. Как поживает наш господин криминалист?
– На дне, – лаконично ответила Ирма.
В ее репликах было нечто машинное – до откровенной тупости. Она напоминала безмозглый механизм, умеющий лишь убивать, без разбора.
Ситуация близилась к развязке. Мина и Посейдон в сотый раз прикидывали расстояние, которое оставалось слишком большим. Если прыгать, то сразу вдвоем; кто-то примет на себя выстрел, но другой разберется с этими уродами. Уроды же тем временем позволили себе слегка расслабиться, отдавшись ликованию. Поэтому они не услышали Флинта, который аккуратно взобрался на катер, перевалился на палубу и черной тенью подкрадывался к рубке.
Глава двадцать первая
ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ
Покинув здание, Гладилин остановился в замешательстве. До сих пор он действовал больше по наитию, а наитие его не отличалось изобретательностью и разнообразием. Сам того не зная, он действовал вполне в духе Ирмы Золлингер: намеревался мочить и гасить всех, кто подвернется под руку и окажется лишним. Потому что у капитана, что называется, потекли мозги. И он в известном смысле сделался невменяемым.
Такое случается с людьми, которым приходится подолгу что-то сдерживать или скрывать. Гладилин рос и воспитывался в строгости, был сызмалу приучен к дисциплине; в школе был тихим хорошистом. Его усиленно муштровали в смысле физической подготовки – и дома, и в армии, и в школе милиции. Он превратился в сравнительно благополучного карьериста и не утратил амбиций, будучи направлен служить в дыру, он только озлился, хотя и не показывал этого. Временами его посещали дикие, причудливые сны, в которых он давал волю буйству и, как заведенный, расстреливал толпы людей, одного за другим. Перегородка, отделявшая грезы от яви, постепенно истончалась. Предательство способствовало этому, ибо было, как-никак, злодейством, а он давно подсознательно располагался к злодейству.
Теперь, когда разоблачение этого предательства стало делом времени, перегородка рухнула. Даже если измена каким-то чудом не вскроется, его конфликт со спецслужбами положит конец его карьере – да и свободе наверняка, а там и жизни. Но измена вскроется обязательно; те же спецслужбы наверняка заинтересуются его странными оперативными действиями на острове.
Стоя истуканом, капитан затравленно озирался по сторонам. Спецназ ушел в бой, и работодателям Гладилина теперь не до него. Чутье подсказывало капитану, что немцам несдобровать. Но даже если они одержат верх, ему придется бежать. Он не справился с заданием, все запорол; его сотрут в порошок. Отныне он сам за себя. Сейчас для него главное – выбраться с острова, но никаких средств помимо катера, на котором он прибыл, у него не было. А катер непременно захватит либо та, либо другая сторона. Средства же, имевшиеся в распоряжении монахов, не шли с катером ни в какое сравнение. Лодку догонят, даже моторную...
Он выругался: о чем вообще разговор? На катере он тоже не уйдет. Все будет оцеплено, по нему могут открыть огонь... Лучше всего в такой ситуации захватить самолет и угнать к каким-нибудь ваххабитам... но самолетов на острове не было.
Перегоревший мозг лихорадочно трудился в поисках выхода. Безумные идеи одна за другой овладевали фантазией Гладилина; они поочередно завораживали его и быстро отбрасывались, чтобы смениться не менее сумасбродными. Стоять без дела было невыносимо, прятаться – бессмысленно и в перспективе опасно.
Вскоре он утвердился в мысли сунуться к пеклу поближе. Не стоит прятать голову в песок. Лучше быть, как говорится, «в теме» и попытаться извлечь из ситуации выгоду. Незнание обстановки лишь осложнит его положение.
Крадучись, как кошка, Гладилин двинулся в направлении пирса. По пути ему пришел на ум совершенно невозможный план. Настолько ужасный, что затея могла выгореть.
Клаус Ваффензее стоял и взвешивал ящичек на ладони. Немца было хорошо видно с берега в освещенном окне рубки, и с берега за ним внимательно наблюдали.
– Убей их, – сказал он Ирме, повернулся и занес ногу, чтобы шагнуть на палубу.
В следующее мгновение сильнейший удар в лицо опрокинул его на спину, ящик вывалился из рук. Ваффензее удержался бы на ногах, но споткнулся о труп Нельсона и упал. Мокрый Флинт, поблескивая гидрокостюмом, рванулся в рубку, и пистолет Ирмы Золлингер мгновенно уставился на него.
Пауза заняла не больше секунды, но для Мины этого было достаточно.
Обманчиво грузное тело взмыло в воздух и нанесло удар обеими ногами. Мина никогда не был джентльменом, и женщины не имели к нему претензий: он вполне устраивал их в своем самобытном качестве. Впоследствии он оправдывался и утверждал, что хотел как лучше, он вовсе не собирался ломать даме шею.
Но шея у дамы оказалась хрупкой. Впечатление о стальном стержне, сидевшем внутри Золлингер, было обманчивым. Там был не стержень – тростинка, которая слабо хрустнула, и голова Ирмы запрокинулась назад, расположившись к туловищу под углом в девяносто градусов. Брюки ее мгновенно намокли. Посейдон метнулся к ящику, схватил его и выпрямился, напряженно оглядываясь вокруг.
Его фигуру отметили на берегу. И ящик отметили, равно как и то, что сей предмет явно представлял для «Сажина» большую ценность.
Ваффензее лежал, изрыгая довольно бесхитростную немецкую брань. Флинт, не спрашивая дозволения, ударил его вторично – хорошо бы ногой, но мешали ласты, и пришлось наклониться. Изо рта Ваффензее хлынула кровь, и он заругался еще исступленнее.
– Добавь, разрешаю, – буркнул Каретников, и Флинт с удовольствием воспользовался этим бонусом.
– За меня тоже, – попросил Магеллан. – А лучше подтащи меня к нему...
Посейдон демонстративно отвернулся, чтобы не участвовать в экзекуции. Ребятам надо выпустить пар. Они потеряли товарища – возможно, двоих, считая Торпеду, а то и троих, считая Чайку. Каретников сильно сомневался в возможности оказать ей квалифицированную помощь в здешних условиях. Хотя в обители имелось все, что требовалось для помощи неотложной.
– Зосима, – вдруг произнес Магеллан.
– Что – Зосима? – Посейдон непонимающе повернулся к нему.
– Он больше не появлялся. Ведь мы поручили ему следить... и он уже нам помог, сообщил про Маркса...
«Четыре», – автоматически подумал Каретников.
Он не ошибся и ошибся одновременно. К тому моменту Зосимы уже не было в живых, но немцы не имели отношения к его смерти.
Зосиму убил... Гладилин.
Очередное убийство далось ему еще легче предыдущих. Если так пойдет дело, он будет щелкать неугодных, как семечки.
Монах, единожды пообещавший сотрудничать, уже не смог пойти на попятную. Он долго молился в своей келье, вопрошая Спасителя о правильности своего решения – очевидно, ему был послан некий знак. Во всяком случае, Зосима покинул келью в большей уверенности и крепче духом, чем когда входил в нее.
Он приступил к слежке поздним вечером, когда освободился от прочих дел, в том числе скорбных, сопряженных с гибелью Артемия. Следить оказалось не за кем: немцы не появлялись. В гостиницу Зосима не пошел.
Он не отступился от задуманного и принялся бездумно обследовать остров, не исключая возможности стать свидетелем чего-либо нежелательного. Такая возможность ему вскоре представилась, хотя сам инок не успел понять, что видит нежелательное. Он и увидеть тоже не успел: тень метнулась к нему, полагая себя обнаруженной, и все дальнейшее было делом нескольких секунд. Зосима не только не обладал навыками рукопашного боя, он был не в состоянии оказать и простейшего сопротивления; он умер сразу.
Гладилин сделал это еще по пути к причалу. Капитан шел лесом, и туда же на беду занесло монаха-следопыта. Убивать его, невзирая на эти подозрительные обстоятельства, не было никакого смысла, но здравый смысл давно изменил Гладилину. На то, чтобы оправиться от содеянного, у него ушло совсем немного времени, и вскоре он продолжил свой путь.
Выйдя к берегу, капитан залег в укрытии и принялся наблюдать за катером. Там явно что-то происходило. В освещенной рубке виднелся силуэт немецкого туриста – Гладилин не знал его фамилии, но именно этот фриц давал ему непосредственные инструкции. Фриц стоял и о чем-то разглагольствовал, его собеседников не было видно. Капитан терпеливо ждал. Потом он заметил движение на корме: появился какой-то вооруженный хрен в гидрокостюме.
«Хорошо бы они перебили друг дружку», – подумал Гладилин.
Его желание было услышано – возможно, самим Преподобным Арсением. Высшие силы нередко выполняют просьбы разных мерзавцев, впоследствии оборачивая дело ко всеобщему благу – к несчастью, многие заслуживающие этого блага не успевают до него дожить и так и остаются в неведении, что все было к лучшему. На катере началась потасовка. Человек-лягушка ударил фрица, а еще один тип, до сих пор остававшийся вне поля зрения, выпрыгнул и, похоже, сбил с ног кого-то еще. После этого появился проклятый Сажин.
Гладилин стиснул зубы: спецназ одерживал верх, а значит – плохи его личные дела. Очень плохи. Сажин вертел в руках какой-то предмет, подобранный с пола, и обращался с ним как с великой драгоценностью. Капитан мгновенно пересмотрел уже сложившийся план: неизвестная штуковина могла быть использована для торга. Она куда компактнее того, из-за чего он собирался торговаться первоначально. Однако не исключает этого первого, просто в определенный момент произойдет замена. Ему же нужны какие-то гарантии.
Конечно, могло оказаться, что предмет не имеет предполагаемого большого значения, но капитан чувствовал, что это не так. Его хозяев интересовал эсминец – из их скупых слов он заключил, что там находится нечто, подлежащее умыканию. Он особо интересовался вероятностью взрывов и прочих диверсий, и ему клятвенно обещали, что никаких разрушений не будет. Может быть, врали, но он поверил. Уничтожить эсминец можно было, как он понимал, намного проще и не заваривать ради этого такую канитель. Забрать с него что-то и исчезнуть – дело другое.
Если предмет окажется в его собственности, то можно попробовать ставить условия и этим, и тем. Можно даже срубить денег, хотя сохранность собственной шкуры стояла на первом месте, а деньги всегда подвергают эту сохранность дополнительному сомнению.
Так, выходят!..
Сажин тащит немца, и тот идет с великим трудом. Похоже, ему здорово досталось. Двое других волокут очкарика – это ихний, ботаник-интеллигент. У тихони, по всей вероятности, прострелена нога.
А где остальные трое?
Впрочем, не так уж важно...
Пятясь ползком, капитан углубился обратно в заросли; затем выпрямился и быстро побежал к жилым постройкам. Нельзя, чтобы эти люди вызвали подкрепление. Они, ясное дело, спецы и асы, так что большой разницы нет – десятком больше, десятком меньше, но все же, все же. Однако они могут связаться и прямо сейчас, на марше, и тут уже ничего не поделаешь...
Выкинув пораженческие мысли из головы, Гладилин прибавил ходу.
– Пока мы идем, мне хотелось бы получить от вас некоторые сведения, герр Ваффензее, – обратился к пленнику Посейдон. – Скоротаем время за обоюдно полезной беседой.
Клаус угрюмо молчал, боль то и дело заставляла его морщиться.
– Первый вопрос: что в ящике? – продолжил Каретников, не обращая внимания на молчание.
– Откройте и узнаете, – огрызнулся тот.
– Вы напрасно упрямитесь. Вам все равно развяжут язык, в нашем арсенале хватает подходящих средств. Вы немного недопонимаете свое положение. Сейчас у нас с вами дружеский разговор. Взаимовыгодный, повторяю. Официально допрашивать вас будут не здесь – этим займутся другие люди. Мною же просто движет обыденный интерес – Он подумал о своих негласных обязательствах перед Маэстро. – Обстановка неформальная. И мне ничего не стоит рассердиться и переломать вам кости. То есть чисто по-человечески обидеться. Итак, я повторяю вопрос: что в ящике? Третьей попытки не будет.
– Я не знаю, – ответил Ваффензее после паузы. – Слово офицера. Мне строго-настрого запрещено знакомиться с содержимым. Мне только известно, что там находится нечто исключительно опасное.
– Допустим, хотя я вам не верю. Хорошо. Зайдем с другого конца: зачем ваша контора ликвидировала российского гражданина Сергея Остапенко?
Посейдон знал, что не имеет полномочий вести этот допрос. Скорее всего, ему придется туго, если этот факт вскроется. Но он не любил действовать втемную.
К его тревоге, лицо Ваффензее выразило недоумение, которое показалось Посейдону весьма натуральным.
– Остапенко? – озадаченно переспросил немец. И высокомерно добавил: – Я знать не знаю никакого Остапенко.
– Я освежу вам память. Некоторое время назад этот человек был убит в собственном доме, после пыток. Незадолго до этого ликвидировали его лечащего врача и двух медсестер – свидетелей, как я понимаю. Очевидно, и сам Остапенко являлся свидетелем. Я хочу выяснить – свидетелем чего.
– Вы несете какую-то околесицу, – сказал Ваффензее, с трудом шагая по тропе. – Наша группа прибыла на остров, не заезжая более никуда и не имея ни времени, ни возможности кого-либо ликвидировать. Нам была поставлена совершенно другая задача.
– Но у вас могут быть личные соображения. Возможно, здесь замешаны сопровождавшие вас сотрудники БНД?
– Понятия не имею. Спросите об этом у фон Кирстова, когда составите ему компанию... – Спохватившись, немец быстро сказал: – Извините. Я не сдержался, меня можно понять. Если угодно, у Кирстова и его людей тоже не было такой возможности. Мы ехали вместе, не разлучаясь...
– Ну а как быть с чемоданом? – осведомился Каретников, уже и сам понимая, что городит чушь.
– С каким еще чемоданом? – В голосе Ваффензее теперь звучало жалостное презрение.
– Который гопота умыкнула на вокзале.
– Что такое «гопота»? – не понял тот.
– Уголовники. Ворье из местного цыганского табора.
Ваффензее покрутил головой:
– Это просто фарс, какая-то оперетта. Какой, к черту, вокзал, о чем вы говорите? Вы в своем уме? Нам незачем пользоваться вашими вокзалами, мы не расхаживаем по ним с подозрительными чемоданами...
Да, с вокзалом непонятно. Что-то здесь было не так. Серьезные люди располагают соответствующими средствами передвижения. Вокзал мог понадобиться как людное место для некоего контакта – возможно, для передачи чертова чемодана. Кем? Кому?..
– Можете мне не верить, – проговорил Ваффензее.
– Да уж какая вам вера... – рассеянно отозвался Каретников, склоняясь поверить.
Заговорил Флинт:
– Вы слышите, командир?
Посейдон мгновенно остановился, придержав немца. Прислушался. Увлекшись допросом, он не обратил внимания на беспорядочные крики, слабо доносившиеся со стороны монастырских гостиниц.
– Там какой-то переполох.
Посейдон пристально посмотрел на Ваффензее. Отрывисто спросил:
– Сколько у вас осталось людей? Данхофф? Кнопф?..
– Никого не осталось. Эти ни при чем. Разве что из ведомства Кирстова, но вряд ли.
Посейдон сверлил его взглядом.
– Имейте в виду – если вы лжете... если ваша компания пошла ва-банк и устроила в обители заваруху...
– Никого больше нет, – упрямо повторил Клаус – Мы уже сыграли ва-банк.
От этих сил беспокойство Каретникова усилилось.
– Флинт, попробуй еще раз связаться с Торпедой. Если получится – пусть поспешит. Герр Ваффензее – вам тоже придется поторопиться. Я понимаю, что вам немного больно, но выбора нет. И приготовьтесь к новой иммобилизации. На этот раз мы стреножим вас надежнее, уж не обессудьте.
Тот ничего не ответил. На лице его промелькнула надежда: беспорядок в его ситуации перспективнее порядка. В мутной воде можно поймать рыбу.
...Магеллана понесли на руках; Ваффензее этой чести не удостоился.
Торпеда молчал.
Когда поредевшая группа «Сирен» достигла гостиницы, там уже стоял дым коромыслом. Капитан Гладилин показывал себя в новом качестве: куколка лопнула, и выпорхнула черная бабочка с белыми черепами на крыльях.
Глава двадцать вторая
СУЖЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Удостоверение – красные корочки – которые Гладилин совал под нос всем подряд, оказывали магическое действие. Никто из паломников, кого он почтил своим вниманием, не усомнился в реальности угрожающего теракта.
Гладилин стучался во все двери и взволнованно оповещал заспанных постояльцев о пластиковой взрывчатке, обнаруженной в подвале.
– Дети! В первую очередь – дети! – приказывал капитан. – Выводите детей...
Истерзанный вид самого Гладилина никого не смущал – напротив, придавал его словам убедительность. Сонные, перепуганные паломники бежали к выходу.
– Никому не уходить далеко! – командовал тот. – Отойти от здания на сто шагов и ждать...
Вскоре люди, одетые как попало, собрались во дворе. К ним уже спешили иноки, встревоженные очередной бедой. Остров словно кто-то проклял. Трупы на каждом шагу, пропавшие гости, теперь еще это... Гладилин воплощал в себе власть, и ему хотелось безоговорочно подчиниться. В темноте все казалось еще более зловещим, чем предупреждал Гладилин, – это впечатление, однако, не соответствовало размаху того, что последовало.
Капитан не затруднился обходом всех номеров, он уже поднял на ноги достаточно людей.
Некоторым начинало казаться странным, что спаситель действует в одиночку, но паника была достаточно сильной, чтобы это обстоятельство по своей подозрительности перевесило объявленную опасность.
– Дети – отдельно! – крикнул Гладилин, появившись на крыльце. – Их эвакуируют в первую очередь!
Толпа была готова на все и не заметила ничего необычного в этом распоряжении. Детей выделили в отдельную группу, их набралось двадцать душ, от десяти до пятнадцати лет.
Вдруг откуда-то сбоку вынырнул хмурый монах, здоровенный чернобородый детина. Он резко обратился к капитану:
– Что здесь происходит?
– К нам поступило сообщение о готовящемся теракте. Моими людьми в подвале гостиницы обнаружены заряды. Я уполномочен обеспечить безопасность постояльцев и провести эвакуацию, – слова легко и почти бездумно ложились Гладилину на язык, как будто за него говорил кто-то другой.
Капитан пристально посмотрел на монаха, который отнесся к его словам с явным недоверием. Ну что же, тем хуже для него. Этого бородача можно приспособить к делу.
– Мне понадобится часовня, – сказал Гладилин.
Эти слова немного поколебали недоверие инока. Его приглашали к сотрудничеству, да еще выражали желание воспользоваться святым местом.
– Зачем вам часовня?
– Я хочу, чтобы вы отвели туда детей. Там они будут в безопасности. Помолитесь, чтобы ваш небесный покровитель их защитил.
Монах молча смотрел на него, пытаясь определить, всерьез ли тот рассуждает о такого рода вещах.
– Прямо сейчас и ведите! – капитан повысил голос – Я вас догоню... мои люди вас догонят...
Произнося все это, Гладилин прикидывал свои силы и средства. К несчастью, он располагал лишь огнестрельным оружием, ему бы и в самом деле взрывчатку... ну, за неимением гербовой напишем на простой.
Он увидел, как монах потоптался на месте, сгреб в кулак бороду, дернул и решительно направился к группе детей. Очень хорошо. Надо теперь решить, что делать со взрослыми. Можно, вообще говоря, ничего не делать. Пусть остаются где находятся. С часовней он придумал просто замечательно, блестяще, там только один вход, а окна такие, что их нетрудно держать под контролем. Их всего два, и они зарешечены. Только взрывать – а взрывать точно побоятся! К нему могут применить спецсредства, но вряд ли морской спецназ готов к проведению такой операции здесь и сейчас. Все решит время, нужно не дать им дождаться помощи.
Некоторые родители рванулись было вслед за детьми, и капитан поспешил остановить их:
– Оставайтесь, где стоите, в часовне все не поместятся. Не подходите к гостинице, и все будет хорошо. Дождитесь меня, и я отведу вас в другое место, вы обязательно будете рядом с ними...
Что за ахинею он порет! Дождитесь – и куда он собрался, что скажет? Какое еще другое место? Паника не вечна, нельзя все время делать на нее ставку.
Гладилин чувствовал, что логика изменяет ему, и принял решение ничего больше не говорить. Махнув постояльцам пистолетом, он устремился обратно в гостиницу, как будто его там ждали неотложные дела. Он выглядел так, словно намеревался как минимум обезвредить взвод до зубов вооруженных диверсантов. В действительности он предпринял совсем другое: промчался по коридору первого этажа и вышел из здания через черный ход. Скрылся в лесу, на ходу обернувшись и бросив прощальный взгляд на одураченную публику. Главного он добился: дети сосредоточены в одном месте. Они не окажут сопротивления. Вначале он думал окопаться прямо в гостинице, но быстро сообразил, что такую махину ему в одиночку не удержать.
Скоро он нагнал процессию с детьми и, задыхаясь, доверительно сообщил монаху:
– Все под контролем. Я вызвал спецгруппу, скоро будет вертолет. Опасность сохраняется, но мы справимся.
Инок угрюмо вышагивал чуть впереди, Гладилин умышленно не обгонял его, так как не хотел оставлять за спиной.
– Я не понимаю, кто нам угрожает, – отозвался монах. – Откуда здесь взялись террористы? Зачем им обитель?
– Это связано с работами по подъему судна, – объяснил капитан.
– Каким образом это связано? И где эти злодеи? Я не вижу ни одного...
– А убийц вашего Артемия вы видели? Люди мрут, как мухи...
– И ваши тоже? – саркастически осведомился тот. – Их я тоже не вижу...
Часовня уже показалась впереди.
– Хотели бы увидеть?
Монах кивнул:
– Желательно.
– Очень хорошо. Да будет по слову вашему.
Инок не успел подобающим образом отреагировать. Он начал разворачиваться к капитану лицом, и окончательно спятивший Гладилин ударил его по лицу рукояткой пистолета. Монах, хотя и испытывал подозрения, не был готов к такому повороту событий. Он покачнулся, отпрянул. Здоровый бугай. Такой мог бы и одолеть его, имей он время собраться с силами и мыслями. Гладилин не собирался предоставлять ему такую возможность. Он размахнулся и впечатал рукоятку в висок, хрустнула кость. Монах стал падать; капитан подхватил его на руки, но кто-то из детей все же успел заметить происходящее.
Кто-то закричал.
Гладилин хотел крикнуть в ответ, что иноку стало плохо, но двое ребят уже побежали прочь. Похоже, заметили саму расправу.
– Стоять!
Ночь расколол выстрел. Один из бежавших, мальчишка лет тринадцати, споткнулся и полетел в траву; второй успел скрыться в лесу. Преследовать его не было смысла.
– Стоять!.. – Лицо капитана было ужасно. Оскалив рот, он приближался, направив оружие на остановившихся юных паломников.
Гладилин подошел к мятежнику, схватил за воротник, рывком поставил на ноги.
– Если кто повторит – получит пулю... Быстро к часовне! Заходим внутрь, и чтобы ни звука у меня...
Последнее требование было излишним, выстрел услышали все, кому не нужно. Но время Гладилин выиграл.
...В часовне царил полумрак, еле слышно потрескивали свечи, горели лампады. Непроницаемые лики святых вместо обычного благоговения внушали страх. Они что-то знали, не могли не знать, они прозревали прошлое и грядущее и как-то влияли на то, чему надлежит быть. А надлежало быть злу. Почему же не воспрепятствовали? До какого порога попустят твориться неправде? Дети, конечно, были не в состоянии сформулировать именно так, но суть понимали правильно.
Возможно, причина скрывалась в затопленном эсминце.
Его прошлое не кануло в небытие. Зло настолько глубоко впиталось в его бездушную сталь, что не умерло и продолжало распространяться, так что история повторялась. Снова заложники у маньяка, и снова этими заложниками выступали дети.
Возможно, что сам капитан Гладилин был не настолько уж виноват в происходящем. Он оказался проводником этого зла, удачной фигурой для возобновления спектакля. Для него самого, впрочем, степень вины уже не имела значения, ибо в Писании сказано, что горе тому, через кого приходит зло.
Для капитана не было разницы – часовня ли, гостиница, монастырь; ему все было едино. Мир превратился в театр боевых действий. Повсюду таились монстры – в лесу, постройках, на воде и на суше, и в небе тоже, и с образов таращились монстры; они затаились в размалеванных досках, оплывали воском, распространяли непривычные запахи, шуршали, невнятно переговаривались.
Загнав ребятню внутрь, капитан велел всем сесть на пол. Он равномерно распределил их по всему периметру и в центре, обеспечив себе живой щит.
– Хотите повыть – войте, только не во весь голос... Кто будет сильно шуметь – пристрелю без предупреждения.
Запер дверь на засов и стал ждать.
Спецназовцы не дураки – они вынудят его торчать здесь неизвестно сколько, а сами соберутся с силами. Если они не появятся в ближайшее время, придется поторопить.
Что Гладилин и сделал, выстрелив вторично. Он послал пулю в бревенчатую стену, но близ гостиницы этого, конечно, не знали.
«Сирены» разминулись с Гладилиным совсем ненамного.
К их появлению до постояльцев гостиницы уже дошло, что дело хуже, чем представлялось.
Кто-то пошел в гостиницу и не застал там никого, способного прояснить ситуацию. Начали искать Гладилина – разумеется, не нашли. Подоспели другие монахи и люди из хозобслуги, в происходящем начала чудиться какая-то дьявольщина, тут подоспел и выстрел – как раз оттуда, куда увели детей.
Именно в этот момент «Сирены», обремененные пленником и раненым товарищем, вступили во двор.
Поначалу их никто не признал, внешний вид недавних соседей абсолютно не соответствовал представлениям о художниках-реставраторах. Зато их приняли за тех самых помощников, о которых врал капитан.
Пришедших мгновенно взяли в кольцо, и пловцам пришлось туго. Действовать в такой ситуации их никто не учил. Здесь не было противника, им предстояло общаться с перепуганными гражданскими.
Но Посейдон быстро сложил два и два, как только услышал про деятельного вооруженного блондина. Поскольку последний выступил ключевой фигурой, все им сказанное должно было оказаться фарсом, и сообщения о терактах следовало отодвинуть на второй план. Услышав о детях, уведенных незнамо куда, Посейдон испытал предательское сосущее чувство под ложечкой.
– С этого момента подробнее, – приказал он резко. – Где дети сейчас? Когда они ушли?
Ему сбивчиво объяснили про часовню, и Каретников понял все.
Капитан осознал, что угодил в капкан, захотел выбраться и... просто-напросто сошел с ума.
Раздумывать было некогда, и Посейдон подозвал монахов.
– Ваши гости стали заложниками вооруженного бандита. Ваша задача сейчас – не мешать нашей группе. Возьмите на себя постояльцев, разведите по номерам или не разводите, пусть сидят где хотят, только чтобы не лезли в пекло. Вы слышите? – повысил голос Каретников, и шум немного стих. – Я убедительно прошу вас не приближаться к часовне и не путаться под ногами. Детям это только навредит.
– Да кто вы вообще такие? – послышались истеричные голоса.
– Подводный спецназ, – отрезал Каретников и для усиления добавил: – Контртеррористическое подразделение. Сейчас вас отведут в гостиницу, пригласят медиков...
– Наши медики заняты, – вмешался один из иноков. – Они оказывают помощь женщине... из ваших. Она ранена.
Посейдон мысленно выругался: до чего же не везет. Ну, слава Богу, что Чайка жива. К несчастью, сейчас нет возможности разбираться в ее состоянии...
– Тогда успокойте людей сами! Вы же здесь все сплошь верующие – вот и воспользуйтесь вашей верой... Простите, мне больше некогда вести разговоры. Дайте нам спокойно выполнить задачу.
– Мы запросили помощь, – вмешался еще один монах.
Каретников выругался про себя. Помощь! Их миссия содержалась в строгом секрете. Операция и без того пошла вкривь и вкось, да еще с потерями; шила в мешке, конечно же, не утаишь, но появление на острове новых формирований из разных ведомств вообще сведет всякую секретность на нет. «Сиренам» выйдет серьезная головомойка – хотя бы за то, что допустили катастрофическое развитие событий и недооценили опасность в лице этого психа. Могут расформировать и раскидать по белу свету, а то и дисквалифицировать... впрочем, последнее вряд ли. Несмотря на невезение последних суток, «Сирены» – слишком ценная группа, чтобы полностью отказаться от ее услуг.
Действовать придется быстро.
И надо связаться с центром, чтобы обеспечить хоть какую-то согласованность в действиях. Постараться, чтобы командиры затребованных подразделений не действовали в обход «Сирен» и сразу вышли непосредственно на него самого.
Как ни странно, в этом смысле Посейдон рассуждал так же, как и Гладилин. Тот опасался затягивать ситуацию, и он не хотел того же – пускай по другим причинам.
Поэтому когда со стороны часовни донесся новый выстрел, Каретников прекратил разговоры с монахами.
– Мина, сторожи эту сволочь. Головой за него ответишь. И скажи святым отцам доставить Магеллана в лазарет. Флинт, ты пойдешь со мной...
О Торпеде никто не сказал ни слова.
– Командир. – Флинт кашлянул. – Мы не оснащены для освобождения заложников. И нас слишком мало.
– У тебя есть предложения? Тот нехотя покачал головой.
– Тогда закрой варежку – и вперед. На полусогнутых. Двое против одного урода – это не так плохо. К тому же он явно невменяем...
– Это-то и плохо, – буркнул Флинт, переходя на бег.
Глава двадцать третья
ЧАСОВНЯ
Небо успело чуть посветлеть, но тьма еще окутывала остров Коневец. Возгласы стихли, и все-таки продолжало казаться, что некий тревожный гул остается висеть над притихшими соснами, молчащей колокольней, глыбами куполов. Редкие крики птиц лишь подчеркивали общую напряженную тишину. С берега можно было видеть далекие корабельные огни: развернувшиеся под водой события ничем не проявились на поверхности, и подготовка к подъемным работам шла своим чередом.
«Бритый дебил» – в понимании Ваффензее – Торпеда со стоном приподнялся на локте и непонимающе уставился в ночной сумрачный лес. «Коллега из BND» оказался на поверку фокусником не хуже Гудини. Как он освободился от оков, Торпеда так и не успел понять. Он только будто увидел со стороны свое собственное удивленное лицо, никак не ожидая увидеть Ваффензее с отведенной для удара рукой. Немец дважды приложил его черепом к сосновому стволу. Хватило бы и одного раза, Ваффензее постарался, повтор не отложился в памяти. Теперь лицо Торпеды было липким от крови; голова кружилась, во рту стоял кислый привкус, к горлу подступала тошнота.
Он осторожно поднялся на ноги и чуть пошатнулся; не обращая внимания на потерю устойчивости, сделал два шага, третий, четвертый. Руки и ноги работали прилично; восстановление равновесия и координации потребовало известного времени. Он взглянул на часы: черт! Он провалялся непозволительно долго, и без него могло произойти что угодно. Торпеда осмотрелся по сторонам в поисках Флинта, опасаясь худшего. Товарища нигде не было.
Связь невозможна, переговорное устройство разбито.
Кляня свою неосмотрительность на чем свет стоит, Торпеда забыл о полученном сотрясении мозга и бросился к месту, где были сложены вещи. К счастью, до него было рукой подать. Наспех вытер лицо, глотнул из фляги. Операция не закончилась, и Посейдон убил бы его за спиртное, но в данном случае оно пришлось очень кстати. Торпеда взял прибор ночного видения. Оружие оставалось при нем, Ваффензее ничего не тронул. Значит, Флинт оставался в игре, и немцу пришлось срочно спасаться.
Торпеда убедился в этом, когда вновь – уже пристально – осмотрел поляну, где его вырубили. Примятая трава, сломанные ветки – все это недвусмысленно указывало как на суть случившегося впоследствии, так и на маршрут движения. Торпеда на миг задумался. Разумнее было идти по следу, но это бы сильно замедлило продвижение. Он не сомневался, что Ваффензее направился к катеру; Посейдон с Миной направлялись туда же. Стало быть, иного выбора нет.
Торпеда, не таясь, побежал по песчаному берегу. Ему некого было бояться, все действующие люди наверняка стянулись в одну точку.
И он уже приблизился к намеченному пункту, когда прозвучал выстрел – первый, который произвел Гладилин еще вне часовни. Торпеда щелкнул предохранителем, быстро отскочил к большому валуну, черневшему полуоформленной махиной, прижался спиной. Нет, стреляли не по нему. Он выглянул, подождал – никого. Первоначальное намерение изменилось, катер подождет. Торпеда двинулся в сторону, откуда стреляли. Он ждал ответных выстрелов, но их не было. Значит, это не боевое столкновение, иначе возникла бы перестрелка. Либо очередное убийство, либо...
Впереди его могли караулить любые неожиданности. Пригибаясь, Торпеда прошел без малого километр. При виде часовни он остановился, прикидывая, стоит ли туда сунуться и проверить обстановку. Изнутри не доносилось ни звука, но что-то ему не нравилось. Он и сам не знал, что именно. Зло, опрометчиво разбуженное в ладожских водах и поселившееся на острове, незримо окутывало все вокруг и заставляло видеть опасность за каждым кустом.
Торпеда запасся терпением. Нужно подождать.
Когда в часовне ударил второй выстрел, на лице спецназовца не дрогнул ни мускул. Губы сжались, когда за выстрелом последовали испуганные крики – детские крики. Торпеда уже приблизительно представлял, в чем дело, но не имел понятия, сколько в часовне людей и кто они такие. Он был почти уверен, однако, что банкует Ваффензее или кто-то из его подручных земляков. И что им нужно? Свобода, ясное дело. Возможность уйти и гарантии безопасности.
Торпеда улегся ничком и по-пластунски пополз к часовне. Тошнота подступила вновь, но он не обратил на нее внимания. Окна часовни были слабо освещены желтым свечным светом, который в другое время показался бы теплым и добрым, но сейчас представлялся зловещим. Как будто внутри горел апокалиптический неугасимый огонь, вечно пожирающий грешные души. Насчет последних Торпеда сильно сомневался. Он догадывался, машинально цитируя классика, что запертые в часовне еще не успели нагрешить.
Но там есть и дьяволы, вопрос – сколько?
Боясь себя обнаружить, Торпеда не отважился заглянуть в окно. Он двинулся вкруг часовни в поисках второго входа. Так, что там вещал им Зосима... причелины, резные балясины... внутри подвал... в подвал бы ему... но не подкапываться же... второй вход для часовни – слишком шикарно...
Но этот вход был. Дверь заперта на ключ. И замок врезан добротный, солидный... довольно простой.
В часовне имелся дополнительный придел. Сколько же там бандитов? Заложников наверняка собрали в одном приделе, второй может пустовать. Правда, помещения сообщаются, и войти незаметно вряд ли удастся. Нужно пока лишь отомкнуть замок и ждать, когда внимание дьяволов отвлечется.
У Торпеды чесались руки, он не знал, что означала стрельба. Может быть, этот гад планомерно расстреливает заложников, доказывая серьезность намерений. Если будет третий выстрел, он не станет возиться с замком и выставит окно – так решил про себя спецназовец.
Выдвинувшись из темноты, Каретников поднял руки и громко крикнул:
– Гладилин, я пуст! Перестань дурить, выпусти детей. Обещаю, что тебя никто не тронет.
Какое-то время держалась пауза. Затем из-за двери ответили:
– Плохо, что пуст. Ты мне нужен заряженным, Сажин. И пусть твои люди встанут рядом.
– У меня не осталось людей!
– Пусть твои люди встанут рядом.
– Хорошо, будь по-твоему.
Каретников предвидел такой оборот событий и махнул Флинту; тот вышел из подлеска и встал рядом. Нужно демонстрировать готовность к сотрудничеству и уступкам. Сначала Посейдон не думал о переговорах и предполагал сразу взять часовню штурмом, но прикинул риск и решил для начала выяснить, что этому психу нужно. Возможно, его требования вполне выполнимы. Террористы, осмеливающиеся на такого рода акции, почти всегда проигрывают, и лучше бывает дать им все, о чем просят. Но дальше в этом случае в игру вступят все те же нежелательные дополнительные силы. Гладилина обезвредят другие люди, а этого Каретникову не хотелось.
– А ты говорил, что нет людей, – победно сказали из-за двери.
– Это не люди, это человек.
Посейдон сделал два незаметных, как он надеялся, шага вперед, и то же сделал Мина.
Торпеда, притаившийся у бокового хода, внимательно слушал переговоры. Его первым порывом было присоединиться к товарищам, но он быстро сообразил, что лучше ему до времени не объявляться. Пока Посейдон и Флинт будут отвлекать внимание Гладилина, он попытается проникнуть внутрь.
Он пришел к выводу, что Гладилин действует в одиночку. Его милиционеры, скорее всего, действовали вслепую. Оборотней в погонах полно, но они все больше отставники, а эти явно при исполнении, как и сам капитан. Гладилин – урод в семье; маловероятно, чтобы остров находился в ведении целой банды, состоящей из штатных сотрудников МВД, не боящихся творить беспредел прямо в мундирах.
– Еще один шаг, и я выкину вам труп, – донеслось из-за двери. – Вернитесь на место.
– Будь по-твоему. Но если ты кого-то убьешь или уже убил, я лично тебя погашу. И не сразу. У нас состоится прелюдия.
– Кто бы сомневался. – Голос Гладилина звенел. Капитан был напряжен до предела; Посейдон чувствовал, что тот плохо себя контролирует и готов очертя голову броситься в любую пропасть. Загнанный в угол зверь крайне опасен.
– Чего тебе нужно? – крикнул Каретников.
– Уйти живым, – ответил капитан. – И с гарантией.
– Хорошо, тебя не тронут, если отпустишь детей. Я даю тебе гарантию. Слово офицера.
– В гробу я слыхал твое слово. Мне нужна штуковина, которую ты забрал у немцев.
Посейдон ждал чего угодно, но только не этого.
– Какая еще штуковина? – Он тянул время, пытаясь разобраться: что стоит за этим требованием. Похоже, что капитан не потерял надежду на помощь зарубежных хозяев. А скорее – намеревается шантажировать и тех, и других.
Что же в ящике, черт побери? Он должен был посмотреть...
– Не придуривайся, Сажин. Передаешь мне эту фигню, и мы разбегаемся.
– Не вопрос, – отозвался Посейдон. – Хоть сейчас.
Он и в самом деле оставался при рюкзаке, побоялся оставить яблоко раздора – оно же шкатулка Пандоры – в чужих руках, хотя бы это были и его собственные проверенные люди. Как чувствовал, что понадобится.
– Не пытайся финтить, я тебя вижу. Вынь и поставь на пол.
«На пол». Деревня хренова, мысленно хмыкнул Каретников.
– Как скажешь.
– Шестерка твоя пусть руки поднимет.
Флинт осклабился и открыл было рот, но Посейдон упредил его:
– Не сейчас. Делай, что говорит.
– Да понял я, командир, не маленький...
Флинт медленно поднял руки, не переставая скалиться.
– Что в ящике? – спросил Гладилин.
– Понятия не имею.
– Что в ящике, я тебя спрашиваю?
– Знать не знаю! – раздраженно крикнул Посейдон. – Не хочешь – не верь...
В ту же секунду из-за двери раздался пронзительный детский вопль.
– Я ей кости переломаю, если будешь понты колотить.
Торпеда у бокового входа напрягся, готовый в любую секунду ворваться внутрь.
– Гладилин, – сказал Каретников страшным голосом. – Если ты еще раз позволишь себе что-то подобное, я выхлопочу тебе кислотную ванну. Я обещаю тебе. Повторяю – я не знаю, что в ящике. Я знаю одно: за ним охотились твои дружки. Я солдат, и мне было сказано лишь то, что следует знать солдату. Содержимое ящика – не мое дело.
Он думал иначе, но в целом не врал.
Наступила мертвая тишина, капитан Гладилин размышлял. Посейдон и Флинт напряженно прислушивались к детским всхлипам, еле слышно доносившимся из-за запертой двери.
– Надо было взять с собой немца, – сквозь зубы процедил Флинт.
Подумав, Каретников нехотя признал его правоту. Во-первых, с ними был бы Мина. Во-вторых, Ваффензее сумел бы удовлетворить любопытство террориста.
Последняя мысль пришла в голову и Гладилину.
– Где турист? – крикнул он.
– Который из них тебя интересует?
– Кончай мозги засирать! Тот, у которого ты хреновину забрал.
– Взял выходной.
– Пошли за ним.
– Отпусти детей, скотина! Будет тебе турист!
– Когда будет, тогда и поговорим...
– А на что он тебе? Возьми ящик, открой да посмотри. Приссал?
– А ты – нет?
Внезапно Каретников осознал, что ему совершенно не хочется знакомиться с начинкой шкатулки.
– Пусть приведет немца, – твердил свое Гладилин.
– Хорошо, только не нервничай. Устроим тебе очняк.
Посейдон бросил Флинту:
– Беги бегом, притащи их... Но Мина пусть не светится. Пустим его в обход. Сообразишь сам...
– Что ты там базаришь? Ты сказал, он пошел, о чем еще говорить?
– Делай, – процедил Посейдон.
– Есть. – Флинт, не опуская рук, стал медленно отступать. – Командир... Может, мне того? Самому в обход?
– Нет, приведи немца.
– Есть, – повторил тот.
...Когда Флинт скрылся из вида, Каретников по-турецки уселся на землю. Рюкзак лежал перед ним, рядом – ящик.
– Теперь очень медленно подойди к двери, положи ящик и можешь вернуться на место.
– Только сел! – возмутился Посейдон, вставая. – Выпусти детей, урод. В ящике может быть что угодно.
– Рот закрой, Сажин.
Ну, вот и все, подумал Торпеда. Сейчас эта сволочь отопрет дверь и полезет за ящиком. Другого такого момента не будет. И командир не оплошает, пособит...
Он изготовился распахнуть дверь.
Но Гладилин не дал ему возможности поступить, как было задумано. Торпеда сдержался в последнюю секунду. Он сам не понял, что его остановило – возможно, приказ, тихо отданный капитаном кому-то внутри, был воспринят мозгом спецназовца, но где-то в глубине, на уровне подсознания, ибо слов он не разобрал.
Передняя дверь приотворилась. В щель протиснулся насмерть перепуганный мальчуган. Трясущимися руками он взял ящик и скрылся в часовне. Дверь снова захлопнулась.
Посейдон коротко выругался.
Ситуация осложнилась. До сих пор штурм мог привести к потерям среди заложников, но к чему он приведет теперь, когда может пострадать груз, оставалось только гадать.
Глава двадцать четвертая
ПО МЕСТАМ
Клаус Ваффензее отнесся к перспективе прогулки положительно.
Любое действие лучше бесцельного прозябания. Сидеть и ждать неприятностей, будучи скованным по рукам и ногам, было скучно и неинтересно. Уродливый зверюга, который его караулил, не отличался многословием – и слава Богу. Ваффензее передергивало только от одного его вида.
Он не особенно тревожился за свою судьбу. Разоблаченный агент – что ж, ситуация не нова. Допросы, суды – возможно, придется немного посидеть. К сожалению, на нем висят убийства и покушения, и это осложняет дело, но для его заказчиков нет ничего невозможного. Он не так уж и лгал «Сиренам», называясь сотрудником BND. Таковым он не был, но у его хозяев были хорошие связи с германскими спецслужбами. Односторонние. «Кротов» хватало. Можно договориться с русскими и сдать им в обмен на Клауса кого-нибудь из разведчиков. Хозяева Ваффензее при этом ничем не рискнут, разве что «кротом», но Клаус стоит десятка «кротов». Если бы эта скотина из местной полиции не испортила всю обедню и нейтрализовала спецназовцев в отеле, все было бы на мази.
Когда в номер, где его стерегли, ворвался Флинт, Мина вскочил на ноги, подозревая худшее.
– Берем с собой этого штриха и гоним его к часовне, – выпалил Флинт. – Командир ждет. За сотню метров разделимся, оставишь гада мне, а сам пошустришь в обход, к боковой двери.
– Так уж и гада, – усмехнулся Ваффензее.
Мина несильно смазал ему по физиономии.
– Еще хочешь?
– Свинья, – коротко отозвался Клаус.
– В общем, поднимаем его. – Флинт схватил немца под мышки. – Расстегни ему ноги.
– Ты забыл, как он умеет ногами? – предостерег его Мина.
– Он ими только бегает... ничего, больше не уйдет. Цепочка короткая, я бы оставил. Но он до полудня проковыляет.
Давайте-давайте. Все начинается с пустячных мелочей. Сначала дают закурить. Потом расковывают ноги. Потом отвернутся, зазеваются... Наручники как затянули, сволочи. Второй раз примененный фокус у него не получится, не поможет никакое расслабление мышц. Надо подумать, как сделать так, чтобы они сами их сняли. Хотя нет, думать незачем. Надо просто ждать.
Ваффензее вел себя подчеркнуто смирно. Он и «свиньей» выругался лишь затем, чтобы не вызвать подозрений обманчивым смирением. Очень важно соблюдать пропорции.
Флинт огляделся по сторонам:
– Что тут вообще творится?
– С Магелланом все в порядке. Чайка хуже. Они вызвали транспорт.
– Но жить-то будет?
– Никто не знает, – мрачно сказал Мина. – Кирхенау дрыхнет, пьян мертвецки. Данхофф, Ланг и Кнопф пытались скандалить, требовали консула. Их вежливо послали... Два трупа, менты из следственной бригады. Зосиму не могут найти... а у тебя что?
– Заперся, сука, с детьми в часовне. Хочет... – Флинт взглянул на Ваффензее и осекся.
– Порвем скотину, – буднично заметил Мина.
– Это само собой. Выходим в темпе, командир ждет.
– Разделимся?
– Само собой. Пойдешь к боковому ходу, лесом.
– Ясно. Торпеда не объявился?
– Молчит, как партизан, – с наигранной легкостью ответил Флинт. На самом деле ему было не до шуток. Нельсона они потеряли, и это разрушило недавний миф о непобедимости «Сирен». Хотя дело, конечно, было в трагическом стечении обстоятельств. Своими боевыми качествами Ирма Золлингер никак не могла превзойти Нельсона.
...Они вывели Ваффензее из гостиницы во двор, который к тому времени уже опустел, однако никто, понятно, не спал, и освещенные окна были тому подтверждением.
– Посейдон – гад, – сообщил Мина, пока они шли к часовне. – Повесил на меня родителей и всю шоблу. Я же остался один за все про все. Типа представитель власти. А они рвались детей спасать... а на мне эта гнида висит, – он кивнул на Ваффензее, который никак не отреагировал на сказанное.
– И как ты справился?
– Ну, как... сказал, что в таких случаях создается дополнительный риск... что террористы, увидев толпу, сорвутся с катушек, начнут палить... а эти вконец обезумели. Рвутся драть их в клочья, попробуй, убеди... думал, что не сдержу...
– Вся набожность, значит, слетела...
– Да при чем тут набожность? Религия не возбраняет детей защищать.
– А эти... Авраам и Исаак? Помнишь, Зосима нам пел?
Мина отмахнулся:
– Что ты слушаешь? Их, может, и не было никогда. Сказки это все.
Ваффензее чуть заметно усмехнулся. Тупая солдатня, одно слово.
Какое-то время они быстро шагали в молчании, то и дело поглядывая на небо, где уже отчетливо заливался рассвет.
– Плохо, что мы оголили тылы, – пробормотал Флинт.
– Ты про немчуру?
– Ну да. От Магеллана толку мало. Может, еще остались гады.
Мина бросил взгляд на Клауса.
– Ты, герой! Говоришь, спеклась твоя армия?
– Я не понял глагол, – равнодушно отозвался немец.
– Ну, накрылась. Медным тазом. Нет, – Мина ответил за него сам. – Они бы сделали попытку его отбить. Я же один остался, повторяю.
– А черт их знает, что у них на уме. Могли припухнуть.
– Да все могло быть. Чего теперь... Остаться бы мне там...
– Командир иначе решил.
– Ну да. Хорошо бы ему не ошибиться. И без того в дерьме по уши.
Слушая это, Ваффензее думал, что руководство не ошиблось с Гладилиным. Звериная интуиция, иначе не объяснишь. Нельзя предугадать иррациональное поведение и безумство, но в том и заключается талант руководителя, чтобы учуять потенциал, проявить ясновидение. Вернее, смутновидение. Кто мог знать, что капитан спятит и устроит такую заваруху? Никто. Однако он ее устроил, и сделанное можно обернуть к своей выгоде. К тому же Ваффензее теперь намного легче, тайны раскрылись, скрывать ему почти нечего, связь с капитаном обнажилась. Вот только непонятно, зачем он понадобился Гладилину. Не хочет же тот его освободить. Или хочет, нуждается в напарнике? Это нужно обдумать. Можно наломать таких дров, что менять его уже никто не возьмется, а если и попытается, то ничего не сумеет. Выйдет очень нехорошо, если погибнут дети. Такого не прощают нигде. Да, перед Клаусом замаячила возможность ускользнуть, но важно при этом не замараться окончательно.
Торпеде стало хуже. Голова кружилась, и что самое неприятное – начала неметь левая половина туловища. Это был грозный признак. Похоже, что сотрясением дело не обошлось, с ним что-то посерьезнее. Одновременно его снова тошнило, и намного сильнее, чем когда он только очнулся. Если этот паразит пробил ему черепушку или наградил внутричерепной гематомой, то дело совсем дрянь. Где ребята, черт побери? Пора бы им вернуться. Этот немец не может быть заговоренным; невозможно поверить, что он повторит свой фортель. Флинта он уже околпачил, и тот уже опытный, а Мина... от Мины еще никто и никогда не уходил.
Когда из предрассветных сумерек вынырнул Клаус Ваффензее под бдительным руководством Флинта, Торпеда вздохнул с облегчением. Еще легче ему сделалось, когда рядом с ним нарисовалась бесшумная тень. Она изготовилась ударить на поражение, но в последний миг сдержалась, признав товарища.
Торпеда быстро приложил палец к губам.
– Как обстановка? – одними губами произнес, присаживаясь на корточки, Мина, готовый в любую секунду рвануть на штурм.
– Пока терпимая. Объект хочет ящик.
– С эсминца?
Торпеда кивнул.
– Шеф согласился, но тот хочет знать, что внутри. Пришлось тащить сюда немца.
– Ясно. Сам-то как?
Тот пожал плечами:
– Да хреново. Эта падаль ушибла мне мозги. Блевать тянет, и левая половина как не моя.
– Черт, ты бы хоть перевязал башку. Дай-ка я.
Мина раскрыл аптечку, быстро и ловко перевязал Торпеде голову. Кровь уже не шла, но рана зияла.
– Кольнуть тебя?
– Не надо, потерплю.
– Да ладно тебе, подставляйся.
– Не надо, я сказал. Заторможусь, нельзя. Сейчас тут начнется...
– Так ты уже тормознутый! Много от тебя от такого толку!
Подумав, Торпеда нехотя согласился, и Мина ударил его шприц-тюбиком в бедро. Промедол подействовал быстро, и голову немного отпустило, хотя тошнота не прошла и даже усилилась.
– Держись, парень. Недолго осталось.
– Типун тебе на язык с твоим недолго. Я еще пожить хочу.
Мина ухмыльнулся и приложил ухо к двери. В часовне стояла мертвая тишина, не было слышно даже всхлипов. Гладилину удалось до полусмерти запугать своих узников.
...Тем временем Посейдон, когда Флинт и Ваффензее поравнялись с ним, крикнул:
– Эй, капитан! Давай решать вопрос, дети устали. Вот тебе твой приятель, пообщайся с ним.
Через несколько секунд послышался голос Гладилина:
– Пускай заходит. Здесь и потолкуем.
– Нет уж, сокол. Хрен тебе. Говори так.
Капитан подумал, затем крикнул:
– Ладно, черт с вами. Герр Ваффензее! Объясните мне и моему лучшему другу Сажину, что там у вас такое в ящике? Из-за чего сыр-бор?
– Это не ящик, – презрительно отозвался немец. – Это контейнер. Я не собираюсь кричать, я буду говорить только с глаза на глаз, в часовне.
Нужно вырваться из лап спецназа – это раз. Нужно не дать Гладилину наделать непоправимых глупостей – это два.
– Только не открывайте его, не стоит, – громко добавил Ваффензее.
– Слышали, Сажин? Вам придется подчиниться воле большинства. Демократия.
– Нас тоже двое, – откликнулся Каретников.
– Не смешите меня. Вас хоть целый полк набери – все один человек. Муравейник.
– Шеф, нельзя его отпускать, – сказал Флинт.
Посейдон промолчал.
Гладилин между тем чувствовал себя все увереннее. Рассудок вернулся – если можно его ограничить последовательным мышлением. Нервы у капитана были на пределе, но способность рассуждать восстановилась. Правда, теперь эти рассуждения протекали исключительно в структуре помешательства, однако сами по себе были вполне логичными.
– Сажин! Если через десять секунд Ваффензее не будет в часовне, я начну отстрел!
В ответ на это раздался плач, который вдруг резко оборвался. Пока что Гладилин выигрывал.
– Остановись, идиот! – закричал Посейдон. – Будет тебе Ваффензее! Уже пошел...
– Наручники снимите, – попросил Клаус.
– Перебьешься. Ступай, давай. Спасибо ему скажи, он сильно осложнил тебе жизнь.
На лице Ваффензее читалось торжество. Он и не ждал, что его раскуют, – попросил так, ради издевки.
Он двинулся к часовне, и ему отворил все тот же мальчишка.
В следующую секунду он скрылся внутри.
Посейдон посмотрел на часы: время летело неумолимо. Что теперь? Он колебался. Всякое силовое проникновение в часовню наверняка повлечет за собой жертвы. Значит, снова придется ждать, когда эти мерзавцы договорятся. Любое изменение ситуации может подсказать новый шанс, нужно только уметь его разглядеть.
...Голоса в часовне зазвучали чуть громче, и Мина весь обратился в слух. Торпеде было не до того, силы его покидали. Он привалился к бревенчатой стене, прикрыл глаза, перепоручив анализ обстановки товарищу. Он оставлял за собой лишь действия, берег себя для последнего прыжка.
– Ничего не разобрать, – с досадой пробормотал Мина.
Торпеда не ответил, и Мина посмотрел на него с тревогой. Посейдон через Флинта отдал ему приказ действовать по обстановке. Казалось бы – вот она, дверь, ерундовое препятствие, отделяющее его от врагов. Вообще не препятствие. Ворваться вихрем и положить обоих, все проблемы будут разрешены в секунду. Но Мина понятия не имел, что творится внутри. Эти гады могли сидеть на полу, окружив себя живым щитом. И он не услышит, как они встанут.
Голоса смолкли.
Затем Гладилин подошел к передней двери:
– Слушай меня, Сажин! Сейчас мы выйдем. Не делай глупостей, мы будем не одни. Мы пойдем на катер, и ты лично доставишь нас на берег. Только ты, и больше никого. Тебе понятно?
– Понятно, куда яснее, – незамедлительно ответил Посейдон. – Выходите, вас не тронут.
– Приготовься, – быстро шепнул Торпеде Мина.
Глава двадцать пятая
ДВА КАПИТАНА
Чтобы выйти наружу, Гладилину с Ваффензее волей-неволей пришлось повернуться лицом к двери, и этого оказалось достаточно, чтобы боковой вход на миг приоткрылся, и в часовню скользнули две стремительные тени. Мина и Торпеда ворвались бесшумно и сразу упали ничком, по-прежнему невидимые за фигурами заложников. Дети, слава Богу, встали на ноги. Кое-кто начал испуганно поворачиваться, но спецназовцы успели приложить пальцы к губам. Все висело на волоске: террористам нужно было всего лишь обернуться и присмотреться внимательнее; они, однако, не ждали подвоха со стороны.
Мина коротким жестом дал понять, что берет на себя капитана. Торпеда кивнул.
Гладилин и Клаус толкали перед собой двух ребят. Выбрали специально тех, кто повыше и постарше, чтобы не слишком открываться. Рюкзак с контейнером теперь находился у капитана за плечами.
Спецназовцы уже держали наготове ножи, они не хотели стрелять.
Торпеда успел, а Мина – нет.
Мина метнул нож в ту секунду, когда Гладилин распахнул дверь ногой и переступил порог; капитан отклонился совсем ненамного, и нож просвистел над его правым плечом. Тот даже не понял, что произошло, и рассудил о случившемся по сдавленному крику своего напарника.
Нож Торпеды вошел Клаусу Ваффензее точно между лопаток, пробив позвоночник.
В следующую секунду Гладилин отнял ствол пистолета от виска парнишки и сунул его тому под подбородок. Капитан заорал:
– Сажин, твою мать! Я успею снести ему башку, даже если ты выстрелишь в мою!
Он сместился влево, прижался спиной к стене часовни, и подобраться к нему сзади стало невозможно.
Одновременно в часовне поднялся вой. Нарыв лопнул, и дети уже не видели разницы между своими и чужими. Они бросились к выходу, и Мине пришлось опередить их, встать в дверях.
– Куда? – зарычал он, сдвигая брови. – Оставайтесь, где были. Еще немного, ребята, скоро пойдете домой...
Торпеда же, теряя силы, приблизился к Ваффензее, состояние которого было куда хуже. Немец лежал ничком, полуприкрыв глаза; изо рта слабыми толчками выплескивалась кровь. Торпеда перевернул Клауса на бок:
– Тебе окажут помощь. Но сначала ты скажешь мне, что в ящике.
Торпеду никто не уполномочивал это делать, но он чувствовал, что другой возможности у него может не быть.
Ваффензее молчал, тупо глядя куда-то в сторону.
– Ты сам себе роешь могилу, – настаивал Торпеда, тогда как у него самого все кружилось перед глазами, а тошнота и слабость становились нестерпимыми. – Одно слово – и я оставлю тебя в покое.
Однако немцу было просто трудно говорить.
– Не ящик... – пробормотал он еле слышно.
– Не ящик? – быстро переспросил Торпеда. – А что? Что это?
– Контейнер... я сказал...
– Хорошо, пусть. Можно догадаться. Что в контейнере?
Клаус Ваффензее закашлялся.
– Если повредить... всем конец... нельзя трогать...
– Да что там такое?! – заорал во весь голос Торпеда, уже не сдерживая себя. Он схватил немца за плечи и встряхнул, забывшись.
Вокруг стоял шум, снаружи неслись крики, но Торпеда ничего не слышал.
– Там... – Ваффензее закатил глаза так, что остались видными одни белки.
– Ну же!
Внезапно Клаус оскалил зубы.
– Шайсе, – сказал он по-немецки. – Русское животное... хлебайте сами теперь...
И он витиевато выругался, уже по-русски, очень искусно – Торпеде редко приходилось слышать такую музыку.
– Хорошо, хорошо, – закивал Торпеда. – Животное, шайсе, хорошо. Ты только скажи. Иначе можешь забыть про больничку...
– Засунь свою больничку... – пробормотал Ваффензее и больше ничего не сказал.
Его тело вдруг отяжелело, и Торпеда отпустил труп.
– Мина! – крикнул он. – Пусть командир не стреляет! В этом ящике какая-то зараза...
– Да! – послышался снаружи голос Гладилина. – Вы совершенно правы! Лучше не пробовать!
Посейдон мгновенно отреагировал:
– Это мы уже слышали! Раз так – отпусти мальчишку! Тебе хватит страховки!
– Остынь! Я никого не отпущу. Сейчас ты со своими псами пойдешь вперед. Потом ты, я и мальчишка войдем на катер, а остальные останутся. Тебе ясно? Продолжим разговор на берегу...
Посейдон еле заметно кивнул Флинту.
– Что же это такое, шеф? – с горечью спросил тот. – Он так и будет банковать?
Гладилин будто услышал его слова, хотя стоял слишком далеко.
– Мне нельзя даже падать, – предупредил он. – Понимаете, что это значит?
– Не пудри мне мозги, – отозвался Посейдон. – Мы волохали эту штуковину и так, и сяк. Корпус прочный. Если там какая-то взрывчатка, она бы давно сдетонировала.
– Там не взрывчатка, – усмехнулся капитан. – И никакого корпуса больше нет.
Внутри у Каретникова вдруг все похолодело.
– Вы... вы вскрыли его, что ли?
– Конечно. И то, что мы вынули, – оно очень хрупкое.
– Я не верю тебе. Покажи.
– Твое дело, не верь. Я не собираюсь тебе ничего доказывать.
– Хорошо, твоя взяла.
– Вот и славно. – Гладилин повернул голову – Вы, орлы! Двигайте за начальством и руки поднимите. Не дай Бог вам дернуться...
Он отошел еще на два шага в сторону, чтобы Мина не смог до него добраться. Мальчишка с запрокинутой головой был ни жив ни мертв. Мина медленно спустился по ступеням с поднятыми руками.
– Остальные! – крикнул капитан.
– Там только один, – огрызнулся Мина, не поворачивая головы.
– Врешь, сука.
– Ну, посмотри сам. Он ранен, можешь не бояться.
– Ага, – кивнул капитан. – И с немцем порядок?
– Вы с ним скоро встретитесь, – пообещал Мина, идя к Посейдону и Флинту.
Гладилин ждал, из часовни никто не выходил.
– Вызовите его! Иначе я вернусь внутрь и устрою бойню!
– Торпеда! – закричал Каретников. – Ты можешь идти?
Ответа не было. Торпеда показался в дверях через несколько секунд. Он с трудом передвигал ноги и смотрел прямо перед собой. Гладилин бросил на него быстрый оценивающий взгляд: обуза. Этого бугая придется тащить на себе, и движение замедлится. И оставлять в тылу нельзя.
Он стремительно шагнул обратно справа и врезал спецназовцу пистолетом по голове. Тот без звука рухнул на ступени.
– Ну, сволочь! – заорал Посейдон, бессильно стискивая кулаки. – Если ты его убил, я достану тебя из-под земли... На берегу, под водой, в преисподней – будь уверен...
– Там и встретимся, – не возражал Гладилин. – В преисподней. Начинай движение, командир. И вот еще что: у вас там браслеты при себе... ну-ка, наденьте их. Чтобы русская тройка получилась. Или шведская. Пойдете, взявшись за руки, а то еще разбежитесь в разные стороны и сзади зайдете...
Нечто подобное «Сирены» сами планировали, но капитаном руководило прежде незнакомое ему чутье. Дьявол, захвативший власть над островом Коневец, проник во все его члены, овладел мыслями и теперь направлял, преследуя неизвестную цель. И Гладилин не думал, что будет делать, скажем, через три-четыре часа, не говоря уже о завтрашнем дне. Его это не интересовало, он подчинялся засевшему в нем демону.
Тот же подсказывал ему правильные решения.
Похожие мысли посетили и Каретникова. Ему вдруг почудилось, что эсминец «Хюгенау», лежащий на дне, уже более не является ни страшным, ни опасным – несмотря на радиацию. Корабль выпустил свой последний заряд и если не поразил цель насмерть, то в любом случае причинил серьезные разрушения.
Когда они вышли к причалу, уже совсем рассвело.
Часовня осталась далеко позади; Каретников опасался, что дети в панике бросятся врассыпную и попадут под пули, которые – очень возможно – в скором времени полетят, да еще неизвестно, с чьей стороны; у него по-прежнему не было уверенности в непричастности к происходящему немецких гостей, оставшихся в отеле. Да и с родителей станется; еще занесет нелегкая кого-нибудь на причал.
Он беспокоился напрасно: в недавних узниках сработала парадоксальная реакция. Больше всего на свете им хотелось покинуть место своего заточения, но когда это стало возможным, они не осмелились разбежаться. Все, на что они решились – и то лишь некоторые, – это выйти наружу и окружить часовню, организовать нечто вроде опасливого наблюдения. Никто не смел удалиться более чем на десяток шагов; все вокруг таило в себе угрозу. И лики святых напрасно ждали молитвенных обращений, о них не вспомнил никто, и свечи бессмысленно догорали, святым не верил никто. Никому не пришло в голову, что, несмотря на пережитый кошмар, все остались целы и невредимы; в этом вполне могло проявиться небесное заступничество, но так уж устроен человек. Когда ему помогают, он очень часто не замечает этого или приписывает избавление естественному ходу вещей; но стоит случиться беде, как он начинает гневно вопрошать небеса о причинах бездействия.
...На пристани Гладилин приказал «Сиренам» остановиться.
Посейдон мрачно озирал окрестности: помощь, которой он еще недавно не хотел, теперь стала очень желательной, однако она не шла. Скорее всего, на «большой земле» сцепились разные ведомства и структуры, возникла неразбериха, и оставалось только гадать, чем она вызвана.
Сомнения, посеянные в его душе Маэстро, ожили с новой силой.
Какая, черт побери, связь между убийством Остапенко и происходящим на острове? Кто заткнул несчастному рот? Почему, если речь шла о контейнере с неким особо опасным содержимым, было допущено то развитие ситуации, которому он имеет удовольствие быть свидетелем? Не проще ли было утроить охрану?
Впрочем, на последний вопрос у него, пожалуй, имелся ответ. Очевидно, наверху хотели, чтобы противник проявился. Что ж – они своего добились, но слишком дорогой ценой. Он проявился, но оказался, похоже, не тем, кого ожидали. Или не только тем. Посейдон был уверен, что капитан Гладилин не был учтен и явился фактором, который спутал все карты. И теперь ни одна живая душа не возьмется предсказать, чем кончится дело.
Мальчишка, удерживаемый капитаном, уже почти превратился в безвольную тряпочную куклу.
– Расстегивайтесь, – приказал Гладилин, пятясь по сходням и поминутно оглядываясь. Ему приходилось нелегко: он держал на прицеле «Сирен», тащил заложника и в то же время рисковал упасть и приложиться рюкзаком. Последнего он явно хотел меньше всего прочего неприятного.
Спецназовцы повиновались.
– Теперь снова застегнитесь. Кроме Сажина.
– Руки натерли, командир, – криво усмехнулся Флинт.
– Рот прикрой. Сажин, двигай сюда, иди в рубку. Мина защелкнул наручники и был теперь прикован к Флинту. Среднее звено – Посейдон – выпало.
Гладилин ткнул мальчишку стволом под ребра:
– Ступай вперед, шевелись.
Он не стал заходить в рубку, боясь каверз со стороны оставшихся на причале Флинта и Мины.
– Заводи посудину! – крикнул он Каретникову – Только не говори мне, что сломалась. Пацан пострадает, жалко его.
Посейдон не собирался говорить ничего подобного. Он постарался максимально абстрагироваться от происходящего, одновременно оставаясь начеку. Мозг анализировал ситуацию в целом, а подсознание фиксировало малейшие изменения сиюминутной обстановки.
Он послушно завел двигатели, и через пару минут катер качнулся; между ним и причалом образовалась полоса воды, которая стремительно расширялась.
Чемодан-вокзал. Контейнер. Эсминец. Без надобности разгромленный цыганский особняк. Недостаток информации, сокрытие данных.
Посейдон никак не мог отогнать от себя слова «подстава».
«Подставы» практикуются спецслужбами всех стран. Рядовые исполнители, какими являются (являлись?) «Сирены», не должны знать подоплеки во всей ее полноте. Но Посейдон подозревал, что столкнулся не с обычным умалчиванием, здесь явно скрывалось что-то другое.
...Гладилин, не выпуская подростка, расположился у входа в рубку, чтобы обеспечить себе максимальный обзор.
– На берегу тебя уже наверняка будут ждать, – бесстрастно заметил Каретников.
– Посмотрим. Разберемся...
– Куда ты думаешь с этим податься? За кордон тебя все равно не выпустят.
– Не твоего ума дело. Ты знай рули себе.
Посейдон пожал плечами.
Спустя какое-то время остров Коневец остался далеко позади, и бескрайняя водная гладь, рассекаемая катером, могла показаться морем. Демон, тоже покинувший временное пристанище, незримо летел следом, без цели и смысла, одержимый недоступной рассудку жаждой разрушать и убивать.
Эпилог
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
Зал ожидания на Финляндском вокзале был почти пуст. Поезда дальнего следования отсюда почти не ходили, пути были заняты электричками, и долго ждать не приходилось. В заднем ряду дремал испитой мужик, и мимо него уже дважды проходила милиция, присматриваясь. Двое мужчин, устроившиеся в центре, тоже обратили на него внимание, но будто бы мельком, поверхностно; на самом деле они изучили и «прокачали» соседа куда обстоятельнее, чем стражи порядка.
Оба были людьми уже не первой молодости и походили один на другого: уютные отцы семейств, приближающиеся к пенсии, с уже отчетливо наметившимися животами. Одеты неброско, дешево; при себе, однако, не имели никаких вещей и вряд ли собирались к семьям на дачу. Один ел мороженое, второй попивал минералку из пластиковой бутылки. Оба выглядели беззаботными и вполне мирными гражданами.
Мужчины разговаривали, и со стороны никто и никогда не догадался бы о предмете беседы. В разговоре имелась странность: даже будучи в двух шагах от собеседников, никто не разобрал бы ни слова. В этом было особое умение: говорить, на первый взгляд, достаточно громко, но на деле – почти беззвучно. Оба обладали отменным слухом.
Вокзал считался хорошим местом, где можно и затеряться, и уклониться от прослушивания. В том же, что два матерых оперативника встретились и о чем-то толкуют, не виделось ничего особенного – у коллег не должно было возникнуть никаких подозрений.
– Снять его не получится, – говорил первый. – Пока при нем груз, это невозможно, и нам придется выполнить условия. Я отдал приказ.
– Тебя не хватятся в штабе? Ты должен быть там.
– Я пока еще могу не отчитываться в своих разъездах.
– Но ты и в самом деле должен.
Тот махнул рукой:
– Сейчас в этом нет острой нужды. Парень банкует – пускай. Мы дождемся, когда он останется налегке.
– Это может произойти где угодно. В Тегеране или Пхеньяне, допустим.
– Не каркай. Пусть поверит, что держит всех под контролем.
– Так оно и есть, – мрачно усмехнулся второй. – А что Посейдон? Его надо выводить из игры, он не оправдал ожиданий. И группа в раздрае.
– Его вообще неплохо списать, – задумчиво молвил первый. – Мы же сошлись в том, что у него неизбежно возникнут подозрения. Эта встреча с командиром первой боевой группы... она была совершенно ни к чему.
– Согласен, – кивнул второй. – Но...
– Но нельзя, – подхватил собеседник. Справа от него зашуршала тележка на колесиках, которую катила горбатая бабушка, и он настороженно взглянул в ее сторону. Дождавшись, когда ведьма скроется из вида, продолжил: – Мы не можем задействовать новых людей, мы и так, считай, засветились.
– Ну, не преувеличивай. Никто ни о чем не знает.
Первый остро посмотрел на него:
– А может, к черту все это? Так ли велика опасность? И почему, черт побери, мы должны его выручать? Он дышит на ладан, скоро откинет копыта...
– Но еще не откинул. Ты сам знаешь, что выбора нет. Эта сволочь все знает и сгноит нас.
– Но ему-то зачем? Никто ему ничего не сделает, просто не успеет. Помирать скоро...
Второй раздраженно передернул плечами:
– Кто его разберет. Может быть, у него маразм, старческая паранойя. И нам придется считаться с его слабоумием.
Первый вздохнул:
– Ладно, проехали. Будем, стало быть, использовать Посейдона дальше. Только как бы он не сыграл свою игру.
Второй фыркнул:
– Да какая у него игра! Какой ему интерес?
– У таких всегда бывает интерес... – задумчиво проговорил первый. – Самый неприятный вариант, ты знаешь. Идеалист-правдолюбец. Его психологический портрет наводит на печальные мысли.
– Они все такие, эти командиры-спецназовцы. С другим выйдет та же история, даже хуже, если тот примет во внимание уже случившееся. А он примет.
– Что с Соломоном Красавчиком?
Второй едва удержался, чтобы не сплюнуть в досаде.
– Ищут, дружище. Ищут. Роют землю, но он как провалился.
– Может быть, все-таки сдох? Ошибка?
– Вряд ли. Это очень хитрый и осторожный черт. Унюхал и смылся. Я уверен, что все эти годы он ждал, когда за ним явятся.
Визави снял шляпу, пригладил редкие седые волосы, подержался за виски.
– Ума не приложу – и почему было не убрать их сразу? На что надеялись?
– Да кто же знал, что все рухнет? Оставили жить, наблюдали за поведением на воле...
– Наблюдали, – передразнил собеседник. – Уж сколько лет, как пропал!
– Не до него стало, бдительность снизилась.
– Да знаю я...
Оба замолчали. Первый скомкал обертку от мороженого и сунул в карман плаща, второй отхлебнул из бутылки. Где-то далеко громкоговоритель твердил, как попугай, одно и то же про неминуемое отправление поезда в Невскую Дубровку.
– Красавчика мы рано или поздно уберем. Но с Посейдоном и его людьми сложнее. Бросим их на нашего террориста, возьмут они его – а дальше?
– Будет день, будет и пища. Бросить их на него не так просто. Это же все-таки подводный спецназ, а действия переместились на сушу.
– Ничего, справимся. Но дальше-то, потом? Что, если Каретников завладеет грузом?
– Не каркай. Мы уничтожим груз.
– А если нет? Если он сдаст его по адресу? Он ведь сдаст.
Второй недовольно посмотрел на первого:
– Знаешь, у тебя нервы сдают. Это никуда не годится. Чего ты расклеился? Еще ничего не случилось, о нас никто не знает.
– Мы напрасно перебили цыганье. И доктора с Остапенкой поручили дебилам.
– И что? Цыганье передохло, и дебилы тоже под асфальтом.
– Волна, волна пошла. Круги... На всех асфальта не хватит.
– Хватит. – Второй встал и потрепал его по плечу – Давай материал. А то получится, что потрепаться пришли, о главном забыли.
Первый полез за пазуху, вынул диск в футляре без подписи.
– И это все о нем, – прокомментировал он с напускным весельем.
– Винчестер потер?
Тот улыбнулся:
– Странный вопрос.
– Шучу, шучу. Давай, не вешай нос. Уходи через десять минут.
– Не учи ученого. Ты что, стажера инструктируешь?
Они обменялись рукопожатием, и второй неспешно направился к выходу. Первый втянул голову в плечи, поерзал на жестком сиденье, сунул руки в карманы. Правая наткнулась на обертку от мороженого. Что-то с этим мороженым было не так. Зря он купил.
Он?..
Мгновенно всплыла картина: коллега отходит от лотка, в одной руке держит бутылку с минералкой, в другой – эскимо.
Первый вскочил и сразу упал обратно, ноги отказывались служить. Он раскрыл рот, чтобы крикнуть, но гортань перехватило спазмом. Лицо вдруг покрылось испариной, по нему разлилась смертельная бледность.
...Второй стоял в очереди за билетами. Он дождался криков, послышавшихся из зала ожидания, покинул свое место и рассеянно направился к платформам, где быстро затерялся в толпе.