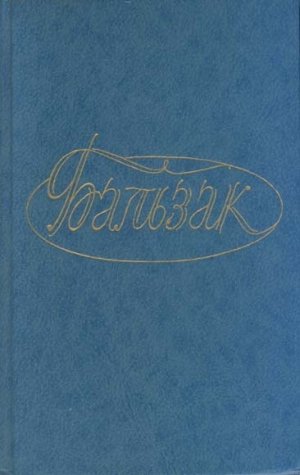
Маркизу Дамазо Парето.
Мне всегда хотелось рассказать простую и правдивую историю, слушая которую молодой человек и его возлюбленная, охваченные страхом, укрылись бы в объятиях друг друга, как двое детей прижимаются один к другому, набредя на змею у лесной опушки. Рискуя уменьшить интерес к моему рассказу или прослыть за фата, я с самого начала открываю вам цель моего повествования. Я был одним из участников этой, почти обыденной, драмы; если она не заинтересует вас, в этом будет столько же моя вина, сколько и вина исторической правды. Многое из того, что действительно случается, чрезвычайно скучно. Поэтому половина таланта заключается в умении выбрать из действительной жизни то, что может стать поэтическим.
В 1819 году я ехал из Парижа в Мулен. Состояние моего кошелька вынуждало меня путешествовать на империале дилижанса. Как вы знаете, англичане считают наилучшими эти места, расположенные на крыше кареты, на воздухе. Пока дилижанс отмеривал первые лье пути, я нашел тысячу превосходных доводов, подтверждающих мнение наших соседей. Один молодой человек, казавшийся несколько богаче меня, также предпочел подняться наверх и сел на скамейке рядом со мною. Я изложил ему мои доводы — он выслушал их с безобидной улыбкой. Более или менее одинаковый возраст, схожий образ мыслей, присущая нам обоим любовь к открытому воздуху, к живописным видам тех местностей, которые развертывались перед нами по мере движения тяжелой кареты, наконец какое-то необъяснимое магнетическое притяжение — все это вскоре породило между нами ту кратковременную близость, которой путешественники предаются тем охотнее, что этому мимолетному чувству суждено, как они думают, вскоре угаснуть и оно не влечет за собой никаких обязательств. Мы еще не проехали и тридцати лье, как уже толковали о женщинах и любви. Со всеми ораторскими предосторожностями, подобающими в таких случаях, мы, что само собою понятно, заговорили о наших возлюбленных. Оба мы были молоды, оба еще переживали то время, когда кажутся всего обаятельней женщины известного возраста, иными словами, женщины между тридцатью пятью и сорока годами. О! Поэт, который слушал бы наш разговор от Монтаржи до не знаю уж какой почтовой станции, запомнил бы не одно пламенное выражение чувства, не один восхитительный портрет и не одно сладкое признание. Наша застенчивая несмелость, наши восклицания без слов и наши еще стыдливые взоры были полны того красноречия, наивную прелесть которого мне впоследствии уже не удалось обрести вновь. Поистине, нужно оставаться молодым, чтобы понимать молодость. Поэтому мы как нельзя лучше поняли друг друга во всех основных вопросах страсти. Прежде всего мы выставили теоретический и практический тезис, что нет ничего глупее метрического свидетельства, что встречается немало сорокалетних женщин более молодых, чем иные двадцатилетние, и что в конце концов, если говорить о действительном возрасте, то женщинам столько лет, сколько это кажется. Эта теория не ставила любви никаких ограничений, и мы с совершенным чистосердечием плавали в беспредельном океане. Наконец, после того как мы сделали наших любовниц молодыми, прелестными, преданными графинями, полными вкуса, остроумными, изысканными, после того, как мы одарили их красивыми ножками, атласной, даже слегка душистой кожей, мы признались друг другу: он — в том, что госпоже такой-то тридцать восемь лет, а я, со своей стороны, в том, что страстно люблю сорокалетнюю.
После этого, освободившись от смутного чувства опасения и оказавшись собратьями в любви, мы с еще большим жаром продолжали поверять друг другу свои тайны. Каждый из нас старался перещеголять другого в проявлениях чувствительности. Один проехал однажды двести лье, чтобы иметь возможность провести час со своей возлюбленной. Другой, чтобы явиться на ночное свидание, не побоялся, что его примут за волка и застрелят в чужом парке. Словом, мы перечислили все наши безумства! Если приятно возвращаться памятью к минувшим опасностям, то не сладко ли вспоминать и былые наслаждения: ведь это значит — наслаждаться дважды. Опасности, радости — большие и малые — мы все друг другу поверяли. Графиня, возлюбленная моего друга, как-то выкурила сигару, чтобы сделать ему удовольствие; моя возлюбленная собственноручно варила мне шоколад и не могла дня прожить, не написав мне или не увидевшись со мною; его возлюбленная прожила у него три дня, рискуя погубить себя; моя сделала еще лучше, или, если угодно, еще хуже. К тому же супруги обожали наших графинь; они были рабски им подчинены, покоряясь тому обаянию, которое присуще всем любящим женщинам; и, более глупые, чем того требует традиция, они были опасны нам ровно настолько, насколько надо было, чтобы увеличить наши наслаждения. О, как быстро уносил ветер наши слова и наш сладкий смех!
Подъезжая к Пуйи, я внимательно вгляделся в моего нового друга. Поистине, я легко поверил тому, что он серьезно любим. Представьте себе юношу среднего роста, хорошо сложенного, с привлекательным и выразительным лицом. У него были черные волосы, голубые глаза, нежно-розовые губы, белые, мелкие и ровные зубы; приятная бледность, разлитая по тонким чертам его лица, и легкие коричневатые круги под глазами делали его похожим на выздоравливающего. Добавьте к этому, что у него были белые, красивые руки, холеные, как руки красивой женщины, что он производил впечатление человека весьма образованного, был остроумен, и вы легко согласитесь, что мой попутчик не уронил бы достоинства любой графини. Он был бы желанным женихом для многих девушек, ибо был виконтом и имел от двенадцати до пятнадцати тысяч ливров годового дохода, не считая видов на будущее.
Не доезжая одного лье до Пуйи, дилижанс опрокинулся. Мой несчастный товарищ, вместо того чтобы ухватиться, по моему примеру, за скамейку и последовать за движением падающей кареты, счел более для себя безопасным спрыгнуть на край свежевспаханного поля. Плохо ли он рассчитал свой прыжок или поскользнулся, этого сказать я не могу, но только он попал под карету и был ею раздавлен. Мы перенесли его в ближайший крестьянский дом. Сквозь стоны, исторгаемые у него страшной болью, он с трудом завещал мне выполнение одного из тех поручений, которым последнее желание умирающего придает священный характер. Со всем простосердечием, столь часто присущим его возрасту, бедный мальчик терзался в предсмертный час мыслью о том горе, которое испытала бы его возлюбленная, неожиданно узнав о его смерти из газет. Он попросил меня лично сообщить ей это известие. Потом велел мне отыскать на его груди привязанный к ленточке ключ, который он носил на шее. Я нашел этот ключ наполовину вдавленным в его тело. Умирающий не издал ни единой жалобы, пока я со всей осторожностью извлекал ключ из раны. Он объяснил мне, где спрятаны у него в доме, в Шарите-сюр-Луар, письма его возлюбленной, и умолял меня вернуть ей эти письма. На полуслове голос его прервался; последним жестом он дал мне понять, что роковой ключ послужит подтверждением возложенного на меня поручения в глазах его матери. Опечаленный тем, что он уже не в силах выговорить ни слова благодарности — ибо в моей готовности выполнить его поручение он не сомневался, — он посмотрел на меня долгим, умоляющим взором, простился со мной чуть заметным движением ресниц, затем поник головой и скончался. Его смерть была единственным трагическим последствием падения дилижанса.
— Да и то сказать, он сам тут не без вины, — заметил возница.
По прибытии в Шарите я выполнил устное завещание бедного путешественника. Его матери не оказалось дома; это было счастьем для меня.
Все же мне пришлось выдержать приступ горя старой служанки; она пошатнулась, когда я рассказал ей о смерти ее молодого господина, а увидя ключ, еще обагренный кровью, упала полумертвая на стул. Но я был поглощен мыслью о более возвышенном страдании — о страдании женщины, у которой судьба отнимала ее последнюю любовь. И потому я предоставил старой служанке изливать свое горе потоком прозопопей и вышел, унося драгоценную переписку (мой однодневный друг тщательно запечатал ее).
Замок, в котором жила графиня, находился в восьми лье от Мулена, и чтобы добраться до него, нужно было еще проехать несколько лье по имению. Мне было нелегко в те дни исполнить возложенное на меня поручение. Вследствие стечения некоторых обстоятельств, останавливаться на которых бесполезно, у меня нашлось ровно столько денег, сколько нужно было, чтобы доехать до Мулена. Однако, воодушевленный энтузиазмом юности, я решил пройти весь путь пешком и при этом идти с такой скоростью, которая позволила бы мне опередить дурные вести, хоть они и славятся быстротой своего распространения. Разузнав кратчайшую дорогу, я шел бурбоннезскими тропинками, и с таким чувством, словно нес мертвеца на своих плечах. По мере того, как я приближался к замку Монперсан, мое странное путешествие все более и более пугало меня. Воображение рисовало мне тысячу романических фантазий. Я представлял себе все те положения, при которых могла бы состояться моя встреча с графиней де Монперсан, или — подчиняясь поэтике романов — с той Жюльеттой, которую так горячо любил юный путешественник. Я готовил остроумные ответы на ожидаемые мною вопросы. На каждом повороте лесной опушки, в каждой лощине, куда опускалась дорога, повторялась та сцена из комедии, в которой Созий рассказывает о битве своему фонарю. К стыду моему, я думал сначала лишь о своих манерах, о своем остроумии, о той ловкости, которой хотел блеснуть; но когда я был уже в окрестностях замка, страшная мысль пронзила мою душу, как молния бороздит и разрывает пелену серых туч. Какая ужасная весть для женщины, которая ценою бесчисленных усилий ввела, не нарушая приличий, своего юного возлюбленного к себе в дом и теперь, вся поглощенная мыслью о нем, с часу на час ждет несказанных радостей! Наконец какое-то жестокое милосердие заключалось в тяжелой обязанности быть вестником смерти. И я ускорил шаг, увязая в грязи местных дорог. Вскоре я достиг просторной каштановой аллеи: в ее глубине, подобно ясным, фантастическим контурам неких коричневых туч, вырисовывались на фоне неба массивные очертания замка Монперсан. Подойдя к воротам замка, я увидел, что они открыты. Это неожиданное обстоятельство разрушало все мои планы и предположения. Тем не менее я храбро вошел во двор. Тотчас по бокам моим очутились две собаки и залились звонким лаем, как истые деревенские псы. На шум выбежала служанка. Услышав, что я хотел бы увидеть графиню, она показала мне рукой на массивы английского парка, змеившегося вокруг замка, и ответила:
— Госпожа вон там.
— Спасибо! — сказал я иронически. Это «вон там» могло стоить мне двухчасового блуждания по парку.
Тем временем появилась миловидная, кудрявая девочка, с розовым поясом, в белом платьице и пелеринке со складками. Она слышала вопрос и ответ, либо догадалась о них. Увидев меня, девочка скрылась, крикнув тоненьким голоском:
— Мама, какой-то господин хочет тебя видеть!
А я последовал за нею, наблюдая, как мелькает и подпрыгивает на поворотах аллей ее белая пелеринка, которая, подобно блуждающему огоньку, указывала мне дорогу. Буду откровенным до конца. У последнего куста аллеи я поднял воротник, почистил свою дешевую шляпу и панталоны обшлагами сюртука, сюртук — рукавами, а рукава — друг об друга. Затем я тщательно застегнул сюртук, чтобы показать оборотную сторону отворотов, — она всегда кажется немного новее, чем лицевая сторона; наконец я артистически вычистил сапоги травой и спустил на них панталоны. Приукрасив таким гасконским способом свою наружность, я надеялся, что уже не буду принят за рассыльного субпрефектуры; но теперь, переносясь мыслью к этому часу моей юности, я порой сам смеюсь над собой.
Внезапно, когда я обдумывал, как мне следует держать себя, на зеленом повороте тропинки, среди бесчисленных цветов, освещенных жарким солнечным лучом, я увидел Жюльетту и ее мужа. Миловидная девочка держала мать за руку. Видно было, что графиня ускорила шаг, услышав заинтересовавшие ее слова ребенка. При виде незнакомца, отвесившего ей довольно неловкий поклон, она, удивленная, остановилась, приняла холодно-вежливый вид и сделала очаровательную гримаску, выдавшую мне все ее обманутые надежды. Я тщетно искал одну из тех эффектных фраз, на составление которых потратил столько труда. За это мгновение обоюдного колебания на сцене появился муж. Миллионы мыслей промелькнули в моем мозгу. Чтобы что-нибудь сказать, я осведомился, действительно ли я вижу перед собою графа и графиню де Монперсан. Эти глупые слова дали мне время рассмотреть и понять, с проницательностью, редкой в столь юные годы, стоящих передо мною супругов, одинокую жизнь которых мне предстояло так резко взволновать. Муж, по-видимому, принадлежал к типу тех дворян, которые являются в наше время лучшим украшением наших провинций. На нем были широко скроенные башмаки с толстыми подошвами: я ставлю их на первое место, потому что они поразили меня еще более, чем его выцветший черный сюртук, поношенные панталоны, небрежно завязанный галстук, покоробившийся воротник его рубашки. В этом человеке было что-то от судьи, еще больше — от советника местной префектуры; в нем была важность кантонального мэра, чья воля — закон, и кислая уязвленность кандидата, периодически проваливающегося на выборах, начиная с 1816 года; невероятная смесь деревевского здравого смысла и глупейших предрассудков; отсутствие светских манер, но высокомерие богатства; он, видимо, находился в подчинении у жены, а воображал себя владыкой семьи и всегда был готов взбунтоваться из-за какой-нибудь мелочи, не обращая внимания на вещи более существенные; в довершение представьте себе увядшее, морщинистое, загорелое лицо, седые, длинные, редкие, прилизанные волосы — и вы получите портрет этого господина. Но графиня! О, какую представляла она яркую и резкую противоположность своему супругу! То была маленькая женщина с худощавой и грациозной фигурой, с восхитительной осанкой, такая тонкая, нежная и хрупкая, что, казалось, разобьешь ее, если коснешься. Она была в белом муслиновом платье, с розовым поясом, в изящном чепчике с розовыми лентами, в шемизетке, под которой так восхитительно обрисовывались ее плечи и прелестно очерченная грудь, что при виде их в глубине сердца зарождалось непобедимое желание обладать ими. У нее были живые, черные, выразительные глаза, мягкие движения, прелестная ножка. Старый ловелас дал бы ей не более тридцати лет, так много молодости сохранилось в очертаниях ее лба и в других, наиболее чувствительных к возрасту чертах лица. Что касается ее характера, мне показалось, что в нем есть что-то напоминающее графиню де Линьолль и маркизу де Б. — эти два женских типа, всегда живые в памяти молодого человека, прочитавшего роман Луве. Я вдруг проник во все семейные тайны этой четы и принял дипломатическое решение, достойное старого посланника. Быть может, то был единственный случай в моей жизни, когда я проявил такт и понял, в чем состоит искусство придворных, а также светских людей.
После тех беззаботных дней мне пришлось выдержать слишком много битв, которые научили меня взвешивать самые незначительные поступки с точностью химика в его лаборатории и не делать ничего, не соблюдая той размеренности этикета и хорошего тона, которые засушивают самые великодушные движения чувств.
— Граф, мне хотелось бы переговорить с вами наедине, — сказал я с таинственным видом и отступил на несколько шагов назад.
Он последовал за мною. Жюльетта оставила нас вдвоем и удалилась с равнодушием женщины, уверенной в том, что она сумеет всегда, когда захочет, узнать все секреты своего мужа. Я вкратце рассказал графу о смерти своего попутчика. Впечатление, произведенное на него этим известием, показало мне, что он питал довольно живое, дружеское чувство к своему юному сотруднику, и это обстоятельство дало мне смелость подать следующую реплику в диалоге, последовавшем между нами.
— Жена моя будет в отчаянии, — воскликнул он, — и мне придется прибегнуть ко многим предосторожностям, чтобы сообщить ей об этом злосчастном событии!
— Милостивый государь, — сказал я, — моей обязанностью было обратиться сначала к вам. Я не хотел выполнить это поручение, возложенное на меня незнакомцем по отношению к графине, не уведомив об этом вас; но он доверил мне одно тайное завещательное распоряжение, ни в чем не нарушающее требований чести, — одну тайну, которой я не властен располагать. То высокое представление о вашем характере, которое я почерпнул из его слов, дало мне основание думать, что вы не воспротивитесь выполнению его предсмертного пожелания. Графиня сможет, если захочет, раскрыть эту тайну, о которой я обязан молчать.
Услышав столь лестный отзыв о своей особе, граф с приятностью кивнул головой. Он ответил мне каким-то довольно замысловатым комплиментом и в заключение предоставил мне свободу действий. Мы вернулись к графине. В это время звон колокола возвестил о том, что настал час обеда. Граф пригласил меня отобедать с ними. Жюльетта, увидев нас серьезными и молчаливыми, украдкой окинула нас взором. Когда же ее муж, к ее удивлению и недоумению, воспользовался каким-то пустячным предлогом, чтобы оставить нас с нею вдвоем, она остановилась и метнула в меня одним из тех взглядов, которые умеют бросать только женщины. В ее взоре было все любопытство, допустимое для хозяйки дома, которая принимает у себя незнакомца, точно с неба свалившегося; в нем были все вопросы, вызываемые моей одеждой, молодостью и выражением моего лица (а они составляли необычайный контраст друг с другом!); затем — все пренебрежение боготворимой любовницы, в глазах которой все мужчины — ничто, за исключением одного; в нем были невольные опасения, боязнь, досада при мысли, что ей придется занимать неожиданного гостя, в то время как она, очевидно, хотела приберечь для своей любви все наслаждение одиночества.
Я понял это немое красноречие и ответил на него улыбкой, полной сострадания и участия. В течение одного мгновения я любовался Жюльеттой; она стояла во всем блеске своей красоты, озаренная светом безоблачного дня, среди узкой, обсаженной цветами аллеи. При виде этой восхитительной картины я не смог удержаться от вздоха.
— Увы, сударыня, я только что совершил очень тяжелое для меня путешествие, Я предпринял его… ради вас одной.
— Сударь! — сказала она.
— Я явился к вам от имени того, кто зовет вас Жюльеттой, — продолжал я. Она побледнела. — Вы сегодня не увидите его.
— Он болен? — тихо спросила она.
— Да, — ответил я. — Не теряйте самообладания, умоляю вас. Он поручил мне передать вам некоторые касающиеся вас вещи, которые известны лишь вам и ему, и верьте, что никогда посланный не был более молчалив и предан.
— Что же случилось?
— А если он не любит вас больше?
— О! Это невозможно! — воскликнула она с легкой, не слишком искренней улыбкой.
Вдруг какой-то трепет пробежал по ее телу, она кинула на меня дикий и быстрый взгляд, покраснела и сказала:
— Он жив?
Боже! Какое страшное слово! Я был слишком молод, чтобы выдержать то выражение, с которым оно было сказано, и растерянно смотрел на несчастную женщину.
— Сударь! Сударь, отвечайте! — воскликнула она.
— Да, сударыня.
— Это правда? О, скажите мне правду, я в силах услышать ее. Скажите! Эта неизвестность мучительнее всякого горя.
В ответ у меня выступили слезы, так непередаваем был голос, произнесший эти слова.
Со слабым криком она прислонилась к дереву.
— Сударыня, — сказал я ей, — вот ваш муж.
— Разве есть у меня муж!
С этими словами она кинулась прочь и исчезла.
— Пора! Обед стынет! — воскликнул граф. — Идемте, сударь.
Я последовал за хозяином дома. Он провел меня в столовую; там, на столе, накрытом со всей той роскошью, к которой приучил нас Париж, был уже подан обед. Было накрыто пять приборов: приборы супругов и их маленькой дочери, мой прибор, который должен был быть его прибором; последним был прибор одного каноника из Сен-Дени, который, прочтя предобеденную молитву, спросил:
— Где же наша милая графиня?
— Она сейчас придет, — ответил граф.
Проворно налив нам супу, он доверху наполнил свою тарелку и с изумительной быстротой опорожнил ее.
— Ого, племянник! — воскликнул каноник. — Будь здесь ваша жена, вы проявили бы больше благоразумия.
— Теперь папе будет нездоровиться, — сказала с лукавым видом девочка.
Вскоре после этого оригинального гастрономического эпизода, в ту минуту, когда граф проворно разрезал поданную дичь, вошла горничная и сказала:
— Месье, мы нигде не можем разыскать мадам.
При этих словах я резким движением поднялся с места, боясь, не случилось ли несчастье. Опасения так живо отразились на моем лице, что каноник последовал за мною в сад. Муж, из приличия, дошел до двери.
— Останьтесь! Останьтесь! Не беспокойтесь! — крикнул он нам.
С нами он, однако, не пошел. Каноник, горничная и я обошли тропинки и лужайки парка, зовя, прислушиваясь и тревожась тем более, что я сообщил моим спутникам о смерти молодого виконта. На бегу я рассказал им, при каких обстоятельствах произошло это роковое событие, и заметил при этом, что горничная чрезвычайно привязана к своей госпоже: она гораздо живее каноника почувствовала тайные основания моего страха. Мы отправились к прудам, мы обшарили все уголки и нигде не нашли графини или хотя бы ее следов. Наконец, на обратном пути, проходя вдоль стены, я услышал глухие, подавленные стоны, доносившиеся из какого-то строения вроде риги. На всякий случай я вошел туда. Мы увидели Жюльетту: движимая отчаянием, она инстинктивно зарылась в сено и, повинуясь чувству неодолимой стыдливости, спрятала в него голову, чтобы заглушить вырывавшиеся у нее ужасные крики. Она рыдала, плакала, как ребенок, но плач ее был более раздирающим, более жалобным, чем плач ребенка. Ничего больше не оставалось у нее в мире. Горничная приподняла свою госпожу — та не сопротивлялась с вялым безразличием умирающего животного. Не зная, что сказать, служанка повторяла:
— Идемте, госпожа, идемте.
Старый каноник спрашивал:
— Да что с ней? Что с вами, племянница?
Наконец с помощью горничной мне удалось перенести Жюльетту в ее комнату, Я настойчиво посоветовал наблюдать за нею и объявить всем, что графиня больна. Затем мы с каноником спустились в столовую. Мы уже довольно давно покинули графа, я вспомнил о нем, только проходя по галерее, и мысленно подивился его равнодушию. Мое удивление еще более возросло, когда я увидел, что граф сидит с философским хладнокровием за обеденным столом: он съел почти весь обед — к великому наслаждению дочери, улыбавшейся при виде того, как отец нарушает все предписания ее матери. Легкая стычка между графом и каноником объяснила мне странную беззаботность этого супруга. Врачи, чтобы излечить графа от какой-то серьезной болезни, название которой ускользнуло из моей памяти, предписали ему строгую диету. А он страдал жестокой прожорливостью, как это часто бывает у выздоравливающих, животная алчность перевесила в нем все человеческие чувства. Я увидел природу во всей ее подлинной реальности, одновременно в двух разных, глубоко различных обличиях, я мог наблюдать комическое рядом с самым ужасным страданием. Вечер прошел печально. Я был утомлен. Каноник напрягал все силы своего ума, чтобы догадаться, почему плакала его племянница. Муж молча переваривал съеденный обед, удовлетворившись довольно смутным разъяснением, полученным от жены через горничную: кажется, графиня объяснила свое состояние одним из обычных женских недомоганий. Все мы легли рано. Лакей повел меня в отведенную мне комнату. Проходя мимо спальни графини, я робко осведомился о том, как она себя чувствует. Узнав мой голос, она попросила меня войти, хотела заговорить со мной; но, не будучи в силах произнести ни слова, она наклонила голову, и я удалился. Несмотря на мучительные чувства, пережитые мною за этот день со всей искренностью юности, утомление от тяжелого пешего перехода взяло свое: я уснул. В поздний ночной час меня разбудил легкий шорох: то порывисто скользнули вдоль железного прута кольца моей занавески. Я увидел, что в ногах моей кровати сидит графиня. Свет лампы, поставленной на стол, ярко освещал ее лицо.
— Да правда ли все это, сударь? — сказала она. — Я не знаю, как смогу я жить после такого страшного удара. Но сейчас я спокойна. Я хочу все узнать.
«Ну и спокойствие!» — сказал я себе, видя пугающую бледность ее щек, оттеняемую каштановыми волосами, слыша глубокий, глухой звук ее голоса, поражаясь тому опустошению, которое произвела скорбь в чертах ее лица. Она уже поблекла, как лист, с которого сбежали последние осенние краски. В ее покрасневших, вспухших глазах, утративших все свое очарование, отражалась лишь горькая, глубокая скорбь: как будто серая туча нависла там, где раньше искрилось солнце.
Не останавливаясь на слишком мучительных для нее обстоятельствах, я безыскусственно описал ей то мгновенно разыгравшееся происшествие, которое отняло у нее ее возлюбленного. Я рассказал ей про первый день нашего путешествия, исполненный воспоминаний об их любви. Она не плакала, она жадно слушала, наклонив ко мне голову, как усердный врач, определяющий болезнь. Я улучил минуту, когда мне показалось, что она до конца открыла свое сердце страданию и хочет окунуться в свое горе со всей той безудержностью, которая рождается из первого пыла отчаяния; тогда я заговорил о тех опасениях, которые волновали бедного юношу перед смертью, и рассказал ей, как и почему возложил он на меня роковое поручение. Мрачный пламень, вырвавшийся из глубочайших недр души, осушил слезы на ее глазах. Как это ни трудно себе представить, но она побледнела еще больше. Я протянул ей привезенные мною письма — они хранились у меня под подушкой. Она машинально взяла их; потом, содрогнувшись, сказала глухим, беззвучным голосом:
— А я-то жгла его письма! У меня ничего не осталось от него. Ничего! Ничего!
Она с силой ударила себя по лбу.
— Сударыня, — сказал я. Она судорожным движением повернулась ко мне. — Я отрезал прядь его волос: вот она.
И я вручил ей этот последний, нетленный остаток того, кого она любила. Ах! Если бы на ваши руки упали те жгучие слезы, которые упали на мои, вы узнали бы тогда, что такое благодарность, когда она так близка от благодеяния! Графиня сжала мои руки в своих.
— Ах! Вы любите! — сказала она придушенным голосом, устремив на меня взгляд, блестящий от лихорадочного возбуждения, взгляд, в котором ее хрупкая радость сияла сквозь мучительное страдание. — Так будьте же вечно счастливы. Да минует вас утрата любимой женщины.
Она не договорила и выбежала со своим сокровищем.
На следующий день эта ночная сцена, слившаяся с моими сновидениями, показалась мне фантазией. Я поверил в ее реальность лишь после того, как, несмотря на тщательные поиски, убедился в отсутствии писем под своей подушкой.
Было бы бесполезно рассказывать вам события следующего дня. Я провел еще несколько часов с той Жюльеттой, которую так восхвалял мой бедный попутчик. Малейшее слово, жест, поступок этой женщины свидетельствовали о благородстве ее души и тонкости ее чувств; видно было, что она принадлежала к числу тех, столь редких на нашей земле существ, которые созданы для любви и самоотвержения. Вечером граф де Монперсан лично отвез меня в Мулен. Когда мы прибыли туда, он сказал мне с некоторым замешательством:
— Сударь, если вы не сочтете, что мы злоупотребляем вашей любезностью и поступаем неделикатно в отношении незнакомого нам человека, которому столь многим обязаны, не будете ли вы так любезны, раз вы едете в Париж, передать там господину де… (фамилию я забыл), проживающему на улице Сантье, некоторую сумму, которую я ему должен. Я получил от него письмо, в котором он просит срочно вернуть ему этот долг.
— Охотно, — сказал я.
И в простоте душевной я взял у графа двадцать пять луидоров; на эти деньги я доехал до Парижа, а потом добросовестно вернул их мнимому кредитору господина де Монперсана.
Только в Париже, относя деньги в указанный графом дом, я понял, с какой ловкостью и изобретательностью Жюльетта сумела оказать мне услугу. В способе, каким мне было дано взаймы это золото, в деликатном умолчании о бедности, угаданной без труда, сказалась вся нежность и проницательность любящей женщины.
Какое наслаждение — рассказать об этом приключении женщине, которая, выслушав ваш рассказ, испуганно прижмет вас к своему сердцу, которая скажет вам: «О дорогой мой, но ты-то не умирай!»
Январь 1832 г.