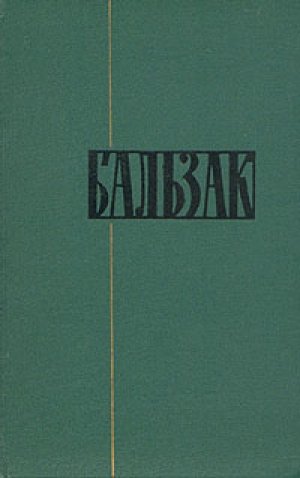
В наши дни литература, как это легко заметить, имеет три лица; отнюдь не являясь признаком вырождения, эта тройственность (словечко, изобретенное г-ном Кузеном из отвращения к слову «триединство») кажется мне естественным следствием обилия литературных талантов: это хвала девятнадцатому веку, который не довольствуется единственной и одинаковой формой, подобно семнадцатому и восемнадцатому векам, подчинявшимся в той или иной мере тирании одного человека или одной системы.
Эти три формы, три лица или три системы — называйте их, как хотите, естественны и отвечают общему влечению, которое должно было проявиться в наше время, когда с распространением просвещения возросло число ценителей литературы и чтение достигло неслыханного развития.
Во всех поколениях и у всех народов есть элегические, вдумчивые, созерцательные умы, которые особенно пленяются величественным зрелищем природы, возвышенными образами и жадно впитывают их. Отсюда выросла школа, которую я охотно назвал бы литературой образов и к которой принадлежит лирика, эпопея и все, что порождается таким восприятием мира.
Существуют, напротив, натуры активные, которым нравится стремительность, движение, краткость, столкновения, действие, драматизм, которые чуждаются словопрений, не любят мечтательности и стремятся к осязательным результатам. Отсюда совсем другая система, породившая то, что я назвал бы, в противоположность первой школе, литературой идей.
Наконец, иные цельные люди, иные двусторонние умы объемлют все, ищут и лирики и действия, драмы и оды, полагая, что совершенство требует полного обзора явлений. Эта школа, которую я назвал бы литературным эклектизмом, требует изображения мира таким, каков он есть: образы и идеи, идея в образе или образ в идее, движение и мечтательность. Вальтер Скотт вполне удовлетворил эти эклектические натуры.
Какая школа выше? Не знаю. Я не хотел бы, чтобы из этого естественного различия извлекали насильственные выводы. Так, я не думал, что какой-нибудь поэт из школы образов лишен идей или другой поэт из школы идей не умеет создавать прекрасные образы. Эти три формулы относятся только к общему впечатлению от творчества поэтов, к форме, в которую писатель отливает свою мысль, к направлению его ума. Всякий образ соответствует какой-нибудь идее, или, точнее, чувству, которое является совокупностью идей, но идея не всегда приводит к образу. Идея требует последовательной работы мысли, которая доступна не всем умам. Зато образ по существу своему популярен, его легко понять. Представьте, что «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго появился одновременно с «Манон Леско»; «Собор» привлек бы массы гораздо быстрее, чем «Манон», и показался бы выше ее тем, кто преклоняется перед Vox populi.
Однако ж, в каком бы жанре ни было написано произведение, оно остается в памяти людей только в том случае, если подчиняется законам идеала и формы. В литературе образ и идея соответствуют тому, что в живописи называют рисунком и цветом. Рубенс и Рафаэль — великие художники; но странным заблуждением было бы полагать, что Рафаэль не колорист; а тем, кто не считает Рубенса рисовальщиком, придется, воздавая дань восхищения рисунку, преклонить колени перед картиной, выставленной прославленным фламандцем в генуэзской церкви иезуитов.
Господин Бейль, более известный под псевдонимом Стендаль, является, по-моему, одним из выдающихся мастеров литературы идей, к которой принадлежат гг. Альфред де Мюссе, Мериме, Леон Гозлан, Беранже, Делавинь, Гюстав Планш, г-жа де Жирарден, Альфонс Карр и Шарль Нодье. Анри Монье близок к ней правдивостью своих сценок, подчас лишенных общей идеи, но тем не менее полных естественности и точной наблюдательности, столь характерных для этой школы.
Эта школа, которой мы уже обязаны прекрасными произведениями, отличается обилием фактов, достоверностью образов, сжатостью, ясностью, короткой вольтеровской фразой, умением рассказывать, которым обладал XVIII век, и особенно чувством юмора. У г-на Бейля и г-на Мериме, несмотря на их глубокую серьезность, есть что-то невыразимо ироническое и лукавое в манере излагать события. Смешное у них сдержанно. Это пламя, скрытое в кремне.
Господин Виктор Гюго — несомненно, величайший талант литературы образов. К этой школе, восприемником которой был г-н де Шатобриан, а философию которой создал г-н Балланш, принадлежит и Ламартин. К ней же относится автор «Обермана», Опост Барбье, Теофиль Готье, Сент-Бев тоже, а за ним множество бессильных подражателей. У некоторых из упомянутых авторов чувство порой берет верх над образом, как, например, у г-на де Сенанкура или г-на Сент-Бева. Своей поэзией, больше чем прозой, г-н де Виньи также принадлежит к этой обширной школе. У всех этих поэтов мало чувства юмора; им не дается диалог, за исключением г-на Готье, обладающего в этой области острым чутьем. У г-на Гюго диалог слишком похож на его собственные слова, поэт недостаточно перевоплощается, он вкладывает себя в персонаж, вместо того, чтобы самому становиться персонажем. Но и эта школа, так же как другая, дала прекрасные произведения. Она замечательна поэтической насыщенностью фразы, богатством образов, поэтичностью языка, внутренней связью с природой; первая школа человечна, эта — божественна в том смысле, что стремится с помощью чувства подняться до самой души всего живого. Природу она предпочитает человеку. Французский язык обязан ей изрядной долей поэзии, которая была ему необходима, ибо она развила поэтическое чувство, коему долго сопротивлялась, да простят мне это слово, положительность нашего языка и сухость, запечатленная в нем писателями восемнадцатого века. Жан-Жак Руссо и Бернарден де Сен-Пьер были зачинщиками этой благодетельной, на мой взгляд, революции.
Тайна борьбы классиков и романтиков целиком объясняется этим естественным разделением умов. В течение двух веков литература идей царила безраздельно: наследники восемнадцатого века должны были принять единственную известную им литературную систему для всей литературы. Не будем осуждать защитников классики! Литература идей, сжатая, насыщенная фактами, присуща гению Франции. «Исповедание веры савойского викария», «Кандид», «Диалог Суллы и Евкрата», «Величие и падение римлян», «Письма к провинциалу», «Манон Леско», «Жиль Блас» — все это ближе французскому духу, чем произведения литературы образов. Но последней мы обязаны поэзией, о которой и не подозревали два предыдущие века, если не считать Лафонтена, Андре Шенье и Расина. Литература образов еще в колыбели, но насчитывает уже нескольких писателей, чей талант неоспорим; а подумав, сколько их насчитывает другая школа, я начинаю больше верить в величие, чем в упадок царства нашего прекрасного языка. Теперь, когда борьба окончена, можно сказать, что романтики не изобрели новых средств; в театре, например, те, кто жаловался на недостаток действия, широко воспользовались тирадой и монологом, но все же нам так и не привелось услышать живой и стремительный диалог Бомарше или увидеть комизм Мольера, который всегда будет идти от разума и идей. Комическое — враг раздумий и образа. Г-н Гюго получил огромное преимущество в этом бою. Но люди осведомленные помнят о войне, объявленной r-ну Шатобриану во время Империи; она была столь же ожесточенной, но утихла скорее, потому что г-н Шатобриан был один, без stipante caterva г-на Гюго, без газетной борьбы, без помощи, которую оказывали романтикам прекрасные таланты Англии и Германии, более известные и лучше оцененные.
Что касается третьей школы, обладающей свойствами и одной и другой, то у нее меньше шансов, чем у первых двух, воодушевить массы, которые недолюбливают mezzo termine и произведения составные; они видят в эклектизме сделку, противоречащую их страстям, поскольку он их успокаивает. Франция любит войну во всем. Даже в мирное время она продолжает сражаться. Тем не менее Вальтер Скотт, г-жа де Сталь, Купер, Жорж Санд, на мой взгляд, прекрасные таланты. Что касается меня, я встаю под знамя литературного эклектизма по следующей причине: я не считаю возможным живописать современное общество строгими методами XVII и XVIII веков. Введение драматического элемента, образа, картины, описания, диалога мне кажется необходимым в современной литературе. Признаемся откровенно, «Жиль Блас» утомителен по форме: в нагромождении событий и идей есть что-то бесплодное. Идея, ставшая персонажем, — это искусство более высокое. Платон излагал свою психологическую мораль в диалогах.
По сей день «Пармская обитель» является, на мой взгляд, шедевром литературы идей для нашего времени, в ней г-н Бейль сделал двум другим школам уступки, приемлемые для умных людей и удовлетворяющие оба лагеря.
Если я, несмотря на значение этой книги, говорю о ней с таким запозданием, поверьте, причина в том, что мне трудно было обрести своего рода беспристрастность. Я и сейчас не уверен в том, что сохраню ее, ибо даже после третьего чтения, медленного и обдуманного, я нахожу это произведение из ряда вон выходящим.
Я знаю, сколько насмешек вызовет мое восхищение. Конечно, будут кричать о пристрастии, а я просто испытываю восторг, даже и теперь, когда ему пора бы иссякнуть. У людей с воображением, скажут мне, возникает так же внезапно, как и проходит, нежность к произведениям, в которых, по гордым и ироническим утверждениям людей заурядных, ничего нельзя понять. Простодушные или даже остроумные особы, скользящие своим высокомерным взглядом по поверхности, скажут, что я забавляюсь парадоксами, придавая цену пустякам, и что у меня, как и г-на Сент-Бева, есть свои излюбленные безвестности. Я не могу идти против правды, вот и все.
Господин Бейль написал книгу, прелесть которой раскрывается с каждой главой. […] При первом чтении, которое меня совершенно поразило, я находил недостатки. При втором чтении длинноты исчезли, я увидел необходимость тех подробностей, которые сначала показались излишними или растянутыми. Чтобы объяснить вам это, я снова пробежал роман. Увлеченный чтением, я созерцал эту прекрасную книгу дольше, чем предполагал, и все показалось мне очень гармоничным и связанным — естественно ли, искусственно ли — в одно целое.
Вот, однако, погрешности, обнаруженные мною, погрешности не столько против искусства, сколько против обязанности писателя приносить жертвы в интересах большинства.
Если при первом чтении я обратил внимание на некоторые неясности, то таково будет и впечатление толпы, а это означает, что книге, очевидно, не хватает систематичности. Г-н Бейль расположил события так, как они происходили или должны были происходить; но в расположении событий он совершил ошибку, которую совершают многие авторы, когда берут сюжет правдивый в природе, но неправдоподобный в искусстве. Увидя пейзаж, большой художник остережется рабски копировать ero; он передаст нам скорее его дух, чем букву. Г-н Бейль, с его простой, наивной и неприкрашенной манерой рассказывать, рискует показаться неясным. Достоинства, которые нужно бы изучать, могут остаться незамеченными. Поэтому, в интересах книги, я пожелал бы, чтобы автор начал ее своим великолепным наброском битвы при Ватерлоо, а все предшествующее свел бы к рассказу самого Фабрицио или кого-нибудь другого, в то время как Фабрицио скрывается после ранения во фламандской деревушке. Несомненно, от этого произведение выиграло бы в легкости. Отец и сын дель Донго, подробности жизни в Милане — все это еще не книга; драма развивается в Парме, главные ее персонажи — это принц и его сын, Моска, Расси, герцогиня, Палла Ферранте, Лодовико, Клелия, ее отец, Раверси, Джилетти, Мариетта. Искусные советчики или друзья, обладающие простым здравым смыслом, могли бы предложить автору развить отдельные места, показавшиеся ему менее интересными, чем они есть в действительности, и, наоборот, устранить некоторые детали, бесполезные, несмотря на всю их тонкость. Так, например, роман не пострадал бы, если совсем убрать аббата Бланеса.
Я пойду дальше и не поступлюсь ради этого прекрасного произведения истинными принципами искусства. Главенствующий его закон — единство композиции; единство может быть в общей идее или в плане, но без него неясность неизбежна. Итак, вопреки своему названию, книга кончается тогда, когда граф и графиня Моска возвращаются в Парму и Фабрицио назначен архиепископом. Великая придворная комедия окончена. Она окончена настолько очевидно и автор так хорошо это почувствовал, что именно в этом месте он написал мораль, как делали писатели — наши предшественники в конце повествования.
«Отсюда можно извлечь мораль, — говорит он, — приблизившись ко двору, человек рискует лишиться счастья, если он был счастлив, и, уж во всяком случае, его будущее зависит от интриг какой-нибудь горничной.
С другой стороны, в Америке, стране республиканской, приходится целые дни изнывать от скуки, подлаживаясь к серьезному тону лавочников и применяясь к их глупости, да к тому же там нет Оперы».
Если одетый в римский пурпур и митру Фабрицио любит Клелию, ставшую маркизой Крешенци, и вы нам об этом рассказываете, то, очевидно, вы хотели сделать сюжетом своей книги жизнь молодого человека. Но раз вы хотели описать всю жизнь Фабрицио, вы, человек столь проницательный, должны были назвать свою книгу «Фабрицио, или Итальянец XIX века». А при исполнении подобного замысла нельзя было заслонить Фабрицио такими типичными, такими поэтическими фигурами, как оба принца, Сансеверина, Моска, Палла Ферранте. Фабрицио должен бы изображать молодого итальянца своего времени. Сделав из этого юноши центральную фигуру драмы, автор обязан был бы наделить его большим умом, одарить его чувством, которое поставило бы его выше окружающих его талантливых людей, — а он лишен этого чувства. Действительно, чувство равно таланту. Чувство — соперник понимания, как действие — антагонист размышления. Друг гениального человека может подняться до него с помощью любви и понимания. В области чувства человек посредственный может быть выше величайшего художника. В этом оправдание женщин, которые любят глупцов. Таким образом, в драме одно из самых тонких средств художника (в том положении, в каком, думается нам, находится г-н Бейль) заключается в том, чтобы при помощи чувства возвысить героя, который не может помериться умом с окружающими его персонажами. В этом отношении роль Фабрицио потребовала бы переделки. Божественная рука гения католицизма должна была толкнуть его к Пармской обители, и гений этот должен был время от времени осенять его призывами благодати. Но тогда аббат Бланес не мог бы выполнить эту роль, ибо невозможно заниматься астрологией и быть святым католической церкви. Следовательно, произведение должно стать либо длиннее, либо короче.
Возможно, что растянутость начала, возможно, что заново начинающий книгу конец, где сюжет скомкан, повредят и, быть может, уже повредили успеху романа. Кроме того, г-н Бейль позволил себе в этой книге некоторые повторения, заметные, правда, лишь тем, кто знает его первые книги; а такие люди, конечно, являются знатоками и, как известно, придирчивы. Г-н Бейль, следующий великому принципу: «Горе в любви и в искусстве тому, кто говорит все!» — не должен повторяться; тем более что он всегда краток и многое оставляет догадке. Несмотря на свои привычки сфинкса, здесь он менее загадочен, чем в других произведениях, и истинные друзья его с этим поздравят.
Характеристики коротки. Г-ну Бейлю, который рисует своих персонажей и в действии, и в диалоге, достаточно несколько слов для портрета; он не утомляет вас описаниями, он стремится к драме и постигает ее одним словом, одной мыслью. Его пейзажи — немного сухие по рисунку, что, впрочем, соответствует духу страны, — сделаны легко. Он останавливается на одном дереве, на одном уголке, который ему нужен, показывает вам линию Альп, со всех сторон окружающую место действия, и пейзаж готов. Книга должна быть особенно дорога путешественникам, которые бродили вокруг озера Комо, в Брианце, достигали дальних массивов Альп, объездили долины Ломбардии. Дух этих прекрасных пейзажей тонко выражен, характер хорошо схвачен, вы видите их.
Слабая сторона произведения — это стиль; я имею в виду расстановку слов, ибо сама мысль, на которой строится фраза, целиком французская. Ошибки г-на Бейля — чисто грамматические: слог у него небрежный, неправильный, как у писателей XVII века. Приведенные мной цитаты показывают, какого рода ошибки он допускает. Иногда несогласованность времен в глаголах, порой отсутствие глагола; иногда бесчисленные «это», «то, что», «который» утомляют читателя и напоминают путешествие в тряской тележке по французским дорогам. Эти довольно грубые ошибки говорят о недостаточной работе. Но если французский язык — это лак, наведенный на мысль, то нужно быть настолько же снисходительным к тем, у кого он покрывает прекрасную картину, насколько суровым к тем, у кого, кроме лака, ничего нет. Если у г-на Бейля этот лак местами желтоват или испещрен трещинками, то под ним по крайней мере виден ход мыслей, развивающихся согласно законам логики. Длинная фраза у него плохо построена, фраза короткая лишена закругленности. Он пишет почти в манере Дидро, который не был писателем, но общая идея его величественна и сильна, мысли оригинальны и часто хорошо выражены. Однако такой системе не следует подражать. Было бы слишком опасно позволить нашим авторам возомнить себя глубокими мыслителями.
Господина Бейля спасает глубокое чувство, одушевляющее мысль. Все, кому дорога Италия, кто изучил или понял ее, прочтут «Пармскую обитель» с наслаждением. Дух, гений, нравы, душа прекрасной страны живут в этой длинной, всегда увлекательной драме, в этой гигантской, так хорошо написанной, так богато расцвеченной фреске, которая глубоко волнует сердце и удовлетворяет самый придирчивый, самый требовательный ум. Герцогиня Сансеверина — настоящая итальянка, образ, переданный так же удачно, как знаменитая голова в «Поэзии» Карло Дольчи, как «Юдифь» Аллори, как «Сивилла» Гверчино из галереи Манфрини. В графе Моска он рисует гениального политика, покоренного любовью. Это любовь без фраз (фраза — недостаток «Клариссы»), любовь действенная, всегда подобная себе самой, любовь, которая сильнее долга, любовь, о которой мечтают женщины, которая придает интерес всем мелочам жизни. Фабрицио, современный молодой итальянец, борется против довольно неуклюжего деспотизма, подавляющего воображение людей в этой прекрасной стране; но, как я уже сказал, господствующая мысль или чувство, которые побуждают его отказаться от сана и окончить свои дни в обители, недостаточно развиты. Книга восхитительно описывает любовь Юга. Конечно, на Севере так не любят. У всех персонажей горячая, бурлящая кровь, их отличает стремительность движений, живость ума, которых нет ни у англичан, ни у немцев, ни у русских; эти народы приходят к тем же результатам посредством неторопливых дум, одиноких размышлений, движений взволнованной души, — жар возникает у них в лимфе.
Господин Бейль вложил в свое сочинение глубокий смысл и чувство, которые обеспечивают жизнь литературному творению. Но, к несчастью, оно похоже на загадку, которую надо изучать.
«Пармская обитель» стоит на такой высоте, она требует от читателя такого большого знания двора, страны, народа, что меня ничуть не удивляет полное молчание, встретившее эту книгу. Такая участь ожидает все книги, лишенные вульгарности. Результаты тайных выборов, на которых медленно и поодиночке голосуют выдающиеся умы, создающие славу таким произведениям, обнаружатся позже. К тому же г-н Бейль отнюдь не царедворец и испытывает глубокий ужас перед газетами. Из величия характера или из самолюбия он — как только выходит его книга — скрывается, бежит, уезжает за двести пятьдесят лье, только бы ничего о ней не слышать. Он не требует статей, не знается с фельетонистами. Так он ведет себя после выхода каждой книги. Мне нравится эта гордость характера или чувствительность самолюбия. Если можно извинить нищенство, то ничем нельзя оправдать то выпрашивание похвал и статей, которыми занимаются современные авторы. Это тоже нищенство, пауперизм духа. Нет шедевров, погибших в забвении. Ложь и угодничество писак не могут поддержать жизнь дрянной книги.
За мужеством критики должно следовать мужество похвалы. Поистине, настало время воздать должное достоинствам г-на Бейля. Наша эпоха многим ему обязана: не он ли первый открыл нам Россини, прекраснейшего гения музыки? Он постоянно защищал его славу, которую Франция не сумела сделать своей славой. Выступим же и мы в защиту писателя, который лучше всех знает Италию, который мстит ее захватчикам за клевету на нее, который так хорошо выразил ее дух и гений.
До того как я взял на себя смелость похвалить «Пармскую обитель», встретив г-на Бейля на Итальянском бульваре, я видел его в обществе раза два за двенадцать лет. Всякий раз наша беседа только подтверждала мое мнение о нем, составленное на основании его произведений. Он рассказывает с тем умом и изяществом, которыми в высокой степени обладают Шарль Нодье и де Латуш. Он даже напоминает последнего прелестью своей речи, хотя его внешность (он очень тучен) на первый взгляд противоречит тонкости ума и изяществу манер; но сейчас же он заставляет забывать о ней, как доктор Корев, друг Гофмана. У него прекрасный лоб, живой, пронзительный взгляд и сардонический рот — одним словом, черты, очень соответствующие его таланту. Он вносит в разговор какую-то загадочность, какую-то странность; она, видно, и побуждает его не подписываться уже прославленным именем Бейль, а называться то Котонне, то Фредериком. Он приходится, как мне говорили, племянником знаменитому труженику Дарю, одному из сподвижников Наполеона. Естественно, что император пользовался услугами г-на Бейля. 1814 год, разумеется, прервал его карьеру, он переехал из Берлина в Милан, и вот контрасту между жизнью Севера и Юга, поразившему его, мы обязаны появлением этогo писателя. Г-н Бейль — один из выдающихся людей нашего времени. Трудно объяснить, почему этот глубокий наблюдатель, этот искусный дипломат, доказавший и своими произведениями и высказываниями возвышенность своих идей и обширность практических знаний, остается только консулом в Чивита-Веккье. Никто не мог бы достойнее представлять Францию в Риме. Г-н Мериме давно знает г-на Бейля и похож на него; но учитель изящнее и проще. Произведения г-на Бейля многочисленны, отличаются тонкой наблюдательностью и обилием идей. Почти все они описывают Италию. Он первый дал точные сведения об ужасном судебном деле Ченчи; но он недостаточно объяснил причины казни, которая произошла независимо от процесса и была вызвана заговором, продиктованным алчностью. Его книга «О любви» выше книги г-на Сенанкура и приближается к великим учениям Кабаниса и Парижской школы, хотя грешит отсутствием систематичности, которым, как я сказал уже, отмечена и «Пармская обитель». Он отважился в этом маленьком трактате на слово кристаллизация, чтобы определить явление зарождения чувства, и словом эти пользуются сейчас, посмеиваясь, но оно будет жить благодаря его глубокой точности. Г-н Бейль пишет с 1817 года. Вначале у него заметны были некоторые проявления либерализма; но я сомневаюсь, чтобы этот трезвый ум дал провести себя пустяками двухпалатной системы управления. В «Пармской обители» заложен глубокий смысл, который, конечно, не противоречит монархии. Автор смеется над тем, что любит, он — француз.
Господин Шатобриан говорил в предисловии к одиннадцатому изданию «Атала», что эта книга ничуть не похожа на предыдущие издания, настолько он выправил ее. Граф де Местр признавался, что семнадцать раз переписывал «Прокаженного из долины Аосты». Я пожелал бы, чтобы г-н Бейль также принялся за переработку, за шлифовку «Пармской обители», и тогда роман этот приобретет тот блеск безупречной красоты, который гг. Шатобриан и де Местр придали своим любимым книгам.