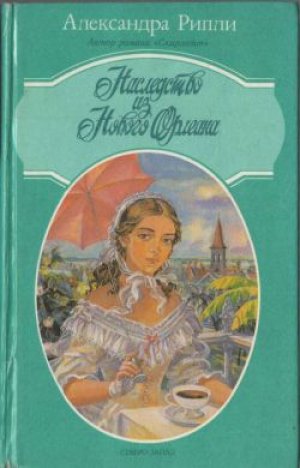
Каждый день на крутой, поросший травой берег широкой мутной реки приходила молодая женщина. Поставив рядом с собой корзинку со спящим младенцем, она садилась прямо на землю.
Время от времени младенец проявлял беспокойство, и тогда молодая мать вставала, склонялась над корзинкой и поправляла малышке одеяльце или просто любовалась крохотным личиком и ручками. Затем она вновь брала в руки на время отложенные перо и бумагу и продолжала писать.
– Даже не верится, что когда-то я была так глупа и молода, – сказала она дочурке, – но все же это было. Тебе я никогда не солгу, никогда.
Она записывала для дочери историю своей жизни, чтобы та выросла и узнала, какой была ее мать. У молодой женщины не было решительно никаких оснований считать, что она не доживет до того времени, когда сама сможет рассказать дочери все, что с ней произошло. Но она знала, что жизнь полна неожиданностей, а среди них бывают и роковые.
В конце каждой страницы она делала приписку: «Я люблю тебя».
КНИГА ПЕРВАЯ
Глава 1
От шкатулки веяло тайной, именно поэтому Мэри казалось, что более восхитительного подарка она в жизни не получала.
Ее подруги посмотрели на шкатулку, потом друг на друга, не зная, что сказать.
– Открой ее, Мэри! – воскликнула одна из них, стараясь придать голосу как можно больше восторга.
– Еще не время, – сказала Мэри. Правой рукой она гладила обшарпанную, покрытую пятнами поверхность старой деревянной шкатулки. Это был жест любви. В левой руке она держала письмо, сопровождавшее подарок. Ей мучительно хотелось прочесть его, но от волнения страницы трепетали в ее пальцах.
– Прочти ты, Сью, – сказала она, протягивая письмо своей ближайшей подруге. – У меня что-то голос дрожит.
Сью поспешно выхватила письмо – любопытство одержало верх над вежливостью.
– «Дорогая моя Мэри, – громко прочла Сью. – Эта шкатулка – подарок от твоей матери». – Она посмотрела на собравшихся в комнате девушек. Вид у них был совершенно изумленный, да и сама Сью сильно удивилась. Все знали, что миссис Макалистер не написала Мэри ни одного письма, а уж о подарках и речи быть не могло. Подарки – дорогие сласти и богато иллюстрированные книги – присылал Мэри отец, хотя вообще-то баловство такого рода в монастырской школе не разрешалось. Сью поспешила вновь обратиться к письму. – «Дорогая моя Мэри, – повторила она. – Эта шкатулка – подарок от твоей матери, а не от меня. Я не знаю, что находится внутри. В этой шкатулке, по ее словам, скрыты сокровища всех женщин ее семьи. Она получила шкатулку от матери, а та – от своей. И так было на протяжении многих поколений. По традиции, старшая дочь получает шкатулку в день своего шестнадцатилетия и хранит до тех пор, пока ее собственной дочери не исполнится шестнадцать».
Сью прижала письмо к накрахмаленному белому нагруднику своей школьной формы.
– В жизни не слышала ничего более романтического, – сказала она. – Мэри, ты не хочешь ее раскрыть? Ведь твой день рождения уже почти наступил. Завтра тебе будет шестнадцать.
Мэри не слышала вопроса подруги. Она была погружена в грезы.
Мэри часто грезила. Еще совсем маленькой она обнаружила, что всякий раз, когда мир вокруг становится уродлив и несчастен, можно переноситься в прекрасный, счастливый мир, существующий в ее воображении. В этом мире, принадлежащем только ей, существовало или вот-вот должно было появиться все, чего ей угодно было пожелать; а все мерзкое, неприятное забывалось и, казалось, не существовало вовсе.
Теперь, в воображении, она раскрывала шкатулку, а рядом стояла мать, готовая поделиться с нею всеми своими тайнами. Ее мать оставалась все той же прекрасной, благоухающей лучшими духами женщиной, которую Мэри боготворила. Но теперь она не была чужой и холодной. Она любила Мэри. Она лишь ждала, когда дочери исполнится шестнадцать, чтобы проявить свою любовь.
Мэри дотронулась до шкатулки. Нет, то была не греза, а нечто осязаемое, весомое. И оно свидетельствовало о любви матери к ней, Мэри. Она прислонилась к шкатулке щекой, потом погладила ее обеими руками, не стараясь даже, как всегда, спрятать пальцы. В этот момент она не стыдилась необычного строения своих ладоней – мизинцы на обеих руках были той же длины, что и безымянные пальцы.
Сью зашелестела страницами письма и окликнула подругу. Она привыкла выводить Мэри из блажи – так она называла грезы Мэри.
– Мэри, дальше читать?
Мэри выпрямилась и сложила руки на коленях.
– Да, читай. Наверное, дальше еще интереснее.
– «Также по традиции, – читала Сью, – ни один муж не знает, что находится в шкатулке. Я знаю, что свое сокровище твоя мать положила туда еще до замужества. На случай, если тебе захочется купить и положить в шкатулку что-то от себя, прилагаю к письму несколько банкнот. Обещаю никогда не спрашивать тебя, на что ты их потратила». И подпись – «твой любящий отец».
Сью заглянула в конверт и увидела деньги. Ее глаза и рот округлились от изумления.
– Мэри, – вскрикнула она, – да ты богата! Открывай же поскорей шкатулку. Там, должно быть, полно бриллиантов.
Другие девушки тоже дружно потребовали: «Открой, открой!» Их крики вывели Мэри из полузабытья.
На крики пришла сестра Жозефа; ее обычно безмятежно гладкий лоб был недовольно нахмурен.
– Девочки, девочки, – с упреком произнесла она, – хоть завтра вы и покидаете стены школы, но сегодня вы еще обязаны соблюдать распорядок. Этот час предназначен для отдыха и размышлений.
– Но, сестра, у Мэри же тайна! – Восемь возбужденных голосов наперебой старались поведать молодой монахине о подарке, который получила Мэри. Наконец монахине удалось их утихомирить, но, когда Мэри согласилась открыть коробку, она сама не удержалась и вместе со всеми тихо вскрикнула от нетерпения.
Когда Мэри сняла крышку, из шкатулки пахнуло древностью – запах этот походил на аромат засушенных лепестков розы. Внутри что-то ярко блеснуло в солнечном свете, косо падавшем через окно.
– Золото! – воскликнула Сью.
Мэри взяла тяжелую цепочку из крученых золотых звеньев и высоко подняла, чтобы все могли увидеть свисающий с нее большой медальон, украшенный драгоценными камнями. Все хором восхищенно воскликнули: «Ах!»
Девушки умоляли Мэри показать остальное, но та лишь отмахнулась. Жемчуга и рубины на медальоне складывались в сложную монограмму из завитков. Мэри долго и внимательно смотрела на нее, потом покачала головой.
– Не могу разобрать, – сказала она. – Но я почти уверена, что жемчужины выложены буквой «М». Может быть, мою бабушку тоже звали Мэри.
– Спроси у матери… Ну, покажи еще что-нибудь!
Мэри аккуратно положила золотую цепочку с медальоном рядом со шкатулкой. Вынула оттуда большой веер и осторожными пальцами раскрыла его.
Даже сестра Жозефа не сдержала вздоха – веер был произведением искусства. Его изящные резные палочки были сделаны из слоновой кости; через отверстия были пропущены кружева в тон палочкам, тонкие, как паутинка, с узором, изображающим цветущую виноградную лозу. Такого большого веера никто из присутствующих никогда не видел, но он казался невесомым, как крыло бабочки. Затаив дыхание, Мэри сложила его и положила рядом с медальоном.
– Я вижу еще что-то кружевное, – сказала Сью. – Давай же, что ты так мешкаешь?
Мэри подняла две пожелтевшие перчатки, окантованные широкими полосами тяжелых белых кружев.
Они заинтересовали Мэри в сто раз больше, чем золото.
– Смотрите, – прошептала она. – Смотрите, как они сшиты. – Она просунула правую руку в одну из перчаток и разгладила левой. – Смотрите, – повторила она. Мизинец на перчатке был той же длины, что и безымянный палец. Она улыбнулась подругам: – Должно быть, паучьи пальцы достались мне от бабушки, или прабабушки, или даже прапрабабушки. – Ее большие темные глаза сияли от счастья. Она поцеловала «неправильную» перчатку.
– Мэри, покажи остальное!
С мучительной для подруг аккуратной медлительностью Мэри сняла старинную перчатку.
Остальные вещи из шкатулки вызвали у подруг разочарование. Это были разные безделушки, совсем некрасивые, – например, маленький кожаный мешочек с наконечником индейской стрелы. Наконечник ничем не отличался от десятков подобных – всем им случалось находить такие в детстве, когда эти наконечники еще представляли для них какой-то интерес. И еще в шкатулке был жесткий пучок не то пакли, не то седых волос, завернутый в пожелтевший кружевной платочек.
– Вроде тех ужасных фальшивых волос, которые нам прицепляли вместо бород, когда мы разыгрывали рождественские мистерии, – сказала Сью, пренебрежительно хмыкнув. – Мэри, там должно быть что-то еще.
– Нет, больше ничего.
– Дай-ка я взгляну. – Сью оттеснила Мэри и принялась вертеть шкатулку, чтобы свет мог проникнуть в каждый ее уголок. – Одна пыль, – проворчала она, но потом воскликнула: – Нет, еще что-то! Вырезано внутри. – Она протерла внутреннюю сторону крышки краем передника. – «М… А… Р…» Наверное, какое-нибудь послание для тебя, Мэри. Поди-ка посмотри!
Мэри склонилась поближе. Она протерла въевшуюся в надпись грязь носовым платком.
– Там написано «Мари… Мари Дюкло». Это по-французски. Во мне, наверное, есть французская кровь. До того как я поступила в школу, у меня была гувернантка, которая меня учила французскому. Она говорила, что у меня очень здорово получается. Это наследственное, скорей всего.
– Там еще что-то написано… «Couvent»… Еще одно имя? Нет, теперь вижу… «Couvent des Ursulines», то есть монастырь урсулинок… «Nouvelle Orleans»… Это по-французски означает Новый Орлеан.
Одна из девушек усмехнулась:
– Мэри, может, твоя бабушка была монахиней? Сестра Жозефа резко и шумно вдохнула.
– Ой, простите меня, сестра, – в ужасе пролепетала шутница. – Я не знала, что вы здесь.
– А теперь посвятите себя тихим размышлениям и молитвам, – сказала сестра Жозефа. На лицо ее вновь набежала хмурая складка.
На другое утро Мэри проснулась еще до восхода солнца. Она попробовала снова уснуть, но счастье переполняло ее.
Сняв с постели одеяло, она накинула его на плечи и, тихо ступая, прошла мимо спящих в длинной спальне девушек к открытым окнам в дальнем конце. Хотя было начало июня, воздух казался ледяным. Монастырская школа располагалась высоко в Аллеганских горах.
Сидя на холодном каменном полу, упершись подбородком в подоконник, Мэри с нетерпением ждала восхода. «День, начнись! – про себя приказала она. – Это лучший день в моей жизни, и я хочу, чтобы он поскорей начался. Теперь мне шестнадцать, я взрослая. Со школой покончено, и я готова вступить в большой мир. Я хочу увидеть этот мир!»
Собственное сердце казалось ей огромным и теплым. Желая ощутить его сильное биение, она положила руку на грудь и тут же рассмеялась – настолько глупой показалась ей мысль, что сердце может лопнуть от счастья, переполнявшего ее.
Каких-то два дня назад Мэри боялась и собственного дня рождения, и окончания школы. Монастырская школа стала для нее домом, монахини и соученицы – семьей. Она провела здесь пять лет, оставаясь даже на каникулы, поскольку ее отец и мать каждое лето отправлялись путешествовать по Европе. И лишь на Рождество она спускалась с гор и отправлялась в большой каменный дом в поместье неподалеку от Питсбурга. Но даже в эти дни она тосковала по монастырю, потому что дом всегда был полон незнакомыми людьми – гостями на тех умопомрачительных приемах, которые устраивали ее родители во время праздника. Мэри тоже ощущала себя гостьей, посторонней. Ее настоящим домом был монастырь, и она со страхом ждала того дня, когда придется покинуть его.
Но теперь все было иначе. Теперь она испытывала только радость. Ее мать приедет на выпускные торжества вместе с отцом. Мэри нисколько не сомневалась в этом, ведь шкатулка была предвестницей новой жизни, жизни, где у них с матерью будут общие тайны, будет дружба. Родители будут гордиться ею – ведь она выиграла первый приз по ораторскому искусству, и приз этот будет вручен ей во время церемонии. И платье у нее было самое красивое. Каждая воспитанница сама сшила себе длинное белое платье – это служило своего рода последним экзаменом на усвоение тех навыков рукоделья, которые прививали им монахини. Стежки у Мэри были и мельче, и ровнее, чем у остальных, а вышитые ею цветы заслуживали самых высоких похвал. Еще она вышила носовые платки в подарок отцу и матери. Она обхватила себя под складками одеяла, представив удивление и радость родителей, когда она вручит им свой выпускной подарок.
И словно в подтверждение ее надежд, над вершиной горы выступил краешек солнца и небо окрасилось в розовые и золотые тона.
– Я знаю, что они согласятся, – прошептала она встающему солнцу. Она уже давно написала отцу, что именно хочет получить в подарок к шестнадцатилетию и окончанию школы: «Пожалуйста, разреши мне поехать с тобой и с мамой в Европу».
Свет заполнил окно, а затем и всю спальню. Мэри слышала, как, пробуждаясь, ерзали и ворчали девушки.
– Не ворчите вы, – повернувшись к ним, с улыбкой сказала она. – Посмотрите только, какой чудесный, замечательный день!
Мэри не придала особого значения тому, что после завтрака сестра Жозефа остановила ее в коридоре и попросила зайти в кабинет матери-настоятельницы. По традиции каждую выпускницу приглашали к настоятельнице для краткой беседы с глазу на глаз, чтобы попрощаться и получить благословение еще до наступления дня, полного забот и суеты.
– Какой чудесный день, сестра Жозефа! – сказала Мэри. Молодая монашенка внезапно заплакала.
– Прости меня, Мэри, – сквозь рыдания проговорила она и открыла двери в кабинет.
– Заходи, дитя мое, и садись. – Мать-настоятельница стояла в открытом проеме, протянув к Мэри обе руки. Она не улыбалась.
Мэри почувствовала, как сердце екнуло от страха, – произошло что-то ужасное.
– Что случилось, матушка?
– Входи. Садись. Мэри, будь мужественной… Произошла катастрофа, и твой отец погиб.
– Нет! – крикнула Мэри. Она отказывалась поверить словам настоятельницы; ей хотелось уйти, бежать в свой потаенный мир, где ничего подобного никогда не случалось. Крича: «Нет, нет!», Мэри оттолкнула руки матери-настоятельницы. Потом посмотрела в блекло-голубые, окруженные сетью морщинок, ласковые глаза пожилой женщины, и сострадание, которое она прочла в этих глазах, убедило ее. То, о чем невозможно было и помыслить, действительно свершилось, и уйти от этого было некуда. Она тихо застонала, подобно раненому животному.
Мать-настоятельница обняла Мэри за талию, поддерживая ее.
– Господь дает нам силы пережить наши печали, дитя мое, – сказала она. – Ты не одинока. – Она помогла Мэри сесть в кресло.
Обивка из конского волоса крепилась к креслу гвоздями с широкими черными металлическими головками. Одна из них давила в левую лопатку Мэри. «Как я могу обращать внимание на такие пустяки, на то, что мне в спину давит кнопка, когда мой отец умер? – подумала Мэри. – Какая-то я ненормальная». Однако, как ни странно, благодаря этому небольшому, но назойливому физическому неудобству она сумела выслушать слова матери-настоятельницы и даже понять их.
Это известие было доставлено с посыльным – клерком из конторы адвоката мистера Макалистера. Он прибыл накануне, поздно ночью, и привез с собой портфель, который чуть не лопался от всяких документов.
По словам матери-настоятельницы, именно из-за этих документов Мэри не сразу известили о случившемся. Монахиня говорила, и ее бледное немолодое лицо хранило неестественно угрюмое выражение. Отец Мэри скончался уже шесть дней назад. Его похоронили, даже не дав Мэри возможности попрощаться с телом. Таковы были распоряжения миссис Макалистер.
Мать-настоятельница не выпускала ладонь Мэри из своей руки. По ее словам, Мэри следовало узнать нечто еще более ужасное, чем смерть отца.
– Женщина, которую ты считала матерью, на самом деле не мать тебе, дитя мое. Твоя настоящая мать умерла, когда ты родилась. После этого твой отец переехал с новорожденной дочерью в Питсбург и несколько месяцев спустя женился вторично. Миссис Макалистер – твоя мачеха… Да простит мне Господь мои слова, но она – жестокая, бессердечная женщина. Она велела передать, что тебя больше не ждут в доме твоего отца. Дом, как и все имущество отца, теперь принадлежит ей. Я сама видела завещание. В нем говорится: «Все мое состояние завещаю жене моей Алисе, пребывая в уверенности, что она проявит любовь и заботу к дочери моей Мэри…» Теперь ты нищая, Мэри, нищая и бездомная. Мы даже не знаем, кто твои крестные. Тебя крестили там, где ты родилась, до переезда твоего отца в Питсбург. Нам лишь известно, что ты была крещена надлежащим образом. Когда отец привез тебя сюда, то сказал, что сам он – протестант, но жена его была католичкой и согласно ее воле ты должна быть воспитана в лоне истинной Церкви. Теперь же, Мэри, Церковь должна стать твоей семьей, ибо другой семьи у тебя нет.
Рука Мэри, которую сжимала мать-настоятельница, затекла и онемела. Лицо девушки напоминало изваяние, высеченное в камне. Сухие глаза смотрели в пустоту. Это встревожило пожилую монахиню. Возможно, следовало бы на время беседы с Мэри пригласить врача. Она озабоченно смотрела на молчащую девушку.
Внезапно Мэри улыбнулась. Монахиня была неприятно поражена этим.
– Матушка, но у меня же есть семья, – сказала Мэри. – Она досталась мне от моей настоящей матери; это наследство, которое она мне оставила. Мне осталось только разыскать мою семью.
– Мэри, о чем ты говоришь?
– О моей шкатулке. О подарке ко дню рожденья.
– Но ее прислал несколько недель назад твой отец. Он просил вручить ее тебе за день до церемонии окончания школы.
– Возможно, ее прислал отец, но это подарок моей матери. Моей родной матери, которая любила меня. Я собираюсь поехать в Новый Орлеан. Там мой дом.
Глава 2
– Это так романтично, – вздохнула сестра Жозефа.
– И так глупо, – отозвалась сестра Мишель. – Мать-настоятельница столько сил приложила, лишь бы отговорить Мэри от этой выходки. Только эта девчонка всегда отличалась упрямством.
– Не будь к ней столь сурова, сестра, – сказала молодая монахиня. Она в последний раз помахала рукой из окна вслед повозке, которая уносила с собой в Питсбург двух монахинь и Мэри Макалистер. – Я бы сказала, что Мэри упорна, а не упряма. На что бы она ни настроилась, ей всегда все удавалось. Вспомни ораторское искусство – как упорно она в нем упражнялась. А вышивка? Она десятки раз распарывала стежки, пока задуманный узор не получался как следует. Как бы тяжело ей ни приходилось, она никогда не мирилась с неудачей.
– Она скоро поймет, что от красноречия да аккуратных стежков толку в этой жизни мало. А от мечтательности – и подавно. Она не узнает правды, даже если ее в эту самую правду носом ткнуть. Попомни мои слова, эта глупая затея еще принесет ей кучу неприятностей.
– Господь хранит невинных, сестра. Он позаботится о Мэри.
Монахиня постарше открыла было рот, чтобы ответить, но, посмотрев на сияющее молодое лицо сестры Жозефы, плотно сжала губы и ничего не сказала.
Мэри видела, как сестра Жозефа машет ей рукой, но прежде чем она смогла помахать в ответ, дорога сделала резкий поворот и монастырь скрылся из виду. «Все осталось в прошлом, – подумала она, – а мне все равно. Я еду в Новый Орлеан. Мое место там».
Она громко засмеялась от приятного волнения, украдкой посмотрев на двух монахинь, готовая поделиться с ними своими радостными чувствами. Они посмотрели на нее красными глазами, полными боли и дурных предчувствий, – обе ехали в Питсбург удалять больные зубы. Мэри придала лицу сочувственное выражение и отвернулась. «Я не позволю омрачить этот день ничему», – сказала она самой себе.
На мгновение она вспомнила день выпускных торжеств и мучительные страдания, которые перечеркнули все ее надежды. Но она заставила себя забыть об этом. Слишком сильна была боль. Она посмотрела на дикие цветы, лепившиеся к расщелинам в скальных выступах гор, и устремила все свои помыслы к воображаемой картине, вытеснившей воспоминания. Это был портрет ее матери.
Скорее всего, ее звали Мари. Это имя было на шкатулке. Такое же имя, как у Мэри, только на французский лад. Она была прекрасна – Мэри нисколько не сомневалась в этом. У нее была мягкая светлая кожа, такие же волосы и ясные синие глаза. Она походила на самого прекрасного из ангелов с картины, изображающей Рождество Господне, которая висела на стене часовни. И Мэри знала, что мать смотрит на нее с небес и торжествующе улыбается, счастливая, что Мэри направляется к своей семье – туда, где ей следует быть, где ее необычные паучьи пальцы – признак принадлежности к роду, а не что-то постыдное, что надлежит прятать от сторонних взоров. Перчатки в шкатулке – это знак, посланный ей матерью. Мэри сложила ладони; она любила свои руки, гордилась ими. Забывшись в своих грезах, она не замечала ни тряски, ни неудобной деревянной скамейки, ни медленно текущих часов.
Кто-то тронул ее за плечо, и она вернулась к действительности. Монахиня, сидевшая рядом с ней, указала на расстилавшийся впереди под горой город. «Питсбург», – пробормотала она невнятно, поскольку за щекой у нее была вата, пропитанная гвоздичным маслом.
– Ой! Как красиво! – Мэри беспечно перегнулась через перила повозки и посмотрела вокруг и вниз. Она увидела широкие ленты воды, в которых яркими бликами отражалось солнце. Уроки географии, полученные в монастырской школе, ожили в ее сознании. Она тихо проговаривала музыкальные названия рек: «Аллегани… Мононгаэла… Огайо». Вот же они – яркие ленточки на зеленой поверхности полей. А в. центре большого скопления домов, труб и церковных шпилей эти ленточки сходились в одну. «Ах!» – вновь воскликнула Мэри. В точке слияния рек ей открылся калейдоскоп цветов – рубашки, юбки, чепчики на маленьких, похожих на кукол фигурках, движущихся туда-сюда вдоль реки, и корабли, похожие на игрушечные, выпускающие крохотные клубы черного дыма из множества златоверхих труб. – Я опоздаю на пароход, – жалобно сказала она. – Мы еще так далеко. Быстрее, пожалуйста, быстрее!
Но повозка продолжала двигаться так же медленно и тряско, и вскоре город и реки пропали из виду. Мэри еле удержалась, чтобы не выпрыгнуть на дорогу и не побежать. Она закусила краешек губы и напряженно подалась вперед, всем телом как бы побуждая колеса крутиться быстрее.
Казалось, прошла целая вечность, пока дорога не вынырнула между двух больших скальных массивов на отвесный берег прямо над местом слияния рек. Корабли были на месте, люди тоже. Теперь Мэри слышала шум. Кричащие голоса, гудки, хриплый вой рожков, на которых малоискусные музыканты выводили ни на что не похожие мелодии. Мэри облегченно выдохнула и откинулась на скамейку, поразившись, до чего занемели плечи и шея. Но всепоглощающая радость этой минуты заставила ее забыть о неприятных ощущениях. Она действительно едет. Все это сейчас сбудется – один из этих кораблей умчит ее по сияющим водам реки к семье, к Новому Орлеану. К приключениям. И – как знать? – возможно, и к любви.
– Мы пойдем с тобой на пароход, Мэри, – сказала монахиня, сидящая рядом, когда повозка остановилась у входа в док.
Мэри покачала головой:
– Не беспокойтесь обо мне, сестра. Поезжайте к дантисту и удалите этот ваш зуб. Вы сразу почувствуете себя лучше.
– Но мать-настоятельница сказала…
– У матери-настоятельницы зубы не болят. Да и в любом случае ни в чьей помощи я не нуждаюсь. Я серьезно, честное слово. Я сама со всем прекрасно справлюсь.
– Ты уверена?
– Да, сестра, совершенно уверена. – Руки Мэри уже тянули Лямки, которые удерживали ее багаж позади повозки. Багажа было немного – один ковровый саквояж, в котором находились ее школьная форма, выпускное платье и предметы туалета. И ее шкатулка. – Видите, я сама легко могу их унести. – Лямки были уже расстегнуты, багаж в руках Мэри, а сама она – на земле возле повозки. – Прощайте, сестры! – Она повернулась к украшенному флагами входу на пассажирский причал.
– Господь да пребудет с тобой, Мэри! – крикнули монахини ей вслед. Она обернулась и улыбнулась через плечо.
«Да она же прехорошенькая», – подумала одна из сестер. Как правило, эпитет «прехорошенькая» редко связывался с Мэри Макалистер. Да, она была миловидна, всегда опрятна, ее темно-каштановые волосы аккуратно заплетены в косу и уложены в узел на затылке, ногти чисты и подстрижены. Но она была невысока ростом, и слово «крепкое» больше подходило для описания ее телосложения, нежели «хрупкое», несмотря на то, что она была очень стройна. Линиями тела она более напоминала мальчишку. Самой приметной ее чертой был яркий румянец на щеках. В то время, когда идеалом считалась необычайно белая кожа, здоровый цвет лица Мэри воспринимался как недостаток. Если бы не это, ее глаза могли бы казаться прекрасными. Они были большие, круглые, светло-карие – цвета хорошего хереса. Но глядя на нее, люди замечали только удивительно красные щеки. «Странно, – подумала монахиня, – сегодня щеки ее не кажутся слишком румяными. Их цвет удивительно подходит к ее счастливой улыбке. Я тоже смогу улыбаться, когда вырвут этот зуб и боль исчезнет». Она махнула кучеру – поезжай.
Мэри быстро прошла через ворота, а затем резко остановилась в изумлении.
«Я никогда не видела такого оживления», – подумала она. На всей огромной пристани кипела бурная деятельность. Кабриолеты и экипажи сталкивались, когда пути их пересекались, возницы кричали, споря за место возле каменных ступенек, по которым, возможно, будут сходить пассажиры. На одни тележки и повозки грузили ящики и бочки, с других сгружали. Играли три оркестра, а один из пароходов заглушал всю музыку своей пронзительной сиреной. Рядом с музыкантами, а то и между ними прыгали и плясали дети, девушки, юноши. Мэри неотрывно смотрела на них, ноги ее сами собой чуть заметно двигались – ей хотелось присоединиться к танцующим. Она с изумлением глядела на колонны чернокожих, которые несли груз на пароходы, кидали огромные тяжести на повозки или разгружали их. Она никогда раньше не видела черных и была одновременно очарована и смущена. Воспитатели ее были страстными аболиционистами, и она не могла понять, отчего эти люди поют и смеются. Мэри взглядом искала на них цепи и кандалы, но ничего подобного не увидела. Потом она обратила внимание на белого, сидящего на лошади возле грузовых повозок. В руке у него был свернутый кнут. Мэри вздрогнула и отвернулась.
Она посмотрела на пароходы. Их было три, каждый больше и умопомрачительней соседнего. Трубы их были увенчаны золотыми коронами, позолота украшала причудливую резьбу на палубах. На самом крупном пароходе было три палубы, сверкали бронзовые колокола и поручни, каждая дверь была окантована золотом, а на кожухе огромного ходового колеса был нарисован город с золотыми башнями, утопающий в ярких пестрых цветах. Золотые буквы свидетельствовали, что и это изображение, и сам пароход называются «Город Натчез».
Впечатлений было слишком много. Мэри вертела головой из стороны в сторону, стараясь разглядеть все. «Дорогу!» – слышалось со всех сторон. Кричали извозчики, торопящиеся куда-то пешеходы, мальчишки, несущие багаж вслед за спешащими людьми. «Дорогу!» – услышала она позади себя, и тележка, доверху нагруженная сундуками, чемоданами и шляпными коробками, резко отшвырнула ее в сторону.
От удара у нее болело плечо, но ей было все равно. Здесь царили жизнь, краски, восторг, веселье, – короче, таким был мир, и она, Мэри, являлась частью этого мира. Она прижала к себе коробку, которую держала под мышкой, и вступила в царивший на причале хаос.
– Пожалуйста, скажите, где я могу купить билет? – Этот вопрос она пыталась задать полудюжине людей, но все они спешили мимо, не слыша ее робкого, вежливого голоса.
«Надо просто сесть на пароход, – решила она. – Там у них будут билеты». Но она и трех шагов не могла сделать, чтобы кто-нибудь не преградил ей путь, не оттолкнул в сторону. Это повторялось многократно.
«Мне надо, значит, я добьюсь», – внушила она себе. Угол коробки впивался ей в бок, сумка тяжелым грузом висела на локте, и Мэри испугалась, что вот-вот расплачется. Потом она увидела маленькое красное сооружение из досок. На белой вывеске над дверью было золотыми буквами написано: «Билеты и коносаменты». До домика было совсем недалеко, и путь ей ничто не преграждало. Мэри побежала. Сумка била ее по ногам, а коробка раскачивалась, готовая в любую секунду упасть.
В домике она моргала и щурилась, стараясь приспособиться к полумраку после яркого солнечного света на пристани. Здесь тоже была шумная толпа, но вела она себя более организованно. К высокому прилавку в дальнем конце тянулись три очереди. Среди всей суеты в помещении очереди эти были совершенно неподвижны.
Вдоль стен стояли низенькие деревянные скамейки. Мэри увидела, как с одной из них поднялась и ушла женщина.
– Слава Богу! – прошептала Мэри.
Она поставила на свободное место коробку и сумку, достала из кармана платок и вытерла лицо и руки. Потом расправила сетчатые митенки, которые носила на руках, разгладила примятые юбки и поправила чепец. Она привела себя в порядок. «Нельзя быть такой растяпой», – внушала она себе. Она выбрала самую короткую очередь и стала приближаться к ней.
– Вам, мисс, лучше свое барахлишко так не бросать, – сказала стоящая рядом женщина. – Тут всякий народец водится. Иные только воровством и живут.
Мэри поспешила назад, к скамейке. Она нагнулась за коробкой, потом неожиданно села рядом с ней. Колени ее дрожали. Казалось, радостное возбуждение и решимость покинули ее. Она сидела одинокая и напуганная. «Что я наделала! – беззвучно вскричала она. – О ворах я и не подумала. Я вообще ни о чем не подумала. Я не знаю, что делать. Как что устроить. Я в жизни никуда не выбиралась одна. Мать-настоятельница права – это глупый, необдуманный шаг. О, как мне хочется снова оказаться в монастыре! Здесь настоящий сумасшедший дом».
На пристани, привлекая всеобщее внимание, загудели колокола. Мэри отчаянно завертела головой из стороны в сторону. Ее окружали люди – хорошо одетые дамы и господа, поджарые мужчины с суровым взором и задубевшей кожей, в костюмах из оленьей шкуры с бахромой, босоногие мужчины и женщины в заношенной, латаной одежде. Дети самого разного возраста носились вокруг или крепко держали за руки взрослых. Видно было, что все они знают, что делают, понимают, что происходит в окружающем их хаосе. Никто не выглядел испуганным. «Кроме меня», – подумала Мэри.
Снова зазвонил колокол. Мэри потянула за рукав полную седую женщину, оказавшуюся рядом.
– Простите, – сказала она, – этот звон означает, что пароход отплывает?
Женщина с сердитым взором обернулась к Мэри, но когда она увидела исполненные ужаса глаза девушки, опрятную серую форму монастырской школы и чепец, выражение ее лица смягчилось.
– Именно так и утверждают, но не надо переживать по этому поводу. Мне случалось видеть, как всех загоняют на борт к одиннадцати утра, а потом не трогаются с места до четырех – грузят что-то… Первый раз вниз по реченьке плывешь?
Мэри кивнула и попыталась улыбнуться.
– И совсем одна?
– Да, мэм, – призналась Мэри. Она вспомнила предостережения матери-настоятельницы. Дамы постарше могут путешествовать в одиночку, хотя и поступают так крайне редко. Но молодые – никогда. Так поступают только непотребные женщины.
– У меня совсем недавно умер отец, – поспешила объяснить Мэри, – и я еду к бабушке в Новый Орлеан. Кроме нее, у меня никого не осталось. Мама умерла уже давно.
– Бедная овечка! – Голос женщины от сочувствия сделался хриплым. – Оставайся-ка со мной, милая. Меня зовут миссис Уотсон. Я не хуже любого капитана знаю, как делаются дела здесь, на реке. А если я чего не знаю, так знает мистер Уотсон. Он вон там, у кассы, выбивает нам самые лучшие места. Дай-ка мне деньги на билет, я их передам ему. Он позаботится, чтобы тебя не обсчитали. А потом он проводит нас на борт.
– Спасибо вам огромное, миссис Уотсон. – Мэри полезла в карман и вытащила сложенные банкноты, которые отец переслал ей вместе со шкатулкой. Она протянула их миссис Уотсон. – Я не знаю, сколько стоит билет, – сказала она.
– Благослови Боже твою невинную душеньку, дитя мое, разве можно раздавать свои деньги незнакомым направо и налево? Билет стоит куда дешевле. Я попрошу мистера Уотсона, чтобы приберег для тебя остальное.
В некотором отдалении от них презрительно отвернулась женщина в шляпе с роскошным пером.
– Надо же, готовенький пухленький цыпленочек – только ощипать осталось, – вполголоса проворчала она. – И меня уже опередили.
Глава 3
Миссис Уотсон обняла Мэри за плечи. Ее коричневая шаль с толстой каймой напоминала крыло толстой куропатки-мамаши.
– Главное, милая, слушай, что я тебе говорю, и все у тебя будет замечательно. Уж я-то знаю, как руководить молодой девицей. Сама пятерых вырастила, и еще четырех парней. Как тебя зовут, деточка?
– Мэри Макалистер.
Это были единственные слова, произнесенные Мэри за несколько часов. Миссис Уотсон разговаривала без умолку. Представив мистера Уотсона, она рассмеялась и сказала:
– Некоторые еще кличут нас Кильками.
Пока высокий, худой молчаливый мужчина улыбался Мэри, миссис Уотсон вспомнила о печальном положении, в котором оказалась девушка, и, едва переведя дыхание, поведала Мэри о процветающем универсальном магазине мистера Уотсона в Портсмуте, штат Огайо, о том, как умело он торгуется с оптовиками в Питсбурге, куда они предпринимают поездки четыре раза в год, чтобы заполнить полки своего магазина самыми модными товарами.
Она взяла Мэри под руку, и они пошли вслед за тяжело нагруженным мистером Уотсоном сквозь толпу и сумятицу на заполненном людьми и вещами причале. Миссис Уотсон кричала Мэри в самое ухо, чтобы та не переживала за свой багаж:
– Мистер Уотсон очень силен и очень осторожен. Он запросто донесет и наши вещички, и твои.
Мэри скрыла свое разочарование, увидев, что мистер Уотсон ведет их к самому маленькому пароходу. Подойдя ближе, она заметила, что краска на нем облупилась, а позолота потускнела.
– Мы пойдем на «Царице Каира»! – завопила миссис Уотсон. – Ее хозяин – добрый друг мистера Уотсона, поэтому нас обслужат по высшему классу. На этих новомодных посудинах я ни за какие деньги не поплыву. На них полным-полно всякой богатой швали, к тому же они только и гоняются наперегонки. Вон, всего месяц назад две такие лоханки взорвались, и все, кто не обгорел до смерти, утонули. А старая добрая «Царица» не спешит, зато и доставит тебя куда надо в целости и сохранности. И кормят, кстати, отменно.
Позднее, за ужином, Мэри узнала, что мнение миссис Уотсон об «отменной кормежке» оказалось вполне обоснованным и что миссис Уотсон воздавала еде должное с усердием, которому позавидовал бы сам Гаргантюа. Но перед этим был еще нескончаемый, ошеломительный поток чудес, который демонстрировала и объясняла миссис Уотсон.
Для начала она препроводила Мэри в каюту для дам, проверила матрасы, выбрала две смежные койки, показала Мэри, как задергивать шторы с помощью специальной палочки, чтобы обеспечить себе уединение. Она обратила внимание девушки на мягкие подушки и одеяла, ковры с цветочным узором, цветами же расписанные горшки и кувшины в примыкающей к каюте умывальной, стенной шкаф с внутренней дверцей, за которой скрывался ночной горшок с закрывающимся стульчаком. Она сказала Мэри, что мужская каюта значительно больше – там тридцать пять коек, тогда как в дамской всего лишь двадцать, – зато там нет никакой возможности уединиться. Обо всем этом ей рассказал мистер Уотсон.
Миссис Уотсон также сказала, что он рассказывал ей, что происходит, когда дамы удаляются после ужина. Но Мэри слишком молода, и нечего ей знать о таких вещах, как выпивка, карточные игры, курение и разговоры, которые мужчины ведут между собой на досуге. Ей надо усвоить лишь, что утром, за завтраком, разумно поменьше говорить и потише орудовать ножом и вилкой.
Мэри попыталась представить себе миссис Уотсон в состоянии покоя, но у нее ничего не вышло. Она просто не успела. Старшая знакомая показывала ей чудеса кают-компании – громадного центрального помещения, где пассажиры едят и развлекаются. Миссис Уотсон пояснила, что столы, обычно сдвинутые вдоль стен, к завтраку, обеду и ужину расставляют по всей кают-компании, а стулья, которые обычно стоят в центре зала, придвигают к столам.
– Ты сама убедишься, Мэри, как шикарно тут обслуживают. Вилки из чистого серебра, да такие тяжелые, что не поднять, а мальчишки в перчатках разносят все на серебряных блюдечках. К тому же зажигают все люстры, и свет отражается в зеркалах и мерцает, будто звездочки. Ты только посмотри – золотые и такие величественные! А красные плюшевые занавеси с золотой каймой? А красные ковры? Они же пушистые, как трава на лугу. Бьюсь об заклад, что ты никогда не видела ничего подобного.
Так оно и было. Она привыкла к строгой красоте и аскетической обстановке монастыря. Плюшевая обивка на пароходе протерлась до блеска, позолота поблекла. Она почувствовала, что вот-вот заплачет, и часто заморгала, отгоняя непрошеную слезу. Возможно, она совершает ужасную ошибку. Возможно, ей следует сойти с парохода.
Но в этот момент пароходные трубы издали несколько гудков, возвещавших, что судно отчаливает. Миссис Уотсон вытолкала Мэри на палубу – посмотреть, как причал медленно уплывает вдаль.
Мэри лишь мельком взглянула на причал. Все ее внимание было приковано к гигантскому голубому гребному колесу на корме. Оно вращалось, поднимая капельки брызг, разбрасывая их, как пригоршни бриллиантов, оставляя за собой белопенную волну. Гладко и царственно, как лебедь, пароход выплывал на середину широкой реки. Ветерок, лаская, тронул разгоряченные щеки Мэри, и она засмеялась. Все переменилось в одно мгновение. Аляповатый пароход превратился в волшебный корабль, уносящий ее в сказочное путешествие.
Она почувствовала, что все ее страхи и печали уносятся прочь вместе с берегом и причалом. Она действительно отправилась в путь, и значит, так и должно быть. Она побежала на корму, протянула руки, ловя брызги с колеса, поднесла их к губам. «Река такая широкая, такая прекрасная, такая сильная! Она умчит меня прочь от всех бед и напастей. Она привезет меня к моей семье, к женщинам с такими же паучьими пальцами, к моему наследству. Она примчит меня в Новый Орлеан».
Миссис Уотсон не позволила Мэри долго наслаждаться своим новым счастьем.
– Уходи оттуда, – сердито сказала она, – не то вымокнешь, простудишься и умрешь.
Спустя два часа, когда они кругами прогуливались по палубе, она все еще рассказывала Мэри, как болели ее дети, как они только чудом спасались от смерти или увечий.
– Почему мы останавливаемся? – удалось вставить Мэри. Пароход теперь двигался очень медленно, разворачиваясь к берегу, густо поросшему деревьями.
Миссис Уотсон столь же плавно сменила тему беседы:
– Мы что-то разгружаем, а может, кто-то сходит на берег, либо, наоборот, принимаем что-то или кого-то на борт. Вдоль всей реки по обоим берегам множество городков и деревень, и возле каждой «Царица» будет останавливаться, если есть возможность что-то заработать. – Ухватившись за резной поручень, она перегнулась через него, при этом показались ее практичные муслиновые нижние юбки и прочные высокие черные ботинки. – Эгей! – крикнула она. – Эй ты, там! Как это место называется?
Темнокожий мужчина, стоящий на нижней палубе, поднял на нее взгляд:
– Понятия не имею, миссус. Я знай только кидаю груз туда-сюда на каждой остановке, а про названия не спрашиваю.
Но удовлетворить любопытство миссис Уотсон было не так-то легко.
– Раз сам не знаешь, так спроси кого-то, кто знает! – заорала она. – Мне надо знать название.
Темнокожий пожал плечами и отошел. Миссис Уотсон выпрямилась. Лицо ее от долгого стояния внаклонку сделалось красным.
– И что это мне пришло в голову спрашивать о чем-то у черномазого? Сама не пойму.
Мэри замерла от удивления, – ей еще ни разу не приходилось слышать, чтобы кто-то произносил слово «черномазый» вслух.
Но наряду с изумлением она испытала непреодолимое желание посмотреть на раба поближе. Когда голос снизу прокричал: «Это Рочестер, миссус!», Мэри подошла вплотную к поручню и посмотрела вниз.
Негр был очень большой и очень черный. Забыв о приличиях, Мэри уставилась на него, вытаращив глаза и открыв рот от удивления.
Он увидел ее и улыбнулся. Обрадованная, Мэри улыбнулась в ответ. Она подняла было руку, намереваясь помахать ему, но тут вспомнила, что человек этот ей совершенно не знаком. Опустив руку, она отвела взгляд. Лицо ее налилось краской смущения. Она принялась теребить попавшийся под руку деревянный шарик – целый ряд таких шариков украшал поручень, – притворяясь, что именно затем и подняла руку. К ее ужасу, когда она покрутила шарик, тот отделился от поручня и, вращаясь, упал на палубу.
Чувствуя себя неуклюжей и глупой, Мэри побежала за ним.
– Господи! – закудахтала миссис Уотсон. – Что ты там делаешь? Что случилось?
Мэри благодарила судьбу, что никто не заметил ее неловкости. Она подхватила шарик и насадила его обратно на стерженек.
– Я, миссис Уотсон, задела шарик, а он отвалился.
– Тогда тебе лучше держаться подальше от перил. Постой-ка вот здесь. Отсюда тоже можно увидеть причал – если хочешь, конечно. Этот городишко называется Рочестер.
Мэри несколько минут постояла рядом с миссис Уотсон. Затем любопытство снова потянуло ее на нос парохода – ей захотелось посмотреть, что там происходит. Пароход стоял, уткнувшись носом в небольшую насыпную отмель. С невидной отсюда нижней палубы в руки взбудораженных юнцов, столпившихся на берегу, летели веревки с петлями на концах. Юнцы отталкивали друг друга, борясь за привилегию набросить петлю на ожидающие погрузки штабеля досок.
Возле реки сгрудилась толпа мужчин, женщин и детей. Она немного рассеялась лишь в тех местах, куда стали опускать сходни.
Тогда возникло небольшое светопреставление: крики с берега, с парохода, звон колоколов, мощный гудок трубы, мальчишки, мечущиеся туда-сюда по сходням, протестующее мычание коровы, которую тычками пытались загнать на пароход.
Перекрывая весь этот шум, чей-то мощный голос зарокотал:
– А ну-ка, прекратить там! Я ответственный за груз, я и буду руководить!
По одной из сходней сошел негр, взгромоздив на плечи два тяжеленных бочонка. Вслед за ним спустился белый в кителе с медными пуговицами и кепке с козырьком. Он посмотрел в листок бумаги, который держал в руках:
– Гвозди в бочонках для Хинкля! Шаг вперед! Через толпу протиснулся мужчина.
– Моему мулу не вывезти бочонки, если рядом будет лягаться эта корова, – сварливо сказал он.
– И не его в том вина, – сказал темнокожий. – Где ваша повозка, мистер Хинкль? Я сам погружу в нее гвозди.
Толпа расступилась и пропустила его.
Он быстро вернулся и снова поднялся на пароход. Мужчина в форме вручил Хинклю какой-то документ, тот отдал взамен несколько серебряных монет.
Теперь внимание толпы переключилось на норовистую корову. Она категорически отказывалась ступить на сходни.
Мужчина в форме положил руки в карманы и прислонился к дереву, не обращая ни малейшего внимания на всеобщий ажиотаж, в отличие от остальных, которые давали советы, подбадривали или же, наоборот, поддразнивали. Мэри смеялась. А миссис Уотсон во всех подробностях излагала собственное мнение относительно того, что требуется предпринять.
Некоторое время спустя мужчины сошли с парохода и присоединились к зрителям на берегу. Мэри увидела, что ее новый знакомый смеется, стоя рядом с двумя другими неграми.
Она также заметила троих мужчин в оленьих куртках с бахромой и вытянула шею, чтобы получше их рассмотреть. Да, они были обуты в мокасины. Мэри тихо вздохнула. Это было так романтично. Несмотря на то что монахини неодобрительно относились к чтению романов, она, как и все ее подружки, прочла и «Зверобоя», и «Последнего из могикан».
Миссис Уотсон тоже вздохнула:
– Все это ужасно скучно. Пойдем, Мэри, в каюту. Придумали, тоже мне! Заставлять людей ждать какую-то корову!
– Извините, мне хотелось бы еще немного посмотреть, – сказала Мэри. – Я попозже к вам присоединюсь.
– Что? Чтобы я оставила молодую девушку одну среди множества незнакомцев? Это я-то, Мюриэл Уотсон! Никто не посмеет упрекнуть меня в уклонении от долга в тех случаях, когда это требуется. Вот, помню, однажды…
Мэри почти не внимала воспоминаниям миссис Уотсон – она всецело отдалась созерцанию состязания с коровой. Теперь ее пытался сдвинуть с места один из «кожаных чулок». Он обхватил корову рукой за шею и потащил.
– Он убьет мою коровушку! – закричал женский голос. Чиновник в форме отлепился от дерева.
– Эй, кончайте! – завопил он. – Это предназначено для погрузки, а не для ужина. – Он приблизился к корове, и мужчина в оленьей куртке ослабил хватку и сказал:
– На индейцев действует. – Его друзья расхохотались. Чиновник повернулся к негру.
– Джошуа, – сказал он. – Присмотри за грузом. Крупный темнокожий мужчина подошел к корове.
– Слушай сюда, корова, – громко сказал он. – Помнишь, что случилось в Иерихоне, а? Надеюсь, ты не хочешь свалиться вниз. Так что лучше пошевеливайся.
Он взялся за накинутую на шею коровы веревку и зажал конец между зубами. Затем резко сдвинулся с места. Никто толком не успел понять, что произошло, как он уже был позади коровы, прочно зажав своими большими руками ее задние ноги. Приподняв корову за ноги, он пошел к сходням, заставляя животное двигаться, чтобы не упасть. Рот его был растянут в широкой ухмылке, а большие белые зубы крепко держали веревку.
– Смотрите, все равно как с тачкой, – сказала миссис Уотсон. – Ну и ну!
Публика смеялась и аплодировала. Мальчишки свистели и топали ногами. Мэри захлопала в ладоши. Пребывающая в полном недоумении корова, жалобно мыча, ступала по сходням.
Краем глаза Мэри увидела вспышку света. Возле мужчины в оленьей куртке, который не сумел сдвинуть корову с места, мелькнуло что-то яркое. Он бежал к судну, подняв руку.
– Насмехаться надо мной вздумал, черномазый?! – кричал он.
«У него же томагавк в руке, – подумала Мэри. – Надо же, к ручке прикреплены перья. Прямо как в книжках. Господи, да он же собирается бросить его в этого черного великана!»
– Берегись, Джошуа! – крикнула она. Рука ее нащупала шарик, украшавший перила перед ней. Она отвинтила шарик и бросила в направлении сверкающего томагавка. Послышался противный стук, шарик ударил мужчину по голове. – Нет! – воскликнула она. – Что я наделала?!
– Мэри, что ты наделала! – сказала миссис Уотсон. – Уходи быстрее, пока никто не догадался, что это ты. – Она взяла Мэри за руку и потащила ее вдоль палубы, через кают-компанию, в каюту для дам.
– Я не хотела поранить его, – всхлипывала Мэри. – Он собирался бросить…
– Тише, дитя мое. Чем меньше слов, тем лучше. Мы ни слова не скажем, и остальные будут молчать. Но с этого момента больше не показывайся на палубе. Пусть эта шваль сама разбирается между собой. А ты иди умой лицо. Скоро ужин, и нам пора почистить перышки.
Болтовня миссис Уотсон подействовала на Мэри успокаивающе. Миссис Уотсон задала Мэри кучу вопросов относительно ее гардероба, заявив, что выпускное платье – это, скорее всего, самое то. Она также объяснила Мэри, что багаж находится в камере хранения, рядом с каютой капитана, энергично препроводила ее в эту самую камеру хранения и, наконец, поручила двум темнокожим горничным погладить платье Мэри и свое собственное и незамедлительно доставить их в каюту.
– Это платье больше всего нравится мистеру Уотсону, – сказала она. – Я всегда беру его с собой в поездки, потому что тогда обычный ужин превращается в торжественный прием. А теперь неси свои туфельки – они красивые, но совершенно бесполезные и непрочные. Я помогу тебе уложить волосы, и ты будешь первой красавицей на пароходе.
– Правда, она красавица? – громко сказала капитану миссис Уотсон. – И сирота, бедняжка! Я пригрела ее на своей груди, как агнца Авраамова. Мэри, поздоровайся с капитаном. Убеждена, что он захочет, чтобы мы сидели рядом с ним. Сиротка в первый раз путешествует по реке… Боже мой, капитан, как замечательно выглядит стол! Какая роскошная, плотная скатерть! Я же говорила, Мэри, что на «Царице» всегда роскошный стол. Мой муж, мистер Уотсон, знает судовладельца… то есть одного из владельцев; я знаю, что их целая компания… Вы ведь помните нас, капитан? Мы с мистером Уотсоном, когда нам надо в Питсбург, всегда плывем исключительно на «Царице».
Капитан пробубнил сквозь густые усы, что прекрасно помнит миссис Уотсон, и сосредоточил все внимание на разливании супа из стоявшей перед его прибором супницы. Официанты забирали у него тарелки и расставляли их перед каждым из двадцати шести человек, сидевших за длинным столом в центре кают-компании. Пассажиры кают «Царицы» составляли менее половины от того, что могло вместить судно. Большую часть прибыли приносили грузовые перевозки и те пассажиры, которые находили себе местечко среди ящиков, бочонков и скота на нижней грузовой палубе, где проезд стоил всего десять центов в день, а провизию люди брали с собой.
Пища, которой кормили каютных пассажиров, была, как и обещала миссис Уотсон, очень хороша и подавалась в превосходящем всякое воображение изобилии. За ужином, после первых же двадцати минут, Мэри поняла, что о ее упражнениях на меткость не будет сказано ни слова. Должно быть, это означало, что человек не очень пострадал. Придя к такому решению, она смогла в полной мере насладиться цыплятами в соусе, картофельным пюре, свежим горошком, морковкой, кукурузными оладьями, приправой из зеленых помидоров и молоком.
Ей очень понравилась и беседа с соседкой по столу.
– Мне восемьдесят семь лет, – поведала та Мэри, – а у меня еще все зубы на месте. Я услыхала об этих пароходах и решила, что если хочу прокатиться на таком, пока не померла, то надо поторапливаться. Так я и села на него в Рочестере вместе с моей коровушкой и собираюсь плыть аж до самого Краун-Сити. А это почти три сотни миль. И похоже, пока доплыву, отъемся на всю оставшуюся жизнь.
По другую сторону от Мэри миссис Уотсон молча и благоговейно предавалась чревоугодию.
Голос возвратился к ней, лишь когда все было съедено подчистую.
– Теперь, Мэри, можно и светски пообщаться. С дамами, естественно. Мужчины ждут не дождутся, когда мы уйдем, чтобы они могли заняться своими сигарами и прочими безобразиями. – Кокетливо закатив глазки, она повернулась к капитану. Он натужно улыбнулся, но весьма охотно встал и помог отодвинуть кресло миссис Уотсон, чтобы та могла выйти из-за стола.
Вернувшись в каюту, миссис Уотсон представила себя и Мэри двенадцати дамам, с которыми они делили помещение.
– Эта отважная сиротка, – сказала она им, – едет до самого Нового Орлеана, к бабушке, а ведь ни разу в жизни ее не видала!
Дамы отреагировали сочувственными восклицаниями. Пока миссис Уотсон не затараторила снова, Мэри воспользовалась предоставившейся возможностью и спросила, не может ли кто-нибудь рассказать, каков из себя Новый Орлеан.
– Я ведь ничегошеньки о нем не знаю, – выпалила она. – Даже не знаю, далеко ли он.
Ей сказали, что Новый Орлеан очень далеко. Так далеко, что никто из присутствующих дам и даже из их знакомых там не был. Они попытались определить расстояние до него. По их догадкам, получалось от полутора до пяти тысяч миль.
– А сколько мы проехали?
– Почти сто.
Мэри была ошеломлена. «Я состарюсь на этом корабле в компании этих теток, – подумала она. – Да еще эта миссис Уотсон с ее болтовней!»
– Мистер Уотсон знаком с владельцем этого корабля, – говорила между тем миссис Уотсон. – Поэтому мы всегда путешествуем только на «Царице». Мы ездим в Питсбург четыре-пять раз в год. Видите ли, у мистера Уотсона большой магазин в Портсмуте, штат Огайо, и следовательно…
Поздним вечером, когда все прочие в каюте уже давно спали за задернутыми шторами, Мэри не могла заснуть. До нее доносились еле слышные всплески смеха из кают-компании, и ей показалось, что она уловила запах сигарного дыма. Одежда ее отца всегда хранила легкий аромат табака. Она заплакала и так, плача, заснула.
Она резко проснулась, недоумевая, что могло ее разбудить. Ритмичное попыхивание труб напомнило ей, где она находится. Потом она услышала отдаленную музыку, такую же призрачную, как и сон.
Она слушала, и музыка становилась все явственней. Мэри поднялась с койки и осторожно прошла мимо спящих женщин к задернутому иллюминатору. Она чуть-чуть раздвинула шторы и выглянула наружу. Сияла яркая луна, освещавшая перила палубы; декоративные шарики на них светились, словно гирлянда огоньков. За перилами виднелась река, черная и таинственная, по которой бежала серебряная дорожка лунного света, ведя к дальнему берегу, где стояли темные, окантованные серебром деревья.
Музыка стала отчетливее, и перед глазами Мэри появилось чудесное видение. То был большой белый с золотом пароход, который она видела в Питсбурге. На всех трех палубах из иллюминаторов изливался золотой свет, и от этого света позолота на обшивке парохода вспыхивала и мерцала. Когда пароход обгонял неспешную «Царицу», музыка, подобно волшебным чарам, окутала Мэри. Она слышала смех и видела, как под ослепительно яркими люстрами танцуют мужчины и женщины.
И тут же – так быстро! – видение исчезло. Мэри прислушивалась, но звуки музыки делались все тише и постепенно смолкли. Она смотрела на освещенный луной белый след парохода, пока и он не исчез и на черной глади реки не осталась лишь серебряная полоска лунного света.
Дальний берег с посеребренными деревьями медленно проплывал мимо, тихий, прекрасный, чужой. Мэри вздохнула, восхищенная всем увиденным, и ей захотелось, чтобы путешествие длилось вечно.
Жизнь на борту «Царицы Каира» подчинялась распорядку, котором Мэри никогда прежде не ведала и которого даже вообразить себе не могла. Казалось, ни времени, ни расстояния не существовало. Все утратило измерение. Вокруг была только река – широкая, мощная, неизменная, несмотря на все изгибы, обрывы, острова и городки. Мэри постоянно сидела на скамейке, поставленной лицом к носу парохода и прикрытой нависающей сверху рубкой лоцмана. Оттуда она наблюдала за рекой, другими судами, огромными плотами из бревен, плоскодонками, перевозящими бочки, ящики, скот, а иногда и целые семьи, занятые стряпней или стиркой, пока река несла их к месту назначения. Мэри видела сигналы: когда с берега размахивали широким белым полотнищем, это означало, что «Царицу» просят пришвартоваться и принять груз; научилась она и распознавать три гудка, возвещавшие о намерении «Царицы» стать под разгрузку. Мэри никогда не надоедало наблюдать за суматохой на берегу, когда пароход поворачивал носом к причалу. Вскоре она научилась предсказывать, когда на пароходе выберут место для причала и пошлют на берег кого-нибудь из экипажа закупить дров для котлов или провиант.
Когда с парохода сходили пассажиры, она стояла возле поручней и громко прощалась с ними. Когда садились новые пассажиры, она смотрела на них с интересом, пытаясь вообразить, о чем они могли бы порассказать, зная, что, скорее всего, узнает что-нибудь об их жизни, поскольку миссис Уотсон непременно познакомится с ними, а затем познакомит и Мэри, не преминув поведать ее «печальную историю». Дамы неизменно сочувственно цокали языком и обещали заменить ей мать – на время их пребывания на борту. Поэтому Мэри никогда не оставалась на своей скамейке одна. И каждая соседка подробно отвечала на вежливые вопросы Мэри о ее доме и семье.
От них Мэри узнала, что на одном берегу реки находится штат Огайо, а на другом – Западная Вирджиния. Пенсильвания осталась далеко позади. Дни, мили, повороты, причалы смешались в ее памяти, и скоро один берег остался в Огайо, а другой перешел в Кентукки. А вскоре Уотсоны покинули корабль. Мистер Уотсон с несколько деревянным поклоном вручил Мэри ее деньги, а миссис Уотсон, обливаясь слезами, заключила девушку в свои крепкие объятия. Она препоручила Мэри заботам миссис Оландт.
Стаут, Райтсвилл, Абердин, Хиггинспорт, Невилл, Цинциннати – там простояли целые сутки, дожидаясь крупной партии солонины в бочках.
Затем, несколько часов спустя, Огайо кончился. На одном берегу реки был по-прежнему Кентукки, но на другом оказалась уже Индиана, и первой остановкой там был Рэббит-Хэш. И миссис Оландт препоручила Мэри мисс Диккенс, которая «всю жизнь прожила девицей и очень гордится, что у нее на это хватило здравого смысла».
Городки возникали и исчезали, а дамы по-прежнему беседовали с Мэри на ее скамейке, за столом, в каюте. Но никто из них никогда не был в Новом Орлеане и не знал никого, кто бы там побывал.
Так было до Луисвилла. Там на борт поднялась семья с пятью детьми, старшему из которых было семь лет, – и спокойной апатии на «Царице» пришел конец. «Да, я как-то ходил на плоскодонке до самого Нового Орлеана, – заявил измученный отец семейства. – Только тогда я был совсем молодой, и то, что я видел в Новом Орлеане, не для ваших ушей».
Два дня спустя «Царица» пришвартовалась в Ивэнсвилле. Семья сошла, и все люди и животные на пароходе радостно и облегченно вздохнули.
Но стоянка затянулась. Давно уже с борта сошла семья и был снят груз, предназначавшийся для Ивэнсвилла, давно на борт подняли и разместили новый груз, а пароход все стоял на якоре. Трубы его легонько попыхивали, показывая, что котлы вырабатывают пар, готовый привести в движение гребное колесо. Но колесо оставалось неподвижным.
– Чего это мы дожидаемся? – возмущалась мисс Диккенс. – Мы и опомниться не успеем, как стемнеет. Уже час назад должны были позвать к ужину.
– По-моему, мы ждем того, кто едет в том экипаже, – предположила Мэри. – Посмотрите, мисс Диккенс: мчится как ветер.
Черный экипаж сверкал лакированной кожей. В него были запряжены огромные белые кони, несшиеся немилосердным галопом. Темнокожий кучер был в черном цилиндре и черном костюме, из-под которого выглядывали белые кружева. Чтобы остановить лошадей на краю причала, ему даже пришлось встать. Мэри видела, как вожжи буквально впились ему в ладони, обтянутые белыми перчатками.
Даже после такой спешки пассажиры экипажа, казалось, не торопились с выходом. Дверцы оставались закрытыми, пока кучер сгружал чемоданы и шляпные коробки, закрепленные на крыше экипажа. Никакого движения не наблюдалось, пока он четырежды не сходил на пароход и обратно и весь багаж не оказался на борту. Лишь тогда кучер открыл дверцы экипажа и склонился в низком поклоне.
И из экипажа выплыла женщина, элегантней которой Мэри еще не доводилось видеть. На ней был дорожный костюм практичного коричневого цвета. Перчатки были черные, что также было практично, ибо на черном не заметно грязи. Но при всей практичности костюм этой женщины казался невероятно изысканным. Ее коричневое платье было шелковым, и цвет его переливался на солнце, переходя из тепло-янтарного в густо-кофейный. Корсаж тесно облегал фигуру, удерживаемый изысканными витыми застежками на неправдоподобно тонкой талии, опоясанной поясом из того же витого шелка, из которого были сделаны застежки. Черная кружевная кайма украшала три оборки ее широкой юбки и широкие рукава колоколом. Подрукавники были из черной шелковой кисеи, расшитой мельчайшими коричневыми завитками. Их узкие манжеты были украшены черными шелковыми бантами. На ней был чепец из коричневой соломки, отделанный черными кружевами. Чепец был завязан под подбородком на удивление широкими шелковыми голубыми лентами. Когда женщина выходила из экипажа, на мгновение показались нижние юбки пяти разных оттенков голубого.
Она подошла к пароходу, а из экипажа вышла другая женщина. На ней было серое шелковое платье с отделанным кружевами передником, служившим скорее украшением, нежели средством защиты от грязи. Яркие золотые серьги в виде колец сверкнули в косых лучах солнца и засияли на фоне ее темной кожи, казавшейся еще темнее оттого, что на голове у женщины был белый тюрбан.
Кучер попытался взять у нее красный кожаный саквояж, но она лишь отмахнулась и поспешила вслед за первой женщиной.
– Ну и ну! – сказала мисс Диккенс. – Всяких видала я расфуфыренных дамочек, но такого…
– Капитан, никогда не прощу себе, что заставила вас так долго ждать, – услышала Мэри слова элегантной женщины, входя в кают-компанию в сопровождении мисс Диккенс.
– И я тоже, – сказала мисс Диккенс нарочито громким шепотом.
Мэри покраснела от смущения. Женщина обернулась и посмотрела на них, приподняв брови. Капитан откашлялся:
– Миссис Джексон, позвольте представить вам двоих из тех дам, с которыми вам предстоит путешествовать. Это мисс Диккенс, а эта юная особа – мисс Макалистер. Она находится на «Царице» с самого начала рейса в Питсбурге и плывет до самого Нового Орлеана.
Миссис Джексон улыбнулась Мэри и протянула руку в идеально облегающей перчатке:
– Очень рада познакомиться с вами, мисс Макалистер. Я тоже живу в Новом Орлеане.
Мэри пожала протянутую руку, испытывая неловкость и радостное волнение.
– О, я так рада, что мы вас дождались! – воскликнула она.
Глава 4
– Вы очень смелая девушка, Мэри, – сказала миссис Джексон. После того как их представили друг другу, она вежливо, но с почти ледяной сдержанностью отвечала на вопросы о Новом Орлеане, которыми засыпала ее Мэри. Однако позднее, узнав, что Мэри одна-одинешенька во всем мире, она начала оттаивать. А когда Мэри призналась, что даже не знает, жива ли ее бабушка и как эту бабушку зовут, миссис Джексон взяла руку Мэри в свою и несколько раз выразила ей свое восхищение. Окутанная теплом этой симпатичной женщины, Мэри буквально расцвела.
– Я так счастлива, что у меня появилась такая подруга, как вы, миссис Джексон. Вы такая добрая, и такая прекрасная, и такая элегантная. О, как бы я хотела быть такой, как вы!
– Какие милые речи, дорогая моя девочка. – Такого голоса, как у миссис Джексон, Мэри ни разу не доводилось слышать. Она говорила тихо, протяжно – словно текла река. Согласные как-то смазывались или вообще исчезали, гласные же, напротив, тянулись долго, как музыкальные ноты. Улыбка у миссис Джексон тоже была неспешной. Начиналась она с чуть заметного трепета губ, затем раздвигавшихся; потом поднимались уголки широкого рта; и наконец открывались прекрасные белые, очаровательно неправильные зубы – верхние резцы чуть выдавались вперед. У нее были светлые волосы и голубые глаза – Мэри никогда не видела таких ярких, глубоких глаз, с тяжелыми веками, из-за которых глаза миссис Джексон, когда она молчала, бывали полуприкрыты. Но когда она начинала говорить, брови ее поднимались и глаза становились большими, круглыми, завораживающими.
На пароходе ее чарам покорились все, включая мисс Диккенс. Мэри почувствовала себя невероятно счастливой, когда миссис Джексон дала всем понять, что предпочитает ее общество. После ужина, когда дамы удалились в свою каюту, миссис Джексон спросила Мэри, не хочет ли та прогуляться с ней по палубе. «Просто стыдно пропустить такой прекрасный закат. Краски так красиво отражаются в воде».
Мэри не сомневалась, что миссис Джексон самая поэтичная женщина на свете. «Бьюсь об заклад, что моя настоящая мать была такой же, – подумала она. – И столь же прекрасной, с таким же музыкальным голосом. Словно она никогда и не умирала, а просто была в долгой-долгой отлучке и вернулась, чтобы побыть со мной и забрать меня в свой старый дом».
– Новый Орлеан очень красив? – спросила она, уверенная, что иначе и быть не может. Ведь это родной город миссис Джексон. И матери.
– Сказочно. Все дома разноцветные, с балкончиками, похожими на черное кружево. И в каждом есть свой укромный, потаенный садик, в котором круглый год растут цветы.
Мэри ахнула:
– Как чудесно!
– Да, именно так. Ты просто влюбишься в Новый Орлеан. Как бы я хотела быть в этот момент с тобой и посмотреть на твою радость.
У Мэри сердце упало.
– Разве вас там не будет? Разве вы едете не в Новый Орлеан?
– Да, конечно, только не на этом пароходе. Он слишком тихоходный и слишком неудобный. До Каира, штат Иллинойс, около двух сотен миль. И до Миссисипи. Там я пересяду на другой пароход.
– Понятно. – Мэри приказала себе не плакать. Потом миссис Джексон произнесла те слова, которые Мэри больше всего хотелось услышать:
– А почему бы и тебе не пересесть, Мэри? Тогда мы могли бы продолжить путешествие вместе. Мне бы этого очень хотелось.
– Должно быть, мне это снится, – сказала Мэри. Она завертелась на месте, глядя, как кружатся ее юбки. От кружения и от счастья все поплыло перед глазами.
Миссис Джексон улыбнулась своей ленивой улыбкой. Она совсем преобразила Мэри.
– Оставь эту монастырскую форму, дорогая, – сказала она. – С каждым днем будет становиться теплее, и ты сваришься заживо. Мы же плывем на юг. Я попрошу одну из своих горничных переделать для тебя какое-нибудь мое платье. Она очень умная и сноровистая.
Платье было совершенно очаровательно – из похожего на кисею белого льняного полотна, подвернутого, присборенного и отделанного накрахмаленными вставками из кружев поверх рюшей из голубого шелка. Под платьем Мэри была затянута в белый корсет, прикрытый сорочкой из обшитого кружевом белого шелка, на ней были также три шелковые нижние юбки, подолы которых пенились кружевными воланами. Когда она была одета, горничная миссис Джексон причесала ее и завила волосы щипцами, затем уложила локоны колечками поверх ушей, закрепив бантиками из шелковой голубой ленты.
– Ты выглядишь очаровательно, моя милая, – сказала миссис Джексон. – Вот тебе еще белые перчатки и зонтик. Пойди попрощайся с капитаном и с подругами. По-моему, пароход поворачивает к причалу.
– Благослови тебя Бог, дитя, – сказала мисс Диккенс. Она прикоснулась к глазам носовым платком. – Желаю тебе всего самого наилучшего.
– Спасибо вам, мисс Диккенс! – Глаза Мэри тоже увлажнились. Она попрощалась со всеми пассажирами по очереди, а затем разыскала на палубе капитана.
– Мы все будем вспоминать вас, – сказал он. – Было так приятно видеть вас среди пассажиров.
– Прощайте, миссус, – сказала каютная горничная. – На вид вы прямо принцесса.
– Я и чувствую себя принцессой, – ответила Мэри. – Никогда в жизни я не была так счастлива.
Вслед за миссис Джексон она почти бегом спустилась по трапу. Впереди стоял величественный пароход. Флаги развевались по ветру, а каллиопа[1] наигрывала веселую мелодию. На палубе Мэри обернулась и помахала рукой. Темнокожий гигант – ответственный за груз – помахал ей в ответ.
– Прощай, Джошуа! – крикнула она и поспешила вслед за миссис Джексон.
Миссис Джексон дотронулась хрустальной пробочкой флакона с духами до мочек ушей Мэри. Потом она приложилась щекой к щеке девушки.
– Я всегда мечтала иметь дочь, – промурлыкала она, – милую девушку, похожую на тебя, Мэри. Раз у тебя нет родной матери, может, станешь моей доченькой?
Мэри порывисто обняла миссис Джексон.
– Этого я хотела бы больше всего на свете, – прошептала она.
Миссис Джексон поцеловала Мэри в обе щеки, а потом высвободилась из объятий девушки.
– Я очень рада, милая. Нам будет очень хорошо вместе. Ты будешь жить со мной в Новом Орлеане, и мы разыщем твою семью. Но пока мы плывем туда, я научу тебя быть настоящей девушкой-южанкой. Для начала я хочу, чтобы ты звала меня не «миссис Джексон», а «мисс Роза». Роза – имя, данное мне при рождении.
– Мне бы следовало догадаться, – сказала Мэри. – Вы так похожи на розу, такая же розовая и благоуханная.
Миссис Джексон усмехнулась.
– И ты тоже, деточка моя. Самая малость духов способна делать удивительные вещи, а на щечках у тебя такой замечательный естественный румянец. И все-таки нам, наверное, придется втереть совсем крошечку рисовой пудры в лобик и подбородочек, чтобы не так блестели. – Пальцы ее ловко, профессионально двигались.
Мэри полностью отдалась во власть миссис Джексон – ведь ее сердце давно уже было отдано ей.
«Краса Мемфиса» была для Мэри страной чудес. Это был один из новейших пароходов на Миссисипи, и отделке его была свойственна вся роскошь плавучих дворцов, которые составляли славу реки. Каждому пассажиру предоставлялась отдельная каюта с огромной кроватью с пологом на четырех столбиках, занавешенной тончайшей противомоскитной сеткой, под шелковым балдахином с кисточками. Шелковые занавеси украшали большие иллюминаторы, выходящие на широкие, до блеска надраенные палубы. Толстые ковры под ногами казались бархатными.
Кают-компания была футов двести в длину, с ослепительными позолоченными зеркалами, тянувшимися до самого потолка высотой в двадцать футов, газовыми люстрами с хрустальными гирляндами и каскадами сверкающих подвесок. Ужин подавали в восемь вечера; он состоял из семи перемен, подаваемых на серебряных блюдах, и сопровождался пятью сортами вин в красных хрустальных кубках. Черный стюард в белых перчатках стоял за спинкой каждого обитого парчой кресла, подавая пищу и предугадывая любое мыслимое и немыслимое желание пассажира. Мужчины были в вечерних костюмах, рубашки их были украшены жемчугом или драгоценными камнями, женщины сверкали обнаженными плечами и блестками драгоценностей на шее и в ушах. За ужином тихо звучал струнный квартет, а после ужина столы убирали и начинал играть танцевальный оркестр. Дамам не было никакой надобности удаляться. Для джентльменов имелась анфилада кают на верхней палубе – для азартных игр, курения и игры на бильярде.
– Я никогда не танцевала, – призналась Мэри. – Можно я сначала просто посмотрю?
– Конечно, дорогая, – сказала миссис Джексон. – Мы посидим на этом диванчике и понаслаждаемся музыкой. Я устрою, чтобы завтра ты поучилась танцевать с кем-нибудь из офицеров парохода. – Она посмотрела на Мэри с симпатией и одобрением. Плечи и грудь Мэри прикрывала кружевная косынка. В вечернем платье, подаренном миссис Джексон, она чувствовала себя чересчур обнаженной.
Три дня спустя на ней было розовое муслиновое платье с огромными дутыми рукавами, которые начинались у самых кончиков ее плеч. Ножки ее топали в такт музыке, постоянно готовые танцевать. Мисс Роза учила ее, как стать настоящей новоорлеанской молодой дамой. Мэри теребила черный кружевной веер, которым она научилась пользоваться, прикрывая краску смущения, и чувствовала себя чрезвычайно светской дамой.
В другом конце зала мужчина побился со своим другом об заклад на сто долларов, что тот не сможет заполучить крошку в розовом на танец.
Его друг отказался спорить.
– Я знаю, какими драконами бывают мамаши у всех девиц младше семидесяти. Кроме того, невинные девы вызывают у меня тоску, а эта совсем уж зелененькая. Я бы уж скорей попробовал с мамашей, но и та, видно, не простая штучка.
Миссис Джексон взглянула на них с холодным высокомерием. «Бр-р-р!» – сказал первый мужчина, и оба, рассмеявшись, отошли.
Миссис Джексон улыбнулась капитану. Он подошел к ней.
– Мэри, дорогая, – сказала она. – По-моему, капитан собирается пригласить тебя на вальс.
Мэри старательно обмахивалась веером. Она уже достаточно часто танцевала с капитаном и знала, что с ним она будет держать такт без особого труда и ей не придется скрывать свое смущение. Она старалась охладить лицо и шею. По мере того как пароход продвигался на юг, из Иллинойса в Теннесси, а затем и в штат Миссисипи, температура росла с каждым часом.
Во время танца она призналась капитану, что никогда в жизни не знала такой жары.
– Понимаю, сейчас июль, но раньше я всегда проводила лето в горах, видите ли… Удивительно вдруг узнать, каким бывает настоящее лето. Мне неловко, что я доставляю столько хлопот мисс Розе… миссис Джексон. Сегодня ей пришлось просить свою горничную завить мне волосы четыре раза.
Капитан улыбнулся. Искренность Мэри была для него в новинку. Молодые дамы на Юге обычно становились искушенными кокетками задолго до достижения ее возраста.
– А что, если я попрошу у миссис Джексон позволения прогуляться с вами, милые дамы, по палубе? – спросил он. – Над водой веет приятный бриз – мы делаем почти двадцать миль в час.
Мэри воодушевленно кивнула:
– Мне бы этого очень хотелось. Спасибо, капитан. Миссис Джексон приняла приглашение капитана, но с поправкой.
– После танцев легко простудиться, – сказала она. – Мэри, сбегай в нашу каюту и принеси каждой из нас легкую шаль.
Когда Мэри ушла, миссис Джексон улыбнулась капитану.
– Похоже, мы идем с хорошей скоростью. – Ее голос казался несколько грубее обычного. – Сколько вы потеряете денег, если пойдете прямо в Новый Орлеан?
– Без остановки в Натчезе? Об этом не может быть и речи.
– Капитан, у меня крайне важное дело вечером Четвертого июля. Мне необходимо успеть.
Капитан посмотрел на миссис Джексон и рассмеялся:
– Я жадный человек, мэм. Она засмеялась вместе с ним:
– Вы меня удивили, капитан. А теперь ошеломите – назовите цену.
Он назвал, и брови ее взметнулись вверх.
– Я просила ошеломить меня, но не до смерти же! Груз, который мог бы принести вам столько денег, не увезли бы и четыре таких парохода. Предлагаю половину назначенной суммы.
Торговались они недолго и дружелюбно. Сделка была заключена, прежде чем Мэри вернулась с шалями. Как показалось Мэри, мисс Роза и капитан выглядели весьма довольными друг другом. Разве не чудесно было бы, если бы они влюбились друг в друга? «Тогда я могла бы быть подружкой на свадьбе». Ее романтическая юная душа находила очень грустным, что мисс Роза – вдова и, по ее словам, никогда не выйдет замуж вторично.
Когда они прогуливались по палубе, Мэри прошла на несколько шагов вперед, чтобы капитан мог побыть наедине с мисс Розой.
Потом она совсем забыла об их существовании. Стояла безлунная ночь, но на небе было светло от звезд. Такого неба Мэри никогда не видела.
– Кажется, они так близко, – вслух произнесла она. – И они здесь совсем другие. Теплые и мерцающие, как угольки, а не холодные и яркие.
Миссис Джексон обняла Мэри за талию:
– Ты теперь на Юге, милая моя девочка. Здесь все другое. И более прекрасное.
На другое утро миссис Джексон разбудила Мэри значительно раньше обычного:
– Одевайся побыстрее. Я хочу тебе кое-что показать. Мы пьем кофе на палубе.
Свой кофе Мэри так и не выпила. Она была слишком зачарована, чтобы заниматься чем-то столь обыденным, как завтрак. «Краса» шла по каналу, идущему параллельно берегу реки. Судно как бы плыло по клубам густого тумана, серовато-золотистого в свете утреннего солнца. С близстоящих деревьев свисали серые облака, покачиваясь в щупальцах тумана, поднимавшегося с реки. Воздух был упоителен, столь же упоительно пели тысячи невидимых птиц и благоухали тысячи крошечных, похожих на звездочки цветов, окутывающих стволы деревьев и ковром устилавших землю между ними.
Мэри вцепилась в поручень. У нее кружилась голова. Красота буквально обрушилась на нее. Она впитывала в себя восхитительный воздух, касавшийся ее кожи мягкими и какими-то ранее неведомыми прикосновениями.
Остались позади деревья, полные звездочек; показались поляна и деревянный причал. Его серебряные от старости доски влажно блестели. Позади начиналась дорога, привлекшая внимание Мэри. По краям дороги росли высокие деревья, увешанные тяжелой блестящей темно-зеленой листвой и белыми восковыми цветами совершенно неправдоподобной величины. В конце дороги стоял храм – белый, с толстыми колоннами, поднимавшимися к островерхой крыше над широкой аркой похожего на золотистый веер окна. В окне виднелись отблески утреннего солнца.
– Это усадьба при плантации, – тихо сказала миссис Джексон, придвинув губы к самому уху Мэри. – Деревья – магнолии, вьющееся растение – жимолость, а серое покрывало – испанский мох. Это Луизиана.
– Я люблю ее, – прошептала Мэри.
Глава 5
Мэри отказалась вернуться в каюту. Целое утро она оставалась на палубе, все ее существо бессознательно тянулось к берегу реки и царящей там красоте. Даже когда канал вывел судно на самую середину реки, а берега стали казаться просто полосками зелени, удаленными на полмили, Мэри переводила взгляд с одного берега на другой, прищурив глаза, – в воде ярко отражалось солнце.
Миссис Джексон старалась убедить ее пройти в тень кают-компании пообедать, но Мэри умолила позволить ей побыть на палубе.
– Мисс Роза, мне это так нужно! Мне кажется, что я начинаю узнавать свою мать, вбирая в себя все то, среди чего она выросла.
Миссис Джексон пошла на компромисс. Если Мэри наденет широкополую шляпу, сядет в кресло в тенечке и под наблюдением миссис Джексон выпьет лимонаду и съест немного холодного цыпленка, то миссис Джексон настаивать не будет.
– Ты испортишь себе кожу, но ради такого благого дела…
Мэри утратила всякое чувство времени. На других пароходах звенели склянки и гудели трубы, но она ничего не слышала. Она пребывала в мире грез. Судно приблизилось к берегу, и Мэри подняла подбородок, вдыхая ароматы Луизианы. Затем река обогнула мыс, и ароматы исчезли до следующего поворота. И до следующего. Потом опять до следующего.
Солнце стало опускаться, и ветерок зарябил воду на поверхности. Он донес до Мэри запах земли – острый, согретый долгим дневным жаром. Мэри вздрогнула. Ее лихорадило от счастья.
В этот момент миссис Джексон как раз выходила на палубу. Она поспешила к Мэри.
– С тобой все в порядке? Ты не больна? У тебя может быть солнечный удар. – Миссис Джексон прислонила тыльную сторону ладони колбу Мэри, потом к щекам девушки. Внезапно она повернула голову и, подбежав к поручням, принялась смотреть на берег реки, сложив ладони козырьком над глазами. – Мы поворачиваем, – сказала она. – Причаливаем. Так не пойдет. Я этого не потерплю. – Она устремилась прочь, даже не взглянув на Мэри.
Причаливаем. Мэри подбежала к носу парохода. Теперь она сможет вблизи разглядеть деревья, и цветы, и землю. От радостного волнения она вся дрожала. Пароходные трубы прогудели сигнал к швартовке, и Мэри, как огонь, охватил трепет волнения. На мгновение ей даже показалось, что с ней случился солнечный удар. Но даже если и так, ей все равно. Все ее чувства были обострены, как никогда раньше. И это было ново, удивительно, восхитительно.
Судно приближалось к причалу. Возле него не было поляны. Высокая, скошенная, поросшая травой стена обрамляла реку с обеих сторон и тянулась, насколько хватал глаз. Вершина стены достигала палубы, на которой стояла девушка. Когда «Краса Мемфиса» легонько стукнулась о стену, Мэри оказалась не более чем в двадцати футах от стоящего на стене мужчины.
Позади него, на некотором расстоянии, Мэри разглядела плантаторский особняк, напоминавший тот, который она видела раньше – белый, с колоннами, будто светящийся среди обильной зелени густо цветущих деревьев. В меркнущем свете дня особняк был виден нечетко, словно мираж или сон. И мужчина казался частью этого сна – волшебного, прекрасного сна. Он был в точности таким, каким и следовало быть человеку, живущему в таком доме.
Он был в костюме для верховой езды. Камзол черного полотна обтягивал широкие плечи и тонкую талию и широко расходился над белыми суконными галифе с шелковистой отделкой. Широкий шарф был ослепительно бел, а высокие черные сапоги начищены до блеска. Столь же черны были густые вьющиеся волосы и глаза мужчины. Взгляд его встретился с взглядом Мэри, и полные, четко очерченные губы разошлись в улыбке, столь же белоснежной, как и шарф. Приветствуя ее, он дотронулся до лба хлыстом, а затем поклонился. Мэри не ответила на поклон – она стояла как завороженная.
Стали опускать трап. Скрип тросов вернул ее к действительности, и она даже вздрогнула. «Что-то я засмотрелась, – подумала она. – Это неприлично, надо отвести взгляд». Но это было свыше ее сил.
Мужчина отвернулся и посмотрел, как сходни, опустившись, коснулись травы возле его ног. Движение еще не закончилось, а он уже вспрыгнул на сходни и сбежал по ним на нижнюю палубу, расположенную под той, где стояла Мэри.
С его исчезновением исчезло и овладевшее ею наваждение. Внезапно она снова стала сознавать окружающее. Ветер, поднимавший пряди волос с ее лба, сильнейший аромат цветов, травы, раздавленной сходнями, воды, бьющейся о корпус парохода. Она услышала голос миссис Джексон и повернулась с виноватым видом, готовая просить прощения за свое неприличное поведение. Но она была одна на палубе, а голоса тут же заглушило ржание лошадей и людские крики. Мэри подбежала к двери, ведущей с палубы в ее каюту, убегая от чрезмерного, пугающего прилива чувств.
Голос миссис Джексон доносился с нижней палубы. Она бранилась с капитаном, требуя, чтобы судно немедленно отшвартовалось и продолжило путь на Новый Орлеан.
Новый пассажир, успевший добраться до палубы, рассмеялся:
– Долго мы не задержимся, Роза. Я только прослежу, чтобы мои люди погрузили двух лошадей, и мы тронемся дальше.
Роза Джексон, отвернувшись от капитана, посмотрела на нового пассажира.
– Добрый вам день, мистер Сен-Бревэн. – Зубы ее были сжаты от гнева, а слова резки. – Я на этом судне полноправная гражданка, как и все прочие дамы, так что будьте любезны обращаться ко мне «миссис Джексон». – Она гневно посмотрела на капитана: – Если к обещанному часу я не буду в Новом Орлеане, сэр, то ваши премиальные отменяются. – Оттолкнув Сен-Бревэна, она гордо направилась к лестнице.
Когда она вошла в каюту, ни от гордости, ни от гнева не осталось и следа.
– Дитя мое, – воскликнула она, – почему ты так, сжавшись, сидишь в тени? Снова простудилась? – Она села рядом с Мэри и обняла девушку за плечи. – Ну же, ну, обопрись на мисс Розу, – прошептала она. – Я о тебе позабочусь. Скажи мне, что с тобой.
Мэри с благодарностью расслабилась в уютных объятиях миссис Джексон:
– Все в порядке, мисс Роза. Просто я внезапно как-то чудно себя почувствовала.
Мисс Джексон погладила ей лоб:
– Это от жары, милая. Ты к ней не привыкла. Все, пока не привыкнут, чувствуют себя не в своей тарелке. Слава Богу, лихорадки у тебя нет. Сейчас я намочу полотенце холодной водой и протру тебе лоб. А потом мы пойдем и совсем легонько поужинаем.
– Нет, нет, я не могу. – Мэри решила, что скорее умрет, чем вновь увидит прекрасного мужчину с плантации. Должно быть, он счел ее величайшей дурой на свете.
Миссис Джексон рассмеялась и крепче прижала ее к себе.
– Но, Мэри, нам придется это сделать. Вот-вот придет моя горничная собирать наши вещи. Мы ведь почти приехали, осталось совсем немного. Кроме того, тебе просто необходимо поесть. Когда мы приедем в Новый Орлеан, у тебя не будет времени, а ты за весь день ни крошки не съела. Девушка не может быть веселой, постоянно думая о том, как она голодна. А тебе предстоит повеселиться, как никогда в жизни. Я говорю тебе об этом только сейчас, потому что не была уверена, что мы попадем в город вовремя. Но теперь я точно знаю, что мы успеваем. Если ты вдруг забыла, то напомню тебе, что сегодня Четвертое июля. А в Новом Орлеане праздник длится круглые сутки. Будут фейерверки. Танцы на улицах. Вечеринки в каждом доме. Я сама каждый год устраиваю прием. Дом будет разукрашен, придут мои друзья. Слуги знают, как все подготовить. И еще, мне не терпится показать им тебя, Мэри. Я каждому собираюсь сказать: «Вот она, моя любимица, которую я отыскала на Севере». И все полюбят тебя, Мэри, и будут рады приветствовать тебя в твоем новом доме.
Мэри забыла о своем смущении, страхах, взволновавших ее сильных чувствах. Новый дом. Новый Орлеан. Новые друзья, которых она там встретит. Как в родной семье.
– Я, пожалуй, умою лицо, – сказала она, обнимая миссис Джексон. – Я люблю вас, мисс Роза.
Поскольку конец пути был так близок, обычного ужина не подавали. На длинном столе, прислоненном к стенке, была выстроена шеренга холодных и горячих блюд, и пассажиры наполняли тарелки всем, что им приглянулось. Потом они садились за небольшие столики, расставленные по всей кают-компании. Каждый мог пить и есть что и когда заблагорассудится.
Такая система была для Мэри в новинку. Она застыла над блюдами, не в состоянии остановить на чем-то свой выбор.
Она была настолько погружена в этот процесс, что даже не заметила, как вошел Сен-Бревэн в сопровождении еще двоих мужчин.
Все трое задержались у столика, на котором стояла большая серебряная чаша, наполненная льдом и бутылками шампанского.
– Мы возьмем бутылку и бокалы, – сказал Сен-Бревэн стюарду, стоящему за столиком. – Пойдем в курительный салон и выпьем там, – предложил он своим компаньонам. – Тогда я приму ваше предложение сыграть несколько партий в карты.
– Монти, на игру времени не хватит. До Нового Орлеана едва ли больше получаса.
Вальмон Сен-Бревэн поднял темные брови.
– Скорее, пятнадцать—двадцать минут. Но разве это что-нибудь меняет? Ведь после прибытия судно никуда не идет. Мы будем играть, пока нам не надоест и не захочется разойтись… или пока я не выиграю все ваши деньги. – Он изысканно раскланялся, подводя двух своих попутчиков к лестнице. В руке он держал бутылку шампанского.
Любой наблюдатель мог бы безошибочно определить, что это два американца и креол, один из коренных франкоязычных жителей Нового Орлеана. Сен-Бревэна выдавал его акцент, хотя он говорил по-английски совершенно свободно, а также костюм. Он переоделся, едва поднявшись на борт «Красы Мемфиса». Джентльмены-креолы всегда переодеваются к вечеру, а этот джентльмен-креол одевался значительно элегантнее большинства своих соотечественников. Рубашка на нем была шелковая, кружевная, жилет – из белого с золотом парчового атласа. Мизинец левой руки украшал золотой перстень, загорелые руки были прекрасно ухожены. В общем, одет, обут, причесан и выбрит он был идеально.
Американцы были в той же одежде, в которой провели весь день – дорогой и модной, но без того истинно парижского шика, которым были отмечены смокинг креола и его узкие брюки. В сравнении с его лощеным совершенством американцы выглядели несуразно.
Наверху, в курительном салоне, они расставили стулья вокруг стола. Сен-Бревэн разлил шампанское и пальцем подозвал стюарда.
– Запечатанную колоду карт для моих друзей, чтобы они могли ее проверить, прежде чем я опустошу их пояса с деньгами, – сказал он. Вытянув длинные ноги, он откинулся в глубоком кожаном кресле. – Скажите, друзья мои, следует ли мне сделать вывод, что вы направляетесь в Новый Орлеан на воскресный стипльчез? Я сам выставляю двух лошадей. Не угодно ли заключить пари? Я чувствую в себе достаточно уверенности и могу предложить вам гандикап.
– Я видел тех тягловых лошадок, которых вы подняли на борт, – сказал американец помоложе. – На какую конкретно сумму вы в них уверены?
– Погодите-ка минутку, – сказал другой. – Прежде чем мы перейдем к этой теме, я хотел бы кое-что узнать. Монти, что это за дама, с которой вы раскланивались в кают-компании? Я с самой Падуки пытался познакомиться с ней, но мне решительно не везло.
Вальмон Сен-Бревэн ухмыльнулся:
– Друг мой, никакого везения вам и не требовалось. Достаточно было бы показать ей свой бумажник. Эта элегантная женщина – Роза Джексон. Она содержит самый шикарный дом свиданий в Новом Орлеане, а значит, самый шикарный во всей стране.
– Бандерша? В жизни бы не поверил!
– Если хотите, я свожу вас в ее заведение. Я там довольно уважаемый клиент. Лучшего вина и лучших постелей, чем у нее, вы нигде не найдете.
– А девочки? У той, которая сейчас при ней, вид такой, будто она ничего, кроме своего молитвенника, не знает.
Вальмон расхохотался:
– В этом особый шик заведения. Все девочки Розы на вид само воплощение невинности. Но в своем ремесле они настоящие мастерицы. Умеют выделывать такое, о чем вы даже не слыхивали. Поэтому они такие дорогие. Такое чувство, будто ты у них первый и только ты вдохновляешь их на маленькие подвиги.
– Сколько же она берет?
– По-разному. За обычное обслуживание – пятьдесят долларов. Но если хочешь чего-то особенного, тогда побольше.
– Пятьдесят долларов – цена неслыханная. Лучшая шлюха в Кентукки никогда не берет больше десяти.
Все это время американец помоложе молча курил. Теперь он вступил в разговор:
– Вы сказали про что-то особенное. Что вы имели в виду?
– Да все что угодно! Чего бы вам ни захотелось, уверен, что для Розы в этом не будет ничего нового. Она даже раздобудет вам настоящую девственницу, если вы готовы выложить две сотни. Меня лично это никогда не интересовало.
Внизу, в кают-компании, миссис Джексон поднесла Мэри бокал:
– Выпей это, милочка. Выпьем за Четвертое июля, за Новый Орлеан и за твою чудесную новую жизнь… Когда ты вот так морщишь носик, то выглядишь просто очаровательно, Мэри. Правда, восхитительные пузырьки? К шампанскому надо привыкнуть. Скоро ты научишься обожать его.
Глава 6
Задолго до того, как пароход доплыл до Нового Орлеана, пассажиры могли видеть, как в темное небо взмывают римские свечи. Все сгрудились на палубе, чтобы посмотреть на это зрелище. Стюарды сновали по всему пароходу, гася огни или задвигая шторы, чтобы лучше было видно фейерверк.
Мэри сжала локоть мисс Розы:
– Вот и я себя чувствую точно так же, будто сейчас разлечусь во все стороны снопами красных, синих и белых искр. Я так волнуюсь!
Миссис Джексон улыбнулась. Глядя на праздничный салют, она прикидывала скорость судна и наилучший момент для спуска на нижнюю палубу, чтобы одной из первых попасть на сходни. Она заметила, что искры от фейерверка падают в реку рикошетом от труб «Красы Мемфиса». Значит, скоро они будут на месте. Котлы работали в полную силу и даже более того. Капитан явно принял ее предупреждение всерьез. Она решила не платить ему премиальных, даже если они успеют к условленному времени. Ее улыбка сделалась еще шире.
Потом она изменила решение. Лучше не заводить врага в лице капитана. Миссис Джексон была прежде всего деловой женщиной, а потаканию собственным прихотям в бизнесе места нет.
Прибытие в Новый Орлеан несколько разочаровало Мэри. С того места, которое выбрала на нижней палубе миссис Джексон, она ничего не могла разглядеть.
– Мисс Роза, почему город окружен стеной? – спросила Мэри. Она вспомнила, что во время путешествия некоторые дамы нередко упоминали аллигаторов.
– Мэри, это называется не стена, а береговой вал, – несколько раздраженно ответила миссис Джексон.
Ее обычная доброта вернулась к ней, только когда они сошли с парохода и сели в ожидавшую их карету. Горничная села напротив, а миссис Джексон уселась рядом с Мэри. Затем она поцеловала Мэри в щеку.
– Добро пожаловать домой, милая Мэри. – Она протянула руку и до упора отодвинула шторку. – Посмотри на Новый Орлеан, деточка. В темноте, правда, видно плохо, но из-за фейерверка кое-что рассмотреть все-таки можно.
Мэри высунулась из окна, желая вдохнуть свежего воздуха. Сойдя с парохода и отъехав от реки, она почувствовала, что не может дышать. Было жарко, душно. Но облегчения не наступило. Снаружи было еще жарче, стоял оглушительный шум и вой. Прижимаясь к самому окошку, мимо несся безумный калейдоскоп лиц – мужских, женских, детских; черных, красных, зеленых или ослепительно белых в ярком свете ракет. Казалось, что все смеются. Или поют. Рты на размалеванных лицах являли собой темные округлые дыры. Мэри отпрянула от окна и съежилась на краешке сиденья.
Миссис Джексон потрепала ее по руке:
– Наверное, немного шумновато. Праздник как-никак. Смотри поверх голов. Сейчас мы свернем на нашу улицу. Взгляни на балконы. Выше, Мэри. Вытяни шею и наклони голову чуть набок. Видишь?
У Мэри перехватило дыхание – над уличным светопреставлением она разглядела сцену, которая поразила ее своей спокойной красотой. Свечи в стеклянных канделябрах освещали стол, за которым сидели четверо – две женщины, мужчина и ребенок. Все были в белом. Огни фейерверка окрашивали все в пастельные тона и высвечивали корзины цветов, свисавших с ажурного балкона, на котором они сидели.
Мэри лишь мгновение наблюдала эту сцену, затем карета проехала дальше. Но и мимолетного видения оказалось достаточно. Она видела семью – счастливую и прекрасную. И не сомневалась, что ее собственная семья, когда она найдет ее, окажется столь же прекрасной.
– Мисс Роза, моя шкатулка точно при вас? – Мэри внезапно похолодела от беспокойства. А вдруг она потеряла свое сокровище, доказательство своего родства?
– Да, милая, и шкатулка, и деньги. Никуда они не делись. Я же взяла на себя заботу о тебе.
Мэри успокоилась.
– Мне так повезло, – сказала она. – Спасибо вам, мисс Роза.
Карета замедлила ход и свернула под арку. В окно кареты повеяло прохладой. Мэри глубоко задышала. Потом она вскрикнула от изумления. Они въехали в волшебный сад.
– Вот мы и дома, – сказала миссис Джексон. Прекрасная девушка в кружевном голубом халате открыла дверцу кареты.
– Добро пожаловать домой, мисс Роза, – сказала она. – Мы уж думали, что вы не успеете… Привет, а ты кто такая? Меня зовут Аннабел.
– Это Мэри, – сказала миссис Джексон. – Мэри, вылезай.
Мэри вышла и осмотрелась. Она была в квадратном внутреннем дворике, выложенном кирпичом. Посередине бил фонтан, мерцали висячие газовые фонари, освещая неимоверное количество цветов, зеленых деревьев и вьющихся растений. Вокруг фонтана и возле деревьев в кадках прогуливались молодые женщины в ярких цветастых платьях. «Мисс Роза!» – восклицали они, и голоса их были похожи на звуки флейты.
Мэри обернулась к Аннабел.
– Прости меня, – сказала она, – за невежливость. Понимаешь, я была очень удивлена, что вокруг стало вдруг так прохладно и тихо. Здравствуй. Меня зовут…
– После, Мэри, после, – вмешалась миссис Джексон. – Все мои друзья захотят познакомиться с тобой. Сейчас пора переодеться. Люси, проводи Мэри в свою комнату и дай ей надеть что-нибудь хорошенькое. Она никогда еще не была на празднике в Новом Орлеане.
Последнюю фразу миссис Джексон произнесла особенно четко. Девушка по имени Люси кивком показала, что все понимает.
– Пойдем, Мэри. Ты, наверное, очень устала с дороги. Я покажу тебе, где можно принять отличную прохладную ванну и выпить освежающего лимонадику.
Лимонад Мэри не понравился. Он горчил, и от него кружилась голова. Но по настоянию Люси она его выпила.
– Потом ты выпьешь шампанского, и неприятный привкус пропадет. Кажется, туда забыли положить сахар.
Голос ее показался Мэри несколько невнятным. Она решила, что это у Люси такой акцент. «Южане говорят, будто поют», – подумала Мэри. Потом она громко хихикнула.
– Что со мной происходит? – сказала она вслух. – Я очень странно себя чувствую.
– Просто ты заряжаешься праздничной атмосферой. Подними руки и просунь их в эти рукава. – Мэри безропотно, как марионетка, подчинилась. Ей показалось, что лицо у Люси выросло большое-пребольшое, а потом уменьшилось. И снова раздулось.
Когда Люси привела Мэри вниз, в саду было полно людей. Они смеялись и разговаривали, а из неосвещенного уголка доносилась музыка. Люси взяла Мэри за руку, поддерживая ее. С другой стороны к Мэри подошла миссис Джексон и тоже взяла ее за руку.
– Какая ты красивая, деточка. Пойдем выпьем немного шампанского. Я хочу тебя кое с кем познакомить.
– Я как-то странно себя чувствую, мисс Роза, – сказала Мэри. Но слова получились какие-то не такие. Язык отказывался ей повиноваться.
Миссис Джексон улыбнулась:
– Ничего, радость моя. Выпей вот это, и все пройдет. Пузырьки ударили Мэри в нос, а на глаза навернулись слезы. Мисс Роза утерла ей щеки. Затем она усадила ее за маленький столик возле благоухающего куста. На столике стояло серебряное ведерко, а в нем – обернутая салфеткой бутылка. Миссис Джексон вынула бутылку и подлила вина в полупустой бокал, стоящий перед мужчиной, который сидел за столиком. Он вынул сигару изо рта и сказал:
– Спасибо, Роза.
– Это Мэри, – сказала миссис Джексон. – По-моему, ей пока хватит шампанского.
Мужчина катал сигару во рту мокрыми красными губами.
– Дым сигары вас не раздражает, Мэри? – спросил он.
– Нет, сэр, мой отец всегда курил сигары. – Она говорила уже четче. Ей стало легче на душе, и она улыбнулась.
– А у вас ничего себе, приятная улыбка, – сказал мужчина и посмотрел на миссис Джексон. – Ты всегда умеешь услужить, Роза. Я уже готов.
– Может, вам немного повеселиться здесь? Мэри отлично танцует.
– У меня срочное дело. Я уже собирался уходить, когда принесли записку от тебя. – С силой оттолкнувшись, он поднялся на ноги. Это был очень крупный мужчина, высокий и тучный. Поверх вздувшейся желтой жилетки тянулась массивная золотая цепочка. Его рука обхватила запястье Мэри. На пальце сверкало кольцо с большим бриллиантом. – Пойдем, лапа. Я тебе кое-что покажу.
Мэри посмотрела на мисс Розу. Она не могла понять, что происходит. Миссис Джексон улыбалась, но совсем другой, незнакомой улыбкой. В свете газового фонаря на лице ее проступили резкие морщины. В небе прямо над ними рассыпалась ракета, и ее голубые искры отразились в глазах миссис Джексон. Мэри стало холодно.
Мужчина стал поднимать ее со стула. Мэри пыталась сопротивляться, но он был слишком силен. Она споткнулась. Миссис Джексон поддержала ее.
– Так мы из стеснительных, да? – сказал мужчина. – Как раз то, что доктор прописал.
Он прижал Мэри к своей груди, заломив ей руку за спину. Потом он приложился мокрыми губами к ее губам и принялся тереться зубами о ее зубы. Держа сигару между пальцев, он мял ей грудь ладонью.
Мэри отчаянно старалась вырваться. Она пыталась кричать, но ее рот был запечатан его губами.
Миссис Джексон неодобрительно зацокала языком.
– Ну не здесь же, варвар, – сказала она. – Вы же знаете наши правила. Дворик – моя гостиная, здесь все ведут себя прилично. Отведите ее в комнату при кухне. Наверх вам ее не поднять.
Мужчина оторвал свои губы ото рта Мэри. Он снял руку с ее груди и зажал ей рот. Кончик сигары подпалил выбившуюся прядь ее волос. Острый запах паленого наполнил ее ноздри, внезапно прорезав туман, окутывавший сознание. «Надо бежать отсюда, – поняла она. – Здесь мне никто не поможет». Она услышала, как мужчина бранится с миссис Джексон, но не обратила на это ни малейшего внимания. Напрягая слабые силы своего одурманенного мозга, она пыталась сосредоточиться. Потом она резко расслабилась. Тело ее тяжело провисло падая. Захваченный врасплох ее тяжестью, мужчина ослабил хватку.
– Какого черта? – закричал он.
Мэри поспешно вскочила на колени, потом на ноги. Она побежала изо всех сил, спотыкаясь и скуля, продираясь сквозь колючие ветки цветущих розовых кустов. Из-под арки в сад входили двое мужчин. Мэри протолкалась между ними.
– Что такое? – сказал один из них. – Новая игра? Кто-то в пятнашки решил поиграть, что ли? Эй, Роза, да кто же это?
Позади Мэри слышала голос миссис Джексон, увещевающий и смеющийся сухим мелодичным смехом. Затем она нырнула в шумный круговорот улицы.
Там стоял мужчина с аккордеоном, окруженный толпой танцующих и поющих мужчин и женщин. «Эй, киска, вставай в кадриль!» – сказал обнаженный по пояс юнец, но Мэри не поняла его слов. Он говорил не по-английски. Он обхватил ее за талию и закружил по пыльной улице. Мэри всхлипнула, завизжала и застучала кулачками по его лицу.
Он ударил ее открытой ладонью, так что из носа брызнула кровь. Завертевшись, она упала возле стены какого-то дома и замяукала, как испуганный котенок. Танцор завис над ней с поднятой рукой, готовый ударить снова.
– Ca suffit,[2] – произнес высокий мужчина в темном костюме, остановившийся возле них. При этом он выставил вперед трость с золотым набалдашником, чтобы предотвратить удар.
Взбешенный юнец выхватил из-за пояса нож, изогнулся и стал осторожно приближаться к мужчине. Послышался щелчок – из кончика трости выскочило лезвие кинжала и замерло на волосок от горла нападавшего. Юноша развел руки в стороны и пожал плечами, после чего немедленно убежал.
– Мадемуазель. – Добрый самаритянин протягивал Мэри шелковый платок. Она посмотрела сначала на платок, потом на лицо мужчины. Оно было скрыто тенью.
В это мгновение в небе рассыпалась огнями белая ракета, и Мэри узнала человека с плантации.
– О, спасибо вам, – прошептала она. Взяв платок из его пальцев, она поднесла его к своему окровавленному лицу.
Вальмон Сен-Бревэн тоже узнал ее.
– Так вы девушка Розы с парохода! – воскликнул он. – Что вы делаете здесь, среди всякой швали? Давайте-ка, обопритесь на меня. Я провожу вас обратно в дом.
Мэри вскрикнула. Выронив окровавленный шелковый платок, она бросилась бежать.
Гуляющие люди толкали ее, оглушительный шум окружал со всех сторон, ее приводили в ужас уже виденные лица с зияющими ртами, расцвеченные то синим, то зеленым, то красным. Она чувствовала, что лицо ее влажно от крови, теплой и соленой во рту. Кровь душила ее, когда она пыталась резко вдохнуть. Но она продолжала бежать, боясь даже оглянуться.
И тут на фоне всего этого шума она услышала звон. Колокола. Церковные колокола. Она остановилась и стала смотреть, откуда исходит этот звон. И увидела открытые высокие двери, из которых доносились звуки органа. «Слава Господу!» – беззвучно вскричала она и стала отчаянно пробиваться сквозь толпу.
Страх придал ей сил. Пошатываясь, она вошла в собор и ощутила знакомые запахи ладана и зажженных свечей. Она была в безопасности. Руки ее дрожали. Мэри настолько ослабла, что даже не могла поднять руки и перекреститься. Она всхлипнула и без чувств упала в проходе.
Глава 7
Пожилая монахиня постучала в дверь кончиками пальцев и лишь затем открыла ее.
– Простите меня, матушка, я не знала, что у вас кто-то есть, – сказала она, когда дверь широко раскрылась, и попятилась.
– Нет, сестра, не уходите. Зайдите, – позвала мать-настоятельница монастыря урсулинок. Она обернулась к женщине, сидевшей возле ее стола: – Вы позволите?
– О, разумеется, – ответила женщина. Разговор шел на французском.
Монахиня склонила голову к самому уху настоятельницы:
– У меня здесь молодая особа, которую вчера ночью нашли в соборе. Ее привели к нам, матушка, и она рассказала мне свою историю. По-моему, вам тоже следует выслушать ее.
– А это не может подождать?
– Матушка, она в отчаянии.
Женщина, сидевшая в кресле, махнула рукой.
– Я не очень тороплюсь, матушка, – сказала она. Это была нескладная женщина с бледной кожей и бледными губами, едва различимыми сквозь густую вуаль. Она была в трауре – в строгом черном платье, черном чепце и черных перчатках. Ее звали Селест Сазерак, и она усердно трудилась на ниве благотворительности, которую финансировал монастырь. Когда их прервали, она как раз обсуждала с матерью-настоятельницей планы некоторых усовершенствований в сиротском приюте, который опекался орденом. Селест предложила организовать пожертвования по подписке. Разумеется, сама она тоже сделает щедрый взнос. Семья Сазерак была одной из самых богатых в Новом Орлеане.
– Вот она, матушка. – Монахиня вернулась и привела с собой Мэри.
На лице девушки остались ужасные следы побоев. Под глазами, которые почти не открывались, были синяки, нос распух. По багровым отметинам вокруг губ были видны следы пальцев, грубо зажимавших ей рот. Левое запястье было перебинтовано.
Мать-настоятельница поднялась с кресла.
– Ma pouvre petite![3] – воскликнула она.
– Она не говорит по-французски, – сказала монахиня.
– Тогда будем говорить по-английски. – Мать-настоятельница слегка тронула Мэри за щеку: – Дорогая моя малышка, чем мы можем тебе помочь? В нашей больнице есть места…
Мэри покачала головой:
– Я не нуждаюсь в лечении, матушка. На мне все быстро заживает, к тому же я не так сильно пострадала, как кажется. Я пришла попросить вас помочь мне разыскать мою семью.
– Я что-то не пойму – ты не можешь найти свою семью?
– Это длинная история, матушка. Вы позволите мне рассказать ее вам?
– Конечно же. Садись, дитя мое. Сюда, поближе к моему креслу, чтобы тебе не пришлось напрягать голос.
Взявшись за ручки кресла, Мэри опустилась в него. Движения ее были неловкими и напряженными – она старалась двигаться так, чтобы избежать боли. Но спину она держала прямо и ни разу не поморщилась. Полная любви, но суровая выучка монастырской школы не допускала ни жалости к себе, ни выставления страданий напоказ. Синяки на лице Мэри наглядно свидетельствовали, что ей пришлось пережить. Но выражение ее лица и голос были сдержанными. Начала она свой рассказ спокойно.
– Спасибо… Все началось в мой день рожденья. Отец прислал мне шкатулку. Примерно вот такую. – Мэри показала руками размеры шкатулки. – Я открыла ее и на внутренней стороне крышки увидела вырезанные в дереве имя, фамилию и адрес…
Мэри продолжала свой рассказ. Время от времени ей приходилось прерываться, когда она не могла сдержать слез, которые текли у нее из глаз и вставали в горле. Долгая выучка оказалась недостаточной для того отчаяния, которое она испытывала. Но она сумела рассказать свою историю до конца. О смерти отца, о том, как он всю жизнь скрывал от нее правду о матери, о том, как мачеха отказалась от нее, о решении приехать сюда в поисках семьи настоящей матери и, наконец, о встрече с миссис Джексон и ужасном происшествии на празднике в ее доме.
– В общем, мне удалось убежать, – закончила Мэри, – но там осталась моя шкатулка и все мои деньги. Теперь мне некуда идти и не к кому обратиться за помощью в получении моих вещей. Вы можете посоветовать, как мне разыскать семью?
Селест Сазерак встала.
– Простите меня, матушка, – сказала она по-французски. – Насколько вам известно, я не очень хорошо говорю по-английски, но я достаточно хорошо все поняла. Я в ужасе от того, сколь жестоко обошлись с несчастной девушкой. Если мне позволено будет предложить… Эту женщину, Джексон, следует наказать. И заставить вернуть вещи девушки. Я могла бы немедленно пойти к своему поверенному и поручить ему возбудить дело против нее. Этот поступок слишком грязен, и ордену не следует вмешиваться.
– Вы очень добры, мадемуазель Сазерак.
– Я благодарю судьбу за любую возможность сделать доброе дело. Я вернусь и доложу вам, чего мне удалось добиться. – Селест поспешно вышла из комнаты, шелестя шелковыми юбками. Черты ее лица под вуалью застыли в самом решительном выражении.
– Я не понимаю… – сказала Мэри.
– Мадемуазель отправилась помочь вам, – сказала монахиня.
– Успех сопутствует этой даме во всех начинаниях, – заметила мать-настоятельница. На ее симпатичном, покрытом морщинами лице блуждала улыбка. – Она вернет твои деньги и вещи, дитя мое. Мне было бы очень интересно взглянуть на твою шкатулку, как ты ее называешь. Я почти уверена, что знаю, что это такое. У нас это называют гробиком.
– Гробиком? – Мэри заплакала. – Ах, неужели мне всегда придется узнавать только о смерти?
– Ш-ш-ш… – Монахиня дала Мэри свежий носовой платок.
Мать-настоятельница взяла свободную руку Мэри в свою:
– Прости меня, тут вечная проблема с языком. Французское слово «casquette» означает шкатулку или сундучок. По-английски же «casket» – это гроб. Но наш гробик не имеет никакого отношения к смерти, только к жизни, к отваге и надежде. У твоего гробика замечательная история. Ты будешь горда, узнав ее. Рассказать?
– Да, пожалуйста.
– Тогда не плачь. Мы выпьем кофе с беньеткой. Мы, новоорлеанцы, пьем очень много кофе, а беньетка – это такая очень вкусная горячая булочка, которую мы особенно любим с кофе… Сестра, не будете ли столь любезны?
– Я тотчас все принесу, матушка. – Монахиня тихо и быстро вышла. Несколько минут спустя она вернулась с подносом. Комната заполнилась аппетитными запахами.
К своему удивлению, Мэри обнаружила, что очень голодна. Монахиня наполнила большую чашку смесью горячего молока и очень черного кофе, добавила три ложки сахара, размешала и поставила на стол перед Мэри. Потом она улыбнулась и развернула громадную белую льняную салфетку.
– Это положи на колени, – сказала она, – и пусть сахар падает, куда ему угодно. – Рядом с чашкой она поставила тарелку, доверху наполненную источающими пар коричневыми пышками, присыпанными толстым слоем белой сахарной пудры.
У Мэри слюнки потекли. Но любопытство оказалось сильнее голода.
– Если бы вы только могли рассказать мне про шкатулку, матушка…
– А ты поешь, пока я буду говорить. Только осторожнее – все очень горячее… Было это более ста лет назад, в семьсот восемнадцатом году, когда переселенцы из Франции основали Новый Орлеан. Было их не более пятидесяти человек, и они сумели лишь вырубить просеку в лесу. Но через три года на этом месте жило уже триста человек, были проложены улицы и построена церковь. А спустя еще два года население приближалось к двум тысячам. В основном это были мужчины. Королевские солдаты, трапперы, люди, жаждущие земли и новой жизни в Новом Свете. Конечно, были среди них и женщины, но немного. Где есть солдаты, там есть и женщины. Ты понимаешь, о какого рода женщинах я говорю… Жизнь была тяжелая и полная опасностей. У колонистов была церковь, но не было священника. Солдаты построили госпиталь, но в нем не было медсестер. И тогда они обратились к Людовику, королю-солнце. На их прошение он ответил, как любящий отец. В семьсот двадцать седьмом году он прислал священника и десять сестер-урсулинок для ухода за больными… «Но нам нужны еще и жены, – сказали солдаты. – Мы хотим иметь семьи, создавать цивилизацию». И тогда король прислал крепких девушек, настоящих христианок, чтобы они стали им женами и матерями их детей. По всем городам и деревням Франции священники вели беседы в семьях, где имелись подходящие девушки. Они должны были быть смелыми, ибо им предстояло переплыть огромные моря на маленьких кораблях во время долгого пути в неизведанную страну, полную опасностей и лишений. Они должны были навсегда проститься со своими родителями, бабушками и дедушками, братьями и сестрами, родными и друзьями… Согласились лишь несколько самых отважных. Отмечая их храбрость, сам король наделил этих девушек приданым. Оно было невелико – на старых кораблях было мало места. В приданое входило белье, воротнички и чепчики, платье и несколько пар чулок. Все это прекрасно размещалось в деревянном ящичке. Первые девушки приехали в семьсот двадцать восьмом году. После этого каждый год на протяжении двадцати лет приезжало еще по нескольку человек, иногда две группы за год. И при каждой девушке было приданое от короля Людовика в маленьком деревянном ящичке. С тех самых пор их стали величать «девушки с ящичками», или «девушки с гробиками». Их дети, дети их детей и внуков стали коренными жителями Нового Орлеана. Мэри забыла о еде.
– Я так горда, – сказала она.
– И голодна, – сказала мать-настоятельница. – Твой завтрак остынет.
Мэри улыбнулась впервые за все время беседы. Потом она сделала большой глоток из чашки.
– В жизни не пила лучшего кофе! – воскликнула она. Беньетка также вызвала восторженную реакцию и незамедлительное поедание второй. А затем и третьей.
Распухшие губы Мэри были белы от сахара. Румянец вернулся на ее щеки.
– Матушка, на моей шкатулке был адрес монастыря. Почему?
– Все «девушки с гробиками» приезжали в монастырь. Сестры заботились о них до замужества. Они также помогали им подобрать мужей. На каждую невесту приходилось по нескольку кавалеров.
Глаза Мэри вновь наполнились слезами. Но на сей раз она плакала от счастья. По своим школьным годам она знала, что в монастырях ведется скрупулезный, детальный учет всего. И как только дама в черном вернется с ящичком, Мэри покажет имя на крышке матери-настоятельнице. И тогда она узнает, кто ее семья.
– Я пришел от имени юной дамы, которая ехала на «Красе Мемфиса» вместе с миссис Джексон, – сказал мистер Kappe. – Я адвокат. Проводите меня к вашей хозяйке.
Мистер Kappe был внушительным мужчиной и осознавал это. От него буквально исходили флюиды властности.
– Миссис Джексон еще отдыхает, – сказал лакей. – Но я пошлю передать ей, что вы пришли.
– Проводите меня в гостиную, – распорядился мистер Kappe, – и принесите кофе, пока я жду.
– На двоих, – сказала Селест Сазерак, стоявшая позади своего поверенного.
Мистер Kappe нахмурился. Он советовал Селест не ходить с ним. Бордель – неподходящее место для визитов незамужней дамы. Но Селест была настроена решительно, и он знал, что никакие советы или приказы не могут воспрепятствовать ей. Он сделал шаг в сторону, пропуская Селест вперед: как-никак дама, да еще клиент.
Гостиная миссис Джексон была роскошной, но не вульгарной. Мистер Kappe был удивлен. Он так и сказал Селест. Та сделала движение рукой, чтобы он замолчал. Она стояла возле двери, слушая доносившийся откуда-то из глубины дома голос лакея.
Селест резко кивнула.
– Подождите здесь, – сказала она и оставила мистера Kappe в одиночестве.
Селест быстро подошла к ступеням, поднялась на один марш и подошла сзади к горничной, которая что-то встревоженно говорила в полуоткрытую дверь. Оттолкнув горничную, она распахнула дверь, вошла в комнату и захлопнула за собой дверь.
– Я пришла к вам по делу, миссис Джексон, – сказала она. По-английски она говорила неуклюже, с сильным акцентом.
– Кто вы такая, черт побери? – сказала Роза. – Убирайтесь, или я велю выставить вас вон.
Пока Роза говорила это, Селест решительно прошла в глубь комнаты.
– Я вам не верю, – сказала она и потянула за шнур. Шторы раздвинулись, и комнату залил яркий свет. Свет был жесток – он выявлял мешки и черные круги под глазами Розы, двойной подбородок и дряблые плечи. Селест смотрела на нее холодным взглядом.
– Вы меня не выгоните, поскольку прекрасно знаете, что мистер Kappe может попросту уничтожить вас. Я уверена, что вы даете взятки полиции и, возможно, половине городской управы. Но от Kappe они вас не защитят. А от моей семьи и подавно. Мой брат – Жюльен Сазерак.
Миссис Джексон предпочла не реагировать на угрозы Селест.
– Что вам угодно? – сухо спросила она.
– Я хочу получить вещи молодой женщины, которую вы вчера имели глупость затащить в этот дом.
– Какие вещи? Какой еще молодой женщины? Селест Сазерак засмеялась, и впервые за многие годы Роза Джексон испугалась по-настоящему. В этом смехе слишком явно сквозила радость. «Эта женщина безумна, – решила Роза. – Что же мне делать? Ее брат – владелец самого крупного банка в городе; одно его слово – и я попаду за решетку. Проститутки беззащитны, они могут лишь покупать себе защитников, а любой чиновник, которому я плачу, у него и так в кармане».
Селест заговорила снова, прервав беспорядочные мысли Розы:
– Я готова пойти на компромисс, миссис Джексон. Вы соглашаетесь вернуть вещи девушки мне, а я устрою так, чтобы дело против вас не было возбуждено.
У Розы немедленно возникли подозрения. Слишком уж щедрым было это предложение.
– Но как же вы это устроите? – спросила она.
– Во-первых, я со спокойной душой отпущу мистера Кар-ре. Затем я прослежу, чтобы девушка незамедлительно покинула город. Нет жертвы – нет и преступления.
Миссис Джексон холодно и настороженно смотрела на нее.
– А с какой стати вам оказывать мне такую услугу, коль скоро, как вы утверждаете, имело место преступление? Имейте в виду, я буду все отрицать.
– Понимаю. Я также понимаю, что вы лжете. Однако мой интерес не в том, чтобы наказать вас. Я забочусь о девушке и хотела бы избежать скандала. Она сирота и прибегла к защите сестер-урсулинок. Во избежание неприятностей ей лучше было бы немедленно уехать. Она может жить нормальной жизнью под крышей какого-нибудь порядочного дома, где вид места, в котором с ней произошло унизительное происшествие, не напоминал бы ей о нем.
«До чего же вы, доброхоты, любите устраивать чужие жизни», – ухмыльнувшись про себя, подумала миссис Джексон. Но вслух она произнесла:
– Я согласна.
– Я пришлю за ящичком и саквояжем. Приготовьте их. Всего наилучшего.
Покидая комнату, Селест Сазерак улыбалась. Если бы миссис Джексон упорствовала в своем отрицании, то в конечном итоге попала бы под суд за похищение или еще что-то в том же роде. Но тогда шкатулка была бы навсегда потеряна. Бесценный гробик. Совершенно неизвестно, сохранился ли еще хоть один подобный.
Вновь оказавшись в обществе мистера Kappe, она придала лицу серьезное выражение.
– Мы попусту теряем время, – сказала она. – Девушка ошиблась. Она сказала, что было темно и от пристани до дому ее везли в карете. Это мог быть любой дом. Эта женщина говорит, что Джексон – весьма распространенный псевдоним для представительниц ее профессии. Лично она знает по меньшей мере с десяток подобных однофамилиц. Бесконечно стыдно, месье, что вы, мужчины, позволяете продолжаться подобным безобразиям. В старом городе нет ни одного квартала, где не было бы борделя, а то и двух. Все это было бы невозможно, если бы не омерзительные мужские прихоти. Знаете, кто был здесь вчера? Три члена муниципалитета. Было бы просто замечательно, если бы им пришлось выступать свидетелями, когда эта женщина начнет давать показания против невинной девушки.
Карета Селест ждала на улице. Мистер Kappe был доставлен к себе на службу. Затем кучер стал ждать дальнейших указаний. Селест велела ему вернуться к дому, который они только что покинули, и забрать саквояж и шкатулку. Она подождет в карете.
Кучер отсутствовал не более минуты. Он поставил багаж на сиденье напротив Селест.
– Теперь отвези меня на Эспланада-авеню, в дом моих кузенов Куртенэ.
Селест задвинула шторы на окошках. От этого в карете сделалось совсем жарко и душно. Но ей было все равно. Ей удалось добиться своего. Гробик был у нее. Она медленно провела пальцами по уголкам длинной шкатулки, потерла пятнышко на поверхности, погладила царапину.
Потом сорвала с рук перчатки и положила ладони на крышку шкатулки. Наклонившись вперед, она поцеловала грязное дерево.
– Мое, – прошептала она, не отрывая губ от поверхности. Руки ее соскользнули с крышки, прошлись вниз по бокам шкатулки, затем, повинуясь внезапному порыву, она схватила шкатулку и прижала ее к себе, крепко и страстно. Откинув назад голову и закрыв глаза, она рассмеялась – скрипучим, жутковатым смехом.
Она баюкала обшарпанный, грязный ящичек, словно младенца. «Мое, – бормотала она. – Все мое». Ее темные глаза пылали торжеством. «Мой веер, мои перчатки, мой медальон, мой наконечник…»
Селест не требовалось открывать ящичек – она и так знала, что в нем находится. Она помнила, с какой радостью рассматривала эти вещи в детстве, когда мать рассказывала ей истории хозяек шкатулки. Она поняла, кто такая Мэри, с того самого момента, когда та показала руками размеры шкатулки. У нее были такие же пальцы, как у бабушки Селест. И у ее прапрабабушки. В то мгновение Селест поклялась, что Мэри никогда не узнает, кто она такая. «Ее матери досталось все, – прошептала Селест, доверительно обращаясь к шкатулке, которую сжимала в объятиях. – Моя сестра. Как я ее ненавидела! Она была красавицей, талантливой, всеми любимой. Ей мать уделяла все свое внимание, отец – всю любовь. Она получила мужчину, которого любила я. А потом уехала с другим, забрав и тебя. Но теперь ты моя. Ты будешь моим тайным сокровищем. Никто никогда тебя не увидит. Как никто никогда не увидит эту девчонку, дочь моей сестры. Я сожгу ее одежду, а саквояж закопаю. А деньги… Деньги я пожертвую в сиротский приют». Ее тело сотрясалось от смеха.
Глава 8
«Почему я ничего не чувствую? – спрашивала себя Мэри. – Исчезла моя последняя надежда. Я потеряла все. Жизнь моя уничтожена, а я ничего не чувствую. Должна же быть хотя бы боль, но и синяки на моем лице перестали болеть. Как если бы я умерла, но при этом сохранила способность ходить, говорить, видеть и слышать».
Это оцепенение началось еще до возвращения в монастырь Селест Сазерак. Мать-настоятельница покачала головой, услышав слова Мэри о том, что имя, вырезанное на шкатулке, приведет ее к семье.
– Мне жаль, дитя мое, но это не так. Все ранние монастырские документы сгорели по время пожара, спалившего весь город в семьсот восемьдесят восьмом году. Это печальная глава нашей истории. Сестрам не хватило веры. Когда стало ясно, что огонь уничтожит все, они взяли регистрационные книги и вынесли их на большую площадь перед собором. Они думали, что на открытом воздухе у документов есть хоть какой-то шанс на спасение… А им следовало бы довериться Господу. Когда пламя достигло монастыря, они вспомнили об этом. Они пошли к стене огня, неся статую Богоматери, и пели молитвы о помощи. Тогда Господь переменил направление ветра, и огонь отступил. Наш монастырь – единственное здание в Новом Орлеане, пережившее пожар. Но все приходские книги сгорели.
Мэри почувствовала, будто и ее сжигает пламя. «Что же я наделала! – вскричала она про себя. – Приехала в этот город, где никто меня не знает, где даже говорят на чужом языке. Все последнее время я жила как во сне, но сон обернулся кошмаром». Отчаяние жгло ей сердце.
А потом она перестала что-либо чувствовать.
Когда Селест сообщила, что никакой возможности вернуть вещи нет, Мэри было уже все равно.
На слова Селест она никак не отреагировала. А та все продолжала говорить. Мэри слышала ее речи, но они потеряли для нее всякий смысл. И дело не в том, что Селест говорила по-французски, просто Мэри все было безразлично. Рассудок ее словно замер, а сердце ничего не чувствовало.
– …и тогда, матушка, я тут же отправилась к моей кузине, Берте Куртенэ. Я знала, что она в городе, ведь четвертого у ее деда день рожденья. «Берта, – сказала я. – Этой несчастной девушке нужен дом. Что может быть лучше для нее, чем твоя плантация? Она может быть подружкой твоей Жанне». Вы же помните, матушка, что у Берты всех детей унесла лихорадка, осталась одна Жанна. С тех пор она держит девочку в деревне, опасаясь потерять и ее. Монфлери, плантация Куртенэ, – место очень уединенное, и девушка чувствует себя там очень одиноко. Юная Мэри для Жанны – просто подарок судьбы. И Мэри тогда будет не так страшна лихорадка. Ведь люди, непривычные к нашему климату, легко заболевают ею. Для Куртенэ она будет как родная. Берте нужно видеть молодые лица, чтобы не страдать так о собственных утратах.
Мать-настоятельница заметила, что Господь услышал их молитвы, послав Берте этот план.
– Вы добрая христианка, мадемуазель Селест. Мэри там будет очень хорошо.
Селест советовала поторопиться. Ее кузина как раз собирается вернуться на плантацию. Мэри, не сказав ни слова, последовала за Селест. Движения девушки были дергаными, как у марионетки. С огромным трудом ей удалось найти несколько слов, чтобы поблагодарить мать-настоятельницу за доброту.
Вокруг все было как в тумане. От кирпичной мостовой поднимались волны горячего воздуха. Она прошла сквозь них вслед за Селест Сазерак к карете, но ноги ее не ощущали жара, обжигавшего ступни через тоненькие подошвы туфелек. Всю дорогу она невидящим взором смотрела в пол кареты, а когда они приехали – на кирпичную стену дома Куртенэ.
Она не заметила выражения крайнего изумления на лице Берты, когда та увидела Мэри, не почувствовала, с каким состраданием эта полная, красивая женщина взяла ее за руку. Она ничего не чувствовала.
Лишь много часов спустя способность чувствовать вновь вернулась к Мэри – так же резко и внезапно, как и покинула ее. Они давно уже ехали по сельской местности, трясясь на узкой дороге, выложенной битым ракушечником. Проезжая, карета сорвала с дерева длинный клочок испанского мха. Он упал через раскрытое окошко их экипажа прямо на колени Мэри.
«Что за странная серая штука?» Рассудок ее пробудился. «Мне она знакома», – подумала Мэри, и руки ее принялись мять губчатые волокна мха.
«Такая же была в моей шкатулке. Помню, какой чудной и уродливой она мне показалось. На самом деле она прекрасна. Прямо как мягкая шаль на деревьях. А деревья? Высокие, прямые, с тяжелыми листьями. А цветы? Я ощущаю их аромат даже своим распухшим носом.
Я люблю Луизиану. Я с первой же минуты полюбила ее.
Правильно я сделала, что приехала сюда. Мое сердце знакомо с этими местами, хотя мне только предстоит познать их. Это мой дом, и неважно, сумею я доказать это или нет. Душой я чувствую, что мой дом – здесь.
И я узнаю о нем все».
Она робко дотронулась до руки Берты Куртенэ. – Простите, – сказала она, – могу я выучиться говорить по-французски?
КНИГА ВТОРАЯ
Глава 9
Плантация Куртенэ называлась Монфлери. Это название, как и многое другое на плантации, приводило Мэри в замешательство. Ей почему-то казалось, что оно означает «гора, поросшая цветами», но никакой такой горы она в ближайшей округе не обнаружила. Даже холмика не было. Земля, гладкая, как крышка стола, простиралась до самого горизонта; лишь небольшой земляной вал, поросший травой, отделял берег реки от необъятной равнины.
Дом вовсе не соответствовал ее представлениям о плантаторском особняке. Он был приземистый, ни капли не похожий на те высокие белые дворцы с колоннами, которые она видела с парохода. В доме Куртенэ было всего два этажа на высоком фундаменте, зато он был чрезвычайно широк, одна колоссальных размеров комната переходила в другую, и в каждой была дверь, выходящая на широкую веранду. Веранд было несколько, и Мэри скоро научилась называть их галереями.
Дом был с колоннами, но отнюдь не классического образца. Толстые квадратные столбы-контрфорсы из кирпича поддерживали нижнюю галерею. Эта же кирпичная конструкция поднималась до самого потолка и служила опорой для верхней галереи, тоже крытой. Ее потолок подпирали относительно тонкие круглые деревянные стойки, а крыша была частью крыши всего дома, довольно покатой и выложенной поседевшей от старости деревянной дранкой. Дом производил впечатление простора и уюта.
И в нем было много тени. Мэри очень скоро поняла, почему над галереями сделаны такие нависающие козырьки. Она вышла вслед за Бертой из кареты и прошла под солнцем до галереи. Этих нескольких шагов оказалось вполне достаточно, чтобы испытать глубокое облегчение, оказавшись под крышей галереи. Когда на улице нещадно палило солнце, в густой тени галереи возникала иллюзия прохлады. Мэри даже казалось, что она ощущает дуновение ветерка с реки.
Проведя Мэри в большой тенистый коридор, который тянулся через весь дом и выходил на галерею с противоположной стороны, Берта дернула за шелковый шнурок с кисточкой.
– Мы будем иметь кофе, – сказала она. – Жанна будет прийти.
Она с большим усилием подбирала слова, озабоченно нахмурив лоб.
«Я должна немедленно начать учить французский, – сказала себе Мэри. – Просто обязана. Вдруг моя бабушка не говорит по-английски? Очевидно, очень многие в Новом Орлеане не владеют английским». Она заговорила так, словно речь шла о безотлагательно важном деле:
– Мадам, есть ли у вас словари или грамматические справочники, по которым я могла бы учиться?
Берта воздела руки к небу и покачала головой, показывая, что ничего не понимает. Мэри покопалась в памяти, вспоминая уроки французского, полученные в детстве.
– Парле франсе, – вспомнила она.
Берта улыбнулась, кивнула и открыла рот, намереваясь продолжить свою речь. Мэри покачала головой.
– Муа, – сказала она. Больше она не могла вспомнить ничего подходящего. – Я хочу учиться, – с отчаянием сказала она. – Я хочу учиться.
– Да, – сказала Берта. – Ты будешь учиться. Жанна будет учить тебя французский. Ты будешь учить Жанна американский. Жанна будет прийти.
– Кто такая Жанна? – спросила Мэри. Берта лучезарно улыбнулась:
– Жанна – моя дочь.
Она не успела договорить, как вбежала Жанна, порывисто обняла мать и тут же оживленно затараторила по-французски.
Мэри в жизни не доводилось видеть более очаровательного создания, чем дочь Берты. Она была одного роста с Мэри, но на этом их сходство и кончалось. Жанна выглядела как сформировавшаяся женщина. У нее была круглая полная грудь и осиная талия, подчеркнутая обтягивающим фигуру костюмом для верховой езды. Черная полотняная куртка и широкий белый шарф идеально оттеняли ее темные волосы и глаза и кожу, белую, как гардения. Ее личико было треугольным, верхняя его часть венчалась таким же треугольным мыском волос на лбу. Ямочка на мягко заостренном подбородке украшала нижний угол треугольника ее лица. Полные губы имели форму сердечка. Прекраснее всего была ее стройная шея. Она была длинная, но не слишком; эта шея напомнила Мэри цветочный стебелек, а живое, утонченно красивое лицо Жанны – цветок на этом стебельке.
Жанна слушала мать, склонив голову набок, как любопытная птичка. Потом она захлопала в ладоши и подбежала к Мэри. От скорости тяжелый подол ее юбки вздымался волной.
– Мэй-Ри! – воскликнула она. – Ты будешь мне подругой, да? – Жанна схватила ошеломленную Мэри за плечи и шумно поцеловала ее сначала в одну щеку, потом в другую. – Папа присылал мне много американских учителей, но все они были старыми сухарями. Я очень плохо учусь. Но ты будешь учить меня хорошо, потому что подруга, да?
– Да, – сдавленным голосом произнесла Мэри. Она согласилась бы на все предложения Жанны, так очаровали ее красота, живость и мгновенное дружеское расположение девушки.
Жанна что-то быстро заговорила матери; Берта кивнула. Потом Жанна взяла Мэри за руку и направилась к лестнице в коридоре, увлекая за собой Мэри. Той даже пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы не наступить на шлейф юбки Жанны. Жанна хихикнула, наклонилась и подобрала шлейф, зажав его под локотком.
– Пошли, – приказала она. – Мы найдем тебе красивое платье. То, что на тебе, слишком уж уродливое.
Мэри посмотрела на свое платье. Раньше ей это как-то не приходило в голову. Это платье – темный бесформенный балахон с длинными широкими рукавами и черным шнурком вместо пояса – дали ей монахини-урсулинки. Теперь Мэри не могла не признать, что наряд действительно убогий. Она поспешила вслед за Жанной вверх по длинной широкой лестнице, идущей параллельно широкому коридору, открытому, как и нижний, с обоих концов, в спальню. Такая спальня могла принадлежать только Жанне.
Огромная кровать с балдахином на четырех столбиках была со всех сторон обвешана розовым пологом, привязанным к столбикам бантами из шелковых лент в сине-белую полоску. Под пологом на резные крашеные в розовый цвет гирлянды была накинута противомоскитная сетка. Похожие гирлянды были вышиты на розовом стеганом покрывале и повторялись на расшитом гарусом коврике на полу. Горка окантованных кружевом розовых подушек занимала четверть кровати. Точно такие же подушки были разложены на шезлонге и креслах, покрытых чехлами в сине-белую полоску.
Повсюду валялись кипы иллюстраций, вырванных из модных журналов, на небольшой книжной полке стояли романы Александра Дюма, «Басни» Лафонтена и сборник волшебных сказок. На креслах, рядом с коробкой перепутанных ниток для вышивания примостились две куклы. На резной работы грушевом столике разместились английская грамматика, серебряная чернильница с засохшими чернилами на дне и большая хрустальная ваза с ароматными лепестками розы. Туалетный столик был застелен тонкой белой кружевной скатертью. Кружевные фестоны украшали верх огромного зеркала в золоченой раме, в котором отражалось позолоченное трюмо, а в нем, в свою очередь, отражалось зеркало на столике. С одного конца трюмо свисал хлыстик для верховой езды. Во всех четырех углах комнаты стояли большие шкафы, расписанные букетами цветов. Жанна по очереди открыла их. Они были до отказа набиты одеждой.
– Это, – сказала она, швырнув платье в руки Мэри. – И это… celle la' et pui[4]… Non… это… cette horreur[5]… A вот это – наверняка…
Через час вся комната была завалена платьями, юбками, блузками, туфельками, нижними юбками и пеньюарами.
Сама Жанна переодевалась три раза, прежде чем остановилась на розовом органди.[6] Берта решила, что Мэри вполне подойдут четыре хлопковых платья, надо только немного присборить корсаж. Мэри сидела на скамейке возле открытой двери в коридор, пребывая в прострации от жары и этого бурного всплеска женской энергии.
Она вышла вслед за Бертой и Жанной в коридор и вошла в комнату, смежную со спальней Жанны.
– Ты спишь здесь, Мэй-Ри, да? – сказала Жанна.
– О да, – ответила Мэри. Она полюбила комнату с первого взгляда. Комната была обставлена скромно, почти аскетично, особенно по сравнению со спальней Жанны. Над узкой и высокой сосновой кроватью была прилажена одна-единственная перекладина, с которой свисала белая противомоскитная сетка. Покрывало на кровати было из белого хлопка, на котором фитильками были вышиты виноградные лозы. Хрустящие белые накидки лежали на двух квадратных подушках. В комнате стояли простой сосновый гардероб, сосновый столик и небольшое кресло с подголовником. Ковра на полу не было. Мэри представила себе, как ступает босыми ногами по натертому воском полу. «Как прохладно будет!» – подумала она.
Прохладно.
В этот момент сквозь комнату в коридор пронесся порыв ветра. Он вздул сетку над кроватью и охладил разгоряченное тело Мэри. Она повернулась в том направлении, откуда дул ветер, и подняла голову, чтобы охладить и лицо. За перилами галереи она увидела настоящую стену воды.
Она и опомниться не успела, как водяная стена исчезла. Лишь обильные струи воды, стекавшие со ската крыши, напоминали о том, что прошел дождь. И еще влажный, прохладный свежий воздух. Мэри впервые увидела новоорлеанский летний дождь, совершенно не похожий на дожди, виденные ею раньше. Но здесь все было новым, невиданным. Ей предстояло еще очень многое узнать.
Жанна весело улыбнулась и сказала:
– Voila,[7] Мэй-Ри. Теперь у тебя есть комната и платье, а мама подберет тебе гребешок. Осталось только найти горничную. Ты хочешь молодую или старую?
– У вас есть рабы? – спросила Мэри. До сих пор она об этом не задумывалась. Все происходило слишком быстро, слишком многое казалось непривычным. Но Монфлери – плантация, а где плантация, там и рабы. Мэри это было известно наверняка. Цепи и бесчеловечная жестокость. Жанна еще не успела ответить, а Мэри уже яростно качала головой.
– Я не намерена пользоваться несчастным и униженным положением, в которое поставлены другие, – гордо сказала она.
Жанна нахмурилась:
– Я не понимаю, что ты говоришь, Мэй-Ри. Очень быстро и такие длинные слова. Это значит, что ты не хочешь горничной? Так принято у американцев? Тогда кто же тебя одевает и раздевает?
– Я одеваюсь сама.
– Как странно! – Жанна пожала плечами. Это был жест истинной француженки. – Конечно, Мэй-Ри, надо делать то, что хочешь. Надеюсь, Клементина не обидится.
– Кто такая Клементина?
– Горничная мамы. И еще она… как это сказать… директриса над всеми горничными. Я попрошу ее извинить тебя.
Мэри постаралась понять, но не смогла. Разве раб может простить белого, ведь белые и есть причина рабства? И разве может рабовладелец тревожиться, не обидел ли он раба? «Всем известно, – подумала Мэри, – что рабов бьют, морят голодом и продают их детей, в то время как матери напрасно молят о пощаде». Она почувствовала себя ужасно виноватой. Ей нравились Жанна и ее мать – но разве можно симпатизировать рабовладельцам?
Ее замешательство еще более усилилось, когда появилась хмурая женщина. Кожа женщины была не черной, а светло-коричневой. И ее совершенно точно никогда не морили голодом, ибо она была очень толстой. Погрозив Жанне пальцем, женщина принялась бранить ее. По-французски.
Потом Мэри поняла: в том, что рабы говорят на таком же языке, на котором говорят свободные люди, нет ничего противоестественного. Но это было потом. В тот момент французская речь рабыни оказалась для Мэри последней потрясающей воображение неожиданностью в непрерывной цепочке сюрпризов. Мэри рухнула в кресло с подголовником и принялась безудержно смеяться. Она не знала, почему смеется. Насколько она понимала, в происходящем не было ничего смешного. Смех ее был для нее самой столь же странен, загадочен и нереален, как и все, что ее здесь окружало. Остановиться она никак не могла.
Все изумленно уставились на нее. Потом Жанна тоже стала смеяться. Веселье заразило и остальных, и скоро смеялись все, хотя никто и не понимал почему.
Так Мэри познакомилась с Мирандой, горничной и повелительницей Жанны. Вскоре она познакомилась и с Клементиной, горничной Берты и начальницей над всей домашней прислугой женского пола. И с Шарлоттой, кухаркой и полновластной хозяйкой на кухне, расположенной в отдельно стоящем домике. И наконец, с самым могущественным из всех слуг – Эркюлем.
Темнокожий Эркюль внушал трепет своей импозантностью и изысканными манерами. Он был так худ, что Мэри вполне могла бы поверить, что Куртенэ действительно морят его голодом, если бы представления такого рода не были уже в корне подорваны ее знакомством с Мирандой. Эркюль был дворецким, главнокомандующим всех слуг. Он говорил сними от имени хозяина, и слово его было законом.
В этот же день она познакомилась и с самим хозяином. К тому времени, обрядившись в легкое хлопковое платье, она приступила к изучению французской грамматики, которую разыскала для нее Берта. Новое жилище и новая семья, пусть даже и временная, чрезвычайно понравились Мэри.
Она улыбнулась и сделала книксен перед седовласым джентльменом весьма внушительного вида, уловив свое имя в стремительном потоке французских слов, изливаемых Бертой. Ей показалось, что в лице его промелькнуло раздражение, но она надеялась, что, услышав ее историю, он будет столь же добр к ней, как и остальные члены семьи.
Он что-то отрывисто сказал и ушел.
Берта попыталась перевести, что он сказал, но вскоре оставила эту попытку и обратилась за помощью к дочери. Жанна хихикнула:
– Grandpère говорит, что презирает американцев. В своем доме он говорит только по-французски, так что тебе лучше молчать, пока не научишься.
Берта взяла Мэри за руку.
– Пожалуйста, – сказала она. – Прости его. Дедушка старый человек и любит старые обычаи.
«Я все равно собиралась учить язык, – подумала Мэри. – А теперь стану учиться в два раза быстрее и еще покажу этому мерзкому старикашке. Я не произнесу при нем ни слова, а потом, когда придет время уезжать, так быстро затараторю по-французски, что ему придется просить у меня прощения. Я покажу ему, на что способны американцы. Все равно я скоро уеду – как только мадемуазель Сазерак узнает что-нибудь о моей семье. И буду только счастлива никогда больше не видеть гадкого старика с его старыми обычаями, которые будто специально придумали, чтобы людей обижать».
Про старые обычаи она кое-что узнала вечером. Во время ужина приехал муж Берты, Карлос Куртенэ. Он специально заехал посмотреть, что за особу его жена взяла в компаньонки к дочери. Он увидел девушку с распухшим, побитым лицом, пунцовыми щеками, которая часто моргала, видимо чтобы удержать потоки слез. Жевала и глотала она решительно и сосредоточенно. Должно быть, она не привыкла к острым, пряным приправам, характерным для новоорлеанской кухни. Тем не менее она съела все, что лежало у нее на тарелке. Карлосу Куртенэ это понравилось.
После ужина он отозвал Мэри в сторонку побеседовать. По-английски он говорил несколько высокопарно, но бегло, и за короткое время ей удалось узнать очень многое – о семье, в которую она попала, о плантации, о Новом Орлеане.
Он сказал, что в пору его юности Новый Орлеан, как и вся Луизиана, стал частью Соединенных Штатов. И он вырос, принимая этот факт как должное. Но поколение его отца все еще отказывалось принимать те перемены в жизни Нового Орлеана, которые принесли с собой американцы. Старики хотели, чтобы город оставался таким, каким был.
Американцы же хотели изменить город, сделать его американским. Они отказывались усваивать французские обычаи и французский язык.
Креолы, подобные Grandpère, не желали отказываться от своих обычаев.
Теперь, как сказал Карлос Куртенэ, Новый Орлеан – это не один город, а два.
Был изначальный город – маленькие квадратики внутри большого квадрата – старого города. Улицы там были узкие и прямые, здания лепились почти вплотную друг к другу. Подобно всем старым городам, он был когда-то окружен стеной, и пространство внутри стен надо было использовать экономно.
Был еще и новый город, где улицы извивались, повторяя изгибы реки, а дома стояли поодиночке среди широких лужаек и садов.
Новый город – старый город, город американский – город французский. Они были разделены улицей, в центре которой тянулся зеленый газон с деревьями, похожий на парк. И американцы, и французы называли этот газон нейтральной полосой.
– Язык войны, – сказал Карлос Куртенэ и печально улыбнулся. – Это безумие. Мы, французы, все равно проиграем, и прекрасно знаем это. Но есть такие, как мой отец, которые, отступая, будут бороться за каждый дюйм. Они не желают признавать неизбежного. У американцев больше людей и больше денег. Французы будут просто поглощены… Я научился говорить по-американски, потому что я банкир и американцы имеют дело с моим банком… Я хочу, чтобы Жанна выучила язык, ибо это язык ее будущего… Мой отец называет его языком варваров. Он продал свой городской дом и круглый год живет в Монфлери, лишь бы никогда не слышать этот язык. Благородный старый глупец. Как креол я люблю его за это. Но это не мешает нам все время спорить.
Он считает меня предателем, – продолжил Карлос. – Не только за то, что я сотрудничаю с врагом; хуже того, я предпочел стать банкиром, а не плантатором. Но я люблю бизнес, и мне нравятся американцы, потому что они живут ради бизнеса… Когда-нибудь Монфлери станет моим, потому что я старший сын. Но я никогда не стану заниматься здесь хозяйством. Куртенэ из Монфлери будет мой сын Филипп. Ведь рано или поздно плантация все равно перейдет к нему. Он хотел бы жить здесь и сейчас, но мой отец никому не позволяет вмешиваться в управление поместьем. Он отказывается даже нанять управляющего. Поэтому Филипп живет с одним из моих братьев на его плантации. У Бернара он учится быть плантатором. Один из сыновей Бернара работает у меня в банке. Я учу его быть бизнесменом. Семья – дело полезное.
Мэри ухватилась за эту тему:
– Я ищу свою семью. То есть поисками занимается мадемуазель Сазерак. Простите, вы не могли бы сказать, скоро ли мне ждать вестей от нее?
– У вас в Новом Орлеане семья? Как фамилия?
– Я не знаю. Это очень долгая история.
– В таком случае, извините, но сегодня я не смогу ее выслушать. В другой раз, если не возражаете. Я хочу побыть с женой и дочерью – через час мне надо возвращаться в город… Можно не торопиться с розысками – на лето все уезжают из города, кроме деловых людей вроде меня и нескольких чудаков. Если вам и суждено разыскать вашу семью, это будет не раньше осени, когда все вернутся в город… Но не расстраивайтесь, мисс Макалистер. Осталось всего несколько месяцев, а жизнь в Монфлери вы найдете весьма увлекательной. Я счастлив, что у Жанны будет такая образованная и разумная подруга. Я передам мадам Куртенэ, что очень доволен.
– Благодарю вас, месье.
– Взаимно, мадемуазель.
Мэри осталась в конце галереи, а Карлос отошел к Берте и Жанне. Она инстинктивно понимала, что было бы неудобно находиться рядом с ними, когда он начнет ее расхваливать. «Какой приятный человек, – подумала она. – Настолько же, насколько противен его отец. Правда, сейчас, когда я поняла, за что старик так ненавидит американцев, он не кажется мне таким мерзким. Хорошо, что моя семья не разделяет этой ненависти, иначе мать с отцом никогда бы не поженились».
Карлос Куртенэ закурил сигару, и до Мэри донесся запах дыма. Мэри подумала об отце, отогнала эту мысль прочь и сосредоточилась на матери и той семье, которую она, Мэри, обретет осенью.
«Странное дело эти семейные черты, – размышляла она. – У месье Куртенэ точно такая же ямка на подбородке, как у его отца. И у Жанны она есть, только совсем маленькая. А эти портреты в столовой – там у многих такой подбородок». Она неосознанно дотронулась до своего мизинца. Услышав, как Берта произнесла ее имя, Мэри улыбнулась. Какие они добрые! Ей нужно подумать, как отблагодарить их, когда она переедет в дом своей семьи.
– Но у Мэри нет семьи, – говорила между тем Берта. – Селест Сазерак рассказала мне о ней все. Младенцем ее оставили у дверей монастыря в Сент-Луисе. Одна из монахинь рассказывала ей о Новом Орлеане, и бедная девочка выдумала эту историю, а со временем и поверила в нее. Мы должны сделать вид, что тоже верим. Ее воображаемая семья – это единственное, что у нее есть. Селест сказала, что Мэри, по всей вероятности, несколько недель шла из Сент-Луиса пешком. Она была вся в синяках и почти обезумела от голода, а одежда ее превратилась в лохмотья, и добрым сестрам пришлось одеть ее с ног до головы.
Глава 10
Первый день Мэри в Монфлери был слишком полон всяких забот и переживаний, слишком насыщен потрясениями, сюрпризами, новыми сведениями. Она рухнула на свою новую постель, застонав от боли и усталости.
Если бы новые люди и новая обстановка не отвлекли ее внимания полностью, она бы уже давно осознала свое истинное положение. Она была одинока… напугана… беспомощна… ранена телесно и душевно. Мэри осторожно дотронулась до своих ссадин и ушибов, проверяя, сильно ли болит. У нее болело все – от головы до пальцев ног. Как же могло получиться так, как получилось? Так неправильно? Слезы сочились из уголков ее глаз и стекали по лицу. Она заставила себя зажать пальцами свой распухший рот, чтобы приглушить звуки рыданий.
Все пошло прахом. Отец ее умер. Мать оказалась мачехой, а настоящая мать уже давно была мертва. Деньги ее пропали. А самое ужасное – пропал дар ее матери, шкатулка, пропал навсегда.
Она слишком устала, слишком измучилась и не могла, как обычно, остановить поток воспоминаний. Они переполняли ее, раня больнее любой телесной травмы. Мэри видела монастырь, монахинь, подруг; она всей душой стремилась вернуться в то время, когда жизнь ее была простой, упорядоченной, спокойной. Потом перед ней возникло лицо матери-настоятельницы и прозвучали ее слова: «Твой отец умер… твой отец умер… Мать твоя мертва, дома у тебя нет…»
Затем праведное, доброе лицо монахини сменилось в ее памяти другим лицом – мисс Розы. Доброе, красивое, улыбающееся… ставшее вдруг жестким, жестоким, холодным. Мэри заметалась по постели, замотала головой из стороны в сторону, беззвучно крича: «Нет, нет, нет!» – она пыталась освободиться от затуманенного дурманом воспоминания об ужасной сцене в обманчиво прекрасном саду. Ей снова почудился запах собственных паленых волос, горящей сигары, тошнотворно сладкий аромат цветов, смешанный с крепким запахом духов. Она не могла вздохнуть, что-то склизкое залепило ей рот, а потом были разрывы ракет, и разноцветные вспышки, и чудовищные лица – красные, синие, зеленые, белые, фиолетовые, с черными дырками в центре, – и шум, и вкус крови во рту.
Вкус крови был настоящим. Мэри вынула укушенные пальцы изо рта и зарыдала, уткнувшись в подушку.
Ветерок зашевелил освещенную луной сетку вокруг кровати. Где-то вдалеке ухала сова. Мэри беззвучно поднялась с кровати и на цыпочках прошла на длинную галерею. Она разглядела контуры высоких деревьев, с ветвей которых свисал призрачно-серый испанский мох, серебристый шар луны, россыпь звезд, свет которых был приглушен яркой луной. Все спало – кроме Мэри и совы. От дома и земли исходила мирная серебряная тишина.
Мир вошел в ее сердце. «Я никогда больше не буду думать об этом, – пообещала она себе. – Эта прекрасная страна – моя по праву рождения, а этот дом – мой дом, пока я не найду своих родных. Я обязательно буду счастлива».
Она на цыпочках прошла обратно к кровати и заснула.
На другое утро Мэри разбудила Миранда с подносом, на котором стояла чашка кофе и лежала свежесрезанная роза.
На цветке блестела капелька росы, а из окна струился слабый свет. Мэри хотела спросить, который час, но не сумела вспомнить, как это по-французски. Вместо этого она сказала «мерси».
Сидя за крепким черным кофе, она изучала французскую грамматику по книжке, позаимствованной у хозяев. Нельзя терять ни минуты, если она надеется подготовиться к встрече с семьей. Когда голова Жанны показалась в дверях, разделяющих их комнаты, Мэри сумела выговорить слова, которые прочитала в книжке:
– Доброе утро! Какой прекрасный день! Я спала очень хорошо. – По-французски.
– Мэй-Ри, как же быстро ты научилась так хорошо! – воскликнула Жанна.
В течение последующих дней и недель Мэри продолжала, как выразилась Жанна, учиться «так быстро так хорошо». Она всегда отличалась упорством и трудолюбием. Теперь у нее был дополнительный стимул – убеждение, что скоро она станет полноправным членом креольской семьи.
Полученные в раннем детстве уроки гувернантки-француженки подготовили ее лучше, чем она себе представляла. Пока ее успехи были действительно «быстро хороши».
Язык дал возможность задавать вопросы и понимать ответы. И читать. Дважды в неделю у причала Монфлери останавливался пароход с товарами, заказанными в Новом Орлеане, включая ежедневную газету «L'Abeille» – «Пчелка».
Газета была интересная, занятная. И двуязычная. Большие наружные страницы были на английском, а внутренние – на французском. Мэри старалась читать внутренний разворот и, если возникали трудности, заглядывала на другую сторону листа. Она все более свободно ориентировалась во французском, и с каждым номером газеты в ней пробуждался все больший интерес к Новому Орлеану. Она узнавала, какие именно поставщики получили с борта «Нормандии», только что прибывшей из Гавра, тот или иной сорт сыра; какая лавка закупила новую партию легкой ткани, пригодной для летних блузок; какой виноторговец получил вина и коньяки; у какой модистки появились парижские чепчики последнего фасона. И все это с одного лишь парохода!
Жанна разделяла ее интерес к рекламе пароходов и привезенных ими товаров. Что же до сообщений из Вашингтона, Парижа, Нью-Йорка и с золотых приисков Калифорнии, тут газета полностью передавалась в распоряжение Мэри.
Она убедила Жанну помочь ей улучшить произношение – читала при ней вслух главы из романа с продолжением, печатавшегося в «Пчелке», и не отставала от подруги до тех пор, пока Жанна, в свою очередь, не прочитывала ей хотя бы один короткий столбец новостей по-английски. Большего она в качестве учительницы «американского» добиться не могла.
– Мэй-Ри, – поясняла Жанна, – я очень ленивая. Я люблю танцевать и скакать верхом. А все остальное время я ничего не делаю.
Молодая креолка приводила Мэри в ярость. Но вместе с тем притягивала, очаровывала. Мэри влекло ко всему, что имело отношение к жизни креолов и к их истории. Ей казалось, что, узнавая это, она лучше узнает свою мать.
Портрет матери, созданный Мэри в грезах, претерпел значительные изменения. Теперь Мэри видела ее темнокудрой, темноглазой красавицей с белоснежной кожей. Как Жанна. Как портреты на стенах Монфлери.
Возможно, мать тоже жила на сахарной плантации. Эта мысль казалась Мэри романтической и привлекательной. Плантация была подобна миру грез. Красота лужайки, сады, поросший травой береговой вал, безбрежная широкая река – ничего даже отдаленно схожего с этим Мэри раньше не приходилось видеть. И в книгах она ни о чем подобном не читала.
Упорядоченная красота жизни в Монфлери напоминала идиллию. В каждой комнате сверкающие серебряные вазы с цветами отражались в полированном красном дереве столов. Воздушные кружевные занавески на высоких окнах двигались, как танцоры, при малейшем дуновении ветерка. Воздух был неизменно благоуханным. Благоухали сады, цветы в вазах, саше[8] в ящиках и шкафах, туалетная вода, которой Жанна научила ее смачивать запястья и виски, чтобы охладиться, когда переставал дуть ветерок и устанавливалась полуденная жара. Мэри представляла себе мать, овеянную этими ароматами, с очаровательной улыбкой раскачивающуюся в одной из больших качалок в галерее, потягивающей кофе – этим занятиям большую часть дня предавалась Жанна.
Или же она представляла себе, как мать грациозно восседает в дамском седле, а шлейф ее юбки простирается почти до самой земли; она скачет по таинственным болотистым лесам или по береговому валу – как Жанна, которая ездила верхом после завтрака и перед ужином каждый день. Жанна пыталась научить Мэри ездить верхом, но Мэри явно не доставало решимости. Каждое утро она выезжала с Жанной и сопровождающим их грумом, но верховая езда нравилась ей раз от разу все меньше.
С послеполуденной прогулки она отпрашивалась, всякий раз отговариваясь тем, что ей надо помочь матери Жанны в том или ином деле. В действительности же Берте Куртенэ от нее было мало проку. Но ее доброе сердце тронула готовность Мэри узнать все о жизни креолов, поэтому она находила для Мэри какое-нибудь занятие, которым они могли заниматься вместе.
Берта всегда была занята, вне зависимости от того, была в том надобность или нет. Казалось, она не ведает усталости, даже в самую удушливую жару. Мэри хвостиком тянулась за ней, пока Берта пересчитывала простыни в гладильной, проверяла в леднике запасы льда, обернутого соломой, приставала к кухарке и другим слугам на кухне, расположенной в хозяйственной части двора, сразу за черным ходом.
Мэри старалась внушить себе, что походы на кухню доставляют ей удовольствие, но она всегда чувствовала себя там неловко. Кухня была центром светской жизни для домашней прислуги. Четверо или пятеро слуг постоянно сидели там, разговаривали, пили кофе за огромным столом, стоящим в центре. Когда входила Берта, они вставали, поспешно бросались выполнять ее поручения, отвечали на ее вопросы о семьях и здоровье заранее заготовленными фразами и нередко смеялись при этом. Было очевидно, что они уважают и любят хозяйку.
Но они были рабы. Им пришлось бы выполнять все поручения хозяйки, даже если бы они ненавидели ее. Все относящееся к рабству приводило Мэри в замешательство и смятение – картина ни капли не походила на то, о чем ей рассказывали в монастыре. В действительности все оказалось гораздо сложнее.
Рабов не мучили работой до полного изнеможения, как скотину. Насколько она могла судить, и Берта, которая была вечно при деле, и Grandpère, который в любую погоду отправлялся в поля каждое утро и еще раз после обеда, а каждый вечер после ужина занимался перепиской и бухгалтерией, работали вдвое больше любого из рабов.
Похоже, никто не относился к прислуге как к существам низшего порядка. Миранда вовсю помыкала Жанной, а Берта перед принятием любого решения советовалась с Клементиной. Спальня Эркюля располагалась рядом со спальней Grandpère, и каждый вечер перед отходом ко сну они играли в шахматы.
И все же все цветные женщины должны были носить головной платок, называемый тиньоном. Это предписывалось законом.
А когда Клементина отправлялась в Новый Орлеан в гости к живущей там дочери, ей надо было брать с собой пропуск, подписанный Бертой. Ее арестовали бы и бросили в тюрьму, если бы она не могла показать его любому полицейскому, вздумавшему остановить ее на улице.
И ни один из них, даже могущественный Эркюль, не имел права самовольно отправиться куда-нибудь в другое место или остаться в Монфлери, если бы Grandpère вдруг решил продать его.
Продать. Как лошадь или бочонок сахара. Рабство – это зло. Мэри нисколько в этом не сомневалась. Зато она сомневалась, что у ее точки зрения могли здесь найтись сторонники. Даже среди рабов. Все это было крайне неприятно. Но ей не с кем было поделиться своим недоумением.
Она научилась вытеснять этот вопрос в дальний, темный уголок сознания. И занималась французским. Она постепенно привыкала к образу и ритму жизни на плантации, к старым обычаям, которых придерживался Grandpère.
Каждое утро, в половине седьмого, он читал молитву перед всеми домочадцами, белыми и черными, преклонявшими колени на низких табуретах, расставленных по всей гостиной.
В семь утра он занимал место во главе длинного стола в столовой за завтраком.
И в полдень за обедом. И в семь вечера за ужином. Каждое воскресенье, во время мессы, которую служили в часовне плантации, он восседал в отдельном большом кресле рядом с семейной скамьей, а потом в пух и прах разбивал в шахматы отца Илэра, приходского священника, когда тот приходил в дом отужинать после окончания службы.
Каждую вторую среду приезжал доктор Лимо. Он лечил всех больных членов семьи и рабов. Затем он с поразительной скоростью ставил Grandpère мат, а за обедом подробно разъяснял, какие именно неверные ходы сделал Grandpère.
По понедельникам из Нового Орлеана приезжал месье Дамьен. Он давал Жанне уроки танцев и игры на фортепьяно и буквально впадал в транс от ее грациозного исполнения кадрили, вальса, классического менуэта. И прямо агонизировал, когда она исполняла этюд Шопена даже хуже, чем неделю назад.
Месье Дамьен не оставался к ужину. У него всегда находились срочные дела, требовавшие немедленного отбытия в Новый Орлеан.
Мэри подозревала, что он побаивается Grandpère. Она не могла поверить, что он имеет что-то против самой привлекательной, на ее взгляд, креольской традиции. По понедельникам ужин всегда был один и тот же. Простое, слегка приправленное специями, чрезвычайно аппетитное блюдо – красная фасоль с рисом.
Мэри научилась ценить бесконечное разнообразие креольской кухни. У нее развилась чисто креольская привычка пить кофе при любой возможности. Такие привычки приобретаются без труда.
В первый же раз попробовав фасоль с рисом, она стала страстной любительницей этого блюда.
К концу месяца она чувствовала себя в Монфлери почти как дома. По-французски она говорила теперь настолько бегло, что Grandpère начал обучать ее игре в шахматы. Этот уклад жизни стал казаться ей столь естественным, что она уже почти ощущала себя креолкой. Чистокровной. Она надеялась, что ее семье это понравится.
И только к вечной удушающей жаре она никак не могла привыкнуть. Ей оставалось лишь скрежетать зубами и всей душой жаждать окончания лета.
В середине августа Жанна и Мэри вернулись с берегового вала и обнаружили во дворе конюшни множество незнакомых лошадей.
– Он приехал! – вскричала Жанна. – Мой брат приехал со своими друзьями.
Она соскочила с лошади и побежала к дому, даже не подобрав шлейф амазонки. Мэри тоже заспешила, хоть и несколько более степенно. Жанна так много рассказывала о Филиппе, что Мэри не терпелось познакомиться с ним.
– Он такой красивый, Мэй-Ри, такой очаровательный! А как он умеет смешить! Он самый замечательный брат во всем мире. Ты в него моментально влюбишься, вот увидишь.
Глава 11
Приближаясь к дому, Мэри услышала мужские голоса и смех.
Она остановилась, внезапно осознав, что лицо у нее потное, а платье – обноски из гардероба Жанны – плохо сидит. Она обтерла лицо носовым платком, затем с его же помощью стряхнула пыль с платья. Приведя себя, насколько возможно, в порядок, она, тем не менее, не двинулась с места. Ей было страшно.
«Не будь такой нюней, Мэри Макалистер, – внушала она себе. – Они же всего-навсего люди. А кроме того, никто и не собирается обращать на тебя внимание. Ну-ка, бери ноги в руки и марш туда!»
Но все же она не могла шелохнуться. До сих пор Мэри встречала очень мало мужчин и не знала, как вести себя с ними. «Это все Жанна виновата, – подумала она. – Знай только и говорит о нежностях, поклонниках, залогах любви. Это из-за нее я нервничаю. У меня ноги подкашиваются. И если я немедленно не поднимусь по этим ступенькам и не войду в комнату, то через минуту вообще разучусь ходить. Жаль только, что у меня такой разгоряченный и растрепанный вид!»
Но несмотря на все ее страхи, юное сердце Мэри билось с радостным волнением, отчаянно стремясь быть допущенным в мир флирта, влечений, встреченных взоров, постижения некоей особой, несказанной сердечной связи. И вот ее левая нога сделала неуверенный, нетвердый шаг вперед, потом шагнула и правая, а затем ноги проворно прошли остальную часть тропки и взлетели по лестнице на широкую, тенистую веранду.
Мэри остановилась у высоких застекленных дверей, ведущих в столовую, и чуть посторонилась, прежде чем войти. Она осторожно повернула голову и с любопытством заглянула внутрь: сколько же там людей, сможет ли она узнать Филиппа по описанию Жанны и, наконец, где же сама Жанна? Среди других голосов Мэри расслышала ее смех – звонкий и чистый, как звон хрустального графина о бокалы. Этот звон тоже доносился из комнаты. Ее глаза нашли Жанну совсем неподалеку. Мэри глубоко вдохнула и шагнула через порог. Но тут она увидела стоящего рядом с Жанной мужчину. Высокого и стройного, в белых брюках для верховой езды и легком черном сюртуке. Он чуть наклонился, чтобы лучше расслышать слова Жанны. Взор Мэри остановился на нем в то мгновение, когда он выпрямился в полный рост, откинул голову назад и рассмеялся.
Это был он. Тот самый мужчина, которого она увидела с палубы парохода, тот, кто спас ее от хулигана в ужасную, кошмарную ночь в Новом Орлеане. Тот, чье лицо и фигура возникали в ее сознании всякий раз, когда Жанна вздыхала и говорила о любви. «Мне, должно быть, все это просто чудится», – сказала Мэри про себя. Но голос его был отчетлив, глубок и силен, в нем слышался едва сдерживаемый смех. Она отчетливо слышала этот голос. Все другие голоса в комнате сливались в неясный шум. Тогда он сказал ей всего несколько слов, но она запомнила его голос на всю жизнь. Мэри отпрянула от двери. Чтобы удержаться на ногах, она оперлась о стену. «Я не могу войти туда. В таком виде не могу. Не могу показаться ему грязной, неуклюжей, нервной. То, что он здесь, в том же доме, где я, – это как сбывшаяся мечта. Я смогу познакомиться с ним, узнать его имя, услышать, что он говорит. Но только не сейчас». Подобрав юбки, она побежала за угол дома, прочь от столовой, в другую дверь. По лестнице для слуг она вбежала в свою комнату, где можно было помыться, переодеться и смочить пылающие щеки розовой водой.
Она услышала шуршание лошадиных копыт по гравию перед домом и решила, что приехал кто-то еще. Потом она услышала снаружи голоса. Один из голосов принадлежал ему.
– Нет, – вслух произнесла Мэри. – Я уже почти готова. Подожди. – Она выбежала из своей комнаты на верхнюю галерею и посмотрела сверху на происходившее внизу. Там сбились в кучу лошади, грумы, мужчины в шляпах. Все они были в явной растерянности. Мэри переводила взгляд с одного лица на другое, но ни одного не могла разглядеть толком.
Жанна держала под руку мужчину в коричневом сюртуке. Он качал головой и пытался высвободиться. Тогда Жанна топнула ногой. Он повернулся к ней спиной и вскочил на гнедого коня.
Человек, которого высматривала Мэри, спустился с нижней веранды и стремительно подошел к Жанне. Его лицо было прикрыто широкими полями шляпы, но Мэри не нужно было видеть лицо, чтобы узнать его. Его движения были четкими, быстрыми, ловкими; по всей видимости, они не стоили ему каких-либо усилий. В нем было больше грации, чем в обычном мужчине, он был похож на могущественного леопарда в джунглях. Мэри вспомнила, как с быстротой молнии появился клинок, спрятанный в трости; вспомнила расчетливые движения этого клинка, столь быстрые, что глазу невозможно было за ними уследить. Она подумала о его широкой пружинящей походке, когда он поднимался на корабль, – тогда она впервые увидела его. Нет, видеть его лицо не было никакой нужды. Только один человек на свете мог так двигаться.
Она смотрела на него, радуясь свободе, предоставленной ей укрытием, откуда она могла наблюдать за происходящим. Ее взгляд скользил по его плечам и спине и по рукам вниз, до самых ладоней. На мизинце левой руки был перстень – золотой, с плоским овалом на месте камня. Рука Мэри двинулась вбок, ее средний и большой пальцы потянулись навстречу друг другу, делая еле заметные вращательные движения, будто она переворачивала кольцо, рассматривала его, соприкасаясь руками с его обладателем.
Он же, протянув правую руку, приподнял ладонь Жанны вместе со своей, и Мэри показалось, будто ее ударили кулаком в самое сердце. Он поклонился, поднеся руку Жанны чуть не к губам. Мэри так яростно сжала широкие перила веранды, что у нее заболели ладони. Потом он повернулся, принял вожжи, протянутые грумом, и одним плавным, быстрым движением взмыл в седло. Мэри отвернулась, чтобы не видеть, как он уезжает. Она ощутила на горле горячую влагу и поняла, что по лицу ее катятся слезы. Она ненавидела Жанну Куртенэ.
– Мэй-Ри, я тебя повсюду разыскиваю. Что ты делаешь в своей комнате, да еще с закрытыми шторами? Почему ты не пришла поздороваться с Филиппом и его друзьями? Мне тебя недоставало.
Мэри прикрыла глаза руками, закрываясь от света, который ворвался в комнату вместе с Жанной, когда распахнулась дверь. Ей хотелось заткнуть уши. Голос Жанны был слишком громким, слишком веселым, слишком уверенным в дружбе Мэри.
– Бедная Мэй-Ри! Тебе нездоровится? – Жанна села на край кровати Мэри и погладила ее лоб. – Приготовить тебе кофе? Я принесу льда, хочешь? Холодное полотенце на глаза будет хорошо, правда?
Мэри сгорала от стыда за свой гнев и ревность. Разве Жанна виновата, что она красива, очаровательна и счастлива? Несмотря на кислый комок в горле, Мэри заставила себя заговорить:
– Жанна, со мной все нормально, честное слово. Просто мне нужно было отдохнуть. Ты же знаешь, как плохо я переношу жару. – Она подняла руку, отодвигая руку Жанны. – Позвони, попроси кофе. Это будет замечательно. Мы выйдем на галерею, на свежий воздух.
«Ведь могу же, – добавила она про себя, – могу делать вид, что ничего между нами не изменилось».
Галерея находилась в тени, но там было жарко и душно. На сей раз Мэри была рада этому. Она обмахивалась сплетенным из травы широким веером, сделанным в форме сердечка. Веер скрывал ее лицо, когда она слушала веселое щебетание Жанны.
– Ой, Мэй-Ри, у меня прямо сердце разрывается из-за того, что тебя не было со мной. Там такое было – ты не поверишь! Было так чудесно, Мэй-Ри! Я влюбилась. Я готова шагать по воздуху, танцевать с облаками. Как жаль, что ты не была там, не познакомилась с ним… Вальмон Сен-Бревэн. Самый романтический мужчина в мире, и такой богатый, Мэй-Ри! Говорят, богаче его в Луизиане нет… Конечно, я уже не в первый раз в него влюбляюсь. Впервые это случилось со мной два года назад, когда праздновали совершеннолетие Филиппа. Мне разрешили остаться на бал, но лишь посмотреть. А Вальмон только что вернулся из Парижа, и все увивались за ним. Но даже при этом он попросил у мамы разрешения пригласить меня на риль.[9] Он такой замечательный танцор, Мэй-Ри, и такой красивый! Естественно, я в него влюбилась. Но я тогда была совсем ребенком. Это было просто детским увлечением. Но сегодня все было совсем иначе. Сегодня я влюбилась по-настоящему. И ему я тоже нравлюсь. Я чувствую это. Он вспомнил про тот риль. Спросил, по-прежнему ли я люблю танцевать. Он сказал, что я стала очень красивой молодой женщиной. – Жанна дотронулась до своего лица, губ, шеи. – Это ведь правда, Мэй-Ри, да? Я красивая. Я вижу это в зеркале. И я стала женщиной. – Ее руки гладили собственное тело. – Посмотри, какие у меня полные груди и какая тонкая талия. Мужчина может обхватить мою талию пальцами. Я созрела для любви, Мэй-Ри, и я люблю его. О, как я счастлива! – Она наклонилась к Мэри с довольной и озорной улыбкой заговорщицы. – Я тебе кое в чем покаюсь, – сказала она. – Когда мы ездим кататься на вал, я всегда направляюсь в одну сторону – в сторону его плантации. Я уже два года так делаю, с тех пор как познакомилась с ним. Все надеялась, что он тоже поедет кататься верхом, и мы снова встретимся, и он меня заметит. – Жанна засмеялась и захлопала в ладоши. – Столько миль проехала по валу и ни разу его не видела. Но теперь свершилось! Мы снова встретились. Он заметил меня.
Мэри энергично махала веером, пока у нее не заболела рука. Тогда она взяла веер в другую руку. Жанна пересказала свою историю десяток раз. И каждый раз она открывала все больше значения в каждом взгляде и слове Вальмона Сен-Бревэна.
Вечером, за ужином, Мэри познакомилась с Филиппом Куртенэ. Жанна так часто говорила о поразительной красоте брата, что Мэри просто не могла поверить, что сидит за столом с тем самым человеком. Филипп выглядел старше своих двадцати трех лет. Густые черные бакенбарды котлетками не могли скрыть его пухлых щек и небольшого двойного подбородка. Полнота придавала ему вид зрелого мужчины средних лет. Элегантный костюм не скрывал узкой груди, а расшитый жилет лишь подчеркивал небольшое брюшко.
Он оказался совсем не таким, как ожидала Мэри. Он говорил почти исключительно с Grandpère, от чего она испытала только облегчение. Можно было страдать молча.
Однако Жанна была недовольна и не стремилась это скрыть.
– Филипп, – сказала она посреди ужина, – с самого приезда ты ни слова не сказал о чем-нибудь интересном. Тростник, цены на сахар, виды на погоду и урожай… По-моему, ты ужасен.
– Жанна, – сурово проговорила Берта, – успокойся. Не забывай о манерах.
Нахмуренное лицо Grandpère внушало ужас. Но Жанну было не так-то легко усмирить.
– Твой сахарный тростник, Grandpère, портит мне всю жизнь. – Она надула губки, состроив гримасу недовольства, и посмотрела на старика со скорбной мольбой.
Он был безучастен.
Жанна проявила настойчивость:
– Пожалуйста, Grandpère, скажи Филиппу, чтобы он не был таким мерзким. Сегодня он увез всех своих интересных друзей именно тогда, когда мне было так весело с ними. Он утащил их смотреть тростниковые поля, а мне ехать не позволил. Ах, Grandpère, я так страдала!
Мэри впервые увидела, как смеется старый месье Куртенэ. Смех этот начался ржавым хрипом в глотке, который становился все громче, пока не вылетел из его рта заразительным взрывом веселья. Филипп и Берта тоже рассмеялись. Мэри почувствовала, что и у нее дергаются губы, хотя не понимала, из-за чего все смеются. Она услышала, как рядом с ней кто-то весьма неизысканно хрюкнул, и увидела, что Жанна прижала ко рту салфетку, пытаясь удержаться от того, чтобы присоединиться к общему веселью.
– Это не смешно, – тихо проскрипела Жанна, а потом, отбросив и салфетку, и важность, расхохоталась вместе со всеми.
Потом она объяснила Мэри, что всю жизнь отказывалась и близко подходить к тростниковым полям. Она убеждена, что в их высокой зеленой гуще прячутся змеи и крокодилы, ведь сразу за полями начиналось болото.
На следующее утро Филипп поехал на береговой вал вместе с Жанной и Мэри. Когда они достигли вершины высокого травянистого вала, Жанна, как обычно, повернула налево.
– Жанна, я еду вниз по реке, – сказал Филипп. – Если хочешь, можешь поехать со мной. Правда, боюсь, там нет тростниковых полей. – Он усмехнулся, а затем улыбнулся сестре.
Жанна тряхнула головой и фыркнула:
– Можешь прекратить насмехаться надо мной, Филипп. Ты вчера и так хорошо посмеялся. Лично я предпочитаю ехать вот туда.
– Как угодно.
Мэри заставила себя заговорить:
– Филипп, можно мне с вами?
Он удивленно поднял брови:
– Это ведь несколько миль.
– Очень хорошо. Я люблю долгие прогулки, – солгала Мэри. Сама мысль о том, чтобы сопровождать Жанну в поисках Вальмона Сен-Бревэна, была для нее непереносима. Допустим, он окажется на валу. Тогда ей придется лицезреть их вместе, а это было свыше ее сил.
– Тогда поехали, – сказал Филипп. – Жанна, особенно не гони. – Он махнул рукой груму, который всегда сопровождал девушек, держась несколько позади. – Мальчик, держись поближе к мадемуазель.
Он пришпорил лошадь и понесся галопом.
Мэри стукнула свою лошадь пятками, молясь удержаться в седле. Лошадь помчалась вдогонку за Филиппом, словно на скачках.
Глава 12
– Боже мой, барышня, вы же могли разбиться насмерть! Представляете, что бы тогда со мной сделал Grandpère?
Мэри удавалось не отставать от Филиппа на протяжении более десяти совершенно кошмарных минут. Потом она потеряла поводья. И равновесие. Вывалившись из седла на обочину дороги, она кубарем покатилась вниз по крутому, поросшему травой склону, пока ее не остановил олеандровый куст с ядовито-розовыми цветами.
Она едва успела одернуть порванную юбку, как Филипп уже оказался рядом. Он был сердит, но его гнев лишь подстегнул ее собственный.
– Могли бы сначала спросить, не ушиблась ли я, а потом уже кричать на меня! – заорала Мэри.
Он немедленно принялся извиняться:
– Виноват, простите меня, пожалуйста. Я вел себя как изверг. Как вы? Ничего не повредили?
Мэри почувствовала себя виноватой, отчего еще больше разозлилась:
– Конечно, повредила! Попробовали бы сами свалиться с этого холма, а я бы посмотрела, как бы вы себя чувствовали.
Филипп принялся снимать сюртук.
– Давайте подложим его вам под голову. Я съезжу за повозкой и отвезу вас домой. Врач тут неподалеку.
Пришел черед извиняться Мэри.
– Простите меня, Филипп. Кажется, я не так сильно расшиблась. Просто испугалась. И еще мне стыдно.
Она вытянула одну ногу, затем другую, повращала ступнями, посгибала ноги в коленях, проверяя, не сломала ли, не растянула ли чего-нибудь. Сосредоточив все внимание на ногах, она не заметила нахмуренного, подозрительного взгляда Филиппа.
Постепенно, пока он наблюдал, как деловито она проверяет возможные травмы, его лицо смягчилось. Он решил, что она его не разыгрывает.
Вчера за ужином Филипп нашел Мэри достаточно симпатичной. Она ему даже понравилась. В отличие от большинства молодых женщин она не заигрывала с ним, не смеялась чрезмерно его шуткам и вообще не старалась каким-либо образом привлечь его внимание. Он привык к таким штучкам и был осмотрителен, как и подобает холостяку, если всем известно, что со временем ему достанется богатое наследство.
Но когда она напросилась с ним в поездку вниз по реке, его симпатии поубавилось. «Она ничем не отличается от любой другой девушки, ищущей мужа, разве что большим нахальством», – решил он.
Благовоспитанная незамужняя женщина никогда никуда не ездит наедине с мужчиной.
Когда Мэри упала, он не сомневался, что она старается заманить его в ловушку, ожидая проявления сочувствия и галантности. Следующим шагом, вероятно, предполагалось бессильное падение ему в объятия, возможно даже обморок.
Но он никак не ожидал, что она станет кричать на него, тем более совершит такой рискованный полет с лошади, при котором вполне можно было сломать шею. Филипп посмотрел на перепачканное и исцарапанное лицо Мэри, на ее совершенно растрепанные волосы. Ни одна женщина, которая ставит целью завлечь кавалера, не позволила бы себе выглядеть столь непривлекательно.
Он протянул ей руки.
– Я помогу вам встать, – сказал он. Мэри подала ему руку.
– Спасибо. Наверное, я буду охать и стонать, так вы не обращайте внимания… О-о-ох! – Поднявшись на ноги, она резко выдернула руку из его рук и принялась счищать грязь с одежды.
– Вы не пострадали?
– Нет. Вся в синяках, наверное, и страшна, как пугало. Но цела и невредима.
– Это хорошо. Я схожу за лошадьми.
Мэри простонала:
– Нам обязательно ехать верхом? Я бы лучше пешком прошлась.
– Если вас сбросила лошадь, главное – тут же снова оказаться в седле. Я тотчас вернусь. – Филипп начал подниматься по холму.
Мэри смотрела ему вслед с мрачной покорностью судьбе. Она не могла даже вернуться в прежнее гневное состояние. «Я сама виновата, – призналась она себе. – Сама напросилась. Теперь нужно терпеть до конца».
Галопом больше не скакали. Ехали шагом, бок о бок. Ехали и разговаривали. Каждый был удивлен, до чего легко им друг с другом. Перебранка оказалась чем-то вроде срывания масок – до странности интимное общение без какого бы то ни было сексуального подтекста.
– Почему же вы захотели совершить долгую прогулку? – спросил Филипп. – Ведь вы не очень-то любите лошадей, это заметно.
– Не очень – это еще мягко сказано. Я ненавижу верховую езду. У меня это плохо выходит, а я ненавижу делать то, что у меня не получается. Я просто выбрала наименьшее из двух зол. Я не хотела быть с Жанной, когда она встретится со своим героем.
Собственная искренность поразила Мэри, но потом вызвала в ней теплое и приятное чувство. Как все-таки замечательно иметь возможность сказать правду!
– Это еще кто? – осведомился Филипп. – Жанна не сказала мне, что у нее есть кавалер.
– Ваш друг Вальмон Сен-Бревэн. – Мэри произнесла это имя легко, но сердце ее перевернулось от боли – и от сладости ощущения этого имени на губах.
Смех Филиппа ее озадачил.
– Вэл? – сказал он. – Вэлу некогда заниматься такими девчонками, как Жанна.
Мэри ощутила головокружительный восторг. Но она все еще боялась поверить услышанному.
– Жанна уже не ребенок, Филипп, – сказала она. – И она нисколько не сомневается, что месье Сен-Бревэн… проявляет к ней интерес.
– Она себе льстит. Ну да неважно. Все равно завтра она о нем уже забудет.
Но Мэри не могла допустить, чтобы разговор на этом кончился. Слова Филиппа бальзамом пролились на ее истерзанную ревностью душу.
– Филипп, она говорит, что влюблена в него. И к ее словам стоит отнестись серьезно.
– Это смешно. У отца будущее Жанны уже распланировано, и в нем нет места любви к Вэлу или к кому-то еще. Она выйдет замуж за богатого американца. Именно поэтому она обязательно должна выучить их язык.
Мэри была ошеломлена. Филипп определенно ошибался. Grandpère был воинствующим антиамериканцем. А Жанна только и думала о любви. Она уже готова была сказать Филиппу, что он не прав, но в этот момент он протянул руки и взял у нее поводья.
– Здесь мы спешимся, – сказал он, – и дальше пойдем пешком.
– Куда мы идем?
– Посмотреть на вал и на заплатку. Я хочу рассмотреть их поближе. Меня здесь не было прошлым маем, когда появилась трещина. Grandpère специально послал за мной, чтобы я проверил, не намечается ли еще одна… Вы понимаете, о чем я говорю, Мэри? Посмотрите на реку. Она в полмили шириной, течение скоростью восемь миль в час постоянно давит на красивые травянистые берега. При весенних разливах вода всего на несколько дюймов не достигает вершины вала. Миссисипи – живое существо, а не просто живописный элемент пейзажа или дорога для пароходов. Она сильная и своенравная. Взгляните на землю вон там. Раньше там был розовый сад, и кусты были выше вас ростом. Теперь все исчезло. Затоплено и унесено рекой. Лошади и мулы, коровы и куры. Просто чудо, что никто из людей не пострадал. Видите ли, река прорвалась сквозь слабое место в дамбе.
Это и есть трещина, или промой. Вероятно, она началась с маленькой струйки, которой никто и не заметил; потом превратилась в бурный поток. Он тек, пока люди наконец не заделали промоину. К тому времени вода протекла внутрь вала и достигла самого Нового Орлеана, а это более семи миль. – Круглое лицо Филиппа приобрело печальное выражение, когда он рассказывал об этом бедствии. Теперь хмурые складки разгладились. Филипп усмехнулся. – Grandpère сказал бы вам, что это божий знак, – сказал он. – Во французском квартале грязи было не более обычного, тогда как та часть города, где американцы ведут свой бизнес, оказалась под девятью футами воды. – Он слез с лошади и помог сойти Мэри. – Не хотите ли присесть здесь, пока я схожу посмотрю? Вы, должно быть, чувствуете себя несколько разбитой. Мэри покачала головой:
– Я, пожалуй, поковыляю с вами, если не возражаете. Все это так интересно.
Она не кривила душой. Ей и вправду было интересно, она очень хотела больше узнать о реке и об этой земле. Каждая ее косточка и мускул болели, но настроение было на удивление хорошим. Теперь, освободившись от тяжелого бремени ревности и зависти, она могла свободно наслаждаться приятным общением с Филиппом и больше узнать о странном, прекрасном мире Луизианы – королевстве, принадлежащем ей по праву рождения.
– Я с трудом смогла отличить отремонтированную часть, – призналась Мэри Филиппу, когда они верхом возвращались в Монфлери.
– Я тоже. Вэл сказал, что заплату прикрыла трава, но я должен был все увидеть сам.
У Мэри дрогнуло сердце. Она не ожидала вновь услышать это имя. Филипп продолжал говорить, не сознавая, как действуют его слова на Мэри:
– Вэл полагает, что единственный способ предотвратить промоины – углубить ров и нарастить вал по всей длине, начиная с его плантации, вдоль Монфлери и поместья Пьера Сотэ, где и случилась промоина, и далее до участка Сонья. Мы здесь все вытянуты в одну линию, потом река делает крутой поворот в глубь материка, и поэтому мы особенно подвержены наводнениям. Вэл уже переговорил со всеми плантаторами. Если его поддержит Grandpère, то и остальным придется согласиться. – Филипп усмехнулся. – Grandpère иногда бывает довольно скаредным старичком. Подозреваю, он надеется, что я стану возражать. Предвижу неплохое состязание, кто кого перекричит, когда я скажу ему, что думаю.
– Сомневаюсь, что он вообще будет кого-то слушать, даже вас.
– В действительности дело не во мне. Ведь я буду говорить от имени дяди Бернара. Он мой наставник и любимый сын Grandpère. Его плантация приносит больше дохода на акр, чем какая-либо другая во всем штате. Даже плантация Вальмона Сен-Бревэна. – Филипп улыбался. – Когда настанет мой черед владеть Монфлери, я намереваюсь составить дяде Бернару серьезную конкуренцию. Я не позволю какой-то промоине уничтожать мое наследство. Завтра я переговорю с Вэлом, и мы наймем ирландцев.
– Кого?
– Ирландцев. Их сотни в Новом Орлеане. Они займутся ремонтом. Для работ такого рода мы всегда нанимаем ирландцев. Рабы для этого слишком ценны. Такой труд отбирает у человека все силы. К тридцати годам он уже полутруп. Если еще не окончательно загнулся на работе.
Мэри посмотрела в лицо Филиппу. Он не шутил. И он совершенно не был похож на чудовище. Она подумала о своем отце и вспомнила, что он столь же бесчувственно относился к слугам. Те тоже были ирландцами. А ведь отец был яростным противником рабства и осуждал жестоких плантаторов-южан.
Мэри тряхнула головой, пытаясь привести мысли в порядок.
– Голова болит? – спросил Филипп.
Она рада была найти причину не думать о рабстве, бесчеловечности, хозяевах и слугах, ирландцах.
– Немного, – сказала она и почувствовала, что говорит правду. – Должно быть, из-за солнца. Я потеряла шляпу, когда упала, а жара на меня всегда плохо действует. Я еще к ней не привыкла.
– Боже мой, я и не заметил. – Филипп сорвал с головы широкополую соломенную шляпу и нахлобучил ей на голову. – До чего же я бездушен и слеп!
Мэри тоже ощутила себя отчасти слепой – шляпа была ей велика и сидела так низко, что почти закрывала обзор.
– Возьмите свою шляпу, Филипп, – взмолилась она. – Мне она не нужна. Мы почти приехали.
– Нет, нужна. Вы можете заработать солнечный удар. Или, хуже того, обгореть. Берта с меня шкуру сдерет.
Мэри возражала, но шляпа все же осталась при ней. Достаточно было красных щек. Она будет просто в отчаянии, если все лицо у нее покраснеет. А голова болела все сильнее.
Два часа спустя она выла от боли. Ее била лихорадка.
Все думали, что у нее солнечный удар. Мэри уложили в кровать, затемнили спальню, посадили по обе стороны кровати двух девочек-рабынь, чтобы те обмахивали ее, а Жанна несколько часов подряд меняла у нее на лбу полотенца, смоченные в чаше с ледяной водой, поставленной на столик возле кровати, и собственноручно их выжимала. Четыре раза в день в комнату заходила Берта – смазать маслом побагровевший и покрытый пузырями лоб Мэри, ее щеки и нос.
Мэри ничего не сознавала. Она лишь ненадолго приходила в себя, но и тогда ее сознание было замутнено лихорадкой.
Лихорадка Мэри очень напугала Жанну. Она умоляла мать послать за врачом. Но Берта не проявляла особой тревоги.
– Солнечный удар пройдет сам по себе, просто нужно время. Мэри ничто не угрожает. Через десять дней с дежурным визитом приедет доктор Лимо, но к тому времени она поправится, вот увидишь.
Берта оказалась права. Через четыре дня лихорадка у Мэри прошла, рассудок пришел в норму. Она была слаба и ощущала жуткий голод.
Жанна принесла ей бульону.
– Два дня будешь питаться только этим, – сказала она. – Мне очень жаль, но таково распоряжение мамы. Филипп даже отправился в город и привез тебе мороженого, но она не разрешила. Ты не против, если я его съем?
– Нет, – простонала Мэри. Горло у нее было еще заложено, во рту держалась сухость. Она попыталась проглотить бульон, которым кормила ее Жанна, но желудок ее взбунтовался. Она вздрогнула, стала давиться. Потом ее вырвало. Ей хотелось просить прощения, плакать, но она была слишком слаба для слов и слез.
Жанна побежала искать мать, но Берты нигде не было. В последнюю очередь Жанна заглянула на кухню. Когда Берты не оказалось и там, она расплакалась.
– Тише, тише, детка, – сказала повариха. Она обняла Жанну и стала раскачиваться. – Расскажи старой Шарлотте, что случилось.
– Мэри совсем плохо, Шарлотта, а мама сказала, что ей станет лучше, как только она поест бульону. Но она не может есть. Ее вырвало. Надо, чтобы мама вызвала врача, вызвала немедленно. А я не могу найти ее.
– Овечка моя, она уже послала за доктором. Он будет здесь засветло. И не надо беспокоить маму такими пустяками, как слабый желудок. У нее более важные заботы. Старый Эркюль умирает. Она с твоим дедушкой сейчас у него. Надеюсь, священник скоро приедет. За ним тоже послали. – Шарлотта перекрестилась. – Господи, сделай так, чтобы старый Эркюль умер в благодати, и не допусти безобразий в этом доме.
Жанна перестала плакать:
– Каких еще безобразий, Шарлотта?
– Тебя это не касается, деточка.
– Касается, если это происходит у нас в доме. Так что это, Шарлотта? Я и так очень напугана, моя подруга ужасно больна, а теперь еще ты говоришь, что будут какие-то жуткие безобразия. Я боюсь. Я хочу к маме. Я должна найти ее.
– Нет, не надо. Бояться совершенно нечего. Мэри скоро поправится, а никаких безобразий не будет. Старый Эркюль зовет свою внучку, вот и все. А она слишком далеко, и зова его ей не услышать. Вот и все. Никаких безобразий. Глаза и рот Жанны широко открылись от изумления.
– Ты, Шарлотта, думаешь, что я еще совсем ребенок, но ты ошибаешься. Действительно намечаются безобразия.
– Только никому ничего не говори.
– Ни за что. Ни слова.
Из кухни Жанна прибежала прямиком в комнату Мэри.
– Мэй-Ри, тебе надо побыстрей поправляться. Я только что узнала нечто очень интересное. Эркюль просит, чтобы его внучка приехала повидаться с ним, прежде чем он предстанет перед Господом. Это желание свято, и маме придется разрешить ей приехать… Ой, Мэй-Ри, тебе надо набраться сил, чтобы пойти со мной и хоть одним глазком взглянуть на нее. Она любовница папы, для которой он отстроил шикарный дом в Новом Орлеане. Я жду не дождусь увидеть, какая она из себя.
Глава 13
Мэри была слишком слаба и не могла сопротивляться напору Жанны. Но и как-то помочь ей она тоже не могла. Полчаса спустя Жанне удалось одеть Мэри только наполовину. Когда она зашнуровывала Мэри корсет, дверь отворилась и вошел доктор Лимо в сопровождении Берты.
– Что ты делаешь, Жанна? – воскликнула мать. – Ты хочешь, чтобы Мэри снова стало хуже?
Жанна выронила шнурки и отскочила от постели.
– Мэй-Ри сказала, что хочет встать, мама. Она сказала, что тогда будет чувствовать себя намного лучше. – Она поспешно сделала книксен: – Bonjour, Docteur Limoux.[10]
Доктор кивнул в ответ:
– Откройте-ка мне шторы, Жанна, вот умница. Дайте-ка я взгляну на наш солнечный удар.
Мэри попыталась улыбнуться доброму морщинистому лицу, увиденному в свете свечей. Но когда отворили ставни, от внезапного света ее глаза, казалось, запылали огнем и она стиснула зубы от боли. Доктор Лимо большим пальцем поднял ей веко. От этого прикосновения она вскрикнула.
– Извините меня, мадемуазель, – сказал доктор. Он поднял правую руку Мэри, затем левую и развернул каждую, чтобы осмотреть багровые ссадины. – А это у нее откуда? – Его пальцы нащупывали ей пульс.
– Она, бедняжка, упала с лошади, – сказала Берта, – в тот же день, когда заработала и солнечный удар. Ужасно ей не повезло.
Доктор Лимо бережно положил руку Мэри вдоль ее тела. Его ладонь на мгновение задержалась у нее на лбу.
– Снимите с этой несчастной юной дамы все наряды и наденьте на нее просторную удобную ночную рубашку. Она должна провести в постели самое меньшее еще неделю, и лишь тогда ей можно будет вставать. Я не вижу никаких признаков солнечного удара. Она поправляется после желтой лихорадки.
Берта Куртенэ взвизгнула – нечеловечески пронзительно. И без чувств рухнула на пол.
– Господи, неужели в этом доме придется лечить каждого? – сердито сказал доктор. – Жанна, принесите матери нюхательной соли. И позовите горничную, чтобы помогла мне отнести ее в спальню. – Он повернулся к Мэри и заговорил ласковым, спокойным тоном: – Ты скоро поправишься, дитя мое. Я приготовлю обезболивающий сироп с настойкой опия. А к глазам пусть прикладывают крошеный лед в тряпочке. Они скоро перестанут болеть… Я не стану пускать тебе кровь – кризис уже миновал, и ты на пути к выздоровлению. Просто отдыхай и пей, сколько выдержит желудок. Завтра постарайся съесть немного супу, а если будет желание, то и хлеба, смоченного в молоке. Завтра вечером я вернусь и осмотрю тебя.
Он склонился над распростертым телом Берты, затем выпрямился.
– С нее достаточно и глотка бренди. Не понимаю, зачем вы, женщины, столь настойчиво втискиваетесь в эти чертовы корсеты. В них же дышать невозможно. Потому-то вы и падаете вечно в обмороки. – Идя за слугами, которые выносили Берту из комнаты, он все еще ворчал.
Мэри следовала всем предписаниям доктора Лимо, кроме приема опия. Она приняла одну дозу и, очнувшись после дурманного сна, почувствовала себя хуже обычного. После этого она отказалась от опия. Во время следующего визита доктора Лимо она уже сидела, опираясь на подушки, и ела рисовый пудинг.
– Молодость, – сказал он. – Если бы я мог разливать ее по пузырькам и прописывать моим пациентам, я был бы самым удачливым врачом в мире. Мои визиты, милая барышня, вам больше не понадобятся. – Он взял Мэри за руку и галантно склонился над нею. Его старомодные густые усы пощекотали кожу Мэри, и она улыбнулась.
Через несколько минут после его ухода на цыпочках вошла Жанна:
– Мэй-Ри? Как, ты ешь? Замечательно! Доктор Лимо только сейчас разрешил мне зайти к тебе, а раньше запрещал. Я боялась, что тебе стало хуже из-за моих глупостей. Как ты себя чувствуешь? Можно, я немного побуду с тобой?
– Мне гораздо, гораздо лучше. Останься, пожалуйста. Сядь здесь, рядом со мной. У меня такое ощущение, будто я отсутствовала много недель. – Мэри была чрезвычайно рада видеть Жанну. И эта радость заставила ее вспомнить те недостойные чувства, которые обуревали ее накануне болезни. Ей стало совестно. – Я счастлива, что у меня есть такая хорошая подруга, – выпалила она. – Твоя семья так добра ко мне. Мне бы следовало лучше проявлять свою благодарность.
– Какая-то ты ненормальная, Мэй-Ри. Мы все должны быть благодарны тебе за то, что ты приехала к нам.
– Как твоя мама?
– Как всегда. Носится повсюду, суетится из-за всякой мелочи. Ты забудь про ее обморок. Она и так была расстроена из-за приезда внучки Эркюля, а когда услышала, что у тебя лихорадка, это оказалось выше ее сил.
– Я понимаю, – сказала Мэри.
– Сомневаюсь. Бедная мама, такая печальная история! Видишь ли, Мэй-Ри, у меня когда-то было четыре брата и четыре сестры. Я была самой младшей. Началась эпидемия лихорадки, и за два дня все мои братья и сестры умерли. Я одна не заразилась. Мама привезла меня на плантацию и с тех пор ни разу не разрешала мне съездить в город. Это случилось почти двенадцать лет назад. Она до смерти боится, что и я умру от лихорадки. Говорят, что креолы и черные ей не подвержены. Однако все мои братья и сестры заболели. Странно подумать, что сейчас мне почти столько же, сколько было старшему из них, когда он умер. Как бы мне хотелось знать, какие они были. – На прекрасные темные глаза Жанны навернулись слезы.
Мэри тронула ее за руку:
– Не печалься. У тебя есть Филипп. Он же не умер.
Жанна рассмеялась:
– Мэй-Ри, ты что, ничего не знаешь? Филипп мне не родной брат. Папа усыновил его. На самом деле он сын моего дяди Франсуа. Когда родные сыновья папы умерли, его брат отдал ему Филиппа. Он был незаконнорожденный, но Франсуа узаконил его. Однако другие дети дяди Франсуа не очень хорошо к нему относились; да и тетя Софи была счастлива избавиться от него. Ни одной женщине не захочется растить сына своего мужа, рожденного от другой.
Мэри было безумно интересно. Правда, она не была уверена, что может верить хоть единому слову Жанны. Эта история слишком напоминала романы, которые ей запрещали читать монахини. Но Жанна говорила обо всем этом так спокойно, совершенно тем же тоном, каким излагала родословную лошадей на конюшне. У приличных людей не бывает внебрачных детей. Мэри постаралась рассмеяться:
– Жанна, ты вредина! Я чуть было не поверила тебе.
– Мэй-Ри, ты меня обижаешь. Конечно же, я говорю правду.
– Но откуда ты могла узнать обо всем этом? Ты же сама сказала, что тебе было только два года.
– Но мама все время говорит о моих умерших братьях и сестрах. У нее есть миниатюры их всех, а на рамках выгравированы их имена. Можешь посмотреть, если хочешь. Они были очень красивые дети.
– Ладно. Я верю, что у тебя были братья и сестры, которые умерли. Но я ни за что не поверю, что Филипп… как ты его назвала?
– Незаконнорожденный? Но это не так, Мэй-Ри. Его папа сделал его законным. И усыновил – тоже по закону. Люди всегда так делают, каждый об этом знает.
– А тебе кто сказал?
– Я не помню. Может быть, слышала где-то. Я слышу многое, о чем мне не говорят. Например, о папиной любовнице. Предполагается, что я не должна об этом знать. Ой, я так надеюсь, что она приедет навестить Эркюля. Доктор Лимо сказал, что у него был апоплексический удар. Он проживет еще какое-то время, но потом будет новый удар, и тогда он умрет. Мама и Grandpère спорили об этом весь вечер. Дедушка хочет, чтобы предсмертное желание Эркюля было исполнено, а мама говорит, что не позволит этой женщине переступить порог дома, в котором она живет. Замечательная была стычка. Grandpère кричал так, что люстры звенели. Наверное, он ее переспорит. Обычно так и бывает.
– Жанна, я, пожалуй, сейчас отдохну. Выйди ненадолго, ладно?
Жанна поцеловала Мэри в щеку.
– Знаешь, Мэй-Ри, иногда мне кажется, что ты намного младше меня. Я слышала, как папа говорил то же самое обо всех американцах. Они все дети. Ну, спи, младенец американский! – Мэри слышала, как Жанна смеялась, выходя из комнаты и закрывая за собой дверь.
Поправив подушки, Мэри закрыла глаза. Но сон не приходил. Откровения Жанны, ее непринужденная болтовня о незаконнорожденных и любовницах нарушили покой Мэри. В монастырской школе она с подружками пересмеивалась, и вздыхала, и грезила о любви, кавалерах, свадьбах, детишках, красивых, как куколки. Одна девочка повторила то, что рассказала ей замужняя сестра о мужьях и детях, но все они в ужасе отвергли этот рассказ. Ни о каких интимностях, кроме как о невинном романтическом поцелуе, речи никогда не заходило. Но Жанна Куртенэ в своих рассказах часто затрагивала половые вопросы. Ее натура, любопытная и жизнелюбивая, была переполнена чувственностью. Из-за нее Мэри начала испытывать незнакомые, тревожные, непреодолимые чувства. Тщетно старалась она внушить себе, что таких чувств просто не существует.
Она вспомнила, как Жанна дотрагивалась до своего тела, гладила свои груди, говорила о том, как к ним, в ее воображении, прикасался Вальмон Сен-Бревэн. И Мэри робко провела руками по собственному телу. Она была удивлена мягкостью своей плоти, тем, как неожиданно затвердели ее соски. Такого рода приятных ощущений она никогда раньше не испытывала – эти прикосновения одновременно отозвались в коже на ладонях и на груди. Она почувствовала себя так, словно открыла какую-то тайну, и даже в тот момент, когда постигала ее, жалела, что открыла эту тайну так поздно. Неуклюжими от нетерпения пальцами она расстегнула пуговицы ночной рубашки. Когда руки ее дотронулись до обнаженных грудей, она вскрикнула от острого, жалящего экстаза прикосновения кожи к коже. Ладони ее двинулись к плечам, к горлу, к бокам, обратно к грудям. По спине прокатилась теплая волна, потом щекочущий холодок, потом тепло и холод вместе, сменяя друг друга, ниспадая и поднимаясь, перехватывая дыхание, вызывая на глазах слезы от неведомого доселе чувства.
Удовольствие было слишком велико. Оно превратилось в яростную внутреннюю потребность, от которой тело ее извивалось из стороны в сторону, а в горле рождались непроизвольные стоны. Сила этой страсти привела Мэри в ужас. Она широко развела руки в стороны, отвергая собственные прикосновения и те чувства, которые они пробуждали. Она неотрывно смотрела на прозрачную белую сетку над своей кроватью. Руки и ноги у нее дрожали, грудь поднималась и опадала при каждом коротком, жадном вздохе.
Постепенно ясность мысли вернулась к ней. Дрожь улеглась, дыхание пришло в норму. Она очень устала.
«Не понимаю, что я чувствовала, что делала, что все это значит, – думала она, погружаясь в сон. – Разберусь, когда проснусь».
– Т-с-с, Мэй-Ри, просыпайся быстрее. Смотри, я сама принесла тебе кофе. С молоком, вкусный, горячий, с пенкой – как раз какой ты любишь. Мэй-Ри, ну давай же, вставай!
– Что случилось? Чего ты хочешь?
– Вот. Пей свой кофе. Мама может пожаловать в любую минуту. Ой, Мэй-Ри, так интересно! Дом с самого утра ходуном ходит. Мама собирается в гости к сестре в Батон-Руж. Она велела, чтобы достали сундуки с чердаков, а сейчас разбрасывает платья и туфли по всей комнате. Она ужасно спешит. Это может означать только одно. Наверное, должна приехать папина любовница… Я наперед знаю, что будет. Сейчас она примется искать меня и велит мне собираться тоже. Но я не поеду. Мне до смерти хочется взглянуть на эту женщину… И поэтому, Мэй-Ри, ты сделаешь вот что: ты должна упросить маму разрешить мне остаться с тобой, ведь ты еще так слаба. И я тоже буду ее упрашивать. Может, мы обе даже немножко поплачем. Тогда она не заставит меня ехать. Я уверена.
Жанна ошибалась. Незадолго до полудня она, ее мать, две горничные, кучер, четыре лошади, кабриолет, два грума, четыре сундука и шесть саквояжей были доставлены на борт парохода, отозвавшегося на сигнал с берегового вала возле Монфлери. Мэри помахала им рукой с верхней галереи. Берта Куртенэ согласилась, что Мэри еще слишком слаба для такого путешествия. И к тому же, решила Берта, Мэри не будет ни унизительно, ни стыдно присутствовать в доме, когда появится эта женщина. Она же не член семьи.
Мэри вернулась к себе в комнату и легла в постель, как ей и велела Берта. Горничная принесла ей обед – бульон, тарелку пудинга и кофейник с кофе. Но и съев все это, Мэри осталась голодной.
«Как нелепо, – подумала она. – Я совсем не чувствую себя больной, и я устала лежать в постели. Оденусь-ка я и спущусь в столовую. Там будет обедать Grandpère, и мне наверняка кое-что перепадет».
Она была слабее, чем ожидала. Ей понадобилось много времени, чтобы одеться и причесаться. Когда она добрела до столовой, там было пусто, со стола убрали, и лишь аппетитные запахи свидетельствовали о недавней трапезе. Она решила пойти на кухню поискать чего-нибудь съестного.
Солнечный свет во дворе ударил Мэри словно молотком. Она пошатнулась и прикрыла глаза руками. «Вернись в дом, ляг в постель», – приказала себе Мэри. Но она уже решила, что непременно добудет что-нибудь поесть. Пошатываясь, она побрела к кирпичному домику, сияющему белой штукатуркой.
– Не ходите туда, мадемуазель. – Из тени под фиговым деревом показалась изящная рука, дотронувшаяся до груди Мэри и воспрепятствовавшая ее неуверенному продвижению по двору.
– Что такое? Пустите меня. – Мэри стала вглядываться в темноту.
Оттуда вышла молодая женщина.
– Туда нельзя, – сказала она. – Старик умер, и его родные скорбят. – Голос ее был суров и холоден. В осанке и выражении лица сквозили высокомерие и надменность. Более экзотически прекрасного создания Мэри не доводилось видеть.
Ее короткий, тонкий нос был образцом совершенства и соразмерности. Взгляд Мэри сам собой перешел с острой, четко очерченной переносицы на рот с отчетливым, словно резцом мастера вырезанным овалом губ, которые казались окрашеными земляничным соком. Черные глаза были почти прикрыты густой черной бахромой длинных ресниц. Над ними располагались узкие черные брови, изогнутые, словно две радуги. На фоне белоснежной кожи молодой женщины они особенно поражали своей чернотой. Цветом и матовым блеском ее кожа напоминала лепестки магнолии или густые сливки, каким-то образом превратившиеся в атлас.
До этого мгновения Мэри считала самой красивой девушкой во всей Америке Жанну Куртенэ. Теперь она поняла, что Жанна просто хорошенькая. Красота – нечто более величественное, царственное. Красота настолько совершенна, что заставляет усомниться в своей реальности. Красота – это и есть молодая женщина, что стоит сейчас рядом с ней.
Мэри была настолько потрясена, что прошла целая минута, прежде чем до нее стал доходить смысл слов, произнесенных девушкой.
– Умер? Эркюль? Какая жалость! Он был так добр ко мне. – Она повернулась к дому. – Разумеется, я не стану мешать. – Потом она вспомнила: – А вы не знаете, приехала его внучка? Он так хотел ее повидать. Исполнилось ли его желание?
Прекрасные губы девушки раздвинулись. Но прежде чем она успела произнести хоть слово, ее внимание отвлекли. Из кухни выходили Клементина и еще какая-то женщина. Обе громко рыдали. Клементине приходилось поддерживать убитую горем женщину.
– Да простит меня Господь, и все святые, и Пресвятая Богородица! – кричала та. – Он ждал меня, а я опоздала.
– Вот и ответ на ваш вопрос, не так ли? – сказала девушка. Она быстро проплыла по двору, раскинув руки в стороны, и обняла плачущую внучку Эркюля.
«Она движется, как высокая трава на ветру, – подумала Мэри. – А платье ее шуршит, словно ветер в траве». Она заметила, что розовое шелковое платье того же цвета, что и губы девушки, и такими же были мягкие кожаные туфли на крошечных ногах.
Мэри заставила себя отвернуться от этой печальной сцены. Ей было стыдно, что она так хотела получше рассмотреть внучку Эркюля и даже расстроилась от того, что Клементина заслоняет эту женщину и не дает хорошенько рассмотреть ее.
Также с немалым смущением она ощутила, что все еще очень голодна.
Потом новая мысль отогнала чувство голода.
«Интересно, эта девушка не дочка ли внучки? Если так, то она дочь отца Жанны, стало быть, сестра Жанны. Разумеется, оно так и есть. Она и впрямь похожа на Жанну, только намного красивее. Не удивительно, что Берта увезла Жанну. Было бы ужасно, если бы они встретились».
До чего же запутанный и сложный мир этот чужеземный, французский, тропический Новый Орлеан!
Глава 14
Эркюля схоронили на другой день. По повелению Grandpère Мэри присутствовала на похоронах.
– Мы с Филиппом будем тебя поддерживать. Эркюль был хорошим человеком, и все белые из Монфлери должны присутствовать на похоронах, чтобы отдать ему последний долг.
Мэри украдкой обежала взглядом часовню. Потрясающей девушки там не было, ее матери тоже. Главной плакальщицей была Клементина. Она сидела в первом ряду в окружении мужчин, женщин и детей, которые, как пояснил Филипп, были детьми, внуками и правнуками Эркюля.
– Возможно, даже праправнуки есть, – прошептал он. – Я не в состоянии проследить все родственные связи среди рабов Монфлери.
Мэри могла его понять. Маленькая часовня была полна народу, были заняты все скамьи, все дополнительные стулья, свободного места не было вовсе. «Должно быть, здесь человек триста, – подумала она. – Я и представления не имела, что их так много. Чем они все занимаются? И насколько же велико Монфлери?»
Позже, когда они вернулись домой, она спросила об этом Филиппа.
– Точно не знаю, – сказал он. – Grandpère сам ведет все записи. У него нет даже управляющего, и он десятки раз говорил, что заглянуть в книги мне удастся только после его смерти. Я так полагаю, здесь примерно восемьсот акров. Тысяча, если считать болото… Что же касается рабов, большинство работает в полях. Сахарный тростник – культура трудоемкая. Есть и некоторые специалисты – кузнецы и тому подобное. Плантация как маленькая страна. Здесь есть все, что необходимо. Кроме вина для джентльменов и безделушек для дам. Это привозят из Франции.
– Филипп, вы мне не покажете плантацию? Мне бы хотелось узнать о ней побольше.
– В самом деле?
– Да. Как о промоине. Я люблю узнавать новое, видеть все своими глазами.
Филипп ухмыльнулся:
– Думаете, вы усидите на лошади?
Мэри поморщилась:
– Полагаю, вы не забудете, что вы не на скачках?
Он протянул руку:
– По рукам?
Мэри пожала протянутую руку:
– По рукам!
– Мне, конечно, придется просить разрешения у Grandpère. Без его разрешения не происходит ничего. И дамы далеко от дома обычно не отъезжают. А знаете, Мэри, что мне в нас нравится? Вы вовсе не похожи на нормальную женщину. – Он оставил ее и отошел в угол галереи, где Grandpère со священником потягивали пунш.
– Надо полагать, это комплимент, – пробормотала Мэри. Она не могла понять, польщена или оскорблена.
Несколько дней спустя она решила, что определенно польщена, – ей довелось увидеть Филиппа в обществе «нормальных женщин». Гудок с пакетбота был первым сигналом, что прибывают гости. Одновременно два маленьких негритенка вбежали на галерею с криками: «К нам корабль заворачивает!» После этого началось светопреставление, которое длилось больше недели.
Гостями были Шарль, сын Grandpère, и его дочь Урсула. И их семьи. Жену Шарля тоже звали Урсула, а мужа Урсулы звали Жан-Шарль. С ними прибыло девять их детей, четверо из которых состояли в браке, и трое из них приехали с детьми. Мэри так до конца и не разобралась в их именах и родственных связях.
– …тебе придется занять место Берты, – сказал ей Grandpère. – Сейчас ты главная дама в доме. – А сам пошел к валу встречать гостей.
С криком «На помощь!» Мэри помчалась искать Клементину. Та не только помогла, но и взяла на себя все заботы. Через несколько секунд слуги уже спешили застелить свежее белье в спальнях, а также наполнить водой кувшины для умывания, нарезать цветов для ваз, стоящих у кроватей, принести ветчину и бекон из коптильни, лед из ледника, вино и виски из погребов, молоко и сливки из маслобойни.
– А вы улыбайтесь, зелль[11] Мари, и здоровайтесь со всеми. Я буду стоять за вашей спиной и тихонько подсказывать, куда чьи вещи нести. Шарлотта наверняка уже поставила кофе, и на кухне полно слоеных язычков. Так что не изводитесь. В этом доме умеют принимать гостей… Хотя, конечно, не хватает Эркюля. Спросите у месье, наметил ли он кого-нибудь в дворецкие, и, если можно, намекните, что неплохо бы Кристофа…
Гости поднимались по аллее, как морской прилив. Мэри пришлось плотно вдавить каблуки в пол, чтобы не убежать. Гости буквально затормошили ее. Женщины целовали ее в обе щеки, мужчины целовали руку. «Посмотри-ка, Шарль, она точь-в-точь такая, как Берта писала в письмах… Такая очаровательная… Так хорошо говорит по-французски… Совсем не американка…» Выражения восторга и восхищения сыпались на Мэри со всех сторон, как удары. Ей еще не доводилось слышать столь бурных восторгов и оживления.
Спустя полчаса Филипп решительно вошел в гостиную, где все угощались пирожными и вафлями, а также бесчисленными миниатюрными чашечками кофе.
– Я только что узнал, что вы здесь, – сказал он. – Извините, что меня не было при вашем прибытии.
– Филипп! – вскричали все, и последовал вихрь объятий и поцелуев.
Наконец все тети, дяди, кузены и кузины были поприветствованы. И Филипп, взяв чашку кофе, встал возле окна. Несколько мгновений спустя его окружила стайка нарядно одетых девушек. Мэри смотрела, как они наперебой пытаются завладеть его вниманием. Они хихикали, поглядывая на него поверх трепещущих вееров, и восхищенно ворковали по поводу его сюртука, сапог, бакенбардов, суждений. «Какие они все глупые, – подумала Мэри, – и неестественные! Если таковы нормальные женщины, то я рада, что я не такая».
В дверях она увидела Клементину, которая знаками подзывала ее. «Извините», – сказала она женщине, которая рассказывала ей, как болезненно у одного из ее детей режутся зубки.
– Что такое, Клементина?
– Нам надо кое-что распланировать.
– В жизни так не уставала, – пожаловалась Мэри Филиппу за ужином. Про себя она поблагодарила Клементину за то, что та усадила ее рядом с ним. Среди этого множества чужих людей ей необходим был друг.
– Скоро привыкнете, – пообещал Филипп. – В конце концов, это обыкновенное креольское гостеванье. У дяди Бернара нас постоянно садится за стол двадцать—тридцать человек.
Мэри окинула взглядом длинный стол. Теперь, когда за ним сидело много народу, он выглядел естественнее, чем тогда, когда не пустовал лишь один конец. Она заметила, что у стола подняли боковые доски. Теперь он заполнял в огромной комнате то обычно незаполненное пространство, из-за которого она всегда казалась пустоватой. Ведь комната была предназначена именно для этого – для ярких дамских платьев, сияния драгоценных камней на женских шеях и в ушах, неяркого света свечей в высоких канделябрах на двенадцать свечей каждый. Этот свет отражался в величественной хрустальной люстре и в массивных зеркалах в золоченых рамах.
Комната ожила от смеха, веселых разговоров, позвякивания серебряных ножей и вилок о фарфор, чистого, мелодичного звона бокалов на высоких ножках, когда все чокались после очередного тоста. Здесь были люди, радующиеся жизни, любящие жизнь и друг друга. На целом ряде лиц Мэри замечала характерный подбородок Куртенэ – ямочка у женщин, более заметная выемка у мужчин, – который повторялся и на портретах, глядящих на собравшихся со стен.
«Это и есть семья, настоящая новоорлеанская семья», – поняла Мэри. Сердце ее тревожно забилось. Где-то там, в Новом Орлеане, была такая же семья, к которой принадлежала она сама. Возможно, в этот момент они тоже сидят, собравшись за одним столом. Возможно, они высоко поднимают бокалы своими необычными пальцами, которые были такой же семейной чертой, как и подбородки Куртенэ.
«Они мои, – подумала она, – и они рядом, я знаю. Скоро я буду с ними. Сейчас август. Еще десять недель, и лето кончится, все вернутся в город, и мадемуазель Сазерак отыщет для меня мою семью».
Селест Сазерак ласкала безумным взором картину. Это был портрет прекрасной женщины в сложного фасона платье из золотой парчи. Необычными пальцами она сжимала хрупкий кружевной веер.
«Теперь она моя, – радостно думала Селест. В ее жадной улыбке не было ничего человеческого. – Все мое – и веер, который раскрывался при королевском дворе, очаровывая короля волной кружев; мое, как тому и следовало быть. Наконец-то мое. Мое сокровище – как и все прочее в шкатулке. Мое сокровище – моя тайна.
Никто никогда ничего не узнает. Эта глупая американка сгниет в Монфлери с этой идиоткой Бертой, которая выезжает в город только раз в год. Их так легко обвести вокруг пальца, они и рады плясать под мою дудку. Идиотки».
Она прикрыла рот рукой. Не надо смеяться вслух. Никто не должен догадываться о ее счастье, ее торжестве. Наконец-то она одержала верх над своей сестрой, получив ее ящичек и убрав с дороги ее дочь. Это было так приятно, еще приятнее после стольких лет ожидания! «Господь послал мне эту месть», – подумала она и, несмотря на руку, зажимавшую рот, издала резкий, ястребиный крик.
Отняв руку ото рта, она проговорила вслух:
– Это мое, и никто его никогда у меня не отберет. Я ни перед чем не остановлюсь, лишь бы сберечь это. Ни перед чем.
Глава 15
– Они уехали, и стало так тихо, – сказала Мэри. – Жаль, что они не побыли подольше.
– А мне не жаль. Они мешали работам на валу. Из-за всех этих променадов и пикников мы ничего не успели сделать. – Филипп был явно не в духе.
Мэри молча пила кофе. Со стола еще не убрали откидные доски. Взглянув на огромную поверхность полированного дерева она почувствовала себя маленькой и одинокой. И ненужной. Обустройство семейного досуга оказалось нелегким делом, даже под руководством Клементины. Зато было весело. А сейчас она маялась от безделья.
Она посмотрела на Филиппа. Ей очень хотелось спросить его, знает ли он, когда ожидать возвращения Жанны с матерью из Батон-Ружа.
Но он читал газету. Да и скорее всего, он ничего не знает. Надо было спросить об этом Grandpère. Но тот вышел из-за стола, едва начался завтрак. Он очень спешил осмотреть поля – ночью прошла гроза с градом.
«Каждому есть чем заняться. Кроме меня». Она еще раз украдкой посмотрела на Филиппа. На его подбородке вырос крошечный треугольник щетины, пропущенный бритвой. Мэри подумала: «Интересно, какой он на ощупь?» При этой мысли у нее защипало в кончиках пальцев.
«Что со мною происходит? Откуда эти странные мысли?» Ей все время снились сны, но ни одного из них она не могла припомнить. Однажды она проснулась от того, что ее ладони крепко стиснули груди. Хотя кокетство кузин казалось ей нелепым, она попыталась перед зеркалом помахать веером, как они. В конце концов она бросила это занятие, в полной уверенности, что выглядит чрезвычайно глупо.
«Я нравлюсь Филиппу, я точно знаю, – про себя сказала Мэри, – только не знаю, до какой степени. Хочет ли он поцеловать меня? И понравится ли мне это?» Она вновь метнула на него быстрый взгляд. Рот у него был пухлый, как и все прочее. Прикосновение его губ будет мягким. Она потрогала пальцами собственные губы, словно проверяя, достаточно ли они мягкие. Губы были пересохшие, потрескавшиеся. Надо будет их чем-нибудь смазать.
– Мэри. – От звука голоса Филиппа она вздрогнула. Уж не догадался ли он, о чем она думает? – Мэри, перестань витать в облаках. Я с тобой говорю.
– Так говори, я слушаю. В чем дело? – Она не могла взглянуть на него.
– Я еду на сахароварню. Хочешь со мной? Ты, похоже, очень скучаешь.
– С превеликим удовольствием. – Беспокойные мысли испарились, едва появилась возможность чем-то заняться. – Я сбегаю наверх, надену костюм для езды. Буду через несколько минут, очень скоро.
– Не спеши. Я покурю на конюшне.
У Мэри больше не было времени на бесплодные и мучительные раздумья. Grandpère разрешил Филиппу показать ей плантацию, и теперь каждый день стал для нее источником новых ощущений и сведений.
Если она и грезила, то сама того не осознавала. Сахароварня находилась на дальнем конце плантации. Чтобы добраться до нее, Филипп и Мэри ехали по улице между хижин рабов и через поля тростника.
Филипп кивнул группе темнокожих стариков и старух, которые сидели в креслах-качалках в тени большого, поросшего мхом дуба прямо посреди улицы.
– А эти проклятые аболиционисты еще утверждают, что черные заживут полной жизнью, получив свободу, – сказал он Мэри. Голос его напоминал ворчание злой собаки. – Эти рабы многие годы пальцем не шевельнули, но их все равно кормят, лечат, одевают. На свободе они просто умерли бы с голоду.
Мэри промолчала, хотя это и стоило ей больших усилий.
А потом она увидела тростник и уже ничего не могла бы сказать, даже если бы захотела. Сначала он вырос перед ними зеленой стеной. Когда они подъехали поближе, она посмотрела поверх этой стены. Казалось, стена эта простирается до бесконечности – справа, слева, спереди. Это производило ошеломляющее впечатление.
– Вот сюда, – сказал Филипп. – Держи уздечку покрепче. Лошади терпеть не могут тростник, следи, чтобы твоя не понесла. – Он направился вперед, к узкой тропке между высокой негнущейся зеленой порослью.
Едва они проехали несколько ярдов, как Мэри сама чуть не взбрыкнула от страха. От их движения тростник громко зашуршал. Они были окружены тростником со всех сторон, его стебли доставали им до плеч. С листьев взмывали насекомые, обеспокоенные их вторжением, и Мэри от страха чуть не падала в обморок всякий раз, когда они касались ее лица и шеи. Она с силой выдыхала через нос, стараясь отогнать их. Копыта лошадей вязли во влажной почве и издавали хлюпающие звуки. Это напомнило перепуганной Мэри зыбучие пески. Над головой, в безоблачном небе, палило солнце. Тростник, казалось, улавливал жар, удерживал его, наполнял влагой, взятой от земли, превращая ее в липкий невидимый пар; он обволакивал Мэри этим жаром. Филипп крикнул через плечо:
– Разве не прекрасно?
– О да, – ответила Мэри.
Потом она поняла, что это и в самом деле прекрасно.
Растительность была густая, мощная, обильная. Она воплощала собой жизненную силу, саму жизнь. Это придало Мэри сил. Она почувствовала себя частью окружающего. Отогнав насекомых, она утерла мокрое лицо рукавом жакета.
– Прекрасно! – крикнула она и засмеялась от радости – радости, что она молода, жива, что находится в Луизиане.
Сахароварня ее разочаровала. После той жизненной силы, которую она ощутила в тростниковых полях, здесь казалось душно и безжизненно. Это было большое кирпичное здание, стоящее посередине большого неровного квадрата вытоптанной земли, скользкой после прошедшего дождя.
Мэри оглядела большое пустое пространство хранилища с кирпичным полом и передернулась.
– Здесь безжизненно, – сказала она. – Я лучше выйду.
– Безжизненно? Да ты с ума сошла, – сказал Филипп. – Здесь самое сердце плантации. Взгляни-ка сюда. – Сжав ее запястье, он втащил девушку в смежное помещение. – Посмотри на эти котлы. Осенью они будут полны тростникового сока. Сок будет кипеть, и воздух вокруг сделается горячим и сладким. Закрутится пресс, выжимая сок из тростника. Вот в этом углу люди будут ссыпать стебли, а другие будут перетаскивать их на противоположную сторону и закладывать в пресс. Давить и варить, днем и ночью, сначала один котел, потом еще и еще, пока сок не загустеет настолько, что при остывании будет выпадать кристаллами. Тонны тростника и тысячи галлонов сиропа. Сахароварня превратится в настоящий улей, люди будут работать до изнеможения и при этом петь и танцевать. А ты говоришь – безжизненно!
– Извини, – кротко отозвалась Мэри. Она посмотрела на огромные котлы, в каждом из которых могло поместиться четыре человека, и на огромные цилиндры, которые, вращаясь впритирку друг к другу, давили тростник. – Здесь все слишком большое, Филипп. Я не могу представить себе людей на фоне всего этого. Тут все под стать великанам.
– Я тебя прощаю. Тебе следует прийти сюда снова, когда здесь будут люди и тростник. Тогда сама убедишься. С этим ничто не может сравниться. А когда работы кончаются, празднуют так, что весь дом качается. Хозяева и рабы, их жены и дети. Будет настоящий пир – музыка, танцы, крики. На это стоит посмотреть.
– Мне бы очень хотелось посмотреть. А когда это будет?
– На каждой плантации по-разному. Это зависит от урожая, от того, насколько быстро работает техника. Мы все начинаем убирать тростник в октябре. Дядя Бернар обычно кончает варку сахара к Рождеству. Grandpère, по-моему, ориентируется на середину января.
– Неужели на это нужно так много времени?
– Мэри, ты же видела поля. Тростника очень много. Его надо срезать, на телегах привезти в сахароварню. А потом обработать. На все это нужно время, даже если все пойдет без сюрпризов, а их обычно хватает. Это совершенно сумасшедшая пора. Я ее обожаю. И тебе это тоже понравится, если только Grandpère разрешит тебе понаблюдать.
Мэри кивнула и улыбнулась. Про себя она подумала: «Меня здесь к тому времени уже не будет. Я буду со своей семьей. Но, судя по его рассказам, это действительно очень интересно. Может быть, у моих родных тоже есть сахарная плантация. Мне бы этого очень хотелось; хотелось бы увидеть эту сумасшедшую пору».
– Ну, я осмотрел все, что хотел, – сказал Филипп. – Пойдем. Мне надо разыскать Grandpère в полях и обо всем ему доложить. А ты поезжай прямо домой.
– А мне нельзя с тобой?
– Нет. Если хочешь, можешь поехать со мной днем. Мне надо заглянуть к бочару, заказать новые бочки и бочонки. Тебе это будет скучно.
– Нисколько, клянусь.
И ей не было скучно. Ни у бочара, ни на кузнице, ни в столярке, куда они ездили на следующий день, ни у колесника, ни у дубильщика, ни в гвоздильне, ни на мельнице, ни у печей для сушки кирпича – все это они посетили в последующие дни.
Впервые она почувствовала, что начинает понимать Grandpère. Если бы она была владычицей этого волшебного царства, она бы тоже никогда и никому не отдала его.
Потом, совершенно внезапно, все это кончилось. Радость открытий и узнавания нового, верховые поездки с Филиппом, разговоры, смех, рассказы Филиппа о тех изменениях и улучшениях, которые он намерен совершить, когда станет владельцем Монфлери.
Они с Филиппом выходили из конюшни, а Grandpère в этот момент угощался пуншем на галерее.
– Кристоф! – крикнул он. – Подай кофе. Садитесь, вы оба. Час назад привезли почту. Тебе, Мэри, письмо от Жанны. В нем она сообщит тебе, что возвращается завтра. Я получил письмо от ее отца. Он везет Берту и Жанну из Батон-Ружа. – Он погрозил пальцем Филиппу: – А что до тебя, милый мой юноша, то тебе лучше поскорее оседлать коня. Пока ты тут занимался учетом моей собственности, приезжал Сен-Бревэн и искал тебя. В его поместье прибыли ирландцы. Поспеши туда, пока они все не перепились и еще могут держать лопату в руках.
– Ура! – закричал Филипп. Он рванулся вниз по лестнице и убежал.
Мэри почти не заметила его ухода. В одно мгновение она забыла счастливые часы, проведенные в его обществе, стоило Grandpère произнести фамилию Сен-Бревэн. «Он был здесь, – воскликнула про себя Мэри, – а я с ним не встретилась! На этот раз я бы заговорила с ним, поблагодарила его за спасение от злодея, избившего меня. Я смогла бы, наверняка смогла. Я бы исполняла роль хозяйки дома, точно так же, как тогда, когда приезжали родственники Куртенэ. Налила бы ему кофе и предложила пирожных. А потом сказала бы: извините, месье, но должна вам заметить, что мы встречались ранее. Вы были моим рыцарем… Нет, не то… Вы…»
– Мэри, – сказал Grandpère, – ты возьмешь письмо или нет? Я не намерен целую вечность стоять, протягивая его тебе.
– Мэй-Ри, я так рада тебя видеть! – Сбежав по сходням, Жанна обвила руками шею Мэри. Она поцеловала ее в обе щеки, и еще раз, и еще. – Ты получила мое письмо? Извини, что оно было таким коротким. Я хотела написать тебе письмо на много-много страниц, рассказать обо всех потрясающих новостях, но тут явился один из кузенов и утащил меня на вечеринку. Батон-Руж – это как сон, Мэри. Там все время веселятся, и я имела большой успех. Тетя Матильда говорила, что, когда я уеду, вся земля будет покрыта разбитыми сердцами… Пойдем скорее в дом и посекретничаем. Ты по мне сильно скучала? Тебе было ужасно одиноко? Тебя трясло от страха, когда Grandpère рычал? Ты безумно влюбилась в Филиппа? А он в тебя? Почему ты молчишь, Мэй-Ри? Ты меня больше не любишь? Ты смеешься надо мной? Это нехорошо.
– Ты же не дала мне и слова вставить, Жанна. Батон-Руж тебя совсем не изменил. Ты только еще больше похорошела.
– Ты действительно так думаешь? И я тоже. Уверена, что это потому, что в обществе я расцветаю. Я не рождена жить в деревне, среди скучных стариков… Grandpère! Как я по тебе соскучилась! Я так рада, что я снова дома.
Получив от деда галантный поцелуй, она поманила за собой Мэри и стрелой помчалась наверх, в свою комнату.
– А-ах, помоги мне вылезти из этого ужасного дорожного костюма, Мэй-Ри. Он такой практичный. Я его презираю. – Ее голос на мгновение пропал за складками темно-синего платья, но Жанна говорила не переставая. Мэри никогда не видела ее такой радостной и возбужденной. – Это все равно как если бы мечта сбылась, Мэй-Ри, и все благодаря тебе. Представляешь, папа приехал в Батон-Руж в ярости. Мама послала ему ужасное письмо, в котором писала, что навсегда останется жить у сестры, поскольку папа опозорил ее, позволив своей любовнице явиться в Монфлери. Он собирался притащить маму домой за волосы, и я этому вполне верю… У них была такая ссора! Мне даже не надо было подслушивать, они орали так громко, что слышно было во всем доме. Я узнала столько интересного! Когда мама увезла меня из Нового Орлеана из-за лихорадки, она сказала папе, что больше не станет рожать ему детей, ибо не в силах видеть, как они умирают. А он ответил, что ему это безразлично, ведь Амаринта – так зовут его любовницу – нарожает ему сколько угодно детей, и что она любит его больше, чем любила и может любить мама. Они все ругались, били фарфоровые украшения в лучшей гостиной тети Матильды. Шуму от них было, как от парового гудка. Так было увлекательно! Папа сказал, что она его никогда не любила, что он ей просто был нужен, чтобы завести детей. А мама сказала, что это неправда, что она любит его больше жизни и все годы на плантации были для нее адом, она так и сказала – адом, Мэй-Ри, потому что он почти никогда не приезжал, а сам проводил время с этой женщиной.
Тогда папа закричал еще громче: «Чего же еще ты хочешь, если твоя дверь всегда заперта?!» А мама заплакала. Она сказала, что запирает дверь только последние три года, потому что у нее начались «изменения». Мэй-Ри, что это за «изменения»? Ты знаешь? Нет? И я тоже не знаю. Надо будет выяснить… В общем, потом папа разорался так, что стекла задребезжали: «Ты всегда плачешь! Я не могу разговаривать с тобой, когда ты плачешь!» А мама рыдала как одержимая. «Я написала тебе письмо, – сказала она, – в нем говорилось, что я наконец поняла свои ошибки. Я просила тебя разрешить мне вернуться в город, чтобы мы снова жили как муж и жена».
Папа закричал: «Что-о?!», а мама заплакала еще сильней и сказала, что всю ночь не смыкала глаз, когда писала письмо, но, не успев закончить, узнала, что любовница папы уже едет в Монфлери. И тогда она сожгла письмо, а пепел втоптала в каминный коврик. Тогда папа снова сказал: «Что? Что было в том письме?» А мама сказала, что уже сказала. Тогда он тоже принялся рыдать – в точности как мама. Много раз они говорили друг другу «милый», «любимая», целовались, но больше уже не кричали, так что я не все смогла услышать. Но главное я расслышала – папа пообещал высечь Амаринту кнутом и оставить ее навсегда. И еще я услышала, как они говорили о тебе, Мэй-Ри. Мама сказала, что, когда узнала, что у тебя желтая лихорадка, поняла, что не права, пряча меня от болезни, поскольку что на роду написано, то и будет. И поэтому, видишь, Мэй-Ри, папа и мама снова вместе – и это из-за тебя. Когда они вернутся, ты сама все увидишь. Они все время держатся за руки и друг на друга не надышатся. Надо же, такие старички! Очень трогательно.
А теперь мы поедем в Новый Орлеан на День всех святых. Меня введут в свет; мама пишет в Париж, заказывает мне там платье. Если в Батон-Руже было так замечательно, то представляешь себе, что будет в Новом Орлеане! Я самая счастливая девушка на свете, и все благодаря тебе, Мэй-Ри. Ты мой личный ангел-хранитель!
Глава 16
К удивлению Мэри, сентябрь оказался еще жарче августа. Вся жизнь замедлилась. Птицы пели лишь время от времени, словно пение отнимало у них слишком много сил. Животные и люди двигались лениво, и настроение у них было раздраженное. Даже у могучей реки был такой вид, будто ее течение подчинилось всеобщему оцепенению.
По контрасту грозы были чаще и сильнее, чем летом. Облака собирались в блеклом голубом небе с немыслимой быстротой. Потом они темнели, поблескивая внутренними вспышками, и изливались бурными потоками воды и шквалами молний и грома.
Облегчение от жары бывало недолгим. Грозы заканчивались так же резко, как и начинались, оставляя насыщенный влагой воздух, который тут же прогревался солнцем.
Даже Мэри пришлось отступить перед натиском климата. Ее французский начал подергиваться плесенью, и она не предпринимала попыток продолжить занятия с Жанной. Она обнаружила, что любое движение требует невероятных усилий воли – даже просто поднять руку. Ей все время хотелось плакать, и она уверилась в том, что лето никогда не кончится и каждый следующий месяц будет еще томительнее предыдущего. Жанна поднимала ее на смех, дразнила и издевалась.
– Не будь ты такой американкой, – говорила она. – Не обращай на жару внимания, и она перестанет тебя мучить.
Мэри старалась. Однажды она даже заставила себя прокатиться вместе с Жанной к береговому валу.
Но это было лишь один-единственный раз. Вид рабочих-ирландцев подействовал на нее слишком угнетающе. Там были мужчины всех возрастов; их голые спины были красны от солнечных ожогов, а лица под завязанными узелком платками, предохранявшими головы от зноя, выражали угрюмую решительность. Они на мгновение оставили работу, пропуская молодых женщин и грума. Мэри слышала тяжелое дыхание рабочих в те несколько секунд отдыха, которые подарило им появление всадниц.
– Разве можно работать под таким солнцем, – сказала она. – Я не могу этого видеть.
Однако Жанну это совсем не волновало. Она продолжала прогулки каждый день. Она напомнила Мэри, что ремонт вала – идея Вальмона Сен-Бревэна.
– Когда-нибудь я его там обязательно встречу. Любовные увлечения были единственным интересом в жизни Жанны. Она бесконечно рассказывала о сердцах, покоренных ею в Батон-Руже, о кавалерах, которыми она будет окружена в Новом Орлеане. Ее поглощенность собой действовала Мэри на нервы, и без того подпорченные жарой.
Иногда Жанна говорила и о любовных увлечениях других, и это еще больше раздражало Мэри. Жанна решительно настроилась влюбить Мэри и Филиппа друг в друга. Она без умолку щебетала о том, как он красив, каким станет богатым и как боготворит Мэри. Наоборот, Филиппу она нахваливала подругу, щедро привирая. В результате тем спокойным отношениям, которые сложились между Мэри и Филиппом, пришел конец. Оба стали чувствовать скованность и неловкость в присутствии друг друга.
В середине сентября Филипп уехал назад, в Байо-Теш. По его словам, для работ на валу он был не нужен, а вот при уборке тростника у дяди Бернара его присутствие было совершенно необходимо.
Мэри была рада его отъезду. Но потом стала по нему скучать. Она винила во всем Жанну и становилась все более раздражительной. Сдерживаться было трудно и оттого, что все вокруг нее ссорились. Grandpère и Карлос, отец Жанны, каждый раз превращали еду за семейным столом в настоящие баталии. Старик метал громы и молнии, утверждая, что банкиры – паразиты, которые высасывают из плантаторов все прибыли. Карлос возражал ему, что мир не кончается на границах Монфлери, где все никак не может кончиться восемнадцатый век. А Берта безуспешно пыталась успокоить обоих.
Вскоре Карлос тоже уехал.
– С нетерпением жду встречи с вами в Новом Орлеане, – сказал он, поцеловал Мэри руку и назвал ее благодетельницей за то, что та сберегла для него дочь. Несмотря на ежедневные ссоры, Мэри было жаль расставаться с ним. Когда рядом не было Grandpère, Карлос мог быть весьма интересным собеседником. Это был красивый мужчина, который выглядел намного моложе своих пятидесяти четырех лет. У него были густые седеющие волосы, веселые карие глаза. Он был строен, прекрасно одет и обут – в некотором роде щеголь, с пышными кружевными манжетами на рукавах и сапфировыми кольцами на холеных пальцах с наманикюренными ногтями. Разговаривая, он любил жестикулировать, а рассказчик он был великолепный и знал это. После полудня он пил кофе с дамами на галерее. Его камни и кружева описывали изящные плавные дуги, когда он занимал дам пространными монологами. Карлос рассказывал о своей юности, о похождениях, в которых он неизменно верховодил над своими братьями, о почти катастрофических последствиях этих похождений и чудесных спасениях из безвыходных ситуаций. Он вспоминал сплетни из городской жизни, разумеется, те, что поприличней: о бойкой конкуренции среди учителей фехтования, о поединках прямо посреди улицы, которые мог лицезреть каждый и соответственно заключать пари; о гонках на пароходах, приводивших в ужас пассажиров и четвероногий груз; о двух братьях, которые на дуэли решали спор, кто из них лучший портной; о блистательных успехах труппы итальянских акробатов, которые были звездами театра, расположенного в американском секторе, пока не выяснилось, что они – те самые воришки, которые проникают в дома с крыш. Жанна и Мэри смеялись, а жена смотрела на него с обожанием. Она расплакалась, когда он направился на пакетбот, и плакала, пока судно не скрылось с глаз.
Потом она вытерла глаза, высморкалась и первой направилась к дому.
– Нам предстоит очень много сделать, если мы хотим переехать в город в следующем месяце, – сказала она. – Надо проверить, следует ли проветрить сундуки, а все ковры надо снять с чердака и хорошенько выколотить, прежде чем снова расстилать. Швейню надо подготовить для портнихи к следующей неделе, еще мне надо найти жемчуг и отдать его на перетяжку. Потом еще надо не забыть…
– Мама в своем репертуаре, – шепнула Жанна Мэри.
Энергичные приготовления Берты к переезду ускорили перемены во всем домашнем укладе. С приближением октября Grandpère уже до рассвета отправлялся в поля, проверяя, созрел ли тростник, все ли готово к наступающей уборочной. Он возвращался к завтраку в приподнятом настроении, объявляя, что урожай будет невиданный. Каждый лишний день под солнцем прибавляет тростнику сладости. Казалось, такое же воздействие погода оказывает и на самого старика.
Впрочем, на остальных тоже. Мэри определенно чувствовала, что жара стала уже не такой гнетущей, хотя термометр никакого снижения не показывал. Как и у Берты с Жанной, все ее мысли были заняты мечтами о Новом Орлеане.
Берта представляла себе огромное количество работы, связанной с полным косметическим ремонтом большого городского дома, и губы ее радостно растягивались от предвкушения.
Жанна видела себя в центре кружка красивых мужчин, каждый из которых молил ее вписать его имя в ее карточку для танцев, и она постоянно напевала мелодию веселого вальса.
А воображение Мэри рисовало десятки вариаций собственной встречи с семьей и тот прием, который ей окажут любящие родственники.
Второго октября прошла гроза и ветер был свежей обычного. Когда гроза закончилась, небо стало более синим, а ровный прохладный ветерок заставлял танцевать листья буганвилеи.
Мэри и самой хотелось танцевать. Впервые за многие недели она осмелилась поверить, что и впрямь настанет осень и семья ее действительно найдется.
А потом ей пришло в голову, что Куртенэ отнеслись к ней по-родственному, а она даже не поблагодарила их. «Ты грубая, неблагодарная эгоистка, Мэри Макалистер, – сказала она себе. – Немедленно исправься!»
«Обязательно, – ответила она себе. – Я буду совсем другой». На свежем, прохладном воздухе все казалось возможным.
Она поблагодарила Берту за ее безграничную доброту, попросила извинения у Жанны за то, что была такой хмурой. Она полностью включилась в то, что увлекло их больше всего на свете: предстоящий светский дебют Жанны.
Для Мэри это не было мучительным. Она не сомневалась, что, как только найдет свою семью, у нее тоже будет первый выход в свет. И неважно, что все платья, жемчуга, все внимание предназначалось для одной Жанны. Придет и ее черед. А до той поры она могла часами слушать рассказы Берты о том, что предстоит дочери.
– Мы возьмем тебя в оперу. Там будет весь Новый Орлеан. У нас все ходят в оперу. Мы, разумеется, возьмем ложу, и в заднем углу будет стоять слуга в бриджах, рядом со столиком с шампанским и вафлями. Мы приедем задолго до подъема занавеса. Займем места в ложе. Ты с папой сядешь спереди и будешь видна всему залу – такая красивая в своем белом парижском платье, рядом с отцом в вечернем костюме, тоже нарядным. Так представляют молодых дам в лучших домах Франции.
В антрактах мы будем принимать в своей ложе посетителей. Друзья и члены семьи, которые бывают приняты в доме, знают, что им не следует приходить, по крайней мере, до пятого или шестого антракта. Потому что сначала пойдут поклонники – с первой же секунды первого антракта.
Твой папа будет встречать каждого у дверей ложи и предлагать бокал шампанского. Потом он представит его мне… потом тебе. – Берта улыбнулась собственным воспоминаниям. – Там всегда царит такое оживление. Мужчины бегают из ложи в ложу, каждый заглядывает посмотреть, кто кому нанес визит, насколько он там задержался, сколько кавалеров посетили каждую девушку. Ты, дорогая, будешь там как пламя свечи для мотыльков. Красавица из благородной семьи, которую раньше никогда не видели в городе. Мы представим тебя на открытии сезона в опере. Нет никакой надобности дожидаться вечера, когда все прочие девушки уже сделают свой дебют. Открытие сезона – вот время для девушек, которые хотят прослыть первыми красавицами. И ты несомненно будешь победительницей.
После одного из наиболее восторженных воспоминаний Берты об опере Жанна встала с постели около полуночи и на цыпочках направилась к спальне матери. Осторожно открыв дверь, она вошла, прижимая палец к губам и призывая мать к молчанию. Она аккуратно прикрыла дверь и, подбежав к постели матери, забралась в нее и принялась крепко обнимать Берту.
– Я так счастлива, мамочка!
– Я тоже, деточка моя.
– Только… если бы не две вещи.
– Расскажи маме.
– Моего платья еще нет, а до оперы осталось всего три недели.
Берта погладила пальцами мягкую щеку Жанны:
– Три недели – это очень долго, мой ангел. Платье прибудет. Не беспокойся. Я тебе обещаю. А второе?
– Это Мэй-Ри. Она может пойти с нами в оперу?
– О-о. Я как-то не подумала.
– Она думает, что идет с нами, мама. Я не знаю, что сказать ей.
– В таком случае придется взять ее. Она славная девушка. Приятно будет доставить ей удовольствие. Просто мы не возьмем горничную. И Мэри сможет сидеть сзади, на ее месте.
– Спасибо, мамочка. – Жанна поцеловала мать и слезла с высокой кровати. Дойдя до двери, она обернулась и снова подошла к Берте. – Мама, а что же станет с Мэй-Ри дальше?
– У меня сейчас нет времени думать об этом. Она может делать что-нибудь полезное по дому. Нужно будет писать приглашения, отвечать на них… всякое такое. Позже я позабочусь о том, чтобы найти ей место компаньонки или гувернантки, вроде как у нас. Она, умная девушка. И скоро поймет, что в городе живут по правилам, не так вольно, как здесь. Она научится знать свое место.
Глава 17
Наконец наступил долгожданный день. Это был прекрасный осенний день, с теплым солнцем и прохладным, бодрящим воздухом. Прекрасный день для поездки, даже в старомодном экипаже, который Берта предпочла пакетботу. Мэри и Жанна были слишком взбудоражены и не могли сидеть спокойно. С каждым прыжком экипажа они с ребяческим хихиканьем подскакивали на обитых пледом сиденьях. Устав от этой игры, они принялись петь. Сначала французские песни, которым Жанна научила Мэри, потом английские, которым Мэри научила Жанну. Когда песни кончились, экипаж уже въезжал на узкие улицы Нового Орлеана.
Невзирая на протесты Берты, девушки высунули головы из окошек. Мэри с одной стороны, а Жанна с другой. Они хотели рассмотреть все.
– Посмотри, ты только посмотри! – кричали они друг другу. Они восклицали по поводу домов – синих, белых, зеленых, розовых, – густых ароматов, доносившихся из гостеприимно открытой двери кофейни, женщин на углах, торгующих конфетами, пирожными, фруктами или кофе. Экипаж свернул на широкий проспект, разделенный посередине полосой деревьев. Теперь они любовались роскошными особняками из кирпича и камня, стоящими по обе стороны проспекта. Щелкнув кнутом, кучер развернул лошадей, и они въехали в полумрак сводчатой каменной арки в середине импозантного кирпичного дома.
– Вот мы и дома, – сказала Берта.
На полоске, разделяющей проспект посередине и похожей на парк, фигура в черном облачении устремилась в глубокую тень дерева прямо напротив дома Куртенэ. Селест Сазерак привалилась к толстому стволу, пока сердце в ее груди не перестало бешено колотиться. Вид экипажа, проехавшего под арку, удивил ее – Карлос редко принимал гостей, а сам никогда не пользовался экипажем. Увидев в окошке лицо Мэри Макалистер, она настолько поразилась, что ей стало плохо.
Как же такое могло произойти? Ведь предполагалось, что эта злосчастная девчонка останется на плантации навсегда, подальше от глаз людских. Что же теперь делать? Надо как-то защитить себя. Защитить гробик.
Она стояла, замерев как изваяние, на несколько минут погрузившись в раздумья. Потом быстро свернула за угол, прошла еще немного, снова свернула и пошла дальше по старым улицам. Этот путь привел ее в переулок, куда решались заходить очень немногие. Она быстро перекрестилась и ступила на сырой и зловонный узкий тротуар.
«Что же я, гусыня, так струсила? – подумала Мэри. – Бояться совершенно нечего. Все просто замечательно, о лучшем я и мечтать не могла».
От первого взгляда на городской дом Куртенэ ее обдало холодом – она вспомнила пережитый когда-то ужас. Сразу за арочным тоннелем начинался сад, и на мгновение она вернулась в Четвертое июля, день когда приехала в Новый Орлеан с мисс Розой.
– Пошли, Мэй-Ри, – позвала Жанна, и воспоминания Мэри улетучились.
Двор был ярко освещен солнцем, разноцветный, дружелюбный. Мэри вбежала в него и вскрикнула, пораженная красотой поросшего мхом, но действующего фонтана, огромных глиняных ваз, в которых стояли деревья, покрытые неимоверными розовыми цветами ибискуса, густыми папоротниками, росшими у основания розовых кирпичных стен.
Витая лестница со двора в бельэтаж находилась под крышей дома, но с одного бока была открыта ароматам сада, отделенная от благоуханного воздуха лишь ажурными чугунными перильцами по пояс высотой. Лестница как бы приветствовала Мэри и приглашала в самое сердце дома, с его высокими потолками и окнами, увенчанными свитками и плафонами из белого гипса, выделявшегося на фоне сверкающей позолоты. Все было свежим, просторным, прекрасным.
Был и балкон, подобный тому, на котором она когда-то видела красивое семейство. Там горничная подавала кофе, и теперь Мэри сама стала участницей той сцены, которая когда-то так взволновала ее. Она улыбнулась Жанне и Берте, улице внизу, проезжавшим каретам, проходящим людям, угольщику, предлагавшему свой товар с песней:
После кофе Берта велела Жанне надеть чепчик и мантилью. Она сказала, что им надо сходить на кладбище подготовить семейный склеп ко Дню всех святых.
Мэри почувствовала себя так, будто облако прикрыло солнце. Ведь это был и день радости; в такой день не должно быть никакой мысли о смерти, никаких разговоров о склепах. И все же она попросилась пойти с ними. Она хотела узнать о Новом Орлеане все.
И обнаружила, что в очередной раз сглупила.
Кладбище напоминало оживленную, веселую деревню. Мэри не верила своим глазам. Печали здесь не было и следа. Склепы напоминали маленькие домики, построенные вдоль улиц; улицы были полны людей, в большинстве своем женщин. Они переговаривались и смеялись, как на вечеринке.
– Ничего не понимаю, – сказала она Берте.
– У нас такой обычай – навещать ушедших близких в День всех святых, Мэри. В этот день мы приносим цветы, как дар, символизирующий вечную жизнь. Мы также дарим им труд рук своих. Перед праздником мы моем и красим склепы. Тогда наши цветы попадают в более красивое место. – Берта улыбнулась: – Это также дает тем, кого не было в городе все лето, возможность повидаться с друзьями и узнать свежие новости.
Женщина, выходящая из ворот, взглянула на Берту, потом еще раз.
– Глазам своим не верю! – воскликнула она. – Ты ли это, Берта? Почти год тебя не видела. Правда ли то, что все говорят? Вы возвращаетесь в город? Дорогая, обними меня. Я так рада! – Она поцеловала Берту в обе щеки, а потом сказала через плечо: – Элен, ты только посмотри, кто здесь! Это Берта Куртенэ. Она вернулась.
Берта обернулась к Мэри.
– Сейчас нас накроет волной, – сказала она. – Мэри, ты же понимаешь – только члены семьи моют склепы. Не хочешь ли вернуться домой с каретой?
– Спасибо, мадам. Я хотела бы остаться здесь и все рассмотреть. Я лучше поброжу, если можно.
– Конечно же. Когда начнет темнеть, встретимся здесь, у ворот. Нас будет ждать карета… Элен, какая же ты красавица! А как поживает твоя дорогая матушка? Она сегодня с тобой? А вот моя маленькая Жанна… Жанна, это мадам Депре, жена двоюродного брата твоего отца… Агата, здравствуй…
Жанна помахала Мэри рукой на прощанье. Потом она исчезла в группе дам.
Мэри прохаживалась, разглядывая могилы, лица, не забывая посмотреть на руки женщин, обтянутые перчатками. Женщины чистили склепы, пололи, красили. Возможно, она увидит руки, похожие на ее собственные. Может быть, ее бабушка – вон та женщина, в кружевном переднике поверх черного шелкового платья… Или вот та, которая, кажется, только что плакала. Или та седовласая дама, стоящая на четвереньках и напевающая что-то из Моцарта.
Несколько детей, играющих в пятнашки, выбежали из-за угла сияющего беломраморного склепа, похожего на греческий храм в миниатюре. Они столкнулись с Мэри, поспешно попросили прощения и побежали дальше. Она улыбнулась в ответ на их веселый смех при виде толстой чернокожей няньки, которая старалась догнать детей.
Она не имела представления, что находится всего в нескольких дюймах от склепа, где похоронен ее дед. На фронтоне над ионическими колоннами было вырезано «Сазерак». Этот склеп не нуждался в чистке. Селест убирала его еженедельно, словно День всех святых приходился на каждое воскресенье.
Мэри обратила внимание на фамилию и подумала о Селест. Наверное, она уже побывала здесь – все так чисто. Должно быть, она встретилась здесь с подругами, разговаривала с ними, как сейчас мадам Берта. «Может быть, она уже узнала, кто же я такая!»
Лицо Мэри озарилось сияющей улыбкой. Она продолжала идти по многолюдному старому кладбищу, и многие улыбались ей в ответ. Как редко можно видеть само воплощение счастья, и как это радует глаз!
Многое из того, что Мэри видела, гуляя по кладбищу, удивляло ее. На обратном пути она попросила Берту объяснить.
– Мадам Берта, почему кладбище разделено забором? Почему нет обычных могил и надгробий?
– Протестантские склепы отделены от католических. И еще есть участок специально для черных. Но все захоронены над землей. Подумай о реке, Мэри. Ее уровень иногда поднимается выше уровня Нового Орлеана. А вокруг повсюду болота. Если вырыть яму глубже двух футов, на дне тут же появится вода. Мне рассказывали, что в первые годы поселенцы действительно закапывали мертвых. И чтобы гробы не всплывали, приходилось класть туда камни. Склепы – единственное разумное решение.
– Они такие величественные. А как же бедняки?
– Используют печи. Разве ты не заметила стены вокруг кладбища? На самом деле это ячейки с маленькими могилами. Семьи могут покупать их или, если уж у них действительно нет денег, брать в аренду.
Мэри передернуло.
– А почему же печи, мадам? Неужели в них действительно сжигают покойников?
– Обычно нет. Их кладут, как в обычный склеп, а вход закладывают кирпичами. В конце года кости заталкивают в печь поглубже, а старый гроб сжигают. Появляется место для следующего. Конечно, если склеп арендован на год, а родственники не возобновляют аренду, сжигается все. Новые арендаторы не хотят хоронить покойника рядом с чужими останками. Но печами мы их называем не поэтому – вход в эти склепы по форме напоминает печную дверцу. Отсюда и название.
За все время Жанна впервые подала голос:
– По-моему, это ужасно – говорить о мертвецах, склепах, могилах. Мне ужасно не понравилось в этом жутком месте. Я никогда не хочу умирать. – И она принялась хныкать.
На сей раз Берта проявила к своей единственной дочери неожиданную суровость:
– Мы все умрем, Жанна. Таков путь, предначертанный Богом. Важно, чтобы живые не забывали о мертвых и что-то для них делали. Это искупает ошибки, сделанные нами, когда они были живы. Завтра мы закончим уборку. А послезавтра будем украшать склепы и молиться всем святым, чтобы вечность была раем всем тем, кого мы любили и потеряли. И ты сосредоточь все внимание на молитве о душах твоих братьев и сестер, а не дуйся, как сегодня, весь день.
– Но, мама, мое платье из Парижа так и не привезли! Как же я могу думать о чем-то другом?
– Можешь и будешь, и больше я ничего слушать не желаю. – Берта отвернулась от дочери. – Ты еще что-то хотела спросить, Мэри?
– На многих склепах высечено «Пал на поле чести» или «Погиб, защищая честь». Это были войны с индейцами, или жители Нового Орлеана воевали в Европе? Я знаю, что американская Революция не затронула Новый Орлеан, потому что он тогда принадлежал Франции.
Берта покачала головой и вздохнула:
– Мужчины не так разумны, как женщины, Мэри. Особенно креолы. Характер у них как порох. «Поле чести» – это место дуэли. Я знала молодых людей, которые могли бы жить да жить, а они теряли свои жизни в ссоре из-за случайно пролитого на рукав кофе. Я никогда не смогу этого понять.
Вмешалась Жанна; голос ее вновь обрел обычную живость.
– Филипп говорит, что Вальмон Сен-Бревэн – лучший фехтовальщик во всем Новом Орлеане. С тех пор как вернулся из Франции, он победил во множестве дуэлей. Филипп говорит, что все ходят смотреть на эти дуэли, это интереснее, чем скачки.
– Филиппу не следовало бы забивать тебе голову подобной чепухой… Слава Богу, вот мы и дома. Я собираюсь немного прилечь перед ужином. От запаха краски у меня всегда болит голова.
Мэри услышала в голосе Берты еле сдерживаемые слезы. У нее сжалось горло. Разве можно представить себе чувства, которые испытываешь, зная, что за камнем, который ты красишь, похоронены восемь твоих детей?
– Мадам Берта, – тихо сказала она, – я восхищаюсь дамами Нового Орлеана. У вас у всех есть слуги, но самую тяжелую работу для своей семьи вы делаете собственными руками.
Берта потрепала Мэри по коленке:
– Спасибо, милая. Теперь пойдем в дом. Карлос Куртенэ ожидал их в гостиной.
– Добро пожаловать домой, дражайшая моя Берта. Мэри увидела, что печаль тут же спала с плеч Берты, как сброшенный плащ. Ее голова и плечи поднялись, походка стала легкой и скользящей, когда она подошла поздороваться с мужем.
К Карлосу подбежала Жанна.
– Папа! – Она обвила руками его шею. Карлос пошатнулся.
– Какой избыток чувств, – сказал он и поцеловал ее в обе щеки. – Ты, наверное, догадалась, что я привез. Едва ли такая радость вызвана просто появлением усталого старого банкира.
– Ой, папа, оно наконец здесь? Где? Где мое платье? Я должна его видеть, немедленно! – Жанна подбежала к матери: – Мама, я плохо себя вела, я прошу прощения. Я буду хорошей-прехорошей. Завтра я буду молиться, пока колени не сотру. Мама, можно мне померить платье сейчас? Вот сию минуту?
Отказать ей не было никакой возможности.
Мэри еще никогда не видела парижского платья. Она сразу поняла, почему Париж был Меккой дамской моды.
Платье создавало впечатление естественности, юности, невинности. Широкая юбка напоминала плывущее облако белой шелковой кисеи, невесомой, как паутинка. Под ней были нижние юбки, уложенные так хитро, что утяжеляли юбку, но ни миллиметра не прибавляли к узенькой талии. Подол каждой юбки был укреплен белым конским волосом для сохранения формы, и каждая юбка являлась самостоятельным произведением искусства. Самая верхняя была из кружева, тонкого, как паутина, с узором, изображавшим ландыши. Под ней блестел тонкий атлас, а из-под атласа водопадом ниспадали рюши широкого кринолина. Подол кринолина был окантован тем же кружевом, что и верхняя нижняя юбка.
Кружева были использованы и для рукавов, круглых, как шары, взбитых прекрасно продуманными складками тончайшей шелковой органди. Тесьма, обрамляющая и подчеркивающая глубокий круглый вырез, открывающий плечи, была также кружевная. Шелковый лиф покрывали аппликации из ландышей. Их листья образовывали диагональные линии, подчеркивающие тончайшую талию. Они сдержанно и изысканно сверкали жемчужинами, которыми были выложены сами цветы.
К платью прилагались белые шелковые чулки, стрелочки которых были расшиты крошечными листиками, и шелковые туфельки с кружевными оборками на подъеме, удерживаемыми узенькими пряжками из скатного жемчуга.
В овальной коробочке, обшитой белой парчой, лежала заколка для волос в виде букетика ландышей, листики которого были сделаны из мельчайшего зеленого бисера, а цветы-жемчужинки, покачиваясь, свисали с серебряной проволочки.
Впервые в жизни Жанна оказалась не в состоянии произнести ни слова. Она смотрела на платье и его аксессуары с выражением благоговения. Потом она посмотрела на мать. В глазах ее стояли слезы.
Берта долго без слов обнимала дочь. Потом звонком вызвала Миранду и послала ее принести теплой воды, сказав при этом:
– Скажи Клементине, что она мне тоже нужна. И обе тщательно вымойте руки, прежде чем зайти. – Она улыбнулась Жанне: – И ты тоже, барышня. Ни к чему не притрагиваться, пока не умоешься.
Жанна пришла в себя. Она выхватила из коробки заколку и протанцевала с нею до зеркала.
– Мама, а парикмахер у меня будет, чтобы я была совсем красивая? – Она воткнула заколку в косу, уложенную на макушке.
– Конечно, будет, но заколку ты не наденешь. Может быть, белую ленточку, и только. Мы снимем цветы и поместим их в центр твоего букета из живых цветов.
Жанна сделала пируэт.
– Мэри, правда, это самое умопомрачительное платье за всю историю мира? Скажи, что ты умираешь от зависти. Ты можешь простить мне, что у меня есть такое платье? Если бы у тебя было такое платье, я бы этого никогда, никогда тебе не простила!
– Жанна, честное слово, я рада за тебя и ни капельки не завидую, хотя это несомненно самое прекрасное платье и ты в нем будешь самой прекрасной женщиной во всем Новом Орлеане.
Мэри говорила совершенно искренне. Она была уверена, что вот-вот найдет свою семью, и потому была так счастлива, что желала и Жанне, и всем остальным исполнения всех желаний.
– Я так чудесно, замечательно, великолепно счастлива! – Жанна вздохнула.
– Я хотела бы умереть и лежать в этом ужасном склепе. – Жанна всхлипнула. – Я так несчастна!
Платье пришлось ей не впору.
– Дорогая моя, – сказала Берта. – Это еще не конец света. Только взгляни, все сидит идеально, вот только в талии немного широковато. Мы распустим шнуровку у корсета и…
– И я буду выглядеть как корова! – взвыла Жанна.
– Можно взглянуть? – спросила Мэри. – Жанна, выпрямись и замри.
– Зачем? Жизнь моя загублена.
– Мне кажется, я смогла бы немного подобрать, только надо точно убедиться.
Берта вытерла глаза.
– Я тоже сразу об этом подумала, Мэри, но это бесполезно. В Новом Орлеане есть только одна женщина, которая смогла бы с этим справиться, – мадам Альфанд. Но сейчас она очень занята платьями, которые шьет сама.
Мэри ходила вокруг Жанны, внимательно приглядываясь.
– Я бы могла это сделать, – сказала она. – Монахини научили меня белошвейному делу.
– Ой, Мэй-Ри, ты лучшая подруга в мире! – Жанна ладонями вытерла мокрые глаза. – Мама, ну разве нам не повезло, что у нас есть Мэй-Ри, и как раз тогда, когда это так необходимо?
Берта не знала, что сказать. Ей не очень верилось, что Мэри способна справиться с такой тонкой работой, но она не хотела, чтобы Жанна впадала в отчаяние. Она медлила с ответом.
– Нам действительно повезло, – сказала она. Она дала наконец свое согласие, только потому, что мысли у нее были заняты другим. Она прикидывала, какая сумма может убедить мадам Альфанд.
На другое утро и Берта, и Жанна глазам своим не могли поверить. Платье было исправлено, причем исправления были совершенно незаметны, а вышивка ничем не отличалась от работы парижских мастериц. И все это Мэри сделала за ночь.
– Глазам своим не верю, – сказала Берта. – Ты даже искуснее мадам Альфанд, Мэри.
Жанна набросилась на Мэри с поцелуями и благодарностями.
Мэри улыбнулась, и тени под ее глазами почти исчезли. Но только не для материнского ока Берты. Она отправила Мэри спать.
Уже через несколько секунд та погрузилась в глубокий, здоровый сон. Когда во дворе начались крики и причитания, Мэри ничего не слышала.
Карлос выбежал на лестничную площадку.
– Что все это значит? – крикнул он. – Немедленно прекратите!
Слуги сбились в кучку. Некоторые стояли на коленях и громко молились, протянув к небу умоляющие руки.
– Феликс, подойди сюда сейчас же, – сказал Карлос. Он сам спустился на четыре ступеньки.
Феликс, его камердинер, спотыкаясь, подбежал к нему, не давая спуститься ниже.
– Стойте, миши[13] Карлос, не ходите туда. – Тихий голос Феликса дрожал. – Гри-гри, – сказал он.
Берта, вышедшая вслед за мужем на лестницу, прижала руку к сердцу и упала в обморок.
Гри-гри был вещественным знаком вудуистского проклятия.
Глава 18
Молодая женщина шла так, словно весь тротуар, или, как выражались в Новом Орлеане, банкета, принадлежал исключительно ей одной. Она не опускала глаза на неровные кирпичи мостовой; она держала голову высоко и гордо и глядела прямо перед собой. Ее гибкое тело легко лавировало в уличной сутолоке, не утрачивая при этом подчеркнутой кокетливости движений. Виляющие бедра и выставленная вперед грудь явно противоречили скромному покрою платья из голубого шамбре,[14] застегнутого спереди на все пуговицы, от шеи до самых лодыжек.
Лицо женщины поражало яркой красотой, а светло-коричневая кожа указывала, что в ее венах преобладала кровь белой расы. Высокие скулы и бронзовый отлив кожи говорили о том, что среди ее предков был по меньшей мере один индеец.
У нее были чувственные, полные, алые от природы губы и на удивление светлые, почти прозрачные глаза.
На ней были тяжелые золотые серьги в виде колец и ярко красный тиньон. Внимательный наблюдатель мог заметить, что тиньон сложен и завязан так, что образовывал семь углов.
А наблюдали за ней многие. Но смотрели на нее либо украдкой, бросая поспешные косые взгляды, либо только тогда, когда она проходила мимо и можно было, не таясь, любоваться ею.
Потому что это была Мари Лаво. И семь углов на ее платке были символом царской власти, внушающей страх. Она была царицей вуду.
Ее мать также звали Мари Лаво, и она была официальной царицей вуду, всеми признанной верховной жрицей древней религии, колдуньей, получившей свою силу непосредственно от Зомби, змеиного царя. И все же поговаривали, что могущество дочери еще сильнее материнского и когда тайные обряды в тайном месте ведет она, то присутствие бога ощущается сильнее и вселяет больший ужас в тех, кто становится свидетелем безумных, диких, похожих на оргии ритуалов, которые переносят верующих прямо в царство божье.
И поэтому, когда приближалась Мари Лаво, все уступали ей дорогу и лишь самые смелые смотрели на нее. Весь тротуар принадлежал только ей, и она решительно шла вдоль кварталов Рэмпарт-стрит.
Когда она свернула на Эспланада-авеню, ее походка не изменилась, но изменилось отношение к ней окружающих. Темнокожие по-прежнему уступали ей дорогу с почтением и страхом. Так же поступал и кое-кто из белых; одна женщина поспешно взяла ребенка за руку и перешла на противоположную сторону улицы. Но некоторые белые женщины смотрели на нее с любопытством, а двое белых мужчин – с одобрением и даже сладострастием.
Мари Лаво не обращала на них ни малейшего внимания. Она подошла к дому Куртенэ и позвонила в дверной колокольчик. Она улыбнулась Фэрмэну, дворецкому, когда тот распахнул перед ней дверь. У нее были красивые, ровные, очень белые зубы.
– Ваш хозяин просил меня прийти, – сказала она. Ее светлые глаза весело поблескивали.
– Разумеется, я не верю во всю эту богохульную чепуху насчет вуду и заклятий, – заявила Берта подругам, которые зашли к ней в гости. – Я была очень недовольна, когда Карлос сказал, что всерьез намерен пригласить эту женщину. Но по его словам, прислуга пребывала в таком состоянии, что нам, скорее всего, будут подавать остывший кофе и горелый хлеб до тех пор, пока мы не предпримем что-нибудь, чтобы успокоить их. Они все, знаете ли, такие суеверные!
– Берта, а что она делала?
– Что говорила?
– Как она выглядит?
Гостьи Берты жадно подались вперед, готовые внимать каждому слову хозяйки. В их чашках стыл кофе. Берта невесело засмеялась:
– Она подняла гри-гри. Никто из слуг близко к нему не подходил и нам не давал. А она преспокойно взяла его руками и положила в обычную сетку, которую принесла с собой. Потом вытащила пучок каких-то скрученных бумажек и стала ходить из комнаты в комнату, разворачивая бумажки и посыпая углы разноцветными порошками. Судя по всему, выметать их придется мне самой.
– А гри-гри – какой он?
– Да никакой. Просто черный шарик. Похоже, восковой. Всего в гостях у Берты было девять женщин. Все среднего возраста и типичной для креольской аристократии внешности. Три из них принялись рыться в своих ридикюлях в поисках флаконов с нюхательной солью. Остальные шесть дотронулись до распятий, которые носили на шее на цепочках.
Берта знала, что шарик из черного воска – один из сильнейших гри-гри. По непроверенным сведениям, в центре этого шарика находился кусочек человеческой плоти. Но было крайне важно делать вид, что ни один белый католик ни чуточки не верит языческим представлениям темнокожих. Так, собственно, все и поступали. Берта заговорила поспешно и со смехом, хотя и нервным:
– Нет худа без добра, – сказала она. – Не хочу и думать, сколько Карлос заплатил этой женщине, но я, по крайней мере, окуплю его расходы – я убедила ее сделать Жанне прическу перед походом в оперу. Даже в Монфлери я слышала, что она лучшая парикмахерша в городе.
– Ах, Берта, ну и умница же ты!
– Я старалась заполучить ее для своей Аннет, но она заявила, что очень занята.
– А вы слышали о новом сопрано в этом сезоне? Говорят, когда она выступала в Париже, ее вызывали на поклон не менее тридцати раз…
И разговор перешел в привычное русло сплетен и пересудов. Стоявшая за дверью Жанна потихоньку прикрыла щелочку, через которую она подслушивала разговор, и стремглав помчалась вверх, в комнату, которую делила с Мэри.
Она вошла на цыпочках. Мэри в этот момент одевалась.
– Чудесно! Я так рада, что ты проснулась, Мэй-Ри. Пока ты спала, тут было столько интересного. Я сгораю от нетерпения рассказать тебе все.
Глаза Жанны сверкали ярко, почти лихорадочно. Она рассказала о событиях, происшедших утром, – о том, как обнаружили гри-гри, о внезапном уходе отца, о прибытии Мари Лаво.
– У нее такая необычная красота, Мэй-Ри, я таких, как она, еще не видела. Что бы мама ни говорила, а я верю, что она вуду. У нее глаза совершенно бесцветные. Я просто убеждена, что она по своему желанию может делать их красными, или зелеными, или какими угодно. И она все знает. Она знает, как зовут меня, тебя, всю прислугу. Это настоящая магия! Но самое главное – она будет делать нам прически. Ручаюсь, что она втирает при этом какое-нибудь магическое масло или что-то вроде того. Я собираюсь попросить ее, чтобы мне она придумала какой-нибудь неотразимый запах, так, чтобы все мужчины в меня влюблялись. Мэй-Ри, ты ведь поговоришь с мамой ради меня, а? Отвлечешь ее разговором, пока я пошепчусь с Мари Лаво. Мэри возмутилась:
– Жанна, ты бы лучше помолилась перед алтарем сию же минуту. Это все сплошное богохульство – магия, демоны, гри-гри, вуду. Постыдилась бы!
– Фу, Мэй-Ри, не будь ты такой американкой. В вуду верят все, по крайней мере немножечко. Миранда мне такие истории рассказывала…
– Миранда просто бедная, невежественная рабыня.
– Она такая же католичка, как и мы с тобой. Просто она знает кое-что еще. Кроме того, пока ты спала, я себе пальцы до костей протерла. Мы с мамой несколько часов провели на кладбище. Мы едва успели приехать домой и переодеться, как стали являться мамины подруги… Знаешь, Мэй-Ри, в самом хорошем есть своя плохая сторона. Я так хочу быть представленной в свете, чтобы за мной можно было начать ухаживать. Но как только я буду введена в общество, мне придется ходить с визитами к этим старым дамам и принимать их вместе с мамой. Я, наверное, с ума сойду от тоски.
– Может быть, с ними будут приходить их сыновья?
– Об этом я и не подумала. Конечно же, будут. Они просто не смогут остаться дома – ведь у меня в волосах будет волшебное зелье.
– Жанна, завтра я помолюсь за тебя всем святым!
Сначала они сходили на кладбище, а потом к мессе. И все это пешком. Мэри была потрясена.
– Улицы словно превратились в реки цветов! – воскликнула она. Везде, по каждой улице люди шли, держа в руках огромные букеты белых хризантем. Выстраивались целые процессии. Все шли на старинные кладбища Нового Орлеана, к сияющим, чисто отмытым склепам. Потоки цветов сливались на каждом перекрестке, становились все шире и выплеснулись наконец на тротуары, ведущие к кладбищенским воротам, которые и сами являли собой море цветов – в ведерках, корзинках, в руках темнокожих женщин, выставивших их на продажу.
«Какое замечательное, волшебное место этот Новый Орлеан, – восторженно думала Мэри. – Это мой дом». Старательно украшенные склепы, красота нежных, сливочно-белых цветов на фоне белейшей твердой поверхности мрамора и штукатурки, преданность людей памяти об ушедших близких – сочетание всего этого стерло в ее душе шок, который она испытала, когда Берта Куртенэ так спокойно говорила о необходимости убрать старые кости, чтобы освободить место новым.
Собор Святого Людовика был переполнен людьми. Там было ярко, весело и в то же время благочестиво от музыки, зажженных свечей, ладана. Мэри с трудом могла сосредоточиться на молитве – у нее постоянно возникало искушение глянуть через плечо, удостовериться, что глаза ее не обманывают. Темнокожие – мужчины, женщины, дети – молились рядом с белыми. И не на хорах, не в задних рядах, но по всему собору. И никто не вел себя так, словно в этом было нечто необычное. За исключением самой Мэри. Она никак не могла удержаться и все время глазела по сторонам.
Конечно, так было угодно Богу, так и должно было быть. И здесь это было вполне естественно. Она вспоминала все, что ей говорили, что она слышала от монахинь, от аболиционистов, собиравшихся за столом ее отца, и ей захотелось, чтобы все они в это мгновение оказались в соборе. «Новый Орлеан совсем не такой, – хотела она сказать им. – Новый Орлеан – это рай на земле. Здесь нет несправедливости, а только красота и добро».
Все было неожиданностью, приятной неожиданностью. И одна неожиданность следовала за другой.
Когда месса закончилась, Мэри обнаружила, что ее ждут еще сюрпризы. Воздух вокруг собора был насыщен ароматами кофе и еще чего-то – Мэри не могла определить, чего именно, но от этого запаха у нее слюнки потекли. На широком тротуаре стояли негритянки и готовили на сияющих медных жаровнях, полных тлеющих углей. Кофе, пузырящееся молоко с пенкой. И еще то, что источало неповторимый запах.
– Calas, – пела женщина, готовящая это. – Belle calas… tout chaud… tout chaud… belles calas…[15]
Карлос Куртенэ тронул Мэри за плечо:
– Это рисовые пирожные. Очень вкусные. Мы все отведаем их.
И вновь Мэри заметила, что только ей одной казалось странным стоять и прилюдно есть сразу после мессы. По меньшей мере половина выходящих из собора людей тут же направлялась к женщинам с жаровнями.
Пока они ели и пили, образовывались и распадались группы, и образовывались вновь, уже другие. Берту приветствовала одна группа за другой – друзья были счастливы вновь видеть ее в городе.
Единственным человеком, не окруженным группой друзей, была женщина с ярко-рыжими волосами, которая шла очень быстро и на все приветствия отвечала лишь резким кивком. Она обошла толпу стороной и направилась к кирпичному зданию без окон и без видимых дверей, находившемуся на другой стороне парка, разбитого напротив собора. Гул разговоров затих. Все смотрели на нее. Когда она исчезла в доме, гул возобновился, еще более оживленный, чем раньше.
– Папа, кто это был? – спросила Жанна.
– Это, дорогая моя, самая невероятная женщина во всем Новом Орлеане. Баронесса Понтальба.
Мэри и Жанна уставились на дверной проем, поглотивший рыжеволосую женщину. До этого они думали, что дворянские титулы существуют только в романах.
Карлос Куртенэ не стал рассказывать им о баронессе Понтальба. Он знал ее историю, как каждый житель французского квартала. Но Карлос не считал эту историю подходящей для ушей молодых, невинных девушек.
Глава 19
Баронесса, урожденная Микаэла Леонарда Альмонестер, родилась в ноябре 1795 года. Ее отцом был дон Андрес Альмонестер-и-Рохас, дворянин из Андалузии, который приехал в Новый Орлеан двадцатью пятью годами ранее в качестве чиновника правительства испанского короля, которому тогда принадлежали земли Луизианы. Приехав богатым, дон Андрес многократно увеличил размеры своего состояния в колонии.
Он был щедр и любил свою вторую родину. Когда в большом пожаре 1788 года сгорел собор, он оплатил восстановление и постройку рядом с собором нового здания, которое предназначалось для причта. По другую сторону собора город захотел построить здание для местного правительства. Альмонестер одолжил деньги на строительство и лично наблюдал за работами.
Он построил также часовню для монахинь-урсулинок, лепрозорий за пределами города и новую благотворительную больницу на месте старой, поврежденной ураганом.
За пятнадцать лет, плотно занятых увеличением собственного богатства и благоустройством города, у Альмонестера не было времени уделить внимание личной жизни. Вдруг он осознал, что ему уже шестьдесят, а семьи у него нет. И женился на дочери французского полковника. Десять лет спустя родилась дочь Микаэла, а еще через три года дон Андрес скончался.
Микаэла была богатейшей наследницей из всех когда-либо известных в Луизиане. И то, что выросла она упрямой и капризной, не играло никакой роли. Десятки семейств забрасывали удочки ее матери на предмет брака с одним из их отпрысков. Но у вдовы Альмонестера были более амбициозные планы. Она заключила для своей единственной дочери брачный договор с единственным сыном французского дворянина, который, подобно дону Андресу, служил в испанском правительстве Луизианы и преумножил там свои богатства перед возвращением во Францию. Мужа Микаэлы звали Жозеф Ксавье Селестэн де Понтальба, но известен он был как Тин-Тин. Родители души в нем не чаяли и совершенно избаловали его.
В 1811 году Тин-Тин с матерью приехали из Франции в Новый Орлеан на свадьбу. Ему было двадцать лет. Микаэла только что завершила обучение в школе монахинь-урсулинок. Ей было пятнадцать. Молодые никогда раньше не видели друг друга, но это было обычным делом. Брак объединил две семьи и два огромных состояния, а личности значения не имели.
Вояж во Францию стал их свадебным путешествием. Обе матери сопровождали их, и в Новом Орлеане думали, что никогда больше их не увидят. Правда, у обеих семей было много собственности в Новом Орлеане и плантации в окрестностях. Но отсутствующие владельцы были обычным явлением. Их имуществом распоряжались банкиры.
Прошло много лет, и лишь иногда из Франции доходили вести о супругах. Драмы Микаэлы и Тин-Тина давали Новому Орлеану пищу для радостных сплетен и домыслов. Говорили, что Микаэле не пришлась по вкусу жизнь в шато Понтальба. Замок расположен в сельской глубинке, слишком далеко от парижского веселья и праздника жизни. Легко было представить себе, какие баталии разыгрывались в стенах замка. Ведь Микаэла привыкла, чтобы все было так, как она желает, а темперамент у нее был типичным для рыжеволосых женщин.
Тем не менее, согласно сообщениям, она делала все, что полагается делать жене. У супругов было трое детей – все мальчики. Но, очевидно, материнство не очень смягчило ее натуру. Стало известно, что Тин-Тин оставил ее. Мужчины в Новом Орлеане твердили, что этого следовало ожидать, – Микаэла красавицей никогда не была, зато отличалась крутым нравом, в то время как Тин-Тин был на редкость хорош собой и без труда мог найти утешение в другом месте. Что же касается женщин, то они пришли к единодушному выводу, что мужчины эгоистичные и грубые звери. Мать Микаэлы уже много лет как умерла, оставив дочери громадное состояние Альмонестеров, и теперь Тин-Тин наверняка проматывает его, покупая смазливым и пустым мордашкам драгоценности и квартирки для любовных утех, в то время как мать его детей томится в сыром каменном замке.
Затем последовало примирение.
Но вскоре Тин-Тин вновь оставил ее.
Затем они снова воссоединились.
И внезапно в 1831 году Микаэла появилась в Новом Орлеане. Она оставила мужа. Поговаривали, что она хлопочет о разводе – какая наглость! Посетители валом валили в дом ее кузины, где она остановилась. Они обнаружили, что Микаэла, которой теперь было тридцать пять, еще более подурнела по сравнению с годами девичества. Но это уже не имело значения. Она была невероятно шикарна, а ее своеволие переросло в железную хватку. Она была эффектной женщиной, обладающей большими познаниями в политике, искусстве, литературе и бизнесе, которые служили основанием для ее резких суждений. Она очаровывала и внушала ужас.
Когда она завершила обзор своих владений в Новом Орлеане и отправилась в Гавану с кратким визитом, никто не сожалел. Ее энергия изматывала окружающих. Говорить о ней было куда увлекательней, нежели говорить с ней.
Много месяцев спустя она вернулась во Францию. Они с Тин-Тином получили официальное разрешение на раздельное проживание, и Микаэла наконец смогла поселиться в Париже. Ее приемы отличались роскошью, круг друзей был широк – так сообщали новоорлеанцы, посещавшие ее суаре,[16] приезжая в Париж во время заграничных турне. По их мнению, некоторые из ее друзей были отъявленной богемой, но Микаэла была явно счастлива своей новой жизнью. Казалось, все драмы остались позади.
Однако самое драматическое событие произошло позже. Незадолго до Рождества 1834 года ее кузина Виктуар Шальметт получила письмо столь скандального содержания, что трудно было этому поверить. Оно было написано одной из служанок Микаэлы, которая сама была в состоянии лишь продиктовать его, – она была прикована к постели, оправляясь после четырех пулевых ранений в грудь. В нее стрелял ее же свекор. Потом он сам застрелился.
Теперь Микаэла Альмонестер стала баронессой Понтальба – по смерти отца Тин-Тин унаследовал титул.
Она также стала самой знаменитой женщиной в Париже. От ран в груди она оправилась совершенно, но следы покушения бросались в глаза – на левой руке не хватало большого пальца, а средний был безобразно изувечен. Именно эту руку она протягивала к барону, умоляя не убивать ее.
Вскоре весь Новый Орлеан смог прочесть о ее попытках развестись с Тин-Тином. Дело было столь скандальным, что парижские газеты во всех подробностях освещали иск Микаэлы, встречный иск Тин-Тина и свидетельские показания на многочисленных слушаниях, которые заняли целых четыре года.
Газеты также подробно описывали знаменитый частный пансион, который она строила на рю Фобур-Сент-Оноре. Она подрядила самого модного архитектора Франции, и ее стремление к совершенству было настолько сильным, что она даже купила целый особняк, который затем был разрушен, с тем чтобы использовать некоторые из его стенных панелей для нового дома.
Наконец в 1834 году и дело о разводе, и строительство дома были закончены. Баронесса Понтальба исчезла со страниц парижских газет.
Библиотека на Ройал-стрит с сожалением сократила подписку до уровня тех лет, которые предшествовали едва не состоявшемуся убийству, – баронесса увеличила подписку более чем на шестьсот процентов.
Новый Орлеан вынужден был довольствоваться лишь эпизодическими сообщениями об увеселениях, устраиваемых в пансионе, от путешественников, возвращавшихся из Парижа. Выросло целое поколение, не ведавшее о яркой и грешной жизни Микаэлы Альмонестер де Понтальба. Затем, в 1846 году, ее имя вновь оказалось у всех на устах. Она прислала письмо в муниципальный совет. По ее словам, она намеревалась восстановить Пляс д'Арм в том величии, которого заслуживала эта площадь, будучи центром старого квартала.
Ее отец построил собор и прилегающие к нему здания. А она, Микаэла, намеревалась сделать остальные здания на площади столь же впечатляющими. Здания принадлежали ей, и она собиралась превратить ветхие лавочки, таверны и доходные дома в единый архитектурный ансамбль. И вернуть площади ее былую красоту. В общем, создать новоорлеанское подобие парижского Пале-Рояля.
Но только если город согласится освободить ее от налога на недвижимость сроком на двадцать лет.
Во французском квартале никто и помыслить не мог отказаться от предложения баронессы или ее условий. Презренные американцы с каждым годом строили дома все больше и внушительнее в районе за Кэнал-стрит. Ныне же французам открывалась возможность вновь утвердить за собой по праву принадлежащее им место высших носителей вкуса и доказать всем, что сердце Нового Орлеана и сейчас там, где оно было всегда – на Пляс д'Арм.
Совет ответил незамедлительно, предоставив баронессе все требуемые льготы. Французы с нетерпением ждали ее приезда. Старые истории воскресли из небытия, и все более, чем когда-либо, интересовались, какая же она на самом деле.
На протяжении двух лет любопытство лишь возрастало. А потом наконец явилась она сама – по-прежнему рыжеволосая, но теперь рыжина казалась неестественно яркой; по-прежнему неуемная, но ее стройное тело стало массивней, а движения медлительней; по-прежнему обворожительная и внушающая страх, модная, элегантная, высокомерная, своенравная. Она во всех отношениях превосходила все рассказываемые о ней легенды. Она одновременно притягивала и отталкивала и казалась способной на все. Теперь можно было поверить и тому слуху, который все отвергали на протяжении многих лет, – будто старый барон, по утверждению некоторых, вовсе не застрелился, а сама Микаэла, истекая кровью, с четырьмя зияющими в груди ранами, набросилась на него и, вырвав пистолет из его руки, дважды выстрелила ему в голову.
Карлос Куртенэ посмотрел на оживленное юное лицо дочери. Она еще такой ребенок и так невинна. Он возблагодарил Бога за это.
– Настоящая баронесса! – воскликнула Жанна. – Ты знаешь ее, папа? Смогу я с ней познакомиться?
Он улыбнулся и покачал головой:
– Не думаю, милая.
– Представь себе, Мэй-Ри, настоящая баронесса! Ах, как бы мне хотелось взглянуть на нее поближе! Как по-твоему, если у человека есть титул, он и выглядит не как все? Я думаю, папа поступил нехорошо, тут же отправив нас домой. Мы могли бы пройти мимо входа в ее дом. И я могла бы посмотреть на нее.
– Может быть, она будет в опере?
– Ну конечно же, будет! Какая ты умная, Мэй-Ри! Хотя я буду слишком нервничать и не смогу рассмотреть ее как следует. Будет множество кавалеров, правда же? А я буду самая красивая?
Мэри никогда раньше не слышала, чтобы Жанна сомневалась в своем успехе. Было удивительно, что Жанну посещают какие бы то ни было сомнения.
– У тебя будут толпы кавалеров, – сказала она. – Я в этом абсолютно уверена.
– Но как по-твоему, Мэй-Ри, будет среди них Вальмон Сен-Бревэн? Если он не заглянет в нашу ложу, до остальных мне нет никакого дела.
Мэри была застигнута врасплох. Она давно не слышала этого имени, не думала о Вальмоне. Ей казалось, что она совсем забыла о нем. Но когда она услышала его имя, произнесенное столь неожиданно, сердце ее заколотилось.
– Мэй-Ри! – Голос Жанны заставил ее отбросить эти предательские мысли. Она с трудом отвела мысленный взор от темных глаз и волос Вальмона, кольца на сильной красивой руке, ленивой улыбки…
– Месье Сен-Бревэн определенно придет, Жанна.
– Если он не придет, я умру. Знаю, я глупая, Мэй-Ри, у меня голова кружится от каждого мужчины, который заигрывает со мной. Но это все несерьезно. А Вальмон… это совсем другое дело. Я люблю его, на самом деле люблю. И всегда буду любить, до самой смерти. Ведь даже глупышка может любить. Ты действительно считаешь, что он там будет? И зайдет в нашу ложу? – В прекрасных глазах Жанны стояли слезы.
Мэри обняла ее:
– Твоя мать говорит, что в Новом Орлеане все приходят на открытие сезона. Он просто обязан быть там. А увидев тебя в этом парижском платье, первым примчится в ложу.
Жанна ответила сияющей улыбкой. Слезы ее моментально просохли.
– Ты права, – сказала она. – В этом платье я ужасно красива. Это ты мне его подогнала. Ты такая умная, Мэй-Ри, и лучшая подруга на свете! – Она спрыгнула с диванчика и подбежала к громадному гардеробу. – Но мы же не выбрали тебе платье, чтобы идти в оперу. Посмотри, какое тебе хочется. Твои недостаточно элегантны. Как насчет синего? Я его только раз надевала. На мне синее выглядит кошмарно, но с твоими волосами будет смотреться прекрасно… Разве не чудо, Мэй-Ри, что у нас будет настоящий парикмахер? Она сделает нам чудо-прически… А знаешь, когда на тебя через окно падает солнце, кажется, что у тебя рыжие волосы. Как у баронессы. – Жанна хихикнула. – Интересно, почему папа говорит, что мне нельзя с ней знакомиться? Как по-твоему, она очень-очень плохая? Если бы я была баронессой, я бы считала себя вправе быть какой угодно плохой. Это уж точно! Держу пари, она падшая женщина. И у нее есть любовник… Ну вот, опять я говорю как дурочка. Я думаю только о любви. А почему ты не такая, Мэй-Ри? Разве ты не хочешь влюбиться?
Мэри улыбнулась:
– А я уже влюблена. В Новый Орлеан.
«Это правда, – подумала она. – И этого достаточно. А думать о… о нем я не должна».
Вальмон Сен-Бревэн вошел в почти незаметную дверь большого кирпичного дома на Пляс д'Арм.
– Микаэла! – крикнул он. – Где ты, черт возьми? Вместо того чтобы угостить меня завтраком, ты инспектируешь свою чертову недвижимость. В Париже ты обращалась со мной куда лучше.
Глава 20
Баронесса Понтальба налила кофе в тончайшую фарфоровую чашечку и подала ее Вальмону.
– Графин у тебя под рукой, Вэл. Хочешь, налей себе для пищеварения.
– Спасибо, только кофе. Мне бы не хотелось перебивать вкус этого восхитительного суфле. Кухня у вас, дорогая баронесса, отменна, как всегда.
– Да, повар у меня неплохой. Мне пришлось заплатить целое состояние, чтобы вывезти его из Парижа. Но он того стоит. Я на дух не переношу креольской кухни.
– Признаюсь, мне она нравится. Мне, бывало, присылали специи во Францию, но так и не удалось найти никого, кто знал бы, как их употреблять.
Баронесса рассмеялась:
– Я помню. В первый свой визит ты привез мне пакетик с ними в подарок. Ты был так мило провинциален.
– Я был молод и тосковал по дому. А ты была ко мне очень добра, Микаэла. Но никогда не угощала меня гумбо. – Вэл улыбнулся, вспомнив свои первые недели в Париже. Тогда ему было тринадцать и он впервые оказался так далеко от родного дома – в университет его отправил дед, воспитывавший внука после взрыва на пароходе, унесшего жизни его родителей. Сын Микаэлы Альфред учился в той же группе; они вместе готовились к вступительным экзаменам. Альфред познакомил Вэла с матерью, потому что она тоже была из Нового Орлеана и совсем недавно возвратилась оттуда. Это было в 1832 году.
– В те дни, дорогой Вэл, ты бы выплюнул это кушанье. Ты быстро оставил свои провинциальные привычки.
– Каждый зеленый юнец должен побывать в Париже. Это идеальное место для достижения зрелости. Стремительного к тому же.
– Насколько я помню, ты времени даром не терял. Альфред тебе ужасно завидовал. На свои карманные деньги он не мог содержать танцовщицу.
– Сначала была актриса из «Комеди Франсэз». Своим банкирам я сказал, что изучаю творчество Мольера.
– Вот жулик!
Баронесса и Вэл обменялись ностальгическими улыбками. В те годы, когда Вэл взрослел в Париже, его дружба с Альфредом постепенно переросла в еще более тесную дружбу с его матерью. Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, Вэл не уступал баронессе в уме и искушенности. Ее родной сын так и не достиг этого высокого уровня.
Микаэла взяла у Вэла чашку и наполнила ее.
– Вчера я получила целую пачку писем. Похоже, скоро ты можешь начинать строить планы. Луи-Наполеон надежно прижал бунтовщиков. Таково мнение знающих людей. На следующий год мы сможем поехать домой, в Париж. Лично я считаю, что ему следовало бы перестрелять этот сброд, да на том и порешить. Никогда не прощу этим идиотам, что дали случиться революции в сорок восьмом. Мне пришлось бежать в Лондон с одной сменой платья.
– Но повара ты прихватить не забыла.
– Милый мой! Портниху-то всегда можно найти.
– Я бежал через Лиссабон и имел возможность взять с собой багаж. Мужского портного найти не так-то просто. По правде говоря, революция мне скорее пришлась по душе. Все эти крики, пальба, знамена на ветру. Мне это напомнило празднование Четвертого июля в Новом Орлеане. А также и то, что давно пора возвращаться. Я намерен остаться здесь, Микаэла.
Баронессу нелегко было удивить, но Вэл преуспел в этом. Она уставилась на него с раскрытым ртом. Потом она замотала головой, стараясь привести в порядок мысли.
– Но почему? – спросила она. – Ты же сам говорил мне, что тебе здесь мерзко.
– И да, и нет. Я ненавижу, когда меня ставят в дурацкое положение. Каждый взбалмошный мальчишка считает необходимым доказать, что он мужчина, вынудив меня драться с ним на дуэли из-за того, что у меня, видите ли, репутация лучшего дуэлянта. Это значит, что мне, чтобы оставаться лучшим, приходится постоянно тренироваться. Я не хочу быть убитым. И мне требуется все мое мастерство, чтобы не убить их и при этом не унизить. Это отнимает кучу времени и к тому же скучно. Нет настоящего риска… И еще много времени уходит на то, чтобы отделаться от красоток. Я не монах-отшельник. Я хочу бывать на балах, в опере, на званых обедах. Но черт побери, я слишком богат и во всех отношениях завидный жених. Вокруг меня грудами собираются томные девы, которые так и норовят быть скомпрометированными, чтобы вынудить меня жениться. Отцы и того хуже. Они так и не могут решить, чего больше хотят – чтобы я сделал их дочери предложение или дал им повод усмотреть в моем поведении что-то оскорбительное и вызвать меня на эту треклятую дуэль… Во всем городе не сыщется места, где я мог бы расслабиться и чувствовать себя уютно. Разве что в твоей гостиной, Микаэла.
– Так возвращайся в Париж, дурачок, – сказала баронесса. – Зачем же оставаться здесь?
Вэл вытянул перед собой длинные ноги и принялся пристально разглядывать носки своих ботинок, словно надеясь прочитать на них ответ.
– Здесь есть то, что мне нравится, – сказал он. Голос его был тих и задумчив, как будто он разговаривал сам с собой. – Дед мой умер вскоре после моего возвращения, и, неожиданно для самого себя, я оказался владельцем сахарной плантации, которая тридцать лет приходила в упадок. Это же невероятно интересно – устранять неполадки, управлять плантацией как надо. Боже мой, Микаэла, это все равно что быть королем. Я решаю, что делать и чего не делать. Мое слово – закон. Я могу экспериментировать с новыми идеями, новыми методами. Это величайшее сражение из всех, в которых я участвовал, потому что я борюсь с природой. Меня может победить град, пролом в плотине, ранние морозы. Всю жизнь я играл в азартные игры, но никогда – с таким непредсказуемым результатом. От этого у меня кровь быстрей бежит по жилам. Столы в Баден-Бадене никогда не возбуждали меня так… И кое-что еще… чего словами не передашь. Это связано со здешним образом жизни. Я имею в виду французский квартал. Американцы живут совсем иначе. Мне кажется, французы знают, как надо жить. Они каким-то образом ощущают ток жизни. Я не могу этого объяснить. Как будто у них есть общая тайна. Они знают нечто такое, что делает жизнь терпимой.
– Бедный мой Вальмон! Ты не находишь жизнь терпимой?
– Только не надо мне сочувствовать, Микаэла, умоляю тебя. Я же сказал тебе, что не могу этого объяснить. Я интуитивно чувствую во всем этом тайну, разгадку которой стоит искать.
– Очень захватывающе. Ты, без сомнения, сошел с ума. Вэл ухмыльнулся:
– Возможно. Но мне это нравится.
– Ну что ж, раз нравится… Ты и раньше, насколько мне известно, любил играть в сумасшедшего. Есть ли вести от баронессы Дюдеван?
Ухмылка Вэла сделалась еще шире.
– До чего же ты вредная, Микаэла. Знаешь ведь, что Аврора ненавидит, когда ее называют настоящим именем.
– Дорогой Вэл, откуда же мне знать, как ее называть. Мадам Санд, месье Санд. Женщина, которая носит брюки и курит сигары, называет себя Жорж и проповедует разврат… Нет, это невозможно.
Вэл смеялся.
– Это не проповеди, а романы, – сквозь смех сказал он, – и она защищает право женщины на независимость, Микаэла. Кому, как не тебе, согласиться с этим?
– Независимость – да, но можно быть независимой, соблюдая приличия.
– Аврора всего лишь ведет себя так, как позволено вести себя любому мужчине. Он же не делает секрета из своей любовницы – разве перед женой. Но поскольку Аврора не замужем, ей нет надобности прятать своих любовников.
– С тобой, Вэл, просто невозможно говорить серьезно. По-моему, ты все еще влюблен в нее. Революция пошла тебе на пользу, друг мой. Если бы ты остался с этой гермафродиткой, с тобой было бы кончено. Ты стал бы посмешищем. Она же вдвое старше тебя. Ваш роман был смехотворен.
– Мне был тридцать один год, а Авроре сорок четыре. Никто же не находит ничего смешного в том, что у мужчины есть женщина младше его на десять, а то и двадцать лет.
Баронесса вскинула руки.
– Мир, – сказала она. – Я не хочу ссориться с тобой. Ты мне слишком дорог. Мне не следовало упоминать ее имя. Я думала, что мы будем вместе улыбаться, а мы едва не вцепились друг другу в глотки. Сделаем вид, что ничего не было. Лучше расскажи мне о твоих последних амурах в Новом Орлеане. Тут, надеюсь, можно поулыбаться.
Вэл рассмеялся:
– Это даже забавней, чем ты думаешь, Микаэла. Все считают, что мы с тобой любовники. Ну что ты теперь скажешь о романе мужчины с женщиной старше себя?
Баронесса смеялась так, что на глазах ее выступили слезы.
– Видишь, как интересно. Стоит лишь чуть изменить угол зрения, и все воспринимается совершенно иначе. Я безмерно польщена. А тебе безразлично, что о тебе думают?
Вэл поцеловал ее искалеченную руку.
– Моя великолепная баронесса де Понтальба, – сказал он, – это для меня величайшая честь.
Микаэла легонько поцеловала его в губы.
– Шевалье, – сказала она, – преступно несправедливо, когда мужчина так очарователен и в придачу так красив.
Благодарю вас от всего своего вздорного сердца. Была бы я на двадцать лет моложе… Нет, принимая во внимание все обстоятельства, лучше на десять.
Улыбка ее была ехидной, светской и девчоночьей одновременно. И в это мгновение Вэл поверил в те легенды, которые слагали о ней в Париже, – о мужчинах, которые шли на самоубийство, писали стихи, поднимались на горные вершины – и все во имя любви к ней.
Потом она вновь превратилась в усталую, погрузневшую женщину средних лет с крашеными волосами и двойным подбородком.
– Как бы я ни боготворила тебя, Вальмон, я должна пожурить тебя. Ты знаешь, какая у тебя складывается репутация? Люди называют тебя денди, фатом и даже мотом. Мне безразлично, правда ли то, что говорят о твоей игре и походах по шлюхам. У тебя столько денег, что тебе их никогда не потратить, как бы ты ни старался. К тому же мужчина не может без женщин. Все это я понимаю. Жаль, что Америка столь буржуазна, включая даже Новый Орлеан. Здесь нет женщин, искусных в любовных играх и имеющих удобных, снисходительных мужей. И все же не стоит столь публично выставлять напоказ свои грешки… Ты говоришь, что серьезно относишься к своей плантации. Почему же ты таишь от мира эту сторону своей личности? Скрытность порождает разговоры. Одни говорят, что у тебя там целый гарем мулаток. Другие, и того хуже, утверждают, что ты получаешь извращенное наслаждение, подвергая своих рабов зверским поркам и пыткам… Я знаю тебя, Вэл, и не придаю никакого значения этим сплетням. Но люди в Новом Орлеане тебя не знают. Даже семьи твоей не знают. Тебя не было здесь всю взрослую жизнь, а за два года после приезда ты составил о себе неверную славу. Я говорю тебе все это, потому что люблю тебя. Оставь кружевные манжеты, парижские наряды и детские пари о том, через сколько минут начнется очередной ливень.
Пока Микаэла говорила, выражение лица Вэла менялось. Сначала черты его застыли, потом нахмурились. Теперь на лице его лежала сардоническая усмешка.
– Ай-яй-яй, баронесса, – произнес он. – Кто бы мог подумать, что именно ты начнешь поучать меня и призывать следовать общепринятому? Да я бы умер от тоски или, хуже того, обрек себя на жизнь, в которой каждая минута кажется неделей, до того она тосклива. Мне неинтересно, что именно говорят люди, лишь бы это говорили за моей спиной. В противном случае мне предстоит очередная опостылевшая дуэль.
Микаэла пожала плечами. Потом засмеялась:
– Я не могу на тебя сердиться, Вальмон. И больше не стану стараться исправить тебя. Продолжай в том же духе, самый очаровательный повеса в этой и любой другой стране. А теперь, к сожалению, я должна тебя покинуть. Мне надо писать письма. Но ты непременно оставайся, если только у тебя нет других дел. Скоро придут Альфред с Гастоном, они будут очень рады тебя видеть.
– Мне пора, Микаэла. На плантации варят сахар, и мне не хотелось бы отлучаться. Если бы мне не надо было украшать склепы с сонмом моих родственников, меня сегодня вообще не было бы в городе. Но я рад, что зашел. Побыть с тобой – это как эликсир бодрости… Я вернусь во вторник, через четыре дня, чтобы быть на премьере в опере. Ты с сыновьями разделишь со мной ложу?
Баронесса засмеялась глубоким грудным смехом:
– Боюсь, милый, это положит конец всем сплетням. Женщина, у которой бурный роман, не станет на встречу с любовником брать с собой сыновей. Я сама абонировала ложу. Мы должны очень холодно и официально раскланяться друг с другом и поспешно отвести глаза. Это подтвердит все подозрения. Я надену кучу драгоценностей и ярко, à la Parisienne,[17] накрашу лицо. Может быть, я позволю себе одну изобличающую жеманную улыбочку, как только увижу тебя… Я буду безмерно рада. А теперь иди. У меня дела.
Вэл вышел на середину широкой площади и, обернувшись, посмотрел на квартал Микаэлы. Она утверждала, что вкладывает в него деньги и время лишь потому, что ей надо чем-нибудь занять себя в этой ссылке, а также потому, что она рассчитывает получить приличный доход. Но Вэл полагал, что на то имелись более веские причины, в которых она не призналась бы даже доброму другу.
Строение было великолепно – ряд из шестнадцати примыкающих друг к другу кирпичных домиков, занимающий весь квартал. Повтор высоких окон, труб и дверей напоминал устойчивый ритм, который соблюдался на всех трех уровнях и подчеркивался чугунными колоннами, поддерживающими два литых чугунных балкона. Строение венчалось тремя равно отстоящими друг от друга фронтонами с расположенными по центру восьмиугольными окнами. Здание походило на претворенную в архитектуру музыку. Чугунные решетки задавали легкий контрапункт к крепкому кирпичу и граниту. Вальмон был уверен, что эти прекрасные чугунные узоры и есть тайная причина возвращения Микаэлы в Новый Орлеан и ее одержимости, стремления к совершенству во всем, что касалось застройки. В центре каждого сооружения была витая монограмма «АП». Альмонестер-Понтальба. Она повторялась вновь и вновь. Дань памяти отца, строителя более монументальной части площади. И победное состязание с ним. Когда будет закончено второе здание, след, оставленный Микаэлой Альмонестер в облике города, будет заметнее, чем след ее отца. Пусть она женщина, но ее свершения не менее велики, чем свершения мужчины, даже столь выдающегося, как ее отец.
«И неудивительно, – подумал Вэл, – что она так яростно порицала Жорж Санд. Склонность к мужской одежде и мужским повадкам превращает независимость женщины в клоунаду, над которой можно лишь смеяться. Тогда так Микаэла заплатила за свою независимость пулями в груди и искалеченной рукой».
И в то же время Вэл не забывал, что Аврора дала ему опыт, за который он ей будет вечно благодарен. Какая восхитительная женщина – и в постели, и вне ее. Она приводила его в ярость и воздействовала на его духовное формирование. И, как он опасался, отвратила от обыкновенных женщин. Уж слишком те готовы капитулировать, слишком стремятся во всем соглашаться с мнением мужчины, подчиниться ему. В них нет ни духа состязания, ни захватывающей игры, ни остроумия.
«Микаэла права, – печально подумал он. – Будь она на десять лет моложе, как радостно было бы убедить ее остаться в Новом Орлеане». Ему не хватало ощущения влюбленности или хотя бы игры во влюбленность.
Мимо него прошла молодая девушка в сопровождении темнокожей горничной, с грозным взором оберегающей свое сокровище. Темные глаза девушки встретились с взглядом Вэла, и она тут же робко опустила взор, глядя на тропку под своими хорошенькими ножками. У нее была белоснежная кожа и осиная талия. «Бог мой, до чего же хороши креолки! – подумал Вэл. – En garde, mon ami,[18] а то окажешься на коленях, прося руки, этой мягкой, беленькой ручки. Так что поосторожней».
Он энергично зашагал по направлению к молу и катеру, который доставит его на плантацию. Резкий ветер разбрасывал по пустынной площади сухие листья, и Вэл ссутулился под его порывами. Он остро и болезненно ощущал свое одиночество.
Глава 21
Четыре дня перед дебютом Жанны были самыми беспокойными на памяти Мэри и самой Жанны. Дни текли быстро, и ни одна минута не пропадала даром.
С первыми лучами солнца Миранда приносила кофе им в комнату. Они его выпивали, пока одевались. Потом они с Бертой и кухаркой шли на рынок купить продуктов на день.
Рынок размещался в длинном, крытом черепицей пассаже и являл собой бурное смешение звуков, запахов, цветов. Продавцы громко нахваливали достоинства своих товаров, привлекая внимание покупателей. Яркоперые птицы в клетках пронзительно кричали, и в их криках чудились волнение и страх. Связанные куры, гуси, утки, козы, телята добавляли к этому шуму свое кудахтание, шипение, крякание и блеяние. Со всех сторон оживленно торговались и спорили. Золотоискатели, направляющиеся в Калифорнию, изучали кирки и палатки, ворча от баснословных цен. Матросы стоящих в гавани пароходов громко переговаривались на десятках языков. Заунывные песни грузчиков доносились с противоположной стороны берегового вала, привнося в сумятицу звуков музыкальный фон.
Запах жареных кофейных зерен и свежего кофе пронизывал воздух, смешиваясь с пряным ароматом специй, длинных связок перца, чеснока, трав, лука. В свою очередь, аромат связанных пучками цветов и листьев невольно выделялся среди въедливых испарений горячего растительного масла, дыма от горящих углей и густого сладкого запаха булочек и пышек, присыпанных сахарной пудрой.
Большинство торговцев составляли негритянки и мулатки. Их накрахмаленные тиньоны были синими, красными, желтыми, зелеными, оранжевыми, лиловыми, с полосками и завитками всех мыслимых оттенков. Пирамиды лимонов, апельсинов, слив, а также инжир, ананасы, кокосы, гуавы и гранаты служили подтверждением, что в Новый Орлеан приходят торговые суда со всех концов света. Груды дичи сверкали переливающимися перьями, похожими на драгоценные камни. Разнообразнейшая рыба поблескивала чешуей в выложенных листьями корзинках. Прозрачным перламутром отливали горы креветок; в лоханках, наполненных водой, сновали и дрались яркие речные раки и крабы. Ящики, полные чего-то похожего на зазубренные камни, штабелями стояли возле стола, за которым трое улыбающихся негров размахивали ножами и вскрывали камни, выставляя на всеобщее обозрение восхитительных опаловых устриц.
У входов на рынок закутанные в одеяла индейцы сидели на корточках возле тыквенных бутылей с филе – толченым лавровым листом, незаменимой составной частью густого гумбо, которое ежедневно появлялось на столах креолов. Тут же какая-то женщина накладывала кипящее гумбо в глубокие тарелки для желающих перекусить. Соседствующие с рынком улицы были забиты тачками, корзинками и шестами, с которых свисала старая одежда, шляпы, швабры, зонтики, шали, башмаки, посуда, кухонная утварь, всевозможные стеклянные и прочие побрякушки.
Пока Мэри и Жанна вертели головами по сторонам, ошеломленные таким изобилием, Берта и ее кухарка выбирали нужное и складывали покупки в корзины, которые несли девушки. «Ланьяпп», – говорил каждый продавец, когда Берта платила за отобранный товар, и давал ей вместе со сдачей небольшой ланьяпп – придачу к покупке: цветок, кулечек с травами, конфету. Таков был новоорлеанский обычай. Берта каждый раз долго и старательно благодарила продавцов, а затем тащила девушек дальше. Она гоняла их целое утро, заставляя почти бежать за собой по Шартр-стрит, ныряла в одну лавочку за другой, внимательно разглядывая предлагаемые там сокровища, иногда выбирая особенно приглянувшийся отрез шелка или атласа, изделие из серебра или инкрустацию – что-то для гардероба Жанны, что-то для обновления убранства дома. Здесь ланьяппы были более экзотическими, заморскими. Магазины напоминали пещеру Аладдина, где водилось добро со всего света. Каждая страна вносила свой вклад в коммерцию портового города.
Послеполуденные часы не отличались такой суетой, но для Мэри они были не менее необычны и интересны. Она работала над платьем, которое дала ей Жанна, подгоняя его по своей фигуре и окантовывая квадратный вырез вышивкой с цветочным узором. За шитьем она сидела на балконе с ажурной решеткой, слушая исполненную бурного энтузиазма болтовню Жанны о походах по магазинам и о предстоящем великом событии – ее первом выходе в свет. Иногда голос Жанны заглушали уличные шумы, тогда она замолкала и вместе с Мэри слушала песни уличных торговцев.
С шеи торговца кукурузной мукой свисал медный рожок на красном шнурке. На каждом перекрестке торговец останавливался, подносил рожок к губам и дул в него, призывая ко всеобщему вниманию, и лишь затем призывно распевал: «Кукурузная мука – берите, свежая пока!»
Продавцу вафель музыкальным инструментом служил металлический треугольник. Он непрерывно стучал в него, аккомпанируя заунывной песне, состоящей из одного слова: «Ва-а-фли». В блестящей жестяной коробочке, притороченной к спине коробейника, лежали тоненькие сладкие вафли.
Человек, бьющий в тарелки, специализировался на пончиках и «хворосте». Птичий хор служил аккомпанементом торговцу, несшему на плечах шест, с которого свисали плетеные из тростника клетки с птицами. «Чистим трубы и камины», – пели трубочисты, размахивая метелками, перепачканными сажей. «Charbon de Paris», – тянул угольщик.
«Свечи»… «пряники»… «гумбо»… «раки»… «точить ножи-ножницы»… «пирожки»… «пралине»… «а вот творог, свежий творог»… «вода, вода, свежая, очищенная»… «картофельные пирожные, лучшие пирожные»… Они проходили один задругам под теплым, золотистым январским небом, мужчины и женщины – все тяжело нагруженные, все с улыбками, и все пели песни. Для Мэри каждая песня казалась песнью любви – любви к Новому Орлеану.
Иногда проезжал экипаж или слышались шага пешехода. В таких случаях Мэри поглядывала вниз, ожидая, что они остановятся внизу, у дверей. И нередко какая-нибудь дама действительно подходила к дому и стучала в дверь – она пришла навестить Берту. Тогда Мэри, затаив дыхание, ждала, что ее позовут и сообщат, что найдена ее семья. Наконец, когда дыхание уже невозможно было сдерживать, она расслаблялась и возвращалась в шитью и болтовне Жанны. Надо было еще немного подождать – сезон начнется с открытием оперы. Что ж, подождать так подождать. Она готова.
Ужин подавали во дворе, выставив на стол свечи под стеклянными колпаками. Камни, которыми был выложен двор, отдавали накопленное за день тепло и несколько смягчали свежий, холодный вечерний воздух. На заднем плане мелодично журчал фонтан. Карлос Куртенэ ворчал, что приходится ужинать так рано, но при этом улыбался. По-своему он был взволнован предстоящим дебютом Жанны не меньше, чем Берта. А ранний ужин объяснялся тем, что каждый вечер, в восьмом часу, Мари Лаво приходила убирать Жанне волосы.
– Мы попробуем разные прически, – заявила она Берте, – пока не найдем лучшую. И еще я напомажу ей волосы, чтобы лучше блестели.
Она не обходила вниманием и Берту с Мэри. Следуя ее указаниям, Берта велела сварить и охладить крепкий черный кофе. Царица вуду добавила к кофе какой-то темный порошок – «для прочности окраски, мадам»– и ополаскивала Берте голову до тех пор, пока ее седые пряди не слились с черными.
Мэри она сделала массаж, от которого у той во всем теле наступил блаженный покой. Мари Лаво окунула сильные, гибкие пальцы в баночку с густой зеленой мазью и втирала ее ей в голову до тех пор, пока мазь не впиталась. «От этого, зелль, волосы станут гуще и крепче, – тихо сказала она. – У вас мягкие волосы, как у младенца». Втирая мазь, она непрерывно что-то бормотала. Слова она выговаривала нечетко, к тому же Мэри не понимала языка.
Дни пролетали быстро, и вдруг настал вторник.
– Сегодня мы никуда не пойдем, – объявила Берта. – Жанне нужно отдохнуть. В опере она должна быть бодрой и без теней под глазами.
Мэри почувствовала облегчение. Ей было немного не по себе. Желудок бунтовал при одном упоминании о еде, и она чувствовала непонятную слабость – даже ходить было тяжело. «Должно быть, перевозбудилась», – подумала она и занялась последней незаконченной вышивкой на платье. Ей пришлось поднести платье к самим глазам – все, на что она смотрела, слегка расплывалось по краям.
Утопающая в ярком солнечном свете кухня дома на Сент-Энн-стрит благоухала специями. Огромный черный котел медленно кипел в большом очаге. От него исходили смешанные запахи нежного крабьего мяса, острой приправы и риса. За тщательно надраенным столом в самом дальнем углу Мари Лаво, напевая, толкла мраморным пестиком в мраморной ступе листья и ягоды. Она улыбалась.
Через пять дней молодая американка умрет. Снадобье действует быстрее, чем ожидалось. Улыбка Мари перешла в смех, когда она подумала о золотых монетах в тайнике под полом. Эта идиотка Сазерак заплатила в десять раз больше обычного. Мари назначила такую цену, чтобы наказать ее за то, что пошла к посреднику, а не обратилась к ней напрямую. И еще за высокомерие. Для Мари не было большего удовольствия, чем вынуждать сильных мира сего подчиняться ее высшим силам.
Убедить Куртенэ-мать нанять ее еще на неделю не составит никакого труда. Мари знала все про светские сезоны. Уже сейчас в дом на Эспланада-авеню наверняка доставлено не меньше дюжины приглашений на балы, ужины, музыкальные вечера. Дочь захочет побывать на каждом, а мать будет только рада дать дочери все, что та захочет. Крайне сомнительно, чтобы смерть подруги удержала Жанну от светских развлечений. Мари хорошо знала девиц этого типа.
Но у девчонки и вправду красивые волосы. Крепкие, мягкие, как шелк, приятные на ощупь – Мари держала их в руках. Возможно, ей предстоит укладывать их в течение всего сезона. А тем, что под волосами, нет никакой необходимости восторгаться – когда делаешь прическу.
Она не задумывалась, нравственно ли то, что она делает. Она была профессионалкой, умелой, знающей тайны растений и минералов и кое-что еще. Все это сотнями лет переходило от одной царицы вуду к ее преемнице. Люди платят за ее знания, и излечивает она куда больше народу, чем калечит. Ей было все равно. Ее тайны были источником ее могущества. А все прочее значения не имеет.
Она бережно соскребла порошок в банку со скисшим молоком и принялась мешать, пока не получилась похожая на крем масса. Закрыв банку, она тщательно вымыла ступку, пестик и ложку. Потом вымыла руки сильнодействующим мылом и жесткой щеткой, вытерла их чистейшим куском белой ткани и окунула в прозрачный раствор, который закрывает поры на коже, не давая яду попасть в кровь.
Была половина четвертого. Пора идти. Опера начинается в шесть, а дебютантка должна быть выставлена напоказ в своей ложе задолго до того, как в зале погасят свет.
Она уложит девчонке волосы не очень плотными колечками над ушами, на две стороны. Тогда полностью откроется красивая длинная шея. Мари положила в свою ситцевую сумку две пары щипцов, добавив флакон масла, пахнущего гардениями, – сойдет за приворотное зелье, которое так просила девчонка. Она в него поверит, и от этой веры оно сработает. По крайней мере настолько, насколько нужно. В последнюю очередь Мари положила в специальный отдельный карман банку со смертоносной мазью. Собрав волосы в пучок на макушке, она привычным движением повязала сверху ярко-красный тиньон. Пальцы ее уложили на платке семь углов; затем она вышла из дому и гордо зашагала к особняку Куртенэ. Она шла танцующей походкой. Открытие сезона в опере – это всегда так увлекательно. У нее, как и в другие годы, было зарезервировано место. Сегодня будут давать «Любовный напиток». Мари Лаво предпочитала Доницетти всем прочим композиторам.
Глава 22
В вечер открытия сезона вдоль Орлеан-стрит, где находился оперный театр, выстроилась цепочка экипажей длиной в целый квартал. Обычно люди ходили в оперу, как и в любое другое место, пешком. Во французском квартале все поблизости, а перемещаться по узким улочкам удобнее на ногах.
Но в день открытия сезона имелись особые причины воспользоваться экипажем. Дебютантки опасались запачкать белые платья на грязных, пыльных улицах; даже престарелые и больные не желали пропускать первое представление. Дамы надевали самые изысканные и дорогие украшения и очень нервничали – ведь в темных закоулках могли таиться воры. Зрители прибывали за сто миль со всей округи и, добираясь в оперу, затаившуюся на глухой улочке позади соборного сада, вынуждены были полагаться на наемных извозчиков. Американцы, которые любили оперу или мечтали об успехе в обществе, приезжали из предместья, где они обитали, преодолевая довольно большое расстояние до Старой площади.
Те же, кто шел, по обыкновению, пешком, качали головами при виде шумного хаоса, привычно перешагивая или обходя кучки конского навоза и поздравляя себя с тем, что уж они-то не пропустят увертюры.
В карете Куртенэ Жанна была близка к истерике. А Берта безуспешно пыталась скрыть свою нервозность.
– Папа, давай выйдем и пойдем пешком, – молила Жанна. – Ведь тут так близко, а мы совсем не продвигаемся. Если мы опоздаем, я этого не перенесу.
– Сиди спокойно, Жанна, – сказал отец. – Для твоего парадного выхода времени более чем достаточно. Берта, прекрати дергаться. Ведешь себя не лучше Жанны.
Жанна зарыдала.
– О chérie,[19] не плачь! – горестно возопила Берта. – У тебя будут полоски на щеках, и тогда все узнают, что я разрешила тебе припудриться. Подожди-ка, у меня где-то под рукой носовой платок.
– Возьмите мой, мадам, – сказала Мэри. – Держи, Жанна. Смотри, мы же едем! Так что не плачь, ты ведь не хочешь, чтобы у тебя покраснели глаза.
Разочек всхлипнув, Жанна перестала плакать.
– Смотри, мама, – сказала она. – Вот еще одну девушку вывозят в свет. Вон там, видишь, выходит из кареты перед нами. У нее букет в руках, и она вся в белом. Кто это?
– Жанна, не высовывайся так из окна. Веди себя как подобает леди. – Берта и сама украдкой выглянула. – Это Катрин Демулен. Господи Боже, я-то думала, что ее дебют был уже много лет назад. Ее отец, поди, просто не хотел раскошелиться. Такой скряга!
– Берта, – прорычал Карлос, – не забивай Жанне голову сплетнями. Она же может повторить на людях.
– Ей-Богу, Карлос, теперь она много такого услышит. У нас уже несколько десятков приглашений. Сезон, похоже, будет просто замечательный… А-а, вот и приехали. Теперь, Жанна, не забудь, что сначала надо подождать, пока не сойдет отец. Потом он подаст мне руку и спущусь я, а только потом ты. Букет держи в левой руке, а правой возьми папу под руку. Осторожней, не запутай ленты. И не глазей по сторонам. Можешь слегка стрельнуть глазками, но главное – смотри под ноги. Ступеньки очень узкие и коварные.
Когда дверца экипажа открылась, Берта остановила поток наставлений. Милостиво улыбнувшись привратнику, она протянула руку мужу, который уже вышел из кареты.
Мэри была потрясена, до чего изменилась Берта. Пока мадам кудахтала над Жанной, она оставалась все той же Бертой, только в другом наряде. Теперь она совершенно преобразилась. Степенная, с королевской осанкой, она и по виду, и по сути стала светской дамой. На ней было вечернее платье муарового шелка цвета лаванды, с глубоким вырезом и густо-фиолетовыми бархатными лентами на воланах юбки и рукавов. Ее вечерняя накидка была из того же бархата, укрепленного подкладкой и обрамленного шелковыми рюшами. На шее у нее была нить бриллиантов, с которой свисал кулон – аметист в форме слезинки размером с перепелиное яйцо, окруженный бриллиантами. Уши были украшены висячими серьгами, тоже с бриллиантами и аметистами помельче. Широкая цепочка с вправленными в нее бриллиантами тянулась вокруг талии, затянутой тугим корсетом. Скреплялась цепочка аметистовой застежкой. Бутоньерка из тепличных фиалок была вставлена в сложную прическу, почти скрывая маленькую бриллиантовую брошь-полоску, которая не давала прическе рассыпаться.
Вид Берты в роскошном вечернем туалете произвел на Мэри сильное впечатление. Она была совершенно изумлена, когда Берта, открывая один бархатный футлярчик за другим, принялась вынимать оттуда драгоценности. Но втайне Мэри считала, что драгоценности лишние и совсем не идут этой вечно занятой, усталой женщине, которую Мэри так хорошо знала. Берта была более похожа на себя, когда суетилась над простым жемчужным ожерельем, застегивая его на шее Жанны, или рылась в кожаной шкатулке, полной золотых цепочек и брошек, откуда она извлекла брошь из гнутого красного и желтого золота в форме банта и протянула ее Мэри. «Это тебе в подарок, – сказала она тогда, – в благодарность за то, что ты сделала с платьем Жанны». Тогда все внимание Берты было поглощено Жанной. Для нее не существовало ничего, кроме дочери.
Теперь же она была мадам Куртенэ, одетая по моде, под стать своему мужу, красивому месье Куртенэ, чувствовавшая себя как дома в высшем обществе, к которому оба они по праву принадлежали. Издалека с царственным одобрением она смотрела, как Карлос помогает дочери, а затем и Мэри выйти из кареты и как Мэри поспешно поправляет юбку Жанны и длинные нежно-голубые ленты, свисающие с ее букета. Затем она взяла мужа под руку и степенно прошла в оперный театр, улыбаясь, останавливаясь и заговаривая с друзьями, кивая знакомым. Будто такое понятие, как спешка, было ей неведомо.
Мэри слышала, как Жанна скрежещет зубами от нетерпения. По крайней мере, ей показалось, что она слышала именно этот звук. Звуки доносились до нее то отчетливо, то приглушенно и смутно. Ей казалось, что и свет, и звук отступают и накатывают волнами, что пол шатается под ее ногами. Она споткнулась на лестнице, и только плотное кольцо людей вокруг удержало ее от падения.
В ложе, на большом расстоянии друг от друга, стояло четыре кресла. Карлос Куртенэ выдвинул три из них вперед и усадил Жанну между собой и Бертой. Мэри была только рада остаться позади, в одиночестве, не привлекая к себе внимания. Она задвинула свое кресло в уголок и привалилась к стене. Ее колотил нестерпимый озноб. Стали гаснуть люстры. Разговоры, шуршание юбок, шорох программок – все стихло. Воцарились тьма и тишина.
«Иисусе милосердный! – взмолилась она про себя. – Помоги мне». Ей показалось, что она в одно мгновение ослепла и оглохла.
Наконец заиграла музыка и, разрастаясь, заполнила весь зал. Поднялся занавес, и сцену залил свет.
Мэри никогда не была в театре, никогда не слышала оркестра, никогда не видела оперы. Прошло всего несколько секунд, и она была полностью зачарована происходящим. Она забыла о своих страхах, дурном самочувствии, своих спутниках и самой себе. Упираясь ладонью в стену, она наклонилась вперед, словно желая войти в мир волшебных звуков, движений и цвета, развернувшийся под ней.
Когда занавес в конце первого действия опустился, очарование не покинуло ее. Она не слышала ни аплодисментов, ни шевеления в ложе. К горлу у нее подступили слезы. Ей хотелось, чтобы волшебство длилось вечно.
«Вот черт! – выругался про себя Вальмон Сен-Бревэн. – Уже антракт! Придется начать обход лож с дебютантками. Если я не нанесу визит вежливости, какой-нибудь папаша, братец или кузен вызовет меня, чтобы отомстить за оскорбление».
Он встал и, поправив манжеты, обратился к друзьям, сидевшим с ним в одной ложе:
– Джентльмены, пора на вахту. Пойдем радовать юные сердца en masse[20] или рассредоточим силы по более широкому кругу?
– Один за всех, и все за одного, д'Артаньян, – сказал самый младший, кузен по имени Жан-Люк. – Веди нас, мы последуем за тобой.
– Но прежде всего, Вальмон, веди нас к моей тетушке Атали, – добавил тучный старый холостяк, которому весьма подходило его имя Макс. – Она с меня голову снимет, если я не создам толпу вокруг кузины Каролины.
Филипп Куртенэ открыл дверь:
– Мне все равно, куда мы пойдем сначала. Только не забудьте, что у меня есть сестра, к которой надо заглянуть. А это поважней кузины.
– Мы ко всем заглянем, – сказал Вэл. – Шампанское, по крайней мере, будет первосортным.
В ложе Куртенэ уже разливали первосортное шампанское. Едва зажглись люстры, в дверь раздался первый вежливый стук. Жанна произвела фурор – самая прекрасная из всех дебютанток. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой… Молодые кавалеры из кожи вон лезли, чтобы представиться. Весь получасовой антракт проход возле ложи был битком набит поклонниками. Всего было принято двадцать шесть человек – они представлялись и удалялись, уступая место следующим. Когда перед вторым актом стали гаснуть огни, еще с полдюжины кавалеров дожидались счастливой возможности.
– Au revoir… au revoir… mes hommages…[21] – говорили те немногие, которым посчастливилось попасть в ложу, откланиваясь на прощание. – Au revoir.
– Мама, – прошептала Жанна, – во мне признали красавицу! – Она села в кресло и посмотрела на тысячи голов в зале, предлагая им для восхищения свое сияющее личико.
Мэри устроилась в углу, довольная, что может снова сесть. Круговорот лиц, имен, слова, слова, слова – все это утомило ее без меры. Куртенэ педантично представляли ей каждого из кавалеров Жанны, называя ее при этом «подруга Жанны Мэри Макалистер». Но Мэри понимала, что она оставалась невидимой для них, ибо глаза их были устремлены на Жанну. Ей это было безразлично. Ее интересовала опера, а не антракт. Она пригубила шампанского, которое навязала ей Берта, и обнаружила, что вино проясняет голову. Теперь она сможет полнее сосредоточиться на музыке. Если верить программке, осталось еще четыре акта. Мэри вздохнула в счастливом предвкушении.
Когда занавес вновь упал, Мэри захлопала вместе с остальными зрителями. Она жалела, что не осмелилась крикнуть «браво», как делали многие. Снова потянулся поток кавалеров, но теперь это ее нисколько не беспокоило. В сознании у нее все еще играла музыка. Она автоматически произносила ничего не значащие вежливые слова и улыбалась, сама того не сознавая.
– Здравствуйте, мисс Макалистер, – произнес низкий голос.
Мэри встрепенулась. Девушка так давно не слышала английской речи, что она показалась ей почти иностранной.
– Здравствуйте, – ответила она.
– Вы, должно быть, из-за шума не расслышали. Меня зовут Уилл Грэм.
– Здравствуйте, мистер Грэм. – Мэри с удивлением обнаружила, до чего приятно говорить по-английски. Удивили ее и голубые глаза Уилла Грэма. Она почти забыла, что в мире существуют голубые глаза. Или волосы светлее, чем у креолов, у которых они такие темные, что кажутся почти черными. У мистера Грэма были такие же, как у нее, темно-каштановые волосы, но с небольшой серебринкой на висках. Он был высок, с чуть сутулыми плечами – словно желал, чтобы мужчины пониже чувствовали себя на равных с ним. Лицо у него было длинное, с квадратной челюстью, а кончик носа чуть задран вверх. Мэри сразу ощутила к нему некое родственное чувство, хотя понимала, что никакие они не родственники.
– Вам нравится опера, мистер Грэм?
– Раз уж вы тоже американка, мисс Макалистер, признаюсь, что предпочту песню Стивена Фостера[22] любой арии. У меня никогда не было времени выучиться культуре в нужной степени. Я бизнесмен. И все же, вопреки старой пословице, полагаю, что хоть я и старый пес, но еще могу научиться новым штучкам.
Карлос заменил пустой бокал Грэма полным, а другой дал Мэри.
– Я не сомневался, что ты обрадуешься случаю поговорить с соотечественником, Мэри, – произнес он по-английски с сильным французским акцентом. – Я уже говорил вам, Уилл, Мэри учит мою Жанну говорить по-американски.
– Она потрясно говорит, – сказал Уилл и улыбнулся Мэри: – Вы, наверное, хороший учитель. Когда я приехал в Новый Орлеан, то хотел выучиться французскому, да только дальше «мерси» и «бонжур» дело не пошло. По-моему, во всем виноват учитель. В таком случае мне не нужно признаваться, что у самого башка слишком тупая.
– Но, мистер Грэм, вам следует попытаться еще раз. Надо только представить себе, что французский – это очередная новая штучка.
Смех обоих американцев привел Карлоса в полное недоумение.
Уилл Грэм поклонился Мэри:
– Рад был познакомиться, мэм. Пожалуй, попробую еще раз одолеть, так сказать, парле ву. – Он протянул руку: – Карлос, спасибо, что пригласили меня.
Месье Куртенэ пожал руку американца, второй ладонью накрыв рукопожатие.
– Ваше посещение – честь для меня и моей семьи, – сказал он.
Мэри улыбнулась уходящему мистеру Грэму. Затем улыбка ее сделалась еще шире.
– Филипп! – воскликнула она.
Он вошел в ложу, когда дверь еще не успела закрыться за Уиллом Грэмом.
– Мэри, дружочек мой, – сказал Филипп, – как поживаешь? Я тебя с переднего ряда не заметил. Пряталась, наверное… Ты что-то очень бледная. Куда ж девались розовые щечки? Тебе надо бы позагорать. Или, по крайности, выпить еще шампанского. Дай-ка я налью тебе полный бокал.
– Спасибо, Филипп. Только не лучше ли тебе поздороваться с Бертой и Жанной? Как-никак у нее сегодня дебют.
– Милая Мэри, моя очаровательная сестрица вонзит в меня свои прекрасные зубки, если я отодвину кого-то из ее кавалеров и займу его место. Только взгляни на нее.
Мэри обернулась. Что-то больно кольнуло ее, когда она увидела Вальмона Сен-Бревэна, улыбающегося приподнятому личику Жанны. Такая же сцена в Монфлери отозвалась у нее болью в сердце, но на этот раз боль была сильнее. Она убедила себя, что переболела этим нелепым увлечением, что Вальмон Сен-Бревэн – просто символ героя любовно-приключенческих романов и ничего общего с ее чувствами не имеет. Ее больше не задевало, когда Жанна заговаривала о нем, вновь и вновь произнося его имя.
Во всяком случае Мэри так себе внушила.
Но вот он оказался рядом. Высокий, стройный, мускулистый, красивый, сильный и нежный. Последнее она поняла по тому, как он смотрел на Жанну.
Это было невыносимо.
Мэри снова повернулась к Филиппу.
– Мне показалось, ты собирался принести мне шампанского, – сказала она. – У меня праздничное настроение. Это же моя первая опера, и я от нее в полном восторге.
«Плакать запрещается, Мэри Макалистер», – сказала она про себя.
– Не будьте таким жестоким, Вальмон, не заставляйте меня плакать, – сказала Жанна и посмотрела вправо, на Макса. – Согласитесь, Макс, что Вальмон жесток. Он напоминает мне о том, что я делала в детстве, а ведь знает, что теперь, когда я повзрослела, мне хотелось бы все забыть. – Она чуть надулась, и стала заметна очаровательная ямочка на ее мягком подбородке и соблазнительно пухлый ротик.
«Ну и ну! – подумал Вэл. – Малютка сестра Филиппа ввергла Макса в полное смущение. Его, закоренелого старого холостяка. Через минуту, если я не проявлю осторожность, тоже начну заикаться. Она красивая дикая кошечка и знает это. Прелестнейшее существо, ворвавшееся в высший свет Нового Орлеана с тех пор, как я вернулся. Стало почти законом, чтобы молодые женщины были очень бледны и очень непорочны. Но малышка Куртенэ вся покраснела от своего сегодняшнего триумфа, а что до непорочности, не сомневаюсь, она с восторгом избавится от нее». Он оценивающе посмотрел на обтянутые шелком холмики полных грудей Жанны, на ее гладкие плечи и безупречно белую шею.
Вэл почувствовал, что и она смотрит на него. Грудь ее то вздымалась, то опадала от учащенного дыхания. Острым розовым язычком она облизывала губы.
Она даже не понимает, что делает, почувствовал он. Это было для него настоящим открытием. Жанна смотрела на него глазами женщины, у которой вот-вот наступит оргазм. Зрачки ее были сильно расширены, отчего глаза казались совершенно черными и бездонными, – они словно свидетельствовали о тайне, соединяющей мужчину и женщину.
Вэл заставил себя отвести взгляд. Он еще не готов принять подобное предложение. Не говоря уже обо всех сопутствующих обстоятельствах – ухаживании, браке, детях, утрате свободы. Пока еще не готов.
– Нам не следует монополизировать самую очаровательную красавицу сезона, – поспешно сказал он и выругался про себя: какой у него хриплый голос. – Беру назад все, что говорил о твоем детстве, Жанна. Если из-за меня ты будешь плакать, у меня разорвется сердце.
– Я заплачу, если вы уйдете так скоро.
– Но я должен. С тобой жаждет познакомиться целый полк обожателей. Au revoir.
– Вальмон! Вы к нам придете?
– С величайшим удовольствием.
Он поспешно удалился.
Филипп остановил его, прежде чем он успел дойти до двери.
– Вэл, ты совсем не выпил шампанского. По моему просвещенному мнению, оно неподражаемо. – Филипп был чуточку пьян.
Вэл мудро воздержался от спора. Он принял бокал, попробовал и объявил, что вино великолепно.
– Ты знаком с моей подругой Мэри? Конечно же, знаком. По Монфлери.
Вальмон посмотрел на мертвенно-бледную девушку рядом с Филиппом. Она осушала свой бокал.
«Сделай так, чтобы мне стало лучше, – умоляла она вино. – Внутри у меня все пусто. Пот течет по спине, руки липкие, ноги дрожат, вокруг все то исчезает, то появляется снова. Если я потеряю сознание, то лучше мне умереть, чем прийти в себя. Смелей же, Мэри, – приказала она себе. – Этот мужчина – такой же человек, как и все остальные. И ты должна, по крайней мере, поблагодарить его за то, что он спас тебя от большой беды».
– Мы встречались раньше, – сказала она, и в тот же момент Вэл произнес:
– Мы не встречались раньше.
Филипп моргнул:
– Так что же все-таки? Да или нет?
Мэри поспешно заговорила:
– Не в Монфлери, Филипп. Месье Сен-Бревэн вряд ли помнит меня, но я его помню, потому что он пришел мне на помощь, когда я была в большой опасности. Может быть, он даже спас мне жизнь.
– Это уж слишком похоже на театр, Мэри. Что случилось? – Филиппа качнуло. – С лошади упала, что ли? – Он оглушительно расхохотался. Вальмон протянул руку, поддерживая его.
– Я чувствую себя крайне глупо, мадемуазель, – сказал Вэл. – Не помню, чтобы мне приходилось спасать жизнь молодой даме. Но мне приятно, что я смог оказать вам услугу. Извините меня, кажется, теперь я должен оказать услугу моему другу Карлосу Куртенэ и препроводить его сына обратно к нам в ложу.
Мэри в первый раз взглянула в глаза Вальмону. Он никак не прореагировал.
– Да, – сказала она, и в голосе ее была та же свинцовая тяжесть, как и на сердце. – До свидания, Филипп. – Но тут в ней что-то всколыхнулось. Яростное желание, чтобы Вальмон Сен-Бревэн признался, что они не полные незнакомцы, что жизни их соприкасались, что он держал ее в объятиях. – Пока вы не ушли, месье, примите мою благодарность. Я чувствую, что обязана поблагодарить вас. Это было Четвертого июля, на улице меня ударил хулиган. Вы прогнали его. Я у вас в долгу.
Вэл нахмурил, а потом разгладил лоб.
– Так это были вы? Боже мой! Я никак не мог связать ту потасовку с сегодняшним… событием. Как вы познакомились с Куртенэ? Через Филиппа?
– Мадам Куртенэ была столь добра, что дала мне крышу над головой. Видите ли, я пошла искать убежища в монастырь, а там все и устроилось.
– Понятно. – Вэл посмотрел на лихорадочно горящие глаза Мэри и на ее дрожащие руки.
Филипп пошатнулся и навалился на него. Начали медленно гаснуть люстры.
– Нам пора идти, – сказал Вэл. – Прощайте, мадемуазель.
Перед самым началом третьего действия Жанна подбежала к Мэри и схватила ее за руку:
– Видела, Мэй-Ри? Он пришел. По-моему, я ему понравилась, даже очень. А ты заметила, Мэй-Ри? Как ты считаешь, я ему понравилась?
– Да. Да. Я уверена. Я заметила, и я совершенно уверена. Теперь поторопись на свое место, мать тебе машет. – Мэри уперлась лбом в стену. В голове у нее стучали молотки. Язык во рту казался распухшим и рыхлым. Она чувствовала горький металлический привкус.
Но тут вновь подействовало волшебство музыки. И она смогла позабыть о боли.
В следующем антракте она не вставала со своего кресла в углу и отказалась от шампанского. Она молчала, сидела очень тихо и выглядела совсем больной. Берта и Карлос Куртенэ шепотом решили вести себя так, будто ее здесь вообще нет.
– Никто из нас не может сейчас отвезти ее домой, но у нее очень больной вид. Пусть себе посидит тихонечко.
Мэри отдыхала с закрытыми глазами, целиком отдаваясь музыке. Она окутывала ее, неся сквозь приступы головокружения и тошноты, пока те не отступили. Наконец в середине последнего акта Мэри смогла открыть глаза и посмотреть последние кульминационные сцены. Потом она аплодисментами встретила все семнадцать вызовов на поклоны. И без заметного напряжения спустилась по лестнице и вышла на живительный свежий воздух. Когда они вернулись домой, Мэри чувствовала себя почти нормально.
«Наверное, я выпила слишком много шампанского, – подумала она. – Никогда не буду пить больше одного бокала. Ни при каких обстоятельствах».
Жанна едва сдерживалась, пока ее раздевали.
– Иди, Миранда, – приказала она. – Забери с собой мою одежду. Я сама надену ночную рубашку. Уходи.
Она потянула за шнурки корсета, и они стянулись в тугой узел.
– Ой-ой, – заныла она и разрыдалась.
– Ш-ш-ш, – сказала Мэри. – Я распутаю. Только постой спокойно. Ты слишком перевозбудилась, вот и все. Жанна, все было именно так, как тебе мечталось. Ты была самая красивая, у тебя было больше всего кавалеров, ты будешь первой красавицей сезона. Плакать совсем не о чем.
– Все пропало, Мэй-Ри. – Жанна рыдала с самозабвенным отчаянием маленького ребенка.
– Ничего подобного, Жанна. Просто узел завязался. Я его в момент развяжу… Вот. А сейчас распущу шнуровку. Без корсета ты почувствуешь себя намного лучше.
– Мэй-Ри, ты ничего не понимаешь. Он же был там! Ты говорила с ним, я видела. Я этому никогда не верила, но это так. Папа хочет выдать меня за того американца. – Жанна кинулась в объятия Мэри и истерически разревелась. Мэри подвела ее к кровати и усадила на краешек.
– Ты какую-то чепуху говоришь. Не может твой отец силой заставить тебя выйти за кого-то замуж. Подними-ка руки.
Она натянула на Жанну ночную рубашку, протащив ее руки в рукава, а голову – в горловину. Она словно одевала куклу. Рыдания Жанны перешли во всхлипы, сотрясающие все ее тело.
Мэри намочила полотенце и принесла его Жанне.
– Оботри лицо и высморкайся, – сказала она. – Ты расстраиваешься из-за пустяков. Напридумывала себе всяких кошмаров.
Жанна обтерлась полотенцем и бросила его на пол.
– Мэй-Ри, ты ничего не знаешь, – сквозь слезы проговорила она. – Папа всегда хотел, чтобы я вышла замуж за американца. Он говорит, что победа будет за ними и что весь Новый Орлеан будет принадлежать им раньше, чем я доживу до его лет. А заставить меня он может. Если я пойду против его воли, он откажет мне в приданом, и тогда никто на мне не женится. Мэй-Ри, ты совсем другая, ты ничего не понимаешь. Я просто не могу остаться старой девой. Я лучше выйду замуж за чудовище, чем вообще останусь без мужа… Если бы только я больше понравилась Вальмону! Сначала я подумала, что он влюбился в меня, но он не пришел в ложу второй раз. А я была уверена, что он вернется. Мне казалось, что все к этому идет. Я так его люблю, и ему папа отказать не сможет. Его земли примыкают к нашим, к тому же он богат, как американец. Я думала, все будет, как я хочу, Мэй-Ри. И на всякий случай молилась в День всех святых, чтобы так и было. Мне казалось, что по-другому и быть не может. Наверное, я недостаточно усердно молилась. Я помолюсь сейчас. – Она протянула вверх молящие руки. – Пресвятая Богородица, – воскликнула она, – Отец наш небесный, Иисус Благословенный… пожалуйста! – Это был вопль отчаяния. И вновь последовали неудержимые, горестные рыдания.
Привычной торопливой походкой, со всегдашним выражением озабоченности на лице вошла Берта.
– Что такое? Дитя мое! Тише, тише. Иди к мамочке. Она прижала Жанну к себе и покрыла ее склоненную голову горячими поцелуями. – Что произошло? Мэри, ты не знаешь?
– Она говорит, что боится выходить за мистера Грэма. Я пыталась поговорить с ней, но…
– О-о… Жанна. Послушай маму, ангел мой. Я не должна говорить тебе это, но все же скажу. Папа вечером получил записку. Ее принес капельдинер во время последнего антракта. Она была от Вальмона. Он просит отца встретиться с ним после оперы в клубе Курциуса. По его словам, ему нужно переговорить с отцом о чем-то важном и безотлагательном.
Жанна подняла голову.
– Сегодня? Он хотел видеть папу сегодня? – На ее распухшем лице проступили пятна. Оно сияло надеждой.
– Он сказал – важно и безотлагательно. Я сразу вспомнила свой дебют. Твой отец всю ночь ходил по тротуару возле нашего дома, ожидая, когда проснется мой папа и можно будет попросить моей руки.
Глава 23
– Я этого не вынесу, Мэй-Ри, я просто обязана знать. – Жанна повторила это сотню раз и поклялась, что не заснет, пока не приедет отец, даже если придется прождать всю ночь.
Однако приступы плача после напряженного дня, полного волнений, вызванных ее успехом, вконец измотали ее. Она заснула посередине фразы.
Что касается Мэри, то она уже впала в полусонное-полуобморочное состояние. Она была очень слаба.
Карлос Куртенэ приехал домой в три часа утра. Он разбудил жену, и они больше часа проговорили обеспокоенным шепотом. Вальмон предупредил месье Куртенэ, что компаньонка его дочери была раньше одной из проституток Розы Джексон.
На другое утро завтрак подали во дворе. Жанна была вне себя от гнева – мать и отец так и не вышли из спален.
– Просто жестоко со стороны папы так долго спать! И мамы тоже. Они меня так мучают! Я этого не перенесу, Мэй-Ри. Я просто обязана знать все.
Наконец Карлос Куртенэ спустился по лестнице. Жанна даже подпрыгнула, с грохотом опрокинув стул:
– Папа?
– Мать хочет поговорить с тобой, Жанна. Ступай к ней в комнату.
– Ой, папа! Поговорить как мама с дочкой? Я помчусь быстро-быстро. Папа, я так счастлива! – Жанна обняла отца и поцеловала его, после чего, подхватив юбки, чтобы взбежать по лестнице через ступеньку, умчалась прочь.
Мэри сидела замерев. Она готовила себя к тому, что Жанна обручится с Вальмоном, с того момента, как Берта сказала о записке. «Я готова, – подумала она. – Я полностью владею собой и ни на мгновение не выдам того страшного разочарования и жгучей ревности, которые клокочут во мне».
Но то, что сказал ей Карлос Куртенэ, было для нее полной неожиданностью.
– Мисс Макалистер – или как там ваше настоящее имя, – если вы не уберетесь из этого дома в течение десяти минут, я голышом вышвырну вас на улицу. Здесь хватит денег на билет на пароход до места, откуда вы прибыли. Карета доставит вас на пристань.
Он бросил конверт на стол прямо перед Мэри. И, уходя, сказал, не глядя на нее:
– Слуги пакуют ваши вещи. Все подаренные вам платья – ваши. Я не желаю, чтобы в моем доме оставался даже пепел от них.
КНИГА ТРЕТЬЯ
Глава 24
Одинокая и покинутая, Мэри стояла на пристани среди спешащей толпы. «Я снова начинаю все сначала, только теперь мое положение много хуже». Мысли ее были полны горечи и обжигали душу, как обжигал ей лицо ветер, дувший с реки. Небо было обложено низкими серыми облаками. Погода была под стать настроению Мэри. Пристань в Новом Орлеане оказалась еще больше, шумнее и оживленнее, чем в Питсбурге. Вместо трех пароходов здесь стояли десятки. Подводы с бочонками и тюками для погрузки можно было считать сотнями.
На сей раз Мэри знала, что ей нужно держаться возле своих пожитков. Крепко сжав в руке конверт с деньгами, она двумя руками обхватила выданный ей саквояж. Позади себя она услышала звук удаляющейся кареты Куртенэ.
«Мне следовало ударить Карлоса Куртенэ, – подумала она. – Плюнуть ему в лицо. Как он посмел со мной так говорить! А Клементина? Ни слова не сказала, даже не посмотрела на меня. Просто схватила за руку, протащила к карете и засунула туда. Потом швырнула в меня саквояжем и конвертом. Кинула, как кость собаке или помои свинье. Попользовались мной, а потом выкинули на все четыре стороны. В точности как с внучкой Эркюля, любовницей Карлоса. Он настоящее чудовище».
Удар, нанесенный ей изгнанием из дома Куртенэ, подействовал на Мэри как укол адреналина. Сердце ее бешено колотилось, а кровь неслась по жилам, разнося яд, втертый ей в голову царицей вуду. Мэри казалось, что голова ее зажата в тиски, которые сжимают, давят ее, вызывая невыносимую боль. Желудок ее был завязан узлом, который пронизывали огненные копья. В горле и в носу щипало и отдавало кислым. Она поняла, что ее сейчас вырвет.
Прижав к губам край саквояжа, она побежала к реке шаркающими шажками калеки, согнувшись пополам от боли. У самой воды она бросила саквояж и рухнула в грязь, свесив голову через край деревянного пирса. Тело ее содрогалось от набегающих волн тошноты. Ее рвало снова и снова и безостановочно трясло.
Прохожие обходили ее за несколько шагов. Иные, отведя глаза, ускоряли шаг, другие замедляли и глазели. Мэри их присутствия не замечала.
Закончив опорожнять свой больной желудок, она толчком поднялась на колени, покачиваясь и тихо рыдая. Тело у нее болело, во рту стоял мерзкий вкус. Обнаружив в кармане носовой платок, она вытерла глаза и рот. Кружевная кайма платка зацепилась за золотую брошь, которую накануне подарила ей Берта.
Лицо Мэри исказилось от ярости. Сладкие слова, ненужные тряпки и побрякушки в подарок – а она была так рада, так благодарна! Она считала Куртенэ своими друзьями. Какая идиотка! Теперь-то она разобралась. Они обошлись с ней хуже, чем с последним из своих рабов.
С трудом встав на ноги, она сорвала брошь с платья. Гнев придал ей сил. Она широко размахнулась правой рукой и бросила брошь в реку. Брошь пролетела по воздуху, золотом сверкнув на солнце, и упала в грязную, полную отбросов воду.
Мэри услышала за спиной басовитый смех. Подняв кулак, она повернулась, чтобы дать отпор непрошеному насмешнику.
Мужчина огромных размеров продолжал смеяться. Зубы на его темном лице поражали белизной. Кожа у него была настолько черной, что он казался ожившей тенью. Мэри резко опустила руку. Она вдруг с ужасом осознала собственную слабость и уязвимость.
– Эту ручку я ни с чем бы не перепутал, – сказал мужчина. – Как поживаете, мисси? Забыли Джошуа? – Он говорил по-английски, и какое-то мгновение Мэри с трудом удавалось его понять. Потом в словах его стал проступать смысл. Джошуа. Первый пароход, на котором она плыла из Питсбурга. Набалдашники, плохо прикрепленные к перилам. Корова, человек с ножом и деревянный шарик, ударивший по голове с тошнотворным стуком.
Она посмотрела на чернокожего гиганта, будто это был давний друг. Он пришел из тех счастливых времен, когда все было ново, увлекательно, когда сама она была на пути к новой жизни, с сердцем, полным надежды и веры в людей, когда ее еще не одурачили и не обокрали.
– Эй, мисси, что это вы так плачете?
– Ах, Джошуа, все так ужасно. Ты не мог бы мне помочь?
Глава 25
– Да, мисси, влипли вы основательно, ничего не скажешь. – Джошуа покачал головой, как нередко качал ею на протяжении долгого рассказа Мэри о своих несчастьях. Это был жест сочувствия, понимания, тревоги. Но только не недоверия. – Хотя и не так ужасно, как вы думаете. Мы можем разыскать эту даму, которая ищет вашу бабушку. Новый Орлеан не такой уж большой, особенно французская часть. Там каждый наверняка знает, где она живет.
– Ты мне поможешь?
– Ясное дело, помогу. Пошли. Я саквояжик ваш прихвачу. Всего за пять минут они дошли до угла, где темнокожая женщина торговала рисовыми пирожными. Еще через пять минут, следуя ее указаниям, они добрались до высокого кирпичного дома на Ройал-стрит, где жила Селест Сазерак. Мэри стряхнула с юбки присохшую грязь и сделала глубокий вдох. Потом она подняла и опустила тяжелый бронзовый дверной молоточек. И в этот момент зарядил дождь. За несколько секунд Мэри вымокла до нитки.
Дворецкий, который открыл дверь, был одет в ливрею старинного покроя, бриджи до колен и получулки. Пудреный парик XVIII века обрамлял коричневое лицо. Он посмотрел на мокрую фигуру Мэри без всякого выражения. С тем же успехом он мог бы быть статуей.
– Я хотела бы видеть мадемуазель Сазерак, – сказала Мэри по-французски. – Передайте ей, что пришла мадемуазель Макалистер.
Дворецкий отступил на шаг, поднял со стола серебряный поднос, вновь шагнул вперед, протягивая поднос Мэри.
– Вашу карточку, мадемуазель, – сказал он.
– У меня нет визитной карточки. Просто скажите ей, что я здесь. Я совсем промокла и хотела бы войти.
– Мадемуазель Сазерак нет дома, – сказал дворецкий. Он положил поднос на место и начал закрывать дверь.
Мэри придержала дверь рукой. Отчаяние придало ей смелости.
– Когда она будет? Она обязательно захочет повидать меня. Я могу подождать ее.
– Мадемуазель Сазерак выехала из города на неделю, мадемуазель. Я передам ей, что вы заходили. – Он закрыл дверь.
Храбрость покинула Мэри. Прислонившись к двери, она заплакала.
– Ну-ка, ну-ка, мисси, так не пойдет, – сказал Джошуа. – Неделя не такой уж большой срок. Может, она куда уехала вашу родню разыскивать.
Мэри утерла глаза концом шали. В словах Джошуа был здравый смысл. Просто она промокла и чувствовала себя плохо, потому-то так легко и впала в отчаяние. Она заставила себя улыбнуться.
– Извини, я веду себя как дура, – сказала она. – Просто неважно себя чувствую.
– Просто у вас в животике совсем пусто. Пойдемте-ка назад и купим пирожков на углу. – Джошуа повернулся и медленно пошел по улице. Мэри нетвердым шагом догнала его. Она не заметила, как на одном из окон дома Сазераков приоткрылась занавеска.
– Жак, кто эта молодая особа? – спросила женщина, державшая занавеску. На ней был скромный вдовий траур. Она была очень бледна, но не модной бледностью, а бледностью болезни и подавленности. Истощенное лицо и лиловые тени под глазами не в силах были скрыть следов былой красоты. Она походила на мрачную, зловещую копию ослепительно прекрасной женщины, изображенной на портрете, который висел у нее за спиной. У женщины с портрета были те же черты лица, но в расцвете молодости и здоровья. Она была в роскошном парадном платье, а в руках – веер из тонкого белого кружева, который она держала полуоткрытым в длинных, красивых, но странно непропорциональных пальцах.
– Она спрашивала мадемуазель Селест, мадам, – ответил дворецкий.
– Понятно, – сказала Анна-Мари Сазерак. Она выпустила из рук занавеску, и комната погрузилась в привычный полумрак.
– Мисси, сколько у вас денег в этом конверте?
Дожевав пирожок, Мэри ответила:
– Тридцать долларов. – Съев горячий рисовый пирожок, она почувствовала себя намного лучше. Да и дождь прекратился.
Джошуа покачал головой:
– Они, по крайности, дали вам денег на билет. Вы еще успеете. На старушке «Царице Каира» вас примут с радостью. Как знать, может, вы мне еще пригодитесь – огреть по башке кого-нибудь, кто на меня попрет.
На сей раз Мэри не надо было заставлять себя улыбаться.
– Спасибо, Джошуа, только мне надо остаться. Странно, но как только я приехала суда, у меня возникло такое ощущение, будто здесь мой родной дом. Мне придется пожить в отеле, пока не приедет мадемуазель Сазерак. Знаешь какой-нибудь отель?
– Да их тут полно, от самых шикарных до таких, что и в тюрьме уютнее. Только беда в том, мисси, что в приличных отелях могут не захотеть принять девушку, которая одна-одинешенька. И если поселят, то тридцать долларов могут кончиться раньше, чем приедет та дама… А вы про пансионы слыхали? Там не так шикарно, как в отеле, но вполне прилично. Я слыхал про такой на «Царице» от одного лоцмана. У него там сестрица проживает. Конечно, не такое жилье, к которому вы привыкли, но там чисто, кормят от пуза, и ваших тридцати долларов вам на пару месяцев хватит. Заправляет там вдова ирландка, звать О'Нил.
– Джошуа, да ведь это как раз то что надо. Где он? Пойдем туда немедленно.
– Чуть поближе к окраине. Недалеко. Но я вас туда проводить не могу. Понимаете, там Ирландский канал, та часть города, где живут ирландцы. А черномазых они ух как ненавидят! Попробуй я пройтись по Эдел-стрит, живым бы не вернулся. Доведу вас до Кэнал-стрит, а там найду полицейского, чтобы проводил вас до самого пансиона.
Мэри внезапно пришла в голову страшная мысль.
– Ой, Джошуа, как же я тебя подвела! – воскликнула она. – Нельзя мне было просить тебя довести меня до дома Сазераков, отходить так далеко от пристани. Разве ты сможешь передать меня полицейскому – он же тебя немедленно арестует. У тебя нет пропуска.
Чернокожий гигант усмехнулся:
– А на что мне пропуск, мисси? Я человек свободный.
– Здесь? На Юге? Разве не нужно поехать на Север, чтобы получить свободу?
Джошуа рассмеялся:
– Да в Новом Орлеане больше свободных черных, чем в самом Нью-Йорке! Каждый второй черный, которого вы тут на улице увидите, свободен.
Мэри все еще гадала, правда ли то, что Джошуа сказал ей, а они уже дошли до Кэнал-стрит. Раньше она этой улицы толком не видела. Причал в конце улицы совершенно не походил на остальную ее часть.
Кэнал-стрит была самой широкой улицей во всей Америке. Мэри не знала этого, но догадывалась. Широкие тротуары, обсаженные деревьями, тянулись параллельно мощеной улице, по ширине в три раза превосходившей любую улицу французского квартала. По другую сторону улицы расположилась широкая аллея. Под деревьями росла трава, а посередине была проложена тропинка. За аллеей шла вторая широченная мостовая, а за ней – еще один тротуар с деревьями. По тротуарам и дорожкам неспешно расхаживали хорошо одетые мужчины и женщины. По двойной мостовой быстро ехали добротные экипажи. Красивые дома имели вид свежий и новый. Ничто не напоминало тот Новый Орлеан, который Мэри видела с Куртенэ.
Она вспомнила, как Карлос говорил ей, что Кэнал-стрит разделяет французов и американцев. Мэри подумала, что, должно быть, этот парк по центру улицы и есть так называемая нейтральная полоса. До чего же она красива, несмотря на воинственное название!
«И еще эта улица совсем не похожа на другие. Новый Орлеан все время дарит мне сюрпризы. Хорошие и плохие. Лучше думать, что они будут продолжаться и впредь».
Вопреки всем своим намерениям, к Ирландскому каналу Мэри оказалась неподготовленной.
Полицейский был очень любезен. Он взял ее саквояж и пошел с ней вдоль улицы, которая, по его словам, называлась Мэгэзин. Когда он спросил, не трудно ли ей идти, она ответила, что не трудно. Но вскоре засомневалась, что сумеет дойти. «Идти меньше мили», – сказал он. Ей дорога показалась куда длиннее.
Поначалу магазинчики и дома, мимо которых они проходили, вызвали в ней лишь любопытство. Потом она почувствовала очарование этой части города. Местность изменилась – сплошные ряды домов сменились особняками, стоящими среди садов. Они показались ей очень красивыми. Многие из них имели галереи с колоннами, почти у каждого были чугунные ворота ажурного литья, ограды, балкончики.
Однако тротуары из кирпичных или булыжных сделались дощатыми, и ступать по ним было небезопасно. А улицы стали скользкими от грязи и еще чего-то. Она не могла определить, чего именно. Мелкие, забитые грязью дренажные канавы тянулись вдоль улиц. Иногда ей приходилось перепрыгивать через них, чтобы перейти улицу. Даже там, где в качестве мостика в канаву был положен камень, держался он неустойчиво. Запах гниющих отбросов нередко вызывал тошноту.
Когда они свернули с Мэгэзин-стрит, дощатые тротуары исчезли вовсе.
– Осталось всего пять кварталов, – жизнерадостно сказал полицейский.
Мэри попыталась улыбнуться. С каждым шагом ей все тяжелее было поднимать ноги. На ее ботинки налипла грязь, тяжелая, как свинец, ноги постоянно скользили.
Один квартал, еще один. «Я дойду, – внушала она себе. – Осталось совсем немного. Плоха только улица. Дома очень милые. Небольшие, но милые». Третий квартал, четвертый… Мэри услышала пронзительный крик животного, почувствовала, как что-то ударило ее сзади под коленки, и упала на четвереньки. Она была настолько изумлена, что даже не вскрикнула. Повернув голову, она с удивлением воззрилась на бородатую козью морду.
– Вы в порядке, мисс? – Полицейский взял ее под локоток и помог подняться.
– Я вся в грязи, – слабым голосом отвечала Мэри. Она была не силах более сдерживать слез.
– Ну-ну, не надо плакать! – Полицейский был встревожен: как всякий мужчина, он не знал, что в таких случаях делать. Он торопливо потащил Мэри по улице и сгрузил ее вместе с пожитками на ступеньках единственного двухэтажного дома во всем квартале.
– Теперь вы на месте, – сказал он весело. – Миссис О'Нил позаботится о вас. – Дотронувшись двумя пальцами до своего шлема, он отдал ей честь и ретировался.
Мэри постучала в дверь. Она услышала в доме чье-то пение. «Пожалуйста, будь дома, – неслышно взмолилась Мэри, – и, пожалуйста, будь добра ко мне».
Таких маленьких взрослых людей, как женщина, открывшая ей дверь, Мэри видеть не случалось. На мгновение ей показалось, что перед ней ребенок. Затем она увидела седые пряди в густых каштановых косах, уложенных вокруг головы женщины, и сеть морщинок в уголках голубых глаз, когда женщина улыбнулась, увидев ее.
– Что ж ты такая растрепанная-то? Заходи, рассказывай, кто такая будешь. Меня звать вдова О'Нил.
– А меня Мэри Макалистер.
– Ну заходи, Мэри Макалистер. На кухне есть плита, а на плите чайник.
Никогда в жизни Мэри не чувствовала себя такой признательной.
– Спасибо… – Это было все, что она сумела сказать, но в эту неловкую фразу она вложила всю душу.
Глава 26
Однако вдова О'Нил не желала ограничиться лишь благодарностью Мэри. Как только та уселась на табуретке возле печки с чашкой чая в руках, энергичная маленькая женщина приступила к делу:
– Будешь мне платить три доллара в неделю, вперед, пока я не удостоверюсь в твоей платежеспособности. Тогда я разрешу тебе платить в конце недели. Я тебя не знаю, Мэри Макалистер, поэтому, если у тебя сейчас нет денег, допивай чай и ступай своей дорогой.
– У меня есть деньги. – Мэри начала рыться в карманах.
– Ну и замечательно. Можешь заплатить попозже, когда отогреешься и обсохнешь. Завтракать будешь в шесть, а ужинать в семь. Опоздаешь – будешь есть остатки. Если хочешь, могу наладить тебе обеды навынос, это будет еще доллар в неделю. Согласна?
Мэри кивнула. Она не знала, что такое «обеды навынос», но времени спросить у нее не было. Миссис О'Нил тараторила так быстро, что вставить слово не было никакой возможности.
– Ванну принимать можешь здесь, на кухне. Я назначу время и поставлю лохань. Воду таскать и греть будешь сама, и лохань сама будешь чистить после себя. Если мне не понравится, как ты ее вычистишь, придется повторить. Пользование лоханью и полотенцем – еще двадцать пять центов. Мыло для ванны я выдаю сама, но стирать будешь собственным мылом. Лоханка для стирки во дворе, там же и веревка для белья. Можешь пользоваться моими утюгами и доской, но только тогда, когда ими не пользуюсь я.
Раз в две недели, по субботам, буду выдавать свежее постельное белье. Лучших подушек, чем на моих постелях, ты нигде не найдешь. Но запомни: чтоб на этих подушках лежала только твоя голова, иначе вылетишь отсюда в два счета. У меня есть гостиная, где ты можешь встречаться со своим дружком, если он у тебя есть, но только, не обессудь, дверь в нее будет открыта. Это христианский дом, и греха у себя под крышей я не потерплю.
Если тебя, Мэри Макалистер, такие условия устраивают, я налью тебе еще чашечку, пока ты достаешь деньги, а потом покажу комнату. Сегодня среда. Можешь заплатить мне доллар тридцать до конца недели или четыре двадцать пять еще за неделю вперед. Плату я собираю по субботам. Это удобно – получаешь жалованье и сразу же расплачиваешься со мной.
Мэри заплатила миссис О'Нил четыре доллара двадцать пять центов. За это она получила узкую кровать в узкой комнатке и бесплатный урок.
В монастырской школе она сама заправляла постель и, под чутким руководством монахинь, сшила свое выпускное платье. Этим ее навыки домоводства исчерпывались. Она не умела сама себя обслужить.
Умыв лицо, переодевшись и причесавшись, Мэри разыскала миссис О'Нил и попросила помочь ей:
– Вы не могли бы научить меня стирать и гладить? Платье, в котором я к вам пришла, ужасно запачкалось.
Вдова отвела взгляд от картошки, которую в этот момент чистила:
– Научить тебя? То есть как это?
– Я ничего не понимаю в стирке. Меня всегда обстирывали другие. До приезда в Новый Орлеан я почти не покидала школы. Я разыскиваю свою бабушку… – И она рассказала вдове всю историю своих злоключений.
Мэри говорила, а миссис О'Нил чистила картошку. Мэри еще не закончила, а все картофелины были уже очищены, и миссис О'Нил принялась их резать. Мэри рассказала все до конца, а миссис О'Нил продолжала резать.
Ее молчание не понравилось Мэри. Она подождала, когда вдова сметет наструганные белые кусочки в котелок. Когда миссис О'Нил стала подвешивать котелок на крюк в очаге, так и не нарушив молчания, Мэри поднялась и подошла к женщине:
– Что скажете, миссис О'Нил? Разве со мной не обошлись самым позорным образом?
Крошечная вдова посмотрела на Мэри.
– Что я скажу? Я скажу, что такой дуры, как ты, на моей кухне еще не появлялось. Ну-ка, подержи вот эту ручку, пока я крюк подтяну повыше. – Она схватила Мэри за руку и всунула ей котелок.
Когда они совместными усилиями пристроили котелок так, как хотелось миссис О'Нил, хозяйка уперла руки в бедра и осмотрела Мэри с ног до головы.
– Так, на больную ты не похожа, – сказала она после осмотра. – Значит, просто дура. Чего ты от меня ожидала, девочка? Сочувствия, что ты потеряла шкатулку с побрякушками? Что папаша твой не оставил тебе богатства? Что ты не знала своей мамаши? Я вижу перед собой здоровую молодую женщину, которая ждет, что Господь наш всеблагой бросит все свои важные дела и устроит так, чтобы ей на блюдечке преподнесли весь мир, а она и палец о палец не ударит. И это при том, что она выбрасывает на ветер все его дары, прежде чем он успевает их ей доставить. Ты, Мэри Макалистер, и так уже даром получила больше, чем тебе причитается. Остальное пора бы и заработать.
Мэри была поражена. Вдова О'Нил поняла все совершенно правильно; но она рассчитывала на сочувствие и растерялась, когда такового не последовало.
– Извините меня, пожалуйста, – сказала она. – Я, пожалуй, пойду прилягу на несколько минут. Я не очень хорошо себя чувствую.
Она услышала дрожь в собственном голосе и прониклась презрением к себе самой. «Я не доставлю этой жуткой старухе удовольствия видеть, что она довела меня до слез», – поклялась она про себя. Она удалилась из кухни, гордо подняв голову и сжав зубы, чтобы не дрожал подбородок.
Придя к себе в комнатку, Мэри обнаружила, что больше не хочет плакать. Она была для этого слишком рассержена.
Не было и полудня, но Мэри показалось, что этот день начался уже сотню часов назад. До ужина оставалось больше семи часов. Мэри провела их, сидя по струнке на краешке жесткой постели, и растущее чувство голода лишь подогревало бушевавшую в ней ярость.
Она начала с миссис О'Нил и ее резких слов, потом прокляла Джошуа за то, что привел ее в такое гадкое место, потом Карлоса Куртенэ, всю его семью, слуг, друзей и даже Жанну. Особенно Жанну. Эта Жанна получит то, чего добивалась. Она выйдет за Вальмона Сен-Бревэна. «Ну и что?»– сказала себе Мэри. Ей все равно. Эта парочка достойна друг друга. Оба эгоистичны, тщеславны, бездушны. Вальмон даже не выказал удовольствия, когда она с таким усердием благодарила его за то, что он проявил к ней такую доброту в ту ужасную первую ночь в Новом Орлеане.
В ту ночь, когда Роза Джексон так злодейски ее предала. Подумав о Розе, Мэри забарабанила кулаками по кровати. Роза – самая отвратительная из всех этих жестоких людей, которые так подло обошлись с ней. Роза, которая сначала обманом внушила ей восторг и лживым сладким голоском говорила лживые сладкие слова, а потом украла у нее все, включая и историю ее семьи, попыталась украсть у нее и будущее, превратить ее в одно из тех созданий в своем фальшиво прекрасном саду.
Да, Роза была хуже всех. Бесчестна до мозга костей. С того самого момента, как Мэри познакомилась с ней, каждое ее слово было ложью. Она лгала и в словах, и в паузах между словами.
«В точности как мой отец».
Мэри попыталась отогнать эту мысль. Но слова продолжали звенеть в ее голове. Она попыталась вновь погрузиться в те грезы, которые раньше так помогали ей: он слишком занят и не может написать ей, приехать в гости, побыть с ней во время каникул. Он доказывал ей свою любовь, присылая дорогие корзинки с разными вкусностями; он отсылал ее прочь, потому что так заставляла мачеха; он любил хвастать ею перед друзьями и поэтому приглашал их всех на Рождество, когда она, Мэри, приезжала домой.
Ничего не получалось – грезы утратили силу. Или она сама утратила способность погружаться в них.
– Мой отец – лжец, – вслух прошептала она и стала лихорадочно перебирать в памяти эпизоды, которые могли бы доказать, что она не права, стараясь обрести убежище в той доверчивой любви, которую она испытывала к отцу. Но любовь эта исчезла; она никогда не была настоящей, потому что человек, которого она любила, тоже был ненастоящий. Она его придумала.
«Мне даже не грустно, что он умер, – подумала она. – Теперь мне уже не нужно стараться заслужить его любовь, потому что он умер.
А жена его и так мертва для меня. Я никогда ее не увижу и очень этому рада. Она отвратительная женщина. Как хорошо, что она мне не мать!
Я ее никогда не любила. И все те годы, когда я боготворила ее, на самом деле я ее не любила. И она мне тоже лгала, называя меня доченькой, когда я звала ее мамой.
Они все лгали, все. И я тоже».
Мэри зажала уши руками, словно пытаясь приглушить слова, звучавшие в ее сознании. Но они звенели в ней:
«Ты лгала больше всех. Лгала всякий раз, когда выдумывала оправдания для отца. Лгала, когда внушала себе, что счастлива. Всякий раз, когда ты погружалась в грезы, это была ложь. Ты верила их обманам, потому что хотела, чтобы так было на самом деле, и не хотела взглянуть в лицо правде, потому что боялась того, что увидишь. И из всей лжи это была самая мерзкая, потому что лгала ты и лгала себе самой».
В голове Мэри словно вращался калейдоскоп. Яркие обрывки воспоминаний смешивались, образуя новые сочетания; и она все увидела в новом свете. «Вдова О'Нил права, – подумала она. – Я дура».
И гнев на всех, кто предал ее, только усилился. Это был гнев на саму себя и на выдуманный лживый мир грез.
На стене возле кровати висело небольшое карманное зеркальце. Мэри посмотрела на свое отражение и заговорила:
– Ты была дурой, Мэри Макалистер. Теперь все будет по-другому. Ты научишься жить без грез, чего бы это ни стоило. У тебя никого нет, кроме себя самой. Сделай же так, чтобы ты могла доверять себе.
Она услышала звон колокольчика. Она слышала звуки в доме и на улице, но не воспринимала их. Теперь же колокольчик послужил сигналом для всех остальных звуков, и они стали заполнять сознание Мэри. Это были голоса людей, выкрики, смех, ржание и блеяние животных, скрип колес, пение. И еще были запахи. Запахи улицы, грязи, мусора, травы, животных, цветов, пищи.
Мэри стояла, потягиваясь, – тело у нее занемело от долгого сидения. Она чувствовала прилив сил. Перед ней лежал весь мир, лежал и ждал, когда она взглянет на него по-новому, с новых позиций. Мир как он есть, а не каким она хотела бы его видеть. Теперь он станет другим, потому что станет другой она.
Она распахнула дверь комнаты и шагнула навстречу новому миру.
Глава 27
Пока Мэри делала первые шаги, приспосабливаясь к новым обстоятельствам, в доме Куртенэ свирепствовал ураган. Имя этому урагану было Жанна.
В то утро она вошла в спальню матери, ожидая услышать, что Вальмон попросил ее руки.
Но вместо этого Берта сообщила ей, что Вальмон встречался с отцом по поводу Мэри: в прошлом Мэри есть настолько позорная тайна, что ее пришлось немедленно прогнать.
– Мэй-Ри! Так Вальмон виделся с папой из-за Мэй-Ри, а не из-за меня? – В приступе безудержных рыданий Жанна рухнула на постель матери.
Что только Берта ни делала, чтобы успокоить Жанну, но ее старания были безуспешны. Когда Мари Лаво пришла сделать Жанне прическу к званому обеду, она застала и мать, и дочь в слезах. Как пояснила ей Берта, причина заключалась в том, что уехала подруга Жанны.
– Прекрасные глаза мадемуазель совсем подурнеют, – сказала Мари. – Я натру ей виски для успокоения. А потом приготовлю ванночку для глаз. И для ваших, мадам, тоже. – Она без труда подняла Жанну, усадила ее в кресло и встала у нее за спиной, сильными круговыми движениями поглаживая ей лоб и шепча таинственные слова в такт магическим движениям.
За работой Мари думала о Мэри Макалистер. Она смеялась про себя, хотя радость свою ничем не выдавала. Эта дама, Сазерак, будет очень недовольна, узнав, что ее жертва ускользнула. Это очень порадовало Мари – Селест ей сильно не нравилась, а против Мэри она ничего не имела. Теперь девушка не умрет. Недельку-другую поболит голова, несколько дней будет тяжесть в суставах, а потом она совсем поправится. Но золотые монеты так и останутся у Мари. Очень славный, забавный итог.
Малышка Куртенэ тем временем успокоилась. Мари кивнула матери, поднесла палец к губам, требуя тишины, и занялась баночками с разными жидкостями, доставая их из сумки.
– Смочите тряпочку вот этим, мадам, – сказала она Берте, – наложите на закрытые глаза и полежите так около часа. Я пройду с мадемуазель в ее комнату, промою ей глаза и уложу волосы.
Жанна, как в трансе, пошла с Мари. Возбуждение вернулось к ней, когда Мари занималась последними штрихами ее прически.
– Посмотри на меня! – крикнула она, вцепившись в локоть Мари. – Разве я не красива?
– Очень красивы, мадемуазель.
– Тогда отчего же мужчина, которого я люблю, не хочет меня? Я в отчаянии. Надо же что-то предпринять! Говорят, что ты… помогаешь таким, как я… что есть заклинания… амулеты… зелья…
Мари убрала с локтя руку Жанны.
– Такое существует, мадемуазель. – Она воткнула в волосы Жанны небольшой гребешок, удерживающий длинную прядь волос за левым ухом.
– Мне это нужно, все равно что! Что нужно сделать? – Большие глаза Жанны смотрели умоляюще.
– Необходимо знать некоторые обстоятельства, мадемуазель: имя мужчины, его местопребывание. И такое чародейство стоит денег.
– У меня нет денег. Может быть, подойдет что-нибудь другое? Мой жемчуг? Меховое манто? Платье из Парижа? Оно расшито жемчугом.
Мари взглянула на обтянутую бархатом коробочку, где лежала нитка жемчуга, принадлежащая Жанне. Она знала, что это жемчуг чистейшей воды, жемчужинки тщательнейшим образом подобраны и обладают изысканным, глубоким блеском. Нитка стоит многие тысячи, гораздо больше, чем, по мнению Мари, любовь какого угодно мужчины. До чего же глупы женщины! Да и мужчины тоже. Их глупость принесла Мари целое состояние.
– В уголке сада позади собора есть дерево, – сказала она. – Тень от него падает на улицу, на то место, где калека продает кокосовые пирожные. В стволе дерева есть дупло величиной с кулак. Завяжите жемчуг в носовой платок и опустите в дупло. На следующий день я принесу вам то, что вы хотите.
– Но я хочу сейчас, немедленно. Возьми жемчуг сейчас.
– Подобные вещи так не делаются, мадемуазель. Вы должны делать то, что я говорю, иначе у нас ничего не получится.
– Обязательно! Конечно! Я сделаю все, что ты мне скажешь. Только помоги мне, умоляю!
Мари сделала шаг назад и осмотрела прическу Жанны. Прическа получилась идеально. Она стала укладывать в сумку лосьоны и помады.
– Имя мужчины? Его адрес?
– Вальмон Сен-Бревэн. Он живет на плантации, вверх по реке. Плантация называется Бенисон.
Мари кивнула. Жанна всмотрелась в ее лицо, стремясь увидеть на нем выражение уверенности, тревоги, предостережения… какого-то намека на успех. Но Мари никак не прореагировала на имя Вальмона.
Лишь когда Мари отошла от дома Куртенэ на несколько кварталов, она откинула назад голову и рассмеялась. Она смеялась так, что у нее закололо в боку. Она продолжала смеяться, даже когда зарядил дождь и ей пришлось бегом добираться до дому. Добежав до дома на Сент-Энн-стрит она промокла до нитки, но все еще смеялась.
Дом располагался в глубине, вдали от улицы, что было необычно для французского квартала. Перед домом находился сад с неподстриженным вьющимся кустарником под высокими банановыми пальмами. Широкий листок, набравший дождевых капель, излил свой груз на голову Мари, когда она открывала калитку в высоком просевшем заборе. Улыбнувшись, она добродушно выругалась.
Ничто не могло лишить забавности ситуацию – ее наняли навести любовные чары на Вальмона Сен-Бревэна.
Вэл и Мари были очень близкими друзьями, хотя почти никто не знал об этом. Учитывая их характеры, эта дружба была странным явлением.
Вэл считал молодых женщин безмозглыми созданиями, которых надо покорять и использовать по назначению, если они принадлежат к низкому сословию, и всячески избегать, если они принадлежат к одному с ним слою общества.
Мари считала мужчин легкой добычей, ими можно манипулировать и помыкать себе во благо и в удовольствие.
И тем не менее каждый из них относился к другому с уважением, восхищением и получал удовольствие от общения с другим. Эта дружба ценилась ими тем более, что была столь необычна.
Они познакомились почти двадцать лет назад, когда Вэл был тринадцатилетним подростком, готовящимся отправиться в Париж на учебу. Старая негритянка, которая нянчила его отца, а потом и его самого, как-то привела его к матери Мари, старшей царице вуду. Она хотела, чтобы та дала Вэлу талисман, который охранял бы его в Париже и помог благополучно вернуться на родину. Вэл был очень смущен, но все же согласился. Он очень любил свою нянюшку, поэтому выполнил все указания царицы вуду: терпеливо перенес помазания, присыпания пылью и глотание всяких предметов во время долгой церемонии, пропитанной запахом ладана. Получив кисет с «хорошим сильнодействующим гри-гри», он изъявил свою благодарность самым изящным образом. Лишь однажды он потерял самообладание – из-за того, что некое вертлявое существо прыгнуло ему на плечи в тот момент, когда он направлялся домой между банановых пальм.
Вертлявым существом была Мари, которой тогда было четыре года. Она услышала разговор о том, что он собирается в Париж, и попросила его прислать ей из Франции настоящую восковую куклу. Ее мать освободила Вэла из назойливых объятий Мари и отшлепала девочку. Но Вэл пообещал ей куклу и выполнил свое обещание.
А Мари специально выучилась писать, чтобы отправить ему во Францию благодарственное письмо. И заодно попросить его прислать новых платьев для куклы.
Их нечастая переписка и обмен подарками продолжались в течение многих лет, и, когда Мари подросла, ее письма стали для Вэла самым точным и занятным источником информации обо всех новостях новоорлеанской жизни. А ее вопросы о Париже и Франции дали Вэлу возможность узнать и понять те стороны жизни, которые он в ином случае просто оставил бы без внимания. Он посылал ей книги, рисунки, газеты. Она посылала ему толченые травы и специи, необходимые для креольской кухни, с приложением инструкций, как ими пользоваться.
И, как это часто бывает, в этих письмах каждый из них раскрывал перед малознакомым человеком мысли и чувства, которыми не стал бы делиться с людьми более близкими. Когда Вэл вернулся в Новый Орлеан, возникшая между ними связь уже была такой прочной, что даже потрясение, испытанное каждым при личной встрече, не смогло порвать ее. Они так дорожили этой дружбой, что избегали любовной связи, которая могла бы эту дружбу разрушить. Вместо этого они искусно играли словами и жестами – в этих играх одновременно признавались все существующие возможности и отрицалась какая-либо реализация этих возможностей. И это прибавило их дружбе еще одно измерение.
Мари знала ум и сердце Вальмона лучше, чем он сам. Это была бы всем шуткам шутка, если бы ей удалось приворожить его к юной Куртенэ! Но Мари знала пределы своих сил. Хотя они были очень велики, на такое их явно недоставало. Придется остановиться на том трюке, который она постоянно проделывала с женщинами типа Жанны. Если этот трюк сработает, то и Вэл будет одурачен. И хотя Мари никогда не расскажет ему, что приложила к этому руку, у нее на всю оставшуюся жизнь сохранится повод посмеяться.
Она вошла в дом и сбросила с себя мокрую одежду прямо на пол. Улыбаясь и напевая, обнаженная и прекрасная, она ходила по кухне, собирая составные части для любовного напитка, который обменяет на жемчуга Жанны.
Любовь – такой прибыльный товар! Даже более прибыльный, чем ненависть… Мари напомнила себе известить Селест Сазерак об отъезде Мэри Макалистер.
В общем, день получился исключительно удачный. Смешивая порошки в миске, Мари запела. Она искренне надеялась, что головные боли Мэри Макалистер не очень жестоки. Жаль, что она не может выслать ей противоядие.
Когда начался дождь, Вальмон Сен-Бревэн снял шляпу. Прохлада и влага приятно освежали голову. Голова у него адски болела.
Это было неизбежное последствие ночи, проведенной без сна, но с обильными возлияниями. Он ругал себя за легкомыслие. Сезон заготовки сахара слишком короток, чтобы впустую тратить время на карты и выпивку. Ему следовало уехать в Бенисон сразу после оперы.
И все же он не мог не переговорить с Карлосом Куртенэ, узнав девушку, сидевшую в его ложе. Карлоса следовало предупредить, что компаньонка его дочери – неподходящая компания для невинной девушки.
После встречи во рту остался неприятный привкус – сальности, мелкой сплетни, доноса. Пришлось выпить еще шампанского. А потом, чтобы окончательно забыть этот инцидент, – несколько партий в фараон с друзьями. Несколько бокалов перешли в изрядное количество, затем одна неосмотрительная шутка привела к вызову на дуэль, и уже на рассвете ему пришлось заглянуть в сад за собором. Он собирался уколоть противника в руку и закончить дуэль одной-единственной каплей крови. Но был пьян и по ошибке ранил соперника в плечо. Ранил серьезно. Господи! Весь вечер получился нагромождением ошибок, одна нелепей другой, и неприятностей, которых он наделал ближним. Он испытывал омерзение к жизни и к самому себе. И даже дальняя поездка в такую непогоду не могла развеять его меланхолии. Он не мог сосредоточиться на непосредственных проблемах. Мешала головная боль, да и мерзкие воспоминания о прошедшей ночи не прибавляли радости.
Карлос Куртенэ был похож на раненого быка. Он бы немедленно прикончил на месте эту американку, если бы Вальмон не сделал то единственное, что могло наверняка остановить его: предупредил, что это происшествие может вызвать скандал, который отразится на репутации Жанны.
Репутация Жанны и так уже была, мягко говоря, хрупкой. Эта девушка буквально излучала сексуальность, готовность, доступность. Он и сам испытал определенную реакцию на нее. Одних воспоминаний об исходивших от нее флюидах пылкой страсти оказалось достаточно, чтобы вызвать совершенно неуместные волнения пониже живота. Честное слово, забраться с ней в постель – это было бы нечто! Даже для столь опытного мужчины, как он.
Этому она не могла научиться у американской шлюхи. Это было нечто древнее, первородное. А кроме того, у той, второй, этого не было вовсе. Напротив, у нее до смешного непорочный вид! Роза Джексон хорошо муштрует своих девиц. Вэл ухмыльнулся при мысли, что одной из девиц Розы удалось каким-то образом проникнуть в семейство сверхконсервативной Берты Куртенэ и даже заручиться ее поддержкой. Разоблачив эту особу, он поступил правильно. И все же он не мог не восхищаться ее мастерством. Надо же, у нее почти получилось! Он припомнил, что как-то вечером Филипп Куртенэ особенно занудно распространялся о небывалых добродетелях этой особы.
Да уж, небывалых! Таких небывалых, что их и вовсе не существовало. Вэлу стало интересно, что же могло так очаровать Филиппа. Лично он никаких особых чар не ощутил.
Да ну их всех к черту! Он и так слишком много времени тратит на мысли о женщинах. Он пришпорил лошадь. Надо заняться сахаром, и фургоны движутся что-то слишком медленно. А вот потом, когда все работы закончатся, он вернется в город и проведет недельку в апартаментах, которые держит в отеле «Сен-Луи», с какой-нибудь хорошей шлюхой. Может, с Аннабель из заведения Розы? У нее есть чувство юмора. Помнится, как-то…
Глава 28
Узнав, что Мэри уехала, Селест Сазерак пришла в ярость. Она порвала записку Мари Лаво на сотню мелких кусочков, затем швырнула их на пол и принялась топтать ногами. При этом она непрерывно стонала сквозь стиснутые зубы.
Посреди припадка Селест резко остановилась. Полусогнувшись, прижав руку ко рту и склонив голову набок, она прислушалась, хотя вокруг было тихо. Потом опустилась на колени и стала лихорадочно ползать по полу, собирая крошечные обрывки бумаги, в уверенности, что кто-то может найти их и, сложив, восстановить текст записки, в которой ее имя напрямую связывалось с попыткой убийства.
Собрав все клочки в кучку перед собой, она их съела. Потом спустилась в гостиную матери выпить кофе.
– Тебе понравилось на озере, Селест? – без особого интереса спросила Анна-Мари Сазерак.
– Было довольно мило. Только обслуживание в отеле оставляет желать лучшего.
– Туда же никто зимой не ездит. Я удивлена, что отель вообще работал.
– Но для меня открыли лучший номер. Разве ты не помнишь, мама? Ведь отель принадлежит нам. Большая часть семьи ездит туда летом. Не знаю почему, но летом мне на озере не нравится. Слишком людно.
На самом деле Селест не нравилось на озере в любое время года. Она терпеть не могла находиться вдали от дома на Ройал-стрит, где была полновластной хозяйкой. Но другого места, чтобы уехать из города на то время, пока Мэри Макалистер не умрет и не будет похоронена, она придумать не могла. Она боялась, что ее торжество будет слишком явным.
Теперь было ясно, что она напрасно томилась в отеле целых десять дней. Все пошло насмарку. Десять дней, полных тревоги, как бы кто не взломал ее платяной шкаф и не обнаружил шкатулку. Десять дней вдали от своего сокровища. Десять дней вдали от матери и от тех крох внимания, которыми она дарила Селест. Десять дней ожидания покоя и безопасности навсегда, как она надеялась.
Все впустую.
В комнату тихо вошел Жак и шепнул на ухо Селест, что ее желает видеть молодая особа по фамилии Макалистер.
Селест коротко вскрикнула. Мать подняла глаза от книги, которая лежала у нее на коленях, но которую она не читала.
– Все в порядке, мама. – Селест отправила Жака на кухню принести свежего кофе взамен того, что остыл в нетронутом кофейнике, стоявшем на столе перед матерью. А сама поспешила к входной двери.
– Здравствуйте, мадемуазель Сазерак, – сказала Мэри. – Я так рада, что застала вас дома. Вы…
Селест не дала ей договорить.
– Убирайся! – прорычала она. – Нет у тебя семьи в Новом Орлеане. Убирайся и не возвращайся никогда! Я тебя знать не знаю, поняла? Убирайся и оставь меня в покое! – Она со страшным грохотом захлопнула дверь.
Мэри поморщилась от этого грохота, повернулась и ушла. В соседнем доме горничная через окошко торговалась с угольщиком, стоявшим на тротуаре. Оба замолчали и с большим вниманием выслушали тираду Селест. Потом посмотрели на Мэри с неприкрытым любопытством. Она с улыбкой кивнула им.
– Я почему-то не очень удивлена, – сказала она.
Прожив неделю на Ирландском канале, она многому научилась. Среди прочего она усвоила и ту истину, которую ей открыла одна новая подруга: «Всегда жди худшего – и не будешь разочарована».
Еще она поняла, что если молодая женщина идет по улице одна, то это еще не грех и не преступление. Никто не сопровождал ее к дому Сазераков, и отсутствие провожатого ничуть ее беспокоило. Напротив, она ощутила пьянящее чувство свободы от того, что идет сама по себе и никому не обязана отчитываться. Теперь, когда то, чего она больше всего опасалась, случилось, она испытала такое облегчение, что у нее даже закружилась голова. Теперь не нужно ничего бояться. Все позади. Можно продолжать жить.
Свернув на Дюмэйн-стрит, она быстро прошла два квартала до рынка. Был уже десятый час, и наплыв утренних покупателей схлынул. Мэри беспрепятственно прохаживалась по рядам, глядя на товары, выставленные на продажу. Осмотрев все, она вернулась к тому торговцу гумбо, товар которого показался ей самым аппетитным.
– Крабов в гумбо положил? – спросила она, слегка имитируя акцент чернокожих.
Мужчина, помешивающий в котелке гумбо, широко улыбнулся:
– Много-много краба, зелль, и много рачка. Лучшее гумбо в Луизиане.
Мэри протянула маленькую монетку, называемую здесь пикаюн. За это ей выдали глубокую глиняную миску густой похлебки и ложку. Она ела с удовольствием – вдова О'Нил кормила вкусно и питательно, но креольскую кухню презирала. Мэри же недоставало этих блюд.
Опустошив миску, она вернула ее продавцу, похвалив кушанье. Он дал ей конфетку из кокоса с патокой.
– Ланьяпп, зелль.
Мэри поблагодарила его и пошла дальше, жуя липкую конфету. Она хорошо позавтракала и не нуждалась ни в гумбо, ни в конфете, она ела не ради насыщения. И не от огорчения из-за того, как с ней обошлись в доме Сазераков. Скорее, это было что-то вроде празднования. Теперь будущее было в ее собственных руках, и она отмечала это волнующее событие, делая все, что ей заблагорассудится.
Вскарабкавшись на гребень берегового вала, она посмотрела вниз, на реку, на океанские корабли с высокими мачтами, на горы товаров, ожидающих погрузки, на целенаправленный хаос людей, животных, повозок. Был ясный день, с реки дул холодный ветер, смягченный теплом солнца; на верхушках мачт хлопали на ветру разноцветные флаги десятков стран. Яркие краски были особенно заметны на фоне безоблачного голубого неба. Мэри ощутила небывалый прилив сил. В Новом Орлеане возможно все. Здесь есть место приключениям и радости жизни.
Потом она пересекла Пляс д'Арм, еще раз полюбовавшись на дома легендарной баронессы. Мэри пообещала себе, что когда-нибудь узнает, почему Карлос Куртенэ назвал баронессу самой выдающейся женщиной в Новом Орлеане. Второй дом длиной в целый квартал был, казалось, уже достроен. Мэри постояла возле пушки в центре площади, надеясь, что может появиться баронесса. Но никто не вышел. Ни один человек. Дома стояли безжизненные. Все двери были закрыты, кроме одной, слева от Мэри. Мэри подошла к ней и заглянула внутрь.
Дверь вела в магазинчик. Внутри стояли четыре прилавка, отделанных сияющим красным деревом. Стена была увешана полками, на которых красовались чепчики, английские блузки, шали, пелерины. К Мэри подбежала молодая женщина и спросила по-английски, на что бы ей хотелось взглянуть.
Мэри хотелось бы взглянуть на все, но лишних денег у нее не было, поэтому она покачала головой, вышла и направилась к собору, стоявшему в центре площади. После яркого солнца внутри собора казалось темно. Мэри постояла некоторое время, пока глаза не привыкли, потом перекрестилась, преклонив колени, и незаметно прошла в задний ряд, где встала на колени и зашептала:
– Благодарю тебя, отец мой небесный, что помог мне обрести счастье, которое я испытываю сегодня. – Она приподнялась, но затем вновь опустилась на колени. – И прошу тебя, помоги мне завтра, когда я отправлюсь искать работу, чтобы получать жалованье.
Выйдя из собора, Мэри прошла до Шартр-стрит, постоянно переходя с одной стороны на другую и заглядывая во все лавочки. Никто не выбегал ей навстречу, как та женщина в доме, построенном баронессой. Всюду были толпы покупателей, и Мэри могла спокойно наслаждаться элегантными, изящными, легкомысленными товарами, выставленными на продажу. Чтобы пройти шесть кварталов, ей потребовалось более трех часов.
Дойдя до Кэнал-стрит, она ускорила шаг. Теперь она не просто смотрела на красивые вещи, а делала покупки. Она поискала то место, о котором ей рассказывали, и почти сразу нашла его. Это было совсем нетрудно, так как на боковом фасаде здания большими буквами было выведено: «Д.Х.Холмс». Магазин показался Мэри таким огромным, как будто все лавочки на Шартр-стрит поместили под одну крышу. Она ходила от ряда к ряду, от прилавка к прилавку, ошеломленная разнообразием и обилием товара.
Из своего неприкосновенного запаса она извлекла пять долларов и потратила их с величайшей предусмотрительностью. В три часа она вышла из магазина с раскрасневшимся сияющим лицом. Она несла большой бумажный сверток, в котором находились крепкие дамские башмаки из черной кожи, коричневые вязаные перчатки, пять ярдов легкой шерстяной ткани альпака шоколадного цвета, два комплекта белых льняных манжеток и воротничков, коричневые пуговицы, нитки и две иголки. На голове у нее красовался новый вязаный чепчик с задорной ленточкой в бело-коричневую полоску, завязанной бантиком под подбородком.
В первый раз в жизни она покупала что-то сама для себя. Она нашла все, что искала. И у нее еще осталось шестьдесят центов. Достаточно, чтобы купить в булочной пирожных для друзей по пансиону и приехать домой на так называемой конке – название не вполне точное, поскольку вагоны городской железной дороги ходили на конной тяге лишь в центре города, а ближе к окраинам к ним прицепляли паровозик.
– Миссис О'Нил, взгляните, что я принесла на десерт. – Мэри поставила на стол коробку из булочной, перевязанную ленточкой. – У меня был такой чудесный день!
Миссис О'Нил развязала ленточку, разгладила ее пальцами и свернула в аккуратный тугой кружок. Она положила ленту в коробочку, которую сняла с полки, и поставила ее на место. И лишь затем открыла коробку из булочной.
– Шоколад, – произнесла она, осторожно притронувшись к одному из пирожных и слизнув с пальца кусочек глазури. – Настоящий шоколад… Не пробовала настоящего шоколада, почитай, двадцать лет, а то и больше. – Она уселась на табуретку возле очага. – Значит, ты нашла свою бабушку, и она оказалась и вправду так богата, как ты предполагала?
– Нет. Нет. Вовсе я ее не нашла. Мадемуазель Сазерак захлопнула дверь у меня перед носом. Но это неважно. Я даже по-своему рада. Мне гораздо больше нравится самой заботиться о себе и жить так, как я хочу.
Вдова О'Нил хотела что-то сказать, но воздержалась. Девчонка сама скоро все поймет. К величайшему изумлению вдовы, Мэри все схватывала на лету. За ту неделю, что она прожила в пансионе, Мэри проявила массу старания и довольно успешно научилась стирать и гладить, подметать и драить полы, ориентироваться в квартале и в городе. Она также подружилась с другими постояльцами, в субботу сходила на исповедь, а в воскресенье к обедне. И что самое удивительное, она не задавалась и не рассказывала жалостных историй о том, как ее несправедливо лишили богатства. Миссис О'Нил почти полюбила ее. Она была бы только рада, чтобы Мэри жила у нее – при условии, конечно, исправной оплаты.
– Могу я одолжить у вас ножницы, миссис О'Нил? Я собираюсь сшить платье, в котором завтра пойду искать работу.
– Так ты умеешь шить, Мэри Макалистер?
– Да. Я когда-то уже сшила платье.
– А это ты сошьешь до завтра?
– Если надо, я могу проработать всю ночь.
– Понятно. Тогда тебе понадобится дополнительное масло для лампы.
– Ой, я об этом не подумала. Да, спасибо вам огромное.
– А иголку для этого твоего шитья ты купила?
– Купила. И еще ниток, и пуговиц, и миленький готовый воротничок с манжетами, которые можно отпороть и стирать отдельно. Я купила все необходимое.
– И булавки?
Воодушевление Мэри заметно поугасло.
– Не беда, – сказала вдова. – Можешь позаимствовать мою коробочку.
«Я, должно быть, спятила», – сказала вдова про себя, когда Мэри умчалась к себе в комнату, чтобы побыстрее приступить к шитью.
Одно из платьев, которые отдала Мэри Жанна Куртенэ, было муслиновое, бледно-зеленое, с узором в мелкий розовый цветочек. Пуговицами служили фарфоровые чайные розочки. Это было любимое платье Мэри, оно казалось ей самым нарядным из тех пяти, что достались ей от Жанны. К тому же оно сидело на Мэри лучше других. Она намеревалась снять копию с этого платья, чуть-чуть изменив фасон и используя муслин в качестве выкройки. Нужно было распороть швы, раскроить коричневую шерстяную ткань по образцам, потом снова сшить муслиновое платье – и у нее получатся два прекрасных платья, одно на зиму, а другое на лето. Зимнее платье было ей очень нужно. В ноябре даже в Новом Орлеане было холодно ходить в летнем платье, накинув сверху только шаль. К тому же, когда она пойдет устраиваться на работу, ей понадобится что-то не столь девчоночье, как обноски Жанны. Ей нужно выглядеть взрослой и благоразумной.
Ее замысел был хорош. Однако исполнить его оказалось не так просто, как ей представлялось. Платье Жанны было сшито весьма добротно, короткими плотными стежками, которые трудно было не только распороть, но и увидеть. Когда померк дневной свет, Мэри все еще трудилась над первым швом. Она едва успела покончить с ним, как услышала знакомый шум – возвращались с работы другие жильцы. Всего их было четверо – трое мужчин и молодая женщина, года на два старше Мэри.
Дом вдовы О'Нил был самым большим на Эдел-стрит. Кроме него на всей улице был только один двухэтажный дом, но в том было всего по две комнаты на этаже. А в доме О'Нил четыре – по две с каждой стороны узкого центрального коридора. Спальня миссис О'Нил находилась на втором этаже, три остальные спальни занимали трое мужчин. Комнаты Мэри и другой девушки размещались на первом этаже. Одна из четырех квадратных комнат была поделена на два узких прямоугольника, в каждом из которых помещались кровать, столик с ящиками и стул. Столик служил и умывальником – на его крышке стояли тазик и кувшин, а сверху с крючка свисало полотенце. К внутренней стороне двери были прибиты крючки, предназначавшиеся для одежды.
Остальное пространство первого этажа занимали кухня, столовая, где жильцы завтракали, ужинали, а также могли просто посидеть и поболтать, и гостиная – гордость дома. Насколько знала Мэри, никто туда не заходил, кроме миссис О'Нил, вооруженной тряпкой и веником. Днем сердцем дома была кухня, вечером – столовая.
Соседка Мэри постучала в дверь, чуть приоткрыла ее и просунула голову:
– Как прошел денек?
– Прекрасно, Луиза. По твоему совету я пошла в магазин Холмса, он и вправду оказался чудесным. Я купила коричневой шерсти.
– Отлично. А башмаки? Ты купила башмаки? Те, что на тебе, вот-вот развалятся.
– Купила. И новый чепчик. Он такой красивый, Луиза, сейчас покажу…
– Мэри, тебе не нужен новый чепчик. Тебе и старого надолго хватит.
– Нет, нужен. Я в нем такая…
– Хорошенькая. Для Пэдди Девлина, небось?
– Нет, я вовсе не думаю про Пэдди Девлина.
– Зато он о тебе думает. Постоянно. Днем и ночью.
– Т-с-с, тише, Луиза, прошу тебя. Он может услышать.
Луиза подмигнула и вышла. Через секунду Мэри услышала монотонное пение – Луиза исполняла гаммы. Каждый вечер она занималась по два часа – час перед ужином, час перед сном. Она хотела стать оперной певицей.
Мэри была единственной во всем доме, кто ничего не имел против гамм Луизы. Ей не нравилось другое – насмешки Луизы. Пэдди Девлин был первым поклонником в жизни Мэри, и она не знала, как относиться к его ухаживаниям, равно как и к шуточкам на этот счет.
Когда Мэри в первый вечер представили остальным жильцам, реакция Пэдди Девлина была настолько очевидной, что даже Мэри поняла: он сражен наповал. Он выронил тарелку, которую держал в руках, повалил стул, наклонившись за тарелкой, заикался и краснел всякий раз, когда требовалось что-то сказать, и глядел на Мэри, по изящному выражению Луизы, «как телок, стукнутый пыльным мешком».
Миссис О'Нил вела себя так, словно ничего необычного не происходит, зато двое других мужчин были к бедному Пэдди беспощадны:
– Пэдди, что ж ты не передашь Мэри масло?
– Пэдди, Мэри ждет, когда ты освободишь солонку.
– Пэдди, ты случаем не рассказал Мэри, какая у тебя завидная репутация танцора?
– Пэдди, как это ты щеки на солнышке опалил в такой ненастный день?
При этом они покатывались со смеху от собственных шуточек.
Мэри тоже была смущена, но над ней не смеялись. Она могла сидеть, опустив глаза, поскольку оба Рейли обращались не к ней. Это были отец с сыном, что было заметно с первого взгляда. Оба крепкие, коренастые, краснолицые, синеглазые, черноволосые. Рядом с ними Патрик Девлин выглядел почти заморышем и мальчишкой. Как многие действительно огненно-рыжие люди, он был весь в веснушках. Он казался хрупким, но это впечатление было обманчивым. В свои девятнадцать лет он был силен как бык.
После первого ужина Рейли шутили уже не столь бурно. Миссис О'Нил весьма сурово поговорила с ними о правилах поведения за столом. Но влюбленность Патрика нисколько не уменьшилась, он по-прежнему краснел всякий раз, когда Мэри случалось посмотреть в его сторону.
На Мэри это оказывало сильное и отнюдь не неприятное воздействие, но вот шуточки Луизы ей совсем не нравились. Особенно когда она поддразнивала Мэри замечаниями о буйном темпераменте, свойственном рыжим, и рассуждала о тех заботах, которые будут доставлять Мэри их дети, когда они с Пэдди поженятся и заведут полон дом детей.
Мэри не хотелось думать о замужестве, потому что тогда она тут же вспоминала Жанну. И Вальмона Сен-Бревэна. О нем ей особенно не хотелось думать, потому что мысли эти были беспокойными, полными безнадежных устремлений и плохо осознаваемого плотского вожделения.
Она преисполнилась решимости думать только о радости, которую доставляла ей обретенная независимость, быть счастливой, осуществить смелый план, придуманный ею с целью найти работу.
Она не ложилась, шила, пока у нее не заболели глаза, пальцы не стали кровоточить от уколов иглы, а лампа не покрылась копотью. И все же платье было далеко до завершения.
Он шила весь следующий день. И еще день. В пятницу к вечеру платье было готово. Она примерила его, усталая и полная дурных предчувствий. Пальцы ее болели и дрожали, когда она застегивала пуговицы.
Платье сидело идеально. Мэри вернула вдове ее булавки и ножницы, прошлась по кухне, демонстрируя свое изделие, затем возвратилась к себе в комнату, аккуратно повесила платье на крючок, забралась в кровать и проспала тринадцать часов.
Она проснулась в воскресенье в пять утра с теплым и бодрящим чувством уверенности и благополучия. «Сегодня я стану взрослой женщиной, самостоятельно зарабатывающей на жизнь, – сказала она своей комнате, в которой было прохладно и еще темно. – Теперь все обязательно будет хорошо».
Глава 29
Такой день мог придать уверенности кому угодно, даже человеку, настроенному куда менее оптимистично, чем Мэри Макалистер. Солнечный день со свежим морским ветерком, разносившим ароматы цветов из теплых, защищенных от холода садов на Старой площади по узким улочкам, и без того заполненным запахом свежего кофе из открытых дверей кофеен и с уличных лотков.
Мэри сошла с конки в своем идеальном платье, сверкающих новых башмаках и задорном новом чепчике. Она улыбалась. Улыбалась новому дню, ожидающим ее приключениям, городу, ставшему для нее родным. Многие улыбались ей в ответ, а некоторые джентльмены даже приподнимали шляпы. Ее жизнерадостность передавалась другим.
Уверенность в себе принесла ей больший успех, чем она предполагала. Войдя в магазин, о котором говорила Берта Куртенэ, Мэри попросила вызвать саму мадам. Продавщица, с которой говорила Мэри, решила, что она, должно быть, новая и очень богатая покупательница, поскольку никто иной никогда не удостаивался чести лицезреть саму мадам. Она провела Мэри через магазин в небольшой роскошный салон, где привилегированные клиенты совещались с самой престижной в городе поставщицей дорогих туалетов и аксессуаров к ним, мадам Альфанд.
Мадам появилась лишь после того, как горничная принесла серебряный кофейник и серебряную вазочку с миндальным печеньем и поставила их на столик возле кресла, где сидела Мэри. Мэри успела выпить чашечку кофе и съесть печенье, прежде чем с тихим шуршанием дорогих шелковых юбок и не менее дорогих шелковых нижних юбок явилась сама мадам Альфанд.
Мэри встала и улыбнулась:
– Бонжур, мадам.
– Бонжур, мадемуазель, – надменно, но вполне корректно отозвалась мадам. Ее обращение было тщательно рассчитано, чтобы внушить клиентке робость, но не отпугнуть ее. Она жестом пригласила Мэри снова присесть. Кольца с бриллиантами, унизывающие пальцы мадам Альфанд, своим блеском словно предупреждали, что цены здесь высокие.
Мэри не стала садиться. Она была убеждена, что служащие должны быть так же почтительны к своим хозяевам, как школьницы к учителям. Других критериев у нее еще не было.
– Я пришла устроиться к вам на работу, – весело сказала она.
Мэри было невдомек, что только глубочайшее изумление помешало мадам Альфанд крикнуть, чтобы эту нахалку выкинули с черного хода. Француженка просто лишилась дара речи.
Но уши она заткнуть не могла. Между тем Мэри рассказала ей о платье, которое было на ней надето, упомянув, что сшила его менее чем за три дня, а также, во всех подробностях, о том, как перешила парижское платье Жанны Куртенэ, включая и тонкую вышивку.
Мадам имела представление о платье Жанны – она знала почти все о гардеробах светских женщин Нового Орлеана, а о дебюте Жанны говорили во всем французском квартале.
– И сколько же времени у вас ушло на каждый ландыш? – спросила она, когда корыстолюбие вернуло ей дар речи.
– Больше двух часов. Очень сложная работа.
Мадам быстро прикинула в уме. С таким делом лучшая ее вышивальщица не справилась бы, а сезон только начался. У нее уже было столько заказов на вечерние платья, что она сомневалась, сможет ли выполнить их все. Эту дерзкую девчонку сам Бог послал.
– Здесь, мадемуазель, не монастырская школа, а серьезное предприятие. Работа тяжелая, сложная, и я требую идеального ее исполнения.
Мэри радостно кивнула:
– Я понимаю.
– Женщины приходят в ателье ровно к восьми и ни минутой позже, а заканчивают работу в пять. В полдень получасовой перерыв на обед, обед, кстати, за свой счет.
– Да, мадам.
– Рабочая неделя начинается утром в понедельник и заканчивается вечером в субботу. По воскресеньям мастерская закрыта, если нет особо срочной работы.
– Да, мадам.
«Девчонка вроде здоровая, – размышляла мадам Альфанд, – и видит Бог, желания работать ей не занимать. Я смогу платить ей меньше, чем остальным, может, два доллара в день вместо двух с половиной».
– И сколько же, по-вашему, стоит ваш труд, мадемуазель?
Мэри уже давно раздумывала о размерах жалования. Она глубоко вдохнула и назвала сумму, равную, по ее мнению, целому состоянию:
– Я хотела бы получать шесть долларов в неделю, мадам.
– Придешь в понедельник в восемь утра. Зайдешь с Тулуз-стрит, с черного хода. Найдешь мадемуазель Аннет. Я предупрежу ее о твоем приходе. Как твое имя?
– Мэри Макалистер, мадам. Француженка сморщила губу:
– Американка. На удивление неплохо говоришь по-французски. Здесь ты будешь мадемуазель Мари Четвертая. У меня работают еще три Мари. Все, можешь идти. И запомни, ты в последний раз зашла сюда с Шартр-стрит.
– Спасибо, мадам. – Мэри сделала книксен. – Я вам очень благодарна и обещаю, что вы не пожалеете…
– Иди, иди, мне работать надо.
Новые башмаки Мэри, танцуя, вынесли ее из ателье. Успех! Она знала, что все будет хорошо. Теперь она станет настоящей богачкой! Шесть долларов в неделю – а сколько всего она накупила за пять! Да еще и шоколадных пирожных на всех. И у нее еще осталось больше пятнадцати долларов из тех тридцати, с которых она начала. Все идет прекрасно!
«Схожу-ка я на пристань, – решила она. – Может быть, там „Царица Каира“ и Джошуа. Поделюсь с ним приятными новостями».
Конечно, на пристани шум и толчея, погрузка, разгрузка, разные там грузчики. Пэдди Девлин наверняка уронит тюк, увидев ее в новом чепчике. Мэри усмехнулась, перешла улицу и направилась в порт, пританцовывая, словно шла не по тротуару, а по паркету бальной залы.
Она не заглянула в кофейню напротив ателье мадам Альфанд, не то увидела бы Вальмона Сен-Бревэна, стоявшего за стойкой с крошечной чашечкой кофе, называемого маленьким двойным. Однако Вальмон увидел ее.
«Должно быть, Розина малышка снова на коне, – решил он. – Раз делает покупки у мадам Альфанд, значит, устроилась совсем неплохо. Ишь, какой довольный вид! Прямо полетит сейчас. Пожалуй, я оказал ей услугу, удалив ее из респектабельного дома Куртенэ. Интересно, не захочет ли она как-нибудь выказать мне свою благодарность? Должно быть, в ней есть что-то необычное, раз кто-то снабдил ее кошельком, достаточно толстым, чтобы покупать товары Альфанд. Хотел бы я знать, что это такое».
– Еще один маленький двойной, – сказал Вэл. До встречи с банкиром оставалось еще десять минут, а банк всего в квартале отсюда. Записка от Жюльена Сазерака ему решительно не понравилась. В ней было сказано только, что Вэлу следует прийти в десять утра в кабинет Сазерака для конфиденциального разговора чрезвычайной важности. Записка была слишком загадочна и даже, черт побери, высокомерна. Пусть только предмет разговора не окажется действительно настолько важным, чтобы вызывать его из Бенисона в разгар сахарного сезона!.. Если выяснится, что это всего лишь очередной прожект Жюльена по части размещения капитала… Что ж, в таком случае Вэл просто сменит банкира… Правда, этими своими прожектами Жюльен заработал для Вэла кучу денег… Да, как бы ему хотелось, чтобы банкир был посимпатичнее. Жюльен, по мнению Вэла, был просто рыбой – холодной, бесстрастной…
Пора. Вэл шагнул к дверям, но поспешно отступил, заметив на другой стороне улицы Жанну Куртенэ с горничной.
Еще одна любительница эпистолярного жанра! На прошлой неделе он получил три маленьких раздушенных записочки, в которых Жанна умоляла его прийти на те три бала, на которых будет она. Никогда раньше Вэла не домогались столь откровенно. Он не мог понять, то ли Жанна по-детски бесхитростна, то ли достаточно умна, чтобы притворяться таковой. Также он не мог определить, хочется ему рискнуть ответить на эти авансы или нет. Он наблюдал за ней из полутемной глубины кофейни. Да, надо признать, она мила. Красива. Очаровательно юна, но при этом вполне созрела и волнует кровь. Сильное сочетание. К тому же властная. Она что-то резко бросила горничной, оставив ее ждать на тротуаре, а сама зашла в ателье мадам Альфанд с таким видом, словно это ее собственность. Весьма неосмотрительно. Юным дамам не полагается оставаться без сопровождения даже на минуту, даже у собственной портнихи. Крайне неосмотрительно. Она может оказаться опасной, эта особа. Вэл почувствовал, что заинтригован.
Выйдя из кофейни, он поспешил к банку. Он опаздывал, хотя всегда гордился своей пунктуальностью. Теперь он был сердит на Жанну, что отвлекла его.
Он бы рассердился еще больше, узнав, что Жанна зашла в ателье мадам Альфанд, лишь чтобы передать ему еще одну записочку через тамошнюю служанку. Эта темнокожая девушка была одной из многих подручных и осведомителей Мари Лаво среди слуг Нового Орлеана. Она передаст записку другой служанке, чье имя останется для Жанны неизвестным, а та еще кому-то, кто сможет доставить ее Вэлу в Бенисон. Почта такого рода стоила недешево, и Жанне приходилось приворовывать из кошелька матери.
Ей это не нравилось – она боялась, что ее поймают. Но иного выбора не было. Ей непременно надо было увидеть Вальмона, воспользоваться приворотным зельем, которое Мари оставила в дупле дерева. Времени оставалось мало. Ее отец всячески поощрял визиты американца, Уилла Грэма. Если тот попросит ее руки, ее судьба будет решена.
Жанна немедленно прошла в салон для привилегированных клиентов.
– Я хотела бы кофе, – сказала она приемщице. – Потом можете показать мне мантильи из белых кружев.
Кофе подавала та самая служанка, которая забирала ее записки. И кому какое дело, что у нее уже есть две мантильи? Кружева так легко рвутся!
За неделю с небольшим Жанна успела хорошо усвоить все преимущества, сопутствующие светскому успеху единственной дочери богатого отца. Она купила еще две мантильи и распорядилась доставить их ей на дом.
– Дом вы знаете. Счет пришлете отцу.
– Да, мадемуазель. Может быть, мадемуазель заинтересуют новые сорочки, только что из Франции? Или вечерний кружевной чепец для дома? У нас есть один такой, очаровательный, его прелесть будет заметна лишь на божественном личике мадемуазель Куртенэ.
– Нет. По вечерам я не бываю дома. Сезон такой насыщенный!
– Для вас – разумеется, мадемуазель. Весь Новый Орлеан знает, что вы наша королева красоты.
Жанна оставила высокомерный тон. Она знала, что приемщица говорит правду, и ей очень нравилось слышать ее снова и снова.
– Пожалуй, я все-таки взгляну на сорочки. А есть ли у вас розовая нижняя юбка, шелковая?..
«Мама немного поворчит, но не очень. А вещицы тут действительно премиленькие! Определенно, у мадам Альфанд лучший магазин в городе».
– Это несомненно лучший магазин в городе, – сказала Мэри в тот вечер за ужином. – И я начинаю в нем работать послезавтра. – Она прямо светилась от гордости.
Ложка Пэдди Девлина стукнула о тарелку и упала на пол. Мэри закусила губу, чтобы не расхохотаться. Она не осмеливалась взглянуть в глаза Луизе. «Хорошо, что я не встретила Пэдди на пристани, – подумала она. – Бог знает, что бы он тогда опрокинул себе на ноги… или на меня».
Однако ей было жаль, что она не встретила Джошуа. Она сказала Луизе:
– Твой брат служит на том же пароходе. Не попросишь ли его рассказать Джошуа, как у меня идут дела?
– Конечно, попрошу. По крайности, он не станет стараться сосватать меня за черномазого. С каждым белым холостяком на реке он уже это попробовал. Знаешь, Мэри, семья – это сущее наказание.
– Это я уже усвоила. Куда лучше быть независимой.
– Да, Мэри, признаюсь, когда ты впервые здесь появилась, мне показалось, у тебя ничего не получится. Люди твоего класса обычно не могут жить самостоятельно.
– О чем ты говоришь? Это же Америка, и никаких классов у нас нет.
– Если ты говоришь такое, значит, ты не так умна, как мне казалось. Ничего, скоро поймешь.
Мэри стала понимать уже на следующий день. Когда она вышла из дома, собираясь к обедне, на углу ее встретил Пэдди Девлин.
– Можно мне пойти рядом с вами, мисс Мэри? – Он весь залился краской смущения. К тому же он чувствовал себя неуютно в выходном костюме. Костюм жал в плечах, рукава были слишком длинны, а брюки – слишком коротки. Через весь лоб шла вмятина, оставленная шляпой, которую он снял, приветствуя Мэри.
– Я буду рада пройтись с вами, мистер Девлин, – сказала Мэри. Она опасалась, что тоже покраснела, и надеялась, что ее от природы румяные щеки скроют смущение. Она действительно была рада его обществу. Луиза вставала поздно, а миссис О'Нил уже сходила к заутрене.
До собора Святого Патрика, католической церкви в американской части города, идти было далеко. Шесть кварталов от пансиона до Кэмп-стрит, а затем еще пятнадцать. Было много времени для разговора, но Пэдди, казалось, был не в состоянии произнести ни слова. Чтобы нарушить молчание, Мэри оживленно беседовала о домах и садах, мимо которых они проходили, восхищалась скоростью экипажей, пролетавших мимо, их сияющей медной отделкой и удивительным зрелищем – какая-то женщина сама правила кабриолетом с лакеем-карликом на запятках. Пэдди энергично кивал в ответ на все, что она говорила.
Когда они вошли в церковь, Мэри заметила полупустой ряд слева, ближе к выходу.
– Давайте-ка сядем, – сказала она Пэдди.
– Рядом?
– Да, места хватит.
Мэри не видела лица Пэдди в этот момент. Теперь он был не красным, а бледным от переполнявших его чувств.
Когда началась служба, Мэри увидела, что Пэдди вынул из кармана четки и стал молиться. Она легонько толкнула его локтем.
– Т-с-с! У меня с собой молитвенник, – прошептала она. – Могу поделиться.
Она сама однажды оказалась в таком затруднительном положении – забыла взять с собой молитвенник и не могла уследить за ходом службы.
Пэдди покачал головой.
– Не читаю, – сказал он.
Мэри смотрела на молитвенник и ничего не видела. «Не читаю». Что он этим хотел сказать? Неужели он не умеет читать? Мэри не могла этому поверить. Она сосредоточила внимание на службе, отыскала нужное место и всецело отдалась знакомому и любимому ритуалу, которому уделялось столь важное место в те годы, что она провела в монастырской школе.
И все же она ни на минуту не переставала ощущать присутствие Пэдди, слышать постукивание четок в его пальцах.
Когда они вышли из церкви, Пэдди сделался разговорчивым.
– В следующее воскресенье будет замечательный парад, – сказал он. – Я буду горд, если вы посмотрите его вместе со мной, мисс Мэри. Через годик-другой я и сам буду так маршировать. Во всяком случае, надеюсь.
Они шли, и он говорил – весело, приподнято, рассказывая Мэри о своей жизни и о своей мечте. Он живет в Америке уже два с половиной года, и теперь у него есть постоянная работа грузчика, не то что раньше, от случая к случаю. Он зарабатывает приличные деньги и большую часть откладывает в банк. Еще он работает сверхурочно, бесплатно – учится грузить хлопок в трюмы океанских кораблей. Чтобы загрузить как можно больше, нужны и навыки, и сила. Эта работа называется «ввинчивать хлопок», и винтильщики зарабатывают до пяти долларов в день. Они – настоящая элита грузчиков. Это их ассоциация устраивает парад при всех регалиях.
По словам Пэдди, его мать была бы горда, увидев сына в рядах марширующих, в красивом переднике из синего шелка с серебряной каймой. Впереди пойдет оркестр, а синие с серебром знамена будут возвещать, что идут винтильщики – краса и гордость портов. Он не сомневался, что она увидит его, глядя с небес, и будет счастлива, что убедила его отправиться в Америку. Он был самый старший и самый сильный в семье. Предполагалось, что он накопит денег и пошлет их в Ирландию на билеты остальным членам семьи. Но не хватило времени. Вся семья умерла от голода, прежде чем его корабль доплыл до Нового Орлеана.
– Мои родители тоже умерли, – сказала Мэри. Пэдди вздохнул:
– Да, печально… Но вы-то живы-здоровы, и я тоже, а денек сегодня просто прекрасный… Вы удивитесь, мисс Мэри, но я знал вас еще до того, как вы пришли к вдове О'Нил. Я видел вас, правда, только раз. Еще до того, как меня взяли на постоянную работу. Я тогда копал землю для берегового вала. Вдруг десятник крикнул: «Посторонись!» – и появились вы, верхом на огромном коне, вы, такая маленькая, сидите у него на спине, а он вас слушается. Вы были великолепны, мисс Мэри, просто великолепны! А когда вы появились за столом у вдовы – это было как будто вошла принцесса. Я глазам своим не мог поверить. Всякий раз, возвращаясь домой, я думал, что вы исчезли, что вы только приснились мне… А вчера вечером, когда вы сказали, что устроились на работу, прямо как все прочие, я сам с собой побеседовал. «Пэдди, мальчик мой, – сказал я, – если ты не поговоришь с мисс Мэри, виновата в этом будет только твоя трусливая душа». И вот я сегодня утром подождал вас, но ничего в жизни не давалось мне труднее, как поздороваться с вами. Мир видел много чудес, мисс Мэри, но самое великое из них – это то, что вы идете рядом в Патриком Девлином. И я очень благодарен вам.
Мэри не могла произнести ни слова. Красноречие Пэдди сильно удивило ее, а уж его восхищение ею просто ошеломило. Она улыбнулась как можно приветливее, и они пешком направились назад, в пансион, где их ждал большой воскресный обед миссис О'Нил. За столом оба молчали, вспоминая часы, проведенные вместе.
Мэри наслаждалась новым для себя ощущением – впервые в жизни за ней ухаживали. Она еще не знала правил того мира, в котором очутилась. Если в ирландском квартале молодая женщина идет рядом с молодым человеком по тротуару – это уже сигнал. Если они сидят рядом в церкви – это объяснение. А пользование одним молитвенником свидетельствует о полной близости. Даже если вам это только предложили.
Когда Пэдди Девлин сказал, что они «гуляют вместе», он подразумевал, что они фактически помолвлены. А Мэри решила, что он имел в виду лишь совместную прогулку.
Глава 30
В понедельник утром Мэри проснулась еще до рассвета. Она с нетерпением ждала начала дня, начала новой, самостоятельной жизни.
Потом она опять ждала – у черного хода в магазин мадам Альфанд. Она приехала на полчаса раньше.
Наконец на тротуаре появилась высокая, тощая женщина. Она остановилась и, достав из ридикюля ключ, вставила его в замок. Она представилась, назвавшись мадемуазель Аннет, затем повернула ключ и открыла дверь.
Мэри прошла за ней. То, что она увидела внутри, ужаснуло ее.
Двенадцать женщин – с приходом Мэри их стало тринадцать – работали в маленькой, плохо освещенной мастерской. Не было ни отопления, ни вентиляции. В первый час работы в комнате было холодно и душно. Потом тепло тел нагрело помещение. К полудню жара и духота стали нестерпимыми.
Женщины сидели на табуретках вокруг стола, покрытого белой марлей, чтобы не повредить тонкую ткань платьев, над которыми они трудились. Мельчайшие частички марли парили в воздухе, оседая в носах и ртах работниц.
Мадемуазель Аннет была старшей и тиранила их со всей добросовестностью. Двадцать лет назад она приехала из Парижа вместе с мадам Альфанд и не находила никаких причин изменить свое отношение к тому, что она презрительно именовала колониями. Любое изделие, более того, любая его деталь, неизменно оказывались ниже ее высоких требований.
Разговаривать женщинам не разрешалось, однако сама мадемуазель Аннет не закрывала рта с утра до вечера. Она вела бесконечный монолог, в котором весьма уничижительно отзывалась о работе подчиненных, об их характере и достоинствах.
Она распределяла работу и время, за которое эту работу следовало выполнить. Никому не было никаких поблажек. Поверх платья она надевала черный шелковый халат, в большом кармане которого держала записную книжку и карандаш. В эту книжку она записывала все издержки, произошедшие по вине работниц. Сломанная иголка, погнутая булавка или несколько лишних дюймов нитки на конце шва приводили ее в восторг. «Это будет вычтено из вашего жалования», – скрипела она, размахивая карандашом, словно мечом.
Женщины называли ее стервой. Мадам Альфанд, естественно, была большой стервой, так как ее требовательность и ее истерики превосходили все, на что была способна мадемуазель Аннет.
В первый день работы Мэри была настолько запугана, что руки у нее тряслись и ничего толком не получалось. Мадемуазель Аннет стояла у нее за спиной, заглядывала через плечо и критиковала каждое движение Мэри. Мэри почти не видела лежащей перед ней работы – глаза ее были полны слез.
До перерыва на обед не было ни одной передышки. В перерыв Аннет направилась наверх, в столовую, – она жила вместе с мадам Альфанд. Как только она ушла, Мэри тут же узнала не слишком дружелюбные прозвища, данные Аннет и мадам Альфанд. Она также поняла, что не может рассчитывать на сочувствие других работниц. То, что мадемуазель Аннет все свое внимание уделяла Мэри, означало лишь, что этого внимания выпадало меньше на долю остальных, – все прочее не имело значения. Никакой солидарности среди работниц мадам Альфанд не было и в помине. Женщины ревниво относились друг у другу, не сомневаясь, что работа распределяется неравномерно; причем каждая считала, что ее нагрузили значительно больше остальных. Тактика мадемуазель Аннет сводилась к всяческому поощрению раздоров среди швей, чтобы они не могли выступить сплоченной группой. Отдельных же работниц можно было легко уволить и найти им замену.
За время перерыва Мэри попробовала сойтись с кем-нибудь поближе. Миссис О'Нил приготовила ей судок с обедом, таким же сытным, как и для постояльцев-мужчин. Для девушки с сидячей работой еды было слишком много, и Мэри предложила товаркам разделить с ней трапезу. Через тридцать секунд судок был пуст, и ей самой ничего не досталось. Женщины ели с жадностью, глядя на Мэри неприязненно, ненавидя ее за молодость, за новое платье, за роскошный обед. По ее виду было не сказать, что ей так уж нужна работа, а для каждой из них конверт с еженедельным жалованием был единственным источником существования.
– Чего она тут вообще делает? – Мэри услышала, как этот вопрос Мари Третья задала Мари Второй. – С ее-то нарядом и разговором, как у светской дамы. Поди, воображает себя герцогиней, которая вышивает гобелены для собственного замка.
Эта враждебность вызвала ярость Мэри. А благодаря ярости ей удалось сохранить место. После обеда она работала, как безошибочный, не знающий устали автомат. Она внушила себе, что должна быть такой же холодной и бесчувственной, как эти женщины, отвергшие ее дружбу. К концу дня мадемуазель Аннет перенесла свое внимание на более перспективную жертву, что вызвало у Мэри не очень благородное чувство торжества и облегчения.
Вечером она еле притащилась домой. Так она еще никогда в жизни не уставала. От долгих часов напряженного сидения на табуретке у нее болел каждый мускул. И на сердце было тяжело – умерли все ее надежды на интересную и приятную работу на первом рабочем месте.
– Замечательно, – ответила она с неубедительной претензией на веселость, когда ее спросили, как прошел ее первый рабочий день.
– Замечательно, – неизменно отвечала она и каждый последующий вечер, измотанная до полусмерти. Один мучительный день сменялся другим, тело и разум Мэри онемели до того, что она даже не ощущала, насколько ей мерзко.
Это ощущение как молнией поразило ее в конце недели, в субботу, когда ее положение несколько улучшилось. Ей поручили весьма сложную вышивку, яркий цветной рисунок шелком, изображающий крохотную колибри, пристроившуюся на цветке мака. Вышивка должна была украсить карман передника одной дамы, увлеченной садоводством.
Мэри очень нравилось наблюдать, как под ее ловкими пальцами обретают форму крылышки, лепестки, листочки. Все треволнения душной мастерской отступили, и она целиком сосредоточилась на работе, которая была для нее не столько работой, сколько удовольствием. Вот такой работы она ждала. Она не замечала сердитых взглядов Мари Второй, которая была самой искусной и высокооплачиваемой мастерицей и специализировалась на вышивке.
Когда работа была закончена, мадемуазель Аннет не смогла найти ничего, достойного критики. Мэри улыбнулась – впервые за всю эту неделю.
– Заверните и доставьте по назначению, – резко сказала Аннет. На улице было холодно и шел дождь.
Аннет немало огорчилась бы, узнав, как обрадовали Мэри морозный воздух и улицы, покрытые слякотью.
Лишь по возвращении с этой долгой прогулки Мэри почувствовала, что приподнятое настроение покинуло ее, а сердце преисполнилось отчаянием. Она не могла больше находиться в этой вонючей комнате, среди враждебно настроенных женщин. «Ненавижу эту работу», – призналась она себе.
Но выбора у нее не было. «Хорошо хоть, неделя почти закончилась, – подумала Мэри. – Еще час я могу все это вынести».
Ухватившись за ручку двери так, словно это была крапива, она нырнула в тяжелый, нездоровый воздух мастерской.
И обнаружила, что за время ее отсутствия кто-то испортил ее ножницы и булавки. Кончики были отломаны.
Она возмущенно пожаловалась мадемуазель Аннет, которая в ответ обругала ее за халатность и нахальство, а потом с довольным блеском в глазах извлекла из кармана записную книжку.
Когда Мэри села в вагончик конки, направляясь домой, она раскрыла небольшой коричневый конверт и высыпала свой недельный заработок на подол. Пять долларов и сорок семь центов. Раньше ей казалось, что в этот момент она испытает радость, сопутствующую успешно выполненному делу. Но она чувствовала лишь усталость.
– Луиза, можно тебя на минуточку? Луиза махнула рукой, приглашая Мэри войти, пока она допоет начатую гамму.
– Приляг на кровать, Мэри. Ты выглядишь просто ужасно.
– Я страшно устала. Хотела спросить, как это у тебя получается. Ты каждый день ходишь на работу, и у тебя еще хватает сил заниматься дома. Ты никогда не устаешь?
– Еще как устаю! Играть на фортепьяно в школе танцев этого старого мошенника мистера Бэссингтона – такая мука! Но за это я получаю деньги и могу платить за уроки вокала и билеты в оперу, так что я довольна. Больше всего на свете я хочу стать оперной певицей и готова вынести все, лишь бы добиться этого. Не хочешь пойти со мной сегодня? В опере когда-нибудь была?
Мэри массировала исколотые, сведенные судорогой пальцы.
– Да, я была в опере, – сказала она. – Теперь мне кажется, это было очень давно.
– Что с тобой? Руки болят? Ой, да у тебя все пальцы исколоты. Попрошу-ка я у вдовы квасцов. Будешь окунать кончики пальцев в раствор, и кожа станет крепче… Господи, Мэри, какие у тебя странные пальцы. Дай-ка взглянуть… – Луиза взяла руку Мэри и стала рассматривать необычное строение ладони. – Если бы у меня были такие пальцы, я стала бы лучшей пианисткой в мире. Это из-за таких пальцев ты шьешь лучше других?
Мэри посмотрела на собственные ладони. Откровенное любопытство Луизы ее не смущало. Казалось, прошло сто лет с той поры, когда она стыдливо прятала свои пальцы от посторонних взглядов. Какой же она была молодой! Молодой и глупой.
– Может, они и помогают мне шить, – сказала она. Это была интересная мысль. Хорошо бы ее пальцы оказались годны не только на то, чтобы служить отправной точкой грез о несуществующей семье, в которой у всех женщин такие пальцы. Слезы ручьем хлынули у нее из глаз.
– Мэри, все не так уж плохо! – Луиза обняла Мэри за плечи и принялась качать ее, как ребенка. – Поначалу всегда бывает трудно. Потом привыкнешь, вот увидишь.
– Ничего у меня не выйдет, – сказала Мэри потухшим голосом. – Вот, посмотри. – Она достала из кармана коричневый конверт и протянула его Луизе.
На нем она сделала подсчет карандашом. Ничего радостного в этом подсчете не было:
Пансион – 3.00
Обеды навынос – 1.00
Конка – 1.80
____________________
Итого – 5.80
– Это мое недельное жалование, Луиза. Здесь пять долларов сорок семь центов.
– Что ж, Мэри, могу сказать только, что ты еще совсем дурочка. Ты же не грузчик, которому надо таскать на плечах ящики. Зачем тебе обед навынос? Лично я всегда обедаю чашечкой кофе и какой-нибудь мелочью у уличного торговца. Это стоит примерно пять центов. К тому же тебе полезнее ходить пешком, чем ездить на конке. Ты же целый день сидишь взаперти в своей мастерской. Тебе надо только немножко получиться вести дела, вот и все. Теперь пошли. Умойся. Сегодня я угощаю тебя оперой, но для этого нам надо поторопиться, а то опоздаем. Поужинаем, когда вернемся. По запаху чувствую, что у нас сегодня красная фасоль с рисом. Опять! Третий раз за неделю.
– А мне нравится фасоль с рисом.
– Ну и хорошо. Определенно, чего-чего, а этого нам достанется досыта.
К началу спектакля Луиза с Мэри опоздали. На лестнице, карабкаясь на самый верхний ярус, они слышали приглушенные звуки музыки. Губы Луизы беззвучно двигались, вторя хору. Она улыбнулась Мэри.
– «Севильский цирюльник», – прошептала она. – Я всю оперу знаю наизусть, даже партию баса. Мистер Бэссингтон подарил мне на день рождения ноты и либретто.
Для Мэри музыка была волшебным средством забыться, уйти от забот и усталости. До антракта она потеряла ощущение того, кто она и где находится. Затем люстры осветили ложи, бывшие своего рода сценой в миниатюре, и те спектакли, которые в них происходили. Мэри увидела Жанну и Берту Куртенэ, принимавших гостей в своей ложе, и почти не могла поверить, что всего несколько недель назад была там, внизу, рядом с ними. Тогда, сидя в ложе, она даже не заметила галерку. Но теперь, сидя на галерке, было просто невозможно не замечать лож.
Как невозможно было и перестать искать взглядом знакомые лица, и противостоять нахлынувшей волне счастья, когда среди кавалеров в ложе Куртенэ, поднимающих бокалы за здравие Жанны, она не увидела Вальмона Сен-Бревэна. Это означало, что помолвка все-таки не состоялась.
Музыка оркестра, возглавляющего парад, сильно отличалась от музыки в опере. И тем не менее она была по-своему столь же волнующей. Она не поглотила Мэри, не унесла прочь от этого мира, но наполнила ритмами и радостью, превратила ее в неотъемлемую часть окружающей толпы. Ее ноги приплясывали сами собой, а ладони хлопали в такт другим ладоням.
– Мне так хорошо! – крикнула она Пэдди Девлину. Когда парад двинулся дальше, Мэри и Пэдди медленно пошли вместе со всеми по Джексон-стрит к береговому валу. Впереди них люди останавливались, собираясь вокруг дерева с облетевшими листьями.
– Что там? – спросила Мэри.
Пэдди вытянул шею и привстал на цыпочки.
– А, – сказал он, вернувшись в исходное положение, – извещение о смерти. Пойдем, Мэри, поглядим. – Он локтями проложил им путь через толпу.
Прибитый к дереву листок с черной каймой извещал, что Майкл Фрэнсис Коркоран отошел в лучший из миров в субботу, двадцать четвертого ноября. Прощание с покойным состоится в доме на Джозефин-стрит, напротив сиротского приюта для мальчиков. Пэдди попросил Мэри прочесть извещение вслух.
– Допился, значит, наш Фрэнк Коркоран, – сказала худощавая пожилая женщина. – Говорила я, что к тому идет. – В голосе ее звучало удовлетворение.
– Хорошие поминки будут, – сказал какой-то мужчина. – Надо бы поторопиться. – И он стал поспешно проталкиваться сквозь толпу мимо Пэдди и Мэри.
– Куда он так спешит? – сказала довольная собой старуха. – Кейт Коркоран еще, поди, окорок не дожарила. Времени полно.
– Знаете, а она права, – понизив голос, сказал Пэдди. – Давайте пройдемся по валу, как и собирались. А потом, мисс Мэри, пойдем на поминки, если желаете.
– Нет, не желаю. Я никогда не была на похоронах и знать не знаю Коркоранов.
Пэдди подождал, пока они не отошли на некоторое расстояние от дерева и окружавших его людей, и лишь потом сказал:
– Так вы, мисс Мэри, не знаете, что такое поминки? Это совсем не похороны, как вы сказали. Похороны будут потом, и участвовать в них будут только члены семьи. Поминки же – это для новопреставленного и всех, кто его знал. Это как большой праздник. Все будут рассказывать о Фрэнке Коркоране, какой он был замечательный человек. По большей части это, конечно, вранье – он был старым негодяем, избивал жену и пропивал деньги, отложенные на квартплату. Но не грех же немножко приукрасить портрет, вдове на память. Будет отменный стол, бочонок виски, а чуть погодя – роскошный кулачный бой во дворе. Ничего нет лучше поминок!
Мэри пришла в ужас:
– Зачем же драться-то?
– Ради удовольствия. Мужчине немного помахать кулаками – одно удовольствие.
– А вы когда-нибудь дрались, мистер Девлин? Пэдди громко рассмеялся:
– Когда еще пешком под стол ходил. О, многие ходят с переломанными носами благодаря Пэдди Девлину. Но не беспокойтесь, мисс Мэри. Пока с вами рядом Пэдди Девлин, никто вас не обидит.
Мэри подумала о мадемуазель Аннет. Было бы просто замечательно, если бы Пэдди переломал ей нос. Она знала, что он имеет в виду совсем другое, но сама мысль показалась ей чрезвычайно забавной. Хвастовству Пэдди она не очень поверила. Да, люди бранятся, кричат друг на друга, но ведь не бьют же.
Пэдди улыбнулся, полагая, что Мэри рада его покровительству:
– Так значит, вы позволите мне проводить вас на поминки к Коркоранам?
Мэри покачала головой:
– Пожалуй, лучше не надо. Пэдди улыбнулся еще шире.
– Ничего, – сказал он. – Поминки продлятся два-три дня. Я и завтра могу заглянуть.
В спокойном молчании они прошли вдоль берегового вала по тропке, тянущейся между ив. Легкий ветерок шевелил зеленые ниспадающие ветви деревьев, а река рябила от солнечных бликов. Мэри вспомнила конец ноября в горах Пенсильвании и порадовалась зеленым деревьям, траве и теплому солнышку, ласкающему ее плечи.
– Я согласна не увидеть больше ни одной снежинки, – сказала она.
– Что?
– Так, ничего особенного, мистер Девлин. Просто задумалась о том, до чего же я счастлива.
– Его зовут Снежное Облако, – сказал Вальмон Сен-Бревэн, – разве он не прекрасен?
Микаэла де Понтальба пожала плечами:
– Потрясающе красив, отрицать не стану. Пара белых коней, впряженных в черное ландо, великолепно смотрится на прогулке в Булонском Лесу. Но для скаковой лошади, дорогой Вальмон, в столь броской красоте есть нечто вульгарное.
Вэл усмехнулся:
– На самом деле вам хочется купить его у меня, не так ли?
– И не подумаю. Просто даю вам понять, что не буду в обиде, если вы подарите мне его в знак уважения.
– Дорогая баронесса, я уважаю вас больше, нежели любую другую женщину во всей мировой истории. Стоит вам попросить – и в вашем распоряжении будут безупречные изумруды. Но только не Снежное Облако. Я охотился за ним с тех самых пор, как увидел его на скачках в Кентукки. Мой умница банкир каким-то образом узнал, что владелец поставил его на кон в игре в покер и проиграл одному из профессиональных картежников, орудующих на пароходах. Благослови Господь Жюльена Сазерака. Он послал за мной как раз вовремя, и я успел встретить пароход у причала. Иначе я никогда не заполучил бы Снежное Облако. Это самая быстрая и умная лошадь во всей Америке. В январе я собираюсь взять его в Чарлстон и выиграть целое состояние.
– У вас и так уже десять состояний.
– А у вас сорок. Неужели вы против, чтобы я получил еще одно? Это ведь риск, и вы прекрасно это знаете.
Микаэла улыбнулась:
– В последнее время слово «риск» стало слишком часто звучать в ваших устах, Вэл. Боюсь, что вы изнываете от скуки. Вам бы влюбиться до беспамятства. Без взаимности, разумеется. Тогда вы, естественно, вгоните в тоску всех остальных, зато сами от нее полностью излечитесь.
Вэл рассмеялся:
– Я бы последовал вашему совету незамедлительно, но не могу. Мне неизменно отвечают взаимностью еще до того, как я успеваю влюбиться сам.
Теперь рассмеялась Микаэла. Смеялась она долго.
– Если боги вас услышали, – сказала она, наконец успокоившись, – вы тысячекратно заплатите за свое легкомыслие, мой глупый юный друг. Теперь ведите меня в дом. Признаю, что лошадь ваша превосходна, но у меня было предостаточно времени полюбоваться ею. Теперь я желаю кофе, коньяку и роскошного обеда. От деревенского воздуха у меня разыгрывается волчий аппетит.
– Вы так и не рассказали, почему почтили меня своим визитом, – сказал Вэл, разливая коньяк. – Я должен догадаться сам? Или причина мне известна?
– Мне надоело в городе. Однако вы правы – я приехала не просто так. С моей застройкой не все хорошо, Вэл. Второй квартал почти достроен, а съемщиков нет. Даже для первого квартала. В одном доме поселилась я с сыновьями, другой снял молодой портретист с женой. Шестнадцать домов пустуют. Ужас какой-то. – Баронесса залпом выпила коньяк и протянула пустой бокал Вэлу. Вэл налил порции побольше.
– Я предупреждал вас, Микаэла. Старая французская гвардия теряет власть в городе. Новый Орлеан растет в сторону предместий. Старая площадь перенаселена. Легче строить во Втором районе или в пригороде, скажем, в Лафайетте, чем сносить старые дома и возводить постройки на их месте, как поступили вы. Деловой центр сместился на север от Кэнал-стрит, на которой расположены все крупнейшие магазины, а брокерские и торговые конторы – на Кэмп-стрит. Этот процесс длится уже многие годы, а в последнее время он ускорился. Появилось новое поколение креолов, которые изучают в школах не только французский, но и английский. Они не желают оставаться за невидимой стеной, стоящей на нейтральной полосе.
– Какой же вы обыватель! – возмутилась Микаэла. – Неужели вас нисколько не трогает красота, очарование, традиции? Неужели вы не усвоили в Париже, что есть цивилизованный образ жизни? Американцы создают бездушный город, где главенствующую роль будет играть бизнес. Они думают, что красота – это большие масштабы. Мои дома стоят в сердце Нового Орлеана. И я рассчитывала, что они заставят это сердце биться с новой силой. Самые элегантные магазины вдоль улицы, самые элегантные апартаменты над магазинами! Когда закончу это строительство, я перестрою Пляс д'Арм. Разобью сады, поставлю фонтан, чтобы люди, живущие в моих домах, видели нечто прекрасное со своих балконов и могли гулять по чудесному саду. К северу от Кэнал-стрит такой изысканности нет и быть не может. Почему никто этого не понимает? Зачем я опустошаю свои карманы, трачу все силы души – чтобы метать бисер перед свиньями?
Вальмон опустился на колено возле ее кресла.
– Друг мой, – тихо сказал он, – скажите, чем я могу помочь вам?
Микаэла погладила его по щеке.
– Я уже успокоилась, – сказала она. – Просто мне нужно было выговориться. Вы такой славный, Вэл. Я хочу, чтобы вы заказали свой портрет моему съемщику, художнику Ринку. Тогда он станет знаменитостью, а остальное последует само собой.
Вальмон поднялся:
– Ладно. Ради вас, Микаэла, я готов даже на это. Но, честное слово, лучше бы вы попросили у меня коня. Теперь я буду чувствовать себя полным идиотом.
– Ну, только не вы, дорогой мой, только не вы! У вас есть стиль, одухотворенность.
– Я же сказал, что согласен. Нет надобности сластить пилюлю.
Баронесса протянула руку:
– Ну, не дуйтесь. Давайте поцелуйте меня и скажите, что вы меня прощаете.
Вэл поднес ее руку к губам:
– Я никогда не прощу вас, но любить буду до самой смерти.
Пока Вэл и Микаэла вели этот разговор, в дом украдкой проникла невысокая фигурка; она металась от куста к кусту, чтобы остаться незамеченной. Это была Жанна Куртенэ. Она взбежала на галерею в тот самый момент, когда Вальмон поднес руку Микаэлы к губам и произнес свое ироническое признание, которое Жанна услышала через приоткрытую дверь.
– Нет! – закричала она и распахнула дверь с такой силой, что стекло вылетело и вдребезги разбилось. – Ты не можешь любить ее! – Шагая прямо по осколкам, Жанна вбежала в комнату. – Не можешь! Она старая и уродливая! А я молода и прекрасна, и я люблю тебя, Вальмон! И ты тоже должен любить меня, обязательно должен!
Баронессу это позабавило.
– Вэл, милый, еще и представление на закуску! Вы великолепный хозяин.
Жанна выставила коготки и бросилась на баронессу. Вальмон ухватил ее сзади за талию и крепко держал, несмотря на то что та отчаянно вырывалась и лупила его каблуками по ногам.
Микаэла неожиданно энергично поднялась. В два шага она оказалась лицом к лицу с Жанной и ухватила девушку за запястье.
– Так не пойдет, – сказала она спокойно. Затем ослабила хватку и, прежде чем Жанна успела опомниться, влепила ей крепкую пощечину, от которой голова Жанны откинулась Вэлу на грудь. – Отпустите ее, – сказала баронесса. – С этим я и сама справлюсь. – В голосе Микаэлы звучала такая уверенность, что Вэл ни на секунду не усомнился в истинности ее слов.
И Жанна тоже. Перестав метаться и извиваться, она разревелась. Вальмон отпустил ее.
– Выйдите, Вэл, – сказала Микаэла. – Прикажите подать мой экипаж. Я отвезу эту юную особу домой. Вы – Жанна Куртенэ, не так ли? Идите, Вэл. – Она посмотрела на Жанну так, словно перед ней был нашкодивший котенок или щенок. – Садитесь, мадемуазель. Мы с вами выпьем кофе, пока готовят экипаж. Вэл, я же просила оставить нас! Горько быть побежденной, не добавляйте же к ее горю еще и унижение.
Жанна сидела, закрыв лицо руками. Она отвела руки лишь тогда, когда Микаэла сказала:
– Он ушел. Теперь подумаем, что еще можно спасти. Вы выставили себя крайне глупо, а это почти безнадежно. Но при этом вы проявили некоторое чувство стиля и бездну страсти, а Вальмон падок и на то и на другое.
На столе рядом с кофейным подносом Микаэла оставила записку.
«Дело улажено. Возвращаю Ж. и ее лошадь деду, с подходящей историей, чтобы защитить доброе имя всех присутствующих. До чего глупа! Какая жалость. Страстная юная К. явилась с зельем вуду, перед которым вы были бы беззащитны, так что вы обязаны мне больше, чем думаете. Разумеется, вы будете счастливы оказать мне в ответ пустяковую услугу. См. на обороте».
Вэл перевернул квадратную карточку. На обратной стороне было напечатано объявление:
Альберт Д.Ринк
портреты маслом и акварелью
сходство гарантируется
Сент-Питер-стрит, 5
Новый Орлеан, Луизиана
Карточка была окаймлена узором, воспроизводящим грациозные изгибы чугунных решеток на домах Микаэлы. В центре сверху помещался элегантный картуш с ее инициалами. Вэл ухмыльнулся – личность баронессы оказала явное воздействие на профессиональную деятельность ее жильца.
Он громко рассмеялся, прочитав то, что было нацарапано в уголке: «Знаете ли вы очаровательную английскую пьесу „Школа злословия“? Там есть вирши, очень подходящие для нашего случая: „За скромную деву пятнадцати лет; За вдовушку лет в пятьдесят“. Как уместно!»
Он положил карточку в нагрудный карман. В понедельник утром, после того как проследит за ходом заготовки сахара, он съездит в город и посетит этого художника. Вероятно, придется заглянуть еще кое к кому. Если баронесса оказалась в его доме не случайно, может возникнуть скандал, в чем он не находил решительно ничего смешного.
Глава 31
«Неужели всего неделю назад я была так счастлива получить работу, что примчалась туда задолго до открытия?» Закрыв за собой дверь дома О'Нил, Мэри даже вздрогнула. Солнце еще только вставало над горизонтом. Вокруг все было серо, и на душе у Мэри было пасмурно. Когда она впервые увидела невысокие домики на Эдел-стрит, они показались ей уютными. Теперь они выглядели непрочными и холодными. И убогими. От грязной, испещренной рытвинами улицы несло гнилью. Коза, вольно разгуливающая в канаве, была покрыта полосами грязи.
Мэри расправила плечи, приподняла юбку повыше лодыжек и решительно двинулась через грязь, направляясь пешком на работу.
«Как бы ни складывались дела, нельзя отчаиваться, – сказала она себе. – Нельзя сдаваться. Ты сильная, здоровая, у тебя есть крыша над головой и верные друзья. Ведь посмотри – даже когда ты сказала миссис О'Нил, что не будешь больше покупать обеды навынос, она все равно дала тебе еды. И очень вкусной. И что с того, что это были остатки с субботы? Ты же любишь фасоль с рисом. К тому же сегодня понедельник, так ведь? А по понедельникам это блюдо ест весь Новый Орлеан».
«Два раза в день?»– возразила она самой себе. Она знала, что на ужин тоже подадут котелок со свежей порцией фасоли с рисом. Ей хотелось заплакать. Или рассмеяться. И она засмеялась. Шаги ее стали тверже и быстрее. Мадам Альфанд не единственная портниха в Новом Орлеане. Главное – не зевать, использовать обеденный перерыв и хорошенько осмотреться. Непременно подвернется что-нибудь получше. Надо только быть внимательней и не упустить случай. Между тем, она уже узнала много нового. Теперь она намного больше понимала в выкройках, чем раньше. Она усвоила некоторые маленькие хитрости, с помощью которых можно было добиться того, чтобы платье выглядело лучше, чем оно есть на самом деле, и научилась затрачивать как можно меньше времени и сил, выполняя ту же самую работу. Если у нее когда-нибудь будет время и деньги сшить себе новое платье, она будет точно знать, что делать. До начала лета она перешьет те платья, которые дала ей Жанна Куртенэ, подгонит их по фигуре, возможно, изменит фасон голубого…
Мысленно перебирая все многочисленные возможности, Мэри быстро шла по неровным тротуарам, совершенно не ощущая расстояния. Небо сменило цвет, став из серого золотым, а из золотого голубым. Рядом с Мэри двигалась ее тень. Приблизившись к Кэнал-стрит и первым витринам, она замедлила шаг. Прохожие видели молодую женщину, которая улыбалась, глядя на товары, весьма соблазнительно выставленные на витринах. Мэри видела десятки блузок, передников, корсетов, платьев, привлекательностью и качеством отделки явно уступавших тем, что шила она.
Мастерская мадам Альфанд и работницы были холодны и неприятны как всегда. Но Мэри повезло – ей дали очень интересную вышивку, которой можно будет заниматься по меньшей мере четыре дня. Это был напоминающий пенистые гребни морских волн узор из широких завитушек по подолу бального платья. Стежки делались шелковой ниткой, причем с каждым стежком к платью прикреплялась маленькая сверкающая бисеринка, прозрачная и искрящаяся, словно капелька воды. И ткань было приятно держать в руках – это был плотный дорогой атлас теплого персикового тона.
Мэри чувствовала на себе неприязненный взгляд Мари Второй – той, несмотря на опыт, поручили менее сложный бордюр: аппликацию из листьев на короткой мантилье. От ее зависти работа у Мэри только спорилась. «Прости меня, Господи, – подумала она. – Я становлюсь такой же врединой, как они». Но радость от работы перевешивала чувство вины, и пообедала она с большим аппетитом, не предложив никому ни единой фасолинки.
Просевшая калитка невероятно скрипела, и, когда ее отворяли, скрип этот походил на стон. Но кое-кто знал, что сначала ее надо слегка приподнять. Вальмон Сен-Бревэн бесшумно открыл калитку – петли были хорошо смазаны.
– Добрый день, ваше величество, – сказал он, когда Мари Лаво-старшая открыла дверь на его стук. – Сегодня понедельник, и я надеюсь, что мне дадут красной фасоли с рисом.
Царица вуду расхохоталась от всей души.
– Заходи, – сказала она. – Мари занята готовкой, а я сейчас ухожу.
– Я безутешен. Я ведь пришел повидаться с тобой. Она вновь рассмеялась.
Вальмон прошел через дом в большую кухню. Мари улыбнулась ему. Она стояла босая, лодыжки ее были украшены браслетами, а один из больших пальцев ноги украшало огромное кольцо с рубином и бриллиантами. Курчавые черные волосы падали ей на плечи и почти скрывали блестящие бриллиантовые серьги. Рубиновое ожерелье подчеркивало бронзовый оттенок кожи. На ней была белая блузка с глубоким вырезом и пышная, почти до полу юбка из красного шелка.
– Ты так вырядилась под цвет фасоли с рисом? – спросил Вальмон.
– Конечно. Ты проголодался?
– Конечно.
– Тогда садись. Все готово. – Мари поставила поднос на стол возле окна и принялась нагружать его бутылочками и баночками, которых на столе было великое множество. Вальмон принялся было помогать ей, но Мари шлепнула его по руке, и он оставил эти попытки.
– Что у тебя там собрано, Мари? У тебя и вправду есть толченые ящерицы, кости черных кошек и корень мандрагоры?
– Не надсмехайтеся над моим рукомеслом, миши, – сказала Мари с нарочитым местным акцентом.
– Мне просто интересно, – ответил ей Вэл с чистейшим парижским произношением. – Но если ты предпочитаешь разыгрывать спектакль…
– Старые привычки, что поделать, – сказала Мари на безупречном французском. – Очень уж ты по виду похож на других белых. Я забываю, какой ты есть, когда подолгу тебя не вижу.
– Сахарный сезон. Мари улыбнулась.
– Ах, вот так, значит, это теперь называется? – Она убрала поднос и поставила на стол тяжелые глиняные миски. От фасоли с рисом, положенной в миски, поднимался аппетитный пар. – Ты позволишь мне взглянуть на монограмму? – спросила она. На лице ее было выражение невинного любопытства, но в серых глазах светилось озорство. – Мне непонятно, тебя просто прижгли прутом из балконной решетки, или пришлось делать татуировку?
Вальмона эта реплика застигла с набитым ртом, на что Мари и рассчитывала. Он расхохотался так, что едва не подавился.
Придя в себя, он взял Мари за руку и церемонно ее поцеловал.
– Твоя ревность делает мне честь, – произнес он, не отрывая губ от гладкой кожи ее пальцев. Отпустив ее руку, он принялся развязывать шейный платок. – Равно как и любопытство. Я попробую удовлетворить его. Можешь сама поискать монограмму.
Мари прыснула:
– Льстишь себе, как всегда. Можешь хоть до костей оголиться – я все равно с тобой в постель не лягу.
Не говоря ни слова, Вальмон завязал платок и сосредоточился на еде. Мари последовала его примеру.
Молчание их было спокойным. Чувствовалось, что еда доставляет удовольствие обоим. Фасоль с рисом была очень вкусна, а некое сексуальное напряжение между ними служило как бы дополнительной острой приправой.
Было маловероятно, чтобы Вальмон когда-нибудь разделил постель с Мари, и они оба это знали. У Мари были любовники, но только не белые, и лишь такие, которыми она могла повелевать. Вальмон же не подходил ни по одному из пунктов.
Но маловероятно – еще не значит невозможно. Оставалась небольшая вероятность, которая приятно дразнила обоих, давая пищу для игр, тем более приятных от того, что эта возможность оставалась неиспользованной. На этом и строилась их дружба, но не только и не столько на этом. Главным было взаимное уважение и восхищение. Каждый признавал силу личности и независимость другого. Ни одному из них не требовалось утверждаться в глазах другого. Поэтому им было хорошо вместе.
– Еще? – спросила Мари, когда миска Вальмона опустела.
– Кофе, если можно. Было очень вкусно – выше всяких похвал.
– Пойду поставлю кофейник. – Мари проворно убрала миски со стола, а вместо них поставила чашки, потом высыпала из жестянки кофейные зерна и принялась их толочь, повернувшись к Вэлу спиной.
– И какие же драгоценные компоненты ты замешиваешь в приворотное зелье, Мари? – лениво спросил он.
Мари ничего не ответила. Плечи ее сотрясались от смеха.
– Значит, это была ты, черт возьми! – В голосе его уже не было умиротворенности. – И после этого ты можешь называть себя моим другом? Если тебе нужны деньги, я дам тебе их. Вовсе не обязательно продавать мое будущее какой-то истеричной девице. Кончай, черт возьми, молоть и ответь мне!
Мари метнула взгляд через плечо:
– Погоди минуточку. Надо кофе заварить.
– Не хочу я никакого кофе! Мне нужен твой ответ.
– А я хочу кофе, и мне все равно, хочешь ты его или нет. И не забывай, что ты в моем доме, месье Сен-Бревэн. Веди себя как джентльмен или убирайся. – Она занялась кофе, а Вальмон пыхтел от ярости.
Потом она пододвинула свой стул к столу. Глаза ее искрились весельем и немножко злорадством.
– Тебе изменило чувство юмора, Вэл. Я разочарована.
– Мари, в этом нет ничего смешного. Как ты могла направить Жанну Куртенэ в мой дом с каким-то зельем? Она устроила нелепейшую, омерзительную сцену.
Мари наклонилась к нему, упершись ладонью в подбородок:
– Что еще за нелепую сцену? Расскажи, мне страшно интересно.
– Уж поверь мне на слово, чрезвычайно нелепую. Почему ты со мной так поступила, Мари? Я не мог поверить, что это ты послала ее, пока ты не расхохоталась, как ненормальная.
– Ах, Вальмон, не строй из себя обиженного. Я ничего дурного не замышляла. Эта дурочка нарушила мои указания. Я всего-навсего дала ей заклинание для чрезмерно озабоченных светских девственниц. Ей нужно было прошептать заклинание тебе на ухо, когда вы окажетесь вместе в постели. С такими, как она, это всегда ведет к браку. Ведь если бы ты лег с ней в постель, все равно обязан был бы на ней жениться; ведь так в вашем мире полагается?
– Ты велела ей забраться ко мне в постель?
– Ничего подобного. Я велела ей прошептать заклинание, когда она уже окажется в твоей постели. Это очень существенная разница.
Вэл уставился на невинно улыбающееся лицо Мари. Помимо воли он засмеялся.
– Вот ведьма, – сказал он.
– Спасибо.
– Кофе готов?
– Это могло случиться, – сказал Вэл, прихлебывая кофе, – если бы она объявилась, когда я был навеселе, чувствовал себя одиноко или не в духе. Она аппетитная штучка.
– Тебе, друг мой, нужна женщина… Нет, не я. И не крошка Куртенэ. С ней ты через неделю сойдешь с ума от скуки.
– Знаю. Но когда я рядом с ней, то боюсь, что могу забыть об этом. Она очень красива, Мари, а я неравнодушен к красоте.
– Без мозгов?
– У мужчины между ног нет мозгов. Мари улыбнулась:
– Да, дела у тебя похуже, чем я предполагала. По-моему, я знаю, как решить твою проблему.
– Твоими порошками? Я еще не хочу стать евнухом. – Вэл был раздражен. Сначала баронесса, а теперь вот Мари. Все вокруг вбили себе в голову, что его мучает некая проблема, и всем неймется посоветовать ему, как ее решить.
И тут Мари сказала единственное, что могло снять его раздражение:
– Дорогой Вальмон, меньше всего на свете мне хотелось бы, чтобы ты потерял свои мужские качества. Я слишком большая эгоистка. – В ее взгляде было столько страсти, столько желания, едва ли не обещания, что когда-нибудь она больше не сможет сохранять дистанцию между ними.
На мгновение Вэл даже испугался. Мари-подруга была драгоценной находкой в его жизни, но Мари-любовница… Он не знал, что из этого вышло бы, но по спине его пробежал холодок.
– Я дам тебе знать, Вэл, – сказала она. – Скоро. Поверь мне.
– Но не слишком скоро. С сахаром еще не разобрались. Мне не следовало быть в городе, но я обещал помочь Другу.
– Баронессе Понтальба-и-Альмонестер?
– Да, ей, если тебе непременно надо знать.
– Но, дорогой Вэл, я и так знаю. Я всегда все знаю. Ты забываешь, что я Мари Лаво.
– Если ты знаешь все, Мари Лаво, то знаешь, стоит ли на мне клеймо Понтальба. Зачем было спрашивать?
Мари ответила гортанным смехом:
– Может, я просто, как ты выразился, ревновала.
Вальмон улыбнулся. Знакомая старая игра. Опасный момент миновал. Он протянул ей чашку за очередной порцией кофе.
Не только Вальмон и Мари, но и многие другие говорили о баронессе Понтальба.
Полдесятка женщин обсуждали за кофе, как убедить ее принять приглашения на балы, которые они будут давать в декабре.
Жанна Куртенэ рыдала, как младенец, в объятиях матери, признавшись ей в своем вчерашнем поступке.
– Мама, почему он любит эту сморщенную старуху, а не меня? Как я могла так все испортить? Теперь он никогда меня не полюбит. Я готова выйти хоть за папиного американца. Мне все равно.
Берта покрепче прижала к себе мягкое тело своего единственного ребенка. Она знала, что поверенный Карлоса Куртенэ уже ведет переговоры с поверенным Уилла Грэма о брачном контракте и приданом.
– Только что прибыл посыльный с пристани, – сказала мадам Альфанд мадемуазель Аннет у дверей мастерской. – Пришло судно из Франции. Немедленно пошлите кого-нибудь. Там перчатки для баронессы, она давно уже их требует.
– Мари Четвертая, ты у нас самая быстроногая. – Мадемуазель Аннет тряхнула Мэри за плечо. – Пошевеливайся.
Мэри перевязала коробку с перчатками бледно-лиловой шелковой лентой, которую предусмотрительно взяла в мастерской, и лишь затем передала ее горничной, открывшей ей дверь в доме баронессы. Ленточка была своего рода фирменным знаком мадам Альфанд, ее ланьяппом. Такой ленточкой перевязывали все пакеты из ее магазина.
«Я бегом бежала к пристани и обратно, – подумала Мэри, – и бежать еще и на работу не собираюсь».
Она заглянула в витрину магазина, находившегося рядом с дверью. С тех пор как она впервые увидела этот магазин с месяц назад, там ничего не изменилось. Ни снаружи, ни внутри. Там сидела все та же молодая женщина с прежним выражением озабоченного ожидания на лице.
Губы Мэри раздвинулись в улыбке. Возможно, это именно то, что ей надо. Открыв дверь, она вошла в магазин.
Как и в первый раз, молодая женщина выбежала навстречу Мэри, предлагая свои услуги.
– Наверное, я могу быть полезней вам, чем вы мне, – сказала Мэри. – Я служу у мадам Альфанд. Вы можете принять меня к себе, и я расскажу вам все секреты ее процветания. – Мэри гордилась тем, как твердо и смело звучит ее голос. Колени ее тряслись.
Когда молодая женщина ответила, ее голос дрожал не меньше, чем колени Мэри.
– Как бы мне этого хотелось, честное слово! Но, видите ли, у меня совсем нет денег. Покупателей нет, я не знаю, чем платить за помещение, а первое число уже совсем близко.
– Понятно, – тихо сказала Мэри. – Извините, что побеспокоила.
Она попятилась к двери, вышла и поспешила к мадам Альфанд, боясь потерять работу.
Глава 32
«С этой получки у меня остается почти три доллара», – повторяла про себя Мэри. Ходить пешком на работу и с работы было страшно. С каждым днем темнело все раньше, а улицы освещались только в центре. Нередко, услышав громкие голоса кучки хулиганов или нетвердую поступь пьяного, ей приходилось прятаться за кусты или деревья. К тому же она была голодна. После понедельника у миссис О'Нил больше не набиралось остатков на бесплатный обед навынос.
И все же дни как-то текли. Мэри усваивала науку выбрасывать из головы все, что не имело прямого отношения к данному моменту. Один шажок, другой шажок – и она у мадам Альфанд. Один стежок, другой стежок – и уже пора домой. Один шажок, потом другой… Дома ждал обильный горячий ужин, час работы над летними платьями при свете камина в столовой, а потом несколько минут в холодной спальне – почистить коричневое платье, сменить воротничок и манжеты, простирнуть споротые, умыть лицо, почистить зубы. А потом – теплое забвение, сон вплоть до следующего дня, ничем не отличающегося от прошедшего.
Понедельник, вторник, среда, четверг – вот уже и неделя почти прошла. Усталыми глазами Мэри смотрела на сверкающий узор на желтом атласном бальном платье. Она только что пришила последнюю бисеринку. Платье было очаровательно, от вышивки оно стало изысканным, неотразимым. Очень хорошая работа.
И Мэри была счастлива, что она позади. Ей казалось, что еще хоть один дюйм, и она бы попросту ослепла.
Уложив нежный желтый атлас в белый муслиновый чехол, Мэри убрала ножницы и иголку. «Почти три доллара, – напомнила она себе. – Но если я поеду на конке, денег будет меньше. Нельзя мне». Она очень устала, и ей совсем не хотелось идти домой пешком через все эти ночные ужасы.
– Ну что, Мари Четвертая, справилась наконец? – сварливо осведомилась мадемуазель Аннет. – Это платье нужно было доставить сегодня утром. Но ты задержалась с работой, так что придется это сделать тебе. Сейчас.
Мэри захотелось заплакать, закричать, убить мадемуазель Аннет. Но вместо всего этого она взяла большую коробку с огромным бледно-лиловым бантом.
Нести платье нужно было на Рэмпарт-стрит, всего через пять кварталов. Мэри перешла Тулуз-стрит. Она слишком устала и не смотрела по сторонам, хотя никогда еще не была в этой части французского квартала. Скоро брусчатая мостовая кончилась. Мэри было трудно и неловко ступать по неровному кирпичу узкого тротуара. В одно жуткое мгновение ей показалось, что она выронит коробку в грязную вонючую канаву. Но ей удалось сохранить равновесие и не выпустить коробку из рук.
На углу Тулуз и Рэмпарт-стрит было кафе, освещенное теплым светом. От него далеко распространялись ароматы свежего кофе и приготавливаемой пищи. При таком соблазне голодный желудок Мэри болезненно сжался. Она молила Бога, чтобы побыстрее отыскать нужный дом и оставить там коробку. При свете витрины кафе она вновь прочла записку с адресом.
«Мадемуазель Сесиль Дюлак. Рядом с Café des Améliorations. Синие ставни». Было слишком темно, чтобы различить цвет ставен, но у небольшого дома рядом с кафе они определенно были. Это вселяло некоторую надежду. Мэри открыла калитку в металлической ограде и прошла по короткой гладкой дорожке, выложенной кирпичом.
Она еще не успела постучать, как дверь отворилась.
– Это ты, Марсель? Опаздываешь… Да кто вы? Женщина говорила низким музыкальным голосом. За ее спиной была освещенная комната, отчего вокруг головы и лица, находящегося в тени, образовался нимб.
– Я от мадам Альфанд, – сказала Мэри и протянула коробку.
На нее падал свет, и она прищурила глаза. Но затем широко раскрыла их от удивления.
– Я вас знаю, – произнес женский голос. – Теперь, значит, на побегушках у портнихи? Полагаю, Карлос Куртенэ вас тоже вышвырнул. Заходите, как вас там звать? Выпьем по стаканчику за погибель всех Куртенэ. – Женщина схватила Мэри за руку и втащила ее в дом.
От усталости Мэри соображала медленно, и поначалу ей показалось, что она смотрит на Жанну. Она никак не могла взять в толк, что Жанна делает в этом доме и почему она так зла на отца. Затем она поняла, что эта женщина, хоть и очень похожа на Жанну, значительно превосходит ее красотой, и вспомнила тот бурный день в Монфлери, когда умирал Эркюль. Перед ней стояла та самая сказочно прекрасная девушка, которую она видела в тот день. Это была внебрачная дочь Карлоса Куртенэ, сводная сестра Жанны, дитя порочной связи белого мужчины и рабыни.
Неудивительно, что Сесиль Дюлак так ненавидела Карлоса Куртенэ.
Но Мэри не могла пить за его погибель и отказалась от вина, которое предложила ей Сесиль.
– Я очень устала, – нисколько не кривя душой, призналась Мэри. – Если выпью, просто свалюсь.
– Я вам верю. Вид у вас неважный. Сейчас позвоню, велю подать кофе. Не хотите чего-нибудь съесть? Нет? Ну хоть маленький кусочек торта? – Сесиль отдала распоряжения одетой в форменное платье горничной, которая явилась, когда хозяйка потянула за шелковый шнурок колокольчика, расположенного возле двери. Через несколько минут перед Мэри стоял поднос, доверху наполненный разными сластями, бутербродами и печеньями.
В этом изобилии было нечто фантастическое, как и в контрасте: тепло и свет после холодной темной улицы; глубокое мягкое кресло после жесткой табуретки в мастерской; роскошь и разнообразие деликатесов после многих часов голода; богатство шелковых портьер, бархатной обивки, позолоченных зеркал, толстого ковра, хрустальной люстры, серебряных подсвечников, ароматизированного воздуха и молодая женщина невероятной красоты. Мэри казалось, что она видит сон.
Настойчивое дружелюбие Сесиль Дюлак тоже напоминало сон. Уверенная, что Мэри разделяет ее негодование и желание отомстить Карлосу Куртенэ, молодая женщина говорила ледяным, сдержанным мелодичным голосом, рассказывая историю, которая казалась Мэри слишком бесчеловечной – такое могло произойти только в ночном кошмаре.
Сесиль появилась на свет благодаря давно устоявшейся системе, известной в Новом Орлеане как «placage». Ее мать была одной из тех, кого называют «placées», или содержанкой; это означало, что ее поселили в доме белого, где она жила исключительно ради того, чтобы быть в его полном распоряжении в любое удобное для него время.
Карлос Куртенэ обратил внимание на мать Сесиль, когда той было пятнадцать лет. Девушка ему приглянулась. Она была одной из его рабынь и не имела права отказать ему. Однако Карлос считал себя высоконравственным человеком. Не в его правилах было использовать рабынь для удовлетворения мимолетной похоти. В то же время он не находил ничего дурного в том, чтобы взять мать Сесиль в любовницы. Он увез ее с плантации и поселил в доме на Рэмпарт-стрит. А чтобы она была равной всем прочим содержанкам с Рэмпарт-стрит, выписал ей вольную.
Формально она была свободна, но ее истинное положение оставалось рабским. И в смысле любви тоже. Сесиль злилась на мать за ее слабость.
– Ее зовут Амаранта – как цветок, который еще называют бессмертником. Имя подобно проклятию, потому что она отдала свою бессмертную любовь этому человеку. Она родила ему сына, потому что он хотел сына. Он позволил ей родить второго ребенка, потому что ей хотелось дочь, и, когда родилась я, она благодарила его. Больше детей не было – он не хотел. Вместо детей были порошки от колдуний, нестерпимые боли и окровавленные зародыши, исторгнутые из тела в ночной горшок, переполненный ее кровью. И все из любви к этому человеку.
Из любви к нему она запирала нас, брата и меня. Когда приезжал миши Карлос, его нельзя было беспокоить шумом, который мы поднимали, играя или плача. Поэтому нас запирали в каморке при кухне до тех пор, пока он не уезжал. Если только ему не хотелось повосхищаться тем, что выросло из его семени в чреве нашей матери. Тогда нас наряжали и выставляли напоказ перед большим белым богом. До чего же мы были очаровательны – как мы улыбались, кланялись, делали реверансы, читали наизусть стихи, пели песенки, которые нас заставляли учить! Мы готовы были на все, лишь бы доставить ему удовольствие, ведь мы, хотя и были еще совсем крошками, понимали, как много это значит для нашей матери. Нашей милой, ласковой, любящей матери. Она всегда была очень красива – в роскошном платье, причесанная, надушенная: ведь в любой день, или вечер, или даже ночь мог пожаловать миши Карлос. Она жила в постоянном страхе, что он найдет кого-нибудь красивей, моложе, услужливей ее. И тогда вышвырнет ее бессмертную любовь за ненадобностью.
Когда подросла и поняла, что у нее за жизнь, я спросила ее, как она может выносить все это – пренебрежение, страх, рабство, которое хуже любого другого рабства. А она ударила меня по губам, чтобы я не говорила о нем дурно. Он был так щедр, сказала мать, он дал ей свободу, двух детей, одежду, драгоценности, чтобы она могла быть красивой для него. Он дал ей даже рабов, которые заботились о доме, о мебели, которую он выбрал, о ней самой; они укладывали ей волосы, одевали ее и ее детей, готовили пищу, которую мог бы вкусить и он, если ему будет угодно посетить нас.
Миши Карлос был настолько щедр, что даже позволил нам с братом учиться в школе, а когда брату исполнилось десять лет, отправил его во Францию, чтобы он получил воспитание, достойное дворянина, и навсегда остался там, поскольку во Франции капелька черной крови не служит препятствием ни для карьеры, ни для приема в высшем свете. Какое великодушие – оторвать ребенка от матери, давшей ему жизнь! Почти столь же великодушно он поступил, передав ей права на владение домом со всем содержимым и гарантийное письмо, по которому его банкиры должны выплачивать ей ежемесячное содержание. Все это он дал ей в виде прощального подарка, сообщив, что его жена и дети возвращаются в город и он перестанет приходить в наш дом, чтобы не навлекать позор на свою семью. Тогда моя мать и умерла – попрощавшись с ним и поблагодарив его за щедрость. Потом она взяла нож и вонзила его себе в грудь. Неважно, что она не попала ножом в сердце и выжила после раны, – она уже была мертва. Она стала подобна прекрасной оболочке, внутри которой нет жизни. И убил ее Карлос Куртенэ. – Во взгляде, которым Сесиль окинула Мэри, смешались насмешка и жалость. – И ты тоже похожа на живой труп. Что он сделал с тобой? Каким образом он превратил прекрасную молодую белую даму с плантации в заморенную голодом неряху?
Мэри хотела возразить. Она вовсе не то существо, которое достойно лишь жалости и презрения, она – независимая самостоятельная женщина. Но тут она заметила, что стоящий перед ней поднос пуст. Должно быть, она съела все, что на нем лежало, не сознавая, что делает.
– Я не знаю, что произошло, – сказала она. Говоря это, она имела в виду свою жадность в еде. Но услышав собственный голос, Мэри поняла, что это звучит и как извинение за всю ее жизнь. Что-то пошло не так. Где-то она повернула не в ту сторону. Ей всегда казалось, что она делает правильный выбор, идет по пути к счастью. Но она была именно такой, как сказала Сесиль – заморенной голодом неряхой. Она слишком устала и была не в силах ни оспорить это определение, ни бороться с собственным состоянием. – Я не знаю, что произошло, – повторила она. Ей пришлось напомнить себе, что Сесиль спрашивала о Карлосе Куртенэ. – Однажды я была в опере, в ложе, – сказала Мэри, – а на следующее утро он заявил мне, что я неподходящая компания для его дочери. Клементина поставила мне синяк на руке, когда волокла меня в карету.
Сесиль презрительно хмыкнула своим тонким аристократическим носом:
– Клементина! Моя милая любящая бабушка, которая любит Куртенэ больше, чем родную дочь. Она примчалась в больницу, когда мать привезли туда с ножом в груди, но, когда опасность миновала, могла говорить исключительно о том, что надо хранить молчание, дабы никакой скандал не затронул семью Куртенэ.
– Мне очень жаль, – сказала Мэри. Этого было явно недостаточно, но ничего другого она сказать не могла. Ей действительно было очень жаль эту прекрасную девушку, одержимую ненавистью.
Сесиль рассмеялась. С ее лицом и телом произошла пугающая перемена. Ее ладони, гневно сжатые в кулаки, раскрылись и грациозно повисли. Она уже не сутулилась напряженно, напротив, расправила плечи, приподняла грудь и подбородок. Склонив голову набок, она искоса посмотрела из-под густых опущенных ресниц. Рот ее смягчился.
– Эту свободную цветную женщину жалеть не надо, – произнесла Сесиль бархатным голосом. – Я намерена устроить свою жизнь намного лучше, чем моя мать. Я знаю, как это сделать. За грехи Карлоса Куртенэ будет расплачиваться множество белых мужчин. Возможно, и сам миши Карлос.
Мэри вздрогнула. Такой первозданной силы, такого мощного инстинкта она не могла понять, и от этого ее обдало холодом.
– Я хотела бы быть похожей на вас, – выпалила она. Сесиль подняла брови. Улыбка ее сделалась сардонической. Мэри неловко продолжала:
– Я не имею в виду – такой прекрасной, как вы. Я бы просто не знала, что делать с такой красотой. Я только хотела бы так же четко знать, чего хочу и как этого добиться.
Ее прервал стук в дверь. Сесиль поспешно подошла к двери, двигаясь с той непостижимой гибкой грацией, которая запомнилась Мэри с их прошлой встречи.
– Марсель, – сказала Сесиль, – ты опоздал. Достал? Дай-ка мне. – Пряча в руке какой-то мелкий предмет, она обернулась к Мэри: – Мне пора одеваться… Как ваше имя?
– Мэри Макалистер.
– Мне нужно собираться на бал, мадемуазель Макалистер. Марсель – наш кучер. Он довезет вас до дому. Где вы живете?
– На Эдел-стрит.
– Боже, это же на Ирландском канале! А Марсель черен, как сажа. Он довезет вас, насколько можно, не подвергая себя опасности. Спасибо, что привезли мое платье. Будет ли другое готово вовремя? Мне до смерти надоела эта старуха Альфанд и ее штучки с доставкой в последнюю минуту. Ей место на сцене, а не в ателье.
Сесиль уже потеряла интерес к Мэри, посчитав ее безвольной, смирившейся с поражением. А следовательно, не стоящей внимания. «Бедняжка американка не способна даже на негодование, – подумала она. – Прирожденная жертва, вполне достойная роли прислуги, разносящей покупки тем, кто лучше ее».
Ее поразило, когда в Мэри вдруг пробудилась энергия.
– Погодите минуточку, – сказала Мэри. – Мне надо кое-что выяснить. – Ее усталое лицо больше не было серым от изнеможения. Щеки пылали, в глазах светился огонек. – Допустим, вам предложат платья не хуже, чем у мадам Альфанд, в другом месте. Может быть, даже лучше. С гарантией, что они будут готовы ровно к обещанному сроку. Вы станете покупать платья в другом ателье, даже если оно совсем новое, не вошедшее в моду?
– О чем вы говорите! Конечно же, буду. И все будут. Но в Новом Орлеане никто не сравнится с мадам Альфанд.
Мэри хлопнула в ладоши.
– Если позволите, мадемуазель, я еще загляну к вам. Кажется, я смогу сообщить вам нечто приятное… Спасибо за гостеприимство. Доброй ночи! – Мэри открыла дверь.
– А карета?.. – спросила Сесиль.
– О, не нужно. Но все равно спасибо вам большое. Сесиль пожала плечами.
– Странная особа, – пробормотала она. – Интересно будет послушать, что она скажет.
Глава 33
Домой, в пансион вдовы О'Нил, Мэри добралась только в десятом часу. Возле дверей нервно расхаживал взад-вперед Пэдди Девлин. Увидев, что Мэри возвращается, он рванулся к ней:
– Где вы пропадали, мисс Мэри? Я чуть умом не тронулся от беспокойства.
– Занималась своими делами, мистер Девлин. – Мэри была в приподнятом настроении, довольна собой и остра на язык.
Пэдди преградил ей путь к дверям.
– Разве можно заставлять меня так нервничать? Небезопасно расхаживать по улицам в такую темень. Мне следует сопровождать вас, чтобы защитить. – Он не столько говорил, сколько бубнил себе под нос.
Мэри его вмешательство пришлось не по душе, но она понимала, что он прав. Хоть она и шла не по той стороне Эдел-стрит, где располагался бар «Домик в океане», ей все же было не по себе. Из дверей бара доносились звуки буйного веселья – пьяные песни, громкая брань, звон разбитого стекла. Никогда раньше ей не доводилось бывать на улицах ирландского квартала в столь поздний час.
Она положила руку на локоть Пэдди.
– По правде говоря, я и не заметила, что уже так поздно, – сказала она. – Я беседовала с одной очень милой женщиной о том, чтобы перейти на работу в ее ателье. Мне не очень нравится у мадам Альфанд. Кроме того, я устала. Пропустите меня, мистер Девлин. Я хочу войти.
Пэдди распахнул перед ней дверь. Мэри заметила, что он недовольно хмурится, но ей было все равно. Ничто не могло испортить ее хорошего настроения.
От Рэмпарт-стрит до лавочки озабоченной молодой женщины в доме Понтальба она промчалась почти бегом.
– Я приведу вам покупателей, – сказала она, – а вы поделитесь со мной прибылью.
Ханна Ринк пригласила Мэри наверх, в квартирку, где она жила.
– Вам придется переговорить с моим мужем. Все решения мы принимаем вместе.
Своим энтузиазмом и уверенностью Мэри без труда убедила Альберта Ринка, и они все втроем отметили светлое будущее ужином и бутылкой вина. Большую часть бутылки выпил Альберт, – у него было двойное торжество. Всего несколько часов назад он получил заказ на портрет.
– Боже мой, Микаэла, – пожаловался Вальмон, – этот парень намерен изобразить меня в полный рост и в натуральную величину.
– Дорогой мой, вовсе не обязательно, чтобы тебе нравилось его творение, – ответила баронесса. – Достаточно лишь сказать, что оно тебе нравится.
Когда Мэри на другой день пришла на работу, ее веселое настроение привлекло внимание мадемуазель Аннет, а следовательно, она стала объектом особых придирок. Мадемуазель Аннет постоянно стояла у Мэри над душой, критиковала, издевалась и давала самые скучные задания. Но Мэри это не трогало. Она сидела, покорно склонив голову над работой, скрывая улыбку, которая то и дело невольно набегала на ее лицо. На следующий день, в субботу, было примерно то же самое. Но рабочая неделя закончилась. В придачу к конверту с недельным жалованием Мэри получила пространный выговор и смиренно пообещала, что в дальнейшем все будет по-другому.
– Совсем по-другому, старая жаба! – вслух произнесла она, отойдя от мастерской на безопасное расстояние, – но теперь уж не ради тебя. Ради себя самой.
Проходящая мимо женщина ответила ей гневным взглядом. Мэри этого даже не заметила. Она была погружена в свои планы.
«Завтра первое декабря, – думала она. – Значит, остается три месяца светского сезона. Возможно, даже три с половиной. Надо выяснить, когда в новом году Пасха, и подсчитать, когда начинается Великий пост».
Мэри резко остановилась и замерла посреди толпы на оживленной Кэнал-стрит. Она вдруг осознала, что, думая о делах, вспомнила о Пасхе не как о святейшем дне в году, а как о точке отсчета рабочих дней. «И завтрашнего дня я тоже ждала, строила планы, даже не вспомнив, что завтра воскресенье. Божий день. Я становлюсь язычницей».
Она вновь зашагала – так же резко, как и остановилась, и скорость ее шага все возрастала. Нужно пойти в собор Святого Патрика, к исповеди. Непременно надо покаяться в своем пренебрежении духовным и помолиться о помощи в борьбе с искушениями Мамоны.
Священник, выслушавший исповедь Мэри, благословил ее и наложил епитимью – трижды прочесть «Отче наш». Это привело ее в полное замешательство.
– В школе мне приходилось по десять раз читать молитву за такой грех, как мысли о завтраке во время заутрени, – призналась она Луизе. – Я ничего не понимаю.
Луиза даже рассердилась:
– Ты больше не в монастыре. В таком месте, где пьянство, убийство и богохульство – обычное дело, твои грехи ничего не стоят. Со мной бы он поступил куда круче, если бы я когда-нибудь собралась с духом и пошла исповедаться. Я тоже собираюсь сменить работу, но совсем не так, как ты. Я прекращаю играть на фортепьяно для мистера Бэссингтона и вместо этого буду жить с ним во грехе.
– Луиза, но ведь нельзя же!
– Я пока и не буду. Придется подождать, пока в очередной раз не приедет и снова не уедет мой брат. Иначе он все узнает и изобьет меня до полусмерти, а мистера Бэссингтона может и убить. Сразу после Рождества брат отправляется в Калифорнию искать золото. Вот тогда меня никто не остановит.
Мэри не сомневалась, что до Рождества Луиза опомнится. Она внушала себе, что Луиза говорила такие неслыханные вещи лишь потому, что был субботний вечер, а у нее не было денег на билет в оперу. Мэри с удовольствием дала бы Луизе денег из своего конверта с жалованием. Но для осуществления своих планов ей нужно было все до последнего цента.
К тому же ей была дорога каждая минута. Пэдди Девлин сильно расстроился, когда она сказала ему, что в воскресенье после мессы будет занята весь день. Он-то ждал, что они проведут выходной вместе.
– Мы могли бы съездить на конке в Кэрролтон, – сказал он. – Я слыхал, что там чудесный парк, а ехать-то туда меньше часа.
– Даже если бы и десять минут, у меня все равно не будет времени. Я и ужинать не приду. Ну, не будьте таким мрачным, мистер Девлин. Все равно для прогулок в парке слишком холодно. Вот когда придет весна, я с удовольствием поеду с вами. И скорее всего, тогда я буду свободна по воскресеньям.
Про себя она добавила: «К сожалению». Ведь весной кончается сезон.
В воскресенье небо было высоким, безоблачно синим, а погода стояла такая теплая, что Мэри пожалела, что надела шерстяное платье. Она надеялась, Пэдди Девлин не скажет, что погода замечательная для прогулки в далеком парке.
Он этого не сказал, впрочем, он вообще ничего не сказал. Он сходил с Мэри в церковь, поклонился ей и попрощался, как только закончилась служба и они вышли из церкви.
– Дуйся сколько угодно, – расставшись с ним, прошептала Мэри. Затем радужные перспективы этого дня заставили ее начисто забыть о Пэдди. Она почувствовала, что может вновь управлять собственной жизнью после долгой зависимости от прихотей судьбы и других людей. Это было приятное чувство.
Но спустя пять минут после того, как Мэри переступила порог дома на Рэмпарт-стрит, Сесиль Дюлак начисто лишила ее этого ощущения.
– Вы собираетесь шесть дней в неделю работать на Альфанд, а по вечерам и воскресеньям на Ринков? Это нелепо.
Мэри сердито и страстно защищала свой замысел. Он вовсе не нелеп. Она молода и сильна и вполне справится. У Ханны Ринк нет денег, чтобы купить все необходимое для начала работы, но сбережения Мэри и дополнительные взносы из ее жалования покроют издержки на то первое платье, что она сошьет для Сесиль. На полученную прибыль можно будет купить материал для второго платья, и так далее. Через месяц-полтора, если все пойдет хорошо, Мэри сможет уйти от мадам Альфанд и перейти к Ханне Ринк на полный рабочий день.
– Через месяц-полтора, – сказала Сесиль, – вы либо умрете, либо так загоните себя, что от вашей работы не будет никакого толку. Я скажу вам, что надо делать.
Спустя два часа Мэри отправилась в короткий путь до дома Понтальба. В голове у нее шумело. Она несла Ханне Ринк кожаный мешочек, полный золотых монет, и новость, что теперь у их заведения есть тайный партнер – Сесиль Дюлак. Теперь Мэри не нужно было возвращаться к мадам Альфанд.
– Но кто она такая? – спросил Альберт Ринк. – У каких женщин есть такие мешки золота? – Золотые монеты были рассыпаны на столике перед ними большой неровной горкой. Альберт и Ханна Ринк смотрели на них, как завороженные.
Стол был единственным предметом обстановки в этой большой красивой комнате. Он был покрыт куском выцветшего зеленого вельвета, скрывавшего его щербатую поверхность. В центре стола Ханна, пытаясь украсить свое жилище, поставила белую фарфоровую вазу, наполненную зелеными ветками. Альберт разрисовал бочонки, которые стояли вокруг стола и использовались в качестве табуреток. Но их отважные усилия лишь подчеркивали бедность. В этой обстановке золото выглядело вопиюще неуместным.
– Кто она такая? – повторил Альберт.
Мэри отчаянно пыталась найти простой ответ на этот вопрос, но у нее ничего не вышло.
– Я же вам сказала. Ее зовут Сесиль Дюлак, она квартеронка. Даже не квартеронка, поскольку она белая больше чем на три четверти, но всех светлокожих цветных женщин в Новом Орлеане называют квартеронками. Мы сошьем ей платья для бала квартеронок.
Мэри повторяла то, что узнала от Сесиль. На протяжении сезона возле орлеанского театра, где давали оперу, почти каждый вечер устраивались балы. За вход брали два доллара и пропускали только белых мужчин. Квартеронок сопровождали матери или дуэньи, которые весьма строго соблюдали ритуал. Мужчина просил разрешения быть представленным дочери и не имел права возражать, если получал отказ. В отличие от многих других балов, где танцевали белые женщины, а плата за вход составляла доллар или даже меньше, приличия соблюдались неукоснительно.
Квартеронские балы более напоминали частные балы креольской аристократии, куда допускали только по приглашениям. Более того, многие из тех мужчин, которые их посещали, были одновременно и завсегдатаями креольских балов.
Конечной целью квартеронского бала было налаживание официальных связей между этими мужчинами и прекрасными юными квартеронками. Матери вели переговоры о контрактах и содержании для дочерей, которые становились placées – любовницами этих мужчин. Балы представляли собой ярмарку.
Ханну Ринк рассказ Мэри потряс.
– Ничего более безнравственного я в жизни не слышала, – сказала она.
Мэри кивнула:
– И мне так казалось, Ханна. Но это ничем не отличается от брачных контрактов, которые оформляют для своих дочерей аристократические семейства, с той лишь разницей, что квартеронки не получают такой правовой защиты, как белые девушки, вступающие в брак. Кроме того, так уж тут заведено, этот обычай держится не одно поколение. И не нам его менять. Нам остается лишь шить платья. Понятно, почему каждой матери хочется, чтобы ее дочь выглядела наилучшим образом.
Альберт начал складывать деньги обратно в мешочек.
– Мэри, вы просите, чтобы моя жена занялась обслуживанием проституток. Я этого не допущу.
– Ничего подобного, Альберт! – Мэри едва не сорвалась на крик. – Эти девушки никакие не проститутки. Они получают хорошее воспитание, их обучают в монастырских школах и отдают мужчинам, которые будут о них заботиться. Все точно так же, как и у белых девушек из лучших семей. Они верны своим покровителям, как жена верна своему мужу. Они порядочные девушки.
Ханна взяла мешочек из рук мужа.
– Альберт, – спокойно сказала она, – не будь ослом. Даже если бы они носили рога и одевались в пурпур, это ровным счетом ничего не меняет, коль скоро они покупают свой пурпур у нас. На твои краски и на аренду нужны деньги. – Засунув кошелек за пояс передника, она обратилась к Мэри: – Сколько бальных платьев покупает у нас Сесиль?
– Ни одного. Она уже расплатилась за свои платья, дав нам эти деньги. Мы купим на них выкройки, ткани, приклад. И первое платье мы сошьем для Сесиль. Когда она в нем появится, это будет как бы рекламой того, что мы умеем, и пойдут заказы от других квартеронок. Они все захотят иметь то, что есть у Сесиль, потому что она самая красивая и желанная из них всех.
– Откуда ты это знаешь?
– Она сама так сказала, и я ей верю. На свете нет женщины красивее ее. В прошлый четверг она пошла на свой первый бал, и ее опекунша уже отвергла четыре предложения.
– Я, пожалуй, не прочь написать ее портрет, – сказал Альберт.
Мэри и Ханна обменялись улыбками. Дело пошло.
«Пока этого достаточно, – сказала себе Мэри. – Все прочее, о чем мне рассказала Сесиль, может подождать».
Она и сама не могла определенно сказать, что думает о новом партнере. Она знала только одно – у нее появился шанс заработать денег, и возможно, много. Все, что Мэри успела на собственном опыте узнать о независимости, убедило ее: отсутствие недостатка в деньгах – самое главное в жизни.
Глава 34
Как правило, баронесса Понтальба не особенно интересовалась женщинами. У мужчин были более широкие интересы, они добивались большего, были оригинальнее и решительнее. Так она считала. У нее самой было больше общего с мужчинами, и она понимала их лучше, чем женщин. По крайней мере, так ей казалось.
Но когда маленькая лавочка в ее доме преобразилась в нечто необычайное, она очень заинтересовалась Ханной Ринк. Ей и раньше рисовались в мечтах ряды шикарных магазинов по обе стороны Пляс д'Арм; ныне же один такой магазин появился, как по мановению волшебной палочки – почти из ничего. За ним могут последовать и другие, и он станет первым шагом на пути к достижению ее цели. Она решила поддержать Ханну, став ее клиенткой и одарив жену художника осторожным, несколько отстраненным дружеским знакомством. Она пригласила Ринков на прием, который устраивала пятнадцатого декабря, в третье воскресенье месяца.
– Ханна, тебе нужно надеть что-нибудь потрясающее, – настаивала Мэри. – Это, возможно, самое завидное приглашение во всем Новом Орлеане, на тебя будут смотреть самые значительные люди города. Мы можем заполучить десятки новых заказов.
– Мэри, мы не сможем принять десятки новых заказов. Мы не справляемся и с теми, которые у нас есть. Нельзя же тебе продолжать работать семь дней и семь ночей в неделю. Я тебе никак не помогаю.
– Это неправда, Ханна, ты сама это прекрасно знаешь. Ты работаешь не меньше моего.
Но это была правда, и Мэри знала это не хуже Ханны. Мэри фактически делала все. Она не поверила своим ушам, узнав, что Ханна не говорит по-французски. Магазин располагался в самом центре старого города, где почти все говорили только по-французски. И поэтому она стала обслуживать тех немногих посетителей, которые из любопытства забредали в их магазинчик. Ханна обслуживала тех, кто говорил по-английски, а таких были считанные единицы. Однако это помогало Ханне чувствовать себя не совсем бесполезной.
Ханна старалась помочь Мэри с шитьем, но у нее получалось так плохо, что Мэри приходилось распарывать швы и переделывать все.
И еще Ханна оформила витрину, постаравшись выставить образцы всего, что у них продавалось. Альберт сказал, что получился настоящий кошмар. Когда Мэри согласилась с ним, он объяснил ей, как художник компонует натюрморт, а Ханне объяснил, чтобы не мешала Мэри заниматься витриной.
Ханне оставалось только прибирать в магазине, бегать по поручениям и разносить покупки. А последних становилось все больше и больше после выхода Сесиль в золотисто-персиковом платье. Она весьма искусно обмолвилась, что это платье из ателье Ринков, и уже на следующий день три матери привели своих дочерей и заказали им бальные платья.
Мэри призналась Ханне, что ей доставило больше удовольствия выслушивать похвалы за платье, выполненное ею в мастерской мадам Альфанд, чем те, которые относились к платьям, сшитым здесь.
– Месть действительно сладка, – ворковала она, – даже если мадемуазель Аннет не догадывается, что я ей мщу.
Днем и ночью трудясь над этими тремя платьями, Мэри закончила их менее чем за две недели. Она была горда и ошеломлена тем, что у нее получилось.
И действительно, платья были очаровательнее тех, что изготовлялись у мадам Альфанд, поскольку модели вместе с Мэри разрабатывал Альберт. Благодаря ему появились необычные сочетания цветов, выразительные, броские украшения из кружев, лент, перьев, цветов и огромные вышивки и аппликации, которые стали фирменным знаком бального платья Ринка – так партнеры решили назвать изделие, на котором специализировались.
– Тут главное – цвет и линия, – говорил Альберт. – А это моя работа. – Стремительными мазками он набрасывал эскизы платьев на небольших квадратных кусочках холста и отдавал их Мэри, а она показывала их заказчикам в качестве образцов. А у Сесиль возникла идея, которая в одночасье прославила магазин и ателье Ринков, – тайком включать в стоимость платья стоимость портрета.
– Когда платье будет сшито, месье Ринк может дорисовать к эскизу платья головку владелицы. Портрет – это ланьяпп. Никогда не повторяйте модель – и, пообещав это, набавьте цену.
Первые три заказа скоро превратились в десяток. Каждая красавица-квартеронка стремилась увековечить свои черты в красках, равно как и пощеголять в платье из шелка и бархата. Мэри и Ханна поместили объявление и на английской, и на французской страничках «Пчелы» и наняли двух женщин на простое шитье. Более тонкую работу выполняла Мэри. Она продолжала работать дни и ночи напролет без выходных. И Ханна продолжала тревожиться за нее.
В конце концов она уступила и позволила Альберту придумать для нее великолепное платье для приема у баронессы, а Мэри – сшить его. За свои двадцать лет Ханна ни разу не имела бального платья и никогда не была на вечернем приеме.
Она была четвертым ребенком в семье, где было девять детей, в маленьком городке в Огайо, ее отец держал там бакалейную лавочку и конюшню. С Альбертом Ринком она познакомилась, когда тот писал новую вывеску для магазина ее отца. Когда вывеска была готова и Ринк уехал в другой город, она бежала вместе с ним. Они успели обвенчаться до того, как ее отец настиг их, и с тех пор были нищими странствующими влюбленными. Где бы они ни жили, Ханна повсюду арендовала небольшой магазинчик. На ее заработки они и жили, в то время как Альберт старался завоевать репутацию художника, рисуя портреты вместо вывесок. До Нового Орлеана эта система работала довольно неплохо. Но здесь им стало казаться, что тучи на горизонте сгущаются.
Теперь же горизонт стал чист и ясен – их ждали процветание и покой. Все произошло так быстро, что Ханна не поняла, как, собственно, это случилось. Она и не старалась понять. Она довольствовалась тем, что Мэри с Альбертом все понимают, а сама сосредоточила усилия на том, чтобы наслаждаться нежданной удачей.
Все это она объяснила на приеме баронессе Понтальба. Баронесса нашла счастье Ханны безмерно скучным как тему беседы. «Надо было пригласить эту Мэри», – мимоходом подумала она и заговорила с другим гостем, начисто забыв самое имя – Мэри Макалистер.
Но спустя всего неделю ей вновь пришлось услышать это имя, и на сей раз она обратила внимание. В гостях у нее был Вальмон Сен-Бревэн. Варка сахара закончилась, и Вальмон приехал в город, чтобы отдать должное светскому сезону.
– Я так несказанно добродетелен, дорогая баронесса, что первым делом отправился позировать для вашего проклятого портрета. И, представьте себе, повстречал там проворную мадемуазель Макалистер! Да знаете ли вы, какая хитрая киска приютилась у вас под крышей? Ей всегда удается процветать. И продвигаться вверх в этом мире. Сначала она была одной из девочек в лучшем борделе города. Затем кем-то вроде почетной дочери у Берты Куртенэ. А сейчас, похоже, стала владелицей чрезвычайно элегантной модной лавки. Я ею восхищаюсь.
На Микаэлу это тоже произвело впечатление. Теперь ей определенно хотелось познакомиться с самой Мэри. Авантюристки никогда не бывают скучны.
А внизу Мэри возилась с витриной. Оформление витрины было выразительным и простым до аскетизма: на возвышении лежала длинная розовая атласная перчатка, в пальцах которой красовался полураскрытый веер из черного кружева с блестками. Сделать лучше было невозможно. Напротив, возня Мэри грозила уничтожить хрупкую соразмерность композиции.
Однако, если она пробудет у витрины подольше, ей удастся увидеть Вальмона, когда тот будет выходить. Мельком – на большее она не смела рассчитывать.
Движения ее обычно ловких рук, прикасавшихся к мягким складкам атласа и кружев, были резки и неуклюжи, поскольку она сердилась. Сердилась на себя.
«Как же ты могла выставить себя такой дурой, Мэри Макалистер? Когда ты пришла в студию Альберта и увидела его, почему ты не ушла сразу? Или уж поздоровалась бы, как подобает воспитанному человеку, и ушла сразу после этого. Зачем тебе понадобилось болтать, как ненормальной, выставлять себя напоказ, будто ты клоун, и пытаться произвести на него впечатление всякими глупостями о новых эскизах и заказах, которые надо выполнить? Кем ты хотела себя выставить? Мадам Альфанд? Баронессой?
Или тебе хотелось под любым предлогом остаться там подольше, полюбоваться, как красиво лежат его волосы, подобные черному блестящему шлему, как привлекательны под бровями его глаза, как он вытягивает длинные проворные ноги, как он опускает вниз уголки рта за мгновение перед тем, как поднять их в улыбке, по которой видно, что он понимает, какое представление ты перед ним разыгрываешь, торча где не следует, только бы увидеть эту улыбку?
Неужели ты не можешь владеть собой? Обязательно надо все испортить вконец, выставить себя в самом нелепом виде?
Разве нельзя оставить в покое витрину и заняться чем-нибудь другим? Ведь у тебя тысяча неотложных дел».
Мэри опрокинула композицию и в отчаянии посмотрела на нее.
«Нет, не могу, – ответила она себе. – Не могу. Я несправедлива, ведь он появился так внезапно, без всякого предупреждения. Если бы я знала, что он в студии, если бы я была готова, то мое сердце не стало бы рваться из груди и мое глупое, безнадежное стремление видеть его не возродилось бы. Ведь я уже пересилила его, уже излечилась, словно от болезни. А сейчас оно стало еще сильней. Я даже не в силах заставить себя сделать три маленьких шажка прочь от витрины. Не могу».
Она подняла подставку с перчаткой и веер и попыталась расположить их в витрине так, как было первоначально.
«Я не сумею разложить их так, как они лежали».
От расстройства она чуть не расплакалась.
На улице возле витрины появились две женщины средних лет и остановились, созерцая усилия Мэри. Сказав что-то друг другу, они зашли внутрь.
– Сколько стоит этот веер, мадемуазель? – спросила одна из них. – У вас есть такой же, только другого цвета?
– Это ведь здесь платья шьет жена художника? – спросила вторая. – Не покажете ли нам образцы?
Мэри благодарно улыбнулась им. Они спасали ее от глупого наваждения, против которого сама она была бессильна. Сердце перестало беспорядочно колотиться, разум прекратил бесплодные и несвязные самообвинения. Она вновь могла владеть собой. Почти могла. Она бросила последний взгляд в витрину. Платье, которое она сшила для Ханны, сделало свое дело. Перед ней стояли дамы-креолки, несомненно белые и очень респектабельные. Новые клиенты начали находить дорогу к заведению Ринков.
Покинув апартаменты Микаэлы де Понтальба, Вэл заглянул в витрину магазинчика. Мэри он не увидел, и она не увидела его. Она стояла на коленях за прилавком, вытаскивая очередную коробку с веером для показа новым покупательницам. На прилавке уже лежало восемнадцать вееров. Каждый из них подвергся тщательному осмотру и обсуждению, после чего был отвергнут.
Вэл отвернулся и легким шагом удалился. Было приятно вернуться в город. Сахар его уже стоял на молу в бочонках, дожидаясь погрузки. Теперь можно было и повеселиться. Ему предстояло перебрать груду приглашений, которая дожидалась его в отеле, и выбрать бал, ужин или прием, на который он пойдет вечером. А может быть, сразу и на бал, и на ужин, и на прием? А пока нужно нанести визиты примерно десятку пожилых тетушек, дядюшек и кузенов. Прежде всего долг, а развлечения – потом. Ноги несли его по кирпичному тротуару в быстром темпе риля. «Да, – решил он. – Определенно на бал». Ему хотелось музыки, танцев, шампанского. Нужно встраиваться в ритм старого квартала.
Уже третий сезон он проводил в Новом Орлеане после возвращения из Парижа, но его все еще поражала та головокружительная жажда удовольствий, которой был заражен старый город. Начиная с несколько чинного открытия сезона в опере в начале октября, празднества текли бесконечной чередой, нарастающей лавиной музыки, еды, питья, танцев и увеселений всевозможного рода. Короткий перерыв, связанный с благоговейной встречей Рождества Христова, лишь способствовал новому приливу энергии, и веселье возобновлялось с еще большим размахом, становясь все более лихорадочным, несдержанным, гедонистическим – пока настоящая вспышка безумия не охватывала весь город. Называлась она Марди-гра.[23]
– Некоторые так наслаждаются собственным обществом, что никого вокруг упорно не желают видеть, – раздался женский голос слева от Вэла.
Он резко обернулся. Мимо в противоположном направлении проходила Мари Лаво. Он развернулся и догнал ее.
– Извини, Мари. Я замечтался.
– Мне нельзя останавливаться, – сказала Мари. – И ты иди, куда шел. Вечером приходи на бал квартеронок, я там буду.
– Ну, не знаю… – Вэл начал придумывать оправдание, но выслушать его было некому – Мари уже исчезла в воротах дома, перед которым он стоял.
Вэл стоял на тротуаре, озадаченно глядя на ворота и пребывая в полном изумлении. Обращаться к нему в людном месте было вовсе не в привычках Мари. Оба понимали, что дружба между белым мужчиной и царицей вуду вызовет большие подозрения и в его, и в ее кругу. Но почему она говорила с ним в приказном тоне, словно он один из ее поклонников? И зачем велела ему явиться на бал квартеронок? Он был там всего однажды, сразу после приезда из Парижа, и ушел в полном омерзении. Мари прекрасно знала об этом. Он сам ей говорил.
Вэл нахмурился, повернулся и пошел по направлению к дому тетушки. Ноги его уже не танцевали. Странное поведение Мари встревожило его. Надо будет при следующей встрече сделать ей внушение. Уж он постарается оказаться возле ее дома на неделе. А подчиняться ее приказам он не собирается. Царица там или не царица, а на бал квартеронок он не пойдет.
Глава 35
Мэри задержалась в лавке дольше обычного. Она пообещала Сесиль Дюлак закончить платье сегодня, а креольские дамы отняли у нее почти три часа. И при этом ничего не купили. За несколько минут до восьми она пришила к подолу последний шелковый цветочный лепесток и, аккуратно уложив платье в коробку, надела шаль и чепец. По пути домой нужно занести коробку на Рэмпарт-стрит. Возможно, Сесиль угостит ее ужином. За весь день она наспех проглотила кофе с пирожком и теперь чувствовала себя голодной и усталой. Она потерла руки, чтобы снять судорогу в пальцах.
Миновав перекресток Ройал и Тулуз-стрит, Мэри услышала музыку, доносящуюся из отеля «Сен-Луи». Музыканты настраивали инструменты перед балом, который должен был вот-вот начаться. «Я ни разу не была на балу», – подумала она и почувствовала себя Золушкой, только без волшебницы крестной. За все часы, что она провела, трудясь над бальными платьями и продавая роскошные аксессуары для вечерних нарядов, Мэри ни разу не испытала жалости к себе. А теперь жалость волнами накатывала на нее. Ей захотелось, чтобы коробка с великолепным платьем принадлежала ей самой; хотелось оказаться там, где много света, музыки и смеха; забраться в теплый экипаж с мягкой обивкой, который промчал бы ее по грязным улицам, не оставив на ней ни пятнышка. Захотелось быть отмытой, надушенной, великолепно причесанной, одетой в роскошное бальное платье. И протанцевать всю ночь в объятиях Вальмона Сен-Бревэна.
Горничная взяла у Мэри коробку, сказав, что мадемуазель Сесиль принимает ванну. Перекусить она не предложила.
Мэри побрела по Рэмпарт-стрит до Кэнал-стрит и дальше, к остановке конки на Бэррон-стрит. Конки не было. Движимая каким-то извращенным желанием вызвать к себе еще большую жалость, она прошла еще три квартала, пока не оказалась перед отелем «Сент-Чарльз» – громадным американским конкурентом «Сен-Луи», расположенного во французском квартале. Здесь тоже звучала бальная музыка. Мэри наблюдала, как подъезжают кареты, из которых выходят мужчины и женщины в вечерних туалетах и заходят в здание отеля, оживленно переговариваясь в предвкушении удовольствий.
– Эй! Ты чего тут ошиваешься? – Полицейский ухватил Мэри под руку и грубо потащил прочь от входа в отель. – Убирайся, не то в суд тебя отправлю!
Мэри была слишком подавлена и не стала спорить с ним. Тяжелой медленной походкой она поплелась дальше, на остановку. Обычно поездка на конке была для нее радостью, небольшим приключением. От Кэнал-стрит три с половиной квартала до депо вагон тянула лошадь, а там Мэри пересаживалась в другой вагон, который вел шумный, разбрасывающий искры паровозик. Маршрут шел зигзагами по Бэррон и Говард-стрит до площади Тиволи, потом в предместье Нейад и дальше, за пределы города, до Джексон-авеню. На Джексон Мэри снова пересаживалась на конку и ехала одиннадцать кварталов до кольца возле берегового вала. Оттуда ей оставалось пройти всего два квартала до Эдел-стрит.
Но в эту несчастливую ночь, когда вагон дошел до Джексон-авеню, Мэри едва не задержалась на своем месте. В вагоне оставалось только два пассажира и машинист. Половина вагона была в полном ее распоряжении. «Как было бы хорошо оказаться здесь совсем одной, – подумала она. – Доехать до самого Кэрролтона, потом обратно, потом снова в Кэрролтон и обратно, минуя все места, всех людей, словно я невидимка или призрак, а не обычная женщина, которую ничего не ждет, кроме избытка работы и недостатка сна».
Но она все же позвонила в колокольчик, дав машинисту сигнал остановиться на Джексон, и, сойдя, стала ждать конки. «Я не в духе, потому что голодна, – внушала она себе. – Зайду-ка в магазинчик возле пансиона и куплю чего-нибудь поесть. Сразу повеселею. – Она скривила рот в кислой усмешке. – Если бы меня и пригласили на какой-нибудь бал, я все равно не смогла бы пойти. Мне нечего надеть».
Та же жалоба разносилась по особняку на Эспланада-авеню, где жила семья Куртенэ. У Жанны была истерика. Схватив бальное платье, которое держала Миранда, она швырнула его на пол.
– Я его уже два раза надевала! – вопила она, прыгая по пенистым рюшам юбки.
Миранда отправилась на поиски Берты Куртенэ. «Пусть кто-нибудь другой попробует совладать с Жанной, – думала она. – С меня хватит. С тех пор как ей сказали, что ее выдают замуж за американца, в нее будто бес вселился».
Заламывая руки и издавая встревоженные блеющие звуки, Берта устремилась в комнату Жанны. Сочетая сочувствие, мольбы, взятки и обещания, она сумела утихомирить дочь и снарядить ее на бал. Затем поспешила в собственную комнату, ей ведь тоже надо было одеться до того, как Карлос будет готов к выходу. Клементина пришла помочь ей и застала хозяйку в слезах.
– Ненавижу всю эту нервотрепку! – рыдала Берта. – Ну почему нельзя все делать тихо, спокойно, чтобы все были довольны?!
Мэри вбежала в комнату Луизы, захлопнула за собой дверь и лишь затем разрыдалась.
– Ну почему все ведут себя так подло?! – причитала она сквозь слезы.
Луиза недоуменно посмотрела на нее.
– Бедняжка! – проговорила она несколько минут спустя. – Я и подумать не могла, что в тебе столько чувств, Мэри. Последнее время ты больше походила на машину, чем на человека. Что стряслось? Все иголки разом затупились?
– Ты не лучше их всех, – всхлипывала Мэри. – Не понимаю, почему вдруг все на меня ополчились. Миссис О'Нил накричала на меня, что я не явилась к ужину, не предупредив ее, Пэдди Девлин напугал меня до смерти – выскочил из бара, как раз когда я проходила мимо. Луиза, он орал на меня прямо на улице. Кричал, как он за меня тревожился. Но я заметила, что он напился, значит, не так уж тревожился.
– Скорее всего, он напился как раз поэтому. Ты, Мэри, обращаешься с ним просто позорно.
– Я? А что я такого сделала? Я работаю до полусмерти. Прикажешь мне еще и о Пэдди Девлине думать? Он ведет себя так, будто я его собственность. Совсем с ума сошел.
– Он хочет на тебе жениться.
– Что?! – невольно взвизгнула Мэри. – В жизни не слыхала ничего глупее. Да он даже читать не умеет! И еще смеет думать, что я соглашусь выйти за него!
– Не кричи так. Тебя все услышат. Иногда ты бываешь такой дурой. Неужели ты не понимаешь, что во всем этом доме мы с тобой единственные, кто умеет читать? И, честно говоря, ноты я читаю намного лучше, чем буквы.
Мэри так изумилась, что тут же замолчала.
Откинув с постели одеяло, Луиза забралась на кровать.
– Поздно, – сказала она. – Давай спать. Я бы уже спала без задних ног, да ждала твоего прихода. Я хочу тебя кое-куда пригласить. Приехал мой брат. Завтра вечером он ведет меня на бал в зал «Иберия». И если в твоей голове хоть что-то осталось, ты оторвешься от своей лавки и пойдешь с нами. В кавалеры можешь взять Пэдди. Тебе надо немного встряхнуться, Мэри, а то ты совсем закисла.
– Но мне нечего надеть. – Мэри расхохоталась и долго не могла остановиться.
– Иногда я, начав смеяться, никак не могу остановиться, – заявила весьма полная девушка в розовом. – Вы такие остроумные вещи говорите, месье Сен-Бревэн.
Вальмон украдкой оглядел залу в поисках избавления. Ему казалось, что он уже целую вечность торчит в западне у этой девицы в углу залы. Должен же быть здесь ее брат или отец, которые спасут его. Для родственников незадачливых особ, которых никто не приглашал на танец, существовали на этот счет недвусмысленные, хоть и негласные правила.
Он увидел, как сквозь толпу к ним с видом мученика пробирается молодой человек.
– Вы слишком добры, мадемуазель, – с улыбкой проговорил Вэл. – Лишь в лучах вашего благосклонного внимания мои тусклые способности рассказчика расцвели пышным цветом.
Девушка в розовом хихикнула. Вальмон галантно раскланялся, уступив свой стул брату девушки. Да, надо признать, сострадание к этим бедняжкам нередко ставило его в непредсказуемое и затруднительное положение. Ведь он пришел сюда танцевать, а не утешать. Он прошел к краешку танцевальной площадки, выискивая партнершу поискуснее.
Поднявшаяся у входа волна оживления привлекла его внимание. Прибыла Жанна Куртенэ под руку с отцом. Поклонники уже толпились вокруг, надеясь получить разрешение внести свои имена в ее карточку. Вальмон отступил. Память о сцене, которую устроила Жанна в его доме, была еще свежа. Он мысленно улыбнулся той суматохе, которую вызвало появление Жанны. «Словно мотыльки на огонь», – подумал он. Это было понятно – Жанна прямо-таки излучала флюиды чувственности. Он вспомнил замечание одного своего парижского приятеля по поводу девушки типа Жанны: «Друг мой, избавить эту юную особу от ненавистной ей девственности было бы лишь актом вежливости».
«Нет, – добавил про себя Вэл, – я несправедлив к ней. Ее притягательность не только в этом. Она невероятно красива, почти безупречна. Нет, опять не то. Вообще безупречна».
Почувствовав, что его мысли приобретают опасное направление, он поспешно отвернулся. Этого увлечения он не мог себе позволить. Жениться он был не готов, а прочее было невозможно. Даже подумать о каком-либо флирте было бы безумием…
Он обернулся еще раз. Взор Жанны встретился с его взором, приглашая подойти. Он начал протискиваться поближе. Кто-то толкнул его локтем.
– Прошу прощения, – сказал человек, толкнувший его, и добавил: – Искренне прошу прощения, Вэл. Ради Бога, не вызывай меня на дуэль. Я в такой тоске, что даже умирать не хочется.
Это был парижский друг Вэла, Альфред де Понтальба, старший сын баронессы. Вальмон обнял его.
– Ах ты негодяй, я тебя целую вечность не видел. Как ты? Рассказывай.
– Неплохо, насколько это возможно при всей здешней колониальной респектабельности. Хотел было попытать счастья с той обворожительной красоткой, которая только что вошла, но обнаружил, что ее брат принимал меня на своей плантации. Он неплохой малый, ты его знаешь? Филипп Куртенэ. Устроил мне очень неплохое развлечение – охоту на аллигаторов в Байо-Теш. Такого во Франции не найдешь.
– Я знаю Филиппа. Он здесь?
– Здесь. – Рядом с Вэлом стоял Филипп. – Рад тебя видеть, Вэл, хотя и поговаривают, что по урожаю сахара ты в этом году нас обставил. Мой дядюшка прямо-таки скрежещет остатками зубов.
Вэл остановил проходившего мимо официанта, и они взяли по бокалу шампанского.
– За сахар! – сказал Вэл.
– За сахар! – повторил Филипп. Осушив бокалы, они сменили их на полные.
– Надеюсь, на этом сельскохозяйственная тема закрыта, – сказал Альфред. – Выпьем за что-нибудь еще или просто выпьем?
– Выпьем за свободу, – с улыбкой предложил Филипп. – Мой досточтимый папаша спустил меня с поводка, так что мы можем удрать отсюда. По его мнению, мои услуги по изъятию сестры из кучки тех красоток, что обтирают здесь стены, не понадобятся.
Все трое взглянули на тесный круг почитателей возле Жанны.
– Мне тоже кажется, что тебя можно освободить, – сказал Вэл. – Я иду с вами. Куда собираетесь? Убежден, что в манежике на Шартр уже начались петушиные бои. Или поиграем в покер у Куртиуса?
Филипп взглянул на Альфреда:
– А что, не избавить ли нам месье Сен-Бревэна от его сахарных капиталов? Он, должно быть, богат до неприличия.
– Я согласен. По-моему, это был бы поступок настоящих друзей. Но перекинуться в карты можно везде. А ты обещал мне местное блюдо – визит в новоорлеанский полусвет.
– Действительно. Пойдем, Вэл. Мы собираемся на бал квартеронок.
Вэл покачал головой, но затем передумал. Ему стало любопытно, зачем его хотела видеть Мари Лаво.
До «Саль д'Орлеан» было всего несколько кварталов, но Вэл уже успел пожалеть о том мимолетном порыве, который побудил его пойти. После того как их пристально оглядели при входе и позволили купить входные билеты, он попробовал убедить Альфреда и Филиппа отправиться в один из игорных залов, расположенных внизу, и сыграть в трик-трак. Те решили, что он шутит. Сдав шляпы и плащи швейцару, они поднялись по лестнице в бальную залу, к звукам оркестра и музыкальным раскатам смеха.
– Mon dieu![24] Вот это бал, это я понимаю!
Огромные хрустальные люстры, свисающие с высокого потолка, расщепляли свет вставленных в них свечей на множество разноцветных бликов, падающих на накрахмаленные манишки мужчин и яркие наряды женщин, танцующих в центре зала. Танцевали риль – партнеры сходились и расходились, вышагивали и кружили по залу. Все это делалось ради того, чтобы по очереди продемонстрировать каждую квартеронку нетанцующим гостям, стоящим по краям площадки. Девушки были прекрасны и соответствовали слагавшимся о них легендам. Разные оттенки кожи – от молочно-белого до золотисто-коричневого – придавали их красоте нечто экзотическое; яркие цвета бальных нарядов напоминали пышные тропические цветы; ослепительные улыбки составляли контраст уму, светящемуся в глазах, полуприкрытых ресницами. По этим глазам было видно, что всю жизнь их обучали одной-единственной науке – умению доставлять блаженство мужчине.
Среди них было лишь одно исключение, единственная женщина, не похожая на других, таившая в себе не обещание, а дерзание. Ее движения напоминали стройный саженец, колеблемый южным ветром, а красота заставляла поверить в истинность мифа о Елене Троянской.
Вэл увидел, как в изумлении замер рядом с ним Филипп, почувствовал, что и его собственное тело окаменело, услышал долгий вдох Альфреда – и лишь тогда осознал то, что уже заметили другие. Эта женщина была копией сестры Филиппа, Жанны, – но копией улучшенной, очищенной, доведенной до совершенства.
– Друг мой, – сказал Филипп Вэлу. – Я не могу более оставаться здесь. Но я дал слово Альфреду. Если ты мне друг, скажи, что останешься с ним. Я должен уйти.
– Я останусь, – пробормотал Вэл.
В то мгновение никакая сила на земле не могла бы заставить его уйти.
Глава 36
– Я отдал бы половину моего состояния, чтобы купить эту женщину, – сказал Альфред.
Вэл сдержал свой гнев, и все же слова его прозвучали резко:
– Здесь не аукцион рабов. Это свободные цветные люди. Альфред приподнял брови.
– Не забывай, Вальмон, я в вашем городе всего лишь гость, – ничуть не смутившись, ответил он. – Что должен делать незнакомец, чтобы быть представленным?
Вэл похлопал друга по плечу, молча принося извинения.
– Мы должны представиться «трибуналу», который заседает вон там, на помосте. Они устроители, они же и судьи. Более строгого протокола не было и в Версале при Бурбонах. Пойдем. Я почти уверен, что одну из этих небожительниц я знаю.
Изумление, сковавшее его поначалу, несколько ослабло, и рассудок его вновь заработал. Теперь, как ему казалось, он понял, зачем Мари понадобилось его присутствие.
Как он и предполагал, она находилась в центре небольшого кружка женщин, руководивших балом.
Вальмон поклонился, как принято при дворе.
– Прошу вашего милостивого позволения представить вам моего друга, Альфреда де Понтальба, – весьма церемонно проговорил он.
Мари была царственно благосклонна. Она протянула Альфреду для поцелуя украшенную драгоценными перстнями руку. По его просьбе она подозвала к себе девушку, когда риль закончился.
– Это моя протеже Сесиль Дюлак, – сказала она, когда Сесиль откликнулась на ее жест и подошла. – Сесиль, это месье Альфред де Понтальба, месье Вальмон Сен-Бревэн… Месье Понтальба просит оказать ему честь принять приглашение на следующий танец.
Сесиль ответила изящным реверансом, погрузившим ее в море атласных юбок цвета слоновой кости. Поднявшись, она дотронулась до руки Альфреда.
– Сочту за честь, месье, – сказала она и улыбнулась ему.
Вальмон увидел, что рука ее встрепенулась, – ей передалась дрожь, пробежавшая по телу Альфреда. Они спустились на площадку.
– Итак, мой старый друг, ты одобряешь мое решение твоей проблемы, не так ли? – Мари говорила веселым, дружеским и нежным голосом.
– Расскажи мне о ней, – настойчиво попросил Вальмон.
– Как ты уже понял, она дочь Карлоса Куртенэ. Когда он бросил ее мать, она отказалась носить его фамилию и теперь называет себя Дюлак – по фамилии матери, которую та носила, пока не стала «теневой женой» Куртенэ. Бедняжка Амаранта, глупое и безобидное существо, до сих пор не пришла в себя после разрыва с Карлосом, так что я замещаю ее в, скажем так, светском дебюте Сесиль.
– И рассчитываешь, что я стану ее покровителем?
– Я не могу ни на что рассчитывать. Сесиль своенравна. Уже были предложения, превосходные предложения, но она их отвергла. А ты, дорогой мой Вэл, самый необычный из всех мужчин. Признаюсь, я не знаю, чего ты хочешь.
– Партнершу для танцев, не более того.
– Так я и думала. И готова признать, что использовала тебя намеренно. Уже были дуэли. Одна со смертельным исходом. Я уповаю на то, что твоя слава предотвратит повторение подобных инцидентов, если все будут уверены, что ты проявляешь интерес к Сесиль. Она очень уязвима. Ревность, зависть. Ей угрожали, подбрасывали на порог гри-гри. Она привлекает к себе внимание, которое, по мнению других девушек, должно уделяться им. Вэл рассмеялся:
– Ты явно преувеличиваешь, Мари. Кто же станет прибегать к колдовству против твоей протеже?
Мари пожала плечами:
– Дураков на белом свете хватает.
Музыка смолкла. Альфред с явной неохотой возвратился с Сесиль к креслу Мари.
– Месье Понтальба, – сказала Мари, – позвольте представить вам другую даму. Следующий танец с мадемуазель Дюлак попросил месье Сен-Бревэн. – Она кивнула ослепительно красивой девушке, одетой в красный бархат, и махнула рукой оркестру.
Вэл подал руку Сесиль. Заиграла музыка – вальс, самый чарующий и нежный из танцев.
Вэл обнял узкую талию Сесиль, другой рукой взял ее руку. Облаченные в перчатки руки соединились, и они закружились в вихре вальса, как бы слитые в единое целое.
До постройки отеля «Сен-Луи» все великосветские креольские балы проходили в «Саль д'Орлеан». Хотя с той поры минуло двенадцать лет, знатоки все еще скорбели об этой перемене, ведь полы бальной залы в «Орлеане» являли собой настоящее чудо. Сделанные из кипариса, болотного дерева с прочнейшей сердцевиной, полы состояли из трех слоев, причем верхний был собран из полированного дубового паркета, напоминавшего глазурь на бисквитном торте. Полы чуть пружинили, отчего даже самому неуклюжему танцору казалось, будто ноги его легки и проворны; хорошие же танцоры кружились и порхали, как тропические бабочки.
У Вальмона Сен-Бревэна возникло ощущение, будто он держит в руках пушинку. Сесиль была невесома, ее ноги в точности повторяли его движения, ее тело подчинилось его мыслям еще до того, как Вэл повел ее в танце. От идеальной точности движений он чувствовал небывалый душевный подъем. Оба молчали. На прекрасном лице Сесиль было выражение восторга, полного погружения в радость. Он знал, что на его лице такое же выражение. Ему захотелось, чтобы музыка не кончалась никогда. Но она кончилась.
– Благодарю вас, мадемуазель, – сказал он.
– И я, – ответила Сесиль. – Не проводите ли меня вниз на чашечку кофе? – И она направилась прочь, не сомневаясь, что он последует за ней.
Лестница в конце залы вела вниз, в мощеный дворик, где среди апельсиновых деревьев и ароматных кустов чайной оливы стояли столики с зажженными свечами. Пол и кирпичные стены хранили тепло дневного солнца, а звезды над головой ослепительно сияли в черном зимнем небе.
От столика к столику беззвучно сновали официанты, разнося шампанское, абсент, бренди, кофе, цукаты и сигары. Из бальной залы доносилась музыка, приглушенная стеной зеленой листвы, и с ее звуками смешивались тихие голоса беседующих за уединенными столиками. Люди смеялись чему-то своему, временами раздавался чистый звон хрустальных кубков, сдвинутых в интимных тостах.
– Не хотите ли шампанского, мадемуазель?
– Спасибо, не надо. Маленький кофе, и погорячее.
Вэл пытался найти тему для беседы. Сесиль, сидящая напротив него, сияла снежной белизной кожи и платья, жгучей чернотой волос и глаз. Она молчала, и тишина нисколько не смущала ее.
Тепло, разлитые в воздухе ароматы, покой благотворно действовали на смятенную душу Вэла. Говорить не было никакой надобности. Из стоящего перед ним бокала с шампанским медленно выходили пузырьки. Пить тоже было совсем не нужно. Сесиль мелкими глотками прихлебывала кофе.
Чашечка издала еле слышный звон, когда она поставила ее на блюдце.
– Вот идет мужчина, которому я обещала следующий танец, – сказала она.
Вэл взглянул на приближающуюся фигуру. Он знал этого человека – торговца хлопком, снискавшего недобрую славу своими приступами ярости.
– Он предложит убить меня, – спокойно сказал Вэл. Сесиль промолчала.
– Вы опечалитесь, если ему это удастся?
– Нет. И если вы его убьете – тоже. Дуэль – глупость, придуманная мужчинами.
Вэл рассмеялся:
– В таком случае не вижу никакого смысла умирать. Вы поражаете меня, мадемуазель. Скажите, под вашим обворожительным корсажем бьется сердце?
Она улыбнулась и стала столь прекрасна, что у Вэла перехватило дыхание.
– Нет. Мне об этом неоднократно говорили. Торговец уже стоял рядом с Вэлом.
– Месье, – сказал он, – вы нанесли мне несмываемое оскорбление. – В волшебной безмятежности сада его громкий голос звучал особенно мерзко.
Вэл поднялся:
– А вы, сэр, оскорбляете окружающих своим шумным поведением. Я буду счастлив дать вам сатисфакцию – и за себя, и за них.
– Я требую немедленного поединка.
– Как угодно. Мой секундант тут, наверху.
Наиболее популярным местом дуэлей был небольшой сад, расположенный за собором. Обычно дуэлянты сходились там на рассвете. Поединок при факельном свете содержал для Вэла приятную новизну. Он попробовал на изгиб рапиру из той пары, что Альфред принес из дома Понтальба, до которого было чуть больше квартала. Превосходный клинок был изготовлен для парижского учителя фехтования, обучавшего этому искусству Вэла, Альфреда и большинство светской молодежи. Жаль только, что второй оказался в грубых лапах шумного торговца. Вэл представил себе, как эти лапы дотрагиваются до атласной кожи Сесиль Дюлак, и поморщился.
Как тарантул на лепестках цветка. Теперь ему хотелось драться.
Все было готово. Секунданты отошли и встали около врача, которого подняли с постели в доме по соседству. Противники отсалютовали друг другу, блеснув клинками в неровном свете. Вэл также приветствовал факельщиков и неясные силуэты зрителей, столпившихся на балконах бальной залы, которая находилась на другой стороне улицы.
Пока Вэл смотрел на балкон, торговец сделал выпад. Оскорбительное невнимание Вэла добавило ему ярости. А когда Вэл непринужденно и небрежно парировал ею выпад, он стал неуправляем и кинулся в атаку, удивившую Вэла напором и неожиданным мастерством.
С таким противником можно было помериться силами.
Вэл сосредоточился на искусном выполнении приемов. Ему нравились трудности, вызванные колебанием теней и неровностями почти невидимой тропки, на которой происходил поединок. Мысль, что Сесиль равнодушным взором наблюдает за схваткой с балкона, возбуждала его, и он сражался с излишней бравадой, смеясь над своим ребяческим стремлением выставить напоказ свое искусство и над попытками соперника побыстрей достичь развязки, упиваясь риском, играя с торговцем, как матадор играет с опасным, разъяренным быком. Еле видимая рапира, острие которой было нацелено ему в сердце, и присутствие бессердечной женщины, находящей прелесть в том, что мужчины убивают друг друга ради счастья танцевать с ней, заставляли его особенно остро ощущать биение жизни, ее наполненность.
Торговец, утомленный пылом, который он вложил в поединок, начал сдавать. Вэл почувствовал перемену ритма в ударах и кружении клинков. «Не прикончить ли его?» – подумал Вэл. Эта мысль удивила его самого. С тех пор как он убил противника на дуэли, прошло уже много лет. Тогда он был молод, горяч и стремился доказать, что он уже мужчина. Почему же теперь ему пришла в голову мысль убить?
Он выкинул ее из головы. Это было бы слишком просто. Он сделал стремительную серию выпадов, завершив ее резким круговым движением, от которого рапира вылетела из рук торговца и, описав высокую дугу, исчезла во тьме. Затем поднес острие своей рапиры к самому сердцу соперника.
– Сдаетесь? – Он чувствовал, как судорожно вздымается и опадает грудь торговца и как трепещет в такт дыханию соперника чуткая сталь. Тот внезапно всхлипнул.
– Пустите мне кровь, ради всего святого, – взмолился он шепотом. – Вы меня победили. Зачем еще и позорить меня?
Губы Вальмона дрогнули в некоем подобии презрительной ухмылки. Перед ним был жалкий трус. Человек чести молил бы о смерти, и Вальмон внял бы этой мольбе, как и просьбе о пощаде. Но молить о ничтожной ране ради спасения репутации – так мог поступить только трус. Трус, который без колебаний убил бы, будь это в его силах.
Вальмон чуть шевельнул запястьем. Его рапира взмыла вверх и аккуратно срезала миллиметр кожи с мочки уха торговца. Затем Вэл повернулся к сопернику спиной и зашагал прочь.
Альфред подал ему сюртук и принял из его рук рапиру.
– Занятная дуэль, – сказал он. – Надеюсь, этот прекрасный полет не сбил баланс у другой рапиры. Слуги сейчас ищут ее… Что теперь? Не выпить ли шампанского за твою победу?
Улыбка Вэла сверкнула в полумраке.
– Чуть позже, – со смехом проговорил он. – Мне кажется, я выиграл танец с мадемуазель Дюлак, из-за которого, собственно, и произошла размолвка.
– Тебе жаль, что он не убил этого хлопкороба? – спросила у Сесиль Мари Лаво.
Девушка пожала плечами:
– Мне не хотелось с ним танцевать. Теперь я от этого избавлена. Я рада.
– Оставь свои игры, Сесиль. Вспомни, с кем ты говоришь. Все эти дуэли, которые возникают из-за тебя, становятся просто неприличны. Ты ведешь себя как избалованный ребенок, который ломает свои игрушки.
– А что я для этих мужчин, мадам, как не дорогая игрушка? Я их всех ненавижу.
– Включая Сен-Бревэна?
– Он же мужчина.
– Ты меня разочаровываешь. Мне казалось, что ты неглупа.
Сесиль судорожно вдохнула, словно Мари ударила ее.
– Простите, – произнесла она после долгой паузы. – Благодарю вас за вашу доброту ко мне и к моей матери. Я не хочу вас разочаровывать… Этот Сен-Бревэн – вы уверены, что Куртенэ-младшая влюблена в него?
– Больше жизни.
– Мне-то хотелось бы получить Куртенэ-сына.
– Я уже говорила тебе, это невозможно. Он сам незаконнорожденный, и видеть других внебрачных детей отца на людях для него просто невыносимо, как бы красивы они ни были. К тому же его отталкивает кровосмесительство.
– В таком случае, мадам Мари, я согласна на месье Сен-Бревэна. Пожалуйста, уладьте все формальности.
– Может быть, он не захочет?
Сесиль рассмеялась искренним радостным смехом юности и поцеловала Мари в щеку:
– Во второй раз я вас не разочарую.
Она вышла с балкона в тот самый момент, когда Вэл вошел в залу.
– Вы фехтуете так же искусно, как и танцуете, – сказала она. – Примите мои поздравления.
Вэл поклонился:
– Вы мне льстите.
– Нисколько.
Вэл улыбнулся:
– В таком случае не окажете ли вы мне честь принять мое приглашение еще на один вальс?
Сесиль подала ему руку.
Мари смотрела на них, стоя в темном уголке балкона. В глазах у нее стояли слезы. На мгновение ей захотелось перестать быть собой, перевоплотиться в прекрасную юную девушку, не наделенную никакими особыми талантами, кроме одного – даром покорить Вальмона Сен-Бревэна. И отдать весь мир за любовь.
Затем она засмеялась глубоким грудным смехом. Она смеялась над этим мимолетным сентиментальным порывом и чувствовала, как тело ее вновь наливается силой. Она давно уже выбрала для себя мир и променять его не согласится ни на что. Она же королева.
Глава 37
«Какие глупости! – подумала Мэри. – Не может же одна мысль о предстоящих танцах настолько изменить всю мою жизнь». И все-таки, едва Луиза упомянула, что они приоденутся и пойдут развлекаться, от мрачного настроения Мэри не осталось и следа. Она прекрасно выспалась и видела сон, из которого запомнила лишь то, что он был счастливым. Она проснулась с улыбкой.
День, как всегда, был полон суеты, но ее это нисколько не раздражало. Посетительницы требовали внимания, хотя и заходили «только посмотреть», швеи опоздали к началу работы, Ханна пролила кофе на их лучший кринолин – еще вчера все это привело бы Мэри в бешенство, а сегодня представлялось ей совершенными пустяками. Мэри еще раз взглянула на моток серебристых кружев, которые собиралась пришить к синему вечернему платью – она надевала его в оперу. Кайма совершенно изменит платье, превратив из милого девичьего в женственное и элегантное. Она купит к нему серебристые туфельки, которые видела в магазине на Шартр-стрит. Из денег, составляющих ее долю прибыли, она пока не потратила ни цента – была слишком занята, и единственным излишеством, на которое у нее хватало времени, была конка. И еще надо взять из магазина побольше серебристой ленты и сделать прическу поинтереснее той аккуратной косички, которую она обычно укладывала на затылке. Возможно, она выкроит минутку сходить в парикмахерскую. Какое-то время Ханна может справиться и без нее. Уложить бы волосы так, как ей укладывала их та женщина, которая приходила в дом Куртенэ… Тогда она выглядела такой красивой.
Дверь магазина открылась. Мэри вышла из-за ширмы, за которой шила.
– Мэй-Ри, это ты?!
Жанна Куртенэ подбежала к Мэри и крепко обняла ее. Поверх плеча Жанны Мэри увидела Берту Куртенэ. Та стояла, словно громом пораженная.
«Берта ничего не знала, – подумала Мэри. – Это все Карлос. Он вышвырнул меня вон, и никто не знал об этом. Наверное, он им что-нибудь наврал. Что я убежала или что-то в этом роде». Она попыталась сосредоточить внимание на радостной болтовне Жанны. О новом платье, о том, что все нынче только и говорят о Ринках, о бале-маскараде, и согласна ли Мэри, что Жанне следует нарядиться Джульеттой, и была ли она на прошлой неделе в опере, и не правда ли, что музыка Беллини божественно романтична, и разве не чудно было бы надеть небольшую шапочку, расшитую жемчугом, а волосы распустить, потому что волосы у нее, у Жанны, прекрасные, но никто еще не видел их распущенными, ниспадающими на плечи. И далее в том же духе.
Вытянув губы в тонкую ниточку, Берта схватила Жанну за руку.
– Жанна, мы идем к мадам Альфанд, – сказала она. – В этом месте молодой девушке не пристало покупать платья.
Мэри поняла, что Карлос Куртенэ действовал не один, и старые раны вновь заныли. Почему они так поступили с ней, что она такого сделала, почему ее изгнали, как прокаженную, даже не объяснившись? За что, за что с ней обошлись так жестоко? Мучительные вопросы душили ее. Мэри потянулась к Берте, попыталась что-то сказать. Но Берта уже выходила и тянула за собой Жанну.
– Мама, – возмущалась Жанна. – Я же хочу поговорить с Мэй-Ри!
Но мать тащила Жанну прочь, и голос ее постепенно стих.
– Кто это был, Мэри? – Ханна вышла из задней комнаты магазина, где она распаковывала новую партию перчаток.
– Да так, старые знакомые, – сказала Мэри. – Ничего особенного.
Эти слова дались ей с трудом, ее душили слезы. Когда-то ей удалось заставить себя забыть об этой боли, запереть ее в темный уголок сознания вместе с другими ранами, о которых она не желала думать. Теперь боль вырвалась наружу, и Мэри снова ощутила ее, еще сильнее, чем в то утро, когда Карлос изгнал ее из дома, который она считала родным. Тогда боль была приглушена шоком. Теперь же каждая клеточка ее существа живо чувствовала оскорбительность этого изгнания, его несправедливость, ужасающую уязвимость и беспомощность нынешнего состояния. Она была одинока, ничем не защищена от ударов и капризов бездушного мира.
– Я скоро вернусь, – сказала она Ханне. – Через несколько минут.
Сорвав шаль с крючка, Мэри выскочила за дверь.
Стройные ряды платанов, когда-то украшавшие Пляс д'Арм, были вырублены. Теперь площадь представляла собой пустой, изрытый канавами квадрат темной земли. Лишь кое-где проглядывали пучки нескошенной травы и сорных растений. Площадь, раскинувшуюся под серым низким небом, продувал холодный ветер, который трепал уголки шали Мэри, залезал ледяными пальцами за воротник. Он швырял в нее пыль, поднятую на площади; пыль кусала ей щеки и лоб, жалила в глаза.
Мэри побежала, преследуемая ветром. Юбки ее раздувались на ветру, лицо было мокрым от слез. Она устремилась к собору, расположенному на площади, надеясь найти там убежище.
Она, не задумываясь, опустила пальцы в купель и поспешно перекрестилась – насущная потребность гнала ее дальше, внутрь дома божия.
Там она опустилась на колени и стала молиться, тихо рыдая:
– Отец небесный, Пресвятая Богородица. Я одна. Мне страшно. Утешьте меня. Не оставляйте меня.
Каменный пол, на который опирались ее колени, напомнил ей пол в часовне при монастырской школе, а холод в огромном соборе – свежий горный воздух Пенсильвании. Запах воска и ладана казался родным, и у Мэри отлегло от сердца. Боль ушла в свой темный уголок и снова закрылась на засов.
Мэри побежала обратно в магазин, к серебристым кружевам для своего платья. Ветер дул ей в лицо. Скоро она повеселится с друзьями. У нее есть друзья, есть люди, которым она дорога.
Ханна была только счастлива взять на себя все заботы о магазине, пока Мэри сходит к парикмахеру.
– Если креольские дамы захотят что-нибудь купить, пусть только покажут пальцем. Я и без всякого французского пойму, чего они хотят.
Когда Мэри вернулась в магазин, Ханна громко вскрикнула – настолько изящны были взбитые локоны и косы, уложенные на макушке и украшенные лентами. По ее настоянию Мэри взяла шелковый шарф из запасов магазина – прикрыть волосы от ветра и вернулась домой пораньше, в кебе, чтобы подготовиться к вечеру.
Луиза тоже пришла домой пораньше. Войдя в дом, Мэри услышала ее пение. Против обыкновения Луиза пела арию, а не гаммы.
– Луиза, как чудно звучит твой голос! – сказала Мэри.
– А у тебя замечательная прическа!
Они одновременно улыбнулись, радуясь собственному праздничному настроению. Луиза потянула Мэри за руку. Подруги уселись рядышком на постель.
– Слушай, Мэри, мне надо кое-что тебе сказать, пока не явился мой брат. Его имя Майкл, но все зовут его просто Майк. Майк Келли. А он зовет меня Кэти. Понимаешь, мое настоящее имя – Кэтрин Келли. Я его переменила, когда приехала в Новый Орлеан. Разве могут оперную диву звать Кэти Келли? Я и назвалась Луизой Фернклифф. Это звучит намного шикарнее. Майк знает, что теперь я Луиза, но все время забывает. Для него я останусь Кэти, даже если буду петь Лучию де Ламмермур… Наверное, тебе не надо объяснять, что Майк и представления не имеет, что мистер Бэссингтон проявляет ко мне интерес. Пусть остается в неведении. Я отнесу все подарки мистера Бэссингтона в твою комнату. Майку и в голову не придет зайти туда, но я почти уверена, что он ворвется в мою комнату, как только переступит порог дома. Миссис О'Нил позволила мне пригласить его к ужину. Ты переоденешься до ужина или потом?
Они были заняты обсуждением этого вопроса, когда ворвался, как и предсказывала Луиза, Майк Келли. Это был крупный, краснолицый мужчина с рыжими усами и густыми бакенбардами.
– Конечно же, я помню мисс Мэри, – проревел он, когда Луиза представила их друг другу. – Да я каждый день любовался ее хорошеньким личиком на борту «Царицы Каира». Когда вы, мисс Мэри, променяли старушку «Царицу» на более шикарный пароход, то был скорбный день для всех нас.
– И не говорите, – сказала Мэри, вспомнив, что пересела она по предложению Розы Джексон. Не предаваясь долгим сожалениям, она спросила о Джошуа.
– Все такой же! – Майк расхохотался. – Гордый, как Сатана, но никто не обращает на это внимания. Сейчас он в Батон-Руже – хочет встретить Рождество с семьей. А я вот сюда приехал, побыть с моей маленькой сестренкой. А потом отправлюсь в Калифорнию, кучу золота добуду. Кэти вам не рассказывала?
– Рассказывала. Это так увлекательно.
– Когда вернусь через годик-другой с мешком золотых самородков с кулак величиной, будет еще увлекательней. Один парень с парохода говорил…
Майк занимал их рассказами о старательском счастье до самого ужина. За ужином он повторил все эти истории. Миссис О'Нил и оба Рейли слушали его, затаив дыхание. Однако Пэдди Девлина куда больше интересовали локоны Мэри, нежели золотые самородки. Он не мог отвести от нее глаз.
– Извините, если что не так скажу, мисс Мэри, только вы сегодня удивительно красивы, – сказал он, когда Мэри вышла в своем серебристо-голубом бальном наряде.
– За что же тут извиняться, Пэдди? – весело отозвалась она. Направляясь на свой первый бал с завитыми волосами и в серебристых туфельках, она чувствовала себя очень красивой. Она не знала точно, что ее ожидает, но не сомневалась, что это будет прекрасно.
Бальная зала была небольшая и не очень роскошная. Пол, хотя его и натирали днем, остался шершавым, а от сквозняков, бивших из оконных щелей, пламя в керосиновых лампах шипело и испускало дым. Но стены были украшены гирляндами из ярко-зеленой тафты, а высокие бальные стулья сверкали позолотой. Играли три скрипача и аккордеонист. Музыка была быстрая, веселая, и те, кто не танцевал, хлопали в ладоши, аккомпанируя музыкантам.
Здесь были люди всех возрастов. Пожилые мужчины и женщины осторожно сидели на хрупких стульях, дети танцевали собственную джигу по углам или бегали между танцорами, играя в салки и визжа от радости. Было очень шумно.
– Не знаю, как танцуют этот танец, – сказала Мэри, когда Пэдди жестом пригласил ее потанцевать. В центре залы множество пар энергично подпрыгивало, перемежая прыжки плавными движениями. Этого танца Мэри никогда раньше не видела.
Пэдди ее не расслышал. Он наклонил голову, приложил ладонь к уху и поднял брови. Мэри повторила свои слова, на сей раз выкрикнув их.
– Нечего привередничать, мисс Мэри. А ну-ка! – проревел Майк, облапил талию Мэри, приподнял ее и, громко смеясь, вытащил на площадку.
Мэри висела в его объятиях, как тряпичная кукла, и чувствовала себя настолько глупо, что рассмеялась вместе с ним.
Майк опустил ее на пол и начал танец. Она топала ногами, прыгала, кружилась и скользила, даже и не думая о своих непрочных туфельках. Ей было не до беспокойства – она веселилась вовсю.
Пэдди стоял рядом с Луизой и смотрел. Мэри казалась ему богиней среди простых смертных. Ее серебристо-голубое платье выглядело аристократически легкомысленным среди практичных темных шелков женщин постарше и ярких дешевых нарядов из тафты на молодых. Щеки ее раскраснелись, и от этого румяна на лицах других женщин казались грубыми и безвкусными. А ее маленькие ножки, обутые в хрупкие серебристые туфельки, казалось, едва касались пола – в противоположность тяжелым башмакам остальных, наделенных большим здравым смыслом.
– Ах, до чего ж она красива! – Пэдди вздохнул. Луиза сочувственно потрепала его по руке:
– Она не нашего поля ягода. Не изводись понапрасну, Пэдди. Это все пустые мечты.
Он упрямо сжал челюсти.
– Мисс Мэри – моя дама, – сказал он. – Как только стану винтильщиком, я женюсь на ней. Я буду ей хорошим мужем. У нее будут самые роскошные туфли, какие она только пожелает, и ей больше не надо будет портить себе здоровье работой.
– По-твоему, Пэдди Девлин, лучше, если женщина весь день готовит и прибирает, да еще и ребенка ждет каждый год?
Но Пэдди не слышал или не хотел слышать ее слов. Когда танец закончился, Майк возвратил Мэри Пэдди.
– Что-то пить очень хочется, – сказал он. Его мокрое лицо блестело, капелька пота свисала с кончика носа, как бриллиант.
Луиза отмахнулась:
– Майк, дорогой мой, пожалуйста, не начинай пить так рано. Потанцуй с сестричкой, покажи, что ты действительно любящий брат.
Майк ухмыльнулся.
– Ты говоришь совсем не как Кэти, а как наша мама. Но так и быть, ублажу тебя. Пошли. – Он обхватил ее за талию и закружил в танце, который как раз начался.
Пэдди взял Мэри за руку и подвел к танцующим.
– Мне очень хорошо! – крикнула Мэри. Потом музыка, топающие ноги и хлопающие ладоши заглушили ее слова.
Длинные столы в дальнем конце комнаты были уставлены мисками и блюдами с едой. Протанцевав почти два часа, Пэдди и Мэри наполнили тарелки и присели перекусить. Откусив ветчины, Пэдди вскочил:
– Пойду принесу вам пуншу. Он специально для дам. Мэри улыбнулась. Ей очень хотелось пить, но просить чего-нибудь она не хотела; на столе стояли только графины с пивом. Она пробовала пиво у миссис О'Нил, и оно ей не понравилось.
Она увидела, что Пэдди направился в уголок позади стола. Ей пришлось подождать несколько минут, пока он не принес ей чашку с пуншем. В углу вокруг стола с пуншем люди толпились по четверо в ряд. Под столом находились два бочонка виски.
Час спустя их заменили двумя полными бочонками. На сей раз никто и не пытался припрятать виски. Бочонки выкатили прямо на столы, где уже не было еды.
Еще через час действие виски начало сказываться. Танцы стали более разнузданными, люди запели, некоторые женщины заплакали, а крупный краснолицый мужчина запутался в собственных ногах во время танца и с грохотом упал, увлекая за собой партнершу.
Спустя полчаса завязалась первая драка. Не прошло и минуты, как зал заполнился звуками ударов, звоном битого стекла и воплями.
Мэри вцепилась в Пэдди.
– Я хочу домой! – воскликнула она.
– Не переживайте, мисс Мэри. Я о вас позабочусь. Танцы еще только начались.
– Пожалуйста. Прошу вас. Я хочу домой. Пэдди кивнул.
– Как вам будет угодно, мисс Мэри. – Танцуя, он довел ее до пустого пятачка возле дверей. Там было с полдесятка женщин, которые надевали шали перед выходом. К ним присоединилась еще одна, которая тянула за собой двух громко протестующих детей. К Мэри и Пэдди подбежала Луиза.
– Я с вами! – завопила она и кивнула в сторону Майка, который, смеясь во все горло, размахивал остатками позолоченного стула перед носом четверых парней, а те старались добраться до него.
Когда они вышли на улицу, Мэри трясло. Пэдди снял с себя взятый напрокат фрак и укутал им плечи Мэри.
Но ее трясло не от холода, а от увиденного ею насилия. Больше всего ее напугало то, что никого, похоже, не волновали жестокость и зверство. Все смеялись и улыбались, даже драчуны вроде Майка Келли. И даже женщины, которые уходили оттуда, казалось, относились к побоищу совершенно спокойно. А музыканты продолжали играть, будто разбитые в кровь носы и головы ничем не отличались от танцующих ног.
Мэри задела ногой торчащий из мостовой выступ кирпича. Она заплакала из-за пропавшего впустую вечера. Но Пэдди она сказала, что плачет от боли в пятке.
– У вас кровь идет! – воскликнул Пэдди, когда Мэри повернула ногу, чтобы посмотреть. Он легко поднял ее и понес домой, хотя мерз в одной рубашке.
Мэри не могла перестать плакать. Теперь она плакала не от разочарования и не от боли в ноге. Она плакала оттого, что Пэдди Девлин любит ее, а она любить его не может.
В пансионе Мэри промыла и перебинтовала рану, которая оказалась совсем пустяковой. Она отвечала на расспросы миссис О'Нил, высоко подняв испорченные туфельки и улыбаясь самой лучезарной улыбкой, на которую только была способна.
– Бал был замечательный, – сказала она. – Я слышала выражение «станцевать туфли до дыр», а теперь так оно и вышло. Говорят, это доказательство самого отменного веселья.
Луиза ответила кривоватой улыбкой:
– Скажи это моему братцу. Он-то считает доказательством, когда потом голова трещит три дня. И кулаки сбиты до костей.
В ту ночь Мэри с трудом смогла заснуть. Она пыталась понять людей и жизнь на Ирландском канале. По сравнению с ними она чувствовала себя немощной трусихой. Они все так бурно выражали – и радость, и горе. Еда, питье, веселые потасовки были так безудержны, что она совсем терялась и ощущала себя неполноценной.
«Я здесь чужая и никогда не стану своей».
Она подумала, не это ли имела в виду Луиза, говоря, что Мэри «не нашего поля ягода». Она понимала, что изменить себя не может. И не хочет. Она хотела жить той жизнью, кусочек которой наблюдала в Монфлери. Жизнью упорядоченной и красивой, где галереи благоухают цветами, а лужайки зелены, где за столом сидят улыбающиеся люди с тихими голосами и поднимают хрустальные бокалы под портретами, с которых смотрят лица, похожие на их собственные.
Теперь она месяцами не вспоминала о потерянной шкатулке, которая была ее наследством. Иногда она была почти уверена, что это ей только приснилось.
Но наступали моменты, похожие на этот, когда она самой себе казалась чужой в доме на Эдел-стрит. Она вспоминала шкатулку и убеждала себя, что принадлежит к другому миру – более культурному, рафинированному, цивилизованному. «Я буду жить так, как хочу, – пообещала она себе. – Магазин уже процветает. А если я буду трудиться и дальше, у меня будет все, что я захочу. Ведь работа у меня спорится».
Она стыдилась своей гордыни. Но в то же время гордыня эта приносила ей радость.
Когда наконец пришел сон, Мэри уснула, согнув ладони колечком, так что большой палец касался необычно длинного мизинца, – ладони, которым идеально подошла бы отороченная кружевом перчатка из шкатулки.
За милю с небольшим от нее в изящном старом доме на Ройал-стрит, Селест Сазерак заперла дверь своей комнаты. Потом отворила дверцу бюро и вынула из него старую шкатулку. Дерево сверкало – Селест каждый вечер полировала его. Раскрыв шкатулку, она выложила перед собой на покрытый бархатной скатертью столик сокровища, поставила в центр серебряный подсвечник и зажгла пять свечей. Затем выключила газовый свет и села на скамеечку перед столом. Она принялась протирать шкатулку, мурлыкая разложенным на столе сокровищам песню без слов. Свет свечей падал на старые перчатки.
Глава 38
На другое утро после квартеронского бала, на рассвете, Вальмон Сен-Бревэн выехал из города. Он не спеша направлялся к плантации, доверив лошади самой выбирать путь на скованной инеем дороге. Сам же целиком сосредоточился на мыслях, которые беспорядочно проносились в голове.
Он знал, что эта девушка, Сесиль, достанется ему, если только он захочет взять ее, что бы там ни говорила Мари. А он желал Сесиль. Больше чем какую-либо другую женщину с самого его отъезда из Парижа.
Однако обстоятельства складывались мерзко – девушку не нужно было покорять, ее просто выставили на продажу.
Ему было вполне по средствам купить ее. Приобрести для нее один из домов возле Рэмпарт-стрит, слуг, экипаж, обстановку, одежду, драгоценности. Она могла бы стать самой роскошной, самой ублажаемой содержанкой в городе, и на это ушла бы лишь мизерная часть его средств.
Он живо представил себе удовольствие, которое получит, потакая ее прихотям, сидя напротив нее за маленьким столиком, – она с обнаженными плечами, шею украшает изумрудное колье… изысканный обед с лучшими винами…
За все уплачено. Словно она скаковая лошадь или батрак на плантации. В высшей степени прекрасное создание – и рабыня, несмотря на все бумаги, свидетельствующие о том, что она свободна.
«Но она сама выбрала такую жизнь, – возражал себе Вэл. – С ее красотой она могла бы выйти замуж за любого из сотен мужчин. Ей не обязательно предлагать себя в любовницы белому. Не обязательно являться на бал квартеронок».
Но он знал, что лжет сам себе. Сесиль была дочерью содержанки. Она была незаконнорожденной по определению. Да, это весьма родовитая незаконность, но очевидная для всех, словно левая перевязь на фамильном гербе. А это означало, что она не может вступить в брак с богатым цветным мужчиной, способным поддерживать тот образ жизни, к которому она привыкла. У свободных цветных было собственное светское общество, с не менее жесткими классовыми и фамильными различиями, чем в белом обществе.
Вероятно, Вальмон знал о жизни этой особенной части населения Нового Орлеана больше, чем любой другой белый. Мари Лаво писала ему о ней, подрастая, осознавая свое место в этом мире, задумываясь о писаных и неписаных законах, которые управляли этим миром.
Он был не в состоянии ответить на ее невинные вопросы о тех особых проблемах, которые касались жизни цветных в стране белых. О том, что эти люди могут быть скорее белыми, чем черными, по цвету кожи, но не по закону. Что по закону они свободны, но фактически нет. Свободные цветные мужчины и женщины могли владеть собственностью и сдавать ее в аренду белым; они могли открыть дело и обслуживать белых клиентов; могли подать на белого в суд и выиграть процесс. Но они не могли вступать в брак с белыми или нанимать их на службу. Более того, при появлении в публичном месте женщины должны были носить тиньоны, как рабыни. И свободную цветную женщину могли арестовать за «плохое поведение» по заявлению белой женщины, если та могла предоставить двух свидетелей. Наказанием была публичная порка.
Свободный цветной мужчина был лишен самого важного права, какое только мог иметь мужчина, – права защитить свою честь. Он не мог вызвать белого на дуэль. Хотя лучшим и самым известным учителем фехтования в Новом Орлеане был Бастиль Крокер, свободный цветной, который давал уроки юношам из самых знатных креольских семей.
Свободные цветные были частью Нового Орлеана с самого основания города. Когда принадлежавший французам остров Санто-Доминго охватило восстание рабов, тысячи богатых цветных бежали с острова, ища убежища во франкоязычном Новом Орлеане. До появления американцев они составляли почти половину населения Нового Орлеана, не считая рабов. Они владели третью всей собственности, включая плантации с сотнями рабов; у них были свои ложи в опере, непосредственно над ложами высшего креольского общества; они обучали детей в особых частных школах, причем мальчики получали дальнейшее образование во Франции. Среди них были поэты и бездельники, врачи и пьяницы, игроки и филантропы, богатые и бедные, святые и грешники – все, чем располагало и прочее человечество. Включая и предубеждение против ребенка, рожденного вне брака и не признанного отцом – незаконнорожденного.
Сесиль Дюлак не могла выйти замуж за мужчину, равного себе по образованию, культуре, воспитанию. С самого рождения она была обречена стать содержанкой.
Вальмон знал все это и внушал себе, что если Сесиль на роду написано стать содержанкой белого, то этим белым вполне может быть он, Вальмон Сен-Бревэн. Он будет лелеять ее и с большим пониманием относиться к сложности ее положения, нежели любой другой на его месте. И с ним ей будет лучше, чем с какой-нибудь скандальной скотиной вроде того торговца хлопком.
И все же… все же… Вэл никогда не навязывал себя женщине, никогда не бывал близок с женщиной, не жаждавшей его объятий. Для простого удовлетворения плоти он всегда ходил к наилучшим шлюхам. Что же до любви, то он признавал лишь любовь обоюдную. Не обязательно ту, которую воспевают поэты. Он не был убежден, что любовь, о которой они пишут, существует где-либо, кроме стихов.
Он мог любить Сесиль – в соответствии со своим пониманием любви. Мог быть неравнодушным к ее чувствам, ее благополучию, ее счастью. Ему нужен был кто-то, кого он мог бы оберегать и любить.
Но он хотел, чтобы и она была неравнодушна к нему, любила его. Однако оснований предполагать в Сесиль нечто подобное не было. И очевидно, не будет.
Она будет верна ему, внимательна к его запросам и желаниям, будет умело вести дом, который он ей купит. У него будет милый уголок, куда он сможет приходить, когда вздумается, где ему подадут ту еду и напитки, которые он предпочитает, где его будет ждать красивая и послушная любовница. Она очень скоро научится доставлять ему удовольствие в постели. Хотя она и девственница, мать несомненно научила ее, как ублажать мужчину.
У него будут все удовольствия, которые несет с собой брак, без каких-либо связывающих ограничений. Он будет величайшим дураком, если не сделает заявку на самую прекрасную, самую привлекательную женщину, которую ему доводилось видеть.
Но она не любит его. И даже не хочет его. Она, конечно, уступит. Она может оказаться достаточно искусной, чтобы изобразить и любовь, и желание.
Но он не позволит себе обмануться. Невозможно не узнать настоящее чувство, когда раскрывается не только тело, но и сердце.
И тогда он почувствует омерзение. К самому себе. К самой системе купли содержанок. К купле-продаже поддельной любви.
Вэл крепко сжал поводья – лошадь уже была готова бежать неизвестно куда.
Но тут он узнал приметные места у дороги и со смехом ослабил хватку. До Бенисона оставалось чуть более мили.
– Уже в стойло хочется, да? – сказал он. Лошадь повела ушами. Вэл похлопал ее по боку. – Ладно, едем домой. Тебе теплой мешанки, а мне горячего пуншу.
В Бенисоне на Вэла обрушилось столько забот, что ему некогда было думать о Сесиль. Было уже двадцать первое декабря, а двадцать седьмого он собирался на скачки в Чарлстон – со Снежным Облаком и еще тремя лошадьми. Чарлстонские скачки были самыми знаменитыми в Америке: участники приезжали из Франции, Англии и Ирландии, а также со всех уголков Соединенных Штатов. Вэл уже бывал на этих скачках, но никогда не выставлял собственных лошадей.
– Европейцы привозят своих лошадей за несколько месяцев до скачек для акклиматизации. Но я хочу встретить Рождество дома, – говорил всем Вэл. – Поэтому беру кусочек Луизианы с собой. Моим лошадкам не нужно будет приспосабливаться к Южной Каролине. Они и не почувствуют, что уехали из дома.
Когда все поняли, что Вэл имеет в виду, то решили, что денег у него больше, чем ума. Он купил океанский пароход, построенный специально по его заказу в Ирландии. Пароход стоял пришвартованный в Новом Орлеане уже четыре месяца. На нем побывал практически каждый горожанин, и все выражали решительное неодобрение – когда Вэла не было поблизости. Говорили, что каюты просторны и шикарны до неприличия. Вэлу, капитану, жокею Вэла, старшему конюху и даже грумам предназначались отдельные помещения. Команда размещалась в кубриках всего на четыре человека. Обитые войлоком стойла для лошадей были просто нелепы. Еще более нелепы были огромные трюмы, предназначенные для силоса и соломы из Бенисона и бочонков с водой.
Пожилой американец, когда-то изучавший историю Древнего Рима, неустанно бормотал на протяжении нескольких часов: «Калигула, Калигула…» Креолы покачивали головами, оскорбленные тем, что всю команду привезли из Новой Англии. Из того, что говорил капитан, никто не мог разобрать ни слова.
Но все признавали, что у Сен-Бревэна есть стиль, и делали колоссальные ставки на его лошадей. Неважно, выиграют они или проиграют, будет просто замечательно показать снобам из Чарлстона, что Новый Орлеан тоже есть на карте.
Судно называлось «Бенисон». Оно должно было начать двигаться вверх по реке до усадьбы в самый день Рождества, когда движения по реке не будет и можно будет свободно определить фарватер для его глубоко сидящего корпуса.
В субботу и воскресенье Вэл проверял, все ли готово к перевозке лошадей и прочего необычного груза. Он переговорил со всеми, кто занимался приготовлениями, и дважды проверил все.
Помимо того, он вновь просмотрел все планы, связанные с поместьем, вместе со своим дворецким Неемией. Ведь поездка в Чарлстон займет более месяца. И еще нужно было поблагодарить Агнес, экономку, за то, что украсила дом плющом, остролистом, омелой, сосновыми лапами, листьями магнолии и гирляндами алых и белых камелий. За день, что он провел в городе, особняк превратился в праздничный дворец. Он разговорился об этом с главным садовником и осмотрел с ним его хозяйство, – ведь того тоже следовало поблагодарить. Несмотря на необычно холодную погоду, сады цвели вовсю.
Вэл распорядился срезать самых лучших цветов. Отправляясь в город, он возьмет их с собой. Они послужат великолепной прелюдией к беседам с множеством тетушек и двоюродных сестер во время обязательных рождественских визитов. Пока каждая из дам будет рассказывать ему, какие именно просчеты допустили ее собственные садовники, надлежащие двадцать минут истекут, и он сможет отправиться с очередным букетом со следующим визитом.
Рождество обещало быть напряженным. Утром надо было раздать подарки рабам, посетить мессу в часовне плантации, съездить в город навестить родственников и заблаговременно вернуться, чтобы не опоздать к погрузке судна, которой ему предстояло руководить.
И скорее всего, спать придется не более двух часов. Он давно принял приглашение Микаэлы де Понтальба отужинать у нее в сочельник. Ужин накануне Рождества – европейский обычай, которого в Новом Орлеане не придерживались. Подавали двенадцать блюд, и гостей тоже должно было быть двенадцать, а заканчивался ужин ровно в полночь шампанским – поднимали бокалы за начало рождественского дня и рождение младенца Иисуса.
Если повезет, он возвратится в Бенисон к пяти утра.
Вэл испытывал глубочайшую симпатию к баронессе и ее сыновьям. Их присутствие в Новом Орлеане было просто даром небес. Даже когда у Вэла не было времени повидаться с ними, он знал, что где-то рядом находится частица Парижа. И тогда он меньше тосковал по Франции.
Но он проклинал себя за то, что согласился провести с ними сочельник. До отъезда в Чарлстон оставалось столько дел! А под маской беззаботного прожигателя жизни Вэлу приходилось скрывать постоянно грызущую его тревогу за предстоящее плавание, за каждый его этап, за возможность провала всех его тщательно продуманных планов.
Еще больше он злился на себя и на Микаэлу за тот портрет, который она хитростью навязала ему. Придется позировать Ринку в понедельник и вторник – в самый сочельник.
Мэри видела, как Вальмон прибыл на утренний сеанс к Альберту Ринку в понедельник. В этом не было ничего неожиданного – Ханна предупредила ее, что Вэл приедет.
– Мэри, Альберт так волнуется! Можно подумать, что он будет писать портрет с самого президента Филмора.
Мэри подумала, что у Вэла усталый вид и он явно не в духе. Она отошла от окна, прежде чем он успел заметить ее. Она тоже устала, но поддаваться усталости не могла – ее ждало шитье.
– У вас несколько утомленный вид, мистер Сен-Бревэн, – сказал Альберт Ринк. – Когда захотите ненадолго присесть, скажите мне.
Вэла раздражали нервозные, подобострастные манеры Ринка. Он хотел, чтобы тот не прерывал работу и побыстрее покончил с портретом. Он начал говорить нечто в этом роде, но тут заметил, что рука художника дрожит, с кисти брызгами разлетается краска, а глаза блестят самым подозрительным образом. Господи, что же это такое – артистический темперамент по-американски? Неужели этот несчастный сейчас бросится ему на грудь и разрыдается? В таком темпе портрет не будет закончен никогда.
Вэл заговорил самым спокойным тоном, как говорил с напуганными лошадьми:
– У меня несколько друзей в Париже занимаются живописью. Никто из них особо не блещет, но тем не менее я им ужасно завидую. Мне кажется просто чудом, когда из цветовых пятен проступает дерево или лицо. По-моему, писать людей сложнее всего. У каждого собственное представление о том, как он выглядит, и оно редко совпадает с тем, что видят другие, глядя на этого человека.
«Должно сработать, – сказал Вэл про себя. – Теперь он знает, что я не рассчитываю, чтобы этот чертов портрет был похож. Мне лично все равно – пусть нарисует хоть воздушный шарик с двумя точечками вместо глаз».
Рука Альберта наносила уверенные, быстрые штрихи.
Вэл улыбнулся.
– Мистер Сен-Бревэн, вы хотели бы улыбаться на портрете?
Вэл хотел бы послать Ринка ко всем чертям. Но ограничился замечанием, что ему предпочтительнее было бы без улыбки.
Альберт кашлянул. Это означало, что он собирается заговорить.
– Я согласен с вами насчет портретов. Это самое трудное. – Он помолчал, а затем выпалил решительно и откровенно: – Я тоже не великий мастер, как и ваши парижские друзья. Лица мне удаются, пожалуй, хуже всего. Но за картину, на которой изображена ваза с апельсинами, никто не хочет платить. По большей части люди мечтают себя увековечить… Извините, я не хотел вас обидеть, я знаю, что баронесса уговорила вас позировать мне, у вас этого и в мыслях не было. Я вам сочувствую и очень хорошо понимаю. Однажды в Филадельфии она заговорила со мной, и я опомниться не успел, как оказался в Новом Орлеане, в такой дорогой квартире, каких в жизни не только не снимал, но и не видел. – Альберт ухмыльнулся. – Она неподражаема. Никогда не пожалею, что познакомился с ней, если, конечно, не умру с голоду.
Вэл решил, что Ринк не так уж плох. С ним стоило познакомиться.
– Вы уроженец Филадельфии?
– Нет, я родился в поселке при большой дороге. Такой маленький поселочек, что у него и названия-то не было. Учился в Филадельфии. Мы с Ханной сэкономили немного денег, и несколько месяцев я мог брать уроки. Мне всегда хотелось писать лучше. Я чувствую, что вижу мир глазами художника, но не могу изобразить то, что вижу. Должно быть, я слишком тщеславен.
– Или слишком скромны.
– Нет. Скромностью я никогда не отличался. Во всяком случае, мне так говорили. – Альберт усмехнулся и принялся смешивать краски на палитре.
– По-моему, скромность – это та добродетель, которую сильно переоценивают, – сказал Вэл. Беседа начинала ему нравиться.
Альберт любил поговорить. Особенно об искусстве и о себе. Благосклонность Вэла открыла шлюзы.
Вэл позировал два часа, опершись локтем на срезанную колонну с каннелюрами, которую Альберт избрал в качестве достаточно классического атрибута. Он многое узнал о жизни Альберта и о его надеждах на будущее. Понял он, и почему Альберт никогда не станет знаменитым художником, несмотря на все свои устремления. Дело было вовсе не в том, что он не мог писать, как ему хотелось. Мастерство могло прийти со временем. У Альберта не было вкуса.
– Например, возьмем ту девушку, которая работает с Ханной в магазине, – сказал Альберт. – Пожалуй, я один из немногих, кто внимательно смотрел на нее. Большинство сказали бы, что она почти дурнушка. Но я смотрю глубже. Эта девушка, ее зовут Мэри, у нее волосы и глаза цвета хереса. В глубине глаз сияет золотой огонек, и волосы отсвечивают золотом, когда на них падает свет. Я хотел бы написать ее, написать так, как я ее вижу. Я посадил бы ее рядом со столиком, а свет падал бы сбоку, чтобы волосы отсвечивали золотом. На столик я поставил бы графин с хересом того же золотого цвета. А глаза смотрели бы прямо на вас, и в их глубине сияли бы золотые искорки… Но я знаю – у меня ничего не получится. Пожалуй, это слишком тонкая работа.
– Это замечательная мысль, – сказал Вэл Альберту. «Ты и представления не имеешь, насколько замечательная», – добавил он про себя. Эта Мэри с глазами цвета хереса, девочка Розы Джексон, – как раз то, что ему надо, чтобы отвлечься, не наживать себе забот, которые у него появились бы, если бы он взял на содержание Сесиль Дюлак. Он уже пообещал себе неделю развлечений в отеле с тремя покладистыми шлюхами. Но девица от Розы – это еще лучше. Она умна. И свидетельство тому ее уход из борделя и то, что она сумела достичь респектабельности и благосостояния. Любопытно понаблюдать, как долго она сможет разыгрывать недотрогу.
А отбросив эту позу, она проявит все те незаурядные способности, благодаря которым девочки Розы по праву считаются лучшими проститутками на Миссисипи.
Глава 39
– Здравствуйте, миссис Ринк. Мисс Макалистер здесь? Мэри шила за ширмой. Услыхав голос Вальмона, она уколола палец иголкой.
– Здесь, – ответила Ханна. – Сейчас она выйдет. Мэри вытерла руку об юбку, затем поспешно попыталась затереть кровавое пятно. Иголку она потеряла. У нее кружилась голова. Вставая, она уронила на пол воротничок, над которым трудилась.
Но разве это имело какое-то значение? Он пришел к ней!
– Доброе утро, месье! – выйдя из-за ширмы, сказала она.
Свет падал сзади, высвечивая силуэт Вальмона так же, как закат, когда она впервые увидела его. Лицо было в тени, но Мэри не было никакой надобности видеть его. Она знала это лицо наизусть.
«Альберт Ринк действительно умеет видеть, – думал Вэл. – Действительно в глубине глаз этой девчонки словно горят крохотные золотые свечи. Странно, что я никогда этого не замечал. Возможно, это из-за ее румян. Розе следовало бы научить ее накладывать их не так густо».
Он слегка поклонился и улыбнулся. У Мэри сердце перевернулось в груди.
– Я собираюсь прогуляться по береговому валу и взглянуть там на одно судно, – сказал Вэл. – Если вы свободны, мадемуазель, я хотел бы пройтись с вами. Мы могли бы выпить кофе на рынке.
Мэри даже не взглянула на Ханну.
– Я надену чепец, – сказала она.
– Мэри, возьми шаль, – засуетилась Ханна.
– Сегодня такой чудесный день. Кутаться совсем ни к чему, – ответила Мэри. В воскресенье снова стало тепло. Мэри про себя возблагодарила всех святых. Благодаря теплой погоде она утром надела свой лучший чепец. Нервными, неуклюжими пальцами она завязала полосатый бант под подбородком.
– Я готова, месье Сен-Бревэн.
Оказавшись на солнце, Вэл разглядел, что румянец у Мэри естественный. Это был первый сюрприз, поджидавший его.
Второй не заставил себя ждать – Мэри перешла на французский язык. Говорила она почти безупречно:
– Вы собрались взглянуть на «Бенисон», месье? Я слышала о нем от дам в нашем магазине. Если позволите, я бы тоже хотела взглянуть на него.
– На нее, – поправил Вэл. – Для моряков и в Англии, и во Франции любое судно – всегда женщина. Говорят, это из-за того, что мужчины их очень любят, хотя они чрезвычайно опасны.
Он ожидал, что Мэри подхватит заданный им тон, начнет флиртовать или спросит, насколько опасной должна быть женщина, чтобы понравиться ему. Но вместо этого она с интересом заметила:
– Это странно. Ведь женщины считаются дурным предзнаменованием на судне. Или это не так? Я где-то об этом читала.
Вэл был сбит с толку.
– Не знаю, – ответил он и попытался рассмотреть лицо Мэри. Уж не смеется ли она над ним? Но лицо ее было прикрыто полями чепца. Она оказалась намного ниже ростом, чем ему помнилось.
Если бы ему все же удалось рассмотреть ее, он был бы в очередной раз удивлен. Прикусив нижнюю губу, она морщилась от боли. «Прекрати, – внушала она себе. – Прекрати. Ты слишком много болтаешь. Так ты ему до смерти надоешь. И не задавайся вопросами о том, что происходит. Главное, что ты здесь, с ним, и это сущая правда. Не трать ни секунды даром. Подмечай все, чтобы потом могла вспомнить. Решительно все».
Она подняла взгляд и посмотрела в лицо Вэла. Ее взгляд был полон искреннего любопытства.
И это его опять-таки удивило. Посмотришь на нее – так она невинна, как пятилетнее дитя. Странно, что Роза не сумела удержать ее у себя. Это, должно быть, была лучшая девочка в ее заведении. В глазах Вэла, Мэри столь искусно и правдоподобно изображала невинность, что это напоминало пародию. Вэл рассмеялся.
Мэри моргнула и рассмеялась вместе с ним. Смех исходил из глубины ее маленького тела, он звучал так весело и заразительно, что все поневоле оборачивались и улыбались.
В этот момент она была так счастлива, что совершенно забылась.
– Вы предпочтете попить кофе сейчас или позже? – спросил Вэл.
– Все равно, можно и сейчас, и после, – ответила Мэри. – Кофе всегда кстати. А вам как больше хочется?
– Да пожалуй, и сейчас, и после. Я ведь утром так и не пил кофе. – Он взял Мэри повыше локтя. Они вышли на береговой вал с его оживленным движением. – Бежать можете?
Мэри показалось, что его теплая рука обжигала ей кожу сквозь его перчатку и рукав ее платья. Она боялась, что у нее в любой момент могут подкоситься ноги. Но от этой слабости она чувствовала себя великолепно.
– Бежать могу, – заверила она, и они нырнули в водоворот повозок, животных, людей.
Позднее Вэл не мог четко припомнить те полчаса, которые он провел с Мэри. Все подробности исчезли. Он вспомнил лишь, что все продавцы, похоже, знали Мэри по имени и что такого вкусного кофе, как тот, который они пили в тот день, ему пробовать не доводилось, равно как и столь же аппетитного гумбо. И что «Бенисон» несомненно самое прекрасное судно на реке.
Он намеревался устроить так, чтобы она пришла на часок в его номер в отеле. Но неожиданно для самого себя пригласил ее на плантацию посмотреть на Снежное Облако после очередного сеанса позирования, который состоится завтра утром. Тогда он сможет провести с ней больше времени, а ему хотелось побыть с ней подольше.
Она буквально захлопала в ладоши. Вэл решил, что в своей роли инженю она несколько переигрывает. Затем она спросила, следует ли ей пригласить дуэнью. «Конечно», – ответил он, подыгрывая ей.
Он проводил ее до самого магазина, словно она и в самом деле была респектабельной молодой дамой, а затем поспешил в «Сен-Луи». По пути он вспомнил лаконичное резюме Филиппа Куртенэ относительно Мэри Макалистер: она не такая, как остальные девушки.
Бедняга Филипп. Неудивительно, что она произвела на него столь сильное впечатление. Вэлу еще не доводилось видеть столь убедительную актрису, как Мэри Макалистер.
Играла она блестяще. Не кокетлива, но и не холодна; не слишком светская, но и не вовсе неотесанная. Да, она действительно не похожа на других девушек, в ее обществе настолько хорошо и спокойно, что легко забыть, кто она на самом деле. Девушки Розы всегда дают мужчине то, чего ему хочется больше всего, даже когда он сам не подозревает, чего именно, и понимает, лишь когда уже получил это.
«Эта лучше всех. Такой я еще не видел, – думал Вэл. – Завтра будет очень интересно». Он вошел в отель и перестал думать о Мэри.
А Мэри шила за своей ширмой, вновь и вновь переживая каждую секунду, проведенную с Вэлом. Она не могла поверить, что все это случилось на самом деле. Время от времени она трогала пальцем обработанный лаком цветок, который принесла в кармане. Это было вещественное доказательство – продавец гумбо дал Вэлу цветок в виде ланьяппа, а Вэл подарил цветок ей.
Войдя в двери отеля «Сен-Луи», Вэл попал на самый оживленный пятачок во французском квартале – за исключением рынка. Отель занимал почти полквартала, или, как выражались креолы, полквадрата. У него было три входа. Один, с Ройал-стрит, вел к двум сотням номеров, четыре из которых Вэл снимал круглый год, – они служили ему городской квартирой. Два входа были с Сен-Луи-стрит. Один вел на лестницу, которая изящно поднималась до бальных зал, а другой – большой, внушительный, с колоннами – служил главным входом. В него Вэл и вошел – у него были важные дела.
Проходя через большой зал, именуемый биржей, он кивнул нескольким знакомым, но при этом показал на противоположный выход, давая тем самым понять, что у него нет времени остановиться поболтать. Таких бирж в городе было несколько. Там собирались банкиры, маклеры, торговцы и представители транспортных фирм и заключали сделки с сахаром, хлопком и всевозможными перевозками.
Вэл держал путь в ротонду – самое сердце отеля, где торговля отличалась большим разнообразием и где проводились аукционы.
Ротонда пользовалась вполне заслуженной славой одной из самых интересных достопримечательностей Нового Орлеана, куда стекались и приезжие, и местные жители. Ее высокий купол был украшен фресками с аллегорическими сюжетами. Боги, нимфы, мифические животные резвились на фоне фантастических пейзажей высоко над головами людей, толпами снующих по мраморному полу. Чугунная винтовая лестница вела на опоясывающую ротонду чугунную же галерею, откуда зрители могли любоваться бурной деятельностью аукционистов, а также лучше рассмотреть величественные языческие забавы на фресках.
По воскресеньям ротонда была закрыта, а во все прочие дни недели открыта для обозрения. От полудня до трех часов она была забита мужчинами и женщинами, продающими, покупающими или просто наслаждающимися бурным оживлением.
От разнообразия товаров захватывало дух. За плантацией в три тысячи акров мог следовать пай на одну тридцатую часть небольшого пригородного участка. За бочонком вина – пара бокалов. Мебель, гвозди, картины, чайники, тюки сена или хлопка, кадушки с ромом или патокой, дамские ботинки или мужские подтяжки, кружева, духи, смола, плуги, хрустальные люстры, фарфор, шелка, связки бамбуковых стеблей… Все, что могло кому-то понадобиться, сваливалось к ногам покупателя после быстрого оживленного торга, который велся одновременно по-французски, по-английски и по-испански. Жители Нового Орлеана любили азарт и состязания. И естественно, предпочитали аукционы всем прочим видам коммерческих сделок. Даже дамы-креолки приходили в ротонду, когда выставлялась новая партия товаров из Франции или продавалась обстановка шикарного дома для покрытия долгов какого-нибудь проигравшегося картежника.
Аукцион проходил быстро и яростно. Три часа не тот срок, за который можно подумать, прежде чем делать ставки. Слишком много товара проходило через аукционы. В особенно напряженные дни два, три, а то и четыре аукциона проводились в разных концах огромного зала одновременно.
Вэл сразу увидел, что сегодня особого оживления нет. Лишь один аукционист зазывно выкрикивал группе человек в двадцать—двадцать пять:
– Как, неужели вы дадите этому потрясающему зеркалу уйти всего за сорок три доллара? Леди и джентльмены, да в самом Версальском дворце нет столь правдивых и столь прекрасных зеркал…
Два человека, стоявшие по обе стороны от него, говорили то же самое и с теми же интонациями – один по-французски, а другой по-испански.
Вэл прошел мимо них ко второй аукционной площадке, где мужчина устанавливал подиум.
– Привет, Жан-Пьер, – сказал он. – Мне передали, что у вас есть что-то для меня.
Аукционист кивнул.
– Как раз то, что вы любите, месье Сен-Бревэн. Пойдемте со мной. – Он жестом подозвал своих переводчиков, и они продолжили работу за него.
Аукционист провел Вэла в заднюю часть ротонды, где за низеньким деревянным барьером разместились рабы, выставляемые на продажу. Там уже было трое покупателей, которые придирчиво рассматривали рабов, обсуждая их достоинства и недостатки.
Жан-Пьер был одним из немногих новоорлеанских аукционистов, которые принаряжали рабов перед торгом. За перегородкой стояли четверо мужчин в плохо сидящих зеленых фраках, красных жилетах и желтовато-коричневых брюках и шесть женщин в бальных платьях из розовой тафты с глубоким вырезом. Одна из женщин была очень стара, со скрюченными от артрита руками и узким лицом, изборожденным морщинами. Была тут и девочка не старше десяти лет. У всех женщин на головах были требуемые законом тиньоны – хлопковые, с черно-красным узором, который самым нелепым образом контрастировал с блестящей розовой тканью платьев. Все рабы улыбались, довольные своими роскошными нарядами.
– Они с плантации Марсдена, что повыше Натчеза, – сказал аукционист. – Марсден наконец-то помер от скупости. Скорей всего, не пожелал раскошелиться на врача. Эту партию доставили в лохмотьях. Но они в хорошем состоянии. Об имуществе он заботился лучше, чем о себе самом.
Один из покупателей внезапно спросил самого крупного из рабов:
– Как тебя зовут?
Покупатель, естественно, говорил по-французски. Раб закатил глаза, и улыбка его дрогнула.
– Эге, да они все говорят по-американски, – сказал креол. – Я не собираюсь открывать у себя на плантации школу. – И он поспешил прочь, остановившись, лишь чтобы взять блюдечко устриц с подноса, который предложил ему официант.
– Похоже, полку конкурентов убыло, – сказал Вэл и подозвал официанта. – Пришлите мне бутылку белого вина, – сказал он, отобрав несколько устриц.
Администрация отеля предоставляла постоянным посетителям аукционов бесплатный второй завтрак, чтобы те не пропускали возможность сделать ставки. Официанты курсировали по залу с подносами, уставленными горячими и холодными закусками и напитками.
Жан-Пьер подождал, пока Вэл съест дюжину устриц, выпьет два бокала вина и вытрет руки о полотенце, которое поднес ему ухмыляющийся мальчишка в униформе. Затем, откашлявшись, предложил начать аукцион.
– Хоть товару и немного, времени уйдет порядочно. Вальмон улыбнулся:
– Не слишком, я надеюсь. Я рассчитываю на вас, Жан-Пьер. Пожалуйста, постарайтесь видеть мои ставки, а ставок других джентльменов не замечать. Которые из них семья?
Жан-Пьер вздохнул:
– Боюсь, что старая карга – тоже член семьи. Конечно, много за нее не дадут, но она была поварихой, месье, так что не совсем уж бесполезна. Эти двое сильных мужчин ее сыновья, а женщина, которая стоит рядом с девочкой, своей дочерью, – невестка. Говорят, она беременна, но я этому не верю.
Вэл приподнял брови:
– Выходит, из десяти рабов я, по вашим расчетам, должен купить половину. Неудивительно, что вы прислали мне записку.
Жан-Пьер пожал плечами:
– Но вы же сами предпочитаете семьи. Я вам ничего не навязываю.
Про себя аукционист считал Сен-Бревэна глупцом. Может, и правда, что покупка рабов семьями уменьшает вероятность побега и издержек, связанных с поимкой беглецов. И все же такой подход казался аукционисту пустой тратой денег. Однако он был доволен, что Сен-Бревэн предпочитает пускать деньги на ветер в ротонде. Только за прошлый год благодаря расточительству Сен-Бревэна Жан-Пьер получил очень неплохие комиссионные.
В качестве рождественского подарка хорошему клиенту, а также потому, что торговля шла очень вяло, Жан-Пьер продал Вальмону пятерых рабов за стартовую цену.
Оплачивая покупку, Вэл присовокупил еще сто долларов.
– Будьте любезны, Жан-Пьер, купите на половину этой суммы крепкой одежды для рабов. Особенно нужны хорошие башмаки, даже для старухи. В настоящее время сапожник в Бенисоне перегружен работой. Другую половину потратьте на подарок, который понравился бы вашей жене. Я благодарен ей за то, что она сделала из вас такого приятного делового партнера. За рабами я пришлю кого-нибудь завтра. Таким образом, ваши люди успеют хорошенько помыть их и приодеть. Не терплю вшей на своих рабах.
Аукцион занял всего полчаса. Вэл неспешно вышел, довольный удачной покупкой, в огромный и шумный бар отеля. Там бесплатный завтрак был еще более изысканным и разнообразным, а Вэл уже проголодался. Он решил отведать гумбо и сравнить его с тем, которое ел на рынке.
Приподняв цилиндр, он поклонился знакомой даме, но та была слишком увлечена торгами – продавали плюшевую козетку – и не заметила его.
В то же время какая-то незнакомая ему дама смотрела на него с неподобающей откровенностью. Сен-Бревэн был самым красивым мужчиной в ротонде, а возможно, и во всем отеле. Его легкая и уверенная поступь свидетельствовала о том, что он знает об этом факте и относится к нему с полным безразличием.
Мэри не могла устоять перед искушением. Она направилась в студию Альберта Ринка под предлогом, что не разобрала какую-то деталь в эскизе платья, над которым трудилась.
Когда Альберт объяснил ей эту деталь, она стала рассматривать портрет Вэла, хотя пока на нем еще ничего нельзя было разобрать, кроме наброска коричневого сюртука и нескольких дюймов галстука.
– Мэри, ты слышала хоть слово из того, что я сказал?
– Да, Альберт. Спасибо тебе большое. – Мэри взяла набросок и поспешила вниз, напевая про себя. Ей не нужен был портрет, даже законченный. Выражение лица Вэла, каждый его жест отчетливо отпечатались в ее сознании.
Завтра она снова увидит его. Ханна пообещала, что они с Альбертом поедут в Бенисон как «сопровождающие лица». Никаких проблем не возникнет – они давно уже решили, что магазин будет закрыт и в сочельник, и в Рождество.
Глава 40
Опершись о колонну из фальшивого мрамора, Вэл предался своим мыслям, пока Альберт Ринк писал и говорил. Главным образом он размышлял о предстоящей поездке в Чарлстон. Как проявит себя судно, будет ли благоприятна погода и спокойно море, хватит ли провизии? Он почти не воспринимал слова Альберта.
Пока тот не сказал, с каким нетерпением он и его жена ждут возможности посетить плантацию Сен-Бревэна. Тут Вэл очнулся. Надо же, эта плутовка Мэри Макалистер и вправду нашла себе провожатых. Сначала Вэла это рассердило, затем позабавило и, наконец, понравилось. Ему казалось, что он понимает игру, которую она ведет, а игры ему и самому нравились. Значит, придется перехитрить ее, чтобы забраться к ней в постель, совратить, как если бы она и впрямь была той невинной девицей, которой прикидывалась. Ну до чего умна! Достойное сопротивление – это как раз то, что он любил больше всего на свете.
И внезапно ему страстно захотелось увидеть Мэри Макалистер.
День выдался теплый, даже теплее предыдущего. Солнце ярко светило в безоблачном небе. Мэри и Ханна взяли с собой парасольки, чтобы прикрыть лица от солнца. Зонтики у них были веселенькие, из розового шелка, в рюшечках. Солнце лишь чуточку пробивалось сквозь шелк и высвечивало лица хозяек самым лестным образом. Мужчины и не подозревали, что Мэри всю ночь не спала, нашивая шелк на старые зонтичные каркасы, которые нашла у старьевщика на рынке. Без парасольки ей пришлось бы надеть вуаль, как и поступало большинство женщин в Новом Орлеане. Но тогда она не смогла бы разглядеть все как следует. А ей не хотелось упустить ни одной мелочи в день, который она проведет с Вальмоном.
В карете они с Ханной сидели напротив Вэла и Альберта. Поскольку погода стояла прекрасная, Вэл нанял открытое ландо. Две лошади в хорошем темпе везли их по дороге, тянущейся вдоль реки. Слева перед пассажирами открывался вид на реку и на пароходы, неспешно плывущие вверх по течению. На дороге два небольших экипажа состязались в скорости. По команде Вэла кучер подстегнул лошадей, и ландо присоединилось к гонке.
Затем дорога стала неровной, и им пришлось сойти с дистанции. Ханна принялась обмахиваться платком.
– Я не привыкла к таким волнениям, – сказала она. Щеки у Мэри стали пунцовыми, а золотые искорки в глазах засверкали особенно ярко.
Свернув с дороги, они проехали несколько миль вдоль болота. Необходимость в зонтиках отпала. Высокие кипарисы, обросшие густым испанским мхом, загораживали солнце. Оно проглядывало лишь в широких окошках черной болотной воды, превращая их в яркие зеркала, в холодных глубинах которых блестел теплый солнечный шар.
На обочине узкой тенистой дороги вдруг ожила длинная колода и с головокружительной быстротой рухнула в черную болотную воду.
Ханна взвизгнула. А Мэри выгнула шею, чтобы увидеть, как аллигатор вынырнет. Вэл наблюдал за ними с едва заметной улыбкой.
Вскоре они оказались на широкой аллее, окаймленной раскидистыми дубами. Навстречу им выбежал десяток громко вопящих негритят. Дети бежали вровень с экипажем, размахивая руками и смеясь. Путешественники прибыли в Бенисон.
Плантация не только соответствовала ожиданиям Мэри, но и намного превосходила их. Высокие белые колонны особняка поддерживали крутую крышу над широкой выложенной плиткой галереей первого этажа и побеленным чугунным балконом, опоясывавшим второй этаж. Холл был выложен мрамором. Персидский ковер, словно сплетенный из драгоценных нитей, окрашивал в теплые тона прохладный камень.
Дворецкий принял шляпы, трости и зонтики и спросил Вэла, куда подавать кофе.
– Во внутренний дворик, – сказал Вэл. – А потом мы перед обедом сходим на конюшню, если дамы не против.
Ханна и Мэри дружно согласились. Горничная спросила, не угодно ли им освежиться, и провела в гардеробную, оборудованную всем необходимым. Ханна в полном изумлении смотрела на душистое мыло, кувшины с горячей и холодной водой, плотные льняные полотенца, флаконы с одеколоном, резной и расписной гигиенический стул.
– Боже мой, Мэри! – прошептала она. – Это прямо дворец!
Мэри улыбнулась. «Где же еще жить принцу, как не во дворце?» – подумала она и испугалась, что все это ей только снится. С каждой минутой происходящее все более походило на волшебный сон.
Они выпили кофе с бутербродами и печеньем за столиком в тени магнолии. Она сидела возле Вэла на чугунной скамеечке – так близко, что, когда он поднимал чашку, его локоть касался ее плеча.
Они прошли по аллее магнолий в пурпурном цвету до конюшни. Вальмон держал ее под руку – дорожку пересекали корни деревьев, и легко было споткнуться.
Он постоянно находился рядом, и сердце у Мэри гулко билось, а дыхание замирало.
Когда грум вывел во двор возле конюшни громадного белого жеребца, Вэл отошел от нее, чтобы внимательно осмотреть ноги и копыта Снежного Облака. Короткая отлучка Вэла породила у Мэри чувство облегчения – и горькой утраты. Она медленно дышала полной грудью. Сердце ее радовалось при виде его прекрасной темноволосой головы рядом с ослепительно белым конем.
Ханна и Альберт переговаривались. Возможно, они обращались и к ней, но Мэри их не слышала. Она слышала лишь, как ветер с реки шуршит листвой наверху. Шум этот был подобен музыке, а в ответ доносилось птичье пение – серенада прекрасному дню, красоте жизни и любви.
«И как они могут есть? – изумлялась Мэри. – Кусать, жевать, глотать, разговаривать, будто это какой-нибудь заурядный обед?» Она водила вилкой по тарелке, гоняя с места на место пряный местный плов джамбалайа и переводя взгляд то на лицо Вэла, то на портреты, которыми были увешаны стены столовой. Она искала сходство, завидуя этим давно ушедшим из жизни Сен-Бревэнам, ведь они имели к Вэлу непосредственное отношение.
– У вас есть замечательные полотна, – сказал Альберт. – Мне даже неловко, что я пытаюсь писать ваш портрет.
Вэл засмеялся:
– Мистер Ринк, только не изображайте меня таким букой, как мои предки, и этого будет достаточно. А вы замечали, что чем больше человек похож на пирата, тем благочестивее он выглядит на портрете? У Сен-Бревэнов долгая и незаурядная история грабежей и разбоев, начиная с Первого крестового похода. Авантюристы – все как один.
– А вы тоже авантюрист, мистер Сен-Бревэн? – спросила Ханна.
Вэл на мгновение посерьезнел, затем вновь улыбнулся:
– Некоторые считают именно так, миссис Ринк. Они в ужасе от сумм, которые я поставил на Снежное Облако. Признаюсь, мне нравится риск и даже немного опасности. Пока что мне везло.
Альберт по-прежнему переживал за портрет Вэла. Он повторил свои опасения, что его произведение не будет соответствовать уровню портретов, висящих на стенах.
Вэл снова постарался успокоить его, но Альберт все нервничал.
Наконец Ханна прервала мужа:
– Альберт, будь же благоразумен! Может быть, то, что делаешь ты, и нравится тебе меньше, чем работы этих художников. – Ханна показала на портреты. – Но, будь уверен, они точно так же относились к своим работам. Ведь на этих стенах нет ни одного Гейнсборо, да, мистер Сен-Бревэн? Альберт говорит, что нет портретиста лучше Гейнсборо.
– Ничего и отдаленно похожего на Гейнсборо, миссис Ринк. – Вэл улыбнулся Альберту: – А почему вы выбрали именно его? Почему не Ромни?
Альберт засмущался:
– Я про Ромни ничего не знаю. У моего учителя в Филадельфии была копия «Юноши в голубом» Гейнсборо. По ней он учил нас, что есть великое искусство.
– Смотреть на работы мастеров – лучший способ учения, – поспешил заверить Вэл. – А если нет оригинала, то ничего зазорного не вижу в том, чтобы воспользоваться копией.
– Очень любезно с вашей стороны, но… – Альберта было не разубедить.
Вэл попробовал подойти с другой стороны:
– У меня самого есть целая папка с копиями, мистер Ринк. Я заказал их специально, чтобы не забыть произведения, которые видел в Париже. Если желаете, я покажу вам их после обеда.
Выражение лица Альберта тут же изменилось.
– Очень желаю. Благодарю вас, сэр.
– Не стоит, – отмахнулся Вэл и жестом показал, чтобы подавали другое блюдо. Альберт нагонял на него тоску. Чем скорее закончится это гостевание, тем лучше. Он посмотрел на Мэри. «Если она смеется, я сверну ей шею, – подумал он. – Ставки в ее игре слишком высоки, если скука входит в их число».
Мэри смотрела на Вальмона, не в силах отвести глаз. Когда он взглянул на нее, она отвернулась.
«Ей стыдно смотреть мне в глаза, – подумал он. – Это хорошо. Сама понимает, что зашла слишком далеко… Смотрите, как покраснела. Я знаю женщин, которые отдали бы целое состояние, лишь бы выучиться этому фокусу».
После обеда Вэл пригласил всех в библиотеку. Это была угловая комната, и ее наружные двери выходили на галерею. Чтобы в комнату проникал свежий воздух, двери были открыты. Развязав тесемки пухлой кожаной папки, Вэл раскрыл ее на длинном столе, стоящем в центре комнаты.
– Как вы увидите, в своем собрании я отдаю предпочтение Жаку-Луи Давиду. Должно быть, в душе я классицист.
Альберт занес руки над папкой, словно грел их у камина. Вэл пододвинул к столу стул для Ханны. Мэри же он сказал:
– Я хотел бы показать вам кое-что в гостиной. Не угодно ли пойти со мной?
– Разумеется, – ответила Мэри, удивившись, что может разговаривать нормальным голосом.
Она последовала за Вэлом в просторную комнату, выходящую окнами на реку. За лужайкой и береговым валом виднелась Миссисипи. Деревья и дом отбрасывали длинные прозрачные тени на зеленый бархат лужайки, как и в тот солнечный день, когда она впервые увидела Вэла на валу перед этим домом. Только теперь она рядом с ним.
Вэл видел, как у нее на шее бьется жилка. Из гирлянды зелени, протянутой над камином, он извлек веточку омелы.
– Вот вам, – сказал он. – Украшение на праздник. – Он вдел веточку в косу Мэри, прямо над ухом. – Счастливого Рождества!
Он стоял так близко, что Мэри ощущала тепло его тела. От желания прикоснуться к нему у нее защипало в руках. Глаза его смеялись.
– Вы молчаливы сегодня, мадемуазель. Находите, что денек выдался скучный?
Мэри покачала головой. Говорить она не могла. Его близость действовала на нее гипнотически. Вэл дотронулся до омелы.
– Я верю в старые обычаи. А вы? – Он провел пальцем по ее уху, по щеке, по горлу. Остановившись под подбородком, Вэл приподнял его и задержал в таком положении, медленно приближаясь губами к ее губам.
Мэру чуть слышно ахнула и приподнялась на цыпочках навстречу его поцелую. Она провела ладонями по его рукам, плечам, погрузила их в его густые, пушистые волосы. Когда он сжал в объятиях ее талию, она наклонилась и губы ее раскрылись в ответ движению его губ.
Вэл отпустил ее талию, и она почувствовала себя невесомой от небывалого блаженства, неспособной видеть и ощущать ничего, кроме него.
– Вот черт! – пробормотал он. – Ринк меня зовет. – Он поспешно поцеловал ее в глаза, в нос, в губы. – Я возвращаюсь из Чарлстона в конце февраля, Мэри Макалистер. Не забудь обо мне, пока меня не будет. – Он отпустил ее и стремительно зашагал в библиотеку.
Мэри застыла там, где он ее оставил. Ее мягкие губы дрожали. Лишь много позже ноги стали слушаться ее, и она пошла вслед за ним.
Войдя в библиотеку, она изумилась: никто не заметил, что она уже совсем не та Мэри, что была раньше. Ханна улыбнулась ей. То же сделал и Вэл. Улыбка его была мимолетной. Затем он вновь перенес внимание на Альберта.
Тот заикался от восторга, просматривая лежащие в папке творения. Он и представления не имел, что в мире существуют подобные чудеса. Ему во что бы то ни стало нужно было узнать у Вэла, каково это было – видеть оригиналы. Что он при этом чувствовал? Какой был свет? Какой величины картины? Заметны ли мазки? Вопросы сыпались один за другим так быстро, что разобрать их было почти невозможно.
Наконец Вальмон поднял руки, изображая шутливую капитуляцию.
– Дорогой мой, – сказал он. – Вы спрашиваете как художник, а я всего лишь неравнодушный наблюдатель. Ей-Богу, я не в состоянии ответить на ваши вопросы… И еще я опасаюсь, что солнце уже заходит. Лучше бы вам доставить дам в город засветло. В темноте прибрежная дорога не всегда безопасна.
Альберт пытался что-то возразить, но Ханна его усмирила. Вэл проводил его до дверей, крепко обнимая за плечо.
– Когда вернусь, – пообещал он, – я поговорю о вас с моим банкиром. Мне говорили, что его отец собрал прекрасную коллекцию, которую он вывез из Парижа после падения Бастилии. Я спрошу его, нельзя ли вам взглянуть на нее. Мать его живет отшельницей, и в их доме никто не бывает, но он старший сын. Если кто и может ввести вас в дом, так только он.
– А Давид там есть?
– Уверен, что нет. Иначе я бы разбил окно, лишь бы забраться туда. Но нечто вполне знаменитое там есть. Делакруа, по-моему. Или Шассериан. Ну да все равно. Что бы там ни было, я для вас постараюсь.
Вэл кивнул слугам, стоящим в холле. Горничная подала Мэри и Ханне чепцы и зонтики. Дворецкий протянул Альберту шляпу. К ступеням крыльца подали ландо.
Оставив Альберта, Вэл подал руку Мэри. Она положила ладонь ему на запястье. Проводив ее до экипажа, он не выпускал ее руки, пока она не вошла, затем поцеловал ей руку:
– Au 'voir, Mademoiselle.[25]
Au 'voir, – ответила Мэри.
Те же дети, которые бежали рядом с каретой, встречая гостей, выбежали на дорогу и замахали руками на прощанье. Мэри и Ханна махали им в ответ, пока усадьба не скрылась из виду. Альберт сидел напротив них, погрузившись в воспоминания о картинах.
Ханна вздохнула и поудобнее уселась на обитой кожей скамеечке.
– Интересно, каково это – быть таким богатым. Думаешь, такие, как мы с тобой, могли бы к этому привыкнуть? Я бы никогда и пальцем не пошевелила, это точно. Как ты думаешь, сколько у него рабов? Один из них определенно только и делает, что раскатывает тесто. Ты эклеры попробовала? Жаль, что на мне не было передника. Я бы распихала оставшиеся по карманам.
Мэри трудно было кивать в нужном месте, изображая внимательную слушательницу. Она не слушала Ханну. Она все еще ощущала прикосновения рук Вэла, его губ. Пальцы пощипывало – они хранили воспоминания о густых кудрях Вэла. В конце февраля. Она готова ждать. Она готова ждать целую вечность.
Когда экипаж уехал, Вэл возвратился в библиотеку и позвонил, чтобы принесли кофе и коньяк. День показался ему бесконечно долгим, а впереди еще был сочельник у Микаэлы.
Перед тем как закрыть папку, Вэл просмотрел репродукции. Он уже несколько месяцев не удосуживался раскрыть папку – все время отнял сахар. Иногда ему очень хотелось нанять управляющего, но он неизменно отвергал эту мысль. Настолько доверять он не мог никому.
В папке лежали копии его любимых произведений, сильно уменьшенные, но достаточно искусные, чтобы явственно вспомнить оригиналы. Они напоминали ему о Венеции, Риме, Флоренции, Лондоне, Амстердаме и Париже. О Париже в первую очередь.
Он извлек портрет мадам Рекамье кисти Давида. До чего же очаровательное создание! Трудно было поверить, что она умерла. Еще труднее – что она перед этим состарилась. Оставаться бы ей вечно двадцатидвухлетней, как на портрете!
Он начал было убирать репродукцию, затем снова вытащил ее. Сесиль Дюлак обладала красотой и юностью Жюльетты Рекамье. Более того, она была значительно моложе, по меньшей мере года на четыре, а то и на пять-шесть. В прозрачных газовых платьях эпохи мадам Рекамье она была бы еще красивее. Вэл представил себе прекрасную юную квартеронку возлежащей на ампирной кушетке, плавные линии которой повторяют изящные изгибы тела.
Проклятье! Он вовсе не желал думать о Сесиль Дюлак! Ведь предполагалось, что эта девица, Макалистер, отвлечет его… Что ж, вполне возможно. Страстная сладость ее поцелуя так возбудила его, что он даже удивился и порадовался. Когда она была в его объятиях, ему почти показалось, что поцелуй этот таит любовь, а не притворство.
– Луиза, – прошептала Мэри. – Я так люблю его, что вот-вот лопну.
– Тогда лучше лопни, и дело с концом. От любви, Мэри, добра не жди. Женщине нужно что-то посущественней любви, а то еще до тридцати превратишься в старуху с десятью детишками. Лучше держись своего магазинчика. Тогда сама кое-чего в жизни добьешься, собственными силами. А любовь – что она тебе дала? Сушеный цветочек и увядшую омелу?
– А счастье, Луиза? Я раньше и не представляла себе, что можно быть такой счастливой!
– Что ж, Мэри, надеюсь, тебе никогда не доведется узнать, какой можно быть несчастной. Ты все слишком бурно воспринимаешь. Попытайся, для разнообразия, пораскинуть мозгами. Не может этот тип, Вальмон, быть таким идеальным, каким ты его расписываешь. Поищи в нем недостатки.
Мэри проснулась посреди ночи. Щеки ее были мокры от слез. Во сне она увидела темнокожих детей, которые бежали по аллее Бенисона рядом с экипажем. Только они не смеялись, не махали руками. Они стонали и вздымали к небу маленькие руки, скованные тяжелыми цепями.
Рабы. Конечно же, слуги Вальмона были рабами, и вся его роскошная жизнь обеспечивалась их трудом. Мэри так и не смогла преодолеть те смешанные чувства относительно рабства, которые она испытывала в доме Куртенэ. Сейчас же ее разум буквально разрывался надвое.
Разве Вальмон способен на дурное? Она никогда этому не поверит. Но тут она услышала спокойный, ясный голос матери-настоятельницы: «Один человек не может владеть другим. Это страшный грех пред ликом Господним».
Глава 41
Рождественский ужин Микаэлы являл собой частичку Парижа, чудом перенесенную в Новый Орлеан. Она пригласила самых остроумных людей новоорлеанского света, которые нередко путешествовали во Францию. Еда, вина и разговоры могли потягаться с наилучшими европейскими образцами. Темная река за окнами вполне могла бы быть не Миссисипи, а Сеной.
К концу ужина баронесса припасла приятный сюрприз. После того как все выпили за первое мгновение Рождества, она распорядилась вновь наполнить бокалы.
– Предлагаю вполне мирской тост, – с улыбкой произнесла Микаэла. – Дамы и господа, поднимаю бокал за Шведскую Канарейку. Она приедет в Новый Орлеан в феврале и остановится в доме Понтальба!
– Микаэла, откуда вы узнали?.. Что это значит?.. Кто вам сказал?.. – Половина гостей говорила одновременно.
Баронесса пригубила шампанское. На губах ее играла легкая довольная, ехидная улыбка. Понемногу она позволила им вытянуть из себя все нужные сведения.
Ф.Т.Барнум привез Дженни Линд в Америку, после того как эта юная певица стала самым знаменитым сопрано Европы. Она уже покорила Нью-Йорк, Бостон, Филадельфию. В феврале она приедет в страстно любящий оперу Новый Орлеан, где пробудет больше, чем в любом другом городе за время этого турне. Микаэла начала переписку с Барнумом в июле прошлого года. И именно ей удалось убедить его, что новоорлеанские поклонники оперы заплатят огромные деньги, лишь бы послушать Дженни Линд. К тому же она предложила нечто, убедившее и саму Шведскую Канарейку.
В жизни Дженни Линд было три страсти: музыка, еда и уединение.
– Музыкой пусть займется сама, – сказала Микаэла. – Я же наняла для нее самого Будро. На время ее пребывания он закроет свой ресторан. Я обставлю центральные апартаменты этого дома всем лучшим, что только найдется в Новом Орлеане. Она будет жить там как моя гостья. В полном уединении.
– Баронесса, вы так щедры! – воскликнул один из гостей.
– Глупости, милый мой. Она прославит эти апартаменты, как они того и заслуживают. И создаст на них достойный спрос.
Вэл встал, высоко подняв бокал:
– Предлагаю тост за Микаэлу де Понтальба – за ее очарование, блеск и потрясающее отсутствие лицемерия.
– Микаэла! – подхватили все.
Когда Вэл прощался, баронесса взяла с него слово, что он вернется до окончания турне Дженни Линд. Она будет в Новом Орлеане с седьмого февраля по десятое марта.
– Даю слово. Если, конечно, не возникнет непредвиденных осложнений. Кстати, Шведская Канарейка говорит по-французски?
– Не все ли равно, милый мой? Я не собираюсь говорить с ней. Терпеть не могу женщин с характером.
Вэл смеялся всю дорогу до отеля. Бешеные сцены, которые устраивала сама Микаэла, были знамениты на двух континентах.
Быстро переодевшись в костюм для верховой езды, он отправился на плантацию. Несмотря на усталость, настроение у него было великолепное. Своих предков он назвал авантюристами. Что ж, завтра он сам пустится в такую авантюру, на которую никто из них не осмелился бы. Он с нетерпением ожидал ее начала.
В рождественское утро на всех плантациях Юга рабы в лучших воскресных костюмах выстраивались перед домом хозяина и получали подарки – табак, сласти, одежду, иногда вино или виски. В Бенисоне много лет происходило то же самое. Но в этом году многих рабов на Рождество ожидал совсем иной подарок. Им дарили свободу. Судно, на котором Вэл с лошадьми отправлялся в Чарлстон, должно было тайно перевезти их, а также беглых рабов, прятавшихся на плантации, в Канаду – конечную станцию «подземной железной дороги».
По возвращении из Франции Вэл начал бороться с рабством. Тогда же плантация стала одной из станций «подземной дороги», – правда, лишь после того как Вэл убедился, что в Бенисоне не осталось никого, кто мог бы донести властям.
Тайники устраивались в сараях, конюшнях, на чердаке дома. Были разработаны сигналы тревоги и отрепетированы все действия при этих сигналах. Каждый взрослый житель плантации стал заговорщиком во имя свободы.
И каждому рабу предоставлялась возможность «прокатиться по подземке».
Вэл мог бы разом освободить их всех. Но тогда умерла бы плантация – некому было бы работать в полях и мастерских. А свободным неграм было бы некуда податься. В Новом Орлеане было мало рабочих мест. А за чертой города вольные, отпущенные хозяином, не могли защитить бывших рабов от работорговцев, которые похищали их и продавали новым владельцам в другие города.
Но самое главное, освобождение рабов привлекло бы к Вэлу внимание. На него налепили бы ярлык аболициониста, врага системы, изменника. Бенисон попал бы на заметку, за плантацией велась бы слежка, и она стала бы небезопасной для беглых рабов, нуждающихся в убежище.
Поэтому Вэл предлагал свободу тем, кто желал воспользоваться «подземкой».
Результаты вскоре разочаровали его. «Подземная железная дорога» была отчаянным предприятием со множеством слабых мест. На Юг прибывали отважные проводники, которые забирали рабов по двое или по трое и вели их от одного убежища к другому, пешком преодолевая нелегкий путь в любую погоду, обходя патрули и сторожевые посты, отчаянно рискуя – ведь их мог выдать или схватить каждый встречный.
Количество спасенных людей было слишком мало, а опасности слишком велики. Тогда Вэл занялся обустройством своего судна. И начал покупать рабов.
Никто не должен был заметить, что число темнокожих обитателей Бенисона резко убавилось. Хижины должны быть заселены, поля возделаны, урожай – собран. Все должно было выглядеть как обычно.
Судно простояло в Новом Орлеане достаточно долго, и его имели возможность осмотреть все, у кого могли зародиться хоть какие-то подозрения. Вэл выставил себя полным дураком, похваляясь во всех игорных и питейных заведениях своим хитроумным планом одержать победу на чарлстонских скачках. Пока все не поверили, что он и в самом деле дурак.
Все было готово – не было только лошади, которая смогла бы выиграть скачки. А ему непременно нужно было иметь лошадь-победителя или, по крайней мере, серьезного претендента на победу, а то многие начнут недоумевать, зачем он так потратился на поездку в Чарлстон. И в Новом Орлеане было три ипподрома, где можно было насладиться всеми прелестями бегов и выставить любую лошадь. Ему необходимо было заполучить чемпиона, прежде чем «Бенисон» поднимет якорь. А тут как раз выставили на продажу Снежное Облако, и все встало на свои места. Когда в рождественский день «Бенисон» прибудет на плантацию, отделанные панелями стены кают раскроют, и за ними обнаружатся узкие тайнички, в которых спрячутся сорок женщин и детей. Полы в стойлах поднимут, там хватит места для пятидесяти мужчин. Когда рассветет, эти пространства будут заполнены, стены и полы поставлены на место, на борт принят груз. Судно уйдет с первыми лучами солнца. Жокей Вэла и грумы будут прохлаждаться в своих каютах, стреноженные лошади стоять в стойлах, прямо на соломе, прикрывающей фальшивые полы.
Когда «Бенисон» выйдет из устья реки в Мексиканский залив, контрабандные пассажиры смогут выйти. Они расположатся на запасных койках и в гамаках, которые без труда можно подвесить в чрезмерно просторном трюме и в роскошных каютах, питаться будут запасенным с избытком провиантом и дышать воздухом свободы.
Перед входом в чарлстонскую гавань, разгрузкой лошадей и спуском на берег хозяина и свиты, состоящей при лошадях, беглецов снова спрячут. Затем капитан выйдет в море в «коммерческий каботажный рейс», а Вэл будет предаваться всем наслаждениям светского сезона в Чарлстоне.
Если идти под паром и парусами, судну как раз хватит времени, чтобы выгрузить бывших рабов в Канаде и вернуться в Чарлстон до того, как любопытные начнут строить догадки, почему Сен-Бревэн злоупотребляет гостеприимством чарлстонцев и никак не возвращается домой.
Все же что-то может сорваться. Какие-нибудь бдительные чиновники могут подняться на борт и обыскать судно – и это может произойти в любой момент тысячемильного маршрута, когда бывшие рабы будут находится вне тайников. Зимние шторма могут сбить судно с курса и задержать его. Оно может напороться на рифы возле коварных берегов Флориды. Может разразиться эпидемия или паника.
Если обнаружится истина, всех находящихся на борту ждут всевозможные кары – от штрафа и конфискации имущества до тюремного заключения, а в определенных округах и смертной казни.
Но если все получится, то судно и лошадей из Бенисона ожидают новые скачки и новые «коммерческие рейсы». Каждый год можно будет давать свободу сотням мужчин, женщин, детей.
Рождественским утром 1850 года, ровно в пять часов, Вальмон Сен-Бревэн стоял на береговом валу рядом с Неемией, своим дворецким и единомышленником. На них были темные плащи, прикрывавшие от холодного дождя и яркого лунного света, когда дождь утихал. В руках они держали затемненные фонари, которые посылали едва заметные сигналы в направлении реки. Оба молчали. По воде звук разносится на огромные расстояния.
Первым услышал плеск весел Неемия. Он тронул Вэла за рукав. Они перекинули через насыпь веревки. Спустя несколько минут из освещенных луной клубов тумана, висящих над водой, показался небольшой ялик. В нем был один человек. Поймав одну из веревок, человек обвязал ее вокруг планки на носу ялика. Двигаясь быстро и бесшумно, человек передал ожидающим весла, а затем небольшой черный саквояж. Закрепив вторую веревку на корме и ухватившись за нее, он вскарабкался по насыпи туда, где стояли Вэл и Неемия. Потом, пожав им руки, шагнул в сторону, а они подняли легкий ялик, перетащили его через вал и унесли подальше от реки.
Никто не произнес ни слова, пока все не пересекли лужайку и не вошли в дом. Они расположились в библиотеке. Окна там были плотно зашторены, и комната освещалась лампой.
– С Рождеством Христовым вас, отче, – сказал Вэл.
– И вас, – ответил отец Илэр. В этом предприятии Вэла священник был самым деятельным и опытным партнером.
Он снял плащ, умыл лицо и руки в чаше, заранее приготовленной на столе, открыл саквояж, вынул шарф, сложенный сверху, и обмотал его вокруг шеи. Потом закрыл чемодан и показал, что готов.
Вэл провел его в потайные комнаты, где скрывались беглые рабы. Он ждал снаружи, пока священник выслушивал исповеди и причащал рабов-католиков и молился с теми, кто католиком не был. Каждому он давал божье благословение и небольшую ладанку с изображением святого Христофора, которую нужно было иметь в пути. Стремление к свободе не ведает религиозных различий.
Когда отец Илэр посетил последнее из тайных убежищ, солнце встало, и рабы из Бенисона, решившие отправиться в Канаду, были собраны возле часовни. Один за другим они заходили в часовню, где исповедовались и получали отпущение грехов. Затем к ним присоединились остальные жители Бенисона, и отец Илэр отслужил особую благодарственную мессу, в которой соединились торжество Рождества Христова и радость второго рождения тех, кто отправлялся в плавание, – рождения новых, свободных людей.
После мессы все с песнями направились во дворик при часовне. Слезы счастья и восторга текли по лицам. Здесь Вэл оставил их, давая возможность сказать друг другу все, что говорят перед расставанием. Вытирая глаза, он пошел в дом, принял ванну, побрился, напомадил волосы и надел самую роскошную, почти фатовскую кружевную рубашку, сюртук и брюки, обшитые бахромой. Времени оставалось только на то, чтобы выпить с отцом Илэром кофе и «огненной воды», а затем пора было садиться в экипаж, где ворохом лежали свежесрезанные цветы, и отправляться в город – с рождественскими визитами к родственникам и на семейный обед. Он постарается сделать так, чтобы Сен-Бревэна, элегантного денди и мота, заметили на каждой улице Нового Орлеана.
Сесиль Дюлак заметила Вэла, когда колеса его экипажа прогрохотали по Рэмпарт-стрит. Она улыбнулась про себя. Обычно те, кто едет с плантаций, расположенных выше по реке, приезжают другим путем. Она не сомневалась – он не сможет долго избегать ее.
На Эспланада-авеню Жанна Куртенэ выглянула из окна спальни и, завидев экипаж Вэла, разрыдалась. Берта обняла свое единственное чадо и тоже расплакалась. Сегодня к ним на семейный обед придет американец, Уилл Грэм. Карлос объявит о помолвке и представит жениха всем дядюшкам, тетушкам и прочей родне.
На Ройал-стрит Вэл коснулся полей своей высокой меховой шляпы золотым набалдашником трости, приветствуя своего друга и банкира Жюльена Сазерака. Жюльен кивнул и принужденно улыбнулся. Он с самым неприятным чувством ожидал семейного обеда в доме матери. Мать будет как всегда хмурой и мрачной, а братья и сестры начнут донимать его требованиями, чтобы он, как старший брат, предпринял что-нибудь в отношении дома, который с каждым годом ветшает все сильнее. Потом жена станет жаловаться на детей, а заодно на жен и детей его братьев. Будет настаивать, чтобы он изменил семейную традицию и чтобы все собирались на рождественский обед у них. В доме его матери слишком тоскливо. И даже страшно – безумие его сестры Селест день ото дня заметнее.
Вэл оставил цветы для баронессы де Понтальба. На ленте, скрепляющей букет, стояла такая же ажурная монограмма «АП», как и на балконах ее домов. В центре букета, оставленного на провисающей калитке домика Мари Лаво, торчала записка. В букетах, которые он оставил теткам и кузинам с улиц Конде, Тулуз, Бурбон, Орлеан, Конти, Дюмэн, Урсулинской и Госпитальной, находились миниатюрные позолоченные ясельки с глазурованным младенцем Иисусом. Он велел кучеру проехать вдоль Кэнал-стрит и объехать кругом респектабельную часть американского квартала. Затем, мчась во весь опор, успел вернуться во французский квартал, в старый дом на углу Шартр-стрит и Сен-Филипп, где его бабушка по материнской линии помыкала всей семьей, не вставая с обтянутого парчой кресла-каталки. Самый большой и самый красивый букет предназначался для нее. В нем была спрятана большая жестянка ее любимого нюхательного табака.
Экипажи с элегантно одетыми джентльменами никогда не доезжают до Ирландского канала. Но Мэри Макалистер тоже видела Вальмона – он стоял на аллее камелий в Бенисоне, окруженный цветами. Сидя за уставленным яствами столом миссис О'Нил, она улыбалась и соглашалась со всеми, что таких вкусных жареных фазанов она не видела ни на одном праздничном столе. Но мысленно она перелистывала, как дневник, странички своей памяти. А листья с веточки омелы, подшитые с изнанки платья, кололи ее нежную кожу прямо над сердцем.
Глава 42
На другое утро Мэри вышла из дома миссис О'Нил с первыми лучами солнца и направилась сквозь слякоть и грязь Эдел-стрит к береговому валу. Длинные легкие ветви плакучих ив тихо колыхались в тумане, поднимавшемся с реки. Она стояла, опираясь на ствол дерева, и ждала, когда мимо проплывет пароход Вальмона. Иногда веточка со свежими листьями, покачиваясь, ласкала ее щеку тихим прикосновением. Мэри была совершенно счастлива.
Она отдала Вальмону свое сердце. И верила, что он отдал ей свое. Мэри ничего не знала о том, как мужчины ведут себя с женщинами. Для нее поцелуй Вэла означал объяснение в любви.
Когда «Бенисон» прошел мимо, она помахала платком, хотя и не ждала, что Вэл заметит ее. Она упорно искала глазами Вэла, но судно шло вдоль дальнего берега широкой Миссисипи, и фигуры на борту были настолько малы, что различить их было невозможно. «Ну и что», – подумала она и пошла по валу к Пляс д'Арм – в магазин.
Последующие недели были переполнены работой. На Крещение новоорлеанцы обменивались подарками. Сразу после Рождества люди ринулись по магазинам в поисках подарков. И даже то, что Ханна не говорила по-французски, не служило препятствием. Посетители брали веера, шарфы, перчатки, ленточки и, протягивая их одной рукой Ханне или Мэри, в другой руке держали наготове деньги.
Очень много женщин хотели заказать бальные платья. Пришлось даже ограничиться приемом двух заказов из пяти, несмотря на то что они наняли еще одну швею. Мэри каждый вечер допоздна засиживалась за шитьем.
Когда лакей Понтальба доставил в магазин записку, Мэри бегло заглянула в нее и отложила в сторону. У нее было слишком много дел, и подумать над запиской ей было некогда. Позднее, когда образовался небольшой перерыв, она поделилась с Ханной своими размышлениями о том, чего может хотеть баронесса.
– Если она хочет поторопить меня со своей мантильей, придется ей отказать, – заявила Мэри. – Будет готово тогда, когда обещано, и придется ей этим удовлетвориться.
Ханна умоляла ее передумать. Баронесса как-никак их домовладелица и к тому же оказывает покровительство Альберту. Без ее помощи они могли бы просто разориться.
– Сделай все, что она просит, Мэри. Умоляю тебя!
К концу дня, когда Мэри позвонила в дверь апартаментов Понтальба, она очень устала и была настроена весьма воинственно. В своей работе она ненавидела одно – собственное бессилие перед богатыми и власть имущими. Когда клиенты вели себя грубо или слишком требовательно, она находила утешение лишь в мыслях о растущих цифрах в маленькой записной книжечке, где она вела счет своим вкладам в банк штата Луизиана.
Микаэла де Понтальба принимала посетителей отнюдь не так, чтобы они чувствовали себя комфортно.
– Что вы там встали? – спросила она, когда Мэри ввели в гостиную. – Идите на свет, чтобы я могла вас разглядеть… Под люстру встаньте… Так, теперь пойдите сядьте вон в то кресло.
Мэри взорвалась:
– В мире простых людей, откуда я родом, сначала принято здороваться, – холодно сказала она.
Микаэла откинула голову и рассмеялась:
– Прекрасно, мадемуазель, прекрасно. Здравствуйте! Добрый вечер! Не угодно ли присесть и выпить чашечку кофе? Кажется, вы мне понравитесь, а мне нравятся немногие.
Так началась эта странная дружба. Кофе после работы превратился в ежедневный ритуал.
Баронессе пришлись по вкусу целеустремленность, решимость и трудолюбие Мэри. Больше всего ей нравилось то, что Мэри никогда не жаловалась и никогда не искала себе оправданий. Эти черты были свойственны самой Микаэле. Отчасти она видела в Мэри себя, и поэтому ей нравилось то, что она видела.
Мэри тоже признавала некоторое сходство их характеров, но уважала его больше в Микаэле, чем в себе самой. Она полагала, что из-за бедности ей не остается ничего, кроме упорного труда, тогда как баронесса была богата и у нее не было никакой необходимости лично присматривать за строителями, забираясь на леса, или вбивать колышки в саду, который она разбила на Пляс д'Арм.
Но больше всего ее восхищала в Микаэле эрудиция. Нередко она ощущала себя ужасной невеждой, не понимая ни одной ссылки Микаэлы на писателей, художников и государственных деятелей, которые входили в парижский кружок баронессы.
Когда она призналась, что чувствует себя невеждой, баронесса не проявила ни малейшего сочувствия:
– Разумеется, ты невежда, но не дура же! Невежество можно исправить, глупость – никогда.
Прочитав парижские газеты, она отдавала их Мэри, одалживала той книги.
Когда Мэри не удавалось немедленно прочесть их, баронесса выходила из себя:
– Счет в банке может и подождать – лучше делай вклады в собственную голову! Найми кого-нибудь на эту занудную ручную отделку, которую ты, похоже, монополизировала. Сколько тебе лет, Мэри? Еще семнадцати нет? Молодежи свойственно строить иллюзии, будто впереди бездна времени. Но это не так. Время надо использовать сейчас – для обучения и для жизни. Если ты будешь жить, как сейчас, то к двадцати пяти годам превратишься в занудную, невежественную, полуслепую, бесцветную женщину, кругозор которой ограничен стенами ее лавки.
Когда Мэри доложила ей, что сманила из ателье мадам Альфанд Мари Вторую, специалистку по вышивке, баронесса распорядилась убрать кофе и подать шампанского.
– Это оказалось совсем нетрудно, – сказала Мэри. – Достаточно было предложить больше денег. Деньги могут все.
– Глупости говоришь, – сказала Микаэла. – Деньги могут не все, но это ты узнаешь сама в свое время. А пока выпьем за твой успех и за мщение. Должно быть, эта Альфанд бьется сейчас в истерике.
– Надеюсь, – сказала Мэри и про себя добавила еще один тост. Было четвертое января – ровно полгода со дня ее приезда в Новый Орлеан. Она пережила несчастье и предательство, нищету и монотонный тяжкий труд. Теперь она совладелица процветающего предприятия, пьет самые лучшие вина в компании баронессы.
И влюблена в самого чудесного мужчину в мире.
Мэри договорилась с миссис О'Нил, чтобы та оставляла ее ужин на краю плиты. Она не имела представления, насколько может задержаться, особенно теперь, когда после работы стала заходить к баронессе. Вдова ворчала, но не очень. Она гордилась успехами Мэри.
Мэри ничего не сказала миссис О'Нил о своей новой подруге. Она теперь лучше понимала истинный характер социальных барьеров и обостренную чувствительность тех, кто находится внизу. Ей очень хотелось найти способ дать понять Пэдди Девлину, что его упорные ухаживания совершенно безнадежны. Он постоянно тревожился, что она слишком много работает и слишком поздно приходит домой. Он даже выразил желание приходить к магазину и провожать Мэри домой, но она не позволила. Сама того не сознавая, Мэри лишь укрепляла Пэдди в ошибочной уверенности, что она его любит. Теперь она была добрее к нему, прилагала больше усилий к тому, чтобы не ранить его чувств. Блаженствуя от любви к Вальмону, она любила весь мир. Ей хотелось, чтобы все были счастливы, как она.
Это распространялось даже на унылую, вечно хнычущую молодую женщину, которая поселилась в комнате, когда-то принадлежавшей Луизе. Это была племянница миссис О'Нил, поселившаяся с теткой, чтобы помогать ей по хозяйству, а заодно и присмотреть себе мужа.
Мэри скучала по Луизе, даже по ее гаммам. Теперь та жила очень далеко, в Кэрролтоне, на самом конце городской железной дороги. Распрощавшись с Майклом и лично убедившись, что он отплыл в далекую Калифорнию, Луиза упаковала вещички, расцеловалась с миссис О'Нил, Мэри, Пэдди и обоими Рейли и уехала, не оставив адреса никому, кроме Мэри. Мэри пообещала навестить ее, как только удастся.
Но она была очень занята.
Шестого января было Крещение – день подарков. Мэри поужинала с Ханной и Альбертом, радостно воскликнув, когда ей преподнесли флакон духов, и хихикнув, когда Ханна распаковала свой подарок и обнаружила те же духи. Этот сорт оказался не столь популярным, как они надеялись, и магазин был затоварен ими.
Затем Мэри отправилась к Микаэле, взяв с собой флакон все тех же духов в яркой упаковке. Микаэла подарила ей томик пьес Мольера.
Наконец она отправилась домой – с флакончиком духов для миссис О'Нил. Она как раз успела к торжественному разрезанию особого пирога, который пекли только на Двенадцатую ночь – последнюю ночь Святок.
На столе, у того места, где она обычно сидела, лежал сверток. Подарок от Пэдди. Мэри поблагодарила его, вполне убедительно изобразив восторг. Он выбрал для нее флакончик из фиолетового стекла, в котором содержались маслянистые духи с нестерпимо сильным запахом. Ночью Мэри вылила их в пустую бутылку из-под молока, тщательно вымыла фиолетовый флакон и налила в него собственные хорошие духи. На следующее утро, по пути в магазин, она выкинула молочную бутылку в реку.
Восьмое января было праздничным днем для всего города. В этот день произошла знаменитая битва при Новом Орлеане, в которой генерал Эндрю Джексон во главе весьма разношерстной армии, состоящей из белого ополчения, свободных цветных, индейцев племени чокто и пиратов Жана Лафита, разгромил отборные британские части. Погибло две тысячи британских солдат. Джексон потерял семерых. Так закончилась война 1812 года.
Мэри и Ханна, как и все прочие владельцы магазинов, украсили витрину лентами. Баронесса вывесила красные, белые и синие шелковые ленты со всех галерей и балконов своих домов по обе стороны Пляс д'Арм. На этой площади закончилось парадное шествие, которое прошло по всему городу. Потом произносились речи. Последнюю речь, уже в надвигающихся сумерках, произнесла Микаэла. Она сказала, что дарит городу сад, который скоро зазеленеет на площади. И чугунную ограду вокруг него. И бронзовую конную статую генерала Джексона, которая будет стоять в центре сада.
И еще она объявила, что отныне – и это единодушное решение муниципального совета – Пляс д'Арм будет называться площадью Джексона.
Еще не отзвучал ее сильный голос, как в городе начались фейерверки. Они продолжались далеко за полночь. Играли оркестры, а на получившей новое название площади танцевал народ.
Мэри вздрогнула, увидев лица, озаренные разноцветными огнями ракет. Они напомнили ей ее кошмарный приезд в Новый Орлеан. Тут она вспомнила, как Вальмон спас ее.
Взяв за руки Ханну и Альберта, она потащила их в круг танцующих. Ее переполняла радость. Она влюблена в Вэла. Влюблена в город. Влюблена в жизнь.
После Крещения светский сезон набрал полную силу. Пасха в том году наступала поздно, а следовательно, и Великий пост. Поэтому сезон был на несколько недель продолжительнее обычного. Тем не менее без торжеств и балов не проходило и дня. Даже по воскресеньям креолы устраивали небольшие домашние приемы с танцами.
Магазин завалили заказами. Сначала Мэри боялась, что погибнет с таким трудом завоеванная репутация. Казалось, придется отказываться от большей части заказов.
Потом она поняла, что самыми важными светскими мероприятиями становятся балы-маскарады. Женщины жаждали получить не замысловатые бальные платья, а карнавальные костюмы. Никакой особо тщательной отделки и не требовалось, лишь бы костюмы были достаточно эффектны. Особую ценность приобрела фантазия. Поняв это, Мэри тут же помчалась к Альберту и заразила его своим энтузиазмом. Через час весь пол студии был усеян довольно смелыми эскизами.
Через неделю все светские дамы только и говорили, что о восхитительных ланьяппах, которые дают у Ринков. Витрину магазинчика заполнили маски – от простейших шелковых повязочек с прорезью для глаз до держащихся на позолоченных палочках масок на все лицо. Маски стали новым ланьяппом магазина и прилагались к любой покупке.
Ханна была в неописуемом восторге. Наконец-то появилась работа и для нее. Она приклеивала поддельные драгоценности, блестки, кружева, банты, перья и бахрому к простеньким заготовкам для полумасок, которые Мэри обнаружила на одном оптовом складе. Альберт раскрашивал или покрывал фольгой сделанные из папье-маше маски на все лицо. Баронесса утверждала, что запах клея просочился через кирпичную стену в ее апартаменты, но поздравила Мэри с этой находкой.
– Давайте и вам сделаем маску, баронесса. Что-нибудь совершенно необыкновенное, сногсшибательное. И костюм сошьем. Как только Альберт узнает, что это для вас, он превзойдет себя.
– Спасибо, Мэри, не надо. Я отклонила все приглашения на маскарады. Они внушают мне тревогу.
– Но почему? Они же оригинальнее и интереснее простых балов.
– Нет. Они страшны. Когда люди надевают маски, с ними что-то происходит. Они становятся слишком раскованными, необузданными, способными на все. Особенно здесь, в Новом Орлеане.
Эти слова озадачили Мэри. Почему особенно в Новом Орлеане?
Микаэла пояснила. Она говорила медленней обычного, без той догматичной убежденности, которая была ей свойственна, словно не была вполне уверена в собственных словах:
– Этот город, эти люди не похожи на остальных. Они постоянно живут, подвергаясь опасности и бросая вызов смерти. Оглянись вокруг, Мэри. Только земляной вал отделяет нас от потока самой полноводной реки в мире. Город подобен чаше, готовой переполниться в любой момент. А река все давит и давит, и ее безмолвные водовороты подтачивают основание этой тоненькой земляной перегородки.
Летом приходят бури со сполохами молний и проливными дождями. Иногда без всякого предупреждения обрушиваются страшные циклоны, от которых выходит из берегов озеро, что позади нас. Эти яростные циклоны поднимают в воздух деревья, животных, дома. Разражаются стремительные и своенравные лихорадки – от них умирают сотни, тысячи людей.
Лихорадок я боюсь больше всего. Но как ведут себя креолы? Они шутят, называют лихорадку «желтым Джеком» и делают вид, что никто не умирает, а похороны – самая обычная вещь.
Они смеются над смертью, потому что знают: она всегда рядом, в любую минуту она может забрать каждого из них.
Она всегда под боком, как под боком у города болота, молчаливые и темные, полные ядовитых змей, притворившихся лианами, и голодных крокодилов, притворившихся бревнами.
Они смеются, чтобы не начать кричать от страха. Они заполняют свои дни удовольствиями, потому что каждый час может оказаться последним.
А из смерти они сделали партнера по танцам. На маскарадах всегда можно встретить мужчин, нарядившихся смертью. У меня кровь в жилах стынет, когда я смотрю на них, но юные девушки со смехом идут к ним в объятия.
Я была моложе тебя, когда уехала из Нового Орлеана, и помнила лишь веселье, радости жизни. Но теперь глаза мои состарились, и я повсюду вижу тени.
Я была на грани смерти и знаю, что происходит тогда. Когда убеждаешься, что ты уже в лапах смерти, тобой овладевает отчаянная жажда жизни. Становится безразлично все то, что тебя учили любить или считать важным. Нет больше добра и зла, греха и добродетели – есть только жизнь и смерть, и ты готова на что угодно, лишь бы прожить еще час, еще минуту.
Понимаешь, Мэри? Ради жизни, ради того, чтобы доказать себе, что ты еще жива, ты готова пойти на все. Вот почему маскарады так угнетают меня. Здесь, где жизнь так хрупка и неустойчива, вкус к жизни, ко всем ее ощущениям, необычайно развит. Обычно эти стремления подчиняются религиозным и общественным запретам. Но когда ты в маске, когда тебя не узнают, тебя нельзя призвать к ответу. И тогда запреты больше не имеют над тобой власти, и тогда все мы вольны утолить свою жажду жизни, какую бы форму она ни приняла.
Микаэла запахнула шаль. Ее трясло.
Мэри пыталась найти какие-то слова, но не смогла. Она налила из серебряного кофейничка, стоявшего между ними, чашку горячего кофе и предложила баронессе.
Микаэла тряхнула плечами, словно сбрасывая с них что-то. Затем взяла чашку из рук Мэри.
– В эти долгие зимние ночи у меня остается слишком много времени на размышления, – сказала она. – Поэтому мой разум рождает всяких чудовищ. Я буду очень рада вернуться в Париж, где мне чаще думается о литературе и о политике, а не о роде человеческом.
Мэри спросила, как продвигается дело с апартаментами для Дженни Линд. Баронесса со стуком опустила чашку и стала бушевать по поводу бестолковости нанятых ею обойщиков. Мэри прикрыла улыбку кофейной чашечкой. Так или иначе норов баронессы даст о себе знать. От мрачности Микаэлы не осталось и следа.
По пути домой Мэри задумалась о странном монологе, произнесенном баронессой, и решила, что это полная чушь. Ведь, как сказала сама Микаэла, когда долго думаешь по ночам, являются всякие чудовища. Уж лучше танцевать ночами напролет. А бал-маскарад – вот уж где, должно быть, весело!
Глава 43
По традиции, жители французского квартала охотнее всего ходили по магазинам в воскресенье. Этот обычай очень осуждали американцы-протестанты. Они называли его святотатством, греховной выдумкой папистов. Но все же и они выбирались из своих пригородов, дабы не упускать удобного случая, и способствовали оживленной торговле.
Магазин Ханны и Мэри был идеально расположен для воскресной торговли. Выходя из собора после мессы, люди часто покупали кофе у темнокожего продавца, стоящего у самых ворот, а затем не спеша шли через площадь Джексона посмотреть, как продвигается озеленение, и останавливались взглянуть на новейшие образцы масок, выставленные в витрине. Женщины, как правило, поддавались искушению и заходили внутрь за покупками, а их мужья тем временем курили сигары на улице.
Каждое воскресное утро, пока покупатели были в соборе, Мэри меняла убранство витрины. Она ходила к заутрене до рассвета – тогда у нее оставался целый день для работы в магазине. Оставив службу у мадам Альфанд и став совладелицей магазина Ринков, Мэри перестала ходить в собор Святого Патрика в сопровождении Пэдди Девлина. Иногда она со вздохом вспоминала, что когда-то у нее был по воскресеньям выходной. И вообще были выходные. Но они с Ханной решили, что в сезон должны приложить все силы. Обе работали семь дней в неделю.
Как-то в середине января Альберт предложил Мэри уйти из магазина в воскресенье после обеда. Та наотрез отказалась:
– Ты же знаешь, Альберт, сколько у нас работы. Надо наверстать упущенное вчера – ведь у нас ни души не было. Все отправились смотреть пожар.
Мэри понимала, что поступает нехорошо. Альберт накануне тоже бегал в пригород смотреть пожар. Отель «Сент-Чарльз», гордость американского квартала, сгорел до основания. Выгорели четыре квартала вокруг отеля. Балконы и крыши французского квартала были забиты зрителями, которые наблюдали, как обрушился знаменитый купол огромного отеля. Пламя было видно из любой точки города.
Альберт не прореагировал на язвительность Мэри. Он даже ее не заметил.
– Мэри, тебе непременно надо пойти со мной. Подумать только, живу здесь почти год и даже не знал… Хорошо, один человек на пожаре сказал мне. Каждое воскресенье на площади Конго устраивают пляски вуду. Ты только представь себе – какие краски, какие узоры на ритуальных одеждах! Я не сомневаюсь, что многое почерпну для карнавальных костюмов. Вот почему мне надо, чтобы ты пошла со мной. Ты скажешь мне, какие надо внести изменения, чтобы белые женщины захотели надеть костюмы танцовщиц вуду. Это будет сенсация.
– Да… мысль интересная… что-то в ней есть, Альберт… но покупатели…
Ханна решила все за нее:
– Иди, Мэри. Я не хочу – жутко боюсь вуду. Ты иди и последи за Альбертом вместо меня. Я страшно волнуюсь, когда он уходит куда-то один.
По-настоящему площадь Конго называлась Круглой, но об этом помнили только составители карт города. Она располагалась в шести кварталах от магазина в конце Рэмпарт-стрит – между Сент-Питер и Сент-Энн. Альберт и Мэри добрались туда пешком меньше чем за десять минут.
Еще за два квартала они услышали бой барабанов.
За один квартал стали различимы хлопки и выкрики. Голоса кричали хором: «Ба-дум… ба-дум…» Мэри показалось, что ее сердце забилось в такт барабанам. Это было увлекательно.
Две трети площади было отгорожено частоколом. Со всех четырех сторон в заборе были калитки, и возле каждой стоял полицейский.
– Зачем здесь полицейские? – спросила Мэри Альберта. – Нас не впускать или их не выпускать?
Зрители, большей частью белые, выстроились по сторонам забора и смотрели на танец. На неогороженной трети площади люди толпились возле столиков, над которыми были раскрыты большие зонты. Там темнокожие ларечники торговали пралине, кофе, рисовыми пирожными, гумбо, пивом.
Тощий белый господин с козлиной бородкой, стоявший возле Мэри и Альберта, кашлянул и приподнял серую шляпу с широкими полями.
– Извините, – сказал он. – Я совершенно случайно услышал ваш вопрос, мисс. Если позволите, с удовольствием расскажу вам об этом любопытном зрелище. Я его всесторонне изучил. Я пишу книгу об африканских ритуалах и обычаях в том виде, в каком они сохранились в других странах. Я профессор Иезекия Абернети.
Альберт прервал его:
– Здесь нам делать нечего. Все танцоры одеты в обноски белых. Пошли.
Мэри тронула его за руку.
– Побудем еще немного. Мне интересно. – Ногой она отбивала такт барабанного боя.
Рядом с ней бубнил профессор:
– Все танцоры и музыканты – рабы. Потому здесь охрана. В городе действует постановление, по которому рабам разрешено собираться здесь по воскресеньям с четверти четвертого до шести или до заката – в зависимости от того, когда он наступает. Разумеется, это зависит от времени года. Музыкальные инструменты представляют собой любопытную модификацию инструментов, характерных для тех стран…
Мэри бочком протиснулась подальше от него.
Представление захватывало дух. Оно было экзотическим. Варварским. Мэри охватила дрожь, когда она взглянула на барабанщиков. Они были очень сосредоточенны, отстранены от внешнего мира, как будто пребывали в трансе. Они отбивали устойчивый ритм на шкурах, туго натянутых на что-то похожее на выдолбленные стволы деревьев. Вместо палочек барабанщики пользовались длинными, мосластыми, ослепительно белыми костями. Кроме барабанов, никаких музыкальных инструментов не было. Мелодию создавал непривычный заунывный хор, который не то пел, не то декламировал нараспев.
Танцующие пели и одновременно танцевали. Все они пели одну и ту же песню, но впечатление было такое, что каждый пел отдельно, только для себя. Пели тихо, иногда просто бормотали. Высокие, гнусавые голоса выводили причудливо вибрирующую минорную мелодию, которая гулко отдавалась в воздухе.
И танцевали тоже каждый сам по себе, словно в одиночку.
Мужчины и женщины танцевали совершенно по-разному. Мужчины вращались на небольшом пространстве, высоко подпрыгивали и топали ногами, яркими пятнами выделяясь по всей площади. Женщины же почти не передвигали ноги, плотно сдвинув их, они крепко вжимались в утоптанную землю. При этом тела их тряслись или извивались – от ярких тиньонов до лодыжек.
Иногда Мэри удавалось уловить отдельные слова. «Танцуй, Калинда, ба-дум, ба-дум» – это был припев. Но пели на франко-африканском патуа, которого она совсем не понимала. Ей очень хотелось спросить профессора, о чем поют, но она решила, что знать это вовсе не обязательно. Скорее всего, она не поймет смысла песни, даже если будет знать ее слова.
Внезапно ей стало неловко смотреть на этих людей, которые танцуют, хоть и на виду у всех, но так сокровенно. В ярких обносках рабов, в оживленном интересе белых зрителей к их глубоко интимным переживаниям, запечатленным в голосах и движениях тел, было нечто невыразимо печальное. Мэри отвернулась и поискала глазами Альберта.
В нескольких ярдах от себя она увидела Жанну Куртенэ с отцом и Филиппом. Жанна моментально заметила Мэри, улыбнулась и направилась было к ней, но Карлос Куртенэ взял дочь за руку и увел прочь. Филипп поднес было руку к шляпе, но прервал жест на полпути и устремился вслед за отцом.
Мэри почувствовала, как краснеет от этого демонстративного пренебрежения, но затем улыбнулась про себя. Карлос Куртенэ ей больше не страшен, а утрата дружбы Жанны и Филиппа особого значения не имела. Она была так счастлива, что подобные мелочи не беспокоили ее. Через какой-нибудь месяц-полтора Вэл вернется.
Толпа возле частокола зашевелилась. Танцы и барабанный бой стихли. Мэри протиснулась на свое прежнее место. Ей было интересно, чем вызвана такая перемена.
К центру площади шла женщина. Рабы расступались, пропуская ее, словно королеву. Осанка и поступь женщины были торжественны и царственны, а платье определенно было не с плеча белой женщины. По всей площади Конго разносилось шуршание ее синих шелковых юбок. Платье сидело на ее статной и женственной фигуре так, словно было сшито в лучшем парижском доме специально для нее. На ней были браслеты и серьги с бриллиантами и рубинами, по кольцу на каждом пальце, драгоценностей хватило бы на то, чтобы выкупить плененную королеву.
– Это Мари Лаво, царица вуду, – услышала Мэри. Она дотронулась до своей незамысловато уложенной косы. Она и представить себе не могла, что ее самые заурядные темно-каштановые волосы когда-то укладывала столь примечательная женщина.
– Мэри, ты идешь или нет? – Альберт стоял позади нее.
– Иду. – Она отвернулась от забора в тот самый момент, когда танец и барабанная дробь разразились с новой силой.
На другое утро, в тот самый момент, когда Ханна открывала двери, в магазин вбежала Жанна. Мэри снимала с прилавков муслиновые чехлы.
– Мэй-Ри! – воскликнула Жанна. – Я так хотела поговорить с тобой вчера, но папа не дал мне. Я велела Миранде пойти сегодня со мной. Все думают, что сейчас я у этой ужасной мадам Альфанд, примеряю свадебное платье, но только придется ей подождать. Ой, Мэй-Ри, видела бы ты это платье! Такой красивой невесты, как я, еще не было на свете. Фата, естественно, кружевная и такая длинная, что, боюсь, не поместится в соборе…
«Жанна нисколько не меняется, – подумала Мэри. – Такая же непревзойденная болтушка».
Жанна продемонстрировала Мэри свое кольцо невесты с огромным сапфиром, окаймленным бриллиантами, и описала диадему из бриллиантов с сапфирами, которую подарит ей на свадьбу мистер Грэм.
– Он кошмарно старый, – весело сказала она, – но будет делать все, что я захочу, это уже и сейчас заметно.
Он уверил Жанну, что не придется переезжать в американскую часть города, если только ей самой не захочется. Он купил дом на Эспланада-авеню, всего в квартале от Куртенэ. Сейчас Берта занимается отделкой и обстановкой этого дома. И еще муштрует рабов. Если Жанне захочется оставить у себя Миранду, родители подарят ей эту горничную в числе других подарков. Но ей бы хотелось, пожалуй, завести новую горничную, которая не будет бранить ее, как ребенка, – ведь она теперь станет замужней женщиной, живущей своим домом. И еще у нее будет карета. И коттедж у озера. И ложа в опере.
Миранда постучала в окошко. Жанна схватила Мэри за руку и призналась, зачем, собственно, она зашла.
– Мэй-Ри, говорят, тот художник, который живет здесь наверху, пишет портрет с Вальмона. Это ведь так, да? Ой, Мэй-Ри, разреши мне взглянуть на него, умоляю! Если я не увижу его до свадьбы хотя бы разочек, просто умру. А он в отъезде! – Прекрасные молящие глаза Жанны были полны слез. Мэри провела ее в студию.
Альберта не было, и это обрадовало Мэри.
– Вовсе не похож, – сказала Жанна и добавила: – Но я притворюсь, будто похож. Не уходить же мне ни с чем. – Она провела пальцем по нарисованному рту, коснулась ладонями того места, где должно находиться сердце. – Мэй-Ри, – тихо сказала она. – Мама с папой купили нам супружеское ложе. Его уже привезли и установили в большой гостиной. Ты знаешь наши обычаи, Мэй-Ри? После свадьбы все мы отправимся в папин дом, и там будет великолепный ужин со всевозможными деликатесами. Будет высокий торт, почти до люстры, будут играть музыканты из оперы, будут танцы. Но не для меня. Мама поднимется со мной в ту комнату, разденет меня, поможет надеть ночную рубашку, которую заказала в Париже. Она подержит лесенку, пока я заберусь в высокую, роскошную кровать от Мейяра. А потом оставит меня одну, дожидаться мистера Грэма.
Неделю, Мэй-Ри! Мы проведем в этой комнате целую неделю! Слуги будут ставить за дверью подносы с едой и питьем. Но мне никого нельзя будет видеть – никого, кроме мужа. А ему – никого, кроме меня. Не представляю, как я это вынесу. Я так мечтала, что проведу брачную неделю с Вальмоном, что он будет обнимать меня, ласкать, учить, как любить его. Тогда мне казалось, что неделя – это так мало! Теперь же она растянется на целую вечность. – Жанна посмотрела на Мэри. – Почему он не любит меня? – спросила она тихим, обиженным голосом.
Мэри, уверенной, что Вальмон любит ее, стало безумно жаль Жанну. Нет большего горя, чем нелюбовь Вальмона. Она протянула руки, и Жанна упала ей в объятия. Они плакали вдвоем, оплакивая горе Жанны.
Их разыскала Миранда, которая выдернула Жанну из объятий Мэри, вытерла ей лицо и уволокла вниз, прочь из студии.
Мэри вытерла глаза подолом юбки. Она все еще всхлипывала. Потом, глядя на плохой портрет Вэла, она постепенно успокоилась. Перед возвращением в магазин, она поцеловала кончики своих пальцев и приложила их к губам, изображенным на холсте.
– Как же мне повезло! – прошептала она. – И как же я люблю тебя!
Через неделю, в понедельник, Жанна вышла замуж. Мэри стояла в толпе, собравшейся на площади Джексона посмотреть на прибытие гостей, родственников и самих молодых. Жанна действительно оказалась невообразимо прекрасной невестой. И прежде чем закрылись двери собора, Мэри успела заметить, что фата Жанны протянулась по всему проходу.
Она удивилась, заметив в толпе Сесиль Дюлак. Ей казалось, что сердитая квартеронка будет избегать всего, что связано с Карлосом Куртенэ. Или хуже того – устроит сцену. Сесиль же, одетая в блеклое бесформенное платье и неопределенного цвета тиньон, скрадывавшие ее красоту, улыбалась.
Любопытно. Но с другой стороны, Сесиль вела себя странно с самого Рождества. Она возвращала все отчеты о доходах магазина, которые ей посылала Ханна, с краткой припиской, что у нее теперь нет времени заниматься этим. К тому же она прекратила заказывать платья.
Мэри пожала плечами и посмеялась над собой – какой, однако, она стала француженкой! На работу она вернулась вся в мечтах, переполненная воображаемыми картинами свадеб – ее собственной свадьбы, по преимуществу. Она не переставала удивляться, что Вэл остановил свой выбор на ней, хотя в мире так много женщин красивее ее, остроумнее, соблазнительнее, умнее, богаче, из известных и уважаемых семей. Она не могла понять, почему Вэл выбрал ее, но была без ума от счастья, что все вышло именно так.
Она решила рассказать ему о себе все, хотя и опасалась, что он поймет, насколько она заурядна. Она расскажет ему и о своем наследстве – пропавшей шкатулке. После вдовы О'Нил она никому об этом не рассказывала. Ей не хотелось, чтобы создалось впечатление, будто она хочет как-то выделиться или вызвать к себе жалость.
Легко было держать воспоминания при себе. Вопросы ей задавали редко, а если и задавали, то она отвечала, что никакой родни у нее нет и она сама зарабатывает на жизнь. Эти слова, а также тон, которым они произносились, отбивали охоту расспрашивать дальше.
Но Вэл имеет право знать все. К тому же ей было приятно думать о том, как он будет счастлив узнать, что она наполовину новоорлеанка, да еще и из рода «девушки с гробиком». История наследства будет ему подарком от нее.
Есть у нее и другие подарки для него. Почти всю прибыль, полученную ею от магазина, она хранила в банке. До окончания сезона эта сумма заметно увеличится. Тогда она сможет подарить ему что-нибудь особенное, замечательное, достойное его. Или, что еще лучше, попросит Альберта выступить в роли опекуна и передать Вэлу эти деньги в качестве ее приданого.
Она нисколько не сомневалась, что они поженятся. Вэл же поцеловал ее. А для Мэри это было равносильно клятве.
Она завела небольшой календарик и перед сном вычеркивала дни, оставшиеся до конца февраля, когда он вернется к ней. Она оберегала свое счастье, словно драгоценный клад.
Как-то вечером, за кофе, баронесса упрекнула ее в невнимательности.
Мэри вздрогнула от неожиданности, но тут же признала свою вину:
– Извините. Я задумалась о том, что будет, когда придет весна. Ведь я первый год в Новом Орлеане и не знаю, чего ожидать. Мне кажется, здесь всегда тепло. Зимы нет. Значит ли это, что и весны тоже не будет?
– Вот глупышка! Конечно же, будет. Но о чем тут думать? Когда весна придет, тогда и придет.
Мэри призналась, что влюблена, а любовь для нее неразрывно связана с весной.
Меньше всего Мэри ожидала, что Микаэла рассмеется. Баронесса смеялась так долго, что Мэри успела обидеться. Наконец Микаэла смолкла.
– Прости меня, – сказала она. – Я забыла, что ты совсем молоденькая. Послушай меня, Мэри Макалистер. Ты же разумная девушка. И характер у тебя есть. Ты можешь многого добиться в жизни. А любовь – она только помешает тебе. Впрочем, один раз этим придется переболеть – так, вроде прививки. Но постарайся не натворить глупостей. Я несколько раз испробовала любовь на себе и нашла, что ее сильно переоценивают.
Я скажу тебе, что в жизни действительно интересно: власть. Нет ничего интереснее ее. Добиваться власти. Пользоваться ею. Знать, что она у тебя есть. Заставлять людей поступать так, как хочешь ты. Карать врагов. Видеть страх в глазах людей. Это настолько увлекательно, что с этим не сравнится никакой мужчина.
Мэри впервые слышала, чтобы баронесса говорила с такой неподдельной страстью. Даже в самые критические минуты баронесса не теряла самообладания. Она умела тщательно дозировать собственную ярость, добиваясь таким образом наибольшего эффекта. Но теперь ее ледяной стержень словно растаял. Глаза ее сверкали, голос казался хриплым от бушующих чувств. Смотреть на нее было почти страшно. Впечатление оказалось настолько сильным, что надолго осталось в памяти.
Глава 44
Февраль принес дожди, а с ними и весну. Казалось, воздух за одну ночь пропитался стойкими ароматами жасмина и цветущих апельсинов, а розы грудами свисали со стен, защищающих дворики от посторонних взглядов.
Терпение Мэри испарялось, как капли коротких теплых дождей. Она скучала по Вэлу, жаждала его возвращения, ненавидела его лошадей и всех до единого жителей Чарлстона – ведь он был с ними, а не с ней. Она плохо спала и просыпалась в полудреме от того, что руки ее гладили груди, тело и влажное, пульсирующее пространство между ног.
Праздничные приемы тянулись беспрерывной чередой, увеселениям не было конца. По пути на работу Мэри нередко шла по тротуару бок о бок с маскарадными королями и королевами Франции или римскими сенаторами, возвращавшимися домой после танцев, затянувшихся до утра. Кружочки конфетти плавали в наполненных дождевой водой канавах, цветными точечками прилипая к размокшим карточкам для танцев и театральным программкам, выброшенным за ненадобностью и оказавшимся в лужах, растекшихся на перекрестках. От слякоти подолы юбок и башмаки становились тяжелыми; грязь уродовала белые локоны, свалившиеся с маскарадных париков, и маски, выброшенные после ночи веселья.
Баронесса де Понтальба не обращала ни малейшего внимания на дождь, слякоть, прелести весны и светские увеселения. Она руководила рабочими, заканчивающими второй квартал зданий с ее монограммами, то увещевая, то угрожая, а то и крича на них. И на садовников, прокладывавших дорожки и разбивавших клумбы в саду на площади Джексона. И на бригады рабов, которых она наняла для постоянной уборки мусора с площади – легкомысленного разноцветного мусора, заполонившего весь французский квартал. К приезду Дженни Линд все должно быть идеально.
Плакаты на уличных тумбах возвещали о грядущих концертах, ярко выделяясь на фоне извещений о кончинах и похоронах. Репортеры городских газет дежурили на валу возле рынка на случай, если судно с певицей прибудет раньше времени. Номера отеля «Сен-Луи» заполнились меломанами со всей Миссисипи, а билеты на первые концерты были проданы с аукциона в ротонде, причем цена доходила до двухсот сорока долларов. Апартаменты для знаменитости были готовы – четыре гостиные, десять спален и серебряная дверная табличка с надписью «Дженни Линд».
В пятницу седьмого февраля, как и было обещано, пароход под названием «Сокол» подошел к причалу, расположенному напротив площади Джексона. На причале и на валу собрались тысячные толпы. Люди кричали «ура!» и размахивали флажками. На палубе парохода миниатюрная женщина в темном платье и чепце подняла руку, приветствуя собравшихся. Стоящий рядом с ней экспансивный мужчина торжествующе взмахнул обеими руками. Его звали Финеас Тейлор Барнум; в свои сорок лет он уже был величайшим импрессарио в мире.
Мэри не было в толпе, собравшейся на причале и на валу. У нее было слишком много дел. Но она вышла вместе с Ханной и Альбертом на запруженную народом площадь Джексона и аплодировала вместе со всеми, когда на балконе своих апартаментов появилась Дженни Линд в сопровождении баронессы Понтальба. Приветственный клич не смолкал, пока Дженни не вышла снова. И еще, и еще – более тридцати раз.
Микаэла вышла на балкон только раз. Этого было достаточно. Она достигла своей цели. Каждый житель Нового Орлеана хорошо запомнит дома Понтальба, прежде чем Шведская Канарейка улетит.
Через Микаэлу Мэри раздобыла два билета на шестой концерт Дженни Линд. В первый же вечер после приезда певицы она, закрыв магазин, села в вагончик конки и отправилась до самого кольца, в Кэрролтон, захватив билеты. Один из них предназначался Луизе Фернклифф, урожденной Кэтрин Келли.
Говорили, что на протяжении второй половины почти пятимильного маршрута рельсы проложены мимо пастбищ и фермерских угодий, но было темно, и Мэри ничего не смогла разглядеть. Правда, когда последние городские кварталы остались позади, она почувствовала перемену. Ветер посвежел, а на смену аромату цветов пришел крепкий и сладкий запах свежей полевой зелени. Появилось ощущение открытого пространства, и Мэри впервые поняла, насколько тесны загроможденные городские улицы. После площади Джексона она осталась одна на защищенном навесом империале. Сидя так высоко, Мэри почувствовала себя почти императрицей. Окружавшая ее пустая тьма превратилась в таинственное невидимое королевство, а пыхтящий и испускающий искры локомотив – в дракона, поставленного ей на службу.
Когда впереди появились огни Кэрролтона, ей немного взгрустнулось.
Луиза была очень рада видеть Мэри, а от билета пришла в полнейший восторг.
– Я боялась, что мне так и не доведется услышать Дженни Линд, – сказала она. – Теперь я не работаю, так что жалования не получаю, а старик Бэссингтон оказался сущим скрягой. Говорит, что плата за дом и мои уроки разоряет его, но бьюсь об заклад на что угодно: и жена, и его мерзкие дети – все попадут на один из концертов. Надеюсь, не на тот же, что и мы. Не желаю его видеть ни одной минуты сверх того, что необходимо.
Показывая Мэри дом, она не переставала жаловаться на мистера Бэссингтона. Планировка дома удивила Мэри. Четыре комнаты были вытянуты одна за другой от фасада до задней двери. Объясняя Мэри, как дом получил свое название, Луиза посмеивалась. Поставив Мэри в проеме раскрытой задней двери, она прошла через спальню, комнату, в которой из обстановки было одно фортепьяно, кухню и гостиную, оставляя все двери открытыми. Потом вышла на узенькое переднее крыльцо и повернулась лицом к Мэри. Они могли свободно видеть друг друга.
– Ясно? – завопила Луиза. – Потому-то этот дом и прозвали «дробовиком». Можно выстрелить в переднюю дверь из дробовика, и все дробинки вылетят в заднюю, ничего не задев на пути. Смешно, да?
Внезапно лицо Луизы скривилось. Она вбежала в дом, захлопнув за собой дверь, и села на пол, привалившись к стене.
– Помилуй меня Боже! – воскликнула она. – Мэри, у меня будет ребенок!
Мэри утешала ее как могла. Но, не переставая говорить, она понимала, что ничем не может помочь подруге. Просто не может. По всем законам этого мира Луиза была пропащим созданием, и ни один приличный человек не станет иметь с ней дела.
Но Луиза – ее подруга. Она совершила страшный грех, нарушила одну из заповедей, причем не один раз, а многократно. И все же Мэри по-прежнему любила ее, уважала, хотела дружбы с ней. Но при этом была убеждена, что это неправильно и что, может быть, любить такую грешницу, как Луиза, значит согрешить самой.
Ее терзания были столь очевидны, что под конец уже Луизе пришлось утешать ее:
– Слушай, Мэри, иди-ка ты домой. Тебе же завтра работать. Честно, я тебе очень благодарна за билет. Я всенепременно буду на концерте. А если ты решишь не приходить, я не обижусь. Только не будь полной идиоткой – продай билет, если не пойдешь. Выручишь в четыре раза больше, чем заплатила.
Эта бескорыстная забота подруги определила решение Мэри:
– Я буду в театре, даже если придется добираться вплавь, – твердо сказала она.
Луиза обняла ее. Она проводила Мэри до кольца конки. Оно находилось возле отеля «Кэрролтон», летнего пансионата с широкими галереями, окруженного садами в весеннем цвету. Некоторые окна отеля были освещены. Внутри чернокожие с засученными рукавами натирали полы и пели, толкая вдоль сосновых половиц булыжники, обернутые фланелью.
Подруги слушали, обняв друг друга за талию; теплый редкий дождик падал им на головы и плечи. Мэри обрадовалась дождю: когда их осветит фонарь локомотива, Луиза не сможет определить, что влага на щеках Мэри – это слезы.
Когда подошел состав, Луиза поцеловала ее на прощание.
– Увидимся шестнадцатого. – Засмеявшись, она понизила голос: – Мне, наверное, надо было встревожиться, когда он сказал, что купил для меня «дробовик». Нельзя, правда, сказать, чтобы оружие мне особенно пригодилось…
Резкий смех Луизы и ожесточение, прозвучавшее в ее голосе, огорчили Мэри. «Я обязана помочь Луизе, – думала она, возвращаясь домой. – Может быть, поговорить со священником… Или найти для нее какую-то работу в магазине. Она в своем Кэрролтоне так одинока».
Она твердо решила переговорить с Ханной.
Но в магазине было столько работы, что она совсем забыла об этом. Теперь, когда в этом здании жила Дженни Линд, на площади Джексона днем и ночью собирались толпы. Все надеялись хотя бы мельком увидеть ее.
Рано или поздно каждая женщина из этой толпы заходила в магазин спросить, не знают ли Мэри и Ханна, когда Дженни выходит, или приходит, или упражняется в пении у раскрытых окон, выходящих на галерею.
Ханна и Мэри запирали магазин на ночь злые и совершенно обессиленные.
– Они даже и не собирались ничего покупать… Постоянным покупателям войти не давали… На прилавках все перевернули… Вон на том шарфе следы грязных пальцев… С витрины половина масок пропала…
– С этим надо что-то делать, – сказала Мэри и топнула ногой для большей убедительности.
– Что? – спросила Ханна. Мэри понятия не имела.
Она решительно поднялась в апартаменты Микаэлы де Понтальба, намереваясь высказать свое недовольство. К ее удивлению, баронесса, как ни в чем не бывало, ожидала ее на кофе.
Они поговорили, а потом дружно рассмеялись.
На другой день магазин преобразился. В витрине появился набросок портрета Дженни Линд в рамке – Альфред создал его за ночь. Прилавок был завален шарфами, перчатками и ленточками, посреди которых возвышался позолоченный мольберт с объявлением: «Это носила Дженни Линд».
– Ей-то самой решительно все равно, – сказала накануне Микаэла, махнув рукой и хрипло хохоча.
Когда Мэри исповедалась в обмане, она отчетливо услышала смех из-за перегородки в исповедальне. И священник не сказал ей, что она должна прекратить этот обман.
Наверное, и в соборе поклонники Дженни Линд создавали дополнительные трудности.
Но эта мысль была мимолетной. С каждым днем Мэри все больше занимали ее календарик и вопрос, когда же возвратится Вэл.
Она чаще, чем в том была необходимость, заходила на оптовый склад, расположенный возле берегового вала и поставлявший им шарфы и перчатки. Пока ей готовили очередную партию, Мэри стояла у дверей и изучала форму, оснастку и названия судов, проходящих по реке. Она высматривала «Бенисон».
Шестнадцатого февраля Мэри встретилась с Луизой возле театра «Сен-Шарль», и они пошли на концерт. Мэри поняла, почему Дженни Линд прозвали Шведской Канарейкой. Эта невысокая, худенькая, довольно невзрачная молодая женщина стояла на огромной сцене, небрежно упершись руками в бока. Когда на рояле, стоящем позади нее, сыграли вступление, Дженни Линд подняла подбородок. Затем она раскрыла рот – и сияющий каскад чистейших звуков залил все колоссальное пространство зрительного зала. Зачарованная, застывшая публика моментально смолкла.
Когда занавес упал в шестнадцатый раз и больше не поднимался, несмотря на настойчивые овации, Луиза поцеловала Мэри в щеку.
– Не знаю, как и благодарить тебя. – Голос ее дрожал. Мэри тоже поцеловала подругу.
– Понимаю, – сказала она. – Я и сама не нахожу слов. Я уже забыла, что музыка способна сделать с человеком.
Луиза ответила душераздирающе печальной улыбкой:
– А я не знала, на что способен человеческий голос. И теперь, узнав, не собираюсь продолжать занятия. Не желаю больше слышать собственное пение.
Мэри взяла Луизу за руку:
– Луиза, не надо говорить глупости. На свете только одна Дженни Линд. Никто не способен петь так, как она. Это не мешает тебе стать оперной певицей.
– Не расстраивайся. Мне не следовало это говорить. Извини.
– Луиза!
– Все хорошо, Мэри. Просто я глупость сказала. Ничего такого у меня на уме нет.
Но Мэри опасалась, что Луиза просто утешает ее.
На следующий день она встала пораньше и отправилась в Кэрролтон, чтобы удостовериться, что Луиза не томится в печали и одиночестве.
Когда она постучала, дверь открыл мужчина.
– Чего вам надо? – буркнул он. – Еще темень на дворе.
– Извините, ошиблась домом, – пролепетала Мэри. Она побежала прочь, споткнулась, упала, торопливо поднялась и поспешила к остановке конки.
Крестики на календаре Мэри были аккуратно заштрихованы, так что оставшиеся непомеченные дни отчетливо выделялись. Когда она составляла этот календарь, незаштрихованное пространство было мучительно большим. И ей доставляло удовольствие каждый вечер аккуратно отсекать кусочек от этого пространства. Когда осталось всего четыре пустых дня, она забеспокоилась. Потом прошел последний день.
Мэри сидела в магазине одна, ее била дрожь. Следовало опасаться многого: судно могло попасть в шторм и затонуть или напороться на подводные рифы, мог взорваться котел…
Что же случилось с Вальмоном и его судном? Колокола собора начали бить. Обычно их звон радовал Мэри. Сейчас она слышала в нем лишь холодный металл.
Глава 45
Медные трубы оркестра сверкали в лучах солнца, словно золотые; в воздухе, наполненном ароматом цветущих деревьев, весело звучала мелодия марша «Мир перевернулся». Одна за другой бригады пожарных-добровольцев проходили строем по Шартр-стрит и сворачивали на площадь Джексона. Инструменты были начищены до блеска, тщательно убраны были и попоны, прикрывавшие лошадей, в хвосты и гривы которых были вплетены ленты с красными кисточками на концах.
У каждой бригады был собственный вымпел со знаками отличия. Вымпелы развевались на длинных шестах, которые крепились спереди к ослепительно белым шнурам, опоясывающим одетых в парадную форму юношей, несущих эти вымпелы. Проходя перед балконом Дженни Линд, каждый юноша поднимал шест с вымпелом в знак приветствия.
– Правда, чудесно, Мэри? – воскликнула Ханна Ринк. – Пожарные изменили свой маршрут из-за Дженни Линд, и мы можем полюбоваться парадом.
– Да, это замечательно, – сказала Мэри. Она изо всех сил старалась скрыть отчаянную тревогу за Вэла. Было уже четвертое марта. Она глядела на парад невидящими глазами, руки ее, сжимающие металлические перила террасы дома, где жили Ринки, побелели от напряжения.
– Черт возьми, очень мило с их стороны устроить такой прием в мою честь. – На какую-то секунду ей показалось, что у нее начались слуховые галлюцинации. Мэри медленно обернулась, боясь обнаружить перед собой пустоту. У открытого окна гостиной Микаэлы стоял Вэл. Держа в руках тонкую сигару, он смеялся и говорил что-то Альфреду де Понтальба. Закрыв глаза, Мэри прислонилась головой к прохладной поверхности железной колонны слева от нее.
Все в порядке. Он в безопасности. Он вернулся.
И тотчас музыка, словно искристое вино, наполнила весельем ее кровь. Мэри открыла глаза – пестрое праздничное шествие внизу казалось ей самым замечательным зрелищем, которое ей когда-либо доводилось видеть.
– Чудесно, – прошептала Мэри. – Это просто чудесно! – воскликнула она вслух.
Последующие дни показались ей волшебными. Каждое утро Вэл позировал для портрета, а после сеанса обычно заходил в магазин, и они с Мэри отправлялись на рынок попить кофе. В первый день после кофе они решили немного прогуляться. По словам Вэла, от долгого стояния в одной и той же позе у него совершенно затекли ноги. Он недоумевал, почему позирование художнику по-английски называется «ситинг», то бишь «сидение».
Мэри высказала предположение, что, вероятно, потому, что сидеть приходится самому художнику. И потом, так уж повелось это называть. Если сегодняшний сеанс Вэла следует назвать «стоянием», то как же быть, когда художник пишет портрет двух людей, один из которых сидит, а другой стоит за его спиной? Может быть, «стодением»?
– «Ситоянием», – поправил ее Вэл.
– Это звучит чересчур по-восточному, – усомнилась Мэри.
На это Вэл возразил, что Мэри перескочила на другую тему, между тем как тема позирования еще не исчерпана. Так, сеанс с ребенком можно было бы назвать «ерзированием», а со стариком – «дремлированием».
– А с грудным младенцем – «мокрированием», – добавила Мэри и покраснела.
Она спросила его, как прошли скачки в Чарлстоне и как бежал Снежное Облако.
Вэл ответил, что его огромный белый жеребец занял почетное второе место, отстав совсем ненамного. Однако его хозяин не слишком расстроился. Он купил лошадь, которая пришла первой.
Мэри затаила дыхание – ей казалось, что сейчас Вэл пригласит ее в Бенисон посмотреть на покупку, но он переменил тему. Он намеревался послушать, как поет Дженни Линд, и хотел узнать, что о ней думает Мэри.
Мэри сказала лишь, что для него это будет большим сюрпризом.
Она не стала делиться с ним своими впечатлениями, поскольку хотела, чтобы он пережил тот же восторг, что и она. Она была уверена, что удовольствие будет не столь острым, если он будет готов к нему заранее.
Мало-помалу они разговорились, и чем дольше гуляли, тем раскованнее и непринужденнее становилась беседа. Вэл был рад хотя бы на время выйти из своей роли светского повесы, а в обществе Мэри он не чувствовал себя связанным условностями. Мэри не принадлежала к тому кругу, в котором вращался он, и следовательно, не могла поделиться своими впечатлениями о нем с кем-либо из его знакомых. То есть это он так думал. Мэри не сказала ему о своей дружбе с баронессой.
Зато она рассказала о той хитроумной уловке, которая пришла на ум им с Ханной, чтобы заманить к себе толпы поклонников Дженни Линд.
– Мы называем их орнитологами, – сказала она.
Вэл рассмеялся, и она тоже; она чувствовала себя совершенно раскованной. И ужасно счастливой. А Вэл в очередной раз подивился тому, что и он заражается ее радостью. И солнце показалось им ярче, чем обычно, река – шире, а воздух – ароматнее.
Теперь он с нетерпением предвкушал их прогулки после сидения в мастерской.
Эти прогулки становились с каждым днем все более долгими.
Ханна уверяла Мэри, что может сама продавать сувениры орнитологам, а Мэри пусть гуляет, сколько ей вздумается.
Мэри была благодарна ей. По ней, так она бы и глазом не моргнула, если бы магазин вместе со Шведской Канарейкой и орнитологами провалился сквозь землю. Мгновения в обществе Вэла стали для нее важнее всего на свете.
И все же каждый вечер она засиживалась допоздна, работая над костюмами для своих заказчиков. Расставаясь с Вэлом, она превращалась в прежнюю Мэри, с обостренным чувством ответственности. Сославшись на срочные заказы, она отказалась от кофе у Микаэлы. Отчасти это было правдой. Сезон почти закончился. Однако отказ от встреч с баронессой был вызван главным образом тем, что Мэри не хотелось обнаружить свои чувства перед женщиной, которая относилась к любви так цинично.
Боялась она и того, что баронесса может задать ей вопросы, на которые и сама Мэри не знала ответа. Например, почему Вэл ни разу не заговаривал с ней о любви? Почему поцеловал ее лишь один раз? Почему с такой легкостью и весельем рассказывает ей о балах и приемах, на которых бывает каждый вечер, ни разу не пригласив ее пойти вместе с ним?
Если бы Мэри только знала, какое воздействие оказывают эти ежедневные светские увеселения на чувства Вэла к ней! Он усердно играл роль светского повесы, делая вид, что в жизни нет ничего важнее танцев, флирта, карточных игр, пьянок и скачек.
На балах и маскарадах он всегда изображал версальского придворного – волосы завиты и напудрены, на лице нарисованы мушки, а на туфлях с высокими каблуками – пряжки, украшенные драгоценными камнями. Его парчовые камзолы и панталоны были предметом зависти как мужчин, так и женщин, поскольку все эти вещи Вальмон получал из Парижа. А окантованные широким кружевом манжеты его шелковых рубашек могли составить честь и музею. Но верхом шика были розочки из лент, украшавшие его колени, и ножны из литого золота.
В этом фатовском наряде он чувствовал себя полным идиотом.
Он надеялся, что таковым его и считают. Путешествие в Чарлстон оказалось на редкость удачным. Беглые рабы добрались до Канады без приключений, и старушка «Бенисон» не подвела. Теперь Вэл готовился к следующему рейду, более рискованному. На сей раз он решил не брать лошадей. Все пространство под палубой корабля будет заполнено людьми. Тогда он сможет вывезти сотни две рабов, а то и больше.
Предлогом для путешествия будет романтическое приключение, а также корыстные соображения. Обе причины покажутся весьма убедительными любому креолу. Согласно легенде, он познакомился в Чарлстоне с богатой наследницей, дочерью того самого человека, у которого купил призовую лошадь. Она собиралась провести лето с семьей в небольшой колонии аристократов-южан в Ньюпорте, штат Род-Айленд, известной как Северный Чарлстон.
И если бы кому-нибудь взбрело в голову заняться расследованием, то он обнаружил бы, что легенда вполне правдива. Вальмон действительно оказывал знаки внимания дочери человека, у которого он купил призера скачек. И она в самом деле была богатой наследницей. Кстати, она оказалась чрезвычайно умной и образованной девушкой и к ухаживаниям ветреного повесы, которого Вэл изображал, отнеслась отрицательно. Так что он мог продолжать лицедейство, не опасаясь за последствия. Он знал, что в Ньюпорте его ухаживания будут отвергнуты.
Кроме того, Род-Айленд – место достаточно отдаленное, и никто не узнает, что до прибытия туда его пароход зайдет в Канаду.
Только бы все прошло благополучно. Только бы все поверили, что он, Вальмон Сен-Бревэн, действительно охотится за приданым, обхаживая свою капризную чарлстонскую невесту. Только бы ему удалось сыграть роль паяца достаточно достоверно.
А для этого Вэлу приходилось танцевать ночь напролет, а потом вести за собой приятелей в игорный дом и играть в карты чуть ли не до полудня. Вернувшись же домой, на улицу Сен-Луи, он чертыхался на всех известных ему четырех языках, глядя на собственное идиотское отражение в зеркале.
Он позволял себе расслабиться, отправляясь на прогулку с Мэри Макалистер, в ее компании он мог позволить себе выйти на время из роли шута и мота. С ней он мог держаться свободно, снять маску искушенного опытного волокиты, любоваться небом и рекой, радоваться жизни, как радовалась ей сама Мэри.
Она была совершенно не похожа на тех женщин, с которыми ему приходилось танцевать и флиртовать на балах, и потому время, проведенное с ней, казалось ему настоящим отдохновением. Румянец на щеках так выгодно отличал ее от бледных модных креольских красоток. Как и мальчишеская фигурка, и быстрые, ловкие движения. Мэри не грозило стать томной светской красавицей.
В сущности, красавицей она и не была. И все же золотистые искорки, прячущиеся в ее глазах, придавали ей изюминку. Кроме того, Вэл не уставал поражаться способности ее волос менять цвет в зависимости от освещения.
Но самое большое наслаждение ему доставляло неуемное любопытство Мэри. Даже обыденное, само собой разумеющееся могло вызвать у нее острый интерес. Она жаждала узнать, как называется каждый цветок и дерево, почему на килевых шлюпках можно подняться вверх по реке, а на плоскодонках – нельзя, откуда произошел обычай давать в придачу к покупке ланьяпп, есть по понедельникам красную фасоль с рисом, торговать с уличных лотков. Вэла восхищала и забавляла ее страсть к еде. Она всегда ела с огромным аппетитом и никогда не отказывалась от нового блюда, когда он предлагал ей его отведать.
Он повез ее на экскурсионном пароходе по каналу, тянущемуся от города к озеру, чтобы полюбоваться, какое впечатление произведут на нее лодки, пароходы и грузы на пристани. И когда они подплыли к озеру, его поразило, как она смотрела на озеро: словно никогда в жизни не видела такого огромного водоема. Да и сам Вэл будто впервые его увидел – озеро показалось ему огромным, дальний берег был почти не виден, оно вполне могло сойти за залив или даже океан. А он-то всегда считал его обыкновенным озером. Просто он никогда толком не разглядывал его.
Как и город, который считал своим домом. Мэри изучала каждые ворота, крышу, стены, окна и трубы с таким вниманием, что и Вэл заметил – все они имеют свой неповторимый рисунок.
Она любила Новый Орлеан и Луизиану так горячо, что Вэлу становилось стыдно – ведь до сих пор он все это принимал как должное.
В течение пяти дней Вэл и Мэри наслаждались обычаями и простыми радостями весеннего Нового Орлеана. Но этой идиллии внезапно пришел конец.
Как всегда, Вэл изо всех сил изображал светского фата. Он танцевал менуэт с одной дамой, которая весь сезон маялась без кавалера.
– Пойдешь на вечер с танцами у Грэмов? – спросила Вэла его кузина Жюдит. – Мы решили не идти, да и тебе вряд ли понравится там. Жанна Куртенэ вышла замуж за американца и теперь из кожи вон лезет, чтобы вернуть расположение креольского общества. Пусть ищет себе друзей на той стороне нейтральной полосы, вот мое мнение. Нам здесь америкашки не нужны.
«Тебе не нужна здесь Жанна Куртенэ, – подумал Вэл, – потому что в ее присутствии ты останешься без кавалеров».
Упоминание имени Жанны заставило его вспомнить ее дебют, и ту сцену в ложе оперного театра, и Мэри Макалистер. Тогда он предупредил Карлоса Куртенэ, что Мэри, несмотря на ее молодость и невинный вид, была одной из шлюх Розы Джексон. В последнее время это совершенно вылетело у него из головы. И теперь он проклинал собственный идиотизм, честя Мэри последними словами за то, что так ловко обвела его вокруг пальца.
– В чем дело, Вальмон? – спросила Жюдит. – Ты выглядишь прямо как фурия.
Вальмон выдавил из себя смешок:
– Ты наступила мне на ногу.
– Вот уж нет.
– Значит, я сам себе наступил. Как бы то ни было, я должен уединиться и осмотреть свои раны.
Прямо из бальной залы Вальмон направился в бар. Его свирепый вид недвусмысленно говорил о том, что с ним связываться не стоит, и ни один выпивоха в тот вечер не посмел подшучивать над его париком и напудренным лицом.
Бармен протянул ему фужер с шампанским, но Вэл отодвинул его от себя.
– Тафию! – сказал он отрывисто.
Бармен удивленно моргнул глазами. С какой стати месье Сен-Бревэну заказывать тафию – дешевый местный ром? Да еще в баре самого модного отеля? Ведь тафия – напиток, который подают чуть ли не в кастрюлях на Галлатин-стрит, где околачиваются только матросы.
– В «Сен-Луи» тафии не подают, месье. Барбадосского не прикажете?
– Нет. Тогда коньяка.
Вальмон проглотил отличнейший коньяк залпом. В этот момент ему хотелось не столько ощутить вкус коньяка, сколько напиться, почувствовать, как жар проникает ему в глотку, в желудок. Он побелел от холодной ярости.
Эта Мэри Макалистер играет им, он мог в этом поклясться. И надо признать, у нее чертовски хорошо получается. Он мог позволить себе играть роль шута в креольском свете, хотя Бог свидетель, она давалась ему нелегко. Но он не потерпит, чтобы какая-то прожженная девка обращалась с ним как с последним идиотом.
А ведь он поверил ей. И это было самое позорное, самое оскорбительное. Да уж, она играла роль невинного создания куда профессиональнее, чем он светского повесу.
Теперь он не мог даже вспомнить, когда именно дал маху. Вначале Альберт Ринк рассказал ему, что Мэри очень тревожилась из-за его отсутствия, и тогда он пригласил ее на чашку кофе. Вполне возможно, тогда он еще помнил, кто она на самом деле. Да, он голову дал бы на отсечение, что так оно и было. Потом был тот день на плантации, когда она выкинула ловкий фокус с компаньонами. Он хорошо его запомнил.
И все же в какой-то момент он почему-то забыл об этом. Для него она была спутником, более того – другом. И он забыл, что она женщина, потому что с ней было легко разговаривать и в ней совершенно не было того несносного жеманства, которое свойственно женщинам. Он и думать забыл, что она шлюха.
Бог мой! Как же она, наверное, насмехалась над ним все это время!
Вэл протянул бармену пустой бокал:
– Коньяк, – и снова осушил бокал.
Затем он отправился в бальную залу изображать пустоголового шута.
Надеясь втайне, что какому-нибудь вспыльчивому типу захочется вызвать его на дуэль. Сегодня у него так и чесались руки скрестить с кем-нибудь шпаги. Ему было тошно от постоянных гримас и ужимок. Он устал изображать идиота.
Но это было необходимо. И он добросовестно играл свою роль, а в пять утра наконец скинул с себя ненавистный костюм и как подкошенный свалился в постель. В жизни он так не уставал.
Он слишком перевозбудился и не мог заснуть. Его мысли крутились вокруг этой мошенницы Мэри. Нужно придумать, как отомстить ей за нанесенное ему оскорбление.
Чего она хотела? Ведь женщины этого типа ни за что не станут проводить время с мужчиной, кроме как за деньги, но она не просила у него денег. Наоборот, делала вид, что чрезвычайно тронута, когда он покупал для нее жареный миндаль или порцию гумбо. Должно быть, ее корысть состояла в чем-то другом, более серьезном, чего он пока не мог отгадать.
Ну и черт с ней. Он понял, по крайней мере, что она шлюха. Завтра последний сеанс у художника. Ну а потом он и шагу не сделает в сторону этого магазина, даже если захочет навестить Микаэлу де Понтальба. Он по горло сыт Мэри Макалистер и ее трюками.
Но вначале он заставит ее заплатить за свои проделки. Посмотрим, так ли она хороша в постели…
Глава 46
Утром в понедельник Мэри встала, чувствуя себя как никогда взволнованной. Сегодня, сегодня она услышит наконец от Вэла те слова, которых давно ждала: что он отвечает ей той же любовью, которую испытывала к нему она, сегодня он предложит ей выйти за него замуж.
«Не стоит переживать из-за того, что он ничего не сказал по возвращении из Чарлстона, – уговаривала она себя. – Мы должны привыкнуть друг к другу заново. Ведь мы были в разлуке более двух месяцев».
Но она переживала.
И переживала все сильнее, потому что он ни разу не пригласил ее на те приемы, где регулярно бывал сам.
Но более всего она переживала из-за того, что он ни намеком не дал ей понять, что намерен познакомить ее со своей семьей.
Впрочем, переживаниям Мэри предавалась только по вечерам. На следующий день, встретившись с ним, она забывала о том, что мучило ее накануне, потому что была слишком счастлива.
Но вот Альберт вскользь заметил, что в понедельник у них последний сеанс с Вэлом. И тревога Мэри переросла в панику. А вдруг она больше никогда не увидит его?
На самом деле она сомневалась, что это возможно. И все-таки – а вдруг? «Когда он рядом, я уверена в его любви ко мне. Но он ни разу не проявил своих чувств. И поцеловал меня всего только раз. Если мы обручимся, он, конечно же, поцелует меня. Как бы мне хотелось этого!»
Мэри вспомнила, как Луиза распространялась насчет классовых различий, и решила, что в этом-то и состоит причина его молчания. «Ведь он не знает, что я принадлежу к тому же кругу, что и он, не знает, что я – креолка. Он любит меня, но боится, что я буду отвергнута его кругом. Боится, что я буду несчастлива».
«Будь честной, Мэри, – бранила она себя. – Вэл не святой. Он боится, что сам будет несчастлив, а ты станешь для него обузой – американка без роду-племени, продавщица из швейного магазина. И разве можно его в этом винить? Ведь ты не подумала бы выйти замуж за Пэдди Девлина!»
Она облегченно вздохнула. Скоро она все узнает, не стоит мучить себя сомнениями. Достаточно будет рассказать ему о ее приданом – и о том, что в числе ее предков была «девушка с гробиком». А это самое верное доказательство креольского происхождения.
Она не могла дождаться понедельника, когда расскажет ему обо всем.
– Доброе утро, дамы. – Голос Вэла звучал сегодня как-то странно. Он был совсем не похож на себя.
Мэри едва заметно улыбнулась. Вэл казался сегодня взволнованным, даже раздраженным. Но ничего, ничего. Она расскажет ему о шкатулке, и от его нервозности не останется и следа.
– Что это за суматоха там на площади? – спросил он у Ханны.
– Дженни Линд уезжает. И по-моему, слава Богу. А все эти люди столпились здесь, чтобы проводить ее на пристань. Надеюсь, потом они отправятся по домам и будут сидеть там тихо, как мыши. Лично я до смерти устала торговать одними и теми же шалями и перчатками.
Вэл взглянул на Мэри.
– Надеюсь, вы не собираетесь провожать Дженни Линд, – сказал он. – В отеле мне собрали корзиночку для пикника. Я думал, может, мы снова отправимся на озеро.
– Это было бы здорово! – Мэри уже схватила шляпку и зонтик.
– Давайте поедем сегодня по железной дороге, – предложил Вэл.
И Мэри честно призналась, что ей бы очень этого хотелось. Она никогда в жизни не ездила по настоящей железной дороге.
Правда, она умолчала о том, что предпочла этот способ передвижения еще и потому, что он быстрее. У Вэла сегодня был решительный вид – это и волновало, и тревожило Мэри. Она была почти уверена, что он намерен сделать ей предложение. Хотя он не был похож на влюбленного. Наверное, волнуется. И это понятно. Ведь она тоже волновалась.
Занятые собственными мыслями, Вэл и Мэри всю дорогу ехали молча. Отрезок пути длиной в пять миль по так называемым Елисейским Полям они преодолели за двадцать пять минут. Слова растворялись в шуме паровоза и стуке колес, и в конце концов они отбросили всякие попытки разговаривать.
Небольшой поселок у озера был уже объят сном. Окна были закрыты ставнями, возле домиков никого не было видно. Лишь у торгового причала какие-то люди суетились возле пароходов и лодок. Взяв Мэри под руку, Вэл повел ее в сторону от причала.
Они прошли совсем немного и остановились у вереницы ив. Вэл поставил на землю плетеную корзинку с едой и расстегнул ремни, стягивающие свернутый коврик, затем он протянул рулон Мэри.
– Расстели его. На земле сыро.
Мэри с беспокойством взглянула на тяжелые облака, повисшие над озером. Если сейчас земля и не очень сырая, скоро она увлажнится. Будет очень обидно, если ливень испортит ей самую счастливую минуту в жизни.
– Вэл, мне нужно сообщить тебе кое-что важное, – сказала она, разворачивая коврик. – Именно сейчас, пока мы еще не приступили к еде.
– В самом деле? Жду с нетерпением, – ответил Вэл. «Наконец-то она решила перейти к делу, – подумал он между тем. – Интересно, что она придумает? Больную бабушку, срочно нуждающуюся в лечении, на которое у нее нет денег? Или будет соблазнять меня своими прелестями и сулить невиданное блаженство всего лишь за то, чтобы я поселил ее в уютненьком маленьком домике и избавил от тяжелой работы в магазине? Что бы она ни задумала, я неплохо позабавлюсь».
Он прилег на бок, облокотившись о коврик. Мэри села, повернув к нему лицо. Но тень дерева скрывала его. И вот из темноты послышался ее голос:
– В день своего шестнадцатилетия – я тогда только-только закончила школу – мне передали подарок от моей матери. Родной матери, давно уже умершей, но я и не знала этого… Нет, все не так… Я плохо рассказываю.
– Отнюдь. Я заинтригован. Продолжай, прошу тебя. Мэри слишком волновалась и не почувствовала сарказма в голосе Вэла.
– Дело в том… дело в том, что подарок, – сказала Мэри, – был шкатулкой, очень старой, грязной. – Она слишком торопилась, хотела успеть рассказать до того, как начнется ливень. – Потом я узнала, что это за шкатулка. Эта шкатулка была из тех, которые король Франции дарил в приданое девушкам, отправившимся в Новый Орлеан. И моя родная мама завещала ее мне. Ты понимаешь, что это значит? Я принадлежу Новому Орлеану по крови, по праву рождения. Я наполовину настоящая креолка. А я-то все удивлялась, почему мне здесь так нравится!
– Ничего удивительного не вижу. Это вполне закономерно.
– Я знала, что ты меня поймешь.
Протянув руку к Мэри, Вэл привлек ее к себе. И не успела она и охнуть, как он уже целовал ее прямо в губы.
Обхватив его руками за спину, Мэри ответила на поцелуй со всей силой неутоленной страсти, скопившейся за долгие месяцы их разлуки. Он приподнял голову, но она вновь притянула ее к себе, ей хотелось удержать его, продлить этот поцелуй еще немного. Она могла бы оставаться в таком положении всю жизнь, лишь бы он был так близко. Она услышала, как капли дождя забарабанили по листьям деревьев, но ей было все равно. Она целовала его в углы рта, в подбородок, в нос, снова в губы.
Волна тепла и дрожи молнией пронзила ее тело. Это было так неожиданно, что она вскрикнула. Она почувствовала, как ее спина изогнулась дугой, и увидела, что корсаж расстегнут и руки Вэла мнут, сжимают, ласкают ее груди. Она поняла, что слабеет, ей хотелось, чтобы его руки продолжали ласкать ее – везде, всегда, еще и еще… Нет, нужно остановить его. Слишком рано. Это должно произойти только после того, как они поженятся.
Мэри уперлась руками в грудь Вэла, отвернула лицо от его ищущих губ.
– Нет, Вэл, нет. Остановись. Пожалуйста, прошу тебя, не надо. – Она долго отталкивала его руки, пытаясь одновременно застегнуть корсаж на платье, вскрикивая время от времени «нет», «остановись», «пожалуйста».
Вэл резко уселся. Лицо его выражало ярость.
– Что ты хочешь сказать своим «остановись»? Что это, черт возьми, за игра?
Мэри наконец удалось застегнуть платье. Дождь струями стекал по ее волосам, плечам и чуть приоткрытой шее.
– Я люблю тебя, – сказала она. – Ты ведь знаешь. Но до свадьбы – нельзя. И ты это прекрасно знаешь, Вэл.
Он чуть не упал. Так вот в чем дело! Ей, оказывается, нужно, чтобы он женился. Дождь заливал ему плечи, вода просачивалась под воротник. Ему хотелось ударить ее, нахлестать по щекам. Неужели она принимает его за такого дурака? Жениться на ней!
«Ну нет, мадемуазель, тут вы немного переборщили. Слишком ловко и часто вы обводили меня вокруг пальца и теперь надеетесь, что зверек уже в капкане. Вы полагаете, что дело выиграно. Но на сей раз я докажу вам, что вы ошибаетесь».
– Ты права, разумеется, – сказал он. Голос его звучал ласково. – Я потерял голову от страсти. Мэри, я не могу ждать. Мы поженимся завтра. В Марди-гра. И на нашей свадьбе будет гулять весь город.
Обняв Мэри, Вэл прикрыл ее полой своего жакета. И Мэри не увидела, как на его лице заиграла жестокая, мстительная усмешка.
Оставив корзинку и коврик, они побежали к поезду, но опоздали – он уже ушел. Вэл нашел смотрителя за погрузкой судов и заплатил ему за лошадь и повозку. Он не мог дожидаться следующего поезда. Ему нужно было поскорей расстаться с Мэри, он боялся, что не выдержит, поколотит ее; он готов был ее убить.
Она выглядела как утонувшая крыса.
И чувствовала себя самой желанной, самой красивой, самой счастливой женщиной на свете.
– Тебе надо переодеться в сухое, – сказал Вэл, пока они мчались к городу. – Ты где живешь? – И он снова ударил лошадь кнутом.
– Я вернусь в магазин. Там мои вещи. – Но она солгала – носильных вещей у нее там не было, придется занять что-нибудь у Ханны. Кроме того, надо заняться костюмом. Во время Марди-гра все наряжаются в маскарадные одежды, сказал Вэл. Он также объяснил ей, как хочет устроить их свадьбу. Он будет ждать ее на Сен-Луи-стрит в шесть часов и к тому времени сделает все необходимые приготовления. Ей нужно быть в карнавальном костюме и маске. Вместо свадебного приема у них будет целый бал, традиционный бал на Марди-гра.
Глава 47
Вторник на масленой неделе был последним днем, когда можно было предаваться неуемному обжорству перед сорокадневным Великим постом – порой строгой диеты и всяческого самоотречения.
Креолы называли этот день Жирным вторником, или Марди-гра.
Весь город был охвачен праздничным настроением. В обычно деловом Новом Орлеане все жители в Марди-гра предавались безделью. Всякая серьезность, а тем более печаль в этот день были непозволительны. Даже погода не выбивалась из общего праздничного настроения – ходили легенды, что на Марди-гра ни разу не выпадало дождя.
Мэри Макалистер проснулась с улыбкой на лице. Солнце едва взошло, но с улицы уже доносился шум праздника. Лопались и взрывались шутихи, кричали и веселились мальчишки. Праздничное ликование толп соответствовало настроению самой Мэри. Все обязаны веселиться сегодня – потому что у нее свадьба.
На вешалке у двери висел готовый свадебный наряд. «Нужен карнавальный костюм», – велел ей Вэл.
– Вот мой костюм, – сказала она миссис О'Нил, показав свое платье хозяйке. Она решила известить обитателей пансиона о своей свадьбе завтра, после венчания, когда заедет забрать вещи. Ей не хотелось портить Пэдди Девлину праздничное настроение. И не хотелось, чтобы день ее свадьбы был омрачен печалью или яростью, с которой он встретит известие о ее замужестве.
Однако Ханна и Альберт обо всем знали. В тот памятный день, когда Вэл расстался с ней у входа в магазин, она побежала к ним, искрясь от счастья, чтобы сообщить им эту новость. И Ханна помогла ей сшить костюм, а Альберт согласился быть ее шафером. Они договорились, что в день свадьбы Ханна и Альберт будут ждать Мэри и Вэла у себя дома.
– Мы, конечно, будем венчаться в соборе, – сообщила им Мэри, – так что заедем за вами по дороге.
Мэри вскочила с постели и сняла с плечиков свой наряд. Он действительно получился прекрасным. Мэри разложила его на покрывале. Белые шелковые чулки, голубые, украшенные кружевом подвязки, кринолин с тройной оборкой. Все было взято из магазина – самый лучший их товар. Платье было из белого шелка, Мэри и Ханна сконструировали его из самой нарядной блузы Ханны, с высоким воротом и длинными рукавами, и пышной юбки, которую Мэри сшила сама из ткани, имевшейся в мастерской. Ханна также дала ей крошечную золотую булавку с камеей по центру, чтобы заколоть ворот.
– Что-то старенькое, – сказала Мэри, поправляя складки на рукавах.
– Что-то новенькое, – разглаживала она сверкающую ткань юбки.
– Что-то одолженное. – Брошь уже была приколота к вороту.
– Что-то голубенькое. – И она хихикнула, натягивая подвязки.
Она развернула обернутый тканью пакет, лежащий на ее умывальном столике, и с любовью коснулась пальцами предметов, содержащихся в нем: белой накидки из тончайших, как паутина, кружев, свадебной фаты и веера из таких же белых, но более плотных кружев, которые держались на резных деревянных палочках. Для Мэри этот веер был жалким подобием того «чего-то старенького», которое, увы, было потеряно для нее. Если бы ее шкатулка была с ней, она предпочла бы этому вееру тот, что принадлежал ее неведомой прабабушке или прапрабабушке.
Под веером лежала карнавальная маска. Она тоже была из кружев. Ханна отчаянно орудовала ножницами, вырезая из кружевной шали узоры, которые потом пришила к маске из белого сатина.
Мэри собиралась нарядиться испанской дамой. Но наряд этот вполне мог сгодиться и для невесты.
Ей хотелось поскорей надеть свой костюм, хотелось, чтобы свадебный обряд состоялся немедленно. Время до шести часов казалось ей целой вечностью. Но раз Вэл сказал – в шесть, следовало подчиниться его приказу, как и подобало покорной и любящей жене. Так что нужно было потерпеть.
И она надела свое коричневое рабочее платье и отправилась в гостиную завтракать.
Когда она вошла, юный Рейли бросил в нее пригоршню муки. Мэри взвизгнула, отмахиваясь руками от окутавшего ее белого облачка.
– Я, по-моему, предупреждала вас – не швыряться мукой в доме, – вскричала миссис О'Нил. Но и она не могла удержаться от смеха. Мукой оказались обсыпаны и ее собственные волосы, и лицо Пэдди Девлина, и уши и брови старшего Рейли.
Вдова помогла Мэри стряхнуть муку с платья.
– Мне на целый год хватило бы десятой доли той муки, которую расшвыривают направо-налево в Марди-гра, – ворчала она при этом. – По-моему, это просто варварский обычай, и ничего смешного я в нем не вижу, вот что я вам скажу.
Мэри была того же мнения. Но потом, когда после завтрака вышла прогуляться в компании с Пэдди и обоими Рейли, ей пришлось переменить мнение. Все улицы – от самых тихих и неприметных до самых что ни на есть фешенебельных – были заполнены людьми, все – от богачей до последних бедняков – высыпали наружу. Мужчины, женщины, дети, негры и белые, кто в карнавальных костюмах, кто в масках, были в приподнятом настроении. У некоторых на лицах были следы муки, и большинство держали в руках маленькие мешочки с мукой, разбрасывая ее вокруг то щепотками, то пригоршнями. Все бегали, смеялись, визжали и кричали и были похожи на маленьких детей, предававшихся общей игре с такими самозабвением, энергией и страстью, которые возможны только в детстве.
И Мэри тоже присоединилась к всеобщему веселью, бросая пригоршни муки в людей, одетых животными, чертями, ангелами, ведьмами, индейцами, охотниками, клоунами, королями, генералами, историческими персонажами, монстрами, пиратами. Ее коричневое платье стало почти белым, кончики ресниц тоже побелели. Она старалась держаться в стороне от остальных, но это не очень помогло. На Марди-гра в Новом Орлеане все вели себя как друзья. Какой-то мужчина, одетый в женские одежды, угощал всех купленными у уличного торговца лакомствами. Женщина в мужском камзоле и штанах в обтяжку, с маской на лице целовалась со всеми без разбору. Человек на ходулях кидал муку сверху на других, и розы на соседней стене казались покрытыми снегом. Повсюду из открытых окон и дверей раздавалась музыка, на перекрестках играли одетые в маскарадные костюмы скрипачи, один пират с кольцом в ухе, сидя верхом на другом пирате, играл на трубе. Везде царило веселье.
Гуляки экспромтом сбивались в компании и маршировали по улицам, распевая, затем, так же стихийно, эти компании распадались. Звучали трубы, звенели колокольчики, гудели дешевые свистки, били барабаны, играли даже на расческах, обернутых тонкой бумагой.
Толпа шумела и играла, всецело отдавшись безудержному веселью. Как всегда на Марди-гра.
В начале третьего Мэри пробилась сквозь толпы домой, в пансион. Она была совершенно растрепана и взбудоражена. Говорили, что будет настоящий парад. Может, даже будут низкие платформы на колесах – на них везли огромного деревянного петуха с болтающейся головой. Рассказывали, что участники парада всегда кидают конфеты в толпу. Должно быть, это здорово.
Но Мэри согласна была и не видеть всего этого. Ей надо помыться, вымыть и просушить волосы, подготовиться как следует к своей свадьбе.
Мэри накинула на голову и плечи покрывало со своей кровати, чтобы защитить подвенечное платье от муки. Ей хотелось предстать перед Вэлом чистой и опрятной. Ее новенькие серебристые туфельки были белыми от муки, рассыпанной на мостовых, ну да ничего.
Войдя в отель, она сняла покрывало и протянула его пораженному слуге в ливрее. В действительности это был один из ряженых постояльцев.
– Меня ждет месье Сен-Бревэн, – сказала она человеку, сидевшему за высокой конторкой красного дерева. – Пожалуйста, дайте ему знать, что я здесь.
Вальмон, как и обещал, сделал все необходимые приготовления. Служащий отеля вызвал посыльного.
– Этот человек проведет вас к месье Сен-Бревэну, мадемуазель.
Мэри, не задумываясь, последовала за посыльным.
– Вот это девка, – сказал один из служащих другому. – Вообрази, эта шлюха оделась во все белое, словно девственница. А смотреть не на что – сисек, считай, вообще нет. Я бы с такой спать не стал.
– По-моему, этот Сен-Бревэн чудак, – ответил его собеседник. – Одевается нелепо, и манеры как у педераста. Если б мне не доводилось видеть, как он фехтует, в жизни бы не поверил, что он мужик.
На стук посыльного открыл дверь Вэл. Увидев Мэри в ее белом платье и вуали, он улыбнулся.
– Входи, дорогая. Познакомься с моими друзьями. – Отвесив изящный поклон, он взял Мэри за руку и ввел ее в комнату.
Там сидели трое: Пьеро, Наполеон Бонапарт и священник. В углу комнаты был алтарь, стол, покрытый кружевной скатертью, а на нем – два серебряных подсвечника. На полу лежали две подушечки.
– Вэл, – произнесла Мэри. – Я что-то не понимаю.
– Тс-с-с, голубка моя, я еще не представил тебя своим друзьям. Джентльмены, вот моя избранница, мадемуазель Мэри Макалистер.
Все трое поклонились. Мэри, польщенная их почтительностью, улыбнулась.
– Вэл, – она потянула его за рукав, – я думала… в соборе… и Ханна с Альбертом ждут нас…
Вэл прижал палец к ее губам:
– Невеста моя, ты заблуждаешься. Ты ведь не знаешь, как принято у нас, креолов. На Марди-гра свадьбы устраиваются иначе. Менее формально. Во время поста свадьбы недопустимы, и потому на Марди-гра их обычно больше… Не правда ли, святой отец?
Священник кивнул, пробормотав что-то, – Мэри не разобрала, что именно.
Она не понимала, что происходит. Вэл выглядел каким-то чужим, он был в атласном камзоле и ярко-желтых панталонах до колен, манжеты и лацканы камзола были из голубого бархата, украшенного золотыми нитями и бусинками топазов. Манеры и голос его казались столь же напыщенными и вычурными, как и костюм. И обращался он с ней так, словно они участвовали в каком-то спектакле, – совсем не так должны были вести себя люди, готовящиеся стать мужем и женой.
Вероятно, все дело в этих его двух приятелях. Потом он наверняка ей все объяснит. Главное, что он, Вэл, здесь и она любит его и верит ему.
Она позволила ему снять с нее маску и отвести в угол, к алтарю. По его приказу она преклонила колени, повторила вслед за священником слова клятвы и протянула руку. Вэл надел ей на палец широкое золотое кольцо.
Вот они и поженились, сказал он. Как принято на Марди-гра.
Мэри едва сдерживала слезы. Без причастия, без свадебной литургии, без мальчиков у алтаря, без лампадки с ладаном, без проповеди, без благословения. Совсем не так, как ей представлялось в мечтах.
Но когда Вэл, взяв лицо Мэри в руки, поцеловал ее, торопливая краткая церемония наполнилась для нее самым что ни на есть святым содержанием и показалась необыкновенно прекрасной. Она стала женой человека, которого любила.
Они дружно встали с колен, не разжимая рук. Мэри улыбнулась и заговорила со священником.
Но не успела она и слова произнести, как Вэл отпустил ее руку и поднял ее на руки.
– А теперь мы вас оставим, друзья мои, – сказал он и внес Мэри на руках в соседнюю комнату, захлопнув за собой дверь.
Мэри увидела, что они оказались в огромной спальне. Два высоких окна были раскрыты настежь. Снаружи все небо было красным, с широкими неровными полосами фиолетовых облаков. Закат окрасил комнату в розовые тона, голубой полог на огромной кровати с балдахином казался пурпурным.
Вэл опустил ее. Снял накидку с ее головы и швырнул на пол. Затем ловко расстегнул корсаж платья и стал ласкать ее груди.
Мэри хотела попросить его не торопиться, дать ей время привыкнуть к этой обстановке, к тому, что только что произошло, к нему самому, наконец.
Но она не могла произнести ни слова. От его прикосновений сердце ее учащенно забилось, колени задрожали. Все, что она сумела прошептать, это его имя.
– Разве все не так, как ты хотела, невеста моя? Ведь ты требовала, чтобы мы вначале поженились? Может, ты против? – Его губы ласкали ее шею, уши. Его руки стягивали платье с ее плеч. – Черт, рукава слишком узкие. Сними сама, Мэри, и волосы распусти. – Он выпустил ее из своих объятий, и ей тут же стало холодно. Она послушно последовала его указаниям, движения ее рук были механическими. Она вглядывалась в его лицо, глаза, губы, тщетно стараясь заметить в них нежность.
Но он избегал ее взгляда. Он был занят тем, что снимал с себя один за другим аксессуары своего костюма. Мэри следила за его быстрыми, ловкими движениями, столь непохожими на плавные движения женских рук, и, волнуясь, думала о его мужской силе. Когда он стягивал через голову рубашку, она заметила, что живот у него плоский, на груди эффектно выступают мышцы, увидела пучок курчавых черных волос на этой широкой груди, и ей вдруг захотелось почувствовать под пальцами, у своих щек, эти жесткие волосы, погладить гладкую кожу на его животе. И она подбежала к нему. Сейчас ее тело укрывали лишь волосы, но она не чувствовала ни стыда, ни смущения. Лишь всепоглощающее желание, чтобы он согрел ее в своих объятиях, зажег ее прикосновениями своих рук.
Вэла позабавило ее нетерпение, и он рассмеялся; в его смехе тоже слышалось вожделение.
– Подожди, – сказал он.
Вэл уложил ее на кровать, и, пока он стягивал с себя панталоны, язык его исследовал рот Мэри.
Затем он навалился на нее всем телом, вжимая в кровать, согревая ее кожу и сердце своими ласками, а Мэри обхватила его за шею, прижалась к нему, словно просила защиты, захлебываясь в волнах любви к нему, от которой ее сердечко радостно сжималось.
Она ощущала, как его руки, прикасающиеся к ее телу, заставляют кровь мчаться все быстрее и быстрее по каждой жилке. Руки ее ерошили его волосы, гладили его кожу, спину с безупречно развитой мускулатурой. Мэри на ощупь убедилась, что он силен, и прониклась уважением к его силе, просто потому, что она была частью его. Ее тело, крепкое и молодое, каждой клеточкой тянулось к нему. Ей хотелось, чтобы они слились воедино и она стала частью его, чтобы их сердца, кровь, дыхание переплелись, как и их жизни, соединенные любовью.
– Господи всемогущий! – вскрикнула она.
А потом вскрикнула вновь, потому что толчки внутри нее и боль, которую они вызывали, разрывали ее на части. Она была почти в агонии.
Пока не поняла, что Вэл стал частью ее и что боль была вызвана Вэлом, – это он заполнил ее, и пустота и одиночество, в которых она пребывала доселе, закончились в тот момент, когда они с Вэлом стали одним существом.
Она услышала рыдания и поняла, что плачет сама. Она плакала от боли и от счастья – от любви, которую могла дать кому-то, любви, которую копила в себе всю свою жизнь, дожидаясь того, кто будет нуждаться в ней.
Вэл встал на колени и, подтянув ее вверх, прижал ее к своей груди.
– Держись за меня, – сказал он, и руки Мэри обвили его тело, прижимая его к ней, а ее – к нему. Его руки скользнули по ее спине, растопыренными пальцами он сжимал ее ягодицы, пальцы впивались в ее кожу, прижимая ее все теснее и теснее по мере того, как он все глубже и глубже входил в нее, пока она не закричала от боли и ощущения зависимости и принадлежности ему, которое пугало и одновременно делало ее счастливой, – от ощущения, что и он теперь принадлежит ей, потому что его крик слился с ее криком.
Она все еще прижималась к нему, когда он наконец расцепил ее руки и оттолкнул ее от себя. Он опустил ее на постель и отстранился. Мэри лежала, чувствуя себя не в силах шевельнуться, невесомой, слабой от любви, которую только что отдала ему, от той любви, которая переполняла все ее существо. Она хотела бы рассказать ему, что она сейчас чувствует, но понимала – никакие даже самые высокие слова не в состоянии выразить ее чувства. Она лишь пожирала его глазами.
Вэл отошел от постели. Мэри услышала плеск воды и представила себе, как он умывается. Ей хотелось подойти к нему, снять с него простыню и самой умыть его красивое, сильное, дорогое ей тело. Но она не могла шевельнуться – ей было слишком больно. Позже, пообещала она себе. У нас впереди целая жизнь. Может, она научится и брить его, будет мылить его подбородок, а затем медленно снимать щетину, мазок за мазком, целуя его всякий раз вслед за движением бритвы. Она провела языком по губам, воображая ощущение его кожи.
Вдруг Вэл очутился рядом. Мэри протянула к нему руки. Он отпрянул.
Она увидела, что он уже одет, но не в прежний костюм, а в домино с капюшоном, к которому была пришита маска, закрывавшая верхнюю часть лица. Костюм был черным, под него он поддел белую рубашку и черные брюки. В полумраке комнаты от его облика веяло тайной и какой-то скрытой угрозой. Мэри улыбнулась:
– Вэл, ты внушаешь страх. Ты стал похож не то на разбойника, не то на пирата. В любом случае портной у тебя отличный.
Но он не рассмеялся на ее шутку. Со всей серьезностью он опоясался простым устрашающего вида ремнем с ножнами и мечом.
Затем он медленно подошел к кровати. И тогда рассмеялся:
– Мои поздравления, мадемуазель. Вы оказались еще более искусной, чем я предполагал. Я было намеревался заплатить вам два доллара, как хорошей, добросовестной шлюхе, но вы, пожалуй, стоите побольше.
На грудь Мэри упала сверкающая золотая монета. Мэри почувствовала холод металла на коже. Она с трудом села:
– По-моему, это не смешно, Вэл. Это мерзкая шутка. Он снова засмеялся:
– Если и шутка, то на сей раз над вами, не надо мной. Мы, так сказать, поменялись ролями. Надеюсь, маскарад вам пришелся по вкусу? Особенно хорош оказался священник, не правда ли?
Мэри потрясла головой, пытаясь отмахнуться от его слов. Нет, это неправда. Он не мог так поступить с ней. Она вглядывалась в лицо Вэла, надеясь найти опровержение его словам. Но капюшон скрывал его, видны были лишь рот и подбородок. Этот рот казался чужим, с тонкими, злыми губами.
Губы растянулись в улыбке, затем раскрылись в смехе. И он ушел. Она слышала его голос из гостиной:
– Надеюсь, я заставил вас ждать не слишком долго, джентльмены. Благодарю вас за помощь в этом небольшом веселом спектакле. Полагаю, вы позволите мне угостить вас обедом до начала бала.
– С вас не только обед, но и выпивка, причем на всю ночь. Вы говорили о пяти минутах, а прошло чуть ли не пятнадцать.
Вэл расхохотался беззаботным детским смехом:
– Она оказалась более интересной штучкой, чем я ожидал. Я бы рекомендовал вам всем попользоваться ею, да ждать не хочется. Я чертовски голоден.
Мэри прижимала руки к ушам.
Но все равно его слова доносились до нее.
Глава 48
Улицы были заполнены толпами людей, еще более шумными, чем утром. Лица были скрыты теперь не только масками, но и сгустившимися ночными тенями. Уличные фонари, очерчивающие широкие круги, высвечивали прыгающие и выделывающие курбеты фигуры в маскарадных костюмах.
Свет, падающий из открытых дверей кофеен, выхватывал из темноты компании гуляк, столпившихся по соседству. Движущаяся живая человеческая масса чувствовалась и в темноте, заполнившей промежутки между домами.
Вовлеченная в общий поток, Мэри, спотыкаясь, брела по Ройал-стрит. Обхватив себя руками, она пыталась защитить свое и без того израненное тело от толчков. Но на каждом шагу она натыкалась на каких-то весельчаков и, морщась от боли, заставляла себя двигаться вперед. Ее лицо было скрыто белой кружевной накидкой, кроме того, она по мере возможности старалась держаться в тени. Ей хотелось укрыться от своего позора.
Вокруг было множество фигур в домино. Каждый раз при виде одной из них она сжималась от страха, но ее тихий стон растворялся в общем праздничном гаме. Гром труб и свистки раздавались прямо возле ее ушей. Какой-то шут размахивал своими колокольцами перед ее лицом, пираты и мужчины в женских платьях ловили ее и целовали сквозь вуаль. Она оставалась безучастна ко всему.
Добравшись до сада возле собора, она прислонилась к его железной ограде, ухватившись за колья, чтобы удержаться под натиском разгулявшейся прыгающей и скачущей толпы.
Мимо нее прошли трое одетых в костюмы пажей эпохи Ренессанса мужчин, в руках у них были пылающие факелы. На секунду они осветили съежившуюся белую фигурку Мэри и сад. Мэри отвернула лицо в сторону. По другую сторону ограды она увидела, как какая-то парочка в масках занимается любовью. Рядом валялись сброшенные шелковые костюмы.
Опустив голову, она побежала, превозмогая боль и натиск толпы, и бежала до тех пор, пока не очутилась перед входом в собор.
Внутри собора было тихо. Шум уличного праздника здесь был едва слышен.
Ярко горели свечи. Свет их казался чистым и торжественным.
Вокруг было пусто. Мэри была одна.
Она преклонила колени перед алтарем. Потом упала, раскинув руки в самоуничижении. Губы ее почти касались каменного пола, шепча отрывистые фразы. Она молила Бога простить и утешить ее.
Так прошло три часа. Мэри била безудержная дрожь. Она продрогла до костей. Душа ее была полна отчаяния и тоски, Бог не отвечал на ее молитвы.
Свечи на алтаре мигнули и погасли.
Все еще дрожа, Мэри заставила себя подняться.
– Я одна, – всхлипнула она. Но звук ее рыданий растворился в огромном темном старом соборе.
Теплая волна залила сердце Мэри, она почувствовала, что дрожит, – казалось, ее пожирал изнутри огонь. Ненависть и ярость вытеснили в ее юном сознании веру в человека и в Бога.
Она выпрямилась, расправив узкие плечи, и выставила вперед подбородок, как бы бросая вызов несправедливой, жестокой судьбе – нет, она не поддастся отчаянью!
– Да будет так! – прокричала она.
И на сей раз ее крик отозвался эхом в каждом уголке.
Глава 49
Ханна Ринк постучала ложкой о край блюдца, пытаясь привлечь внимание мужа. Альберт перевел взгляд с книги на жену.
– Ты что-то сказала, Ханна?
– Я сказала, что беспокоюсь за Мэри. Она сегодня не в себе. Слишком уж тихая. И в церковь не пошла. Это в первый-то день поста. Покупатели поглядывают на нее с подозрением, потому что лоб у нее не помазан пеплом.
– Господи, Ханна, а чего ты ждала? Ведь у нее была назначена свадьба, и вдруг все сорвалось. Конечно, она расстроена. И я, между прочим, тоже, хотя мое настроение тебя не слишком волнует. Мы пропустили почти весь праздник, сидя тут и ожидая ее. А я рассчитывал набраться впечатлений. Может, даже для целой серии картин.
– Я считаю Вальмона Сен-Бревэна свиньей.
– Я бы этого не сказал. Ведь Мэри сама сказала, что неправильно его поняла. Сен-Бревэн наш лучший друг. Благодаря ему я получил еще двух клиентов. И потом, он обещал упросить Сазерака позволить мне осмотреть коллекцию.
– Что-то он не слишком торопится.
– Погоди. Был же карнавал, это не самый подходящий момент. У всех были свои дела.
– Да, но теперь-то все изменилось. В городе тихо, словно на кладбище. За весь день в магазин заглянуло человек пять.
– Так вот из-за чего ты печалишься?
– Я не печалюсь. Я тревожусь за Мэри.
– О Боже мой! – Альберт с раздражением уткнулся в книгу.
Ханна продолжала пристально смотреть на него. Через минуту он снова оторвался от чтения.
– Ханна, успокойся, – взмолился он. – С Мэри все будет в порядке. Она ведь не сидит тут с унылым видом, не так ли? У нее есть чем заняться. Разве сейчас она не у баронессы?
– У нее. Но она работает. В то время как ей нужен отдых, Альберт, как ты не можешь этого понять!
– Ну не знаю, я-то чем могу ей помочь? Если б знал, помог бы.
– Вот и я тоже.
Ханна Ринк заблуждалась в отношении Мэри. Ей была нужна именно работа. Сосредоточившись на ней, Мэри могла на какое-то время вырваться из замкнутого круга вины, гнева и самоуничижения, терзавших и угнетавших ее.
– Люстры из резного хрусталя, четыре штуки, есть? – спрашивала ее Микаэла.
– Есть. И еще четыре в другой комнате. Вы хотите продать их комплектом?
– Нет, конечно. Только по отдельности. Тогда они принесут вдвое больше денег… Далее. Пейзаж, написанный маслом, с изображением Луизианы, в резной позолоченной раме… Зеркало, тоже в позолоченной оправе, с мозаичной инкрустацией из эмали… Два колокольчика на шнурках, шнурки украшены вышивкой, с кисточками на концах, один голубой, с золотой кисточкой, другой…
По мере того как баронесса диктовала, Мэри добавляла в список одну вещь за другой. Они были заняты описью обстановки Дженни Линд. Баронесса собиралась устроить аукцион завтра же, пока память о Шведской Канарейке еще была свежа.
И надеялась получить с продажи вдвое больше того, что затратила на покупку всех этих вещей. А покупала она со скидкой, ссылаясь на то, что это делается для Дженни Линд.
Как и Ханна, баронесса заметила, что Мэри слишком погружена в себя, но ее это не встревожило. Значит, быстрее пойдет работа.
И действительно, они закончили уже к девяти часам.
– Теперь мы пойдем ко мне обедать, – сказала Микаэла. – Но прежде я хочу, чтобы ты, Мэри, выбрала что-нибудь для себя. Без тебя я со всем этим не справилась бы.
Мэри запротестовала было, сказав, что ничего особенного не сделала и благодарить ее не за что, но вдруг посреди фразы, произнесла:
– Я взяла бы тот зеленый диванчик, что стоял в гостиной.
– У тебя есть вкус. Очень неплохая вещица.
– Дженни Линд обычно отдыхала на нем перед концертом. И если не считать кровати, за эту вещь можно выручить больше всего.
Микаэла улыбнулась:
– Умница. Лично я не переношу сентиментальности.
Мэри медленно шла от остановки к Эдел-стрит. Ей страшно было идти домой – она боялась повторения кошмарных снов, нарушивших те немногие минуты забвения, которые были дарованы ей прошлой ночью.
Потом она увидела впереди Пэдди Девлина. Он стоял на углу, ожидая ее, и она замедлила шаги. Сейчас ей не хотелось говорить ни с кем.
Но Пэдди тоже заметил ее и устремился к ней навстречу.
– Может, вам не стоит идти домой, мисс Мэри. Вас там двое полицейских дожидаются. Вовсе не нужно говорить мне, что вы натворили. Я устрою вас в другом месте – в другом пансионе или, может, в отеле. Кой-какие деньги у меня есть.
– Не смешите меня. Я никаких законов не нарушала, и волноваться мне незачем. Я пойду и побеседую с полицейскими. – Мэри говорила твердо и бесстрастно. Но сердце ее бешено колотилось. Неужели Вальмон вознамерился преследовать ее. Как? Да как угодно. Он может говорить и делать все, что ему вздумается, и остановить его она бессильна.
– Ваше имя Мэри Макалистер?
– Да, господин полицейский. Зачем я вам понадобилась?
– Вы знаете женщину по имени Кэтрин Келли? Мэри едва не упала в обморок от облегчения.
– Да, знаю, – сказала она.
– Тогда мы попросим вас пройти с нами, мисс, для опознания останков. Она покончила с собой.
Мэри рухнула без чувств.
Луиза Фернклифф оставила Мэри записку. Она подписалась настоящим именем и аккуратно положила записку на подушку. Потом она осторожно легла на свежевыстиранную простыню – и покончила с собой в самый день Марди-гра.
Луиза постаралась не оставлять после себя беспорядка. Она подставила таз под левую руку, а потом рассекла ее от локтя до ладони заранее наточенным ножом.
Но из перерезанной артерии вытекло слишком много крови, и таз переполнился. Когда Мэри ввели в комнату, ее затошнило от запаха пропитанного кровью матраса.
– Вам плохо, мисс? Мэри сглотнула.
– Нет, – солгала она.
Полицейский поднял фонарь над кроватью. Кровь образовала только небольшое пятно. «Она совсем не красная, – вдруг подумалось Мэри. – А я всегда думала, что кровь красная». На Луизу она смотреть не могла.
– Это Кэтрин Келли? – настойчиво спросил полицейский.
Мэри заставила себя перевести взгляд и посмотреть. Ей хотелось крикнуть: «Нет, это не моя подруга. Моя подруга была полна жизни. А это только копия, восковая фигура». В этом мертвом теле совсем не ощущалось присутствия Луизы. Казалось, оно не может иметь к ней никакого отношения. Но Мэри кивнула – да, она может опознать покойную.
– Это Кэтрин Келли?
Мэри откинула с холодного лба выбившуюся прядь волос.
– Она просила меня звать ее Луизой, – сказала она. – Ее звали Луиза Фернклифф, и она по два часа в день пела гаммы.
– Вы хотите сказать, что это не Кэтрин Келли?
– Нет, господин полицейский, я вовсе не хочу этого сказать. Я заявляю, что это Кэтрин Келли.
Полицейский проводил Мэри в гостиную.
– Вот вам бумага. Подпишите, – сказал он. – Тогда я передам вам письмо, которое она оставила. Из него мы узнали ваше имя.
Мэри торопливо нацарапала свое имя.
С минуту она держала в руке письмо Луизы, боясь открыть его. Вдруг в нем написано, что во всем виновата она и, если бы она побеспокоилась и пришла Луизе на помощь, ничего не случилось бы.
«А если даже и так, – решила она, – что было, то было. Теперь я ничего не чувствую, кроме злости. Нет даже жалости к Луизе. Так с какой стати мне чувствовать себя виноватой?» Она надорвала тонкий конверт.
«Дорогая Мэри,
когда я сказала мистеру Бэссингтону о ребенке, он передал мне права на дом и сто долларов, чтобы избавиться от меня.
Пожалуйста, отправь меня домой на эти деньги. Адрес есть у миссис О'Нил. Ты моя лучшая подруга. Я постаралась оставить дом в порядке. Мне жаль, что я доставляю тебе столько неудобств, и нисколько не жаль, что я умерла.
С любовью,
твоя подруга Кэти Келли.
P.S. Деньги в жестянке с крысиным ядом. Никому не придет в голову заглянуть туда и украсть их до твоего прихода. Это золотая монета. Пожалуйста, не пробуй ее на зуб – она настоящая. Ха-ха. Купчая на дом тоже там».
Мэри сложила письмо.
– Мне нужно узнать, как отправить ее домой. Вы не могли бы помочь мне?
– Я дам вам фамилию гробовщика, который поможет.
– Спасибо. Мне хотелось бы поговорить с ним сейчас, если не слишком поздно.
Мэри прикрыла лицо Луизы носовым платком и ушла вместе с полицейским. С собой она унесла жестянку с крысиным ядом.
Утром она сказала аукционисту, что зеленый диванчик Дженни Линд не продается.
Это было в четверг, а в пятницу она дождалась, когда Пэдди и оба Рейли уйдут на работу, и сказала миссис О'Нил, что съезжает с квартиры. Ей хотелось избежать тягостных сцен прощания.
– Но куда же ты едешь, Мэри? – спросила вдова. – Кой-кому здесь это будет очень любопытно.
– Передайте мистеру Девлину, чтобы не искал меня. И в магазин ко мне не приходил. И не заговаривал, если повстречает на улице. Скажите ему… скажите, что я выхожу замуж.
Вдова посмотрела на окаменевшее лицо Мэри и больше вопросов не задавала.
Мэри было безразлично, что думает миссис О'Нил. И безразлично, что почувствует Пэдди Девлин. Пускай мучается. Он мужчина, так пусть расплачивается за то, что сделал с ней Вальмон Сен-Бревэн. За то, что сделал с Луизой мистер Бэссингтон.
Она жалела, что не в ее силах заставить расплатиться весь мир.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
Глава 50
Баронесса осталась довольна аукционом. Как она и предполагала, выручка от продажи значительно превысила первоначальную стоимость всей обстановки апартаментов Дженни Линд.
А Мэри была рада, что оставила себе диванчик. В пятницу его перевезли в ее домик-«дробовик» в Кэрролтоне. Она велела поставить его в гостиной, и комната моментально преобразилась, стала изящной и элегантной. Воображение Мэри заработало – она уже представляла себе, какую поставит мебель, какие развесит ковры, какую подберет обивку. Вместе с этим пробудившимся интересом лед в ее душе стал постепенно таять. Холодное, мертвое, немое оцепенение, в котором она пребывала последнее время, немного отступило.
Большинство участников аукциона тоже чувствовали себя в выигрыше. Хотя им и пришлось выложить кругленькие суммы, они получили то, что хотели: одни – предмет обстановки, принадлежавший знаменитой Шведской Канарейке, другие – превосходную красивую вещь. Ведь баронесса покупала для своей прославленной гостьи только самое лучшее.
Осталась довольна и Мари Лаво – жирандоль, купленная ею на аукционе, была последним штрихом, которого ей недоставало в том деле, что ей поручил Вэл. Она отправила ему в отель записку: «В моем доме. В четыре часа. Мари».
– Ты вел себя отвратительно, – отчитала она Вэла, когда он явился в назначенное время.
– О чем это ты? – быстро спросил он. Даже Мари, с ее широкой агентурной сетью, не могла знать о фарсе, который он разыграл перед этой Макалистер. А также о том, что воспоминание об этом не доставляло ему радости. Та, спору нет, заслужила урок, если вспомнить, как она пыталась заманить его в ловушку, и все же не следовало отвечать ей подобным образом. Лжеалтарь и лжесвященник были явным богохульством.
– Ты злоупотребляешь нашей дружбой и моим хорошим отношением, – заявила Мари. – Ты оставил мне письмо с инструкциями, будто я твоя прислуга, исчез на два месяца, а вернувшись, даже не соизволил повидать меня. Мне пришлось отправить к тебе посыльного.
Вэл низко наклонился, упершись руками в колени и подставив Мари спину.
– Отшлепай меня, – смеясь, сказал он, – Выпори меня плеткой. Ты права и еще раз права. Я провинился и прошу прощения.
Упершись каблучком ему пониже спины, Мари слегка подтолкнула его. Он пролетел через всю комнату и растянулся у камина, ударившись головой о черную металлическую решетку. Полы его камзола загорелись от углей в камине. Не сдвинувшись с места, Мари спокойно наблюдала, как он тушит пламя.
Вэл уныло усмехнулся:
– Полагаю, теперь ты чувствуешь себя вполне отомщенной. Мари улыбнулась в ответ:
– Вот теперь мы можем попить кофе, и я расскажу, что мне удалось для тебя сделать.
Разлив кофе по чашкам, она взяла со стола жестяную коробочку и достала из нее бумаги.
– Вот твой контракт на содержание Сесиль Дюлак, – сказала Мари, протянув ему документ. – Сумма более чем щедрая, гораздо выше той, что назначается в подобных обстоятельствах, но не такая баснословная, как предлагал ты. Остается лишь подписать и заверить у нотариуса. Сесиль согласилась, чтобы я выступила в роли гаранта. – Она выкладывала перед ним документ за документом. – Это договор на аренду дома на Сент-Питер-стрит, рядом с Рэмпарт. Как ты просил, он составлен на ее имя… Вот квитанции на покупку рабов… повозки… лошадей… годовую аренду конюшен… Это расписка в получении денег за мебель и обстановку… Письма от торговца в Париже, копии моих писем к нему… Квитанции за погрузку и перевозку… Это сумма, снятая с твоего счета в банке… А это выданное банком подтверждение о передаче мне той суммы, что ты оставил мне. Забери все это. Устала я от этой канцелярщины. А коробочка – подарок от меня. – Свернув бумаги в свиток, Мари сунула его в коробку.
Поймав руку Мари, Вэл поцеловал ее.
– Тысяча благодарностей, моя королева. Но ты упустила из виду одну вещь. Я просил тебя купить себе какую-нибудь безделушку от меня в подарок. – Глаза его смеялись. – Мне позволено будет хотя бы взглянуть на нее?
Мари приоткрыла ворот своего платья из красного набивного ситца. На шее ее было ожерелье из бриллиантов и изумрудов.
– Парижский торговец оказался чрезвычайно услужлив, – сказала она. – Карт-бланш, Вэл, надо выдавать чрезвычайно осторожно, даже если речь идет о старых друзьях. Разумеется, квитанцию, подтверждающую право владения, я оставлю у себя. – Мари поцеловала его в щеку. – Миллион благодарностей, Вэл, – добавила она. – Кстати, примерно столько стоит эта вещица во франках.
Вэл закашлялся.
– Полагаю, в таком случае мне позволят попросить еще одну чашку кофе.
Пока он пил свой кофе, Мари сходила на кухню и вернулась с большим бумажным пакетом.
– Его переслали с плантации еще до твоего приезда. По словам посыльного, ты сам так распорядился.
– Прекрасно. – Вэл допил кофе и, отставив чашку, развернул бумажную обертку. – Это рисунки, которые я привез с собой из Парижа, – сказал он. – Энгр, Прудон и Давид. Особенно мне нужен был Давид. – Он показал ей копию с портрета мадам Рекамье. – Вот так должна выглядеть Сесиль, – сказал он. – Ей придется найти хорошую портниху.
Мари резко вскочила, она была явно рассержена – брови ее были насуплены, углы рта изогнуты.
– Ну, это уж слишком, Вэл, мне этот маскарад не нравится. К чему эти переодевания?
– Да пойми же, Мари. Я ненавижу корсеты и кринолины. Они превращают женщину в манекен. Взгляни на эти рисунки. Всего пятьдесят – да нет, тридцать – лет назад женщинам было достаточно их естественной красоты. Посмотри на эту простоту и изящество. Теперь это называется стилем ампир. Именно в этом стиле я просил тебя подобрать обстановку. И одежда Сесиль должна соответствовать окружающим ее предметам.
Мари понимающе кивнула. Но брови ее все еще были насуплены.
– Это-то, Вэл, мне понятно. Содержанка должна во всем угождать своему патрону. Ты будешь Наполеоном, а Сесиль твоей Жозефиной – это уж как тебе будет угодно. Но ты не ответил на мой вопрос. Меня, в сущности, интересует не это. Я имею в виду тебя самого. До меня дошли кое-какие слухи. Что за комедию ты разыгрываешь нынче? Какие-то кружева на манжетах, бессмысленные пари на крупные суммы. Говорят, ты стал больше пить, шататься по маскарадам, бросаться деньгами. Ведь на самом деле ты не такой. Мне-то это известно. Зачем же ты выставляешь себя на всеобщее посмешище? Что это за новая игра?
Вэл побледнел. Вдруг стали заметны глубокие морщины на его лице – от ноздрей к углам рта и между бровями.
– Мари, ты делилась с кем-нибудь своими наблюдениями?
– Разве мы не друзья? Конечно же, я никому ничего не говорила.
Взяв ее за плечи, он заглянул ей в глаза.
– Клянусь, если б мог, я рассказал бы тебе обо всем, – сказал он. – Но я не вправе этого сделать. В моей жизни есть нечто, чего я не могу открыть даже тебе, могу лишь умолять: верь мне и храни мою тайну. Пусть меня считают самым непроходимым болваном в Луизиане, уверяю тебя, мне это необходимо. Я не могу объяснить тебе причину моего странного поведения. Прошу тебя как друга – прости мне мою скандальную репутацию и не переубеждай других.
Мари пристально глядела Вэлу в лицо. Перед ней был совсем другой человек, непохожий на того Вэла, которого привыкли видеть все, – в его взгляде читались решимость и преданность тому делу, которому он посвятил свою жизнь. «Настоящий мужчина», – подумала она и в который раз пожалела о том, что их отношения всегда будут только дружескими. Движениями сильных пальцев она разгладила морщины между его бровями.
– Мы можем доверять друг другу, – сказала она. Это прозвучало как клятва.
– Мэй-Ри, душечка, у меня к тебе срочное дело. – Первой посетительницей в это субботнее утро оказалась Жанна Куртенэ – теперь Жанна Грэм. Мэри была в магазине одна.
«Если она хоть словом обмолвится о Вальмоне или его портрете, я просто закричу, – подумала Мэри. – Это будет выше моих сил. Заору как оглашенная». Рана была еще свежа – со дня позорной свадьбы прошло всего три дня.
– Доброе утро, Жанна. Ты прекрасно выглядишь, – приветствовала она подругу.
– Да-да, это мне известно. Мэй-Ри, скажи, неужели это правда? Ты действительно купила дом в Кэрролтоне?
Мэри внутренне съежилась. Хотя она провела в своем доме всего одну ночь, он успел стать для нее убежищем, которое она не хотела делить ни с кем. Он был ее тайной. Одна Ханна была посвящена в нее.
– С чего ты взяла, Жанна? Та хихикнула:
– А ты хитрюга, Мэй-Ри! Это секрет, да? Так я никому не скажу.
– Как ты это узнала? Кто тебе сказал?
– Никто. У меня тоже есть свои маленькие тайны. Мне ужасно хотелось заполучить хорошенький диванчик Дженни Линд, но аукционист сказал, что он уже продан. Потом я увидела, как его грузят, и поручила слуге узнать, куда его отправляют. Я была полна решимости разузнать, кто покупатель и где он живет, и перекупить диванчик. Представляешь мое удивление, Мэй-Ри, когда выяснилось, что покупатель – ты. Да еще в Кэрролтоне. Расскажи мне о своем доме. Он большой? Когда ты купила его? С кем ты там живешь?
Мэри попыталась перевести разговор на другую тему.
– Он небольшой и самый обыкновенный, я и ночевала там всего раз, – быстро проговорила она. – Жанна, ты слышала о новой парижской моде? Все сходят с ума из-за перчаток голубого цвета – чудный тон, светло-голубой. Показать тебе?
Но Жанну было не так легко провести.
– Я хочу увидеть твой дом, Мэй-Ри. Ведь ты покажешь мне его, правда?
– Ну конечно, как только закончат отделку… О, а вот и Ханна. Ты ведь помнишь миссис Ринк, Жанна? – Она выразительно взглянула на Ханну: – Ханна, я тебе нужна сейчас? – Она задала вопрос по-английски, при этом стараясь говорить медленно, чтобы Жанна могла понять.
К сожалению, Ханна не уловила намека.
– Нет, не особенно, – сказала она дружелюбно.
– Отлично, – заявила Жанна. – Я хочу похитить у вас Мэй-Ри, миссис Ринк. Вы отпустите ее? – Она лучезарно улыбнулась Мэри: – Видишь, Мэй-Ри, мистер Грэм поднатаскал меня по-американски.
– Да, ты преуспела, – заметила Мэри.
– Поедем же поскорей. Мой экипаж ждет.
Мэри пришлось сдаться. Если уж Жанне что-то втемяшилось, она своего добьется любыми путями. Придется принимать незваную гостью.
– Я вернусь не позже чем через час, – пообещала она Ханне.
Коляска Жанны стояла перед магазином, она была темно-зеленого цвета, украшенная позолотой. На кучерском месте сидел слуга в точно такой же темно-зеленой с золотом ливрее; он отгонял кнутом мух, облепивших спины пары серых лошадей. Когда Жанна и Мэри вышли из магазина и ступили на тротуар, кучер, светлокожий молодой человек, соскочил со своего сиденья и открыл перед ними дверцы экипажа.
Жанна сунула голову внутрь экипажа.
– Милли, подожди где-нибудь, пока я не вернусь, – приказала она служанке.
Служанка выскочила из коляски и направилась в сторону Рыночной площади.
Жанна улыбнулась Мэри.
– Я вернула Миранду маме. Эту тоже зовут Миранда, но я предпочитаю звать ее по-другому. Хлопот с ней намного меньше, потому что она до смерти боится меня. – Весело хихикнув, Жанна забралась в коляску, а вслед за ней – Мэри. – В Кэрролтон, – скомандовала Жанна, задернув занавеску, чтобы кучер не мог их слышать. – Как тебе мой экипаж, Мэй-Ри? Правда, шикарный? Зеленый цвет – моя нынешняя страсть. Ты заметила? У меня и туфли, и отделка на платье тоже зеленые. Жаль только, что для прогулок в экипаже так мало поводов. Все предпочитают ходить пешком.
Мэри откинулась на спинку сиденья, приготовившись к обычной болтовне Жанны о моде и светских развлечениях.
Поэтому она была удивлена, когда та в отчаянии схватила ее за руку.
– Мэй-Ри, если б ты знала, как я несчастна! Ты должна мне помочь.
По словам Жанны, ее брак был настоящей катастрофой. Уилл Грэм не любил ее.
– Я всегда знала, что не смогу его полюбить, но мне и в голову не приходило задаться вопросом, любит ли он меня. Ведь все мои поклонники обожали меня. Я думала, он тоже. Но ему до меня нет никакого дела, Мэй-Ри, абсолютно никакого.
Мэри пыталась остановить подругу, но безрезультатно. Та настояла на том, что Мэри должна быть посвящена во все интимные подробности ее семейной жизни. Правда, первая неделя медового месяца прошла замечательно. Они все время провели взаперти, занимаясь исключительно любовью. Грэм относился к ней с восхищением – гладил ее кожу, ласкал груди, расчесывал длинные волосы. Но он никогда не ласкал ее в тех местах… в нижней части тела, хотя Жанна просила его об этом. Он удовлетворял исключительно свои потребности, а к ее мольбам оставался глух. Поначалу все шло как по маслу: он легко приходил в возбуждение и совершал свое дело с должной страстью. Часто по шесть или даже больше раз в день. То есть пока они проводили время взаперти.
Но через неделю он совершенно переменился. Дела стали интересовать его гораздо больше, чем она, его жена. Ему уже не нравилось, когда она садилась ему на колени и расстегивала на нем одежды, когда она зазывно ласкалась к нему. Теперь он приходил в ее спальню лишь три раза в неделю, причем в одно и то же время, в определенные дни – во вторник, четверг и субботу. И приступал к делу, даже не сняв ночной рубашки.
– Понимаешь, Мэй-Ри, он не любовью занимается, а только выполняет свои супружеские обязанности. Ему нужна не я, а ребенок, которого он ждет от меня. Все происходит по-быстрому: «Привет, Жанна», трах-трах-трах – и готово. Ни тебе поцелуев, ни ласк, ни игр. Ничего, что делалось бы ради меня. Это просто невыносимо. Разумеется, никакого сына я ему рожать не собираюсь. Знаешь, Мари Лаво по-прежнему причесывает меня. Так вот, она снабдила меня специальными снадобьями от беременности. Но она бессильна изменить характер моего мужа.
Мэй-Ри, ты ведь знаешь меня, какой я была всегда. Я так страстно ждала того дня, когда наконец узнаю об отношениях мужчины и женщины, когда рука мужчины коснется моего тела и я познаю любовь, буду упиваться ею всласть. Что ж, кое-что я действительно узнала. Я поняла, что была права в своем стремлении познать любовь, ощутить прикосновение мужских рук, тела. И теперь, когда я это узнала, мне страшно этого не хватает. Мне нужен мужчина, Мэй-Ри. Мне нужна любовь.
Мэри сжала руки Жанны. Она ничем не могла помочь подруге. Исповедь Жанны смутила Мэри, вызвав бурю в ее душе. Мэри пришлось призвать на помощь всю свою силу воли, чтобы отогнать собственные нерадостные воспоминания, – слишком мучительны они были.
Глянув в окошко экипажа, она увидела вывеску отеля «Кэрролтон». Слава Богу, они уже приехали.
– Тише, Жанна. Мы почти приехали. Я должна приоткрыть окошко и сказать кучеру, куда повернуть. Ведь ты не хочешь, чтоб он тебя услышал. – И, не дожидаясь возражений подруги, она приоткрыла окно: – Кучер! Прямо перед отелем поверните, пожалуйста, за угол, направо. Затем надо проехать еще квартал, а там я подскажу, где остановиться. – Она сжала руку подруги. – Мой дом прямо возле отеля, сейчас увидишь. – Голос ее звучал оживленно, она говорила с Жанной так, словно та была ребенком.
– Мэй-Ри, да тут просто замечательно! – взвизгнула Жанна, обследовав дом Мэри. Она осмотрела все до единой комнаты.
Мэри невольно обрадовалась похвале:
– Я думаю, дом и вправду будет замечательным – со временем. Я хочу прикупить еще кое-что из мебели, заменить некоторые вещи, например эти занавеси, сюда надо что-то поживее. Потом, может быть…
Жанна прервала ее:
– Да зачем? У тебя есть очаровательный диванчик Дженни Линд и в придачу такое огромное ложе, очень уютное. И матрас – совершенно новый, да? – И она подпрыгнула на нем.
Мэри отвернулась. Замечание Жанны вызвало в ее памяти воспоминание о старом матрасе – она словно снова увидела то страшное огромное кровавое пятно.
Жанна подошла к ней и, обхватив за талию, поцеловала ее в щеку, потом еще раз, и еще, и еще.
– Мэй-Ри, ты ведь моя подруга, верная, самая близкая, не правда ли? И то, что ты не живешь теперь с нами, для меня не имеет ровно никакого значения, я люблю тебя по-прежнему. А ты – меня, правда? Ты ведь не хочешь, чтоб я страдала. Ну скажи же, ты ведь этого не хочешь? – Тон у нее был вкрадчивый и капризный, как у маленького ребенка.
– Конечно, нет, Жанна. Мне ужасно жаль, что ты чувствуешь себя несчастной.
Последовал очередной град поцелуев.
– Я знала, что ты поможешь мне! – воскликнула Жанна, теперь это снова была взрослая женщина. – Поверь мне, это не доставит тебе никакого беспокойства, ты все равно бываешь здесь редко. Мэй-Ри, есть один человек, танцуя со мной, он все время шепчет мне на ухо разные комплименты, и он такой симпатичный и такой сильный. Я обещала ему подыскать место, где мы могли бы встречаться наедине, где никто не узнает нас.
– Нет! – Мэри оттолкнула подругу. – В моем доме вы встречаться не будете.
– Но, Мэй-Ри, мне некуда идти! Если я буду отсутствовать слишком долго, слуги заметят и накляузничают мистеру Грэму. И потом, Мэй-Ри, все мои деньги у него. Мне не на что купить такой укромный домик, как у тебя… Мэй-Ри, ты должна мне помочь, должна. Я просто сойду с ума, если не заведу любовника – красивого, высокого и сильного, который будет целовать мои губы, ласкать мое тело, прикасаться ко мне, сжимать в своих объятиях и…
– Перестань, Жанна, перестань, прошу тебя! Я сказала нет, значит, нет.
– Но ты же моя подруга, ты любишь меня.
– Люблю, но не настолько. Я не потерплю, чтобы мой дом превратился в обитель греха, чтобы от моей постели пахло мужчиной.
– Яс-сно, – змеиным шепотом заметила Жанна. – Ты хочешь, чтобы все вокруг были такими же ледышками, как ты. Уж от твоей постели мужчиной пахнуть не будет, кому ты нужна? Ты бревно, настоящее бревно, сухое и непрошибаемое. Ты даже внешне не похожа на женщину. Да кому придет в голову пожелать тебя?
«Вальмону Сен-Бревэну! – чуть было не крикнула Мэри. – Тому самому, которого ты так хотела заполучить, ан нет, не вышло». Но слова замерли у нее на губах. Потому что Жанна была права. Он вовсе не жаждал держать ее в своих объятиях, он хотел лишь унизить ее.
– Жанна, тебе лучше уйти. Я вернусь в город на конке. Нам больше нечего сказать друг другу.
– Может, ты передумаешь?
– Об этом не может быть и речи. Ни при каких обстоятельствах. Иди же. Я не отдам свой дом в твое распоряжение.
– Ты жестока и холодна, Мэй-Ри. Не знаю, почему я считала тебя своей близкой подругой… Жестокая ты и холодная. – Жанна вышла, хлопнув дверью.
Обхватив голову руками, Мэри съежилась на кровати. Ей не хотелось ни о чем думать.
И все же невольно она размышляла над случившимся. В конце концов, надо быть честной, с горечью думала она.
Ей ли судить Жанну? Ведь и с ней происходило то же самое – та же жажда любви, те же желания томили ее, Мэри. Ведь и ей хотелось, чтобы Вальмон обладал ею, ласкал ее.
По ее мнению, это была любовь, она внушала себе, что любит Вальмона. В то время как на самом деле была влюблена в того широкоплечего мужчину, которого увидела когда-то у фасада романтичного дома с колоннами. Разве это любовь? Никакая это не любовь.
И позже, когда они познакомились и она чувствовала, как у нее кружится голова от счастья и любви к нему, разве она не испытывала все эти чувства только потому, что, следя за движением его губ, воображала вкус их поцелуя? Разве ей не хотелось той же любви, о которой говорила Жанна? Ощущения обнаженного тела, прикосновений и возбуждения от прикосновений. Страсти. Вожделения. Удовлетворения животного инстинкта. Разве это любовь?
Он, вероятно, распознал того демона, который таился в моей любви, подумала Мэри. И дал мне то, что было нужно, – быстрое, лихорадочное животное спаривание самца и самки. Как козлы с козами на Ирландском канале. Я всю жизнь притворялась, что не вижу этого. Тоже мне, добродетельная леди! А в глубине души ничем от них не отличалась.
Она дрожала от самоуничижения.
Потом она закричала: «Нет!» – и приподнялась.
Не ее вина в том, что произошло с ней. Она вовсе не предавалась животной страсти. Она желала близости, это так. Желала ее тогда, у озера, под дождем. Но она устояла. А он предал ее, обманул, устроил эту лжесвадьбу.
Она ошибалась, говоря себе, что любит его. Лгала себе, можно сказать. Но эта ложь была неосознанной.
И как бы низменны ни были ее чувства, он не имел права воспользоваться ими столь коварным образом. Он сознательно совратил ее, воспользовавшись ее невежеством. И вдобавок посмеялся над ней. Его поступок отвратителен.
Ей было стыдно за свои чувства, но не за свои поступки. Это он повел себя недостойно. И стыдиться надлежало ему.
Мэри откинулась на спину. Голова ее покоилась на подушке Луизы.
– А что, если у меня будет ребенок? – произнесла она вслух; этого она опасалась больше всего. – Луиза, что же мне тогда делать? Завещать дом Жанне? – Она зарылась лицом в подушку. – О Луиза, боюсь, у меня не хватит мужества последовать твоему примеру. Мне так хочется жить!
Мэри никогда не видела Ханну Ринк в таком волнении.
– Я так рада, что ты вернулась. Я тут жду-жду тебя. Угадай, кто тут был, Мэри! Спорим, ни за что не угадаешь. Сесиль Дюлак. Она была здесь минут десять назад. Мэри, ты никогда не замечала, как она похожа на твою подругу Жанну Куртенэ? Что ты об этом думаешь?
Мэри кивнула:
– Видишь ли, дело в том, что мать Сесиль была любовницей Карлоса Куртенэ.
– Да что ты! Думаю, Альберту лучше об этом не говорить. Ты ведь его знаешь. В сравнении с ним я ощущаю себя этакой искушенной и снисходительной светской дамой.
– А что, Сесиль хотела получить свою долю от прибыли?
– Нет, напротив. Она заказала двадцать туалетов. И не просто платьев, а разных накидок, жакетов, шалей – всякой всячины в тон к платьям. При этом ее совершенно не интересует их стоимость. Деньги на все это ей дает какой-то мужчина. И за аренду дома платит он. Она идет на содержание. Пошла по стопам матери, полагаю… Представляешь, что это означает? Даже теперь, когда сезон окончен, у нас будет работа. И нам не придется закрывать мастерскую и увольнять швей. Подумать только, двадцать полных туалетов! У нас будет уйма денег.
– Это хорошо, я как раз собиралась купить кое-какую мебель.
– Правда, заказ несколько необычный. Придется ориентироваться не на образцы, а на рисунки.
Мэри сразу узнала папку Вальмона. Она прижала руку к горлу, чтобы унять бешеное биение сердца.
В конце концов, какое ей до этого дело? Сесиль далеко не дура и отдает себе отчет в своих поступках. Уж она-то не станет внушать себе, что по уши влюблена.
Глава 51
– Bonsoir, Michie,[26] – по-французски приветствовала его Сесиль.
Стоя в дверях, Вальмон любовался ею. Сесиль возлежала на диване в стиле ампир. Локтем левой руки она опиралась на два маленьких бархатных валика, а правая рука ее покоилась на боку, подчеркивая изящные контуры тела и свободную позу; босая правая нога была чуть приподнята.
На ней было платье из белого прозрачного шелка с глубоким квадратным вырезом и высокой, под грудью, талией. Вырез и фактура ткани максимально обнажали грудь, сквозь кисею ясно виднелись темно-розовые соски. Платье было с короткими, слегка взбитыми рукавами, со шлейфом, который можно было снимать; сейчас он был прикреплен к линии талии. Шлейф прикрывал бедра и колени Сесиль и изящными складками падал на пол.
Сбоку от дивана стояла высокая бронзовая подставка на трех ножках, а на ней – лампада с горящим ароматическим маслом.
Вся сцена до мельчайшей детали воспроизводила портрет мадам Рекамье кисти Давида.
Правда, Сесиль была гораздо красивей своего живописного оригинала, а ее черные шелковистые волосы тяжелыми волнами спадали с плеч на бархатные подушки дивана.
– Bonsoir, Сесиль, – поздоровался с ней Вэл. – Полагаю, теперь вы можете передохнуть. Как долго вам пришлось пребывать в этой позе?
Сесиль, вздохнув от облегчения, неторопливо расправила руки и ноги. Движениями она напоминала домашнюю кошку.
– Довольно долго, – ответила она. – Я рада вашему приходу.
– И я тоже. – Он окинул взглядом комнату, небольшую, прекрасно обставленную; золотистый, белый и красный цвета отлично сочетались друг с другом. Надо отдать должное Мари Лаво, она поработала на славу, и вкус у нее отменный. Эта комната вполне могла сойти за апартаменты императрицы Жозефины в Мальмезоне. Даже розы в расставленных повсюду вазах напоминали те, что росли в саду Жозефины.
Сняв фрак, Вэл бросил его на пуфик и опустился в глубокое мягкое кресло.
– Я бы выпил бокальчик разбавленного водой абсента, – попросил он.
Сесиль встала. Перебросив шлейф через руку, она направилась к двери в задней стене.
– Зачем же делать это самой? Вызовите слугу. Полагаю, Мари не забыла позаботиться о прислуге.
– Сегодня, в наш первый вечер, я всех отпустила. Нам лучше побыть наедине, все, что надо я принесу вам сама.
Вэл улыбнулся:
– Как вам будет угодно. Тогда принесите, пожалуйста, бутылку абсента и кувшин воды. Меня сегодня что-то одолела жажда.
Сесиль отправилась выполнять поручение. Ее походка тоже заслуживала того, чтобы быть запечатленной в каком-нибудь произведении искусства.
Она вернулась с подносом, на котором стояли миниатюрный графинчик с зеленой жидкостью и серебряный кувшин с водой. А также хрустальный бокал и огромная тарелка дымящейся красной фасоли с рисом.
– Сегодня понедельник, – сказала Сесиль. Улыбнувшись ему, она поставила поднос на низкий столик по правую руку от Вэла и плавно опустилась на колени. Движения ее рук, смешивающих абсент с водой, были полны изящества. Сложив ладони чашей, она подала бокал Вэлу. От этого ее полные груди слегка приподнялись и наполовину обнажились.
– Очень мило, – сказал Вэл, взяв бокал из ее рук. – Сесиль, я хочу, чтоб вы знали, чего я хочу от вас. Устройтесь поудобней и выслушайте меня. Мои слова могут вас удивить.
– Не думаю, миши. Я получила хорошее образование в том, что касается мужских прихотей. – Во взгляде Сесиль, устремленном прямо на него, не было и тени кокетства.
Вэл поморщился:
– Что касается меня, то я понятия не имею, как следует содержать любовницу. И не собираюсь этому учиться. Мне нужно лишь одно, Сесиль: своего рода лежбище, место, где бы я мог отдохнуть, ничего не планируя, не размышляя, не поддерживая светскую беседу. В моей жизни, как в жизни любого человека, недостает красоты, гармонии, покоя. И вкладывая деньги в этот дом, я ожидаю обрести это здесь.
– Я поняла вас, миши.
– Прошу вас, ради Бога, прекратите меня так называть. Меня зовут Вальмон. Или Вэл, если угодно.
Сесиль была удивлена.
Еще больше она удивилась, когда он, взяв вилку, спросил ее, почему она ничего не принесла для себя.
– Я уже поела, – ответила она.
– А вы любите поесть? – с любопытством спросил Вэл.
– Да нет, не особенно.
«Зачем ему это?» – гадала Сесиль.
– Очень жаль. Еда – отличная штука. – Сам-то он явно был не прочь поесть. Он живо расправился с фасолью и рисом.
– Не хотите еще, миш… Вальмон?
– Попозже, может быть. Все было очень вкусно. Готовила Мари?
– Да. Я не люблю готовить.
Вэл усмехнулся:
– Я почему-то так и думал. А чем вы любите заниматься, Сесиль? Вас интересует что-нибудь?
– Зачем вам это знать?
– Мы собираемся проводить довольно много времени вместе, и мне хотелось бы узнать вас получше.
– Я ваша любовница, месье. Красивое украшение в вашем царстве гармонии в стиле ампир. Моя задача – всячески вас ублажать. Зажигать вам сигару, подавать напитки, возлежать на этом вашем диване, удовлетворять любые ваши сексуальные желания… Но мои мысли и чувства вам не принадлежат, я не отдам их вам на потеху. Для вас я – роскошная изящная безделушка, и только.
Вэл был поражен спокойствием, с которым Сесиль это произнесла, и оскорблен равнодушием, с которым она отнеслась к его интересу к ней. Его с самого начата заинтриговала и пленила ее надменность. Но он полагал, что после подписания контракта ее отношение к нему изменится.
Он задумчиво почесал подбородок. В конце концов, чего он ожидал? Обрести здесь этакий оазис? Подобие семейного очага, но без тех обязательств, которые налагает на мужчину брак? Красивую, волнующую женщину, которая бы обожала его, не требуя ответного чувства? Ему пришло в голову, что, в сущности, он не знает ответа на эти вопросы. Приняв решение создать вокруг Сесиль обстановку, которая удовлетворяла бы его эстетическим потребностям, он не задумывался о том, как сложатся их отношения. Ему было нужно, чтобы эта связь подкрепила его репутацию светского повесы, а дом на Сент-Питер-стрит служил бы местом, где он мог бы отдохнуть от своей роли, побыть самим собой.
Он посмотрел на свою надменную любовницу:
– Вы говорите по-английски, Сесиль?
– Вполне достаточно.
– Так вот, говоря по-английски, раз уж мы впряглись в это дело, по-видимому, придется довести его как-нибудь до конца.
«Довести до конца» было не совсем точным определением той системы отношений, которая быстро установилась в игрушечном домике на Сент-Питер-стрит. Сесиль по большей части жила собственной жизнью. Вэл ночевал там лишь от случая к случаю. Теперь, когда сезон окончился, он редко наведывался в город, уделяя все внимание плантации. Много забот было связано со сбором урожая сахарного тростника, к тому же надо было готовиться к летнему вояжу по «подземной железной дороге». Каждую неделю или десять дней он покупал на аукционе негров и отправлял их в Бенисон.
После аукциона он всегда отправлялся на Биржевую аллею, в залы фехтования испанского учителя Пепе Лулла, и тренировался в течение нескольких часов. Фехтование было нынче в моде, к тому же оно как нельзя более соответствовало роли страстного поклонника поединков, которую играл Вэл. Упражнения со шпагой также помогали Вэлу сохранять форму – ему вовсе не улыбалось быть раненным на какой-нибудь нелепой дуэли.
Потом он старался показаться на петушиных боях или в игорном доме, в театре или на бирже. Он появлялся там в наимоднейших парижских туалетах, во всем своем павлиньем великолепии.
К полуночи, устав от «трудов», он обычно отправлялся к Сесиль. Он намеренно выставлял напоказ эту связь, делая вид, что ему доставляет удовольствие жгучая зависть светских приятелей.
Когда он приезжал к Сесиль, его уже ждал подогретый коньяк. Первый бокал он выпивал залпом, как лекарство, чтобы избавиться от гадкого ощущения, которое вызывал в нем проведенный в свете вечер.
Затем следовал кофе, и опять коньяк. На сей раз он потягивал его уже не торопясь, чувствуя, как накаленные до предела нервы постепенно расслабляются под воздействием красоты и покоя. Иногда он говорил с Сесиль. Но бывало и так, что, поздоровавшись и справившись о ее самочувствии, он подолгу – с час или даже больше – не произносил ни единого слова.
Чувствуя, что ему нужен покой, Сесиль сидела тихо.
Он всегда заставал ее в превосходной форме – ухоженной, красиво одетой, источающей волнующий аромат, и садилась она всегда так, чтобы свет массивного серебряного канделябра освещал ее полностью и Вэл мог свободно любоваться ею.
Его молчание и частые отлучки мало заботили Сесиль. Ей хватало собственных забот – было над чем подумать и чем заняться. Она поставила своей целью извести семейство Куртенэ, а главное, Жанну. Жанна узнала о связи Вэла с Сесиль после первого же его визита к любовнице. Об этом ей сообщила Мари Лаво. И теперь, каждый раз, когда Мари приходила причесывать ее, Жанна требовала все новых и новых подробностей, и Мари «неохотно» делилась с ней сведениями о том, как Сесиль с помощью Вэла процветает во грехе. Именно Мари распространяла слухи – по большей части ложные – о бурной сексуальной жизни этой парочки.
А потом Мари столь же щедро делилась новостями с Сесиль, передавая ей полные ярости и ревности замечания, которые по этому поводу отпускала Жанна. Сесиль была на седьмом небе – ей хватало пищи для злорадства на целую ночь.
Иногда она думала о Вэле. Он интересовал ее, потому что был замкнут, подобно ей, и представлял для нее такую же загадку, как и она для него.
Он был неизменно внимателен – Сесиль это поражало. Он всегда уведомлял ее о своих посещениях по меньшей мере за двенадцать часов вперед. И ей, в отличие от большинства содержанок, не приходилось проводить время в постоянном ожидании его визита.
Не обделял вниманием он и мать Сесиль, время от времени посылая ей какую-нибудь безделушку, цветы или конфеты. Его заботливость удивляла Сесиль, она не укладывалась в рамки ее представлений о подобных отношениях. Но ей было достаточно того, что каждый подарок Вэла делал ее мать счастливой на день-два. Высшей награды для Сесиль не было – она обожала мать.
Вэл всегда спрашивал ее согласия разделить с ним постель, хотя оба знали, что при подобных обстоятельствах отказ может быть вызван только месячными. Секс для Сесиль был сферой, где она могла выразить свою благодарность Вэлу за щедрость и внимание, которое он проявлял по отношению к ней и особенно к ее матери. Сесиль с детства усвоила науку угождать мужчине в постели. Ее тело было податливым и сильным, словно у танцовщицы, ее пальцы наизусть знали все точки возбуждения у мужчин, и она без труда открыла их на теле Вэла. Она всегда понимала, когда ему нужно расслабиться, а когда, наоборот, распалиться, что следует сделать, чтобы продлить или ускорить его наслаждение. Она умела и раздразнить, и уступить его натиску. А порой искусно перемежала то и другое, распаляя его до такой степени, что он совершенно переставал владеть собой. Она выполняла любое его желание и, если определенные ласки и позы ему не нравились, раз и навсегда исключала их из любовных игр. Зная, что ее завораживающая красота действует возбуждающе и на плоть, и на сознание Вэла, она старательно умащивала свое тело, опрыскивала его духами, украшала и выставляла напоказ перед ним. То шепча, то громко вскрикивая, переходя от нежных слов к площадной брани, а временами сочетая все это, она никогда не повторялась, оставаясь неизменно загадочной и непредсказуемой. С каждым разом она казалась ему все более волнующей.
Сесиль была гением сексуальности, воплощением самых разнузданных фантазий мужчины.
И все же…
Когда Сесиль разжигала в нем страсть поцелуями и ласками, пуская в ход рот, язык, руки, зубы, ногти, соски, Вэл чувствовал себя одиноким. Сесиль лишь изображала страсть, хотя в артистизме ей нельзя было отказать. И даже на вершине восторга, когда буря бешеного экстаза достигала кульминации, он всегда ощущал в сердце леденящий холод одиночества.
Он говорил себе, что не имеет права требовать от Сесиль большего. Он получал то, чего искал, – убежище и превосходную партнершу. Он не просил любви, потому что в Америке любовь белого к цветной или наоборот оканчивалась трагедией для обоих.
Неделя следовала за неделей, а его не оставляло смутное, безотчетное ощущение разочарования. В конце концов он понял, чего ему недоставало, – он тосковал по уюту. Этот великолепно обставленный дом казался безжизненным, он был музеем в стиле ампир, лишенным человеческого тепла. Его не было даже в жарких объятиях Сесиль.
Вэл стремился к мирному покою совместной жизни, но находил лишь возможность помолчать в одиночестве. Ему недоставало смеха, споров, бесед, откровенности, понимания, может быть, даже размолвок. Человеческого участия, одним словом. Совершенство таило в себе холод и мрак.
Однажды Сесиль угостила его гумбо, и Вэл вспомнил, как ел такой же на Рыночной площади. Та похлебка была необыкновенно вкусной – Вэлу в жизни не приходилось пробовать что-либо подобное в Новом Орлеане. Это воспоминание навело его на мысль, что, в сущности, он тосковал потому славному времени, которое провел с Мэри Макалистер, по их бесхитростному общению, полному сюрпризов.
Он смеялся над самим собой. Приложить столько усилий, чтобы отомстить этой девке, и все для того, чтобы в итоге она все равно взяла вверх. Он отдал бы все на свете, чтобы на месте утонченной Сесиль, в соблазнительной позе возлежащей на полированном диванчике стиля ампир, оказалась Мэри с ее наивностью и серьезным любопытством, Мэри, ступающая прямо в грязь, потому что залюбовалась в эту минуту красками неба.
Ах, какую шутку сыграла с ним жизнь, а ведь он, Вальмон Сен-Бревэн, немало поездил и повидал, был неплохо образован, обладал утонченным художественным вкусом!
Сейчас Вэл как никогда остро ощущал, какая, в сущности, забавная штука жизнь. Он смеялся над собой, и смех действовал на него исцеляюще. Он не стыдился своей роли светского хлыща, она лишь забавляла его. И миф о богатой невесте из Чарлстона был сочинен им как занятный фарс, не имеющий никакого отношения к истинному Вальмону Сен-Бревэну, никогда не охотившемуся за чужим состоянием. Правда, игра ему нравилась, но главным все же было другое – его дело, его работа на «подземной железной дороге». Но при всей серьезности своей миссии он не терял способности видеть смешные стороны собственной жизни.
Он смеялся над собой и наслаждался комичностью ситуации, он смеялся, потому что смех придавал ему сил.
Глава 52
В то время как Вэл все сильнее и сильнее осознавал мертвящую безжизненность музея на Сент-Питер-стрит, для Мэри ее домик в Кэрролтоне постепенно становился настоящим убежищем.
У нее никогда не было собственного дома, не было даже комнаты, где она чувствовала бы себя полновластной хозяйкой. Прошло немного времени, и мысль о доме, с появлением которого было связано столько печальных воспоминаний, стала вызывать у нее радость. Все началось с диванчика Дженни Линд. С его появлением остальная мебель в гостиной стала казаться безликой и громоздкой, и Мэри зажглась идеей обставить комнату заново.
Со временем этот интерес перешел в решимость, а потом в страстную одержимость. Ее жизнь стала разнообразнее и интереснее. Она советовалась с мебельщиками и антикварами, обойщиками, поставщиками и распорядителями аукционов, она многое узнала и многому научилась, обзавелась новыми друзьями.
Встречалась она и со старыми. Каждый день она являлась на окраину рынка и там, в лавках старьевщиков, копалась в куче ломаной, разрозненной, выброшенной как хлам или просто краденой домашней утвари. Однажды, торгуясь из-за одной медной лампы, почти целой, она услышала позади веселое хмыканье; голос, показавшийся ей знакомым, произнес:
– Скажите, что, если он не уступит, вы запустите этой лампой ему в голову.
Этим человеком оказался Джошуа, тот самый огромный негр-грузчик, который отвел ее когда-то к вдове О'Нил.
Мэри так обрадовалась, что чуть не кинулась к нему в объятия.
– Джошуа, как я тебе рада! Как ты поживал все это время? Давай выпьем где-нибудь кофе вместе.
– Нет, мисси, вы же знаете, это не принято. Мы с вами не можем сидеть за одним столиком. Идите на пристань, а я принесу вам кофе туда, словно я вас там должен был встретить.
– Но обязательно принеси кофе и себе.
– На этот счет не опасайтесь, мисси. У Джошуа припасено кое-что получше.
Они разговаривали чуть ли не целый час. То есть говорила в основном Мэри. С тех пор как Джошуа сдал ее с рук на руки полицейскому на Кэнал-стрит, в ее жизни произошла масса событий. Она рассказала ему об ирландском квартале и мадам Альфанд, о своем магазинчике, о Ханне и Альберте, о баронессе. Лишь о Вальмоне не сказала ничего.
Наконец она рассказала ему о домике. И о Луизе.
И не докончив фразы, расплакалась. Она плакала и плакала, дав волю слезам.
– Мисси… – Джошуа был встревожен.
– Нет, нет, – всхлипывала Мэри, – не беспокойся. Я так рада, что могу выплакаться. Все это время я не плакала, хотела – и не могла.
Постепенно «дробовик» оживал: он наполнился светом, заиграл красками. Все свои сбережения Мэри тратила на новую мебель, коврики, ткани. Она все реже и реже вспоминала то время, когда мечтала принести в дар Вэлу свое приданое. Иссушающая ненависть к нему и всем, кто причинил ей страдания, отступила на второй план, все ее помыслы были о доме. Она даже стала опять похожа на прежнюю Мэри, веселую и жизнерадостную. Но только внешне.
Внутренне она изменилась, стала осторожной и замкнутой. Она дала себе обещание никогда и никого не подпускать слишком близко – чтобы никто и никогда не мог снова причинить ей боль. Она была одинока – что ж, так спокойнее. Ей хватало ее работы и дома.
В апреле, когда сады на площади Джексона были разбиты, баронесса отбыла во Францию. Она подарила Мэри те сорок книг, что составляли ее библиотеку в Новом Орлеане, а в придачу – книжный шкаф красного дерева, в котором эти книги хранились.
Отъезд баронессы не особенно расстроил Мэри. Время, которое она тратила, распивая с баронессой кофе в конце рабочего дня, теперь можно было посвятить устройству дома.
И маленькому садику позади него. Дни становились длиннее, и, возвращаясь из магазина домой, она могла еще немного поработать в саду. Она подрезала вьющуюся зелень и ветви деревьев, свисающих вдоль ограды, делала новые посадки. Постепенно площадка перед домом преобразилась.
Ей хотелось сделать так много, но времени не хватало. Несмотря на то что сезон окончился, в магазине было много работы. Выкраивая посреди дня час, чтобы походить по лавкам в поисках обстановки, Мэри чувствовала себя преступницей. В среду после полудня она была свободна от работы, но это время было забито до отказа неотложными встречами, беседами, осмотрами. Она очень дорожила своими средами. Ей нравилось быть все время занятой, потому что тогда, возвратившись домой, она падала, валясь с ног от усталости, и тут же засыпала.
Двадцатого апреля была Пасха. С утра Мэри работала у себя в саду, а после полудня – в магазине. Звон колоколов напомнил ей о монастырской школе, но она отогнала эти воспоминания. У нее не было ни времени, ни желания соблюдать религиозные обряды. Бог не пришел ей на помощь, когда она так нуждалась в нем. Теперь она могла обойтись без него.
Ей не нужен был никто.
Когда Вальмон явился наконец за своим портретом, Альберту пришлось послать ему шесть записок с напоминанием, он справился о Мэри.
Мэри в магазине не было, как сообщил ему Альберт. По средам после полудня она не работала. Это известие разочаровало и вместе с тем обрадовало Вэла. Встретив Мэри, он не знал бы, что ей сказать. Однако ему хотелось повидать ее.
Альберт сам проследил за погрузкой портрета в фургон, который должен был отвезти картину в Бенисон. Пока они стояли возле фургона, наблюдая за работником, Альберт напомнил Вэлу о его обещании поговорить со своим банкиром – не может ли Альберт ознакомиться с коллекцией живописи семьи Сазерак.
– Бог мой, я и забыл об этом, мистер Ринк. Вот что, я отправлюсь сию же минуту, пока это снова не вылетело у меня из головы. Мои люди знают, куда отвезти портрет. – И он торопливо сошел вниз по ступенькам. Слишком много воспоминаний было связано с этим магазином, и Вэлу не хотелось задерживаться тут.
Жюльен Сазерак обрадовался приходу Вэла. Он как раз собирался продать ему еще одну лошадь.
– Кобыла, Вальмон, самая что ни на есть чистокровная – сплошные чемпионы в роду. А у тебя уже есть жеребец – Снежное Облако. Настала пора перейти от покупок к разведению собственной породы чемпионов.
Вэл поболтал с Жюльеном о генеалогии кобылы, поторговался и в конце концов купил ее не глядя. Он недолюбливал Жюльена, однако доверял ему. О просьбе Альберта он вспомнил, лишь когда Жюльен, наполнив бокалы, чтобы обмыть сделку, провозгласил тост: «За фамильный герб Бенисона и за продление рода».
Альберту повезло, сказал Жюльен. Лучшее время для осмотра коллекции выбрать было трудно – и сестра, и мать Жюльена в отъезде, они гостят у брата Жюльена, на его плантации. Он нацарапал на клочке бумаги записку для дворецкого.
– Передайте это вашему приятелю, Вэл. Записка послужит ему пропуском.
– Жюльен, будьте другом, отправьте ее с кем-нибудь из ваших посыльных. Дело в том, что я обещал сегодня преподать лучшему ученику Пепе Лулла урок вежливости.
Жюльен вызвал секретаря и отдал распоряжения по поводу записки. Затем он отправился вместе с Вэлом на Биржевую аллею посмотреть на поединок. По его мнению, Вэл был самодовольным и напыщенным ослом, однако надо отдать ему должное – фехтовальщик он отменный.
Жюльен ошибся. Селест Сазерак и вправду гостила у брата, а его мать, Анна-Мари Сазерак, в последнюю минуту переменила планы и решила остаться. Уже несколько лет она постоянно пребывала в депрессии, и даже поездка к сыну не радовала ее. Она предпочитала полубессознательное состояние покоя, которое давали ей увеличивающиеся с каждым днем дозы опия.
Она не могла понять, что нужно в ее доме этому Альберту Ринку. Когда тот объяснил, что явился, чтобы ознакомиться с коллекцией картин ее мужа, она заметила, что муж давным-давно умер.
Альберт проявил чудеса терпения, хотя ему не терпелось увидеть затененные прямоугольные полотна на стенах. У него руки чесались дернуть за шнур, чтобы открыть шторы и впустить побольше света.
Он уже в сотый раз объяснял этой даме, кто он такой и какой запиской снабдил его ее сын, Жюльен, растолковывая цель своего визита.
Анна-Мари Сазерак пыталась сосредоточиться. В конце концов она поняла, о чем говорит этот человек.
– Ах вот что, – сказала она, – вы хотите посмотреть на полотна Фрагонара.
Альберт чуть не упал в обморок. Он и мечтать не смел увидеть здесь работы больших мастеров. Он постарался вспомнить по-французски все что мог и, потерпев неудачу, энергично закивал.
Движением руки мадам Сазерак указала на альков у камина:
– Да вот одна из них.
Альберт протянул руку к шнуру портьеры.
– Нет! – вскричала мадам Сазерак. – Не делайте этого, от света у меня болят глаза.
И вновь Альберту пришлось призвать на помощь всю свою выдержку и дар убеждения. Опустившись на колени, он взмолился и в конце концов добился своего.
К тому времени уже стемнело и свет был не столь ярким. Мадам Сазерак щурилась и моргала, однако закрывать глаза необходимости не было.
Альберт глубоко вздохнул, успокаиваясь. Затем он повернулся к окну спиной и взглянул на окружавшие его сокровища.
Вся мебель здесь была старой: дерево потускнело, а краска и позолота поблекли. Бархатная и парчовая обивка стульев и диванов повытерлась. Но от этого мебель только выигрывала – она словно светилась изнутри. Хрустальные подвески на люстре засверкали и ожили, будто обрадовавшись свету, а цветы на старинном ковре цвели, словно настоящие. Но Альберт ничего этого не замечал. Он был словно загипнотизирован, – открыв рот, он смотрел на самое великолепное полотно, которое ему когда-либо приходилось видеть.
– По-моему, вы говорили о Фрагонаре, месье. То, на что вы сейчас смотрите, – Гойя. Он никогда не принадлежал моему мужу.
– Прошу вас, мадам, пожалуйста, дайте мне полюбоваться им. – Голос Альберта дрожал от благоговейного восторга.
– Но вы сказали – Фрагонара. А сами даже не взглянули на его картины. – Она потянула Альберта за рукав. – Вон они. Идите же осмотрите их, и поскорей. Я хочу отдохнуть.
Но Альберт остался стоять, как прикованный. Он все любовался и любовался картиной, словно старался вобрать в себя каждый дюйм, внимательно изучая каждый оттенок, деталь, мазок кисти великого мастера. Пытаясь отвлечь мадам Сазерак от упорного стремления увести его к Фрагонару, он уцепился за первую попавшуюся деталь:
– Мадам, посмотрите на руки этой женщины. Я имею в виду пальцы. Художник намеренно выставляет их напоказ, чтобы мы обратили на них внимание. Они необычны, почти неправдоподобны, можно сказать. Кажется, таких не бывает в природе. Однако я знаю, такие пальцы встречаются. У девушки, которая работает в магазине моей жены, – в сущности, они партнеры – так вот, у нее точно такой же удлиненный мизинец.
Она перестала тянуть его за рукав. Альберт был доволен своим успехом. Но тут он почувствовал, как рука мадам Сазерак повисла на его локте, ее маленькое тело обмякло и соскользнуло на пол. Она была в глубоком обмороке.
– Ах вы чудовище! Что вы сделали с мадам! – Дворецкий, стоявший на своем посту у дверей, бросился к хозяйке. – Мишель! – закричал он. – Рене! Валентин! Сюда, скорее!
Альберт поспешил ретироваться.
Мэри чистила купленную ею в тот день серебряную чашу, когда раздался стук в дверь. Полагая, что это привезли другую ее покупку – шкафчик для спальни, она распахнула дверь, не спросив имени гостя.
Перед ней стоял незнакомец, хорошо одетый мужчина. Мэри попыталась захлопнуть дверь, но он ее опередил, удержав дверь рукой.
– Прошу вас, мадемуазель, я не причиню вам вреда. Мне нужно всего лишь переговорить с вами. Я даже не войду внутрь.
Был уже девятый час, темно. Не самое подходящее время для разговоров с незнакомым мужчиной – пусть даже прилично одетым – для девушки молодой и к тому же живущей одиноко. Мэри навалилась на дверь всем весом.
– Мадемуазель, умоляю вас. Понимаю, время позднее, но я объясню вам…
Он не успел – внезапно из темноты выступила фигура маленькой женщины в черном.
– Дай мне взглянуть! – вскричала она.
Она поднырнула под его руку и бросилась к Мэри. Ее крошечные руки вцепились в рукава, в талию Мэри, ощупывая ладонь, которой Мэри придерживала дверь. Пальцы старухи, словно насекомые, ползали по руке Мэри.
– Это она! – воскликнула старуха. – Я знала, знала! Моя дорогая, милая моя Мари. – Хватая Мэри за руки, плечи, шею, она пыталась обнять ее.
Мэри испугалась – старуха показалась ей страшной, этакий костлявый призрак в черном одеянии, с глазами, горящими, словно угли, на смертельно бледном лице.
Мэри отпрянула. Дверь распахнулась.
– Maman, Maman, прошу вас, успокойтесь. – Мужчина удерживал свою мать, рвущуюся к Мэри. – Мадемуазель, умоляю вас, скажите моей матери, что она ошибается.
– Вы ошибаетесь, мадам, – поспешила сказать Мэри. – Пожалуйста, поверьте мне. Вы ошиблись домом. Я не знаю ни вас, ни вашего сына.
– И имя, – стенала женщина, – имя совпадает.
– Имя довольно распространенное, Maman. Послушайте меня. Вы в состоянии слушать? Пожалуйста, Maman, сосредоточьтесь. Я задам этой девушке вопрос. Вслушайтесь в то, что она ответит.
Мэри видела, что мужчина чуть не плачет.
– Как вас зовут, мадемуазель? Мэри Макалистер?
– Да. Зачем вам мое имя?
– Простите меня. Это все моя мать. Она принимает вас за кого-то другого. Скажите ей, пожалуйста, ведь ваша мать жива?
Мэри почувствовала холод в затылке.
– Моя мать скончалась, месье. Я так и не успела ее узнать. Она умерла при родах.
– Мари! – стенала женщина в тисках рук своего сына. Она протягивала руки навстречу Мэри.
Мужчина притянул свою мать к себе.
– Мадемуазель, прошу вас, ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос. Вы не знаете девичьей фамилии вашей матери?
– Нет, фамилии я не знаю. Это ужасно, месье. – Мэри чувствовала, что сейчас упадет в обморок, и торопливо продолжила: – Может быть, я смогу вам помочь. Вы хотите того же, что и я: узнать о моем происхождении. Дело в том, что мать оставила мне наследство – деревянную шкатулку. На ее внутренней крышке выгравировано имя – Мари Дюкло, адрес монастыря урсулинок и название Нового Орлеана по-французски.
– Боже милосердный, – выдохнул мужчина, – так это правда. – Открыв рот, он во все глаза смотрел на Мэри.
Старушка уже не билась в его объятиях.
– Говорила я тебе, Жюльен, так нет, ты и слушать не хотел. Видишь, чего ты добился своим упрямством, напугал Мари до смерти. – И она улыбнулась Мэри, и ее лицо, лицо менады, изборожденное морщинами, внезапно осветилось и стало красивым. – Деточка моя, – ласково сказала она, – я твоя бабушка, которая так давно ищет тебя.
– Не хотите ли войти в дом? – предложила Мэри. От растерянности она произнесла первую пришедшую на ум фразу.
Глава 53
– Я подам кофе, – сказала Мэри, когда ее бабушку усадили на диванчик Дженни Линд. Жюльен сел рядом с матерью – он во все глаза разглядывал Мэри.
– Нет, дорогая моя, спасибо. Жюльен, ты видишь, какие прекрасные манеры у нашей Мари? И по-французски как хорошо говорит! Мари, у тебя прекрасные манеры. Я бы выпила стакан воды.
Мэри вопросительно посмотрела на Жюльена:
– А вы, месье?
– Что? Ах да, спасибо, спасибо, мне тоже воды.
Мэри отправилась в свою маленькую кухню – она не успела вымыть руки после чистки серебра. Затем она налила воды для гостей – своих первых гостей в этом доме.
Вернувшись в гостиную, она поставила стакан с водой на столик возле своей бабушки.
Жюльену она подала чашку.
– У меня всего один стакан, – сказала она, – я ведь живу одна.
– Всего один стакан, – эхом отозвалась бабушка. – Бедная моя козочка.
Мэри выпрямила спину. Она вовсе не собиралась жаловаться на бедность. В конце концов, они явились без приглашения. И никаких особых чувств она к ним не испытывала. Слишком поздно все это.
– Полагаю, нам лучше начать с самого начала, – сказал Жюльен. – Я ведь даже не представился. Мари, я – Жюльен Сазерак. Если угодно, дядя Жюльен.
Сазерак, значит. Мэри начала было что-то говорить, но передумала:
– А меня, месье, зовут Мэри, не Мари.
– Нет, нет, – сказала Анна-Мари Сазерак. – Мари. Первую дочь всегда называют Мари. Твою мать звали Мари-Кристин. Ты будешь жить в ее комнате, в комнате моей Мари. И счастье снова вернется в наш дом. Пожалуйста, Мари, пойдем домой. – Она протянула руку к Мэри. Но Мэри не сдвинулась с места.
– Мадам, можно задать вам один вопрос?
– Разумеется, Мари.
– Нет ли среди ваших родственников некой Селест Сазерак, дамы среднего возраста?
– Ну конечно, это моя дочь, тебе она приходится тетей. А откуда ты ее знаешь?
Как только Жюльен Сазерак произнес свое имя, в голове Мэри родилось подозрение. И все же, узнав, что ее опасения подтвердились, она испытала некоторый шок. Трудно было смириться с мыслью, что ее предала родная сестра матери. Тем горше было сознавать это.
Мэри сжала руки в кулаки. От ярости ее голос дрожал.
– Позвольте, мадам, рассказать вам, откуда я знаю вашу дочь. Это довольно длинная и неприятная история. И когда я закончу, вы поймете, почему я никогда не смогу жить в вашем доме.
И она рассказала им все, с самого начала, с того момента, как ей вручили шкатулку в школе при монастыре. Спокойным, ровным голосом она поведала о смерти своего отца, о том, что женщина, которую она считала матерью, оказалась ее мачехой, о том, как она надеялась, что шкатулка поможет ей найти свою родню в Новом Орлеане.
О том, как опрометчиво она доверилась Розе Джексон и как ей чуть было не пришлось дорого поплатиться за свою наивность:
– Вы представить себе не можете, какой я чувствовала себя тогда обессилевшей и перепуганной. Слава Богу, мне удалось бежать из этого отвратительного места.
Описала Мэри, и как по-доброму ее встретили монахини, какой участливой казалась та дама, с которой она познакомилась в монастыре.
– Она обещала помочь вернуть мое наследство и деньги. Я была ей очень благодарна. И даже когда она сообщила мне, что вернуть украденное оказалось невозможно, я все равно была ей признательна за то, что она пообещала найти мою родню, помочь мне воссоединиться с моей семьей… Эту женщину звали Селест Сазерак.
Жюльен вскочил с места. Чашка и блюдце упали с его колен на пол и разбились.
Анна-Мари Сазерак покачала головой.
– Не понимаю, – сказала она. – Селест не могла быть той женщиной. Селест бы сразу догадалась, кто ты такая, Мари. Она всегда страшно любила перебирать вместе со мной вещи в шкатулке и слушать рассказы про тех Мари, которые передавали ее своим дочерям из поколения в поколение.
Жюльен взглянул на Мэри, взглядом прося ее быть терпеливой и не сердиться на его мать, бабушку Мэри.
– Maman, тут все ясно, – медленно произнес он. – Селест все знала. Постарайтесь понять это. Селест все знала. И намеренно скрыла от нас Мари. – Он снова посмотрел на Мэри: – Я понимаю вас, мадемуазель, такое трудно простить. Позвольте мне принести за всех нас всяческие извинения. Я исполню любую вашу просьбу, сделаю все, что в человеческих силах.
Жюльен умолял ее изо всех сил, а просить он не привык, это было очевидно, и Мэри почувствовала мстительную радость. Ей нравилось видеть его униженным. Пусть поползает тут на коленях перед ней – раз он брат Селест.
– Умоляю вас, мадемуазель Макалистер, посмотрите на мою мать. Когда-то она была счастливой, полной энергии и сил женщиной. Прекрасной матерью. Но с тех пор как она овдовела, последние десять лет, ее жизнь превратилась в кошмар. Постепенно она стала такой, какой вы ее видите. В течение десяти лет она живет, погруженная в такую беспросветную тьму, что даже лучшие доктора не в состоянии помочь ей. Единственное, что ее заботило до сих пор, – это надежда найти вас. Мы годами не могли уговорить ее выйти из дома. А сегодня вечером она вышла, она отправилась ко мне одна, без провожатых, чтобы я привел ее к вам.
Мадемуазель, вы могли бы вернуть ее к жизни, к людям. Прошу вас, пойдемте с нами, поживите в доме, который по праву принадлежит и вам, не отвергайте своих родных. Вы можете не испытывать любви к вашей бабушке, но пожалейте ее по крайней мере!
Анна-Мари все еще качала головой.
– Не понимаю, – повторяла она снова и снова.
Мэри взглянула на женщину, которая приходилась ей бабушкой. Она не испытывала к ней ни любви, ни даже жалости. «Слишком поздно, – говорила она себе. – Я могла пожалеть ее когда-то, даже полюбить, может быть. Если бы Селест привела меня к ней тогда. Но с тех пор многое, очень многое изменилось. И я стала другой. Я не хочу бросать то, что с таким трудом завоевала, – ни дом, ни магазин, ни душевный покой. Я не стану возвращать к жизни мадам Сазерак. С меня достаточно собственных тревог и проблем».
– Даю вам слово, – клялся тем временем Жюльен Сазерак, – Селест заплатит за содеянное ею.
Мэри снова почувствовала, как ее охватывает радостная дрожь.
– Я поеду с вами, месье. Но не обещаю остаться у вас навсегда.
– Спасибо, мадемуазель… Maman, вы слышите? Вы готовы идти? Мари едет с нами.
Мадам Сазерак улыбнулась. Она снова протянула руку Мэри. И на сей раз Мэри ее приняла.
В экипаже Анна-Мари Сазерак уснула – она так и не вынула руки из рук Мэри, голова ее соскользнула Мэри на плечо, во сне она тихонько сопела и улыбалась.
Жюльен внес мать в дом.
– Жак! – позвал он дворецкого. – Скажите горничным, чтоб подготовили комнату мадемуазель Мари. Она приехала домой. И зажгите все свечи. В этом доме теперь всегда будет светло.
Его взгляд, устремленный на Мари, был торжественным.
– Спасибо вам, – сказал он. – Я отнесу Maman в ее комнату. Если хотите, потом, после того как ее уложат, мы вместе займемся поисками вашего приданого.
Дверь в комнату Селест была заперта. Пробормотав какое-то ругательство, Жюльен отступил на несколько шагов назад и с разбегу взломал дверь, навалившись на нее. Мэри издала долгий радостный вздох. Ярость, бушевавшая в ней, искала выхода – ей хотелось громить и крушить все вокруг.
Комната Селест, словно зеркало, отражала уродливое сознание хозяйки. Каждый ящичек, шкафчик, гардероб оказались заперты. Жюльен снял с крючка у камина кочергу и взломал первый попавшийся шкаф. Дерево с громким треском хрустнуло.
– Осмотрите его, а я тем временем взломаю следующий, – сказал Жюльен. Он тяжело дышал, лицо его покраснело.
– Дайте-ка мне кочергу, – приказала Мэри. – Я сама открою следующий. Мне хочется это сделать. – Она атаковала резной шкафчик красного дерева. Рука ее на минуту дрогнула. Все-таки такая тонкая работа. Однако желание отомстить Селест взяло верх. Мэри со смехом взломала шкафчик.
Жюльен держал лампу над ее головой. Шкатулка оказалась в шкафчике. Мэри была обрадована и одновременно разочарована – слишком уж быстро окончился погром. Она взяла шкатулку в руки, ощупывая знакомые контуры.
На секунду она снова стала той прежней Мэри, которая так стремилась обрести дом, семью, любовь.
Но это ощущение тут же исчезло. И она вернулась в настоящее; она была одна, сама по себе, и ей вполне этого хватало. Впредь она не допустит, чтобы ей причиняли страдания.
– Вы не хотите его открыть? – спросил Жюльен. – Я повернусь спиной.
– Это излишне, месье. Тут нет ничего такого, что вам не следует видеть. – Мэри положила шкатулку на бюро и приоткрыла крышку. – Все на месте, – сказала она. Она видела, что Жюльен так и не повернулся.
Он спросил, не хочет ли она спуститься вниз, чтобы побеседовать там. Мэри тут же согласилась, ибо поговорить было о чем.
Проговорив четыре часа и выпив бездну кофе, они наконец пожелали друг другу спокойной ночи. При этом Мэри обзавелась длинным списком ближайших родственников – дядей, тетей, кузенов. А также узнала имена слуг – дворецкого, кухарки, садовника, кучера, лакеев, горничных. Назавтра был назначен маленький семейный ужин.
Договорились они и о том, что она будет называть своих дядей и тетей по именам, а домашние будут звать ее Мари.
От Жюльена она узнала о бабушкином пристрастии к опию и пообещала сделать все возможное, чтобы избавить ту от этой пагубной привычки. Она также обещала звать бабушку Mémère на креольский лад.
Однако Мэри не могла обещать, что будет жить в доме Сазераков постоянно, – это будет видно в дальнейшем, сказала она.
Жюльен проводил Мэри в ее комнату.
– Заприте дверь, – посоветовал он. – Селест приедет, вероятно, только завтра, но от нее можно ждать чего угодно. Я останусь в доме до ее возвращения. Я сам переговорю с ней. Вы даже можете не присутствовать при этом.
Но Мэри сказала, что ей как раз хотелось бы присутствовать при этом разговоре. Попрощавшись с Жюльеном, она заперла дверь.
Множество горящих свечей ярко освещали комнату, было светло, как днем. Здесь было много цветов, лент, кружев – чувствовалось, что это комната юной девушки.
«Здесь жила моя мать», – подумала Мэри. Только теперь она поверила в то, что произошло. Она наконец была в своей семье, со своими родными. Она положила шкатулку на кресло и открыла ее. Один за другим она вынимала предметы, находящиеся в ней, выкладывая их на кровать: веер, медальон, наконечник стрелы в потертом кожаном футляре, кусок мха, завернутый в кружево, перчатки.
Взяв перчатки, она натянула их на руки. Ее семья. Интересно, какое из этих сокровищ принадлежит ее матери? Какой она была?
Надо расспросить об этом Mémère.
Внезапно Мэри захотелось, чтобы поскорей наступило утро.
Глава 54
– Bonjour, Mémère. Я принесла вам кофе.
Мэри осторожно внесла поднос. Шторы в спальне были задернуты, и она едва видела к темноте. Может быть, кухарке только показалось, что она слышала колокольчик бабушки.
Но тут из темноты послышался голос, который рассеял ее сомнения.
– Мари? Мари, неужели это и вправду ты? Я боялась, что ты мне только приснилась. – Сейчас Анна-Мари Сазерак говорила гораздо отчетливее, чем накануне вечером. – Любовь моя, подойди к своей бабушке. Дай мне поцеловать тебя.
– Иду, иду. Тут очень темно, я не вижу вас. – Мэри стукнулась коленом о ножку стола. Она поставила на него поднос. – Mémère, чтобы увидеть вас, мне придется открыть шторы, – сказала она.
– Нет! Я не выношу дневного света… Ну хорошо, открой их наполовину. Мне тоже хочется посмотреть на тебя.
Мэри на ощупь пробралась к окну. Шнур никак не поддавался, видно было, что им давно не пользовались. Она резко дернула, и шторы открылись во всю ширь. В руке у нее остался конец шнура.
– Извините… – пробормотала она, но старушка прервала ее:
– Неважно. Это пустяки, деточка. Иди же сюда. – Она сидела, опираясь на гору подушек. В кружевном чепце и ночной рубашке с широким воротом она казалась совсем маленькой и хрупкой. Руки ее были протянуты к Мэри. Широкие рукава рубашки напоминали крылья.
Мэри подошла к ней и наклонилась, чтобы та смогла ее обнять. От ее внимания не ускользнуло, что взгляд старушки сегодня был более ясным и сосредоточенным. Может быть, она сможет ответить на ее расспросы о матери.
– Мари, дорогая, какая ты худенькая! Ты хорошо ешь? Твоя мать вечно ковырялась за едой, помню, уговорить ее стоило немалого труда. Где твой поднос? Там есть хлеб, масло? Я хочу, чтоб ты съела все подчистую, и варенье не забудь. И пожалуйста, положи в кофе побольше сахара.
– Но, Mémère, это ваш завтрак. Я уже завтракала сегодня.
– Ну и что? Позавтракаешь еще раз, а я попрошу, чтоб принесли еще поднос. Ешь, моя козочка. Ты так обрадуешь этим свою бабушку.
Мэри не стала сопротивляться. Она уже давно была на ногах, к тому же булочки оказались просто восхитительными.
И потом, ей хотелось расспросить бабушку о матери. Вчера она внимательно осмотрела ее комнату, но так и не нашла ничего, что бы могло рассказать ей о матери, там не оказалось ни ее личных вещей, ни книг – ничего.
– А моя мама тоже была худенькой? Mémère, вы расскажете мне о ней?
Глаза бабушки наполнились слезами.
– Мне так недоставало ее, – прошептала она. – Она была моей любимицей. Мари-Кристин. – Она устремила глаза к балдахину из цветного шелка. – Она была самым красивым ребенком на свете. О, как я радовалась ее рождению! Даже если бы она оказалась дурнушкой, я все равно любила бы ее безумно. До нее были одни мальчики, я родила пятерых, и все были мальчиками. Муж-то был доволен. «В сыновьях сила мужчины», – говорил он, бывало. Но я мечтала о девочке. И даже когда два моих сына умерли, я все равно молила Бога, чтоб он послал мне девочку.
И он услышал мои молитвы. Я получила красавицу Мари-Кристин.
Она была не похожа на других моих детей, те были красненькими, лысенькими, сморщенными. А у нее кожа была белая, словно взбитые сливки, а волосы густые, черные, как вороново крыло, со смешными завитками у лба. Вначале ее глаза были голубыми, как у всех детей. Вернее, нежно-синими, как анютины глазки, это уж потом, много позже, они стали карими. Но они очень долго оставались синими – я даже думала, что это навсегда. Однако в один прекрасный день цвет изменился, причем как-то быстро и незаметно. Карий цвет ей тоже очень шел. В общем, у нее были красивые глазки – огромные, ясные и лукавые. Что и говорить, она была сущим чертенком, моей маленькой любимицей и проказницей. – Мадам Сазерак замолчала. Казалось, она вся ушла в воспоминания.
– А какой у нее был характер? – спросила Мэри. Ей хотелось услышать еще что-нибудь о матери.
Бабушка хмыкнула.
– Она была очень своенравной. Упрямой. И храброй, ничего не боялась. Ни в чем не уступала братьям. Ох как она их, бывало, изводила! Но на нее невозможно было сердиться. Она была страшной хохотушкой, очень жизнерадостной и ласковой девочкой. Стоило ей попросить прощения, и ее тут же прощали. Она могла растрогать самое каменное сердце… До тер пор… до тех пор, пока… – По щекам старушки, словно прозрачные жемчужины, заструились слезы. Ее рука лихорадочно шарила по столу возле кровати. – Мне пора принять мое лекарство. Позови Валентин, Мари. Она знает, как его приготовить.
Мэри взяла ее за руку:
– Mémère, Валентин сейчас придет. А пока она не пришла, расскажите мне еще о маме. Повзрослев, она осталась красивой? А как она познакомилась с папой? Они очень любили друг друга?
Анна-Мари Сазерак отвернулась. Ее плечи дрожали от плача.
– Я не могу, не могу больше говорить. Здесь слишком светло, и у меня болят глаза. Валентин! Задерни шторы! У меня болит голова, Валентин. Дай мне поскорей лекарство.
Мэри опустила руку бабушки на одеяло. Затем она порывисто дернула шнур колокольчика и вышла из комнаты.
Она нашла Жюльена в библиотеке, где они беседовали накануне.
– Я не останусь здесь, – заявила она. – У меня ничего не получится. Я сделала все, как вы велели, месье, сама принесла поднос, называла ее Mémère, даже позволила себя поцеловать. Но она требует свой опий. Я не стану прислуживать опиоманке. Я отправлюсь сейчас на работу, как обычно, а после работы – в свой дом.
Жюльен уговорил ее сесть, успокоиться, подумать и выслушать его.
– Мари, за один день ее не вылечишь. Скажите мне, она вас узнала?
– Да, и очень обрадовалась мне, это я знаю точно. Она велела мне съесть ее завтрак, потому что я слишком худа. По ее словам, моя мама всегда плохо ела. Тут я попросила ее рассказать о маме, и она говорила примерно с минуту, а потом вдруг ни с того ни с сего стала искать свое лекарство, крича, чтобы закрыли шторы, потому что у нее болят глаза. При этом она приняла меня за свою служанку.
Жюльен коснулся руки Мэри:
– Вы хотите сказать, что шторы были открыты?
– Ну да, я их открыла.
– И она позволила вам это сделать?
– Конечно. Ведь в комнате была кромешная тьма. Жюльен Сазерак прижал к груди руки:
– Девочка моя, вы совершили чудо! Эти шторы не открывают вот уже шесть лет. Вы даже не сознаете, не отдаете себе отчет, что это, в сущности, значит.
Мэри вздохнула:
– Это значит, что вы стараетесь заманить меня в ловушку, только и всего. Послушайте, месье, я ведь не какая-нибудь бесчувственная, мне жаль ее, и я счастлива, что она позволила открыть эти несчастные шторы. Но я должна и о себе подумать. Я бы предпочла жить, как раньше, – одна.
– Прошу вас, выслушайте меня, Мари… Мэри. Я не стану спорить с вами. Хотите, я расскажу вам о вашей матери? Вы ведь хотите узнать о ней побольше, не правда ли?
– Конечно, хочу.
– Так вот, я расскажу вам… Мари-Кристин была самым очаровательным и самым несносным существом на свете. Ее нельзя было назвать красивой, хотя все наверняка будут хором убеждать вас в обратном. Она была похожа на большинство креольских девушек – светлокожая, темноглазая, волосы тоже темные. Что ее выделяло из общей массы, так это темперамент. Она была любопытна, как кошка, ее интересовало абсолютно все: все на свете узнать, испытать, перепробовать. Она была полна энергии и жизнерадостна. Залезет, к примеру, на дерево и упадет. Всех вокруг перепугает насмерть, а сама расхохочется, глядя на наши перекошенные от страха лица.
Для нее не существовало запретов. Даже когда она сознавала, что ее наверняка накажут за какую-нибудь проделку. Взять хотя бы уроки. Бывало, вместо того чтобы учить их, она сидит и играет в куклы. А когда ее за это накажут, спокойно заявит, что так ей и надо, поцелует или обнимет обидчика, и дело с концом. Сколько ни спорь с ней, ни доказывай, все равно сделает по-своему.
Maman безбожно баловала ее. Чего бы Мари-Кристин ни попросила, ее просьба тут же удовлетворялась. И даже папа, хотя он был очень строг с нами, остальными детьми, не выдерживал, уступал Мари-Кристин, осаждавшей его с какой-нибудь очередной затеей.
Идемте со мной, Мэри. Я хочу показать вам кое-что, что принадлежало моему отцу. Прошу вас. Это займет немного времени.
Жюльен провел ее в гостиную. Когда он открыл шторы, перед ее глазами предстал мир, сплошь состоящий из позолоты, хрусталя и дорогой парчи. Мэри раскрыла рот при виде всего этого.
– Таков был мир, который мой отец считал своим: дореволюционная Франция. Он привез это с собой, когда ему удалось бежать от разъяренной толпы. Из всей семьи уцелел он один – остальных отправили на гильотину.
Он поехал в Новый Орлеан, потому что тогда это был французский город. И устроил в своей комнате маленький Версаль, в котором правил, словно Людовик XIV, король-солнце. Его слово было законом и обжалованию не подлежало. То есть так было для всех, кроме Мари-Кристин.
Как сейчас вижу ее на цыпочках входящей в эту дверь. Отец всегда сидел в этом большом кресле, а она подкрадывалась к нему сзади и закрывала ему глаза руками, требуя, чтобы он угадал, кто это.
Отец был степенным пожилым человеком. Он всегда ходил в панталонах и длинных сюртуках, волосы его были белы, словно он их припудривал. Ему было уже за шестьдесят, когда родилась Мари-Кристин. Однако ей удавалось разыграть его. «Я мадам де Помпадур, – прохихикает она ему, – ваша фаворитка».
Вероятно, он любил ее без памяти. И поэтому так ожесточился, когда она воспротивилась его воле. Она разбила его сердце.
Он нашел ей прекрасную пару, женихом ее должен был стать француз, как и сам папа, некий Жиль Д'Оливэ, симпатичный молодой человек. Во Франции у него был бы высокий титул виконта, но его родители, как и наш отец, покинули страну во время Революции. Правда, они оказались не столь предусмотрительны, и, в сущности, у них ничего не осталось. Однако Жиль сумел сколотить изрядное состояние, к двадцати годам он владел плантацией площадью в тысячу акров, а к тридцати его владения расширились до десяти тысяч. И отец дал согласие на его брак с Мари-Кристин. Пообещав поистине королевское приданое.
Но накануне свадьбы, Мэри, ваша мать сбежала с человеком, с которым познакомилась в тот же день. Это был ваш отец.
Папа чуть с ума не сошел. Он вычеркнул ее имя из генеалогического древа Сазераков, которое восходит к десятому веку, и приказал уничтожить все ее личные вещи – одежду, книги, всякие безделушки. Он даже запретил домашним произносить ее имя. Письма, которые приходили от Мари-Кристин, он отсылал назад. Он не писал ей и остальным запретил писать.
И то роковое письмо, которое пришло от вашего отца, было также отослано обратно. С ужасом вспоминаю я тот день. Мари-Кристин умерла, а нам не позволялось даже оплакать ее. Maman целовала землю у его ног, умоляя разрешить упокоить тело Мари-Кристин в фамильном склепе, но он был непреклонен.
Теперь вы понимаете, Мэри, почему разговор о вашей маме причиняет Maman такую жгучую боль и, чтобы унять ее, ей нужен опий?
Мэри слушала, глядя на него широко распахнутыми глазами.
– Какая страшная трагедия, – произнесла она. – Бедная ваша матушка. По крайней мере, ей не в чем себя упрекнуть – не она, а ваш отец проявил жестокость.
Плечи Жюльена опустились.
– Maman помогла Мари-Кристин бежать – она всегда и во всем ей потакала. – Он выпрямился, прокашлялся. – Однако не будем унывать. В этой комнате есть одна вещь, которая никогда не принадлежала отцу. Видите портрет слева от вас, возле окна? Это портрет Мари-Элен Вежерано, вашей прапрабабушки по линии матери. Благодаря ему мы сумели вас найти. Взгляните на свои руки.
Мэри смотрела на портрет не дыша. У этой дамы руки были точно такие же, как у нее, и держали они тот самый веер, что хранился в шкатулке.
– Так вы останетесь, Мари? – спросил Жюльен.
– Да.
Мэри пришла в магазин, чтобы поговорить с Ханной и Альбертом. Они оба были очень рады за нее.
– Я еще не поняла, к лучшему это или нет, – сказала Мэри, – но обещала остаться у них на год. Однако я сказала своему дяде… Все никак не могу привыкнуть ко всему этому… в общем, я сказала ему, что буду продолжать работать до тех пор, пока не смогу найти себе замену. Уверена, что мы могли бы нанять служащего из какого-нибудь другого магазина, и платить ему можно будет гораздо меньше, чем мне, поскольку у него не будет доли в прибыли. Мне деньги не нужны. Жюльен говорил что-то о каких-то моих акциях, так что особой нужды в деньгах я испытывать не буду.
Ханна и Альберт обменялись виноватыми взглядами.
– Понимаешь, Мэри, нам нужно тебе кое-что сообщить, – сказала Ханна. – Мы решили поехать за границу. Увидев картину Гойи в вашем доме, Альберт понял, что ему следует поучиться живописи в Европе.
– Это все дело техники, – сказал Альберт, – только техники, я уверен. Мне нужен лишь опытный учитель, знакомый с техникой старых мастеров. Увидев сами полотна, я сумею разобраться, как им удавалось создать такой эффект. И без труда усвою их приемы. Мне мешает то, что у моего здешнего учителя в Филадельфии имелись только копии.
– Нам удалось скопить достаточно денег, чтобы прожить в Испании год-другой, – сказала Ханна. – Или в Лондоне, – добавила она шепотом. – Боюсь, нам никогда не одолеть испанского.
– И когда вы хотите ехать? – спросила Мэри.
По словам Ханны, они хотели бы уехать как можно скорее. Плата за аренду магазина и за квартиру была внесена по май включительно, таким образом, у них оставалось еще недели три. Времени на сборы вполне достаточно – главным образом, чтобы продать товары какой-нибудь модистке и рассчитаться с Сесиль. Они вполне смогут уладить это и без Мэри, так что ей не придется навещать их партнершу в ее новом доме на Сент-Питер-стрит.
Последнему обстоятельству Мэри была особенно рада.
Вернувшись домой, Мэри застала Жюльена Сазерака. Он мерял шагами длинный коридор дома на Ройал-стрит.
– Вам удалось уладить свои дела? – осведомился он. – Как скоро вы сможете прекратить свою работу в магазине?
– Раньше, чем предполагала, – ответила Мэри. – Я ее уже закончила. Теперь я свободна. – На самом деле Мэри чувствовала себя расстроенной. Магазин значил очень много в ее жизни.
– Вот это замечательная новость, клянусь! – Жюльен от радости чуть в ладоши не хлопал. – У меня тоже есть для вас хорошая новость. Пока вас не было, явилась Селест. К счастью, Maman отдыхала, и ей не пришлось присутствовать при этой отвратительной сцене. Мари, Селест сюда больше не вернется. Ее увезли. Возле Натчеза имеется больница, где содержатся люди с подобными расстройствами психики.
Мэри не хотелось представлять подробности этой сцены. На полу все еще валялись осколки разбитого зеркала, а на стене, где когда-то висело это самое зеркало, темнело пятно. Исчезла и вся мебель из холла, а также ковры. Жюльену пришлось сменить одежду, и один рукав его сюртука казался толще другого. По всей видимости, рука у него была забинтована.
– Ринки уезжают, Селест получила по заслугам. Моя жизнь налаживается, – заметила Мэри. – Спасибо вам, Жюльен. – Она не скрывала своего сарказма.
Глава 55
На этом Жюльен отбыл, напомнив Мэри, что вечером планируется сбор родственников. Он заверил ее, что слуги сами позаботятся о необходимых приготовлениях. Ей беспокоиться совершенно не о чем.
В доме наступила тишина.
«Беспокоиться совершенно не о чем», – мысленно повторила она слова Жюльена. Вернее было бы сказать – нечем заняться. Она не могла припомнить того времени, когда ей нечем было заняться. Мэри поднялась к себе, надо было выбрать платье к вечеру. И погладить – собиралась-то она впопыхах.
Но все четыре ее платья были уже выстираны и выглажены. В огромном гардеробе они казались совсем крошечными.
Тогда она решила помыть голову. Можно было пополоскать волосы подольше – на это уйдет еще минут десять.
Она отправилась на поиски кухни, чтобы подогреть воды, но, пройдя три ступеньки, остановилась. Она была не в Кэрролтоне, не на Ирландском канале.
Она вызвала горничную.
– Никогда не привыкну к этому, – проворчала она вслух. Ей захотелось вновь очутиться в Кэрролтоне, в своем саду, повозиться в земле.
Жена Жюльена рассказала обо всем ближайшим родственникам, они – дальним, а те – всем остальным. Пока Мэри Макалистер спокойно мыла голову, вся креольская часть населения Нового Орлеана обсуждала необычные обстоятельства, при которых мадам Сазерак обнаружила свою внучку в маленьком домике в Кэрролтоне.
– Представляете, она работала продавщицей в магазине! Я ведь видела ее много раз. Помню, мне сразу показалось, что для продавщицы она выглядит очень уж аристократично.
– Подумать только, дочь Мари-Кристин! Как по-вашему, она так же хороша, как ее мать? Может, она и упряма так же?
– Вы слышали – Селест Сазерак отправилась в монастырь, в благодарность за то, что Господь услышал ее молитвы.
– Говорят, в комнате Анны-Мари Сазерак открыты шторы.
– Поговаривают, Жюльен Сазерак выделил ей миллион долларов.
– Ходят слухи, что она унаследует состояние Анны-Мари.
Карлос Куртенэ отправил посыльного к Филиппу с приказанием немедленно явиться в город. Он был уверен, что его приемный сын будет благосклонно принят новоиспеченной богатой невестой. Ведь Филипп, что ни говори, был любезен с девушкой еще тогда, когда никто не знал ее.
А Жанна Куртенэ-Грэм чуть не набила себе мозоль, написав уйму приглашений на вечеринку, которую собиралась устроить в следующее воскресенье в честь Мэри. Ведь Мэй-Ри была ее лучшей подругой. Все просто умрут от зависти, когда Жанна окажется первой, кого Мэри удостоит визитом.
Приятель Вальмона Сен-Бревэна, лжесвященник, немедленно купил билет на ближайший пароход, отплывающий в Европу.
Сам Вальмон сидел запершись в своем доме на Сен-Луи, растянувшись в кресле и вперив взгляд в стену перед собой. Собственная личность вызывала в нем омерзение. Ведь она пыталась сказать ему правду, а он, вместо того чтобы выслушать ее, поверить ей, пошел на поводу у собственных ложных представлений. Дело дошло до того, что он изнасиловал ее. И теперь ему ни искупить своей вины перед ней, ни возместить того ущерба, что он ей нанес. Да она теперь и слушать не станет его объяснений. С какой стати, в самом деле? Ведь сам он ей не поверил.
Только в ирландском квартале не обсуждали поворот в судьбе Мэри. Разговоры креольской знати не могли дойти ни до вдовы О'Нил, ни до Пэдди Девлина, ни до папаши Рейли с сыном, так что никаких причин говорить о Мэри у них не было. В комнате Мэри теперь жила двоюродная племянница вдовы – добродушная и веселая девушка с копной рыжих волос и зелеными глазами, которые, по мнению Пэдди, превосходили своей красотой даже холмы Ирландии.
Чтобы просушить волосы, Мэри расположилась во внутреннем дворике, выбрав освещенное солнцем местечко. Не прошло и получаса, как ей передали, что ее зовет бабушка. Мадам Сазерак была, по обыкновению, в черном платье, но сегодня ее плечи и грудь покрывало фишю из белых кружев. Она выглядела чрезвычайно бодрой и довольной жизнью.
– Мари, дорогая моя, разве можно подставлять себя прямым солнечным лучам – это вредно для кожи. Иди ко мне, сядь у моих ног, я буду причесывать тебя, и твои волосы высохнут. Тем временем мы можем поболтать, получше узнать друг друга и вместе решить, чем мы будем заниматься.
Не успели ее волосы просохнуть, как Мэри поняла, что ей не придется тревожиться из-за избытка свободного времени. Оказалось, дел предостаточно. Потому что Анна-Мари наметила широкий план действий: походы в оперу и театр, приемы у себя, ответные визиты, разнообразные вечеринки, кроме того, им обеим необходимо было обновить гардероб – сделать нужные покупки, побывать у портних, сапожников, парикмахеров, а еще надо навестить всех родственников – двоюродных, троюродных и совсем дальних кузенов и кузин, и в городе и на их плантациях. И все это одновременно, немедленно, пока не началось лето и люди не разъехались.
– Твоя бабушка так счастлива, так гордится тобой, ей хочется представить тебя всем поскорее, – ворковала мадам Сазерак. Расчесывая волосы Мэри, она то и дело целовала ее в маковку.
Жюльен явился к обеду пораньше.
– Как сегодня Maman? – спросил он у Мэри.
– Думаю, вы будете поражены, – заметила Мэри и рассказала ему, как они провели утро. – Правда, после того как она так долго расчесывала мне волосы, у нее заболела рука и она приняла небольшую дозу своего лекарства. Но спать не стала. Она немножко суетится, но держится очень стойко. Я застала ее внизу, она отчитывала Валентин за то, что та не нашла каких-то сережек, которые бабушке захотелось надеть к обеду.
Жюльен прижал руки к груди, Мэри успела заметить, что этот жест означал волнение.
– Мари, вы не представляете всю меру моей благодарности вам.
Мэри окинула его бесстрастным взглядом:
– Не обольщайтесь, Жюльен. Вполне может статься, что сегодняшний день окажется лишь счастливой случайностью, исключением. И если так, то вынуждена вас предупредить, что не изменю своего первоначального намерения.
– Мари, вы вольны поступать по своему усмотрению, вы совершенно свободны.
Шея Мэри вновь покрылась гусиной кожей. Но на сей раз она заставила себя отодвинуть чувство мести на задний план.
– У меня нет никакого желания изображать девицу из креольского общества. Я слишком долго жила самостоятельно, чтобы позволить всяким условностям ограничить мою свободу. Я намерена выходить, когда мне заблагорассудится и в одиночку, встречаться с кем угодно и где угодно. Видите ли, у меня есть друзья среди ремесленников и торговцев.
Я также намерена сохранить свой дом в Кэрролтоне. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы ваш дом стал и моим, но хочу оставить за собой право в случае необходимости время от времени уединяться в собственном доме.
Жюльен был не слишком обрадован этим заявлением, однако без возражений принял условия Мэри.
Позже, когда явились остальные родственники, Мэри поняла, что Жюльену, вероятно, нелегко далось его молчаливое согласие. Потому что все остальные, за исключением бабушки, относились к нему с неизменным почтением, как к главе семейства. Для них слово Жюльена было законом.
«А для меня – нет, – подумала Мэри. – Мне он уступает во всем». И опять ее шея покрылась гусиной кожей – Мэри узнала это чувство, удовольствие, которое рождает власть. Баронесса была права, сказала себе Мэри. Власть гораздо более волнующее чувство, чем любовь. Любовь не дала мне ничего, кроме боли и беспомощности. Но теперь настала моя очередь диктовать условия. А это гораздо приятнее.
Она старалась быть любезной и внимательной к новой родне, но, в сущности, ее мало заботило их мнение о ней. Она запомнила их имена и даже умудрялась не путать имена детей, что было непросто, поскольку детей оказалось невероятное множество. Семья Сазерак в этом смысле мало отличалась от других креольских семейств.
Жена Жюльена, Элеанор, оказалась привлекательной женщиной. Она была заметно беременна. Хотя ей не было еще и тридцати, у нее уже было семеро детей – пятеро мальчиков и две девочки, которых она, светясь от гордости, представила «кузине Мари».
У Ролана, другого ее дяди, младшего брата Жюльена, было четверо, кроме того, у его жены, Дианы, было двое детей от первого брака. Ролан женился шесть лет назад на вдове.
Лишь Бертран, самый младший брат, в свои тридцать шесть все еще оставался холостяком. С ним они сошлись ближе всего. Когда Жюльен представил ей его, Бертран поцеловал Мэри руку и тут же подхватил ее под ручку.
– Братец, не корчи кислую мину, – рассмеялся он. – Я всего лишь хочу прогуляться со своей племянницей по залу. – При этом он подмигнул Мэри. – Там, в гостиной, в буфете имеется графинчик с виски.
– Как жаль, что вы моя близкая родственница, – сказал он, прогуливая ее по залу. – Говорят, вы наследница неслыханного состояния. Я бы и сам не прочь приударить за вами. Но Жюльен ни за что не даст нам своего благословения. Увы и ах! Каждый встречный-поперечный холостяк в Новом Орлеане будет ходить вокруг вас на задних лапках, в то время как я буду прозябать в гордом одиночестве. А что я стану делать без своих приятелей, с кем я буду веселиться?
Вам наверняка наболтают про мою распутную жизнь, Мэри, но верьте мне, я вовсе не столь уж пропащий. Просто я люблю немножко поразвлечься и не горю желанием обзаводиться потомством. Поэтому в семье меня считают уродом, однако вне ее я имею репутацию замечательного парня. И я надеюсь, что мы подружимся.
Мэри заверила его, что она тоже на это надеется.
В действительности он ее мало интересовал. Ее мысли были заняты совсем другим.
В последующие дни у Мэри было немало возможностей насладиться своей новой властью. Вместе с Mémère она побывала в магазине мадам Альфанд. Сидя в маленькой гостиной, где принимали знатных клиентов, и потягивая кофе из чашечек, они слушали, как мадам расписывала во всех красках достоинства платьев, которые можно заказать в ее ателье. Мэри не произнесла не слова. Анна-Мари Сазерак понятия не имела, какие тяжелые испытания выпали на долю ее внучки в этом заведении. Когда они вышли, она с удивлением спросила Мэри, отчего, по ее мнению, мадам Альфанд так суетилась.
– Не знаю, Mémère, – сказала Мэри. Она хорошо представляла себе отчаяние мадам Альфанд, когда такие богатые клиенты покинули ее мастерскую, ничего не заказав.
«Подожди же, – мысленно пригрозила Мэри своей бывшей работодательнице. – Это еще не все, ты у меня попляшешь».
А еще позже Мэри наблюдала с противоположной стороны улицы, как несколько полицейских арестовали Розу Джексон в ее роскошном особняке, в котором скрывался бордель. Они опечатали дверь, повесив табличку, на которой было написано: «Опечатано. Имущество конфисковано и передано в распоряжение муниципалитета».
По ее просьбе Жюльен обмолвился парой фраз с нужными людьми. Он старался выполнить любую ее просьбу. И Мэри не могла оставаться равнодушной, видя, как он радуется тому, что его мать мало-помалу возвращается к жизни.
С каждым днем она проводила все больше времени в обществе Мэри, постепенно отвыкая от своего наркотического забытья. Бабушка строго следила за соблюдением светского протокола.
– Мари, дорогая моя, нам следует отвергать приглашения посторонних людей, ведь ты еще не представлена свету. До самой осени, когда состоится твой дебют, мы можем принимать у себя и навещать только родственников.
Однако родственников были сотни – тетки, дядьки, кузены и так далее и тому подобное. Оказалось, что она находится в определенной степени родства чуть ли не со всей креольской частью населения Нового Орлеана. У одной только бабушки было восемь братьев и сестер, и у каждого из них – от четырех до двенадцати детей; в общем, у нее было более пятидесяти племянников и племянниц. У большинства из них были семьи, чрезвычайно большие. Мэри даже не пыталась подсчитать число своих родственников и вычислить, кто кем ей приходится. Она просто называла всех их кузенами – так было спокойнее и, что самое удивительное, в конечном итоге вернее.
«Но ты ведь хотела, чтоб у тебя была семья, – напоминала она себе. – И если она оказалась несколько больше, чем ты предполагала, это еще на дает тебе оснований для жалоб». И все-таки она уставала от постоянной необходимости быть на людях, ходить в гости к кузине имярек было бы гораздо менее обременительно, будь у нее возможность хотя бы во второй половине дня отдохнуть от приема дюжины других кузин.
Мэри с нетерпением ждала июня, когда большая часть родственников разъедется на лето.
Радовалась она и тому, что холостые приятели дядюшки Бертрана не могли атаковать ее до официального выхода в свет. Она была еще не готова к этому. И ей казалось, не будет готова никогда.
От Вальмона пришло три письма. Мэри отослала их обратно не распечатывая. Не то чтобы их содержание не волновало ее вовсе, она просто старалась не думать о нем.
Она все еще не придумала, как отомстить Вэлу. С Розой Джексон и мадам Альфанд дело обстояло много проще. Однако трудно было найти достойный способ отомстить Вальмону Сен-Бревэну – слишком велики были ярость и ненависть, которые она испытывала к нему. К тому же отомстить надо было самой, собственноручно. Используя свою власть, и только свою.
В эти первые недели своей славы новоорлеанской наследницы Мэри часто вспоминала Микаэлу де Понталба. Она понимала, каким шокирующим казалось ее поведение креольским сплетницам, когда она выходила в город одна, без сопровождения, или останавливалась поболтать и посмеяться с кем-нибудь из знакомых продавцов или старьевщиков на Рыночной площади. Баронесса, бывало, тоже любила шокировать новоорлеанскую публику.
Но наступил июнь, и старый город опустел. Серебряный поднос на столике в холле был завален горой оставленных многочисленными кузинами карточек, в углу которых торопливым почерком было нацарапано: «Р.Р.С.» – это было принятой формой прощания до осени, когда новая гора карточек на подносе возвестит о том, что их обладатели возвратились в город.
– Мари, почему бы вам с Maman не поехать отдохнуть у озера? – предложил Жюльен. – У нас там очень славный домик – гостиница. Вам дадут лучшие комнаты, да и остальные гости наши давние знакомые.
Мэри чуть не вздрогнула. Она была сыта светским общением по горло.
– Может, попозже, Жюльен? Mémère собирается сделать кое-какие изменения в доме. Она хочет устроить несколько приемов во время сезона. Мне кажется, мы обе предпочли бы заняться побелкой, окраской и новыми шторами вместо отдыха у озера.
Жюльен был в полной растерянности.
– Конечно, раз Maman так хочет… Но, Мари, я несу за вас определенную ответственность. Летом в городе может начаться лихорадка.
– На этот счет, Жюльен, можете не волноваться. У меня уже была желтая лихорадка. Ничего страшного в ней, по-моему, нет.
«Жюльен ничем не лучше Берты Куртенэ, – подумала Мэри, – трясется из-за каждой пустяковой болячки. Такие люди даже из-за кори хлопаются в обморок».
Интересно, как Берта реагирует на скандал вокруг Жанны. На приемах у своих кузин Мэри заметила, что дамы с жаром шепотом обсуждают эту тему, прикрывая веерами лица и негодующе приподняв брови. Имя Жанны связывали с неким пользующимся скандальной известностью бонвиваном, а ее поведение на устроенной ею недавно вечеринке, по всеобщему мнению, было в высшей степени неприличным. Мэри на той вечеринке не была. Приглашение Жанны было отвергнуто ею по той причине, что в тот вечер устраивала прием близкая родственница.
Мэри было жаль Берту. Ведь для нее Жанна была светочем жизни. Жаль ей было и саму Жанну, для которой превыше всего была светская жизнь, и теперь, если Жанна не изменит своего поведения, этот самый свет вполне мог ее отвергнуть. Несмотря на ту безобразную сцену в ее доме в Кэрролтоне, Мэри испытывала определенную привязанность к Жанне. В конце концов, Жанна была ее подругой – насколько со своим непомерным эгоизмом, вообще была способна на дружбу.
Но Карлоса ей жаль не было. Карлос всегда был ее врагом. И, столкнувшись с ним как-то на одном из приемов, Мэри сделала вид, что не заметила его поклона. Увидев, как он смутился, она испытала знакомое ощущение в области шеи. Очень приятное ощущение.
Пятое июня было днем рождения Мэри, ей исполнилось семнадцать. По этому случаю она попросила бабушку сделать ей одолжение – не устраивать никаких приемов и никого не приглашать. Ей хотелось, чтобы этот день они отпраздновали только вдвоем. Mémère расплакалась, по ее словам – от радости и от горя.
– Деточка моя, как это мило с твоей стороны, что ты хочешь побыть со мной. Да еще в такой день. С твоей матерью мы не могли отпраздновать день ее семнадцатилетия вместе – ее уже со мной не было.
Мэри поцеловала бабушку.
– Но, Mémère, я здесь, с вами. Отдохните днем как следует, а вечером мы наденем наши роскошные новые платья и выпьем шампанского.
В тот день Мэри долго гуляла. Ей хотелось побыть одной. Казалось невероятным, что не прошло и года с тех пор, как она покинула монастырскую школу в горах Пенсильвании. Столько событий произошло за этот год! Она чувствовала необходимость хорошенько поразмыслить над тем, какой была тогда, когда еще училась в школе, и какой стала теперь, и что ее ждет впереди.
Она шла пешком всю дорогу от дома на Ройал-стрит до особняка баронессы. Магазин теперь стал собственностью какой-то модистки. В доме Ринков жили другие люди – Мэри видела их сидящими за столом на крытой огороженной металлической решеткой террасе. Слышны были приглушенные голоса. На той же улице, как грибы из-под земли, выросли еще пять новых магазинов. Через площадь Джексона на галерее другого дома Микаэлы видно было еще несколько столов, за которыми завтракали. Итак, квартиры заселяются жильцами, открываются магазины. Что ж, спасибо баронессе!
Клумба посреди площади пестрела цветами. В тени деревьев в углу продавали немудреную еду. Мэри подумала о потоках грязи, когда-то заполнявших центр старого города. И опять спасибо баронессе!
Она дошла до пристани и какое-то время смотрела на прибывающие и отплывающие в кажущемся беспорядке пароходы, на непрерывный обмен пассажирами и грузами. Затем двинулась дальше вдоль пристани – к докам на Кэнал-стрит, чтобы полюбоваться веселой вереницей колесных пароходиков, проплывающих по Миссисипи, борта их были украшены позолоченной кружевной резьбой. Здесь она когда-то впервые ступила на землю Нового Орлеана с Розой Джексон, здесь ее, перепуганную, без крыши над головой, нашел Джошуа.
Перейдя Кэнал-стрит, она пошла по нейтральной полосе – тенистой аллее, расположенной в центре парка. «Я похожа на эту аллею, – пришло в голову Мэри, – наполовину американка, наполовину креолка». Иногда ей так хотелось услышать английскую речь. Хотелось опять увидеть ломаную линию горизонта, зеленые холмы вокруг, вдохнуть воздух, пахнущий снегом. В Новом Орлеане наступила настоящая жара, она ощущалась даже в тени деревьев. В мае температура поднималась аж до тридцати пяти градусов. Сегодня, похоже, был один из таких дней.
Перейдя улицу, она зашла в магазин Д.Х.Холмса, где когда-то купила себе маленькую соломенную шляпку и дешевую коричневую ткань для рабочего платья. Она выбрала голубой зонтик, заплатив за него одной из золотых монет, которые были в ее сумочке. Этот зонтик обошелся ей дороже, чем все, что она купила тогда. «Вы преуспели, милочка», – сказала себе Мэри. Тихонько посмеиваясь, она вышла из магазина и раскрыла роскошный зонтик, прикрываясь от палящего солнца.
Что бы ни происходило в мире – жара, лето, стихийное бедствие – Кэнал-стрит всегда была полна народа. Мэри пришлось пробивать себе дорогу. В конце одного из кварталов она вместе с другими прохожими вынуждена была остановиться из-за преградившей дорогу шумной компании мужчин с обветренными лицами, подбрасывающих в воздух толстые кожаные кошельки.
– Наверное, только что вернулись из Калифорнии. – Человек, стоящий рядом с ней, обратился к своему спутнику. – Продадут свое золото в пробирной палате и будут кутить. Сегодня вечером все бары будут переполнены, игорные и публичные дома – тоже. В Новом Орлеане есть где разгуляться.
«Это точно», – подумала Мэри. Она прошла еще квартал и повернула направо. Она раздумала, как хотела сначала, отправиться на конке в Кэрролтон и заехать по пути на Ирландский канал – в этом уже не было необходимости. Разговор двух прохожих, невольно подслушанный ею, объяснил ей то чувство, которое владело ею, – Новый Орлеан дал ей все, к чему она стремилась. Когда-то она, совсем еще школьницей, приехала сюда, чтобы найти семью, в которой могла бы обрести любовь и понимание. Что ж, в конце концов она нашла ее, а также кое-что другое, помимо этого. Она обрела уверенность в себе. Стала взрослой. Научилась жить самостоятельно, завела собственное дело и преуспела в нем, у нее хватило мужества перенести утрату невинности и взглянуть на жизнь зрелым взглядом. К тому же теперь она говорила по-французски почти как парижанка. Сегодня, пятого июня тысяча восемьсот пятьдесят первого года, Мэри Макалистер была молодой женщиной, вполне довольной жизнью.
И хватит терзать себя воспоминаниями о прошлых обидах. Она прошла нелегкий и долгий путь, повстречав немало и хорошего, и плохого, но теперь ее путешествие закончилось. Впереди была новая жизнь.
Она шла по Ройал-стрит домой.
Теперь она видела все в совершенно новом свете. Все вокруг вдруг преобразилось. Здание банка, мимо которого она только что прошла, было уже не просто массивным сооружением с колоннами, а банком ее дяди Жюльена. Магазинчик, торгующий свечами, был не просто магазином – в этом же доме прекрасной старинной постройки находилась квартира ее кузена Нарсисса. Нарсисс был сыном покойной старшей сестры Mémère. И в День поминовения она положит на могилу своей двоюродной бабушки букет рядом с цветами Нарсисса, с множеством букетов от ее кузенов, их детей, сестер, братьев. Все эти улицы и дома, кирпич и штукатурка на них, все эти стены, розовые, желтые, голубые, крыши с волнистой черепицей и затейливые печные трубы, железные ограды, галереи, балконы, булыжные и кирпичные мостовые, грязь и пыль на них, каждый цветок и дерево, фонтан и крытый дворик, призраки прошлого, романтика и тайна, которыми был окутан этот город, – весь Новый Орлеан с его прошлым, настоящим и будущим до мельчайшей песчинки и камушка принадлежал ей, был ее домом по плоти и крови, ее душа была неразрывно связана с этим городом.
Она принадлежала ему так же, как он принадлежал ей.
Она могла бы посвятить всю свою жизнь изучению потайных уголков, легенд и историй этого прекрасного города.
Мэри ускорила шаг. Ей хотелось поскорей сказать Mémère, что она горда тем, что она – ее внучка. И что она очень любит ее.
Вдруг начался проливной дождь, типичный летний ливень Нового Орлеана. Укрываясь от него, Мэри забежала под балкон одного из домов.
– В Новом Орлеане все предусмотрено, – перефразировала она услышанные от прохожего слова, заговорив с женщиной, которая, как и она, пряталась от дождя под балконом. – Чтобы люди могли укрыться от непогоды, все дома снабжены «зонтиками».
Женщина окинула струи дождя опытным взглядом.
– Похоже, это кончится не скоро. – И она села на ступени подъезда.
Мэри присела рядом с ней.
– Я люблю этот старый, пронизанный сыростью город, – призналась она.
– Не любить Новый Орлеан способен лишь человек без сердца, – улыбнулась ее соседка.
Глава 56
– Мари, тебе следует знать, – заметила Mémère, – что именины, в отличие от дня рождения, у нас принято отмечать с большой пышностью. И в августе, в День Мари, мы с тобой устроим замечательный вечер.
– А разве сегодня у нас не замечательный вечер?
Они сидели при свечах за покрытым кружевной скатертью столиком на балконе с железной решеткой, любуясь разбушевавшейся стихией. Мэри велела слугам накрыть стол здесь, вернувшись с прогулки.
– Мне очень хотелось устроить наше празднество на балконе, Mémère. Дело в том, что я приехала в Новый Орлеан поздно вечером. Я ехала вдоль улицы и увидела на одном из балконов девушку примерно моего возраста, она сидела за столом вместе со своими родителями. Я так завидовала ей тогда… А теперь я чувствую себя так, как если бы я была той девушкой. Тогда я завидовала ей, сейчас все завидуют мне. Потому что у меня есть вы, Mémère. И я вас очень люблю.
– Дитя мое. – На глазах бабушки выступили слезы. Мэри взяла ее за руку:
– Mémère, в мой день рождения плакать не дозволяется, только улыбаться.
Анна-Мари Сазерак прижала руку внучки к мокрой щеке – она чувствовала себя как никогда счастливой.
После обеда она пошли в гостиную, где их ждал кофе. На подносе рядом с кофейником стояла квадратная обитая бархатом шкатулка.
– Мари, это мой подарок тебе, – промолвила Mémère. Она открыла шкатулку.
Внутри оказалась пара браслетов – тяжелых золотых браслетов, усыпанных неограненными изумрудами.
– Мари-Элен не снимала их с рук, – произнесла бабушка. – Ей нравилось щеголять своими необычными руками.
Мэри взглянула на портрет прапрабабушки. На ее руках действительно были эти браслеты. И веер – тот самый, что в ее шкатулке. Портрет словно ожил.
– А что еще она любила, Mémère? Вы ее знали? Какой она была?
– О, я хорошо ее помню. Мне было двенадцать, когда ее не стало. Все мои подружки в школе при монастыре урсулинок страшно завидовали тому, что у меня такая потрясающая бабушка. Она путешествовала по всему свету и говорила на языках, о которых мы даже не слышали. Она побывала в Санкт-Петербурге, Сан-Паулу, Александрии, Дели, Константинополе, – в общем, повсюду. Ее свадебное путешествие длилось пять лет, и, когда они с дедушкой вернулись в Новый Орлеан, у них было уже трое детей.
Мой дедушка тоже был замечательным человеком, хотя мы, дети, редко имели возможность видеть его. Он был личным советником испанского короля и месяцами не бывал дома, разъезжая по дипломатическим делам.
– Почему испанского, Mémère? Почему не французского?
– Да потому, что он был испанцем, Мари. И французский король для него ровным счетом ничего не значил.
– Тогда как же он оказался в Новом Орлеане? С какой стати испанский король послал сюда своего советника?
– Неужели ты не знаешь, Мари, что испанцы владели Новым Орлеаном гораздо дольше, чем французы?
– Просто не верю своим ушам. Тогда почему жители Нового Орлеана говорят по-французски, а не по-испански?
– Да потому, что французский гораздо красивее, это же очевидно. И испанский был вытеснен французским. Так ты хочешь, чтоб я рассказала тебе про своего испанского дедушку или нет?
– Да, Mémère, извините.
– Так вот. Его звали Хосе Луис. Он приехал в Новый Орлеан в семьсот шестьдесят девятом году, вместе с испанской армией. По его словам, он разглядел Мари-Элен еще с корабля, через бинокль, и послал ей воздушный поцелуй. Нам, девушкам, эта история казалась очень романтичной.
Но разумеется, в действительности все произошло иначе. Испанские солдаты тогда вовсе не были расположены к воздушным поцелуям. Ведь Новый Орлеан был французским городом. Жители его, узнав, что их король, Луи Добряк, отдал город своему кузену, испанскому королю Карлу; пришли в ярость. Это произошло задолго до прибытия Хосе Луиса. Французы не пожелали подчиниться ни испанским губернаторам, ни испанским законам. И принудили испанского губернатора к бегству.
Тогда Карл прислал нового губернатора. Он был выходцем из Ирландии, и звали его Алессандро О'Рейли. Наемник, шкура продажная. Он явился сюда с целой флотилией кораблей и двумя тысячами солдат. Первым делом он казнил тех, кто возглавил восстание, и заставил население Нового Орлеана принести присягу королю Испании. Жителям пришлось подчиниться, потому что население Нового Орлеана тогда насчитывало всего три тысячи человек, включая детей. К тому же надо учитывать, что из этих трех тысяч примерно треть составляли рабы. Вот тогда-то родители Мари-Элен и решили выдать свою дочь замуж за испанца.
Мэри покачала головой:
– Мне, кажется, больше нравится та, другая версия, с поцелуем.
Mémère улыбнулась:
– История действительно красивая, я с тобой согласна. И Хосе Луис говорил, что так оно и было на самом деле. Я слышала это собственными ушами. Но ты, Мари, должна знать не только легенду, но и то, что имело место в действительности. Когда-нибудь у тебя самой будут дети; истории владелиц шкатулки – их общее достояние, хотя шкатулка переходит только к старшей дочери.
Мэри снова взглянула на портрет:
– Но если бинокль и поцелуй – всего лишь легенда, как же тогда Хосе Луис влюбился в нее?
Бабушка рассмеялась:
– Вот это действительно загадка. По словам Мари-Элен, она отправилась в Кабильдо, где были правительственные учреждения, чтобы заверить у нотариуса какой-то документ ее отца, и Хосе Луис попросил позволения проводить ее до дома. Если верить ей, не успели они дойти до ее дома, как он сделал ей предложение руки и сердца.
– Как по-вашему, Mémère, так оно и было?
– Когда Мари-Элен рассказывала это, я верила ей, но ведь я тогда была очень молода. Повзрослев, я стала задаваться вопросом: как это ее, молодую женщину, отпустили одну в здание, битком набитое мужчинами. И с какой стати важному чиновнику жениться на четырнадцатилетней девушке, родители которой были настолько бедны, что не могли дать за ней приданого? Но к этому времени Мари-Элен уже умерла, и задавать вопрос было некому.
– Но вы могли бы спросить об этом у вашей матери.
– Ни за что на свете. Моя мама была их первенцем, она и мысли не допускала, что именно она и явилась причиной столь невероятного бракосочетания. Она родилась во время их свадебного путешествия – потому и не было никаких кривотолков на этот счет.
– Ах, Mémère, вы смеетесь надо мной. По-вашему, эту историю мне следует рассказывать своим детям?
– Только когда они станут достаточно взрослыми, любовь моя. И получат право судить обо всем самим. Нельзя забивать детям голову одними романтическими россказнями, Мари. Рано или поздно им придется столкнуться с реальным миром, и тогда им придется очень туго. – В эту минуту Анна-Мари казалась очень старой.
– Mémère, расскажите мне о других владелицах шкатулки. Веер принадлежал Мари-Элен, а перчатки чьи? А медальон?
– Деточка, хватит на сегодня. У меня просто раскалывается голова. Позови Валентин. Мне, пожалуй, лучше прилечь.
Оставшись в гостиной одна, Мэри снова посмотрела на портрет. Надев на запястья браслеты, она приложила ладони к изображенным на холсте. Они казались неотличимы.
– Спасибо за браслеты, – сказала она своей прапрабабушке. – Ах, что же это я, – спохватилась она, – даже не поблагодарила бабушку. Это первое, что надо сделать утром.
Мэри долго сидела в кресле, глядя на портрет. Время от времени она переводила взгляд на собственные руки в браслетах, на свои длинные, тонкие пальцы. Теперь она уже никогда не будет стыдиться их.
Наступил июнь, и жара усилилась. Она нависла над городом пеленой тяжелых облаков, которые, казалось, прижимали горячий воздух к земле, упорно отказываясь излиться дождем, который мог бы принести хотя бы кратковременное облегчение.
Мэри совсем забыла, как изнурителен и мучителен продолжительный влажный зной. Она начала жалеть о том, что они с бабушкой так опрометчиво затеяли коренную переделку в доме летом. Беспокоило ее и состояние бабушки, которая все больше и больше времени проводила в своей затемненной комнате, спасаясь от духоты мокрыми полотенцами и лекарствами.
По словам Валентин, летом бабушке всегда становилось хуже. Ей было трудно дышать спертым, гнилостным воздухом, и она чаще прибегала к настойке опия.
Мэри решила немедленно переговорить с Жюльеном.
– Пока она еще пребывает в этом мире и в состоянии слушать нас, ее надо поскорей вывезти из города, – сказала она ему. – Мне кажется, я еще способна договориться с ней. Но может статься, пройдет неделя, и мы опоздаем, она будет невменяема.
– Элеанор с детьми отдыхают в нашем доме на заливе. Завтра мы отвезем туда Maman.
– Это Можете сделать вы с Валентин. Мне нельзя уезжать из города, Жюльен. Слишком много работы в связи с переустройством дома. И кому-то надо следить за всем этим.
Жюльен пытался ее переубедить, но Мэри упорно стояла на своем. Раз дело начато, его нужно закончить. Однако Мэри понимала его тревогу по поводу того, что она останется одна, и уступила, согласившись, чтобы ее младший дядя Бертран переехал на это время в свои бывшие апартаменты в доме, чтобы в случае необходимости ее было кому защитить, да и вообще, чтобы ей не было одиноко.
У Мэри были определенные основания полагать, что Бертран не будет торчать все время дома, мешая рабочим.
На следующий день она проводила пребывающую в наркотическом забытьи бабушку, поцеловав ее на прощанье и пообещав приехать к ней, как только работы по дому будут завершены.
Затем она отправилась домой, чтобы внести кое-какие изменения в порядок работ. Теперь, когда отпала необходимость соблюдать тишину в часы отдыха Mémère, дело можно было ускорить. Интерес, который Мэри проявляла к переустройству поначалу, постепенно целиком захватил ее. Она и думать забыла о жаре. Ей нравилось перебирать образцы тканей и материалов, это как-то возмещало ей потерю домика в Кэрролтоне. В конце концов ей пришлось сдать домик в аренду, потому что времени заниматься им у нее совершенно не было. А жаль, она скучала по нему. Ведь он был ее творением.
Вопреки ожиданиям Мэри Бертран Сазерак проводил много времени дома. Его совершенно не смущала царящая суматоха: мебель то вносили, то выносили, занавеси и шторы сегодня развешивали, а завтра снимали опять, повсюду непрерывно сновали или висели на стремянках маляры и обойщики. Когда Мэри извинилась перед ним за беспокойство, Бертран лишь рассмеялся:
– Дорогая моя, каждый развлекается по-своему. Вероятно, для вас, женщин, вся эта возня с нарядами и устройством дома – излюбленное времяпрепровождение.
Сам он, по его словам, проводил время, как и подобает истинному джентльмену-креолу: то заглянет в кофейню поболтать за чашечкой кофе о том о сем, то на биржу – поинтересоваться, не поднялись ли акции, то на аукцион – перекинуться парой фраз с приятелями, то в бар – опрокинуть стаканчик-другой или просто пообедать; нельзя забывать и про парикмахера – стрижка, бритье, маникюр; портных, сапожников, шляпников, магазинчики, где всегда бывают наимоднейшие трости и шпаги; кроме того, он берет уроки фехтования, а также любит понаблюдать, как дерутся другие, регулярно бывает в театре, опере, на петушиных и собачьих боях, а весной и на скачках; в сезон надо появляться на каждом приеме, вечере, званом обеде и балу, посещать время от времени публичный дом и, конечно же, игорный. Собственно, там он и проводил большую часть времени – в закрытых частных клубах и номерах-люкс общественных клубов, в залах лото, которые имелись в каждом районе города. По уверениям Бертрана, игра была основным занятием всех новоорлеанских мужчин.
– Сами видите, – заключил Бертран, – я день и ночь тружусь как пчелка. И тем не менее имею репутацию бездельника и бонвивана. А между тем, вся разница между мной и, скажем, Жюльеном, который каждый день отправляется в свой банк, или Роланом, который не вылезает из своей брокерской конторы по продаже хлопка, – кстати, я никогда не мог понять, что в этом интересного, – в том, что, в отличие от них, я каждый день меняю места своих занятий.
Обычно Бертран обедал с Мэри. Они устраивались во дворике, приоткрыв внешние ворота, чтобы ветерок гулял туда-сюда.
И в один прекрасный вечер этот ветерок принес к ним Филиппа Куртенэ.
– Мне казалось, что мы договорились встретиться у Хелетта и перекинуться в фараон, – удивился Бертран. – Садись, выпей с нами кофе.
Филипп поклонился Мэри:
– Бонжур, мадемуазель Макалистер.
Мэри протянула ему руку:
– Рада тебя видеть, Филипп. Ради Бога, отбрось все эти церемонии. Садись и зови меня Мэри, как прежде.
Филипп с горячностью пожал ее руку:
– Я тоже очень рад видеть тебя, Мэри.
– А я и не знал, что вы давние друзья, – сказал Бертран. – Может, вы хотите побыть вдвоем, а я вам мешаю?
– Вот уж нет, – буркнула Мэри. Филипп уставился на свои ботинки. Бертран хмыкнул.
– Схожу-ка я к себе за сигарами. – И прежде чем Мэри успела что-то сказать, он удалился.
– Извини его, Филипп, – сказала Мэри. – Ты же знаешь Бертрана. Надеюсь, он не смутил тебя. Поверь, я вовсе не думаю, что ты пришел поухаживать за мной.
– Но мои намерения именно таковы, – пробормотал Филипп. Он сделал глубокий вдох и заговорил более решительно: – Послушай, Мэри, мне необходимо высказаться как можно скорее, иначе я так и не решусь сделать это. Прошу, выслушай меня спокойно, не перебивай.
Мы неплохо ладили прошлым летом и, мне кажется, поладим и в дальнейшем. Теперь, когда стало известно, что ты из семьи Сазерак и могла бы составить достойную партию, ничто не мешает мне жениться на тебе. Ну как, согласна?
Мэри внимательно изучала его взволнованное лицо – сейчас оно было свекольного цвета. Она едва удержалась от соблазна поддразнить его, однако сдержалась и строго произнесла:
– Нет, Филипп.
– Но почему, чем я тебя обидел? Я не вижу оснований для отказа.
– Ну, во-первых, Филипп, в таких случаях принято сказать несколько слов о любви.
– Черт возьми, Мэри, ты нравишься мне! А это, по-моему, значит гораздо больше, извини за чертыханье.
– Извинение принято. Ты тоже нравишься мне, однако замуж за тебя я не собираюсь. И будем считать этот разговор законченным. А теперь расскажи мне о своих делах. По-прежнему работаешь на плантации дядюшки?
– Минуточку, Мэри. Нет, наш разговор еще не окончен. Позволь мне открыть тебе глаза на кое-какие вещи. Как только пронесся слух о том, что ты принадлежишь к роду Сазераков, отец велел мне поторопиться с предложением, пока ты не вышла замуж за кого-нибудь другого. Ведь известно, что за тобой дают огромное состояние. Я послал его ко всем чертям.
Но эта мысль запала мне в голову, неотступно преследовала меня. Я имею в виду мысль жениться на тебе. Ты ведь знаешь, какой я, Мэри. Я терпеть не могу женщин за их жеманство и непрерывную трескотню. Но тебе это несвойственно. Я никогда не задумывался о браке с тобой, поскольку знал, что это совершенно невозможно. Я не настолько богат, чтобы позволить себе взять в жены бесприданницу. К тому же известно, что я незаконнорожденный и не могу жениться на ком-то себе под стать. Ты же принадлежишь к известному роду, богата, ты способна составить подходящую партию для меня.
Но главное, что ты мне нравишься. И я предлагаю тебе свою руку не потому, что ты из приличной семьи и богата, а потому, что ты нравишься мне такой, какая есть. Остальные – я имею в виду тех, кто будет предлагать тебе выйти за них замуж, – вряд ли будут интересоваться твоей личностью. Их будет интересовать лишь твое состояние.
И мне кажется, лучше уж тебе выйти замуж за меня. Так что подумай об этом.
Закончив, он откинулся на спинку кресла и, скрестив руки на груди, выжидательно посмотрел на нее. Мэри посидела-подумала и наконец сказала:
– Нет. Я не сомневаюсь, что ты прав, и благодарна тебе за совет. И тем не менее нет.
– Не будь же такой упрямой, Мэри! А впрочем, может, ты уже наметила себе кого-нибудь в женихи?
– Нет-нет, – быстро ответила Мэри. – Просто я еще не готова к замужеству. Может, я вообще не выйду замуж.
– Однако, если соберешься, предпочтешь меня?
– Не знаю. Не настаивай, Филипп.
– В таком случае я повторю свое предложение позже.
– Подожди, когда я буду представлена свету. Mémère очень строга в отношении соблюдения ритуала.
– Хорошо. До встречи в опере. Где же старина Бертран? Мы собирались пойти поиграть. – И Филипп ушел в дом за Бертраном.
Мэри осталась за столом одна. Она тихо смеялась. Цветущие апельсиновые деревья, которые росли вокруг, источали благоуханье. Вода в фонтане отливала серебром, в ее брызгах отражалась луна. Неподалеку кто-то пел под аккомпанемент гитары.
«Сплошная романтика», – подумала Мэри. Но слова Филиппа она запомнила.
Несколькими днями позже, рассматривая в магазине бахрому для занавесей в гостиную, она вдруг услышала знакомый голос:
– Мэй-Ри!
Она обернулась и очутилась в объятиях Жанны.
– О, Мэй-Ри, неужели правда, что ты выходишь замуж за Филиппа? Я так рада! Теперь мы с тобой станем настоящими сестрами.
– Нет, Жанна, это неправда.
Жанна надула губки:
– Ах, Мэй-Ри, ты ни капли не изменилась – все такая же скрытная хитрюга. Но мама сказала мне, что он сделал тебе предложение. Конечно, ты наверняка согласишься. Он же симпатичный, и ты так кокетничала с ним в Монфлери. Ты ведь любишь его, признайся!
– Жанна, я не собираюсь выходить замуж за Филиппа. Я еще даже не представлена в свете. Пока я вообще не могу выйти замуж за кого бы то ни было. – Мэри старалась говорить как можно строже – чтобы Жанне стало наконец понятно, что этот разговор ей неприятен.
– Ясное дело, ты хочешь вначале окружить себя толпой поклонников. Я поняла, Мэй-Ри, и никому ничего не скажу, буду молчать как рыба.
Итак, цель достигнута. Мэри улыбнулась:
– А как поживаешь ты, Жанна?
– Замечательно. Занимаюсь отделкой своего будуара. Подыскиваю кружево, но тут их столько, что просто голова идет кругом. – Она схватила Мэри под руку. – Мэй-Ри, пойдем ко мне. Ты мне что-нибудь посоветуешь. Ведь ты такая умница! Мы будем пить кофе и болтать, сколько нам вздумается, как когда-то.
В глазах Жанны, в той настойчивости, с которой она сжала руку Мэри, было столько мольбы, что Мэри не смогла отказать ей.
Глава 57
Мэри совсем забыла, какой болтушкой была Жанна, – та трещала без умолку, не переводя дыхания. Всю дорогу до огромного особняка на Эспланада-авеню Жанна рассказывала о вечеринке, которую устроила в честь Мэри: она обиделась на Мэри за то, что та не пришла, Мэри поступила не по-дружески, а ведь вечер получился очень удачный. Она рассказала и обо всех присутствовавших – кто в чем был и с кем танцевал.
Она продолжала в том же духе, пока они не очутились в ее спальне. Тогда Жанна закрыла дверь поплотнее и заперла ее.
– Мэй-Ри, – сказала она. – Мне столько нужно тебе рассказать!
Мэри сняла шляпу и перчатки и уселась поудобней.
Новости Жанны оказались и вправду потрясающими. У Мэри просто мороз пошел по коже от этих рассказов.
По всей видимости, Жанна находилась целиком во власти чар Мари Лаво. Она вызывала ее каждый день под предлогом парикмахерских услуг, лишь бы повидаться и поговорить с царицей вуду. Она даже заявила домашним, что ей необходимо сделать кое-какую перестановку в доме – все для того, чтобы остаться летом в городе. Она не могла уехать от Мари.
Та по-прежнему снабжала ее противозачаточными травами, а теперь Жанна зависела от нее и в другом: Мари давала ей масла и мази, чтобы сохранить красоту, порошки – «добавляешь в вино и спишь себе спокойно», – колдовские травы для защиты от болезней, тоски, врагов и даже от старости.
В качестве платы Жанна отдавала свои драгоценности, одну за другой.
Мэри попробовала было прервать поток слов Жанны, попытаться образумить подругу, сказать, что, в сущности, ей все это не нужно. Ведь она молода, красива, всеми любима, и у нее нет причин ни для тоски, ни для бессонницы.
Но Жанна и слушать не хотела. Она говорила и говорила и с каждой минутой все больше возбуждалась. По ее словам, Мари Лаво удостоила ее особой чести. Ей, Жанне, было разрешено присутствовать на шаманских обрядах в доме Мари. Она была принята в их тайную секту и никогда в жизни не забудет, какое потрясающее впечатление произвел на нее обряд посвящения.
– Мэй-Ри, ты обязательно должна прийти туда в следующий раз. Ведь ты теперь богата и можешь себе позволить это. Там много белых женщин, так что тебе нечего опасаться. Я спрошу у Мари разрешения привести тебя. Это удивительно, Мэй-Ри, вот увидишь.
Мэри резко поднялась.
– В жизни не слышала ничего ужаснее. Жанна, ты должна положить этому конец. Ведь ты губишь себя. Мне кажется, ты сошла с ума. Твоя Мари Лаво умеет укладывать волосы, но она никакая не колдунья. Весь этот шаманский бред – сплошной обман. Где твое благоразумие? Ты же не невежественная рабыня, танцующая на площади Конго!
Жанна сузила глаза:
– А ты всего-навсего американка. Ничегошеньки ты не знаешь. Вот Мари, та знает все на свете. Она предсказывает будущее и предупреждает меня, когда мне грозит опасность. Знаешь, есть одна женщина – она ведьма, принявшая мой облик. Я видела ее собственными глазами. Мари сказала мне, где она живет. И я пошла к ней, взяв свои колдовские травы. Я постучала и, когда эта женщина открыла дверь, увидела свою копию!
«О Боже! – подумала Мэри. – Она говорит о Сесиль Дюлак. Жанна никоим образом не должна знать, что они сестры». Ей понадобилось немало мужества, чтобы принять то, что Жанна произнесла в следующую минуту:
– Эта ведьма приняла мой облик, чтобы украсть у меня Вальмона Сен-Бревэна. Она его любовница.
Мэри словно ударили по голове. Но ведь она знала, давно знала, что у Вальмона есть любовница. Однако она сумела забыть это.
«Меня это совершенно не волнует», – сказала она себе, точно как тогда, когда услышала об этом впервые от Ханны. Ноги ее подогнулись, она опустилась в кресло, презирая себя за эту слабость. Но слишком уж неожиданно упомянула Жанна его имя.
– Ага! Поняла? – торжествовала Жанна. – Говорю тебе – Мари знает все, так что я права.
– Жанна, не слушай ее. Это может быть опасным для тебя.
– Не боюсь я ничего, ведь у меня есть колдовские травы. А если понадобится, куплю у Мари еще. Они оградят меня от любой напасти.
Мэри почувствовала себя больной.
– Однако Мари обладает большей колдовской силой, чем та ведьма. Она произнесла надо мной свои заклинания. И они подействовали. Та ведьма потеряла Вальмона, он собирается жениться на какой-то богачке из Чарлстона. Мне Филипп сказал. В июле Вальмон отправится на своем огромном пароходе за невестой.
– Сесиль, я собираюсь уехать на месяц. – Вальмон сидел в кресле, вытянув ноги и потягивая очередную порцию коньяка.
– Я знаю. – Сесиль пила кофе. – Что ж, счастливого путешествия.
Вальмон еле сдержался, чтоб не ответить ей резкостью. Сесиль с ее неизменным равнодушием стала все чаще раздражать его, когда он являлся с очередным визитом на Сент-Питер-стрит. Она никогда не заводила разговор сама, ограничиваясь лишь односложными ответами на его вопросы. Ее душа оставалась для него потемками. Однако он чувствовал себя в какой-то степени ответственным за нее.
– Сесиль, почему бы вам не поехать во Францию? Мои тамошние друзья будут вас опекать. К тому же там ваш брат. Вы могли бы устроить свою жизнь: выйти замуж, завести семью, дом.
– Я уже говорила вам, Вальмон. Я не хочу во Францию. Вэл задумался. Можно было увезти Сесиль в Канаду. Его судно стояло на якоре в рукаве дельты реки, неподалеку от плантации. Все было готово к плаванью. Беглые рабы поджидали подходящего момента, скрываясь на его плантации в Бенисоне. На сей раз их было больше, чем обычно, они прибывали с верховьев и низовьев реки, с востока и запада – отовсюду. Новость о том, что предыдущее плаванье увенчалось успехом, быстро пронеслась по «подземной железной дороге».
Кто знает, может, Сесиль недоставало именно того чувства свободы и общности цели, которое объединяло ее соплеменников в Канаде. Но Вальмон совершенно не знал ее, а следовательно, не мог довериться ей. Слишком много жизней зависело сейчас от него. Не мог он рисковать ими. Он молча потягивал коньяк.
Чего-чего, а молчания в этом доме было в избытке. Допив, Вэл поднялся и так же молча ушел. Сесиль потянулась, словно кошка, и улыбнулась. Приближался день, которого она так долго ждала.
Всю дорогу до плантации Вэл гнал коня и, когда наконец добрался, конь был в мыле, а с него ручьями стекал пот.
– Успокой его, – сказал он мальчику, который принял у него поводья. Он похлопал животное по крупу: – Извини, старина. Мне не терпелось покинуть этот вонючий город.
Вальмон сунул голову в наполненный водой лоток, что стоял возле конюшни, и тряхнул волосами; теперь он чувствовал себя гораздо лучше. Насвистывая, он направился к дому.
На ступенях его встретил дворецкий, Неемия. Выражение его лица заставило Вальмона замолчать.
– Судя по всему, неприятности, – сказал он. – Что случилось?
– Еще двое беглых, господин. Мужчина и паренек. Приплыли на каноэ два дня назад.
Вэл похлопал дворецкого по плечу:
– Только и всего? Ну и напугал же ты меня. Увидев твое лицо, я решил было, что у нас обыск. Подумаешь, двое, найдем место и для них.
– Дело в том, что мальчик сегодня заболел. Я поместил его в изолятор.
– Какая-нибудь инфекция?
– Похоже на лихорадку.
Резко повернувшись, Вэл пошел к хижинам рабов; рядом, возле часовни, стояло небольшое здание, которое в поместье называлось изолятором. Если у мальчишки лихорадка, плаванье придется отменить. Как передается лихорадка, неизвестно. Однако инфекция наверняка распространится. На корабле ее не избежишь; всякий, кто был в контакте с мальчиком, может оказаться носителем болезни.
Не успев дойти до домика, он услышал плач и испуганные возгласы. Снаружи уже собралась толпа мужчин и женщин, они стенали, плакали, пели траурные песни, молились. Все ждали его.
К нему подбежала какая-то женщина:
– Господин, он умер. Умер минуты две назад. И перед смертью харкал черным.
Кроваво-черная рвота означала последнюю стадию желтой лихорадки.
– Принесите из кладовых щелочной раствор, – сказал Вальмон, – обработайте им свои хижины. Мы не пустим в Бенисон «желтого Джека». И обязательно отправимся в плаванье, позже, чем собирались, но поплывем, непременно поплывем, я обещаю вам это.
Глава 58
Все произошло в точности как и неделю назад. Мэри с Бертраном опять обедали во дворе. На столике так же мерцали свечи. И так же неожиданно появился Филипп. Мэри хотела было отчитать его, но он прервал ее на полуслове:
– Мэри, вы не видели Жанну? – Он был явно обеспокоен. – Ее служанка сказала, что не видела ее. Никто не знает, где она. Милли отправилась к папе разузнать, не появлялась ли Жанна там.
– Успокойтесь же, Филипп. Жанна не ребенок, она взрослая женщина. Пошла, наверное, к какой-нибудь подруге, – Мэри от души надеялась, что ее слова прозвучали достаточно убедительно. Но в эту минуту она подумала о слухах, которые ходили вокруг имени Жанны, и об эпизоде в ее домике в Кэрролтоне. Может, у Жанны свидание с любовником?
Бертран указал Филиппу на стул, и тот кивнул с благодарностью. Однако, говоря, он обращался к одной Мэри. Он словно читал ре мысли.
– Я вытряхнул из Милли все что мог и уверен, что она говорит правду. Жанна отправилась не на свидание. Все ее выходные платья на месте, и парикмахерши сегодня у нее не было. Милли призналась, что в подобных прискорбных случаях моя сестра придерживается определенного распорядка. Хорошо еще, Берты нет в городе. Достаточно и одного папы. Он готов был прибить Милли на месте – я едва его удержал.
Бертран налил Филиппу вина.
– Выпей-ка и успокойся. Она появится. Мэри права – твоя сестрица скорее всего засиделась у какой-нибудь подружки. Сплетничают, небось, напропалую, жалуются друг дружке на мужей. Послушай моего совета, Филипп, оставайся холостяком. Даже если объект твоих воздыханий просто неотразим. – И он поднял свой бокал, глядя на Мэри.
Филипп издал стон:
– У кого больше оснований для жалоб, так это у моего зятя. Грэм уехал в Батон-Руж по делам. И сейчас, по нашим подсчетам, возвращается домой. Не представляю, что он сделает, вернувшись сегодня вечером и не застав жену дома. Он ведь, в конце концов, не слепой. По словам отца, он уже намекнул ему, что готов возвратить и жену, и приданое, в общем, развестись.
Бертран оживился, предчувствуя скандал:
– И что же сказал ему Карлос?
– Пригрозил, что отхлестает его кнутом. Он не верит ни единому слову из того, что говорят о Жанне. Он просто не в состоянии поверить этому. Сама мысль о том, что его малышка далека от совершенства, может убить его.
А Мэри раздумывала, стоит ли ей поделиться с ними своими соображениями. В конце концов она решила, что поступить иначе не имеет права.
– Филипп, Жанна может находиться в доме своей парикмахерши. Я знаю, что она бывала там и прежде. Эту женщину зовут Мари Лаво, она устраивает там какие-то магические обряды.
– Мари Лаво! – воскликнули оба в один голос, при этом Бертран трижды перекрестился.
– Так вы ее знаете? – спросила Мэри.
– Бертран! – закричал Филипп. – Ты помнишь, какой сегодня день? Двадцать третье июня.
– Канун Дня святого Джона, – ответил Бертран и вскочил так резко, что упал стул. – Мне надо кое-что взять с собой.
– О чем это вы? – потребовала Мэри ответа у Филиппа. – И куда вы собрались? И что такое канун Дня святого Джона?
По словам Филиппа, канун Дня святого Джона был самым значительным днем для тех, кто исповедовал вуду. Каждый год они праздновали его где-нибудь на берегу озера Поншартрен. Всегда в строжайшей тайне и всегда в разных местах. И хотя всякий раз находились охотники поглазеть на это зрелище, мало кому удавалось их обнаружить. Но и те, кому повезло, предпочитали помалкивать об увиденном, настолько жуткое это зрелище.
– Как бы то ни было, мы должны ехать за Жанной, – сказал он.
– И я с вами, – заявила Мэри.
– Вот это абсолютно исключено, – ответил ей Бертран, вернувшись.
Они только потеряли время, пытаясь переубедить Мэри, которая доказывала, что ей легче будет уговорить Жанну покинуть это место. Пока они препирались, явился Карлос Куртенэ – он искал Филиппа. Вникнув в суть спора, он в момент разрешил его, вскричав:
– Наша задача – найти ее во что бы то ни стало, а там уж неважно, кто чем будет заниматься. Филипп, – скомандовал он, – отправляйся на конюшню, вели приготовить лошадей. А мы последуем за тобой.
Мэри не могла припомнить, когда ездила верхом в последний раз. Наездницей она была никудышной и терпеть не могла верховой езды. Ей пришлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы не отставать от остальных. Она сосредоточилась на управлении лошадью, и ей было некогда ощущать тот страх, который могла вызвать еле виднеющаяся дорога, освещаемая фонарем, который держал в руке Карлос Куртенэ. Она даже забыла свою былую ненависть к нему, теперь он раздражал ее лишь тем, что мчался как угорелый, и она не поспевала за ним.
Наконец они добрались до озера и, повернув в топкие леса вокруг него, сбавили шаг. Вот тут ее охватил ужас. Свет фонаря разбудил и перепугал птиц и невидимых во мраке животных, которые то и дело проносились над их головами и издавали тревожные резкие крики. В темноте Мэри ощущала прикосновения к лицу вьюнов и испанского мха, и ей хотелось закричать. Казалось, отовсюду им грозила опасность, подстерегающая на каждом шагу.
Все молчали. Они напряженно прислушивались, надеясь услышать что-то, что могло бы привести их к цели. Мэри казалось, что все это напоминает сказки, которые она, как и каждый ребенок, слушала в детстве, – о маленькой девочке, заблудившейся в лесу ночью. Она внушала себе, что уже взрослая. Но с каждой минутой, с каждым новым прикосновением ветки к лицу ей становилось все страшнее и страшнее.
Они пробирались на ощупь среди деревьев, по топи, в непроглядном, кромешном, адовом мраке. И вдруг вышли на тропу – Мэри почувствовала свободное пространство кругом; над их головами сияли звезды. Она прикусила губу, чтобы не расплакаться, так легко ей стало.
– Это пустая трата времени, – сказал Бертран. – Мы можем часами бродить тут, но так и не обнаружим их. Ширина озера – двадцать шесть миль, и одному Богу известно, на сколько миль тянется береговая линия. К тому же надо учитывать впадины, заливчики. Нам нужна лодка. Наверняка они зажгли костры. И мы сможем увидеть их с лодки. Ступайте за мной. – Он направился в сторону озера, опять в глубь леса.
– Тут тропинка! – крикнул он через минуту.
Тропинка привела их к причалу с лодкой.
Филипп привязал лошадей к деревьям, а Карлос опустил фонарь на землю, поближе к воде, чтобы было видно, куда возвращаться.
– Слава Богу, – сказал Бертран, – тут есть и весла. Бертран сел на весла, и они отплыли; вода была теплой, казалось, весь мир вокруг состоял из воды. Потом Карлос сменил Бертрана. Затем Филипп. Затем снова Бертран.
Они двигались, стараясь держаться поближе к темнеющему берегу; слышен был лишь мягкий плеск воды от взмахов весел.
Наконец они услышали где-то вдалеке бой барабанов, мерный, ритмичный бой.
Постепенно, по мере приближения, этот грохот заполнил все вокруг, казалось, в такт ему поднимались и опускались весла, бились их сердца.
Береговая линия делала плавный изгиб; они обогнули нечто вроде мыса и увидели мечущееся пламя огромных костров – огонь отражался в воде, и тени, отбрасываемые им, казались даже более жуткими, чем царивший вокруг мрак. Теперь гул барабанов был явственно различим: «Бум-ди-ди-бум, ди-ди-бум!..» Он звучал непрерывно, тревожно, завораживающе.
Бертран повернул лодку.
– Пожалуй, лучше высадиться здесь, подойдем к ним со стороны леса. – Он сказал это спокойно и доверительно, однако слова его на фоне гула барабанов прозвучали грозно.
Они увидели огромную открытую поляну, освещаемую со всех сторон пламенем костров. Посреди ее горел костер поменьше. Над ним был подвешен огромный чугунный котел. Рядом было небольшое возвышение, посреди которого стоял стол, а на нем – деревянный ящик.
Со всех сторон раздавался барабанный бой: «Бом-ди-ди-бом-ди-ди-бом-ди-ди-бом!..»
Площадка была пуста, церемония еще не началась. Позади костров, в тени, виднелись бесформенные очертания человеческих фигур, они беспокойно двигались, шелестя и шумно дыша, – явно в состоянии напряженного ожидания и еле сдерживаемого волнения. А воздух вокруг звенел от ударов.
Мэри схватила Филиппа за руку. Ей было просто необходимо чувствовать рядом живое человеческое тепло, нечто родное и знакомое. Ей потребовалось неимоверное усилие, чтобы заставить себя подойти ближе к пугающему открытому пространству, озаренному светом костров.
Бертран повернулся и поднял руку, давая остальным знак остановиться.
– Придется подождать, пока не станут видны люди, – сказал он. – А вдруг Жанны нет среди них?
Его голос дрожал и казался непривычно высоким и резким. Он повел всех в тень одного из деревьев, окружавших площадку, оттуда удобнее было наблюдать.
Мэри обхватила руками тонкий ствол ближайшего дерева и прижалась щекой к шершавой коре. Ей было страшно стоять здесь одной. Казалось, звон барабанов проникал в каждую клеточку ее тела, пронизывал все вокруг: и ствол дерева, и самый воздух, который она вдыхала. «Бом-ди-ди-бом-ди-ди-бом-ди-ди!..»
Удары барабанов стали быстрее, громче, они казались беспрерывными. Мэри зажала уши руками, но это не помогло. Вибрация воздуха вливалась в нее сквозь кожу, отдавалась звоном в голове, груди, животе. Ей почудилось, что земля плывет у нее под ногами, и в отчаянии она снова ухватилась за ствол дерева.
На фоне барабанного боя послышался еще один звук. Он был не таким громким, но казался еще более резким, пронизывающим, жутким.
Тени у костров внезапно пришли в движение. На открытую площадку выскочили мужчины; их черные сверкающие тела были обнажены, если не считать узких красных набедренных повязок и крошечных колокольчиков у колен и щиколоток. Босыми ногами мужчины отбивали на примятой траве ритм в такт барабанам, образуя все более узкое кольцо, они приплясывали и прыгали, прыгали и приплясывали, и колокольчики на их ногах беспрерывно звенели. Кружась и подскакивая, сверкая белками глаз и белозубыми улыбками, они заполнили всю поляну, их были десятки, сотни – кружащихся, притопывающих в такт барабанному бою и звону колокольчиков сплетений красного, белого, черного.
Потом из темноты выскочили женщины, тоже танцуя, в воздухе мелькали их обнаженные руки, головы, ноги; тела под тонкими белыми хлопковыми рубашками, открытыми и короткими настолько, что то и дело виднелись лоснящиеся от пота бедра и нижняя часть живота, выпуклые груди и ягодицы, изгибались и извивались. Одна из них подбежала к возвышению, держа в высоко поднятых руках трепыхающегося цыпленка. С громким криком она швырнула цыпленка в кипящий котел. За ней последовали другие женщины, и каждая бросала в котел какое-нибудь живое существо – лягушку, птицу, змею и, наконец, отчаянно мяукающую черную кошку. Каждое жертвоприношение сопровождалось пританцовыванием, прыжками и торжествующими возгласами.
Мэри и хотела бы не смотреть, но не могла отвести глаз и лишь крепче прижималась к стволу дерева.
Внезапно барабаны замолчали, танцы прекратились. Наступившая тишина вселяла больший ужас, чем обряд жертвоприношения.
В центр площадки вышла женщина. Золотые браслеты на ее руках скользили, с громким стуком ударяясь друг о друга – в полнейшей тишине этот звук резал слух. На женщине было свободное одеяние, состоящее из красных полосок, связанных друг с другом и удерживаемых на талии голубым поясом. Черные волосы каскадом ниспадали по ее плечам и спине. Сквозь черные завитки у ушей были видны сверкающие кольца золотых серег.
Взойдя на возвышение, она повернулась к собравшимся лицом. Отблески пламени освещали ее казавшееся бронзовым, поражающее царственной красотой лицо.
Мэри затаила дыхание. Это была Мари Лаво.
Царица вуду подняла руки. Она заговорила. Казалось, она говорила сама с собой, подняв лицо к небесам, почти шепотом. Ее голос, однако, был слышен даже в самых дальних концах поляны:
– L'Appé vini…
Бом-ди-ди-бом – снова забили барабаны. Мэри изо всех сил пыталась понять, о чем она говорит, но половина слов была непонятна ей.
– L'Appé vini, le Grand Zombi.
Бом-ди-ди-бом-ди-ди-бом-ди-ди-бом…
– L'Appé vini, le Grand Zombi, l'Appé vini, pou fe gris-gris![27]
Женщины и мужчины, окружавшие царицу, стали раскачиваться в такт молитве, присоединившись к ней.
– L'Appé vini, le Grand Zombi… – Бом-ди-ди-бом… – L'Appé vini, pou fe gris-gris!
– Le Grand Zombi, Zombi, Zombi! – Пение становилось все громче, все сильнее били барабаны.
Из темноты к Мари Лаво вышел человек, в вытянутых руках он держал за ноги небольшого белого козленка. Тонкое блеянье животного привело толпу в еще большее возбуждение, люди начали не только распевать, но и притопывать. «Зомби, Зомби, Зомби!» Крики слились с ровным ритмом барабанов.
Мари Лаво взяла со стола нож – сталь сверкнула в свете костра. Взяв козленка полусогнутой левой рукой, правой она вонзила ему в горло нож. Ее грудь и плечи обагрились кровью. Она вытянула руки вперед, чтобы кровь, сочащаяся из горла козленка, стекала в чашу, которую держал стоящий внизу человек. Топот ног и движения тел слились в едином порыве, все глаза были устремлены к царице.
Мэри пыталась разглядеть в толпе Жанну, но из-за света костров лица и тела танцующих слились в сплошную массу, то вспыхивающую, то гаснущую в отблесках пламени.
Затем толпа, словно по команде, дружно издала протяжный звериный вопль.
И Мэри увидела, что царица вуду пьет из чаши кровь козленка.
Потом Мари Лаво одним движением поставила чашу на стол, открыла деревянный ящик и извлекла оттуда огромную, толстенную, извивающуюся змею.
– Зомби! Зомби! Зомби! – оглушительно кричали собравшиеся.
Мари подняла лицо – на губах ее краснела кровь. Ее тело начало ритмично извиваться; ноги, однако, оставались неподвижны, в то время как бедра, колени, талия и плечи изгибались, копируя движения змеи, которая, вытягиваясь и сокращаясь, медленно и постепенно обвивала ее тело, скользя по обнаженным плечам и шее до тех пор, пока треугольная змеиная головка не оказалась у самого лица Мари Лаво. Вытянув раздвоенный язык, змея слизала капли крови со щеки, затем с подбородка и, наконец, с губ колдуньи – все до последней капли.
– Айи! Айи! Вуду-маньян! – вскричала Мари Лаво, все сильнее извиваясь в такт бою барабанов. Она гладила змею, притягивая ее головку к горлу, к груди, в то время как змеиные кольца обвивали ее ноги, ягодицы, дрожащий живот.
– Э! Э! Бомба-э! Э! – кричала колдунья.
Канга-бафи-тэ!
Данга-мунэ-дэ-тэ!
Канга-ду-ки-ли!
Канга ли! Канга ли! Канга ли!
Толпе передалось ее возбуждение, она скандировала теперь вместе с ней:
– Э! Э! Бомба-э! Э!
Топот, прыжки, приплясывание становились все более разнузданными и быстрыми, то и дело слышались крики. Чашу с кровью передавали из рук в руки. Мари Лаво подалась вперед, к рукам, протянутым ей навстречу. Ее тело по-прежнему находилось в движении, оно изгибалось, извивалось и дергалось. Бой барабанов усилился, стал яростным.
Она ухватилась за первую попавшуюся руку, и человек подпрыгнул, издав громкий стон, словно его ударило током.
Затем он коснулся руки женщины, оказавшейся рядом, и та тоже закричала.
Энергия Зомби переходила от бога-змеи к царице, а от нее – к ее подданным, от руки к руке через прикосновение, сопровождавшееся криками, прыжками и плясками. И так до тех пор, пока площадка не превратилась в море идолопоклонников, охваченных экстазом и не помнящих себя.
Один за другим люди падали как подкошенные. Остальные, ничего не замечая, продолжали плясать, топча упавших.
Мэри опустилась на землю, она дрожала от страха, кровь стучала у нее в ушах в такт стремительным барабанам.
Ей хотелось, чтобы Филипп, Бертран и Карлос оказались рядом; однако они, как и она, прятались среди деревьев.
Вдруг она увидела Жанну.
Рубашка ее была порвана, одна грудь обнажена. Она была вся запачкана кровью, сгустки крови темнели и в уголках ее рта. Она пронеслась мимо деревьев, и Мэри услышала ее смех, точнее, не смех, а звериное рычание.
Послышался треск сучьев – это Карлос Куртенэ ринулся было вперед, но упал под тяжестью навалившегося на него сына.
– Нет, папа, – услышала Мэри. – Они разорвут вас на части.
– Жанна! – застонал Карлос. Но чья-то рука зажала ему рот.
Несмотря на гул барабанов и дикие вопли танцующих, Мэри услышала шум рядом с собой. Это Филипп и Бертран вдвоем оттаскивали Карлоса подальше от полосы света.
– Не смотрите на это, – просили они его.
– Нет, я должен, – стенал тот.
Мари Лаво танцевала тем временем уже одна. Змея была возвращена в покрытый магическими письменами ящик. Теперь сама Мари превратилась в Зомби, ей передались его силы и способность изгибаться так, словно у нее не было костей. Ее руки, скользя по телу, снимали с него одну за другой красные повязки и швыряли их в огонь до тех пор, пока она не предстала перед всеми обнаженной. Ее красивое тело лоснилось от пота.
– Канга ли! – закричала она. – Канга ли!
– Канга ли!!! – прокричали в ответ сотни глоток. Набедренные повязки одна за другой полетели в огонь, мужчины с коричневой, черной кожей стали прыгать, звеня колокольцами и выставляя напоказ свои мужские достоинства. Они хватали извивающиеся тела женщин и валили их на землю.
– Канга ли!!!
В одну минуту пляски сменила ужасающая сцена оргии. Обнаженные мужчины и женщины ползали на четвереньках, завывая и кусаясь, сдирая друг с друга одежды, сцепляясь в клубки и совокупляясь, словно животные, хватая ближайшее тело независимо от возраста, пола и цвета кожи. Среди них Мэри узнала мадам Альфанд, мадемуазель Аннет и почтенную даму-креолку, живущую в доме напротив особняка Сазераков.
Где-то совсем близко зазвенел смех Жанны. Затем ее красивое белое тело пронеслось мимо них и нырнуло в кучу чернокожих тел, прорываясь в центр с криком: «Меня! Меня! Меня!»
За спиной Мэри среди деревьев послышался другой смех, и она увидела, как к ним грациозной походкой подошла Сесиль Дюлак.
– Миши Карлос, и вы тут? – произнесла она. – Наслаждаетесь увиденным? А я привела мистера Грэма, пусть тоже поразвлечется.
Глава 59
После всех ужасов того кануна Дня святого Джона Мэри двое суток провела взаперти в своей комнате. Люди – мужчины и женщины, белые и черные – вызывали в ней отвращение. Ей хотелось забыть все, что она видела и чувствовала, кошмары продолжали терзать ее и тогда, когда она была, как ей казалось, уже в безопасности, у себя дома, в своей комнате, в постели.
В конце вторых суток она сказала себе, что прятаться всю жизнь невозможно. Надо набраться мужества и выйти к людям.
«Нет, не надо, – возразила она себе. – Можно убежать от них. Хотя бы ненадолго».
И, положив в сумочку последнее письмо от бабушки, она отправилась к Жюльену, в его контору, чтобы поговорить с ним об этом.
Днем позже она уже плыла на пароходе, направляясь в летнюю резиденцию Жюльена на заливе.
– Mémère все просит меня приехать, – сказала она дяде. – Я могла бы погостить у нее с недельку.
Жюльен отнесся к ее решению с одобрением. От Бертрана он знал о том, что произошло на озере, а по осунувшемуся лицу Мэри было видно, что она тяжело переживала случившееся.
Мэри любовалась переливавшейся красками – голубым, бирюзовым, зеленым – поверхностью Мексиканского залива; ей в жизни не приходилось видеть ничего красивее.
– Мне все это кажется сном, – с восхищением призналась она бабушке.
– А мне кажется сном, что ты здесь, опять рядом со мной. Я так скучала по тебе.
– И я тоже, Mémère. – К удивлению Мэри, ее ответ, произнесенный почти автоматически, во многом соответствовал действительности. Анна-Мари Сазерак, если только она не находилась в состоянии наркотического забытья, могла быть очень интересной собеседницей. И Мэри любила слушать истории из детства своей матери и бесчисленных кузин, живших или и поныне здравствующих в Новом Орлеане.
К тому же Мэри открыла для себя, что именно бабушка является центром огромного дома на Ройал-стрит. Даже когда она накачивалась наркотиками, дом продолжал жить налаженной жизнью, слуги старались сделать все наилучшим образом, дабы не нарушить ее покой; видимо, они любили свою хозяйку. Стоило Mémère уехать, и все переменилось, в отношениях между слугами появились вражда и соперничество, поэтому, а может быть, просто желая испытать новую хозяйку, они беспрестанно теребили Мэри по разным поводам, требуя от нее каких-то решений, жалуясь друг на друга и выпрашивая особых привилегий для себя. Разговаривая со слугами, Мэри чувствовала себя неловко. Институт рабства вызывал в ней отвращение, и ей едва ли удавалось скрыть это. Поэтому наличие рабов в собственном доме заставляло ее чувствовать себя виноватой.
«Скорей бы уж жара кончилась и бабушка вернулась в город!»
– Мне кажется, дом вам понравится, Mémère. Ремонт почти закончен. Знаете, какого мастера я нашла, чтоб поправить тот золотой лепесток на плафоне…
В долгие безмятежные послеполуденные часы Мэри сидела вместе с бабушкой на открытой морскому ветру широкой террасе, обращенной к заливу; раскачиваясь в креслах-качалках, они читали, разговаривали или просто молчали, думая каждая о своем. Mémère вытребовала это время и террасу для личного уединения.
– Я обожаю своих внуков, – заявила она, – но не все же двадцать четыре часа в сутки.
Мэри вполне понимала причины, побудившие бабушку сделать подобное заявление. У Жюльена и Элеанор было семь детей самого разного возраста, старшему, Полю, было четырнадцать, а младшей, Августе, два. И хотя сама она была всего на три года старше Поля, после утра, проведенного с детьми, Мэри чувствовала себя постаревшей и вымотанной донельзя. Поэтому она с радостью согласилась разделить с бабушкой уединение и покой террасы.
Однажды у них снова зашел разговор о сокровищах шкатулки, и Мэри спросила, не ее ли матери принадлежала перчатка.
– О нет, детка. Пальцы твоей матери были совершенно обычными. Потому-то я и была так потрясена, узнав о твоих, ведь я была уверена, что это фамильное сходство окончилось на моей матери. До меня все Мари имели такие пальцы. Вероятно, именно поэтому первая Марии приехала в Новый Орлеан. Должно быть, она была из бедной семьи и, чтобы выйти замуж, у нее не было приданого. Впрочем, я предпочитаю верить легенде, которая живет в нашем роду, – о том, что она была первой обладательницей длинного мизинца и поэтому ее считали ведьмой. В те времена люди еще верили в них.
«Некоторые верят до сих пор», – подумала Мэри, вспомнив жаркие речи Жанны.
– Значит, Мари Дюкло приехала в Америку. И что же случилось с ней дальше? – потребовала продолжения Мэри. Ей не хотелось вспоминать о Жанне.
– Она вышла замуж за одного из солдат короля, как и подобало обладательнице шкатулки. Женщин присылали из Франции и до «девушек с гробиками», но большинство из них замуж выходить не пожелало. Жизнь женщины в новой колонии была трудной, и, чтобы не обременять себя обязанностями жены и матери, они предпочли заниматься своим старым ремеслом, тем самым, из-за которого во Франции угодили за решетку, – там их и набирали люди короля. Те женщины были проститутками и воровками.
Конечно же, они посмеивались над девушками и их шкатулками. Иногда я думаю, может, кто-нибудь из девушек и не выдержал, присоединился к компании старожилок. Легенда о том умалчивает.
Во всяком случае известно, что Мари Дюкло этой участи избежала. Она вышла замуж за пехотинца, его звали Анри Виландри, и у них родилось четырнадцать детей; однако до совершеннолетия дожили лишь пятеро.
Мэри была поражена.
– Как, она потеряла девятерых? Почему? Это ужасно!
– Это случается во все времена, Мари, и смерть детей всегда трагедия. Они умирают при родах, во время эпидемий, от несчастных случаев и от множества других причин. Та Мари, которая была владелицей твоих перчаток, была третьей по счету, две первые умерли в младенчестве. Нашу Мари звали Жанной-Мари. Она родилась в семьсот тридцать втором году, Новому Орлеану тогда было всего четырнадцать лет.
Тогда площади назывались островами, потому что, когда шел дождь, канавы, окаймляющие их, доверху наполнялись водой, превращая отдельные районы в острова. Через эти канавы были переброшены широкие доски, которые служили мостами, соединяющими их во время наводнений, и улицы с обеих сторон тоже были застланы досками, по которым можно было пройти, не утопая в грязи. Так появились первые тротуары. Тогда все население города, включая детей и рабов, едва ли насчитывало пятьсот человек. Люди знали друг друга гораздо ближе, чем сейчас. Говорят, в те времена не было и сотни домов, да и они по большей части были обыкновенными хижинами.
Однако Пляс д'Арм уже была. И церковь, и монастырь урсулинок. Это они, святые сестры, принесли цивилизацию в Новый Орлеан. Они были сестрами милосердия, учительницами, а самое главное, они верили в будущее Нового Орлеана. Можешь представить, чего стоило в этой грязи, слякоти, отбросах, при дожде и урагане высаживать и растить тутовые деревья. Затем они развели шелковичных червей и научили молодых женщин изготовлять шелк, чтобы из него можно было шить одежду.
Но я отвлеклась. Мы ведь говорили о перчатках Жанны-Мари. Ей было, должно быть, всего десять, когда из Франции прислали нового губернатора. Это был необычайный человек. Звали его маркиз де Водрель. С ним прибыла его жена маркиза и целый штат придворных. Вели они себя так, словно их заляпанный грязью кирпичный дом был настоящим Версалем. Они привезли с собой уйму мебели, серебро, зеркала, ковры, роскошные одежды, парики, косметику и даже пышный экипаж и к нему – четверку белых лошадей. И если было не слишком грязно, маркиза со своей камеристкой разъезжала в нем по улицам, любезно раскланиваясь с жительницами города, которые в это время возились у себя в огородах, пасли скотину или присматривали за детьми, играющими возле домов.
Естественно, что все молодые девушки, не исключая Жанны-Мари, хотели походить вовсе не на своих мамаш, а на маркизу. Мари отнюдь не пришла в восторг от того, что ее папенька, который был солдатом, просватал ее за дубильщика кож. Жиль Шалон был, наверное, неплохой партией. Он считался хорошим мастером, да и спрос на кожу всегда был высок. И его жена не знала бы нужды. Правда, к несчастью, он был кривой – потерял один глаз во время военной кампании против индейцев. Да и запах от него исходил пренеприятнейший.
Тем не менее она вышла за него замуж. И, судя по всему, была ему хорошей женой. Она родила пятерых сыновей и пятерых дочерей. В знак благодарности он, когда кампания против индейцев закончилась, поместил свою дубильню на некотором расстоянии от дома, а ей сшил пару перчаток, в которых не постыдилась бы выйти и сама маркиза.
– Какая замечательная история, Mémère!
– Все женщины в нашем роду по-своему замечательны, Мари. И запомни, что моя бабушка Мари-Элен, та самая, что на портрете в гостиной, была дочерью Жанны-Мари Шалон. Должно быть, ее матушка была безумно счастлива, что дочери удалось достичь еще более высокого положения, чем у самой маркизы де Водрель.
Мэри была поражена. Эта мысль показалась ей совершенно неожиданной. Казалось невероятным, что женщина на портрете могла оказаться не совсем леди.
– Неужели Мари-Элен так гордилась своим высоким положением? И относилась к своим родителям свысока?
Mémère засмеялась:
– Детка моя, как же мало ты пока знаешь о своей семье! Отец Мари-Элен заключил выгодный контракт на поставку кожи для испанской армии в Луизиане. И разумеется, нажил на этом колоссальное состояние, причем без малейших усилий. Он построил огромный дом, в котором живет теперь твой кузен Кристоф. Его отец, Лорен, был мне дядей, а Мари-Элен старшим братом. Он стал правительственным чиновником. Позаботился их отец и о других своих сыновьях и зятьях, все они получили хорошие места. Мэри взмахнула руками:
– Нет, нет, Mémère! Когда вы начинаете сыпать именами кузенов и кузин, у меня все мешается в голове.
– Ты их все выучишь, Мари. Это всего лишь вопрос времени.
– Ну нет, мне никогда не запомнить их имена, – стенала Мэри. По случаю празднования Дня Независимости из города приехал Жюльен, а вместе с ним еще человек семнадцать родственников, кузенов разных степеней родства. С восхищением, граничащим с благоговением, Мэри наблюдала, как Элеанор спокойно разрешала проблемы питания и размещения неожиданных гостей. Вытеснив собственных детей с их законных мест и пустив в ход раскладушки, гамаки и детские кроватки, не забыв о подушках и постельном белье, она сумела устроить так, что в шести спальнях их коттеджа нашлось место для каждого гостя или гостьи, которые вольны были жить сколько угодно.
Жюльен привез с собой все необходимое для фейерверка. И вот стар и млад, вдоволь налакомившись арбузами и полюбовавшись закатом на берегу, с восторгом приветствовали ракеты, которые одна за другой взмывали в темное небо, рассыпаясь на множество разноцветных звезд. Такие же фейерверки устраивались на соседних виллах. Примерно с час все небо в округе пылало огнями.
Мэри вспомнила фейерверк, который видела ровно год назад, и порадовалась тому, что теперь она отмечает Четвертое июля уже не одна, среди незнакомой, выкрикивающей угрозы толпы, а в кругу родных.
Вспышка красного света вычертила курчавый профиль ее кузена, его силуэт напомнил Мэри о Вальмоне Сен-Бревэне, который в ту ночь, словно рыцарь из старинных преданий, пришел ей на помощь. Разве думала она тогда, что он окажется таким жестоким? И чтобы не поддаваться нахлынувшей волне ярости и обиды, она стала думать о нынешнем действительно прекрасном вечере.
На следующее утро Жюльен пригласил ее прогуляться с ним по берегу, наедине.
– Мэри, мне необходимо решить один вопрос, и я хотел бы прежде переговорить с вами. Я получил письмо от управляющего приютом, в котором находится моя сестра Селест. Он полагает, что ей полезно было бы провести какое-то время среди родных, это способствовало бы ее выздоровлению. Элеанор тоже хотела бы видеть ее. Разумеется, ее будет сопровождать кто-то из приютского персонала. Но, если вы против ее приезда, я не дам своего согласия. Я хорошо понимаю, что обида, которую Селест нанесла вам, незабываема.
Мэри улыбнулась:
– Жюльен, обо мне не беспокойтесь, поступайте по собственному усмотрению. Я ведь и так собиралась уехать вместе с вами в воскресенье в Новый Орлеан. Я задержалась здесь несколько дольше, чем намеревалась, а мне не терпится увидеть новые шторы в гостиной Mémère. К тому же почта сюда не доходит. И признаться, мне не терпится дочитать роман, который печатает «Пчела». Я оставила Новый Орлеан, когда герой «Несчастного ангела» оказался в довольно затруднительном положении.
Бертран ужасно обрадовался приезду Мэри.
– Ах, моя прелестная племянница, – заявил он с серьезным видом, – пока вас не было, я не раз был готов подпалить дом. Потому что эти мастера подстерегают меня буквально на каждом шагу. Гремят своими лестницами прямо под моей дверью, а стоит чуть приоткрыть ее, норовят покрыть меня слоем отвратительной зеленой краски.
– Простите меня, Бертран, за то, что я дезертировала, оставив вас с ними один на один. Но мне было необходимо уехать как можно дальше от озера Поншартрен. Помните тот жуткий вечер?
– Еще бы. Нам не следовало брать вас с собой. – Глаза его горели, ему не терпелось поделиться новостью о светском скандале. – Знаете, брак Жанны Куртенэ и Грэма аннулирован. Одному Богу известно, чего это стоило бедняге Карло-су. Говорят, он нигде не показывается. Он совершенно подавлен. После развода Берта увезла Жанну в какой-то монастырь, в штат Миссисипи. Надеюсь, стены там достаточно высокие.
Однако выражение лица Мэри заставило его замолчать.
– Извините меня, дорогая. Я совсем забыл, что вы с ней были подругами. Позвольте обрадовать вас более веселой вестью. Я сохранил для вас все номера «Пчелы». Так что теперь вы можете зарыться в них и предаться чтению полюбившегося вам романа.
Герой Александра Дюма продолжал пребывать в затруднении. И судя по главе шестьдесят четвертой, на его голову выпало гораздо больше невзгод, нежели в пятьдесят шестой. С каждым днем Мэри все больше наслаждалась своим утренним кофе, с удовольствием предаваясь чтению истории злоключений бедняги доктора, чтобы с новыми силами справляться уже с реальными проблемами, – например, как уговорить мастеров добавить ну хоть немного синей краски в зеленую.
Но шестнадцатого июля воображаемые злоключения героя Дюма внезапно перестали интересовать кого бы то ни было. Напечатанный жирным шрифтом заголовок передовицы в «Пчеле» гласил: «Эпидемия».
За прошедшую неделю от лихорадки в городе умерло две сотни человек.
Глава 60
Две. Сотни. Человек.
Мэри не могла поверить в это. Ведь у нее самой была лихорадка. Не слишком приятная болезнь, однако не смертельная. Почему же столько людей умирает от нее?
Может, это младенцы или маленькие дети? Она вспомнила, что у Жанны лихорадка унесла братьев и сестер. Это все были дети.
Она перечитала статью в газете, на сей раз медленнее. В ней ясно говорилось «людей», не только «детей». Перевернув страницу, она прочитала эту же статью по-английски. Нет, все-таки людей.
Она услышала, как Бертран говорит что-то кому-то из слуг. Мэри налила ему кофе. Может, Бертран объяснит ей, в чем дело.
– Бонжур, Мари. Это мне кофе? Умница.
– Бонжур, Бертран. В «Пчеле» напечатано что-то неслыханное. Вы не могли бы объяснить мне, в чем дело?
– Вы о лихорадке? Да, я уже знаю. Жак разбудил меня этой новостью. Он пакует мои вещи. Сколько времени займут у вас сборы?
– Сборы? Но я никуда не собираюсь уезжать.
– Мари, сейчас не время для шуток. Разумеется, мы все уедем. Если об эпидемии сообщают в газете, значит, лихорадка свирепствует уже несколько недель. Они всегда замалчивают подобные вещи, пока это еще возможно. Теперь все, кто может, ринутся из города. И если мы хотим найти какой-нибудь транспорт, следует поторопиться.
Бертрана было просто не узнать – куда подевалось его всегдашнее легкомыслие? Рот его был изогнут в кривой улыбке, он нервно крутил свою чашку. Он был явно напуган.
– И не смотрите на меня так, – почти закричал он на нее, – вы и понятия не имеете, что это такое. Эпидемия желтой лихорадки вовсе не та сезонная инфекция, от которой умирает горстка иммигрантов. Эпидемия косит всех. Помню ту, что была в тридцать втором году. Мне было тогда восемнадцать, вполне взрослый, и отец велел мне помогать ему вместе с Жюльеном и Роланом подбирать упавших на улицах. И доставлять их в госпиталь – или на кладбище. Их было ужасно много. Больных, пышущих жаром. Или уже закоченевших, покрытых черной блевотиной, с черными языками, торчащими из глоток. Это продолжалось несколько месяцев, казалось, этому не будет конца. Это был ад, можете мне поверить. Настоящий ад, полный вони и гнили. Мы должны уехать, пока это еще возможно. Упакуйте свои вещи. Или отправляйтесь без них, теперь это неважно. Нам необходимо уехать.
– Куда, Бертран?
– К озеру. В наш отель. Там просто обязаны найти для нас комнаты. Надо ехать немедленно. Иначе наши комнаты займет кто-то другой. – Его взгляд метался из стороны в сторону, словно в поисках выхода из их спокойного, уютного дворика. – Ну вот? Слышите? – Бертран кинулся к воротам. – Так я и знал! – крикнул он. – Посмотрите-ка сама.
Мэри подбежала к нему. Мимо их дома по улице несся какой-то экипаж.
– Надо торопиться. – Он тряхнул ее за руку. – Что же вы медлите?
На улице снова воцарилась тишина.
– Я не поеду с вами, Бертран, – сказала Мэри. – У меня уже была лихорадка. Так что мне нечего бояться. А в доме еще много дел.
Подбежал Жак с двумя чемоданами в руках:
– Вот ваш багаж, миши Бертран.
Увидев решимость на лице Мэри, Бертран отвернулся.
– Отнесите это к вокзалу, Жак. Я смогу достать лодку на озере. Если потороплюсь.
Бертран поспешил прочь. Сейчас он ничем не напоминал того дядюшку, которого знала Мэри, – светского щеголя с изысканными манерами. Плечи его были сгорблены, словно он пытался защититься от удара. Казалось, он стыдится своего бегства.
Мэри вернулась к своему креслу и погрузилась в чтение Дюма. Но она никак не могла сосредоточиться. В чем же дело? Бертрана никак нельзя было назвать трусом. В той поездке накануне Дня святого Джона он держался с завидным самообладанием. И если слово «эпидемия» вызвало в нем такую перемену, значит, ситуация и впрямь была угрожающей. Может быть, она ошибалась и ей тоже следовало уехать из города?
Она услышала, что пришли мастера, и выкинула из головы мысль о лихорадке. Сегодня во что бы то ни стало нужно выбить из них желаемый оттенок зеленого, в противном случае придется окрасить деревянные панели в голубой, и дело с концом. Разумеется, тогда придется менять шторы. А эти можно повесить в другой комнате – в маленькой спальне для гостей на третьем этаже. Нет, пожалуй, лучше в большой. Но это означает, что… Она свернула газету и отправилась к мастерам.
В середине дня пошел дождь. Мэри ему была рада – он принесет хоть какую-то прохладу. Даже при открытых окнах дом, пропитанный запахом краски, напоминал раскаленную печь.
Часом позже, видя, что низкие серые тучи сплошь заволокли небо, а дождь не прекращается, Мэри отпустила мастеров. В такой день краска все равно не высохнет.
– Однако завтра вам придется явиться несколько раньше обычного, – приказала им она. – Теперь, когда мы подобрали наконец подходящий цвет, мне хочется закончить все побыстрей.
Они поклялись, что придут.
Мэри решила выпить кофе возле балконной двери. Дождь ее уже не радовал. Ведь ее любимым местом был балкон. И она пользовалась любой возможностью посидеть там хоть несколько минут, наблюдая, словно из театральной ложи, за тем, что происходит на улице. Торговцы, расхваливающие свой товар, превращались в певцов, распевающих арии. И хотя она ни за что не призналась бы в этом, утренние сцены на Ройал-стрит были для нее намного интересней спектаклей в опере.
Однако сегодня улица была необычно молчалива. Слишком сильный дождь. Слышны были только звон церковных колоколов и шум колес проезжающих экипажей. И шелест дождя.
Мэри думала о дожде, о краске в зале, которая, похоже, не скоро просохнет, и внезапно осознала, что и звон колоколов, и шум колес как-то затянулись. В сущности, они не прекращались все то время, что она простояла у окна. Поставив пустую чашку на стол, она вышла на балкон.
Мэри тут же насквозь промокла, однако совершенно не замечала этого. Она стояла, глядя на происходящее внизу, на улице, и не верила своим глазам. Повсюду, куда ни посмотри, улица была запружена экипажами, фургонами, колясками. Они двигались медленно, непрерывно, в строгом порядке, останавливались, чтобы пропустить транспорт, идущий по поперечной улице, вновь трогались с места и неспешно устремлялись дальше, прочь из города. Под траурный перезвон колоколов.
И Мэри впервые пришло в голову, что действия Бертрана вполне разумны. Похоже, и остальные следовали его примеру.
Сердце у нее сильно колотилось. «Мне тоже надо ехать. Они знают что-то, чего не знаю я. Я останусь в Новом Орлеане одна-одинешенька». В панике она захлопнула дверь и прислонилась к ней, словно пытаясь преградить дорогу опасности.
Затем ей стало стыдно. «Мэри Макалистер, – сказала она себе, – ты просто дура. Посмотри, какую лужу ты устроила на любимом ковре Mémère. Ну что тут особенного? Подумаешь, сорок—пятьдесят экипажей. Уезжает от силы сотня человек».
Да всего месяц назад в «Пчеле» была статья, в которой говорилось, как разросся Новый Орлеан. Теперь в нем, кажется, сто пятьдесят тысяч населения. Даже если пятьдесят тысяч и уехали на лето из города, остается около ста тысяч. Сотня человек сбежит, и что? В таком огромном городе это ничтожная капля. И конечно, все они едут по Ройал-стрит. Ведь кроме Ройал-стрит в старом городе всего одна мощеная улица, да и та вечно забита пешеходами, потому что там сосредоточены все магазины.
Мэри побежала в свою комнату и переоделась в сухое, затем – в бельевую, за полотенцем, чтобы просушить лужу на ковре. И за то время, что она устраняла устроенный ею беспорядок, к ней вернулось хорошее настроение – она была довольна, что сумела совладать с собой.
Но и улегшись в свою кровать, она слышала сквозь шум дождя, как всю ночь в темноте тарахтели колеса. В какой-то момент ее опять охватил ужас, и она в очередной раз подумала, что ведет себя как последняя дура.
Потом, убаюканная мягким шелестом струй, успокоенная прохладой, она заснула глубоким, здоровым сном. Наконец-то ей не было жарко и тело ее не исходило противным липким потом.
На следующий день в «Пчеле» не было ни слова о лихорадке.
Но по-прежнему весь день звонили колокола. И дождь все не прекращался.
Мэри пошла на кухню, чтобы поговорить с прислугой.
– Вы знаете, что все вокруг говорят об эпидемии лихорадки. Может быть, кто-нибудь из вас хочет уехать из города? Я уверена, месье Жюльен не станет возражать.
Но никто не согласился принять ее предложение.
– Черные редко заболевают лихорадкой, зелль Мари, – пояснил Жак, – и потом, все мы – горожане.
«И я тоже», – подумала Мэри. Спокойствие прислуги вселило в нее уверенность. «Все будет в порядке, – внушала она себе, – лишь бы дождь не помешал закончить ремонт».
Двумя днями позже служанка Мишель пришла с рынка с корзинкой, полной всякой снеди. Смеясь, она стряхивала капли дождя со своего зонта и вдруг с удивленным выражением лица рухнула на пол.
На шум прибежала Мэри. Продукты, вывалившиеся из корзинки, были разбросаны по полу; яйца разбились, и скорлупа перемешалась с растекшимися желтками, зелень рассыпалась веером, два цыпленка, связанные за ноги, трепыхались рядом.
У ног кухарки и садовника катился, все еще двигаясь по инерции, гранат. Они стояли тут же, схватив друг друга за руки и отступив чуть ли не вплотную к камину, не замечая пылающего в нем огня.
Опустившись на колени, Мэри попробовала помочь Мишель встать.
Глаза служанки закатились, белки их пожелтели. Из ноздрей и открытого рта струилась кровь. Язык почернел.
– Помогите мне перенести ее в кровать, – приказала Мэри слугам, – у нее лихорадка.
Но те не могли сдвинуться с места.
– Помогите, говорю вам. – Подсунув руку под плечи Мишель, Мэри пыталась приподнять ее.
– Я помогу вам, зелль. – Из холла появился Жак, он мягко отстранил Мэри и поднял больную. – Я ее отнесу.
– Я побегу за доктором, – сказала Мэри.
И как была, без накидки, без шляпы, без зонтика, выскочила под дождь.
Ройал-стрит была пустынна, лишь дождь лил как из ведра да колокола звонили.
Мэри вспомнила, что дом доктора находится в соседнем квартале. Она побежала как можно скорее, шлепая прямо по лужам и спотыкаясь о неровную брусчатку мостовой.
Добежав до дома доктора, она стала стучать в дверь большим медным молоточком, имеющим форму дельфина, и, когда ей наконец открыли, заговорила вначале по-английски, потом, спохватившись, повторила свой вопрос по-французски, медленно.
– Доктор только что уехал, – ответила служанка и указала на экипаж, который уже заворачивал за угол.
Мэри помчалась вслед экипажу. Она нагнала его через четыре квартала и на бегу, не останавливаясь, забарабанила в дверцу кулачками.
Экипаж замедлил ход и остановился.
– Что вам угодно, барышня?
Мэри задыхалась. Она едва могла говорить. Когда в конце концов она сумела объяснить, в чем дело, доктор приоткрыл дверцу и помог ей забраться в экипаж.
– К дому Сазераков, – велел он кучеру. Мэри забилась в угол, пытаясь прийти в себя.
Доктор Бриссак вначале представился, а затем прочитал Мэри краткую лекцию, в которой в чрезвычайно резких тонах сделал ей выговор за крайне неосмотрительное поведение. Потому что в подобном состоянии – насквозь промокшая и продрогшая, да еще выбившаяся из сил – она вполне может стать следующей жертвой.
Мэри попыталась возразить, что не может заболеть лихорадкой, поскольку уже переболела ею и чувствует себя превосходно. Пока она говорила все это, у нее зуб на зуб не попадал.
– Вам следовало покинуть город, – ворчал доктор.
– О, я как раз собираюсь это сделать, доктор. Как только Мишель поправится, мы со слугами уедем.
– Слишком поздно, мадемуазель. Теперь в день умирает по сотне человек. То есть это по нашим данным. Город на карантине, и все лодки стоят на якоре. А все лошади заняты нами, врачами. Или гробовщиками. Вы запоздали в своем решении.
Для Мишель тоже все было поздно. Когда Мэри с доктором Бриссаком добрались до дома, она была мертва.
– Сходите к гробовщику Глемпиону, – скомандовал доктор Жаку. – Может, у него еще есть гробы. Да поторопитесь. – Он взял Мэри за руку. – Мадемуазель, вы сделали все что могли. И благодарите Бога за то, что ее смерть была легкой. У некоторых мучения длятся по нескольку часов, а то и дней. К сожалению, мы, врачи, мало чем можем помочь. Если в доме заболеет еще кто-нибудь, отправьте больного в городскую больницу. Все врачи и сестры там. Больных слишком много, и мы не успеваем посещать их на дому. А теперь я должен ехать, я ведь ехал в больницу.
Мэри пыталась сказать какие-то слова благодарности, но он лишь махнул рукой.
Она настояла на своем участии в похоронах, хотя Жак отреагировал на это в точности как и доктор, когда она благодарила его. Повинуясь хозяйке, негр последовал за ней, но на его исполненной достоинства физиономии было выражение негодования. По его мнению, поведение Мэри было вызывающим и неподобающим знатной даме. Оно оскорбляло достоинство всей семьи Сазерак и лично его, дворецкого.
Но Мэри не замечала его ярости, а если бы и заметила, то вряд ли приняла бы к сведению. Нужно было, чтобы хоть кто-то проводил Мишель в последний путь, оплакал ее смерть, положил цветы на ее могилу; нельзя было допустить, чтобы ее уход был никем не замечен. Прижав к груди букет срезанных в их дворике роз, Мэри брела за катафалком по размытой грязной колее под неутихающим дождем. Путь к построенной испанцами церкви на Рэмпарт-стрит показался ей бесконечным. Она знала, что церковные служители велели построить эту церковь два десятилетия назад, чтобы запретить погребения в соборе, и мысль об этом приводила ее в ярость. Ведь по замыслу божьему – если только Бог действительно существует – каждый человек, умирая, имеет право обрести вечный покой под крышей любого храма, даже самого величественного.
Катафалк, двигавшийся с остановками, со скрипом, застрял за квартал от Рэмпарт-стрит. Мэри проковыляла вперед, намереваясь отругать возницу.
Но замолчала на полуслове. Дорогу преграждал долгий ряд экипажей, катафалков, тележек, дрог, и все везли свой скорбный груз. Влажно блестели дерево, кожа и крашеная металлическая обшивка; лошади встряхивали головами под слепящими струями дождя; вся улица, превратившаяся в сплошную трясину, была покрыта ковром из втоптанных в грязь цветочных лепестков.
Мэри подняла глаза к небу и подставила дождю залитое слезами лицо, у нее больше не было сил сдерживать их. Ей хотелось завыть волком, дать выход накопившимся в ней ярости, печали, страху, который вселял в нее непрерывный траурный звон колоколов. Но она понимала, что это ничего не изменит.
Весь похоронный обряд состоял из торопливой молитвы, которая закончилась последним благословением умершей и окроплением гроба святой водой. Несколько минут, пока пожилой, казавшийся измученным священник произносил молитву, катафалк стоял неподвижно, затем священник махнул рукой, давая понять, что обряд закончен и следующий экипаж может занять их место.
Кладбище находилось рядом, через площадь. На этом кладбище Мэри была в День всех святых вместе с семьей Куртенэ. Тогда оно имело совсем другой вид – ухоженные могилы, торжественная и праздничная атмосфера, солнечные блики на источающих аромат свежих белых хризантемах.
Теперь здесь была непролазная грязь, запахи гниения и разложения. Какой-то белый в черной непромокаемой накидке с капюшоном спросил возницу, кого хоронят.
– Рабы вон там, – указал он большим пальцем назад. – С катафалком нельзя. Могу дать вам двух носильщиков, каждому заплатите по десять долларов.
Но у Мэри было с собой только пять, и она предназначала их для свеч и пожертвования.
– Мы отнесем ее сами, – сказала она Жаку. И, не дожидаясь возражений, велела ему взяться за гроб.
Они понесли его, спотыкаясь и утопая в глубоком вязком месиве грязи, оставлявшей жирный черный слой на подоле юбок Мэри.
Колокольный звон болью отдавался в ушах Мэри. Когда они приблизились к месту захоронения, ее чуть не вырвало от запаха разлагающихся тел. К ним подошла женщина с ведром уксуса и корзинкой тряпья. В этой атмосфере смерти острый уксусный запах казался дыханием жизни.
– Возьмите тряпку с уксусом, мадемуазель, всего один доллар. Надежная защита против лихорадки.
– Две, пожалуйста, – сказала Мэри. – Дайте одну моему помощнику.
Женщина намочила тряпки в уксусе и положила их на гроб рядом с Мэри и Жаком.
– Мне не дотянуться до кармана, – сказала Мэри. – Возьмите деньги сами, а сдачу положите туда же.
Женщина достала из кошелька Мэри золотую монету, попробовала ее на зуб и ухмыльнулась, обнажив в улыбке гнилые зубы. И, подхватив рукой юбки, побежала прочь, перескакивая через глубокие грязные лужи.
Мэри было все равно. Она готова была заплатить любые деньги за один только запах уксуса. Схватив тряпку, она зажала ею рот и нос – два могильщика взяли у них с Жаком гроб. Дворецкий, как она заметила, последовал ее примеру. Его черная кожа посерела.
Могильщики положили гроб поверх шаткой пирамиды других гробов.
– Что вы делаете? – закричала на них Мэри. – Ее нужно похоронить!
– Похороним, когда наберется достаточное количество, – заметил один из могильщиков.
Тут Мэри поняла, что он имеет в виду, и ей снова пришлось зажать рот тряпкой. Неподалеку от них шестеро работников валили гробы в кучу в небольшой канаве, заполненной водой, и, чтобы не всплывали, придавливали их сверху камнями. Позади них еще одна группа могильщиков рыла другую яму.
Мэри собралась было запротестовать, но Жак, взяв за руку, оттащил ее в сторону.
– Пусти меня, Жак. Так нельзя. Ни могилы, ни таблички, это просто бесчеловечно. И все потому, что умершие были рабами. Я этого не потерплю.
– Перестаньте, зелль. Взгляните лучше туда. – Он повернул Мэри в другую сторону, и действительно, по ту сторону кладбищенской ограды гробы точно так же варварски, торопливо складывали в штабеля. – Там хоронят белых, – сказал Жак.
Только оказавшись далеко за пределами кладбища, Мэри положила тряпку с уксусом в карман накидки. Было удивительно приятно ощущать во рту пронизанный дождем воздух. Она легко шагала по тротуару Конти-стрит. Сейчас ей была необходима прогулка.
На сей раз она была одна. Поворчав по поводу того, что даме не подобает гулять без сопровождения, Жак вернулся в дом. Его постоянное ворчание раздражало Мэри, однако она была глубоко тронута преданностью старого дворецкого семье. Мэри направлялась в банк своего дяди Жюльена; она хотела попросить его устроить отъезд слуг. Потрясенные смертью Мишель, все они решили покинуть город.
Точнее, все за исключением Жака.
– Я не оставлю дом мадам Анны-Мари, – отказался он. – Могут забраться воры.
Когда Мэри, увязая в грязи, пробиралась по Дофин-стрит, дождь прекратился. Мэри взглянула на небо и увидела чистый голубой лоскуток, который на глазах становился все больше и больше.
Ее настроение тут же улучшилось. «Небо прояснится, и все опять вернется на свои места, – думалось ей. – Эпидемия наверняка идет к концу».
Но она жестоко ошибалась. Это было только начало.
Глава 61
Жюльен без слов согласился вывезти прислугу из города.
– Я сам собирался переговорить с вами, как только закончу свои дела, – сказал он. – У меня есть экипаж и повозка для слуг. Я тоже вывожу всех своих. Так что поедем вместе. Мне надо завершить кое-какие дела тут, а потом займусь сборами. Я заеду за вами и слугами. В семь часов вас устроит? Слава Богу, день долог, мы успеем выехать на Ривер-роуд до наступления темноты. Поедем на плантацию моего кузена, в Сен-Френсисвиль. Возьмите с собой на всякий случай постельные принадлежности и всю еду, которая найдется в доме. Неизвестно, сколько у них беженцев, это может оказаться нелишним.
Поблагодарив его, Мэри ушла. Двое рабочих закрывали ставнями окна банка. Какое-то время – Мэри дошла почти до угла – стук молотков заглушал звон колоколов.
В отличие от слуг, Мэри уезжать не собиралась. В конце концов, она не меньше Жака чувствовала себя ответственной за дом. Но Жюльен считал ее отъезд делом само собой разумеющимся, и она засомневалась. Если уж и он закрывает банк и покидает свой дом, значит, дела обстоят и впрямь плохо. И может быть, наступил тот самый момент, когда следует прислушаться к мнению человека, который старше ее и опытней. Мэри вздохнула.
И испугалась собственного вздоха. Потому что вокруг стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь звоном колоколов. Она замедлила шаг и оглянулась. Пусто. Куда ни посмотри, ни единого признака жизни, даже кошки и собаки исчезли куда-то.
Мэри вздрогнула. Такое ощущение, будто весь Новый Орлеан уехал. Или умер.
Она стояла на Бурбон-стрит. По бокам расположились роскошные особняки, а посередине – грязное месиво.
Мэри словно в первый раз увидела эту улицу. Сейчас она была на ней совсем одна, никуда не торопилась, и обычная городская сутолока не отвлекала ее. Красота города поразила ее. Даже грязь вокруг – и та была красива. Таящие опасность канавы и колдобины извивались и блестели, словно оброненный кем-то отрез черного сатина.
Солнце, отражаясь в лужах, придавало очертаниям фасадов неправдоподобную чистоту линий. Бледные, косые солнечные лучи упирались в канавки, где старые, хрупкие красные кирпичи были соединены раствором. Кирпичи чуть заметно отсвечивали розовым. Штукатурка фасадов казалась мягкой, цвета – голубой, охряной, серый – были приглушены. Мэри никогда не замечала этого, не приглядывалась, но теперь, когда была одна и ничто не отвлекало ее внимания, она с наслаждением и удивлением обнаружила, что, оказывается, двери домов были совершенно не похожи друг на друга, а окна отличались и по форме, и по расположению.
Ставни, оконные перемычки, световые окошки над дверьми – все поражало своей неповторимостью и красотой. У всех домов были металлические балконы или террасы, которые отбрасывали симметричные тени на фасады. Тени от вьющихся растений, железных решеток и лепных украшений – арабесок, раковин, листьев. И каждый рисунок удивлял своей красотой, изяществом и оригинальностью. Каждый дом был по-своему уникален и не похож ни на какой другой. Но вместе они создавали цельное впечатление красоты, – казалось, все дома слились в монолитную разноцветную стену, прерываемую лишь узкими железными воротами и дверями, с их неброской своеобразной красотой, да балконами, нависшими над ними, словно зонтики.
Это смешение множества разнородных стилей потрясало своей гармонией. «И как я раньше не замечала всего этого?» – дивилась Мэри.
Она не спешила домой. Взволнованная, она обходила квартал за кварталом, вглядываясь в город, словно видела его в первый раз, проникаясь любовью к нему. Как каждый дом поражал своеобразием и одновременно гармонией с другими, так и каждый квартал, при всей своей уникальности, был неотъемлемой частью того целого, что называлось Новым Орлеаном.
Теперь пустынные улицы уже не казались Мэри зловещими, она воспринимала увиденное как дар. Она чувствовала себя счастливой от множества открытий, совершенных ею в этот день, и с нетерпением предвкушала новые, еще более поразительные. Этот город таил в себе так много неведомых сокровищ, что ей не хватило бы всей жизни, чтобы познать его до конца.
Она и думать забыла, что всего через несколько часов ей предстоит покинуть его.
На лестнице у входа в дом Мэри увидела тарелку с едой, по краям которой лежали серебряные монетки. Она уже видела такие у дверей других домов. Она подумала, что это милостыня, подаваемая голодающим, несчастным жертвам эпидемии. «Интересно, кто из слуг выставил ее сюда?» – подумала она. Жак ни за что бы не решился посягнуть на тончайший французский фарфор Mémère. И наверняка не позволил бы трогать его никому другому. Мэри всей душой была за милосердие, однако ей не нравилось, что в доме нарушен привычный порядок. И без того беспокойства достаточно.
Она подняла со ступени тарелку, собрала монеты и направилась по дорожке во внутренний дворик. Ее увидел садовник Рене, он был занят тем, что подвязывал кусты роз, полегшие после дождя. При виде тарелки он упал на колени и закрыл голову руками.
– Нет, зелль, нет! – простонал он. – Это подношение великому Зомби, если вы уберете его, большая беда случится. Положите это назад. Прошу вас, положите!
У Мэри все вскипело внутри. Пока она была на заливе, ужас, в который ее ввергло увиденное накануне Дня святого Джона, отошел на задний план. Теперь она вновь почувствовала его, а также отвращение. Рене посмел заниматься колдовством в ее доме! И она высыпала содержимое тарелки на голову садовнику вместе с монетами.
А затем с пустой грязной тарелкой пошла на кухню.
– Помойте ее хорошенько и уберите, – приказала она посудомойке. – А когда покончите с этим, велите всем, чтобы собрали вещи к отъезду. Нам придется взять с собой матрасы и постельное белье, а также как можно больше еды. А Рене прикажите перед отъездом вымыть голову хозяйственным мылом. Может, это прочистит немного и его мозги. В вашем распоряжении всего час, так что поторопитесь.
На самом деле было немногим больше пяти, но Мэри знала медлительность служанки.
Она передала указания дяди Жюльена и дворецкому.
– Жак, вы точно не поедете с нами?
– Нет-нет, зелль Мари… Извините за беспокойство, но вас хочет видеть одна особа. Она ждет в холле.
– Ради Бога, Жак, там же негде присесть. И потом, мне сейчас совсем не до гостей. Кто она?
– Некая особа. – Вот и все, чего она добилась в ответ.
Мэри поспешила в дом, приготовившись просить извинения за то, что кузине пришлось ждать ее так долго. Наверное, она хочет попроситься ехать вместе с ними в карете Жюльена.
Кого она совершенно не ожидала увидеть, так это Сесиль Дюлак.
Сесиль не стала тратить время на приветствия.
– Мэри, вам надо пойти со мной, – сказала она. – Вальмон требует вас.
Мэри пришлось ухватиться за балясину перил.
– Боюсь, я ничем не могу помочь месье Сен-Бревэну, – сказала она. – Да и не хочу.
Ни эти слова, ни резкий тон Мэри не произвели на Сесиль никакого впечатления.
– У Вальмона лихорадка, Мэри. Он бредит и в жару повторяет ваше имя. Он уже несколько часов в таком состоянии. Конечно, вы можете и не приходить. Но, если вы будете рядом, ему будет легче принять смерть.
– Смерть? Он что, умирает?
– Может быть, уже мертв. Я жду вас здесь три часа. Мэри повернулась и побежала в дом.
– Жак, – кричала она, – Жак!
Она столкнулась с ним на полпути к кухне.
– Жак, скажите месье Жюльену, что я с ним не поеду. И проследите за сборами. Мне нужно выйти, и я не знаю, когда вернусь.
Сотни раз она представляла себе расправу с Вальмоном Сен-Бревэном и ту радость, с которой прикончила бы его. Но она не могла перенести его смерти.
Глава 62
Сесиль привела Мэри к просевшей калитке дома Мари Лаво на Сент-Энн-стрит. Мэри не знала, чей это дом, но была уверена, что Сесиль, с ее любовью к роскоши, не могла быть его хозяйкой.
– Зачем мы пришли сюда? – спросила Мэри.
– Вальмон здесь. После того как он потерял сознание, друзья принесли его ко мне, чтобы я за ним ухаживала. Я распорядилась, чтобы его перевезли сюда. Мне в моем доме больной лихорадкой ни к чему.
Услышав это, Мэри посмотрела на Сесиль так, будто увидела змею. Но на Сесиль это не произвело ровно никакого впечатления.
– Входите же, – сказала она – Вас ждут.
– А вы, что же, не войдете?
– Нет. – И Сесиль отправилась по своим делам, осторожно перешагивая через грязь, чтобы не испачкать платье.
А Мэри прошла в калитку и очутилась во дворике, сплошь увитом зеленью. Дверь в дом была открыта настежь. Она вошла и остановилась на секунду, чтобы привыкнуть к полумраку.
Через некоторое время ее глаза смогли различить женщину, стоящую в дверях соседней комнаты. Поняв, что перед ней царица вуду, Мэри отпрянула.
– Он здесь, – сказала Мари Лаво и направилась в комнату.
Мэри оставалось лишь последовать за ней.
Вальмон лежал на громадной кровати с балдахином, поддерживаемым массивными, словно стволы деревьев, резными витыми столбиками. Ложе стояло в центре небольшой комнаты, по углам высились железные подставки для чаш с горящим маслом. Они освещали комнату ярче дневного света.
Вэл лежал раздетым, если не считать полоски голубой ткани вокруг бедер и белой тряпки на глазах. Желтизна его кожи была особенно заметна на фоне белой простыни, на которой он лежал. Он беспокойно метался, его руки и ноги то и дело подергивались, а потрескавшиеся губы что-то шептали, время от времени издавая низкий, протяжный стон.
Он жив. Остальное не имело значения. Мэри прошла между двух ламп к изголовью кровати. Руки ее дрожали, ей хотелось убрать влажную прядь с его лба, смочить его сухие, потрескавшиеся губы, утешить его как-нибудь. Это прикосновение успокоило бы и ее. Боль, которую он ей причинил, то, как он обошелся с ней – безобразно, жестоко, – все это теперь потеряло значение. Ему было плохо, и ее сердце разрывалось от горя при виде его страданий.
– Я отвезу его в больницу, – сказала она. – У моего дяди есть экипаж. Я немедленно отправлюсь за ним.
– Нет, вы этого не сделаете, – сказала Мари. – Доктора с их слабительными и кровопусканиями отправят его на тот свет. Я сама знаю, как его лечить. Если бы он был спокоен, он справился бы собственными силами. Но он мечется, снотворный порошок не помогает ему, силы его на исходе. Потому я и послала за вами Сесиль… Поговорите с ним. Скажите ему, что вы здесь.
Мэри сжала руки в кулаки.
– Ему нужен доктор, а не ваши пляски и заговоры. Пустите меня. Я пошлю за экипажем. – Она ринулась на Мари.
Но Мари сделала шаг в сторону, и Мэри уткнулась в стену. Сильными руками Мари скрутила ей запястья и прижала ее к стене.
– Тише, идиотка, – шепнула она ей. – Не хватало еще, чтобы ты своим квохтаньем беспокоила его. Вот что я тебе скажу: этот человек – мой друг. Я люблю его и сделаю все, чтобы он поправился. Лучше меня ему никто не поможет. Можешь остаться тут и помогать мне, можешь уйти, если хочешь. Но я не допущу, чтобы ты отняла у него единственный шанс выжить. Попробуй только сделать это, и я прикончу тебя на месте. Клянусь великим Зомби.
Мэри чувствовала на щеке жаркое дыхание Мари Лаво. Она лихорадочно соображала, как ей высвободиться из тисков Мари, и вдруг услышала стон Вэла. Его голос был слабым и жалобным.
– Мэри… Мэри…
Она сумела освободиться. А может быть, Мари сама разжала руки.
– Вэл, я здесь. Я рядом. – Не прошло и секунды, как она оказалась возле него.
– Мэри… – Он водил руками по груди, видимо, хотел протянуть их к ней, но у него не было сил даже поднять их. – Мэри…
Она поймала его руки своими и почувствовала, как горят его ладони.
– Мэри… я виноват… прости… меня…
– Простила, Вэл, простила. – Поднеся его руки к своим губам, она целовала и целовала их, а слезы текли по ее щекам. – Я простила тебя, – шептала она. – Я сделаю все, что ты хочешь. Выполню любое твое желание. Все будет хорошо. Любимый мой, только не умирай. Только бы ты был жив.
Он издал долгий, глубокий вздох, полный облегчения. Его ноги перестали беспокойно двигаться, замерли и руки. Внезапно они налились тяжестью, и Мэри не смогла их удержать, уронила ему на грудь.
– Вэл!
На его губах некоторое время блуждала улыбка. Затем расслабились и мышцы рта. Струйка яркой красной крови стекла из его ноздрей на губы и вниз – по подбородку, к шее.
Мэри закричала:
– Он умер! – Она пыталась остановить кровь руками, но та просачивалась у нее между пальцев.
Оттолкнув ее в сторону, Мари Лаво приложила сильную руку к залитому кровью горлу Вэла.
– Тише, дурочка, – прошептала она хрипло и грубовато. – Он спит, наконец-то он заснул по-настоящему.
Она взяла из чаши с водой, что стояла на столе рядом, полотенце и отжала его. Затем, обтерев кровь с лица Вэла, прижимала холодную ткань к его носу до тех пор, пока не остановилось кровотечение.
– Больше всего ему сейчас нужен покой, – сказала она Мэри. – Хорошо, что вы пришли. А пока что его нужно обтереть, чтобы спал жар.
Мэри взяла другое полотенце и принялась за дело. В комнате было тихо. Было слышно, как снаружи снова застучали дождевые капли.
Ночь сменяла день, день – ночь, но в этой ярко освещенной, с зашторенными окнами комнате Мэри утратила чувство времени, ни на шаг не отлучаясь от больного. Когда Вэл спал, она отдыхала на низких стульях в углу, на которые ей указала Мари Лаво. Порой, прислонившись головой к стене, Мэри дремала, но малейшее движение или крик Вэла тут же будили ее. Однажды она проснулась в тревоге и подбежала к нему, но он мирно спал. Тогда она поняла, что ее встревожила тишина. Звон колоколов прекратился. Она вернулась в свой угол, возблагодарив Бога за эту тишину.
Тихо, молча заходила в комнату Мари Лаво. Иногда она садилась рядом с Мэри. Они шепотом обменивались короткими, странно отрывистыми фразами и снова надолго погружались в молчание. От нее Мэри узнала, что Вэл приехал в город за доктором для своих больных лихорадкой рабов на плантации, потому что доктор, которого он обычно приглашал к ним, отказался ехать туда второй раз. Приступ сразил Вэла в отеле.
Узнала она и кое-что о долгой переписке Вэла с Мари; их дружба вызвала в ней жаркую волну зависти и ревности, которая поразила ее и одновременно заставила устыдиться своих чувств. Она вынуждена была признаться себе, что до сих пор любит этого человека всеми силами души. Любит, несмотря на все, что произошло или могло бы произойти между ними. И не только физически, как она когда-то убеждала себя. Она любила его всем своим существом – ее сердце, мысли, душа принадлежали ему.
Поняла она и то, что Мари Лаво любит его не менее сильно, хотя и иначе. Теперь, когда они старались сделать все возможное, чтобы спасти жизнь этого человека, которого обе любили, между ними возникла некая особая близость.
Они обтирали его пылающее от жара, беспокойно мечущееся тело, утирали кровь, которая текла из его ушей и ноздрей. Мэри придерживала его плечи и голову, а Мари вливала ему в рот бульон или лекарство. Их движения были четкими и согласованными и тогда, когда им приходилось поддерживать его сотрясающееся от спазмов тело – больной желудок отказывался принимать даже жидкую пищу.
– Хоть несколько капель да останется в нем, – говорила Мари. – Это поддержит его.
И пока Мэри обмывала ему рот, Мари приводила в порядок его тело. Вместе они переворачивали его набок, чтобы сменить на громадной кровати простыню.
Мэри никогда не спрашивала Мари, что за снадобья она ему давала. Они приносили ему облегчение, а это главное. Она готова была заложить душу самому дьяволу, лишь бы спасти Вэла. Она слышала, как в другой части дома туда-сюда сновали люди, там были и негры, и белые, они говорили по-французски и по-английски, просили целебных снадобий, заговоров от лихорадки.
Иногда она сама выходила на минутку во дворик позади дома – по нужде или просто чтобы дать дождю омыть ее пропахшую потом одежду и тело. Из передней ей иногда был виден колдовской алтарь в комнате напротив. На нем горели черные свечи и стояли небольшие вазы, в которые был насыпан какой-то разноцветный порошок, а в центре – тонкие фитили. По бокам бронзового ящика с опаленными краями были помещены фигура Девы Марии и распятие, вырезанные из темного дерева. Внутри ящика слышался глухой шелестящий звук – там день и ночь извивались змеи.
Мэри это мало трогало. Все снадобья и заговоры не помогли Мари Лаво снять беспокойство Вэла, зато помогли ее, Мэри, присутствие и рукопожатие. Ему была нужна она. Только она.
Спустя часы, а может быть, и дни после того, как прекратился звон колоколов, они услышали глухой, отдаленный шум взрыва. От неожиданности Мэри выронила на пол чашу с водой, которую держала в руках.
– Что это? – прошептала она.
– Пушки палят, – ответила ей Мари. – Они стреляют из пушек по облакам. Думают, что это пробьет брешь в гнилых испарениях, вызывающих лихорадку. – Ее голос был полон презрения. – Потом начнут жечь смолу. Зачем – неизвестно. От этого никогда не было никакого толка. Будут объяснять – врать, конечно, как всегда, – что делают это для того, чтобы лихорадка утихла. Лжецы. По их приказу прекратили траурный звон колоколов, хотя всем известно, что люди все еще умирают. Сейчас умирает до двухсот человек в день.
Число это поразило Мэри.
– Но только не Вэл.
– Нет, не Вэл, – сказала Мари.
Наступил день, когда он проснулся с ясной головой, осознавая окружающее. Мари кормила его, поднеся чашу с бульоном к его губам, Мэри придерживала его голову сзади. Застонав, Вэл протянул руки к чаше, пытаясь наклонить ее пониже.
– Есть хочется, – отчетливо произнес он и выпил бульон большими жадными глотками.
Потом его вырвало, и он, измученный, вновь погрузился в забытье.
– Он поправится, – сказала Мари. – Сегодня он усвоил уже половину. Сейчас ему нужны не столько лекарства, сколько хорошая, обильная еда.
В тот же день, а может быть, на следующий день или вечер он неожиданно громко застонал. Мари и Мэри обе дружно подскочили к нему из своего угла. Он стонал и стонал, все громче, жалобнее, протяжнее. Мари коснулась его щек, пощупала пульс на напрягшейся шее.
– Это кризис, – сказала она. В голосе ее слышался страх. Живот Вэла вздымался, мышцы напряглись и казались каменными. Мэри слышала, как Мари шепчет слова молитвы, и присоединила к ее молитве собственную, молчаливую. Вдруг ядовито-черная неописуемо зловонная жидкая масса выплеснулась меж ягодиц Вэла на белую простыню. Мэри инстинктивно отшатнулась назад. Ее чуть не стошнило.
– Он будет жить! – в волнении вскричала Мари Лаво. – Это не рвота. Его тело победило болезнь, он будет жить. – Схватив тряпки, что были под рукой, она начала быстро обтирать тело Вэла. Через секунду они оказались насквозь пропитанными зловонной массой. Мари швырнула их на кровать. – Быстрей же, – скомандовала она, – принеси мне еще тряпок из кухни. Он скоро проснется. Нужно его поскорей обтереть.
Мэри послушно побежала выполнять ее указание. Она шарила в шкафах с бельем, как вдруг услышала голос Вэла. Он казался слабым, но веселым:
– Откуда, черт возьми, эта вонь?
Голос Мари звучал спокойно и ласково:
– Эта вонь идет от вас, месье Сен-Бревэн.
– Кто это? Уберите эту тряпку с моих глаз. Мари, это ты?
– Я.
– Я что, в твоем доме? Как это случилось? Ничего не помню.
– У тебя была лихорадка. Но теперь ты здоров.
– Помоги мне встать. Мне необходимо принять ванну. И поесть, я просто умираю от голода.
Мэри вытряхивала ящики с бельем, в отчаянии пытаясь отыскать какое-нибудь тряпье. Итак, он пришел в сознание. Ей было необходимо увидеть его.
Она услышала смех Мари:
– Вэл, раздетый, в моей постели! Куда же ты торопишься? Ведь ты мечтал об этом так давно!
Услышав смех Вэла, Мэри похолодела. В этом смехе слышалась любовь.
– Ничего-то ты не понимаешь, – сказал он. – Мне нужно встать. И смыть с себя эту гадость. И поторопиться на свой пароход. – Теперь его голос звучал серьезно. – Мне нужно ехать, Мари. Нужно… – Поколебавшись, он добавил: – Я еду жениться на своей чарлстонской красавице.
Мэри согнулась от боли. На цыпочках она вышла из кухни на омытые дождем ступени крыльца.
Темное небо низко нависло над головой, было почти ничего не видно. Мэри не могла определить время суток, потому что на углу улицы стоял огромный бочонок с пылающей смолой. Огонь освещал узкое пространство вокруг бочки, в то время как клубы густого черного дыма делали все остальное совершенно невидимым. Бочки стояли на каждом углу. Все время, хотя без четких интервалов, палили пушки, глухие выстрелы свинцовой тяжестью отдавались в истерзанном сердце Мэри.
Она брела вслепую по пустынным темным улицам, задыхаясь от дыма и затыкая уши, чтобы не слышать оглушающей пальбы пушек, брела, пока чуть не упала, споткнувшись обо что-то в темноте. Тогда, чтобы не потерять дороги в сплошной пелене дыма, она стала держаться рукой за стены темных домов. Она плакала. Плакала от едкого дыма, а может, от сжигающей ее душу боли. О причине своих слез она не думала.
На следующем углу Мэри услышала скрип несмазанных колес и остановилась. Вытерев глаза запачканными в саже руками, она попыталась разглядеть сквозь пары дыма, чей это экипаж. Тем временем дождь усилился – он слепил не хуже дыма. Мэри удалось разглядеть тележку, лишь когда она едва не столкнулась с ней. Это была старая деревянная повозка, доверху нагруженная ужасающей грудой распухших, разлагающихся трупов. Безжизненные конечности свешивались через края повозки, раскачиваясь от толчков. Они казались символами самой смерти.
Мэри рухнула на землю и закрыла глаза. Юбки ее тут же промокли. Она слышала собственное судорожное дыхание, слышала, как от ужаса стучат ее зубы. Повозка проследовала дальше. Возница кричал уже в следующем квартале:
– Выносите мертвых!
И дальше, квартал за кварталом, голос его звучал все глуше и глуше, пока наконец не остались лишь пушечная пальба и стук дождя о кирпичи тротуара.
Вскочив на ноги, Мэри побежала. Порой она падала, поскользнувшись в глубоком месиве грязи, ползла на четвереньках, пока не добиралась до следующего тротуара, поднималась на ноги и бежала дальше. Бочки горящей смолы казались ей маяками, хотя дым мучительно слепил глаза.
Когда она, вся почерневшая, наконец добралась до двери дома Сазераков, руки и ноги отказывались ей повиноваться. Крича, она забарабанила в дверь. Ей открыл Жак.
– Жак, Жак, прошу тебя, ради Бога, впусти меня! Это я, Мэри Макалистер.
Держа в одной руке фонарь, а в другой пистолет, высоченный дворецкий, согнувшись, вглядывался сквозь узкую щель в полные отчаяния глаза Мэри.
– Господи Боже мой, – выдохнул он наконец, – а я считал вас уже мертвой. – Положив фонарь и пистолет на пол, он распахнул дверь настежь. – Входите же, дитя мое. Вы у себя дома.
Глава 63
Мэри пыталась укрыться от мучивших ее кошмаров в стенах дома. Чтобы забыться сном, она даже прибегла к опиумной настойке бабушки. Но яркие видения, посещавшие ее в эти моменты, пугали больше, чем реальность. А при пробуждении к этим снам присоединялась боль воспоминания о Вальмоне.
«Займись делом, – сказала она себе в конце концов, – необходимо чем-нибудь заняться». Она обнаружила письмо, которое ей принес Жак. Его прислал доктор Бриссак во время ее отсутствия.
«Нам необходима ваша помощь, если у вас достаточно мужества, – писал он. – Нужно ухаживать за больными, а у нас не хватает рук. Помогите нам».
Замотав плечи и голову шалью, Мэри вышла навстречу сплошной пелене дождя и дыма. Жак перекрестил ее вслед.
Из всего, что ей довелось видеть до сих пор, больница оказалась самым кошмарным зрелищем. Все койки были заняты, люди лежали и на матрасах, и просто на полу, между кроватями, и в коридорах. Ступени приемного покоя, сам приемный покой, все углы были заполнены больными и умирающими. В воздухе стоял запах крови, рвоты и смерти.
Прибинтовав смоченный в уксусе тампон под носом, Мэри выносила горшки и грязное белье. Она помогала обтирать и переворачивать больных, заворачивать в саван покойников. За больными ухаживали сестры из монастыря урсулинок.
Хотя они никогда не жаловались на усталость, круги под их глазами и изможденные лица говорили сами за себя.
Кроме Мэри здесь были и другие женщины, пришедшие помогать. Она видела среди них миссис О'Нил, свою бывшую хозяйку, но поговорить с ней не успела. «Мелодичностью голоса, воспоминаниями о родной Ирландии она, наверное, напоминает всем залетевшего сюда ангела», – подумала Мэри. Как много ирландцев было среди больных! По словам одной из сестер-урсулинок, лихорадке были наиболее подвержены те, кто недавно иммигрировал в страну.
Войдя в палату в сопровождении двух других врачей, Бриссак поймал Мэри глазами.
– Мадемуазель, помогите мне! – крикнул он. – Нужен кто-нибудь, кто говорит по-французски, а сестер мне не хочется отрывать от их богоугодной миссии.
Мэри поспешила к нему.
Довольно скоро она убедилась в правоте Мари Лаво. Здешние методы лечения могли убить и здорового.
– Дайте мне ланцет и чашу, – приказал Бриссак. – Я хочу пустить этой женщине кровь.
– Но, доктор, она и так истекает кровью. Взгляните на ее нос.
– Говорю вам, дайте мне ланцет, мадемуазель, и чашу. Вы – женщина и о медицине не имеете ни малейшего представления, так что не будем спорить.
Мэри достала инструменты из коробки, которую он положил на пол. Они были в сгустках крови. Она попыталась обтереть их о свой фартук. Ей казалось, что пользоваться ими, когда они в таком виде, так же неприлично, как подавать еду в грязной посуде.
– Поторопитесь, разве вы не видите, сколько у нас больных? – Доктор выхватил инструменты из ее рук. Затем, приблизив нож к руке женщины, натренированным движением резанул по вене. Больная, хотя и была в забытьи, вскричала от боли.
Когда чаша наполнилась кровью, доктор передал ее в руки Мэри:
– Уберите это, а потом подержите ей голову, пока я дам лекарство.
Женщина отчаянно сопротивлялась и извивалась, но Мэри удалось удержать ее за плечи, пока доктор разомкнул ей челюсти и влил в рот какую-то густую черную жидкость.
Затем он перешел к следующей пациентке, которая лежала на полу.
– Дайте мне чашу и ланцет, мадемуазель, да побыстрей!
– Не режьте меня, доктор! – вскричала бедная женщина. – Иисус милосердный, услышь мою молитву. Не допусти, чтобы они пролили мою кровь.
– Держите ее покрепче, мадемуазель.
Мэри послушно выполнила приказ. Она пыталась успокоить испуганную женщину, но та отчаянно цеплялась желтыми руками за руки Мэри и возбужденно лепетала окровавленным ртом:
– Мисс, не позволяйте ему резать меня, не позволяйте, умоляю вас, не позволяйте! – Когда доктор ланцетом вскрыл ей вену, женщина издала страшный вопль.
Время от времени, по мере того как доктора переходили от одного пациента к другому, раздавались крики. Эти доктора знали лишь одно средство.
От этого зрелища Мэри стало тошно. А также от бессердечного отношения к покойным. Их тела сваливались в кучу, словно дрова, в дальнем конце коридора. Сразу из всех палат.
Одна из монахинь, увидев, что Мэри не может оторвать взгляда от этой кучи, сказала:
– Конечно, это ужасно, но это все, что мы можем для них сделать. Больные умирают каждые пять минут. Перед тем как тела унесут, священник прочитает молитву над всеми и благословит их в последний путь.
В конце десятого часа Мэри поняла, что больше она выдержать не в состоянии.
– Я ухожу, сестра, – сказала она и, сняв заляпанный кровью и рвотой фартук, бросила его в кучу грязного белья.
– Да благословит вас Бог за вашу помощь, мадемуазель. – И монахиня пошла к следующему страждущему, чтобы помыть, помолиться за него, утешить его самим видом своего благостного, усталого лица и знакомых черных одеяний.
Мэри не вернулась туда.
На следующий день она уложила в одну корзинку мыло, уксус и несколько простыней, а в другую бутылки с куриным бульоном, который они с Жаком вместе сварили накануне вечером.
«Снадобий Мари Лаво у меня нет, – подумала Мэри, – но она говорила, что самое главное – питание. Хоть бульон».
Она шла по пустынной дамбе к Ирландскому каналу. У причала не было ни одной лодки, даже килевых шлюпок и плоскодонок, а ведь обычно они образовывали деревянный островок длиной в две мили. Гнил под дождем брошенный товар. Крыса, напуганная звуком ее шагов, скрылась внутри перевернутого клавесина. Задребезжавшие струны заставили Мэри вздрогнуть.
Рядом с Эдел-стрит Мэри увидела двух раздетых ребятишек, плещущихся в быстром потоке воды в канаве. Она подошла и с улыбкой поздоровалась с ними:
– Привет!
Они кинулись к ней.
По их словам, они были очень голодны, а мать не могла их накормить. Она велела им идти на улицу, потому что больна.
– Покажите-ка, где вы живете, – предложила Мэри. – Может, я смогу помочь вашей маме.
Женщина лежала без сознания, кожа ее была желтой, и вся она была покрыта кровью и блевотиной. У нее был жар.
«Но Вэлу было не лучше», – сказала себе Мэри и взялась за работу. Она привела в порядок женщину и ее постель, затем комнату и, наконец, дом. На кухне она нашла щетки и ведро, а также несколько картофелин и солонину для детей. Мысленно она возблагодарила миссис О'Нил за то, что та научила ее делать уборку. Вспомнила она и ее замечание, что, если варить достаточно долго, можно приготовить все что угодно.
Когда дети были накормлены и одеты, а их мать прибрана и ухожена, насколько это было возможно, Мэри пошла в соседний домик, затем следующий и так далее. Она ходила из дома в дом, вооруженная своими корзинками, а также терпением и уверенностью, что лихорадку можно победить.
И еще до того, как закончился этот долгий дождливый день, она нашла двух помощников – мужчину и женщину. Она научила их тому немногому, что знала сама, а главное, сумела внушить им, что лихорадка вовсе не всегда несет смерть.
Они обещали ей, что ночью будут заходить к больным по очереди, чтобы накормить и прибрать их. А Мэри обещала вернуться на следующее утро с новыми запасами еды. Всего у них было десять пациентов.
«Только десять, – с горечью подумала она, – я могу помочь всего лишь десятерым, да и то самую малость».
Уйдя достаточно далеко от Ирландского канала, Мэри дала волю слезам. Затем расправила плечи и быстро зашагала под дождем, по грязи туда, где стояла повозка с мертвецами. Сегодня она обнаружила тринадцать разлагающихся трупов. Она завернула их в саван.
День за днем Мэри проводила в районе, где жили иммигранты, стараясь помочь им всем, чем могла. Ее уже не пугали все эти ужасы. Кошмар стал для нее повседневностью. В одном домике, состоящем из двух комнат, она обнаружила двадцать шесть распухших трупов. В другом – ребенка, сосущего холодную грудь мертвой матери. Она отводила детей в соседние приюты, не забывая добавлять к своей обычной утренней ноше пакеты с едой для сирот.
Она плакала от горя, когда черные рвотные массы говорили ей о том, что она потерпела поражение, и от счастья, когда теплый, но не горячий лоб или дурно пахнущие экскременты больного свидетельствовали о ее успехе.
Ладони ее покрылись волдырями от едкого мыла, которым она скоблила полы в тесных домиках, а глаза покраснели от дыма. Но какой бы уставшей и подавленной ни чувствовала себя, она всегда держала голову высоко, всегда была аккуратно и чисто одета и всегда улыбалась. Она знала, что лучшим лекарством для этих больных и растерянных людей была ее уверенность в том, что лихорадку можно победить.
Однажды, обмывая одного старика, она услышала позади себя какой-то шорох. Мэри оглянулась через плечо. Увидев миссис О'Нил, она искренне обрадовалась.
– Так это ты, Мэри Макалистер, – сказала вдова. – Я слышала слухи, но не могла поверить этому. Когда закончишь с мистером О'Рорком, он и без того зажился на свете, приходи ко мне. Я тебя накормлю, а ты удовлетворишь мое любопытство.
– Надо же! – воскликнула миссис О'Нил, когда Мэри закончила свой рассказ. – В жизни не подумала бы, что между мной и колдуньей-язычницей есть что-то общее. Но тут эта женщина права. Я сама видела, как один человек – он и болен был совсем чуть-чуть, только что пожелтел немного – умер после того, как от их ножей потерял всю хорошую кровь.
Не думай, Мэри, что твои добрые дела в этом квартале остаются незамеченными. Я знаю своих соседей, от них не убудет помочь ухаживать за больными. Я пригоню их к тебе завтра. Может, кое-кто и побрезгует обмыть лицо больного лихорадкой, однако не такие уж они важные персоны, чтобы отказываться помыть полы.
Приходи ко мне завтра, дорогая, и я докажу тебе, что твое доброе начинание подхватят многие. И едой не надо так нагружаться. Приноси только для сирот, а я буду варить бульон для несчастных больных. Сдается мне, туда вполне можно добавить немножко капустки.
Через два дня Мэри была уже не нужна на Ирландском канале.
Она медленно шла домой, впервые почувствовав, как сильно устала за это время. Ей бы радоваться надо, что вдова О'Нил так ловко взялась за дело. Теперь уходом охвачено больше больных, а чувство единства сближало и роднило больных и здоровых.
Она в самом деле была рада.
И все же теперь она чувствовала себя уже ненужной, чужой среди них. Она ощутила свое одиночество.
«Знаешь, Мэри Макалистер, – сказала она себе, – тебе просто нужно как следует выспаться. Тогда, может быть, ты прекратишь заниматься самоедством».
Но спать она легла поздно. Вернувшись домой, она увидела, что входная дверь открыта настежь, а в дверях стоит ее бабушка.
– Мари, дорогая моя, – сказала мадам Сазерак, протянув руки навстречу внучке, – а я тут жду тебя. Скорее обними свою старую бабушку. Я ужасно соскучилась по тебе.
Вдохнув чистый запах лавандовых духов бабушки и прижимаясь щекой к ее морщинистому лицу, Мэри почувствовала, что от ее уныния не осталось и следа.
– Mémère, вам не следовало приезжать в город. Но я ужасно рада вас видеть.
– Не глупи, Мари. Как я могла не приехать? Через два дня наши именины, и мы устроим вечеринку.
Вечеринка в атмосфере отчаяния и смерти, аромат лаванды сквозь зловоние горящей смолы, ясный, певучий голос Mémère на фоне пушечной канонады?
– Mémère, дорогая, вы – креолка до мозга костей! – не удержалась от смеха Мэри. Она впервые засмеялась за все эти дни.
С приездом бабушки дом преобразился, словно по мановению волшебной палочки. Анна-Мари Сазерак вела себя так, словно в Новом Орлеане все было совершенно как прежде. Проснувшись на следующее утро, Мэри почувствовала аромат кофе и беньеток. Служанка Mémère, Валентин, принесла ей поднос с завтраком прямо в постель. Изысканный фарфор, розовое полотенце и салфетка ручной вышивки, серебряная вазочка с только что срезанными розами – Мэри казалось, что она в жизни не видела ничего прекраснее.
Спустившись после завтрака вниз, она увидела, что столы в комнатах отполированы. В воздухе витал пикантный аромат лимона. Повсюду стояли вазы с цветами. Mémère сидела на низенькой табуретке, веером разложив перед собой на полу рисунки.
– Бонжур, любовь моя. Посмотри, какую замечательную почту я получила. Это рисунки новых моделей из Парижа. Надо заказать тебе платье к дебюту. И другие наряды. К сезону у тебя должно быть все самое лучшее. Что бы там ни говорили, но во всем Новом Орлеане не найти портнихи, которая могла бы сравниться с парижскими модельерами. Взгляни-ка на эти рисунки – никаких кринолинов. Теперь в моде нечто вроде проволочного каркаса, который поддевается под юбки, от этого они выглядят необыкновенно пышными. Пожалуй, я себе тоже закажу что-нибудь. Очень интересный фасон.
В Мэри заговорила портниха, и она опустилась на пол рядом с бабушкой, чтобы рассмотреть рисунки.
Чуть позже бабушка настояла на том, чтобы они сходили на рынок.
– Надень вуаль, дорогая. Тогда, если лицо закоптится от дыма, никто не заметит грязи.
Мэри ласково возразила:
– Mémère, там никого не будет.
– Чепуха. Продавцы на рынке есть всегда, к тому же сейчас самая пора клубники. Мне сегодня что-то хочется клубники.
И она оказалась права. На рынке они увидели негритянок, торгующих клубникой в соблазнительно украшенных корзиночках. А также овощами, цветами и раками, воинственно шевелящими клешнями, и даже жемчужными устрицами. Торговцев было немного, и цены подскочили в десять раз, но ассортимент был почти тот же, что и всегда. Мадам Сазерак тщательно отбирала каждую покупку и оживленно торговалась, сбивая цену и выторговывая ланьяпп посимпатичнее. Продавцы были в восторге. Все наперебой зазывали ее. И пока они были на рынке, Mémère сумела развеселить всех.
Напротив рынка был трактир. Обычно туда заходили моряки с приходящих в Новый Орлеан судов. Теперь оттуда вываливались опьяневшие представители всех слоев общества. Они выкрикивали непристойности в адрес ярко размалеванной женщины, которая пела, подыгрывая себе на банджо.
– Какой ужас! – произнесла Мэри. Бабушка окинула взглядом эту уличную сценку:
– Не забывай, Мари, что театры закрыты. Надо же людям как-то развлекаться. И песенка, по-моему, очень славная. Это ведь «О, Сюзанна!». Очень заразительная мелодия, по-моему.
– Я имею ввиду не пение, а тот игорный стол у входной двери. Игроки заключают пари на число людей, которые умрут сегодня от лихорадки.
Mémère пожала плечами:
– Мужчины и дня не могут прожить без игры, особенно здесь, в Новом Орлеане. А люди будут умирать независимо от этих пари. Для некоторых любое событие – повод побиться об заклад. Таков уж их образ жизни. Каковы будут цены на хлопок, который еще даже не посадили? Насколько поднимутся акции в банке Жюльена? Мой отец владел плантацией сахарного тростника. Вот где были огромные возможности рискнуть. Ранние заморозки – и в момент теряешь все.
При этих словах Мэри почувствовала, как вся похолодела, однако ей удалось совладать с собой. До сих пор для нее существовал только один плантатор сахарного тростника, но его она должна забыть. И она постаралась сосредоточиться на том, о чем весело говорила бабушка.
– Нужно купить ленты, чтобы украсить к празднику гостиную. И специальное блюдо для пирога. Хотя на сей раз из всей нашей семьи принимать поздравления по случаю именин будем только мы с тобой, это еще не основание для того, чтобы прием получился скромней обычного.
Мэри старалась забыть Вэла, думать о готовящемся приеме. Но она не могла отделаться от воспоминаний. И от мучивших ее вопросов. Может быть, если бы она не ушла из дома Мари Лаво и Вэл ее увидел, он позабыл бы о богатой наследнице из Чарлстона? Ведь он ее звал. Так зачем? Неужели только для того, чтобы попросить прощения? И если это было так важно для него, значит, он испытывает к ней определенные чувства?
В тот вечер, после обеда, Мэри обратилась за советом к бабушке. Не прямо, а обиняком.
– Mémère, что такое, по-вашему, любовь? – спросила она.
Анна-Мари Сазерак окинула ее взглядом своих старческих глаз. Прикрыв ладонью руку Мэри, она погладила длинные пальцы внучки.
– Ты, конечно, имеешь в виду любовь между мужчиной и женщиной. Тут я тебя, пожалуй, удивлю своими познаниями. Я и сама хотела поговорить с тобой об этом еще этим летом, до твоего дебюта. И сейчас вполне подходящий момент.
– Сходи за своей шкатулкой, дорогая. В ней есть один предмет; когда я буду говорить о любви, мне хотелось бы держать его в руках.
Глава 64
Пальцы Mémère поглаживали потемневшую поверхность шкатулки.
– Это случилось в семьсот восемьдесят восьмом году, том самом, когда родилась я. Во время великого пожара. Сгорел почти весь город, и наш дом в том числе. Моя мать любила рассказывать эту историю. Тогда она была беременна мной, а я, как все первенцы, не слишком торопилась появиться на свет. По словам матери, она побежала в пылающий дом, чтобы спасти шкатулку, и от волнения у нее начались схватки. Она родила меня в монастыре урсулинок, одном из немногих уцелевших зданий. Мать частенько называла меня Пожаренышем.
Мэри пришла в восторг от этого прозвища.
– Я тоже стану вас так называть. Мне кажется, это звучит замечательно – Mémère Пожареныш.
Бабушка рассмеялась.
– Представляю себе лицо Жака, когда он это услышит. Ты ведь знаешь, как он следит за тем, чтобы мы вели себя как надлежит дамам. – Она опять засмеялась и погладила потемневшую поверхность шкатулки. – Не знаю, может, Maman и путалась в своих воспоминаниях. Мой младший брат Алессандро родился в год второго огромного пожара, а он моложе меня на шесть лет. Он уверяет, что все это произошло при его, а не при моем рождении.
– А что, ваш дом опять сгорел?
– О да. Я это хорошо помню. Было очень интересно. Нам пришлось несколько месяцев жить в хижине на набережной. Все мои друзья жили там же, рядом. Мы воспринимали это как огромный пикник. Родители, конечно, относились к этому иначе. После этих двух пожаров мой отец и решил стать плантатором. Он считал, что жизнь в городе сопряжена с большим риском. Судя по всему, это было единственной областью, где он боялся рисковать. Он был самым отъявленным игроком в Новом Орлеане.
– А чем он занимался до того, как стал плантатором? Глаза Mémère распахнулись.
– Странное дело, но я никогда не задавалась этим вопросом. Мне кажется, он был светским щеголем вроде Бертрана. Богатым и обаятельным. Наверняка богатым – иначе мой дедушка ни за что не дал бы своего согласия на этот брак. Хорошо помню, каким он был душкой. Я его просто обожала. Не говоря уж о Maman. Их брак был основан на любви, они всегда относились друг к другу с нежностью.
Мэри придвинула стул поближе к креслу бабушки.
– Расскажите мне об этом, Mémère.
Анна-Мари Сазерак погладила волосы внучки и вздохнула:
– Ну вот, жили-были… так, кажется, начинаются все сказки? – сказала она. – Мою мать звали Изабелла-Мари, и она, как и подобает сказочной принцессе, была писаной красавицей. Когда Мари-Элен была представлена испанскому королю, на приеме присутствовали все ее дети – Изабелла-Мари и все ее братья и сестры, чтобы воочию увидеть, какой чести удостоена их мать.
Взгляни на портрет Мари-Элен, Мари, она ведь красива, не правда ли? А теперь представь, что глаза всех присутствующих в тронном зале в тот день были устремлены не на мать в ее роскошных придворных одеяниях, а на дочь, одетую в скромное девичье платье. Такой удивительной красавицей она была.
Знатные испанские гранды наперебой просили у моего дедушки руки его дочери. Но Изабелла-Мари отвергала всех женихов. И родители, наверное, были втайне рады этому. Ведь они собирались вернуться назад, в Новый Орлеан, и им совсем не хотелось оставлять дочь в далеком краю, в Испании.
Когда они вернулись домой, губернатор устроил грандиозный прием в их честь. Вот там-то Изабелла-Мари и встретила Антуана Феррана. Они танцевали, не отрывая глаз друг от друга, и, когда вечер подошел к концу, Изабелла-Мари объявила отцу, что встретила человека, за которого хотела бы выйти замуж. Мэри вздохнула:
– Это похоже на сказку. Ее бабушка рассмеялась:
– Подожди, это еще не все. Их свадьба действительно была сказочной. В Новом Орлеане до сих пор ходят легенды о ней, хотя никого из тех, кому довелось на ней присутствовать, уже нет в живых. Мой дедушка жил на своей плантации, за городом, там теперь дома американцев. Но тогда город состоял из одного французского квартала.
К дому вела аллея, обсаженная дубами. За несколько недель до свадьбы он разослал своих рабов по садам и лесам, приказав им собрать как можно больше пауков и посадить их на ветви деревьев вдоль аллеи. Пауки оплели все дубы паутиной, которая образовала подобие навеса над дорогой. Рано утром в день свадьбы Мари-Элен с детьми пришли на эту аллею и, набрав полные ладони золотой пыльцы, раздували ее по паутине. Затем слуги устлали подъездную дорогу настоящими персидскими коврами. Был чудесный майский день, и гости, приехавшие на свадьбу, могли полюбоваться из своих открытых колясок сверканием солнечных лучей, играющих на тончайшем золотом кружеве из паутины и переливающихся множеством оттенков, под стать драгоценным камням и коврам на подъездной дороге. И у невесты под белой кружевной фатой были вплетены в волосы сверкающие золотые нити.
– Это и впрямь похоже на сказку, – почти шепотом произнесла Мэри. – И они жили счастливо до конца своих дней?
– Да, они действительно были счастливы. За счет окружающих. Посмотри-ка, есть ли в шкатулке кисет с камнем?
Мэри достала из шкатулки кисет и положила его на ладонь бабушки. Выражение лица старой женщины стало жестким. Она подкинула маленький кожаный мешочек в руке.
– На вес он совсем небольшой, – заметила она, – но он стоил двух состояний. – И она вывалила на стол черный наконечник стрелы. – Он был талисманом моего отца, этот магнит. А сам кисет сшит из шкурки черного кота. Считалось, что талисман обладает колдовской силой. Отец отдал за него колдунье свадебную фату моей матери. После того как проиграл в карты половину своего состояния. Он был уверен, что камень принесет ему удачу.
Настолько уверен, что стал играть с удвоенным азартом и проиграл остальные деньги. Пришлось продать драгоценности моей матери, а затем и землю, которая ей досталась в наследство от родителей. И деньги, которые дали им на жизнь братья моей матери. Последний раз он заключил пари на то, в какой день ударит мороз. И проиграл весь урожай сахарного тростника со своей плантации. Он проиграл бы и саму плантацию, хотя она и так была заложена, и собственную честь, но у него оставалось еще кое-что, что можно было продать. Мой муж выплатил все долги моего отца. Он же выкупил плантацию из-под закладной. Это было его свадебным подарком – за то, что отец отдал ему меня.
Когда меня просватали, мне уже исполнилось шестнадцать, и шкатулка к тому времени была моей. Но мать попросила моего разрешения заменить предметы в ней, вместо кусочка золотой паутины она положила этот талисман. По ее словам, магнит представлял собой куда большую ценность. Увидев, в каком я была отчаянии, отец поклялся матери, что никогда больше не сядет за игорный стол.
Разумеется, она поверила ему. Она верила ему всегда. По ее убеждению, во всем был виноват талисман, а не отец. Потому что она любила его.
Через два месяца после моей свадьбы, отец проиграл в карты плантацию. Он вышел из игорного дома и застрелился. Я узнала об этом лишь много лет спустя. После его смерти друзья сообща выкупили плантацию, устроив дело так, будто отец был убит на дуэли с американцем, который чем-то затронул честь моей матери. Она так и не узнала правды. И последние пятнадцать лет пребывала в счастливой уверенности, что их брак был освящен великой любовью. А кусочек золотой паутины пошел на оплату похорон моего отца.
Мэри взяла ладонь бабушки в свои:
– Мне очень жаль, Mémère. Это грустная история.
В ответ Анна-Мари Сазерак сжала руку внучки.
– Но очень романтическая, надо это признать. А романтика – вино, которое ударяет в голову. Любовь, которую испытывали друг к другу мои родители, превратилась для меня в мечту. Я завидовала их счастью и жаждала такой же любви для себя.
Поэтому я была так несчастна, когда отец выдал меня замуж за Жюля Сазерака. Ведь я была молодой, а Жюль – старым, разница в возрасте между нами составляла тридцать три года! И в отличие от моего мужа, чопорного аристократа, я была натурой увлекающейся. Жюль придерживался роялистских взглядов, в свое время он бежал из революционной Франции. А все мои друзья в Новом Орлеане были бонапартистами. Я даже заложила браслеты Мари-Элен, чтобы внести свой вклад в снаряжение корабля, купленного на средства бонапартистов. Мы собирались вывезти императора с острова Святой Елены и устроить в роскошном укрытии в Новом Орлеане. – Глаза бабушки сияли оживлением. – Нужно сказать, это была довольно интересная история. На одном из островов в реке было целое пиратское королевство, во главе которого стоял Жан Лафит. А главнокомандующим у него был некто Доминик Ю, который должен был плыть капитаном на этом корабле. Мы обставили каюты корабля, а также дом на углу Шартр и Сен-Луи-стрит – тот самый, в котором собирались поселить императора, со всей возможной роскошью. – Mémère хихикнула совсем по-девчоночьи. – Помню, везде были нарисованы пчелы. И на обоях, и на мебельной обивке, и на фарфоре, и на серебре. Казалось, стены дома вот-вот начнут источать мед. Мы не знали, куда деваться от этих пчел, но в этот самый момент, за три дня до отплытия, пришло известие, что император умер, и все наши труды оказались напрасными.
На внутренней крышке медальона, который я добавила к предметам, содержащимся в шкатулке, тоже выгравирована крошечная пчела. Обнаружить ее не так-то просто. Ведь вся история носила характер заговора и была окутана завесой тайны, это, кстати, придавало ей привлекательности… Ну-ка, дай мне его. Замочек с секретом.
Mémère нажала где-то возле украшенной драгоценными камнями монограммы, и медальон раскрылся. На колени Анны-Мари что-то упало. Старушка издала печальный возглас. Осторожно ощупывая вокруг, она нашла упавший предмет и передала его Мэри. Это оказалась прядь запачканных кровью волос соломенного цвета.
– Помнишь, я говорила тебе, что знаю о любви больше, чем ты предполагаешь. Я храню эту прядь как воспоминание о человеке, который воплотил мою мечту о великой любви. Его звали Томом. – В ее голосе звучала нежность. – Том. Такое иностранное, американское имя. Том Миллер.
Он был американским солдатом. Рядовым солдатом-пехотинцем, но для меня с ним никто на свете не мог сравниться. Впервые я увидела его на торжественной церемонии по случаю перехода Нового Орлеана под управление американцев. Весь Новый Орлеан присутствовал на ней, хотя не было человека, который бы не относился к варварам-захватчикам без ненависти. Ведь Новый Орлеан всегда был французским городом, и все были уверены, что он останется таковым во веки веков. И неважно, что в течение долгого времени в нем хозяйничали испанцы. Они стали креолами, а значит – французами. Когда мы получили известие, что Испания вернула Новый Орлеан Франции, мы праздновали это событие целую неделю, день и ночь напролет.
Интересно, что, пока мы гуляли и плясали, Наполеон договаривался с Томасом Джефферсоном о продаже города. Всего три недели на Пляс д'Арм развевался трехцветный французский флаг. Вскоре явились американцы и заменили его на свой, звездно-полосатый.
Мы уже знали об их приходе. И заранее подготовились к приему. Каждый житель Нового Орлеана явился на Пляс д'Арм. До Рождества, самого веселого дня в году, оставалась всего неделя, но настроение у всех было совсем не праздничным.
Мне было пятнадцать, и я ненавидела американцев лютой ненавистью. Потому что их приход означал, что из города уйдет праздничное, веселое настроение. И, приветствуя армию победителей, я напустила на себя как можно более свирепый вид.
Один из солдат, заметив выражение моего лица, состроил в ответ такую жуткую гримасу, что я не выдержала и рассмеялась. Он тоже смеялся. И я, не сходя с места, тут же влюбилась в него.
Глаза его были полны такой прозрачной голубизны, как у неба в погожий денек, а волосы были золотистыми, как солнце. За всю свою креольскую жизнь я не видела ничего подобного. Он был совершенно не похож на тех мужчин и юношей, которых мне доводилось встречать до сих пор.
Каким-то образом, уж не знаю, как именно, он навел обо мне справки и на следующий день, сияя, как медный котелок, явился к нам на плантацию. Я в этот момент срезала зеленые ветви в саду, чтобы украсить ими к празднику дом, нельзя же было, в самом деле, предаваться тоске вечно. Он побежал вприпрыжку, как настоящий американец, перескакивая прямо через клумбы, и, схватив меня в охапку вместе с зеленью, поцеловал прямо в губы. В жизни я не была так удивлена – и взволнована тоже.
Папа был в этот момент на террасе. Не успели мы и глазом моргнуть, как он схватил меня за руку, и – фьють! – я уже летела в направлении дома, а солдата моего он взял за шиворот и отбросил пинком. Вот тогда я и узнала его имя, потому что напоследок он крикнул мне: «Меня зовут Том Миллер. Не забывай меня!»
И я не забыла. Я увидела его лишь одиннадцать лет спустя, и опять накануне Рождества. Я уже десять лет как была замужем, успев родить пятерых детей, из которых двоих мы похоронили. И все эти годы я любила Тома Миллера. Я относилась к мужу с почтительностью и уважением, но не больше.
Том вернулся в Новый Орлеан с армией генерала Энди Джексона, чтобы участвовать в сражении с англичанами. Америка уже два года находилась в состоянии войны с Англией, и вот эта волна докатилась и до нас. Британский флот направлялся к берегам Нового Орлеана, намереваясь захватить город.
Мы были напуганы до смерти. У нас было свое небольшое ополчение – красивые парни, и форма у них была очень нарядная. Но им ни разу не доводилось участвовать в боевых действиях, да и численность нашего войска была настолько мала, что годилась в лучшем случае для какого-нибудь бала.
Армия генерала Джексона тоже не внушала нам серьезных надежд. Она едва насчитывала несколько сотен солдат.
Но был среди них один, который для меня значил все на свете. Я совершенно потеряла чувство стыда. Надев темную вуаль, я отправилась к казармам, чтобы разыскать Тома. Помню, там стояла большая толпа проституток, наперебой предлагавших свои услуги и оповещавших всю округу о своих ценах и талантах. Половина из того, что они сулили, для меня звучала как откровение. И я, как какая-нибудь проститутка, встала рядом с ними, ожидая, когда Тому передадут мою записку.
Когда он вышел ко мне, я откинула свою вуаль и поцеловала его на глазах у окружающих.
Но он оказался благоразумнее меня. Он поправил мою вуаль и быстро отвел меня в сторону, в укромное место на набережной. И поговорил со мной по душам; он прочитал мне целую лекцию о том, что люди, связанные священными узами брака, к тому времени он тоже был женат, должны вести себя порядочно, с полным сознанием своего долга и ответственности. Но, читая мне нотации, он не переставал целовать меня, и целовал до тех пор, пока я совсем не потеряла голову. Мы решили, что, как только сражение закончится, мы вместе убежим.
Ты наверняка слышала о сражении при Шальметт, Мари. Каждый год восьмого января наш город празднует это событие. У британцев тогда было в распоряжении пятьдесят военных кораблей и десять тысяч отличнейших солдат. А у Джексона – всего две небольшие шхуны и наспех сколоченная армия, состоящая из солдат, индейцев, нашей гвардии, пиратов, жителей лесных областей и просто добровольцев – негров, белых и свободных цветных. Общая численность ее, говорят, не превышала и четырех тысяч.
Сражение началось перед рассветом и длилось всего двадцать пять минут. Потери англичан составили двадцать шесть сотен убитыми и несколько тысяч ранеными. С американской стороны было тринадцать человек ранено и восемь убито.
Среди этих восьми был и Том Миллер.
Я чувствовала, что он погиб. До города доносилась оружейная пальба. И когда стрельба кончилась, все стали с ужасом ждать известий. Наконец прибыл гонец, он возвестил победу, и город наполнился ликованием. Весь город, кроме меня.
Я взяла тайком лошадь из конюшни и отправилась в Шальметт. Тело Тома уже принесли с поля боя и положили под огромным дубом… Я держала его голову на коленях и разговаривала с ним, как с живым, пока генерал Джексон не отправил меня домой с сопровождающим. Это он отрезал и дал мне прядь волос Тома. Он был добрым человеком, и я радовалась, когда он стал президентом.
Голос бабушки, до сих пор звучавший спокойно и ровно, задрожал, и она заплакала. Она тихо плакала и, хотя слова звучали теперь не всегда отчетливо, продолжала рассказ:
– Это из-за Тома Миллера, Мари, и своей глупой, романтической натуры я разрушила жизнь твоей матери. Когда она призналась мне, что влюбилась в американца, которого видела всего раз в жизни, и собирается нарушить данное ею слово и бежать с ним, я встала на ее сторону и помогла ей бежать. Мне хотелось, чтобы она нашла то счастье, которого так недоставало мне и о котором я мечтала всю жизнь. Мне казалось, твой отец был ее Томом Миллером.
Мне не следовало этого делать. Любовь и романтические отношения не могут служить основой семейного счастья. Брак моих родителей внушил мне ложное представление, что семейная жизнь состоит только из любви, что важны лишь поцелуи. Когда твоей матери не стало, мной овладела тоска, и муж повез меня в Европу. В каюте, когда мы оказались вдвоем, он впервые откровенно поведал мне о том, о чем молчал все эти тридцать лет. Мой муж был суровым и сдержанным человеком, но по отношению ко мне он всегда был очень терпим. Он потакал всем моим прихотям, так как любил меня и сознавал, что я намного моложе его.
Он постоянно вытаскивал меня из разных неприятных ситуаций, в которые я попадала. Это он выкупил заложенные мною браслеты Мари-Элен. Лишь один человек посмел упомянуть о том, что меня видели на поле боя у Шальметт, и он вызвал его на дуэль и убил. Он регулярно оплачивал мои карточные долги, – играя в вист, я любила ставить крупные суммы.
Тогда, на пароходе, он сказал мне, что я слишком долго играла на его чувствах и он намерен положить этому конец. Смерть твоей матери переполнила чашу его терпения. Мне кажется, он любил ее даже больше меня – если это вообще было возможно. И не мог простить мне того, что я помогла ей бежать из дома.
Он сказал: «Мне осталось жить совсем недолго, Анна-Мари. И я хочу прожить немногие оставшиеся годы по возможности без печали. Ты же в течение всех этих тридцати лет приносила мне одну боль. Тебя интересовали только ты и твои собственные желания, я был для тебя пустым местом».
Он сообщил мне, что намерен остаться во Франции и умереть на родине. А я могу возвращаться в Новый Орлеан одна. Его банкиры позаботятся о том, чтобы ни я, ни дети ни в чем не нуждались. Он желал только одного – больше никогда не видеть меня.
Знаешь, Мари, путешествие на пароходе – прекрасная возможность познать самого себя. Ничто не отвлекает внимания, вокруг лишь море да небо. И я наконец осознала, что, принимая как должное доброту и любовь своего мужа, я не дала ему взамен ничего. Я вынашивала его детей, испытывая к нему одну лишь ненависть, и вступала с ними в заговоры за его спиной. Целиком занятая собственными несчастьями, я ни разу не задумалась о том, счастлив ли он. Я мысленно перебрала в памяти все эти годы, припоминая множество добрых слов, сказанных им, и добрых поступков, совершенных ради меня, но мне не удалось вспомнить ничего со своей стороны.
И мной овладел жестокий и горький стыд, мне было невыразимо тяжело признаться в этом, и все же я призналась ему.
И в сердце его было столько доброты и благородства, что он сумел простить мне годы моего позора.
После этого он прожил всего шесть лет. Это были годы, полные сладостной печали. Ведь приходилось помнить о том, что целых тридцать лет прошли впустую для нас обоих. В тех годах была своя сладость, но я никогда больше не позволяла себе вернуться к прошлому.
Теперь, Мари, ты знаешь, что твоей бабушке пришлось прожить длинную жизнь и немало узнать о том, что такое любовь. Любовь хороша, когда она создает, а не разрушает. И не объятия, а годы придают ей крепости. За мои заблуждения твоя мать заплатила страшную цену, и я надеюсь, что ты сумеешь не повторить моих ошибок.
Влюбляйся себе на здоровье. На то и существуют на свете поклонники, балы и приемы. Пусть твоя голова кружится, а сердце бьется при прикосновении чьих-то рук в вальсе, при чьем-то имени на карточке, вложенной в посланные тебе цветы.
Но когда я и твои дяди подберем тебе подходящую партию, выброси все эти карточки и засохшие цветы в мусорную корзину. Дорожи своим мужем и радуйся, что он дорожит тобой. Это и будет основой настоящей любви, настоящего счастья.
И, подняв голову Мэри за подбородок, Mémère поцеловала ее в обе щеки. Мэри, растроганная этим рассказом, плакала, как и ее бабушка.
– Уже поздно, – сказала Mémère, – а нам необходимо выспаться к завтрашнему дню. Ведь завтра День Марии, день наших именин. И мы будем веселиться весь день. Я отправляюсь спать. И ты не засиживайся.
– Не буду, – пообещала Мэри. Встав на колени, она обняла свою бабушку. – Спасибо за сегодняшний вечер.
– Детка моя дорогая, я люблю тебя.
– А я вас, бабушка.
Несмотря на обещание, данное бабушке, Мэри легла поздно. Ей необходимо было подумать. Выложив сокровища из шкатулки на коврик перед собой, она долго сидела, размышляя о судьбах женщин, владевших ими.
Теперь ей была известна история каждой из этих вещей – всех, кроме завернутого в кружевной платок кусочка испанского мха.
«Должно быть, его положила в шкатулку моя мама, – подумала Мэри. – Он был ее памятью о Новом Орлеане, связывал ее с семьей и родиной.
Тосковала ли она по своей семье? И, когда в горах Пенсильвании выпадал снег, вспоминала ли теплый дворик и аромат цветущих апельсиновых деревьев? Жалела ли о том, что покинула дом, бежав со своим возлюбленным? – Мэри прижала шероховатый сухой мох к губам, чтобы заглушить сотрясавшие ее рыдания. – Как страшно было ей, наверное, как одиноко. Вдали от любящих отца и матери, от братьев, от родных. Вдали от Нового Орлеана.
Когда начались схватки, чувствовала ли она, что умрет? Так далеко от родного дома…»
Мэри тихо подошла к задернутому кружевной занавеской алтарю в углу комнаты.
– Прости меня, Господи, – молила она сквозь слезы, – за мою гордость, за неверие. Господи милостивый, умоляю тебя, прости меня. Прижми к сердцу мою маму, пусть обретет она покой и счастье на небесах.
Тонкое пламя свечи колебалось от дыхания Мэри, ласковый лик и распростертые руки Девы Марии на деревянной иконе сияли в ее мягком золотистом свете.
– Прошу тебя, Пресвятая Дева, – прошептала Мэри, – помоги мне поскорей забыть Вальмона.
Глава 65
На следующее утро Mémère спала так долго, что Мэри начала беспокоиться. Но Валентин успокоила ее:
– Просто мадам приняла вчера вечером лекарство, зелль. Так что не стоит тревожиться. И насчет лекарства не волнуйтесь. С тех пор как вы появились в доме, она принимает его все реже и реже. А вчера она расстроилась из-за чего-то и боялась, что не сможет уснуть.
Валентин предложила, чтобы Мэри занялась вместе с ней убранством комнат ко Дню Марии. Для мадам, когда она проснется, это будет приятным сюрпризом.
Широкие голубые шелковые ленты были уже тщательно отутюжены. Сложив из них огромную розу, Мэри и Валентин прикрепили ее к основанию люстры, что висела в гостиной, протянув длинные узкие концы к столу и закрепив их по углам. Буфет, камин и верхнюю часть позолоченных зеркал они тоже украсили голубыми розочками. А между ними Валентин пристроила букетики из розовых бутонов. На камин и на буфет были поставлены такие же букеты, а в центре стола – венок из искусственных роз с посеребренными листьями.
– Торт мы поставим в центре венка, – заметила Валентин. – Остались только стулья, и все будет готово.
Она привязала шуршащий голубой бант к стулу Мэри, в то время как Мэри проделала то же самое со стулом бабушки. В коробке оставался еще длинный отрезок ленты.
– Положим в уголок, – сказала Валентина. – Неизвестно, сколько народу будет сегодня к обеду.
Мэри выразила сомнение, что кто-либо вообще придет – из-за лихорадки все уехали. По-прежнему палили из пушек и жгли смолу, а по улицам, покрытым глубоким слоем грязи, скрипели повозки с мертвецами. И дождь лил все так же.
Но Валентин упрямо возразила, что наперед ничего неизвестно.
– У вас есть подарок бабушке? Вот специальная бумага для подарков.
Мэри завернула свой подарок. Подарок был так себе, обычные платочки, разве что отделанные кружевом и новые, – правда, она купила их давно. Ей хотелось бы подарить бабушке что-нибудь получше, но все магазины теперь были закрыты, а витрины забиты ставнями. Мэри завернула платочки в голубую бумагу, которой ее снабдила Валентин, и перевязала сверток белой шелковой лентой.
Подарок положили на стол у места, предназначенного для Mémère, а рядом со свертком – веточку с посеребренными листьями. Валентин отступила назад и окинула комнату критическим взглядом. Наконец она произнесла:
– Хорошо. Все в точности как должно быть в День Марии.
– Прекрасно, – услышали они голос бабушки – она стояла в дверях гостиной. – Замечательный получился сюрприз. Спасибо вам. – Она поцеловала обеих девушек, а Мэри дополнительно, поздравив ее. – С Днем ангела тебя, Мари. – Mémère была уже одета для выхода, в перчатках и шляпе и с зонтом. – Если не хотите опоздать на службу, вам следует поторопиться. Что касается меня, то мне не терпится посмотреть на утопающий в цветах алтарь. – У самой Mémère тоже была приколота к шляпке живая роза.
Их процессия представляла собой достойное внимания зрелище. Впереди шли Мэри и мадам Сазерак, а за ними, держа зонтик над их головами, шествовал Жак, в свою очередь прикрываемый зонтиком, который держала в одной руке Валентин – другая ее рука была занята собственным зонтом. На перекрестках зонты приходилось передавать из рук в руки, потому что Жак вынужден был переносить дам по очереди на руках через глубокие лужи и грязь. Когда они наконец добрались до собора, всеми овладела беспричинная веселость, и они без конца хохотали.
Вопреки ожиданиям Мэри, в соборе оказалось много народа. Конечно, не так много, как обычно, но она-то считала, что город совсем пуст. Женщины – их было около сотни – храбро принарядились в выходные платья, правда, от дождя они несколько промокли.
– Мари – очень распространенное имя, – шепнула Mémère, раскрывая свой молитвенник.
Мэри также раскрыла молитвенник; она чувствовала облегчение и радость от того, что примирилась в душе с церковью, всегда игравшей важную роль в ее жизни. Особенно в канун Благовещения, одного из самых замечательных церковных праздников.
Проповедь прибавила ей хорошего настроения. По словам священника, хотя эпидемия еще не кончилась, у них были все основания воздать хвалу Господу. Число жертв с каждым днем убывало, оно снизилось до ста человек в сутки.
И даже неожиданный ливень казался божьей благодатью, потому что в городе было много пожаров, а пожарных не хватало. Дождь мешал огню распространиться на соседние дома, уберегая город.
Городские власти по случаю праздника дали причту собора особую привилегию. По окончании мессы был разрешен благовест.
Праздничная толпа не торопилась, как обычно, разойтись после службы по домам. Люди стояли на широком тротуаре возле церкви, и на их лицах под зонтиками сияли улыбки. Звон колоколов возвещал надежду на привычную жизнь. Даже кофе продавали, как прежде, и под веселым полосатым навесом возле своей жаровни, от которой исходил кофейный аромат, суетился продавец.
Mémère болтала с подругами и кузинами, переходя от одной к другой столь стремительно, что Жак едва поспевал за ней со своим зонтом. Мэри и Валентин со смехом наблюдали за этой сценой.
И когда Mémère, наговорившись вдоволь, подошла к ним, она тоже стала смеяться, хотя понятия не имела о причине, вызвавшей смех девушек.
– Говорила я тебе, Мари, – сказала она внучке, – что мы весело проведем этот день. А теперь нам пора. Надо еще купить торт.
Улыбка сошла с лица Мэри.
– Mémère, все магазины закрыты.
– Ерунда. Винсент ни за что не пропустит День Марии. Уж сегодня-то у него будет возможность продать что-то помимо эклеров.
И, как всегда, оказалась права. Кондитерская, которая находилась напротив оперного театра, сверкала чистотой, и дверь ее была раскрыта настежь.
– Ваш замечательно воздушный торт, – приказала Mémère, – Нет, пожалуй, два. У меня сегодня к обеду будет много гостей.
– Я говорила, что наперед ничего неизвестно, – шепнула Валентин на ухо Мэри.
Это был особый торт, приготовленный специально по случаю Благовещения. Когда Мэри увидела его на серебряном подносе в центре стола, она поняла, почему комната украшена бело-голубыми лентами. Это был огромный бисквитный торт, облитый белым кремом, посреди которого красовалась надпись «С Днем ангела», выложенная голубой глазурью с чудесными завитками по краям. А в самом центре была воткнута роза, обвитая листьями из серебра.
Пока Mémère выбирала на столе место для лопаточки для торта, перевязанной голубым бантом, Валентин завязала банты на некоторых стульях. Мэри нисколько не удивилась, когда Жак поставил у стола два высоких детских стула. В конце концов, именинницы могут быть разного роста и возраста.
– А теперь я разверну свой подарок, – заявила бабушка. – А ты, Мари, пожалуйста, взгляни на свой. Обычно все гости являются с подарками, и у меня тоже припасены для них подарки, но эти именины у нас не совсем обычные.
Увидев платочки, она захлопала в ладоши, заверив Мэри что как раз собиралась прикупить себе платков, поскольку ее старые совсем обветшали.
Но Мэри была слишком занята собственным подарком. Подаренный бабушкой изысканный гарнитур – пеньюар и ночная сорочка – привел ее в полный восторг. Он был из белого льна, тончайшего и мягкого, словно шелк, с аппликациями из белых бабочек над нежными лесными цветами.
– Я сделала их собственными руками для твоей матери, – сказала Mémère, – и, когда твой дедушка приказал выбросить все ее вещи, припрятала. Теперь они по праву принадлежат тебе.
– Mémère, я в жизни не видела ничего красивее. У меня нет слов выразить мою благодарность.
– Детка, с меня довольно и твоего счастливого лица. Ты доставляешь мне столько радости… Ну-ка, поторопись. Надо поскорей убрать подарки до прихода гостей. И ленты с бумагой прихвати.
И Мэри побежала наверх. Возвращаясь по черной лестнице, она услышала в холле оживленные женские голоса.
– Они уже пришли! – крикнула она в сторону кухни.
– Слышу, не глухой, – проворчал Жак ей в ответ.
Праздничный обед преподнес им два приятных сюрприза. Первый состоял в том, что две маленькие Мари вели себя чинно и спокойно. Вторым оказалось главное блюдо – красная фасоль с рисом.
– Знаю, сегодня не понедельник, – смеясь, объяснила Mémère, – пока что я еще не в маразме. Но моя Мари обожает фасоль с рисом. И мне хотелось в эти первые ее именины попотчевать ее любимым кушаньем. Дорогие гости, надеюсь, простят мне этот каприз, тем более что в их распоряжении еще один торт.
Мэри почувствовала, как краснеет. Тем не менее она отдала должное и фасоли с рисом, и бисквиту. И все остальные – тоже.
Может, из-за пушечной пальбы, которая напоминала собравшимся в этой нарядной, убранной лентами комнате о том, что там, снаружи, все еще свирепствуют отчаянье, хаос, смерть, а может, из-за того, что всем передавалось настроение Mémère, чувствовавшей себя счастливой от того, что к ней вернулась ее внучка, – по той ли, по другой причине атмосфера этого вечера была пронизана особой радостью и близостью между гостями. Эти дамы, столь искушенные в светской беседе, говорили сегодня просто и от души. Они делились друг с другом своими страхами и надеждами, печалями и радостями.
Последней заговорила Mémère. Она говорила, что чрезвычайно тронута их преданностью и тем, что, несмотря на долгие десять лет затворничества, сумела сохранить их дружбу. Конечно, она не могла не скорбеть о своем умершем муже, но ее траур был слишком долгим и глубоким. Она была не права, воздвигнув каменную стену между собой и миром. Но Мари вернула ее к жизни, и теперь она никогда не станет отдаляться от своих друзей. Она обещает это. Более того, дает торжественную клятву.
– Я обнаружила, что жизнь полна радости. Близится сезон, а вместе с ним и дебют моей Мари. И я намерена поразить всех пышностью своих приемов. А когда выдам Мари замуж, я устрою ей такую свадьбу, что все забудут о золотистой паутине моей матери. А потом я поеду во Францию немного отдохнуть от всех этих волнений. Но скоро вернусь, потому что слишком люблю свой дом и своих друзей, чтобы расстаться с ними надолго.
Проводы гостей были долгими и жаркими. Дети громко вопили, недовольные посыпавшимся на них дождем поцелуев. Но наконец ушли последние гости и наступила тишина.
– От пушечной пальбы куда меньше шума, – улыбаясь, заметила Mémère. – Все-таки присутствие мужчин вносит в подобные приемы некоторое спокойствие. – Она поцеловала внучку. – Еще раз с именинами тебя, Мари!
– Именины были замечательные, Mémère.
– Да. Но я устала и мечтаю поскорей отправиться в свою комнату, снять корсет и отдохнуть как следует… Нет, не тревожься, детка. Лекарства я пить не буду.
– В таком случае до ужина, бабушка. Отдохните хорошенько.
Мэри вернулась в гостиную. Она решила заняться уборкой, пока Валентин помогает бабушке раздеться. Она стояла на приставной лесенке, снимая ленты, как вдруг услышала рядом с собой голос Жака.
– Знаете, Жак, я, пожалуй, куплю вам колокольчик на шею – вы появляетесь всегда так неожиданно. Я чуть не упала с лестницы.
– Зелль, с вами хочет поговорить какой-то человек.
– Хорошо, я сейчас спущусь. Что за человек?
– Я его не знаю, зелль. Цветной. Он ждет там, во дворе.
– Под таким-то дождем? Жак, это бесчеловечно.
Мэри предполагала, что это кто-то из маляров или обойщиков. Может быть, теперь, когда эпидемия пошла на убыль, они наконец закончат отделку дома.
Как же она удивилась, увидев Джошуа.
– Входи же поскорей, – сказала она ему. А затем, засмеявшись, повторила то же самое по-английски. – Извини, Джошуа. Извини меня, я слишком давно не говорила по-английски.
Джошуа вошел, он был весь мокрый от дождя, и с него на пол стекали струи воды. Жак стоял тут же нахмурившись.
– Ваш дворецкий понимает по-английски, мисси?
– Наверное. Не знаю, есть ли на свете что-нибудь, чего бы он не знал.
– Тогда давайте выйдем во двор, мисси. Мне необходимо поговорить с вами.
Мэри вдруг пришло в голову, что она впервые видит Джошуа таким серьезным. Взяв два зонтика из холла, она дала один из них Джошуа, а Жаку быстро проговорила по-французски:
– Я пойду прогуляюсь немного. Сопровождать меня не надо.
И стремительно прошла в дальний угол дворика.
– Что случилось, Джошуа? Я могу помочь тебе чем-нибудь? Я сделаю все, что в моих силах.
– Мисс Мэри, я страшно рискую, прийдя сюда, к вам. Я знаю, вам можно доверять. Пожалуйста, не подведите меня.
– Не знаю, о чем ты, Джошуа, но ты действительно можешь доверять мне. Даю слово.
– Вы слышали когда-нибудь о «подземной дороге», мисси?
Сердце Мэри учащенно забилось. Она слышала об этом в монастыре и знала, что это сопряжено с огромной опасностью.
– За тобой гонятся, Джошуа? Ты скрываешь у себя беглого раба? В этом доме нельзя его спрятать. Минутку, я подумаю, где это можно сделать.
– Нет-нет, дело не во мне, – сказал Джошуа.
И зашептал Мэри на ухо. Пользуясь тем, что дождь и пушечная канонада заглушают его шепот, он рассказал Мэри о пароходе Вальмона. О том, как доктор, который обычно лечил рабов на его плантации, заподозрил неладное, обнаружив в изоляторе Бенисона слишком много негров. И поделился своими подозрениями с властями. Однако поначалу те боялись соваться на плантацию, опасаясь заразы. Теперь ситуация изменилась. Среди тех, кто тайно помогал «подземной железной дороге», распространился слух, что в Бенисон собираются отправить полицейский патруль. И Джошуа пытался предупредить Вальмона о грозящей опасности. Но он опоздал.
– Мистер Вэл уже отплыл на своем корабле. Он хотел опередить их. Однако опасность еще не миновала. Говорят, они готовят ловушку на реке, хотят застать его врасплох, когда судно будет забито беглыми рабами.
– Но чем же я могу помочь? Почему ты обратился именно ко мне, Джошуа?
– Может быть, мы еще успеем опередить патруль. Рабы могут покинуть корабль и добраться до берега вплавь. В противном случае их всех ждет тюрьма, не говоря уж о мистере Вэле, его ждет более суровое наказание… Беда в том, что он меня не знает. Я один из многих, помогающих «дороге». На мой сигнал он не откликнется. Мисси, нужно, чтобы вы отправились со мной. Слуга мистера Вэла, Неемия, вы знаете его, говорит, что только вы можете помочь.
Никогда в жизни Мэри не приходилось соображать так быстро.
– Мне нужно собрать кое-какие вещи, – сказала она наконец. – Мне потребуется всего несколько минут.
– Так вы согласны помочь?
– Ну конечно.
Она уже бежала к дому, а в душе ее еще происходила борьба. Она убеждала себя, что не следует ввязываться в эту историю, что она ведет себя как последняя дура. В который раз. Трудно даже вообразить все последствия ее поступка. Ее определенно ждет унижение, всеобщее отчуждение, презрение, насмешки.
И все-таки она продолжала бежать. Потому что Вэл нуждался в ее помощи.
Примчавшись к себе, она стянула с вешалок в гардеробе необходимые ей вещи и написала записку бабушке:
«Дорогая бабушка,
кажется, я совершаю глупость. Надеюсь, вы простите меня. Я верю в то, что вы говорили о настоящей, большой любви. И все же я отправляюсь к Вальмону Сен-Бревэну, потому что безрассудно, без памяти люблю его. Если я не появлюсь завтра, значит, я с ним, на его корабле. Я вернусь, не знаю когда, но вернусь обязательно, потому что я люблю вас.
Мэри».
Пока чернила сохли, Мэри переоделась. Затем, свернув записку, побежала в комнату бабушки, подсунула ее под дверь и ринулась вниз по лестнице. У входных дверей, насупившись, стоял Жак.
– Мне необходимо выйти, – сказала ему Мэри. – Я оставила бабушке записку. – И, раскрыв зонтик, устремилась в дождь.
Ялик Джошуа был спрятан на набережной, между какими-то влажными мешками с хлопком. Когда они приблизились, люди, сторожившие его, тут же скрылись среди тюков с забытым грузом. Они легко протащили ялик по грязи в реку, уровень которой сильно поднялся из-за дождей.
На Мэри было старое коричневое рабочее платье, зонтик ее был черным. Темная рубашка и штаны Джошуа были совсем мокрыми и в темноте сливались с его черной кожей. Уже в десяти милях от берега очертания ялика стали совершенно неразличимы – дождь и дым от горящей смолы, низко нависший над самой поверхностью воды, помогали им.
Они плыли молча, весла были предусмотрительно обернуты тряпками. Так, в тишине, они неслись по течению, а течение Миссисипи в этом месте было сильным. Мэри мысленно возблагодарила Бога за то, что из-за эпидемии движение по реке прекращено. Хотя было лишь начало пятого, из-за дождя и дыма их окружала почти ночная тьма, и если бы на реке были суда, столкновения было бы не избежать.
Отплыв от города, они выбрались из пелены дыма. Джошуа, который сидел на веслах, то и дело оборачивался, стараясь разглядеть «Бенисон» сквозь сплошную завесу дождя. Но вокруг, куда ни посмотри, была только вода.
– Надо бы повычерпывать воду, – спокойно заметил он. – Слишком много ее набралось.
Порывшись вокруг, Мэри нашла большой черпак из тыквы – он был привязан к уключинам – и стала черпать воду в такт взмахам весел. Рука ее задеревенела.
Но парохода по-прежнему не было видно.
«Слава Богу, – подумала она, – ему удалось проскочить».
И в эту минуту она услышала глухой стон Джошуа:
– Поздно. Вон оно, судно, стоит впереди. Я отвезу вас обратно.
Но прежде чем он стал поворачивать, Мэри остановила его шепотом:
– Ш-ш-ш… Джошуа, не надо. Я предусмотрела это. У нас еще есть возможность спасти его.
И пока они плыли к пароходу Вальмона, она поделилась с ним своим планом.
Теперь до них доносились голоса, но о чем они спорили, было не разобрать.
Джошуа подплыл к корме и опустил весла. Мэри придержала ялик, пока Джошуа взобрался на палубу и, закрепив конец веревки наверху, осторожно бросил второй конец вниз.
– Вы уверены? – шепнул он ей.
Мэри кивнула. Закрыв зонтик, она бросила его в воду, плещущуюся на дне лодки, и, взявшись за веревку, набрала воздуха в легкие.
– Ну… – сказала она.
Сложив ладони, Джошуа подставил их Мэри для опоры. Встав на них, Мэри для равновесия схватилась за веревку. Она выпустила веревку из рук, когда Джошуа поднял ее на руках, но сумела поймать в ту самую минуту, когда сама чуть было не рухнула под дождем вниз. Ухватившись за веревку и болтая ногами в пустоте, она чувствовала, что от напряжения глаза ее готовы выскочить из орбит.
«Не могу!» – хотелось крикнуть ей.
И тут она услышала негодующий голос какого-то американца:
– И вы думаете, мы поверим, что вы затеяли путешествие в такую погоду, когда ваш рулевой из-за дождя ничего не видит, к тому же в самый разгар сезона ураганов, только для того, чтобы поухаживать за какой-то дамочкой? Да вы, мистер Сен-Бревэн, видимо, нас совсем за дураков держите.
Вцепившись в веревку что было мочи, Мэри нащупала ногами уступ на резных перилах кормы «Бенисона». Еще несколько усилий – и она уже на палубе.
– Я добралась, – окликнула она Джошуа. – Плыви скорее прочь. – И почти тотчас же услышала тихий всплеск весел.
Она ринулась под навес. Ее пальцы с быстротой молнии расстегивали пуговицы на платье. «Быстрей, быстрей», – подгоняла она себя, вытаскивая руки из рукавов. Вэл в это время кричал, что он оскорблен и что они превышают свои полномочия. Стянув платье, она бросила его к ногам и скинула туфли. Под платьем оказались ночная рубашка и пеньюар, подаренные бабушкой.
Теперь ей было видно, что происходит в рубке рулевого. Он заряжал ружье. Выдернув шпильки и взъерошив волосы, Мэри прокралась вдоль рубки.
Обогнув ее спереди, она шагнула влево и встала в дверях. «Ну, Мэри Макалистер, ни пуха тебе ни пера», – пожелала она себе мысленно. И шагнула вперед.
– Вэл! – закричала она как можно недовольнее. – Ты что, весь день собираешься болтать тут со своими приятелями? – Она говорила по-английски.
Вальмон повернул к ней лицо. В первый момент оно было крайне удивленным, затем на нем появились восхищение и понимание.
– Мэри, я велел тебе оставаться внизу, – произнес он громко.
– Мог бы объяснить, по крайней мере, почему мы остановились, – возразила ему Мэри. – Я было испугалась, что нас застиг мой дядя Жюльен Сазерак. Что это за люди? Так вот как ты, оказывается, представляешь себе наше бегство – приглашаешь неизвестно кого…
Сердце ее забилось от радости при виде восхищенных глаз Вэла. Она видела в них смех и была вынуждена отвернуться, чтобы не разразиться хохотом тут же, на месте. Патрульные, задержавшие «Бенисон», стояли пунцовые от смущения. Им было явно не по себе. Еще бы, Жюльен Сазерак – важная персона и оскорбления не потерпит. Если он только узнает, что они видели его племянницу при таких обстоятельствах, в ночной рубашке, мокрой и прилегающей к телу настолько, что было видно…
– Извините, мистер Сен-Бревэн, – пробормотал капитан, – я и представления не имел о том, что… Я бы никогда не решился…
Хлопнув капитана по плечу, Вэл прервал его извинения:
– Откуда же вам было знать? Мы приняли все меры предосторожности. Будем считать, что ничего не было. Разумеется, я рассчитываю на вашу порядочность, капитан. Можете быть уверены: если я когда-нибудь услышу что-либо компрометирующее мою жену, я потребую от вас сатисфакции.
Мэри исчезла в кабине.
– Будьте добры, дайте мне вашу накидку, – попросила она ошеломленного рулевого.
– Мэри – ты чудо, – сказал ей Вэл с палубы.
– Они уплыли?
– Последний вот-вот сядет в шлюпку. Можно поднимать веревочную лестницу. И плыть дальше.
Мэри поплотнее закуталась в накидку, которую ей дал рулевой. Ее всю трясло – сказывалось пережитое только что волнение.
Когда Вэл вошел в кабину, она забормотала:
– Джошуа, это мой друг, сказал мне, что Неемия велел разыскать меня, чтобы я помогла тебе; у меня совсем не было времени на размышления, и я согласилась; я не знала, смогу ли действительно помочь, и мне не пришло в голову ничего другого, как… и я… Кажется, я сейчас умру от стыда.
– Мэри, Бога ради! Ты только что вызволила из рабства две сотни людей – мужчин, женщин, детей. Ты спасла мне жизнь. Ты невероятно храбра и фантастически умна. Ты должна гордиться своим поступком, а не стыдиться его.
– Спасибо, Вэл. – Она все еще была в растерянности. И в отчаянии смотрела вниз, на свои босые ноги.
Вэл шагнул к ней. Он заговорил, и голос его был хриплым от волнения:
– Мэри, мне так много нужно тебе сказать, так много объяснить… Черт, я был таким идиотом! Я просто не знаю, с чего начать.
Мэри не верила своим ушам, – кажется, то, о чем она мечтала все это время, сбылось. Она подняла глаза. Да, так оно и было. Он любил ее. И боль, исказившая сейчас его лицо, была вызвана горем, которое он причинил ей. В его глазах была та же страсть, которая терзала и ее.
– Вэл, – сказала она и протянула к нему руки. Согретая его объятиями, она перестала дрожать.
Глава 66
Позже, когда он объяснил ей историю с чарлстонской наследницей… когда она простила ему заблуждение относительно «девушки Розы Джексон»… когда оба они помянули недобрым словом Мари Лаво, не сказавшую Вальмону, что Мэри была рядом во время его болезни… когда они наконец все выяснили, они поцеловались. Они слишком долго ждали этого мгновения, и слова были неспособны выразить всю силу их чувств.
Поцелуй этот был долог и полон нежности и любви.
Потом Вальмон взял лицо Мэри в ладони и всмотрелся в него, дивясь своему счастью.
– Мэри, знаешь, ты – чудо, ты – совершенство, ты – настоящее сокровище. Я люблю тебя всем своим существом и сладость твоих губ могу сравнить лишь с красной фасолью с рисом.
ЛАНЬЯПП
Красная фасоль с рисом
Рецепт на шесть персон
Один фунт сушеной красной фасоли
Две кварты холодной воды
Одна мясистая ветчинная кость или толстый ломоть ветчины, нарезанный кубиками
Полфунта копченой колбасы, крупно нарезанной
Несколько перьев зеленого лука
Один зеленый перец
Две веточки сельдерея
Три луковицы средней величины
Горсть размельченного тимьяна
Четыре лавровых листа
Стручковый перец или острая перечная приправа
Соль
Черный перец
Натуральный белый рис
1. Промойте фасоль в двух водах. Тщательно переберите ее. Положите фасоль в большую кастрюлю (объемом в три кварты, а лучше в четыре).
2. Добавьте в кастрюлю воды, ветчины и колбасы и поставьте на умеренный огонь, не закрывая крышкой. Пока фасоль варится, нарежьте зеленый лук, зеленый перец, сельдерей и луковицы. Добавьте их к содержимому кастрюли, не забыв про тимьян и лавровый лист.
3. Когда смесь закипит, убавьте огонь и закройте кастрюлю крышкой. Варите в течение трех часов, помешивая каждые двадцать—тридцать минут. Затем попробуйте раздавить деревянной ложкой фасоль о стенку кастрюли. Если она окажется жестковатой, поварите еще с полчаса.
4. Через сорок минут после того, как фасоль будет готова, попробуйте блюдо и добавьте к нему стручковый перец или острую перечную приправу. (Не перестарайтесь с приправой – блюдо должно быть пряным, но не слишком.) Варите фасоль еще полчаса, а тем временем можно приготовить рис.
5. Фасоль с соусом выложите на рис. Блюдо готово, и его можно подавать к столу.
Вы не поверите, но все овощи полностью растворяются в соусе. Разваренная фасоль придает соусу густую, как сметана, консистенцию. Если блюдо постоит ночь в холодильнике, то на следующий день, разогретое, будет источать еще больший аромат, чем накануне.