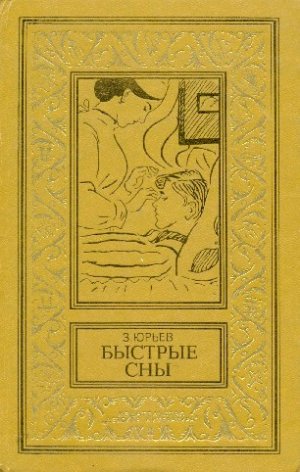
Зиновий ЮРЬЕВ
БЫСТРЫЕ СНЫ
Часть первая
БЫСТРЫЕ СНЫ
ГЛАВА I
Я открыл глаза и посмотрел на окно. Наверное, совсем рано. Утренняя серость еще ничего не могла поделать с настоянной за ночь темнотой комнаты.
Я скосил глаза на будильник, но стрелки неясно расплывались по циферблату. Бог с ним, все равно еще не вставать. И здесь я почувствовал спросонья какую-то странность. То, что я проснулся в своей квартире, рядом со своей женой, было более чем естественно. Но тем не менее странность была. Нечто явно неуместное в маленькой комнатке, из которой еще не вытекла ночная теплая тьма.
Несколько секунд эта странность барахталась в моем просыпающемся мозгу, затем окрепла и, осознанная, превратилась в какое-то удивительное состояние духа.
Я изумился. Никаких особых причин для такого радостного настроения, да еще часов в пять утра, у меня не было. Не было поводов для огорчений, это верно, но разве отсутствие поводов для огорчений-это повод для радости? Когда двадцатипятилетний учитель английского языка просыпается в своей кровати и прислушивается к ровному дыханию жены, этого, согласитесь, для неожиданной радости все-таки маловато.
Разумеется, ничего плохого в этом не было. Можно было даже испытать чувство сладостного предвкушения: еще рано, часа два сна впереди. Ты здоров, тьфу, чтоб не сглазить. Жена тоже. Все в порядке, жизнь идет. Когда-то, совсем маленьким, я испытывал иногда беспричинную радость, радость жеребенка, прыгающего на солнечном лугу. Но острая, неожиданная, непонятная радость взрослого человека в пять утра… Может быть, что-нибудь в школе? Нет, в школе тоже ничего сверхъестественного не произошло.
Но вдруг я понял. Радость исходила от сна. И сновидение всплыло на поверхность моей памяти. Четкое и ясное. Окрашенное в янтарные тона. Цвет, которым вспыхивает ствол сосны, когда перед закатом в него вдруг неожиданно ударяет из-за сизой тучи луч солнца.
Янтарный сон! Поразительно четкий, объемный. Чувство полета. Но дух не захватывает. Желудок не устремляется вверх, как при падении. Спокойный полет. И под взором разворачивается янтарный пейзаж. Чередование гор, скорее холмов. Гладких, округлых, спокойных. Долины с трещинками. То ли дороги, то ли реки.
Нырок вниз. Такой же бесшумный и стремительный, как полет. Цвет становится ярче. Янтарь наполняется пронзительной охрой…
— Ты что ворочаешься? — сиплым со сна голосом пробормотала Галя. — Не спишь?
— Не сплю, — сказал я и почувствовал к Гале благодарность за то, что она проснулась и что ей сейчас можно будет рассказать про удивительный сон.
— Не заболел?
— Нет, Люш, не беспокойся. Я здоров. Просто мне приснился такой сон… — Я замолчал, подыскивая слова, чтобы передать ей яркость сновидения.
В глубине моего сознания слова были такими же яркими и праздничными, как сам сон, но удивительное дело! — пока они попадали мне на язык, они высыхали, теряли нарядный блеск, становились скучными и сухими как собранные на пляже и высохшие по дороге домой разноцветные камешки, как рассвет за окном.
— Ты понимаешь, прежде всего цвет… Необыкновенный цвет, — начал было я, но услышал в паузе между словами ровное Галино дыхание. Слишком ровное.
Она спала, посапывая. Я собрался было обидеться, но так и не собрался, потому что сновидение снова разворачивалось подо мною огромной янтарной панорамой. Сон и не сон. Картина была четкой, ясной, полной деталей. Ощущение не сна, а просмотра цветных слайдов, которые плавно проходят перед тобой.
Ну хорошо, такой яркий сон, подумал я, встрепенувшись, но откуда эта детская радость? Может быть, сон вовсе ни при чем? При чем, ответил я себе убежденно. Каким-то странным образом ночной полет над Янтарной планетой явно давал мне чувство острой, неожиданной радости.
Это чувство сохранялось у меня целый день, окрашивая все вокруг в праздничные, яркие цвета.
— Что ты улыбаешься? — спросила Галя, когда я делал зарядку. — Что смешного?
Я положил гантели на пол, выпрямился и посмотрел на Галино лицо с плотно сжатыми губами. По утрам она всегда сурова. Вообще она милая женщина, и я нисколько не жалею, что женился на ней. Но откуда у нее эта неприступность по утрам, эта холодность? А может быть, просто она просыпается раньше своих эмоций? Руки и ноги двигаются, стелют кровать, делают упражнения по системе йогов, открывают кран душа, ставят на плиту чайник, а эмоции спят, тихо, сладко спят.
Что ж, вполне убедительная теория, потому что часа через два, если мы не расстаемся, уходя на работу, Галя начинает нежнеть на глазах. Из лица постепенно вытаивает суровая неприступность, черты смягчаются, слова перестают носить чисто информационный характер. И я из Юрия и Юры превращаюсь в Юрчу, Юрчонка и прочее.
— Что смешного? — снова спросила Галя тоном служащего испанской инквизиции.
— Не знаю, — сказал я. — Может быть, я улыбаюсь потому, что видел какой-то необыкновенный сон… Понимаешь…
Жена крайне неодобрительно посмотрела на меня.
— Яичницу будешь? — спросила она неприязненно и, не ожидая ответа, пошла на кухню.
Господи, подумал я, если мы разведемся когда-нибудь, это будет, наверное, именно из-за того, что по утрам она не умеет улыбаться, а я в это время, наоборот, особенно любвеобилен.
«Ну хорошо, Юрий Михайлович, — скажет судья и внимательно посмотрит на меня из-под очков в тонкой металлической оправе, — а какова все-таки причина, по которой вы хотите развестись с супругой? Разрушить молодую семью…» — «Понимаете, товарищ судья, — скажу я, волнуясь и нервно подергивая пальцы до хруста в суставах, — все дело в том, что моя жена никогда не улыбается по утрам». Немолодой судья с усталыми умными глазами вздохнет глубоко, печально и понимающе и скажет: «Да… Это тяжелый случай… А вы пробовали рассмешить ее?» — «Еще бы, товарищ судья! Я буквально засыпал ее анекдотами, гримасничал, паясничал…» — «И что же?» — «Все бессмысленно, товарищ судья. По утрам она не улыбается». «Да, боюсь, что юстиция в данном случае бессильна», - скажет судья и смахнет украдкой скупую судейскую слезу.
По дороге в школу я встретил Вечного Встречного. Так я окрестил про себя средних лет человека, с которым всегда встречаюсь по утрам около аптеки. Плюс-минус двадцать шагов. Я работаю в школе уже три года и три года встречаю около аптеки Вечного Встречного. За эти три года он изрядно пополнел, и портфель его соответственно стал вдвое толще. Полнота его была приятна, солидна, лицо — почти удовлетворенное жизнью. По-видимому, он успешно продвигался по службе, хотя до персональной машины еще не дорос. И хорошо, думал я эгоистически, потому что мне было бы немножко грустно расстаться с ним. День, начатый без него, потерял бы свою законченность.
Как-то я не видел его недели две подряд и все гадал, проходя мимо аптеки, получил ли он повышение или заболел. А потом, увидев издали знакомую фигуру со знакомым портфелем, обрадовался так, словно он был моим ближайшим другом. Но не поздоровался. По какому-то тайному соглашению мы не только не здоровались, но даже не кивали друг другу. Два атома в городской толпе, орбиты которых пересекаются у аптеки в восемь восемнадцать, максимум восемь девятнадцать утра.
Сегодня я поздоровался с Вечным Встречным. Я, конечно не назвал его так. Просто, когда мы сошлись у аптеки, у средней витрины, в которой стояли запыленные и выцветшие коробки с лекарственными травами, я улыбнулся и сказал:
— Доброе утро. Я думаю, нам пора уже начать здороваться.
Боже, какую реакцию вызвали мои слова! Вечный Встречный вздрогнул, остановился, расплылся в широчайшей улыбке, даже его очки, казалось, расплылись вместе с лицом, и сказал неожиданно высоким голоском:
— Здравствуйте, мой дорогой, и спасибо вам.
— За что же? — удивился я.
— Три года я думаю над тем, как поздороваться с вами, а вы это сделали так легко и просто! Благодарю вас, вы сняли у меня груз с плеч!
— Пожалуйста, пожалуйста. Если нужно снять еще какой-нибудь груз… — улыбнулся я, чувствуя себя сильным, добрым и мудрым.
Мы пожали друг другу руки и разошлись.
В учительскую я вошел в восемь двадцать пять — на минуту позже, чем обычно. Минута ушла на беседу с Вечным Встречным. Прекрасно проведенная минута. Минута, которую не жалко потерять.
Я достал сигарету и закурил. Следующие три минуты я обычно неторопливо курил, думая о том, что надо, черт возьми, собрать волю в кулак и бросить наконец курить. От этих мыслей первая утренняя сигарета приобретала особый сладостный вкус греховности.
Но сегодня я не думал о силе воли. Воображение мое все еще занимал ночной сон, бесшумный и стремительный полет над янтарными горами, каждую из которых я видел перед собой так отчетливо, словно всю сознательную жизнь парил над ними.
Я понимал, что настойчивость, с которой мой мозг все время возвращался к сновидению, была нелепой, может быть даже маниакальной, но ничего поделать с собой не мог. И не хотел. Подобно тому как сновидение дало мне почему-то радость, так и воспоминание о нем было приятно. Я отдавал себе отчет в странности этого, но она не пугала меня. В странности не было ничего болезненного. Просто была некая веселая странность, окрасившая будни в яркие и неожиданные праздничные тона. Словно стены учительской вдруг оказались выкрашенными не в скучный коричневый цвет, а в какой-нибудь лиловый с золотом. Или тишайший наш математик Семен Александрович явился бы не в своем вечном сером костюмчике, а в золотом камзоле, ботфортах и при шпаге.
Мне снова остро захотелось рассказать о сне кому-нибудь, и я обвел глазами учительскую. Математик Семен Александрович сидел в кресле, полузакрыв глаза, и держал на коленях журнал с аккуратной кляксой в правом верхнем углу. Восьмой «Б». Вид у него при этом был такой напряженно-мученический, как будто он был ранним христианином и через несколько минут его должны были бросить в яму со львами. Впрочем, в некотором отношении восьмой «Б» хуже ямы со львами. Львы свирепы, но не болтливы, чего нельзя сказать о восьмом «Б».
Подойти к нему и сказать: «Семен Александрович, а я сон видел интересный…» Я усмехнулся. Естественнее было бы, например, закукарекать, взмахнуть руками и взлететь на шкаф, на котором стоит сломанный глобус с геологическими напластованиями пыли.
Химик Мария Константиновна переписывала что-то из журнала в крохотную записную книжечку. Сама она была столь велика и обильна, а книжечка такая крохотная, что, казалось, ей не удержать такую малость в руках. Вся школа знала, что Мария Константиновна ровным счетом ничего не помнит и поэтому все записывает в многочисленные записные книжечки. Отметки учеников и дни рождения учителей, профсоюзные долги и расписание уроков — все было в ее книжечках. Система, разработанная ею, должно быть, отличалась большой эффектностью, потому что на самом деле она никогда ничего не забывала. А может быть, она все отлично помнила и жаловалась на память из кокетства.
А что, взять да рассказать ей о сне. Интересно, запишет она сон в маленькую записную книжечку? Или вместо этого напомнит о задолжности по профвзносам?
Зазвенел звонок, и я отправился в седьмой «А». Нельзя сказать, чтобы ребята меня слишком боялись, но дисциплина на уроках у меня, тьфу, чтоб не сглазить, вполне пристойная. Я обвел глазами класс. Удивительно, прошло уже несколько часов со времени моего сновидения, а мир по-прежнему был освещен теплым янтарным светом и казался поэтому веселее, приятнее и трогательнее, чем обычно. Вон, например, Слава Жестков. Комбинация сонливости и брезгливости на его лице всегда казалась мне удивительно противной. Но сегодня и его лицо выглядело почти приятным. А Алла Владимирова становится прямо красавицей, как я мог раньше этого не замечать… Что она умница-это я знал всегда. Светлая головка. Но как же она похорошела с прошлого года! Высокая, тоненькая, глазищи в пол-лица, берегитесь, мальчики! На мгновение мне стало грустно, как бывает всегда, когда я вижу красивых девушек, за которыми никогда не буду ухаживать, которым никогда не скажу «Я люблю тебя», на которых никогда не женюсь. Нет, нет, я не исступленный ловелас, не донжуан на сдельщине, даю слово. Просто когда-то, еще совсем мальчишкой, я прочел в одном рассказе Чехова про грусть, которая охватывает при виде красоты. Я вообще люблю Чехова, а это замечание так поразило меня своей правдивостью, тонкостью, что я запомнил его навсегда.
Я попросил класс раскрыть тетради с домашними упражнениями и быстро прошел по рядам. Артикли, артикли — поймут они когда-нибудь разницу между определенным и неопределенным артиклем? С тем, что Слава Жестков свершит, по-видимому, свой жизненный путь, так и не вникнув в тонкости употребления английских артиклей, я готов был скрепя сердце примириться. Но Алла Владимирова…
— Милые дети, — сказал я по-английски со скоростью засыпающей улитки, и ребята заулыбались. (Куда охотнее моей жены, отметил я.) — Милые дети! Представьте себе, что вы единственные очевидцы автомобильной аварии. Машина-нарушитель скрылась. Суровый лондонский бобби достает книжечку (как у Марии Константиновны, хотел добавить я, но удержался) и просит вас на более или менее чистом английском языке рассказать об удравшей машине. Начнем наше описание. Ну, скажем, что машина была серого цвета! Только обращайте внимание на артикли! Евграфов, please!
— It was a grey car! — выпалил круглолицый и краснощекий малыш, обладавший огромным даром внушения. Не было еще случая, чтобы он не мог убедить меня, что не подготовился по уважительной причине.
— Отлично, — сказал я. — Машин серого цвета, как вы, наверное, догадываетесь, в Лондоне много, и определение «серый» еще не дает нам права употребить определенный артикль. Ну-с, что еще можно сказать о нарушителе лондонского уличного движения?
Нет, что бы ни говорили циники, подумал я, а в преподавательской работе есть свои радости. Одна из них — частокол взметнувшихся рук.
— Мисс Котикова, please.
Аня Котикова необычайно спокойна, выдержанна и недоступна мирской суете. Она поднялась медленно и торжественно, подумала и сказала:
— It was a little grey car.
— Прекрасно, — сказал я. — Как видите, оба определения: и то, что машина была серая, и то, что она маленькая, еще не гарантируют ее уникальности, неповторимости. А как по-вашему, может быть у машины такое определение, которое сразу выделит ее из класса всех похожих машин и даст нам право соответственно употребить определенный артикль?
— Номер, — сказал басом Сергей Антошин, пробудившись на мгновение от летаргического сна, в котором пребывал с первого класса.
— Браво! — сказал я. — Прощаю тебе за остроту ума и то, что ты не поднял руку и ответил по-русски. Может быть, кто-нибудь знает, как будет по-английски «номер», номер машины?
«Ну, Алла Владимирова, — подумал я, — окажись на высоте. Сегодня все должно быть необычно».
И Алла Владимирова подняла руку:
— Licence plate.
«Спасибо, Алла», - растроганно подумал я.
На перемене я все-таки подошел к преподавательнице химии.
— Мария Константиновна, — сказал я, — я хотел…
— Что, Юрочка? — спросила Мария Константиновна, извлекая из кармана одну из своих записных книжечек.
— Я видел сон, — сказал я, — представляете себе…
— Да, Юрочка. Но вы знаете, у вас не уплачены профвзносы за два последних месяца.
— Да, — виновато понурил я голову, — и это меня страшно угнетает.
— Так в чем же дело? — вскричала Мария Константиновна и в своем профсоюзном волнении стала на мгновение почти красивой. — Заплатите. Сейчас я достану ведомость.
— Э, Мария Константиновна, если бы все было так просто…
— Но в чем же дело? У вас, вероятно, нет денег?
— Вероятно? Не вероятно, а безусловно, — простонал я, и Мария Константиновна погрозила мне пальцем.
Это становилось навязчивой идеей. Неужели же я не найду человека, которому мог бы рассказать о необычном сне? А может быть, и незачем рассказывать? Бегает взрослый, солидный человек по городу и пристает ко всем со своим сном. Ну сон, ну Янтарная планета. И слава богу. Двадцатый век на исходе. Раньше снились выпавшие зубы, черные собаки и деньги, теперь сны становятся космические. Ничего странного. Тем более, что деньги мне даже не снятся, настолько их нет.
Но снова и снова я вспоминал ни с чем не сравнимое чувство бесшумного полета над янтарной панорамой, округлые, плавные холмы, языки долин с трещинками не то ручьев или рек, не то дорог.
Ну, да бог с ней, с планетой, вздохнул я и взял журнал восьмого «Б». С круглой кляксой в правом верхнем углу.
ГЛАВА II
Следующая ночь снова вернула меня к Янтарной планете. Но на этот раз полет был совсем другим. Вернее, вначале он в точности повторял то же бесшумное скольжение над оранжевыми, янтарными и охристыми просторами, но потом что-то произошло.
Я долго думал наутро, как объяснить это словами. Я впервые в жизни понял, как, должно быть, нелегок писательский хлеб, если нужно изо дня в день судорожно и мучительно копаться в грудах слов, выбирая то единственное, которое точно и без зазоров ляжет рядом с другими. Нет, это я говорю неверно. Груда слов — это штамп. Как только нужно выразить словами нечто более или менее необычное, слов катастрофически не хватает. И боюсь, я не смогу даже приблизительно описать свои ощущения. Но тем не менее попробую.
Итак, я снова бесшумно парил над янтарными плавными холмами. Мне было хорошо, покойно и радостно видеть эти холмы. Их неторопливое чередование, сама их форма сливались в некую молчаливую гармонию, которая отчетливо звучала в моем мозгу.
Внезапный взрыв. Ночь, освещенная миллионами прожекторов. Миллион объективов, сразу наведенных на фокус, миллион телевизоров, сразу настроенных на резкость поворотом одной ручки.
Голова моя огромна, как храм. Я всесилен. Я знаю все. Мелодия янтарных холмов усложнилась тысячекратно, и она принесла мне знание. Я знаю, что меня зовут У. Я знаю, что принадлежу к жителям Янтарной планеты. Я знаю, что я одновременно отдельный индивидуум У и часть другого организма. В моем мозгу звучат мои мысли и мысли других. Я могу сосредоточиться на своих мыслях, и тогда я начинаю ощущать себя V, или могу раствориться, превратившись в часть огромного существа, которое состоит из моих братьев.
Переключаться вовсе не трудно. Если ты решаешь какую-то конкретную задачу, ты обретаешь свою индивидуальность. Как, например, сейчас. Я отдельное существо по имени У. Я прекращаю полет. Это очень просто. Я не дергаю ни за какие рычаги, не нажимаю педали, не вдавливаю кнопки. Я хочу опуститься. И я опускаюсь. Я плавно скатываюсь вниз с невидимой горки. Янтарная панорама стремительно увеличивается, заполняя собой горизонт, приближается. И вот я уже на твердой земле.
Я не могу объяснить вам, как я летаю над поющими янтарными холмами. Я знаю только, что не было никаких летательных аппаратов. Ничего не крутилось, не жужжало, не пульсировало. Было бесшумное, свободное скольжение по невидимым горкам, наклоны которых я изменял по своему желанию.
А потом У лежал на теплой янтарной скале и смотрел в желтоватое небо, в котором быстро скользили странные легкие облака, похожие на длинные стрелы. Он был полон поющей радости, и он не был теперь только У. Он был частью, клеточкой другого, большего существа, и его мысли и чувства были мыслями и чувствами этого большего существа, которое и было народом Янтарной планеты.
Быть может, этот сон покажется вам нелепым, тягостным, непонятным. Может быть, вам свойственно рациональное мышление и всякий флёр мистики раздражает вас. Может быть. Но я, проснувшись, испытал то же радостное, светлое ощущение, то же мальчишеское ожидание чего-то очень хорошего, бодрость, прилив сил. Предвкушение. Канун праздника в детстве, когда твердо знаешь, что впереди радость.
В конце концов, почему я должен был беспокоиться, если мне снился многосерийный научно-фантастический сон? Чем, спрашивается, он хуже любого другого сна? Определенно даже лучше, потому что приносит мне приятные ощущения и, кроме того, интересен.
Как, например, может быть, что У — и отдельное существо и вместе с тем часть другого существа? И как они все-таки скользят в небе?
Я улыбнулся сам себе. Что значит родиться во второй половине XX века! Я вижу сказочные сны и думаю о том, как и почему происходят чудеса. Почему летает Конек-горбунок? Какая у него подъемная сила? Как стабилизируется полет ковра-самолета? Каково сопротивление на разрыв скатерти-самобранки? Или разрыв-травы?
Я вздохнул. Три часа дня. Надо расстаться с У и вместо него поговорить с матерью Сергея Антошина. Может быть, это не так интересно, но, увы, нужнее.
Она опоздала ровно на двадцать минут. Наверное, сонливость у них чисто семейная черта. Как, впрочем, и редкое умение всегда чувствовать себя правым. Она решительно бросила на стол сумку.
— Что будем делать с Сергеем? — строго спросила она меня, садясь без разрешения и закуривая.
— Не знаю, — честно признался я.
— Вы классный руководитель, — веско сказала товарищ Антошина, — вы должны знать.
«Сейчас добавит «вам за это деньги платят», - подумал я. — И я, покраснев, буду лепетать, что платят, увы, не так уж много».
Мне стало стыдно. Должен знать — и не знаю.
— Понимаете, Сергей парень толковый, — сказал я, — несмотря на отвратительную успеваемость. Или скажем так: несмотря на прекрасную неуспеваемость, все преподаватели считают его не лишенным способностей…
— Не вижу здесь ничего смешного.
— Я тоже. Я просто хотел подчеркнуть, что неуспеваемость у вашего сына какая-то нарочитая, что ли. Даже абсолютно ничего не делая дома, и то можно было бы учиться лучше, чем он. Мне иногда кажется, что он изо всех сил старается не вылезать из двоек.
Мать Антошина начала медленно багроветь на моих глазах. Резким, решительным движением она расправилась с окурком, раздавив его в пепельнице, и посмотрела на меня:
— Вы хотите сказать…
Я молча смотрел на нее. Я не знал, что я хочу сказать.
— Вы хотите сказать, что мой сын специально учится плохо?
— Не знаю, специально ли, но порой, повторяю, у меня такое впечатление… Какие у вас отношения?
— Отношения? — Антошина посмотрела на меня с неодобрительным недоумением. Какие, мол, еще могут быть отношения у матери с сыном? — Отношения у нас в семье нормальные.
— Вы наказываете Сергея?
— Отец, бывает, поучит. И я тоже. — В ее голосе звучала такая свирепая вера в свою правоту, что я начал понимать Сергея.
— Можете ли вы обещать мне одну вещь? — спросил я.
— Какую? — Антошина подозрительно посмотрела на меня.
— Не наказывать вашего сына. Понимаете, он в таком возрасте, когда…
— А что же, Юрий Михайлович, — она произнесла мое имя и отчество с таким сарказмом, что я готов был устыдиться его, — прикажете нам делать? По головке его гладить? Отец работает, я тоже, а он…
— Нет, я вас вовсе не прошу гладить Сергея по головке, как вы говорите. Просто… не бейте его.
— А мы его не бьем. С чего вы взяли?
— Вы же только что сказали, что отец, бывает, поучит. И вы тоже. Чем же вы его учите?
Антошина пожала плечами. Экие глупые учителя пошли, таких вещей не понимают!
— Ну, стукнет раз для острастки, а вы — бить…
— Ладно, не будем с вами спорить о терминах. Я вас прошу: не бейте, не ругайте его, забудьте хотя бы на месяц о своих воспитательных обязанностях. Договорились?
— Гм! Посмотрим, Юрий Михайлович, — обиженно сказала Антошина. — Вы, конечно, педагог…
— А сейчас, когда выйдете, попросите зайти Сергея.
— Сергей, — сказал я Антошину, когда он вошел в учительскую, — ты можешь чуточку меньше стараться?
Сонливость исчезла на мгновение с лица Сергея. Он подозрительно посмотрел на меня.
— Да, Сережа, я совершенно не шучу. Я пришел к выводу, что ты чересчур стараешься, а перенапряжение в твоем возрасте опасно. Молодой, растущий организм… и так далее.
Я чувствовал себя Песталоцци и Ушинским одновременно. Мерзкое самодовольство охватывало меня. Эдак можно вдруг начать относиться к самому себе с величайшим почтением.
— Что-то я не пойму вас, Юрий Михайлович, — пробормотал Антошин. В его мире ирония была явно вещью непривычной, и она вызывала в нем неясное беспокойство, как капкан на тропе у зверька.
— Я только что уверял твою матушку, мой юный друг, что ты стараешься изо всех сил… (Сергей вопросительно-недоуменно посмотрел на меня.) Стараешься учиться плохо. Я договорился с ней, что месяц они тебя не будут трогать. — Лицо Сергея густо покраснело, и я опустил взгляд на журнал, чтобы не смущать его. — А ты этот месяц постарайся никому ничего не доказывать. Прошу тебя как о личном одолжении. И никому ни слова. Идет?
— Идет, — без особого убеждения в голосе сказал Антошин. Боже, если бы кто-нибудь мог сосчитать, сколько раз он давал обещания! — Можно мне идти?
— Конечно, — сказал я. — Только я хотел спросить у тебя одну вещь…
Сергей подозрительно посмотрел на меня.
— Допустим, обычный человек вдруг начинает видеть необычные сны…
— Как это — необычные?
— Ну, необыкновенные сны…
— Так ведь все сны необычные. На то они и сны, — рассудительно и убедительно сказал Сергей.
— Я понимаю. Но я говорю о совсем необычных снах.
— В чем необычные?
— По содержанию. Какие-то космические сны. Чужая планета и так далее.
— Ну и что?
— Понимаешь, сны так похожи на реальность…
— Простите, Юрий Михайлович, какая же реальность, если вы говорите — чужая планета?
— Да, конечно, ты прав. Дело не в этом. Просто сны очень яркие, логичные по-своему и как бы серийные. Один сон переходит в другой…
— А это у кого так? Я что-то такой фантастики не помню…
— Я тоже. Сугубо между нами, Сергей, это происходит со мной.
— Честно, Юрий Михайлович, или это вы ко мне такой педагогический прием применяете?
— Ах ты юный негодяй! — рассмеялся я. — Прием… Что я тебе, бросок через бедро провожу? Или двойной захват? Даю честное слово, что не вру, не воспитываю и вообще не знаю, зачем тебе это рассказываю, поскольку сам подрываю свой педагогический авторитет.
Сергей тонко улыбнулся. Что он хотел сказать? Что никакого авторитета у меня нет и подрывать, стало быть, мне нечего? Или наоборот: что авторитет мой столь гранитен, что даже мысль о его подрыве уже смехотворна? Гм, хотелось бы думать, что этот вариант ближе к истине.
Мы поговорили с Сергеем еще минут пять и расстались, более или менее довольные друг другом. По поводу снов мы решили, что они основаны на впечатлениях, полученных от чтения научной фантастики, и что следует подождать следующих серий, если, конечно, они будут.
Вечером мы собирались с Галей в гости.
— Надень замшевую куртку, — сказала она.
— Пожалуйста.
Галя внимательно посмотрела на меня, подумала и спросила:
— Как ты себя чувствуешь? Ты здоров?
— Вполне. А что, почему ты спрашиваешь?
— Обычно, когда я прошу тебя надеть эту куртку, ты находишь сто причин, чтобы отказаться. А сегодня сразу согласился. Это странно. Вообще-то послушный муж — это, наверное, здорово, но ты уж оставайся таким, каким был, а то я начинаю нервничать и пугаться…
— Но куртку-то надеть?
— Надень.
— И коричневый галстук в клеточку?
Жена подошла ко мне сзади, положила руки мне на плечи и потерлась щекой о спину.
— Я боюсь, когда ты становишься вдруг таким послушным, вздохнула она.
— Ладно, не буду тебя огорчать. Куртку не надену, галстук в клеточку не надену. Ботфорты и кожаный колет.
Я посмотрел на часы. Уже без четверти восемь.
— Люш, мы, как обычно, опаздываем. Пока доедем, будет уже полдевятого.
— Не ворчи. Человек в ботфортах и колете не должен ворчать. Мушкетеры не ворчали.
— А ты откуда знаешь? — подозрительно спросил я. — Ты с ними встречаешься?
Галя потупила глаза:
— Я не хотела тебе говорить…
— Д’Артаньян? — застонал я.
— Атос, — прошептала Галя, но тут же не выдержала и прыснула.
Я присоединился к ней.
— Так ворчу я или не ворчу? — спросил я.
— Увы…
— Но я же надел куртку, которую терпеть не могу. Священная жертва, принесенная на алтарь семейного счастья. Пошли, пошли, а то надо еще такси найти.
— Ка-кое такси? — грозно спросила Галя. — Разве мы не поедем на машине?
— Люшенька, — жалобно сказал я, — мне надоело наливать себе в гостях пузырьковую воду. Люди пьют горячительные напитки, начинают говорить громко и красиво, а я сижу с боржомом в рюмке и стараюсь смеяться громче всех над шутками, которые могут рассмешить только выпившего.
— Я поведу машину обратно, — сказала твердо Галя. — В отличие от некоторых я не страдаю от отсутствия алкоголя. Зато, выйдя на улицу, мы не будем бросаться с поднятой рукой к каждой проезжающей машине. Мы спокойно сойдем вниз, сядем в свой верный старый «Москвич», заведем верный старый двигатель…
— …и въедем в старый добрый столб.
— Ты всегда старался развивать во мне комплекс автомобильной неполноценности. Но все, хватит! Я восстаю против автодомостроя. Отныне ты будешь просить ключ у меня. Твоя школа в двух остановках, а я езжу в институт с двумя пересадками.
— Браво, мадам! — вскричал я. — В гневе вы прекрасны. Я только боюсь, что мне придется искать себе другую жену. У вас есть какие-нибудь рекомендации на этот счет?
— Почему? — нахмурилась Галя.
Как истая женщина она не любит, когда я даже в шутку говорю о разводе.
— Потому что ты и автомобиль противопоказаны друг другу.
— Глупости! Вон Ира, она такая тёха, и то прекрасно научилась ездить. Что я, хуже ее?
— О нет! — закричал я. — Нет, нет и нет! Нисколько не хуже. У тебя даже красивее уши. Разница только в том, что она умеет водить машину, а когда тебе выдавали права, работники ГАИ отворачивались и краснели от стыда.
— Хорошо, — ледяным тоном сказала Галя, — посмотрим, у кого красивее уши и кто в конце концов будет краснеть от стыда.
Поехали мы, разумеется, на машине. Когда «Москвич» простудно кашлял и чихал, не желая заводиться, я вспомнил о полете над янтарными холмами. Что делать, разные уровни техники.
Галя злорадно спросила, не подтолкнуть ли ей машину, и я вздохнул. Мне так хотелось напомнить ей тот день, когда она, сияя, показала мне новенькие права.
— Пошли, я продемонстрирую тебе, как я езжу, — снисходительно сказала она, и мы спустились во двор.
Она действительно лихо сделала круг, снова въехала во двор, аккуратно подъехала к нашей обычной стоянке против стены и нажала вместо тормоза на педаль газа. Три дня после этого я искал новую фару и выправлял крыло, а Галя готовила на обед изысканные блюда и называла меня «милый».
Мы, конечно, опоздали. И, конечно, никто не хотел и слушать, что я за рулем и что сейчас проходит очередной месячник безопасности движения и инспекторы, словно коршуны, бросаются на несчастных выпивших водителей.
Мне это, как я уже сказал, не впервой, и я ловко подменил большую рюмку с водкой такой же рюмкой с минеральной водой. К счастью, рюмки были темно-синие, и пузырьки были незаметны.
Было шумно, накурено и, наверное, весело, потому что все громко смеялись, и я смеялся вместе со всеми, а может быть, даже громче всех. Над чем я смеялся, я не знаю, потому что снова вспоминал У, ни с чем не сравнимое чувство растворения, когда он смотрел в желтое небо на длинные, похожие на стрелы облака и в его сознании с легким шуршанием прибоя роились мысли его братьев. Он был ими, а они были им. И сознание его было огромным и гулким, словно величественный храм, наполненный легким шуршанием прибоя. И храм этот не был холоден и пустынен. Он был полон теплой радостью, похожей на ту, что я испытывал, просыпаясь два утра подряд. Только во сто крат сильнее и острее. И я, вспоминая мироощущение V, снова испытал легкий укол светлой грусти.
— Юрка, старик, ты чего задумался? — наклонился ко мне хозяин дома, мой старинный друг Вася Жигалин.
Человек он обстоятельный, целеустремленный, волевой, поэтому если уж решал выпить, то делал это со свойственной ему энергией.
— Господь с тобой, Вась! Разве я могу думать? Это вы, журналисты, должны думать.
— Э-э, не-ет, — погрозил мне пальцем Вася, — ты, старик, меня не проведешь. По глазам вижу, что за-думался. Ты когда задумаешься, у тебя глаза пустеют. — Он поцеловал меня в ухо громко и сочно. — Не об-бижайся, старик. Ты же знаешь, я тебя люблю, потому что ты блаженный. Понял? Бла-женный.
— В каком же смысле?
— А в таком. Ты — учитель и нисколько от этого не страдаешь. Не грызет тебя, черт побери, червь тщеславия. А? Грызет или не грызет? Толь-ко как на духу! Понял? Друг я тебе или не друг? Раскрой душу другу и закрой ее за ним. Понял?
— Понял, Вась.
— Ну, вот и прекрасно. Давай, старичок, выпьем за кротких и тихих.
— А может, Вась, хватит тебе, а? Вон Валька на нас аспидом смотрит. Тебе ничего, побьет тебя, и все, а мне каково? Ты-то привычный, тебя Валя все время бьет…
Вася посмотрел на меня с пьяной сосредоточенностью и вдруг всхлипнул:
— Бьет, Юрочка, не то слово. Истязает. Мучает. Все думают, что она меня лю-бит… — Вася замолчал, закрыл глаза, но, отдохнув, продолжал: — А она меня те-те… ро-ррризирует. Понял? Садистка. Савонарола. Выпьем за мою Савонаролочку…
— Вась, может, правда хватит?
Неожиданно Вася совсем осмысленно подмигнул мне:
— Я же на семь девятых валяю дурака. Хочешь, по половице пройду?
— У тебя половиц нет.
— Таблицу умножения продекламирую.
— Ты ее и трезвый нетвердо знаешь. У тебя же по арифметике выше тройки сроду отметки не было.
Вася вдруг рассмеялся и совсем трезвым голосом сказал:
— Ты думаешь, я не видел, что ты минеральную воду вместо водки пил?
— Неужели видел? Ах, какой ужас! Как же я снова посмотрю в твои пьяные глаза?
— Перестань издеваться над близким другом, не развивай в себе жестокость. Лучше будь блаженным, понял? Тебе юродивость идет. К лицу она тебе. Понял?
— Так точно, господин вахмистр! — выкрикнул я, забыв на мгновение, что я разоблачен.
— А это уже нехорошо, — вдруг всхлипнул Вася, — быть трезвым и притворяться пьяным — это аморально, безнравственно и вообще дурно. Делай, как я. Я пьян немножко, а притворяюсь трезвым. Это по-мужски. Но ты ведь, собака, так мне и не сказал, о чем думаешь. Ты вот и сейчас со мной разговариваешь, а сам где-то витаешь…
Слегка выпив, Вася всегда становится необычайно проницателен. Попал он в точку и теперь. Как раз в этот момент я пытался воспроизвести мелодию, которую создавали на Янтарной планете плавные, округлые холмы, когда У пролетал над ними. Нет, мелодия была слишком сложна, чтобы я мог ее вспомнить. Я помнил лишь ощущение бесконечной гармонии, мудрой и успокаивающей, вечной и прекрасной.
Как, как я мог рассказать кому-нибудь об этом? Где найти слова, которые хоть как-то могли бы передать то, что ими передать невозможно? И вместе с тем Янтарная планета переполняла меня. Я был словно накачан этими двумя сновидениями, и они так и рвались из меня.
— Вась, — сказал я, — ты можешь хоть минутку помолчать?
— А для чего? Раз я болтаю — значит, я существую. Это еще древние говорили.
— Честно.
— Честно, могу. Слушаю тебя. Но будь краток, ибо сказано в писании: краткость — сестра таланта.
Как, как пробить мне эти защитные поля, которые окружают людей? Они все словно в кольчугах и шлемах. Они неуязвимы. До них невозможно добраться. Как до начальника ЖЭКа. Как рассказать начальнику ЖЭКа о Янтарной планете?
Конечно, конечно, в сотый раз говорил я себе, взрослый культурный человек не должен приставать к близким в конце XX века с россказнями о снах. Кого интересуют сны учителя английского языка Юрия Михайловича Чернова? И что за самомнение думать, что они кого-то вообще могут заинтересовать?
Умом, повторяю, я все это понимал самым наипрекраснейшим образом, но яркость, красота и необычность снов делали их в моем представлении сокровищами, которые просто грех было бы замуровать в моей черепной коробке. Разные есть люди. Одни могут смотреть футбол или хоккей в одиночку, другие — нет. Я отношусь к числу последних. Когда предстоит интересный матч, я иду к Васе, к Илье, к кому-нибудь из знакомых, лишь бы можно было радоваться или огорчаться вместе с кем-то, «У тебя психология дикаря, — подшучивала Галя, — ты не дорос до телевизионной эры». Сама она обожает спортивные передачи и любит смотреть их в одиночку.
Я посмотрел на своего друга:
— Вася, если я буду смешон, скажи мне об этом.
— Старик, ты никогда не был смешон, ибо ты никогда не тщился выскочить из собственной шкуры, чем мно-о-гие страдают. Ты не представляешь, сколько шкур от этого лопается. Ну, давай, Юраня, выкладывай. Мои уши в твоем распоряжении.
— Ты только не смейся.
— Да ты что, стихи, что ли, свои первые читать будешь? Чего ты стесняешься?
— Вась, мне снятся странные сны. Вот уже две ночи подряд мне снится какая-то планета, которую я называю Янтарной…
— Прости, старик… Валь! — крикнул он своей жене. — Юраня тут все ноет, что выпить нечего! Принеси, дитя, заветную бутылочку из холодильника.
— Да вы что, сдурели, алкаши? — спросила басом Валя. Перед вами почти полная бутылка.
— Гм, а Юраня утверждает, что это минеральная вода. Так ты думаешь, он ошибается? Поди к нам, дитя, поцелуй своего папочку.
Валентина сантиметров на пять выше Васи и килограммов на десять тяжелее. От одного ее взгляда мужчины цепенеют, а шоферы такси становятся вежливыми.
— Прости, старик, ты мне что-то начал про янтарь рассказывать. Янтарь… Окаменевшие слезы деревьев. Какова пошлость! А? Верно, здорово?
Кончилось тем, что я все-таки сдался и выпил рюмку. За руль сел я, но взял с Гали клятву, что, если нас остановят, мы быстро поменяемся местами и права предъявит она.
Никто нас в два часа ночи не остановил, и мы благополучно добрались домой.
ГЛАВА III
Я продолжал жить в двух мирах. Днем я ходил на работу, встречал у аптеки Вечного Встречного (теперь мы здоровались, как самые близкие друзья), вызывал к доске, ставил отметки, разговаривал с Галей. Одним словом, был Юрием Михайловичем Черновым, учителем английского языка.
По ночам я оказывался на Янтарной планете. Каждый следующий сон что-то добавлял к предыдущим.
С каждым прошедшим днем я все более привыкал к нелепой, на первый взгляд, мысли, что Янтарная планета вовсе не порождение моих ночных фантазий. Она жила своей жизнью, и я медленно, шажок за шажком, знакомился с народом У, таким странным и не похожим на нас. Не понимая, недоумевая, не веря, но знакомился.
Нет, нет, не думайте, что я полностью утратил самоконтроль и превратился в некоего наркомана, для которого единственная реальность — мир его фантасмагорий. Я полностью осознавал все. Единственное, повторяю, с чем я никак не мог согласиться, — это то, что мои сны были просто снами. Не могло этого быть. Ни с какой точки зрения. Сны не могут тянуться один за другим, в строгой последовательности. Они не могут стыковаться один с другим столь строго. Они не могут быть так логичны, пусть фантастическо-логичны, но логичны. Мой спящий мозг не мог воссоздавать ночь за ночью картины жизни неведомой планеты. Я понимал, что другим это утверждение могло показаться далеко не бесспорным, но я — то знал. Я знал, я чувствовал, я был уверен, что мои путешествия на Янтарную планету не могли быть просто снами. Если бы вы парили вместе со мной над поющими холмами или я мог бы по-настоящему рассказать вам о полете, вы бы поняли меня.
Но что тогда? Тогда оставалось два варианта. Или я сошел с ума и все, что мне кажется, — плод моей заболевшей психики, или… Даже сейчас, спустя много времени после всего, что случилось, я поражаюсь, как я нашел в себе интеллектуальное мужество прийти к еще одной возможности. Поверьте, я не хвастаюсь. Всю свою сознательную жизнь я относился к себе достаточно скептически. Я никогда не был особенно умен, храбр, предприимчив. И знал это. Я легко смирялся с тем, что посылала мне судьба. И когда Галя упрекала меня в том, что я не борец, я вынужден был со вздохом соглашаться с ней. Я действительно не борец.
Казалось бы, легче всего мне было решить, что Янтарная планета — своего рода заболевание. Для более или менее рационально мыслящего ума такой вариант представлялся бы наиболее правдоподобным. Но я был уверен в другом. Я был уверен, что каким-то образом принимаю информацию, посылаемую У и его народом.
Представим себе, рассуждал я, стараясь оставаться спокойным, что какой-нибудь владелец телевизора где-нибудь, скажем под Курском, вдруг видит на экране своего «Рубина» или «Темпа» передачу из Рима. Или из Хельсинки. А перевода почему-то нет. Он — к соседям:
«Марь Иванна, что-то вчера вечером футбол передавали из Рима, а перевода не было. И не поймешь, кто играл».
«Да ты что, — говорит соседка, — какой футбол? Какой Рим? Восемнадцатая серия была этого… ну, как его… Ну, сам знаешь… И «Артлото». Ты что же, меня разыгрываешь?»
«Да нет… — тянет он. — Нет…»
Больше никто передачи из Рима не видел. Телевизионный приемник, как известно, принимает передачи только в пределах прямой видимости телепередатчика. А Курск, как известно из учебников географии и повседневного опыта, в пределах прямой видимости из Рима не пребывает.
Что же должен подумать владелец злосчастного «Рубина»? Или что он рехнулся, или что в результате каких-то неясных ему обстоятельств его приемник вдруг начал принимать передачи римского телевидения. Тем более, что редко, очень редко, но подобные случаи наблюдались.
Со мной дело обстояло приблизительно так же. С той только разницей, что Янтарная планета — не Рим, голова моя — не «Рубин» и ничего похожего, насколько мне известно, никогда ни с кем не случалось.
Вечером я решил поговорить с Галей. На этот раз она слушала меня, не перебивая. Когда я кончил, она обняла меня и потерлась носом о мою щеку.
— Ты колюч, — сказала она, — но все равно я тебя люблю.
Обычно, когда Галя обнимает меня, я чувствую себя большим двадцатипятилетним котенком, которому хочется мурлыкать и прогибаться под прикосновением ласковой и знакомой руки. Но сегодня я был насторожен, как зверь. Невольно я присматривался, стараясь понять, что она думает на самом деле.
Подозрительность — самовозбуждающееся состояние. Стоит сделать первый шаг в этом направлении, как второй окажется легче. Мне уже казалось, что Галин нос холоден и фальшив, что голос ее неискренен, что она разговаривает со мной, как с больным.
— Все будет хорошо, — сказала Галя, — тебе нужно просто отдохнуть. Может быть, поговорить в школе и тебя отпустят на недельку? В конце концов, ты подменял Раечку, когда она выходила замуж… Съездишь на недельку в Заветы Ильича к тете Нюре, побродишь, подышишь чистым воздухом и приедешь совсем здоровым.
— Здоровым. Значит, сейчас я болен?
— Я не говорю, что ты болен, но…
— Я тебя понимаю. Я тебя прекрасно понимаю. Если бы ты рассказала мне, что видишь сны, идущие к тебе из космоса, я бы наверняка тоже отправил тебя к тете Нюре. Тетка — женщина земная, сны видит, наверное, сугубо реалистические, скорее всего поселкового масштаба…
— Ты напрасно сердишься. Я ведь желаю тебе только добра.
— Я не сержусь, Люш. Клянусь! Если ты заметила, у меня с начала янтарных снов стало прекрасное настроение. Но скажи, неужели ты не допускаешь, что я могу оказаться прав? А вдруг? А вдруг в привычных буднях мелькает лучик необычного? А ты его — к тете Нюре, на свежий воздух.
Галя вздохнула, и на лице ее вдруг появилась утренняя суровая неприступность.
— Ну хорошо, — сказала она, — допустим на минуточку, что я верю тебе. Даже не верю, это не то слово, — просто ты убедил меня. Ты, Юра Чернов, Юрий Михайлович Чернов, учитель английского языка в школе, — в Галином голосе появился легчайший сарказм, — оказался тем избранником, которого нашли твои космические друзья. Допустим. И что тогда? Ты обожаешь в разговоре представлять, что было бы, если бы… Один раз и я попытаюсь это сделать. Ты придешь… ну, допустим, в Академию наук и скажешь: «Здрасте, я учитель английского языка Юрий Михайлович Чернов. Я, знаете, принимаю сигналы из космоса. Во сне». Ты вот пожимаешь плечами. Может быть, тебе безразлично, что о тебе думают окружающие, а я не хочу, чтобы моего мужа считали психом. Ты меня понимаешь?
Галины щеки раскраснелись, глаза блестели. Я взглянул на ее руки. Они были сжаты в кулаки. Она была готова к бою. За здравый смысл, за меня, за то, чтобы никто за моей спиной не стучал пальцем по лбу.
— Ты молчишь, — продолжала Галя. — Да и что ты можешь мне возразить? Ничего. Тебе всегда легко выбрать вариант, при котором ничего не нужно делать. Чтобы все устроилось само собой, а ты бы лежал на тахте сложа ручки…
По всей видимости, мне бы следовало рассердиться и высказать Гале свои соображения по поводу того, за кого ей следовало бы выйти замуж. Но странное дело: отблеск радости, приносимой снами, по-прежнему лежал на всем вокруг, даже на Галином лице со ставшими колючими глазами. Я лишь вздохнул. В том, что она говорила, был здравый смысл. Торжествующий здравый смысл миллионов. Спасающий и уничтожающий все на своем пути. Боже упаси оказаться под гусеницами здравого смысла. Атака здравого смысла неудержима. На его стороне сила и поддержка большинства. И ты стоишь один, вооружившись хрупкими, странными идеями, в которые сам-то веришь не до конца.
— Наверное, ты по-своему права, Люш. Но что же ты мне посоветуешь, кроме тети Нюры?
— Может быть, показаться врачу? Хорошему психиатру, который мог бы объяснить твое состояние. У Вали есть прекрасный врач…
— Ты уже спрашивала?
Галя на мгновение задумалась — соврать или сказать правду.
— Да… Я видела, что с тобой что-то происходит… Пойми, Юрча, — Галины глаза снова потеплели, а когда они теплые, я смотрел бы в них не отрываясь, — пойми, это ерунда, это пройдет. Но не нужно запускать болезнь. Вылечить вначале всегда легче, чем потом. Ты пойдешь к врачу?
— Пойду.
А что мне еще оставалось сказать? Что не пойду? И еще больше укрепить ее в уверенности, что я помешался? И смотреть, как она начнет прятать от меня острые предметы?
А может быть, она действительно права? Может быть, моя глубокая уверенность, что я здоров, — тоже один из симптомов надвигающегося безумия? Может быть, я уже давно болен? Задолго до появления янтарных снов? Склонность к рефлексиям. Привычка вечно фантазировать, что было бы, если бы… Если бы да кабы, да во рту росли грибы… Грибы у меня во рту пока как будто не росли, но на всякий случай я обшарил его языком. Я испугался. На мгновение грань между действительностью и забавной шуткой стала зыбкой. В шутку ли я провел языком по нёбу и деснам? Или всерьез?
Я вспомнил своего друга Илью Плошкина. Еще в институте он любил называть меня слабоумным. Не был ли он пророком? И не скрывалась ли в шутке крупица истины? Или даже не крупица, а вся истина?
— И не волнуйся, милый, — сказала Галя, — все будет хорошо.
В голосе ее зазвучала свирепая решимость хранительницы очага отстоять свою крепость. Уж что-что, а решимости Гале не занимать. Как только в ее маленькой головке созреет какое-нибудь решение, она начинает проводить его в жизнь со всесокрушающей энергией.
— Хочешь, я пойду с тобой? — спросила она.
— Люшенька, давай решим, полный ли я инвалид или еще в состоянии передвигаться. Если я могу двигаться без няньки, даже такой симпатичной, как ты, я бы предпочел поехать сам. Адрес у тебя есть?
— Вот он. Ничего ему по телефону не объясняй. Скажи, что говорит Чернов от Валентины Егоровны…
Я нажал кнопку одиннадцатого этажа и, пока ехал наверх, прочел на стенках лифта всю недолгую летопись дома-новостройки. «Олег плюс Света»… Дай бог им счастья. Та-ак. «Ленька дурак. Оля дура». Будем надеяться, что это клевета. Может быть, и их просто не понимают, им просто не верят.
Сто восемьдесят пятая квартира была в правом загончике, в котором царила кромешная тьма. Я пошарил руками по стенке, нащупал какой-то звонок и позвонил. Звонок был мелодичный, и у меня вдруг на душе стало покойно и хорошо, как все эти дни. Дверь открылась резко и сразу, будто кто-то дернул ее изнутри изо всех сил. Так оно, похоже, и было, потому что за ней стоял огромный детина с рыжей короткой бородой и в майке.
— Простите, — пробормотал я, чувствуя себя рядом с этой бородатой горой маленьким и беззащитным, — это квартира сто восемьдесят пять?
— Она, — с глубокой уверенностью ответил басом человек в майке. — А вы, должно быть, от Валентины Егоровны?
— Он. — Я постарался, чтобы в голосе у меня прозвучала такая же уверенность, как и у врача.
— Ну и прекрасно. Простите, что я в майке. Циклевал, знаете, пол. Пошли ко мне.
Человек-гора ввел меня в крошечную комнатку, половину которой занимал письменный стол.
— Одну минуточку, — сказал он. — Я, с вашего разрешения, надену рубашку, а то врач в майке — это не врач, а циклевщик полов, черт бы их подрал. Я имею в виду и полы и циклевщиков. Особенно последних. Вам когда-нибудь приходилось циклевать полы?
Мне стало стыдно, что я до двадцати пяти лет так и не держал в руках циклю или как она там называется.
— Нет, — покачал головой я, — не приходилось. Только в литературе читал. У классиков. — Доктор ухмыльнулся, а я спросил его: — Вот я сказал: читал у классиков. И вы сразу знаете — этот, мол, шутит, а этот болен?
— Ну уж сразу. Сразу не сразу, но кое-что мы все-таки умеем определять. Ну, расскажите, на что вы жалуетесь.
— Я, к сожалению, ни на что не жалуюсь.
Я произнес эту фразу и подумал, что не следовало бы шутить здесь. Бог его знает, как он воспримет мою манеру разговаривать.
— Ну хорошо, расскажите, на что вы не жалуетесь.
О господи! Отступать было некуда, и я коротко рассказал врачу о сновидениях. Он слушал меня, не перебивая, время от времени забирал в кулак свою рыжую бороденку и подергивал ее, словно пробуя, хорошо ли держится.
Затем он расспросил меня о самочувствии, о том, как я засыпаю, об отношениях с родными и сослуживцами, о том, чем я болел, и тому подобное. Когда я ответил на последний вопрос, он начал яростно жевать нижнюю губу. Я подумал, что он ее, по всей видимости, сейчас откусит, но все обошлось благополучно. Губу он оставил в покое, но принялся вдруг чесаться. Он скреб голову, затылок, щеки, нос, подбородок.
Если кто-нибудь и нуждается здесь в помощи, подумал я, так это наш милый доктор.
— Ну и что? — спросил я, не выдержав.
Доктор не ответил, а принялся чесаться с еще большим ожесточением.
— Вам не помочь? — как можно более кротко спросил я.
Я просто не мог видеть, как человек пытается голыми руками снять с себя скальп.
— Что? — вскинулся доктор. — А, это у меня такая скверная привычка. Впрочем, знаете, есть теория, по которой почесывание головы способствует лучшей циркуляции крови и, соответственно, лучшему мыслительному процессу.
Я засмеялся.
— Смешно?
— Простите, доктор, я понял, почему я с детства обожал, когда мне почесывали голову.
— О господи! — вздохнул доктор. — Что же вам сказать? С одной стороны, вы абсолютно нормальный человек, прекрасно ориентирующийся во внешнем мире и в своей личности…
— Благодарю вас, — важно и с достоинством наклонил я голову.
Но доктор продолжал:
— С другой стороны, в ваших сновидениях есть, похоже, элементы парафренного синдрома. Но только, повторяю, элементы. Я имею в виду сам факт общения с вашими человечками… Довольно странная комбинация, я бы сказал.
— Простите, доктор, за настойчивость. Допустим, я бы ничего не рассказывал вам о Янтарной планете. Создалось бы у вас впечатление, что у меня нарушена психика?
— Безусловно и стопроцентно нет.
— Вы говорите, в моих снах есть элементы, как вы называете, парафренного синдрома. В снах. Допустим. Но во мне, в моей бодрствующей личности, они есть, эти элементы?
— Как вам сказать… Пожалуй, нет. Но опять же все не так просто. Для этого синдрома характерны чувства самодовольства, блаженства, веселости, эйфории. Ну-с, отбросим самодовольство. Оно, по-видимому, вообще не характерно для вас. Блаженство, пожалуй, тоже можно вывести за скобки. А вот веселость, эйфория — это как раз примерно то описание вашего состояния после сновидений, которое вы мне дали. Вообще-то сновидения для парафренного синдрома не характерны. Речь идет, скорее, о галлюцинациях. С другой стороны, космические мотивы довольно часто встречаются в наше время у больных парафренным синдромом. Как, впрочем, и при онейроидном синдроме…
Начав пользоваться привычной терминологией, доктор значительно повеселел. Что значит хороший костыль для хромого!
— А это еще что такое?
— Онейроидный — сноподобный. Это как бы кульминация острого фантастического бреда. Яркие чувственные впечатления…
Боже правый, подумал я, это уже ближе.
— …Они как бы зримы, эти впечатления, ярко выраженный эффект присутствия. И тоже часто встречаются космические мотивы.
— Похоже, — пробормотал я.
— Возможно, было бы похоже, если б не одна маленькая зацепочка.
— Какая же?
— И при том и при другом синдромах всегда наблюдаются определенные сдвиги в психике. Недавно у меня лежал больной с этим же диагнозом. Прекрасный, милый человек, который терпеливо объяснял всем, что он ответствен за судьбы Вселенной, поскольку все нити от всех звезд и планет он держит в руках. Иногда он очень вежливо просил кого-нибудь подержать, допустим, Альдебаран, поскольку звезда очень большая, держать ее трудно и у него устала рука. А не держать ниточку нельзя улетит. Вселенная и так разлетается… Очень начитанный и интеллигентный человек.
— И как, вылечили вы его?
— Более или менее.
— Ну, а что же мне делать?
— Пока ничего. Абсолютно ничего. Если можете, отдохните немного. Спорт.
Я улыбнулся.
— Вы напрасно улыбаетесь. Если бы вы знали, какие громадные у нас резервы саморегуляции, вы бы не улыбались.
— Простите, доктор, я улыбнулся, потому что моя жена тоже уговаривала меня отдохнуть. У нас под Москвой в Заветах Ильича есть родственница…
— Ну и прекрасно.
— Простите, доктор, еще раз за настырность. Допустим, вы проводите всякие там исследования…
— Вам не нужны никакие исследования.
— Я говорю, допустим. И допустим, вы приходите к твердому убеждению, что я психически здоров. А сны будут продолжаться…
— Ну и смотрите их на здоровье, если они вам не мешают. Тем более, вы говорите, что чувствуете себя по утрам выспавшимся, отдохнувшим.
— А вообще-то в психиатрии известны случаи таких серийных снов?
— Строго говоря, это уже не психиатрия. Это скорее психология. Есть ведь, знаете, специалисты по сну. Они бы, конечно, дали вам более исчерпывающий ответ. Но, по-моему, такие случаи известны, хотя и не часты. Но, как правило, это однотемные сновидения, когда снова и снова снится одно и то же. Или сны-компенсации, когда человек переживает в сновидении все то, чего он не имеет в реальной жизни. Сновидение — не прямое выражение компенсации, а искаженные символы, требующие интерпретации. Подавление побуждений обеспечивает силу для построения сновидений, а память — сырьем, осадком дня. Это точка зрения Фрейда, который называл сновидение «фейерверком, который требует так много времени на подготовку, но сгорает в одно мгновение». Но Фрейд, как известно, слишком увлекался побуждениями пола. Я же в ваших сновидениях эротического мотива не усматриваю. Адлер же считал, что человек видит сны, когда его что-то беспокоит. Не случайно неприятных снов больше. Если не ошибаюсь, их пятьдесят семь процентов, а приятные вещи снятся в два раза реже. Наш Сеченов называл сновидения небывалой комбинацией бывалых впечатлений…
— Но ведь в моем случае…
— Поймите, мозг — это чудовищно сложная машина. Личность человека практически неповторима, как отпечатки пальцев. Классически ясные случаи встречаются чаще в учебниках, чем в жизни. Вполне возможно, что у вас серийный, как вы выражаетесь, сон носит характер переработки, почерпнутой из научно-фантастической информации.
Гм, подумал я, бородач повторяет предположения семиклассника Антошина. Только тот пришел к ним значительно быстрее.
— А как вы относитесь к возможности, о которой я вам уже говорил, доктор? То, что я каким-то образом принимаю информацию, посылаемую из космоса?
— Именно поэтому-то я с вами разговариваю. Строго говоря, это единственный реальный симптом, заставляющий вообще задумываться. Иначе я бы давно распрощался с вами.
Бессмысленно. Силовое поле здравого смысла непроницаемо. Рыжему врачу легче посчитать здорового человека больным, чем приоткрыть дверь для неведомого. Впрочем, его можно понять. Это действительно легче. Когда человек держит в руках нити от всех звезд и планет, как продавец воздушных шариков, легче, конечно, прийти к выводу, что его нужно лечить, чем отнестись к нитям серьезно.
— Спасибо большое, доктор. — Я достал из кармана приготовленный конверт с деньгами и попытался неловко всунуть его в огромную ручищу доктора. Рука была покрыта короткими рыжими волосками. — Это вам, — пробормотал я.
— Деньги? — деловито спросил психиатр.
— Да, — признался я.
— Спасибо, но я не беру. Я вообще не имею частной практики. Меня попросила Валентина Егоровна, а она такая женщина, которой не отказывают. Вы ее знаете?
— Конечно, она жена моего близкого друга.
— Передавайте ей привет. Желаю вам отдохнуть. Знаете, что я вам могу еще порекомендовать? Циклюйте полы. Великолепная трудотерапия.
ГЛАВА IV
По дороге домой я вдруг вспомнил о своем друге Илюше Плошкине. Я не видел его уже несколько месяцев.
Мы учились вместе в Институте иностранных языков, но у него было странное хобби — психиатрия. Он сыпал психиатрическими терминами направо и налево. Меня он называл в зависимости от своего настроения олигофреном вообще, дементным, имбецилом и дебилом, подробно объясняя все эти градации слабоумия. Обижаться на него было нельзя, потому что Илья — самый добрый человек на свете. На грани юродивости, говорил он сам о себе.
Я долго перетряхивал карманы, пока не нашел двухкопеечную монетку. По моим расчетам, Илья должен был быть еще на работе. Там он и оказался.
— Это ты, олигофрен? — радостно забулькала трубка на другом конце провода, и у меня сразу потеплело на душе.
— Я. Как живешь?
— Не паясничай! — еще громче закричал Илья, так что в трубке задрожала мембрана. — Не лги себе и мне. Тебе что-то нужно от меня. Скажи честно и прямо.
— Есть у тебя какая-нибудь более или менее популярная книжка по психиатрии?
— Ты что, смеешься? Есть, конечно. И книжки и учебники. Ты же знаешь, психиатрия — мое хобби. Ты помнишь диагнозы, которые я тебе ставил?
— Помню. Олигофрен, идиот, дементный, имбецил и дебил сразу.
— Что значит запало в душу человеку! Ну и как, оправдываешь ты диагноз?
— Стараюсь, Илюша. Ты когда будешь дома?
— Через час.
— Если ты не возражаешь, я зайду к тебе и возьму что-нибудь. Учебник или книжку по психиатрии.
— Не пойдет.
— Почему?
— А потому, что в таком случае я закрываю лавку и освобождаюсь через тридцать секунд. Обмен технической информацией будет продолжаться и без моего личного руководства.
— А с работы тебя не выгонят?
— Меня?
— Тебя.
— Меня нельзя выгнать.
— Почему?
— Потому что у меня ужасная репутация. Все знают, что я разгильдяй, а разгильдяев не увольняют. Разгильдяев жалеют.
— Мне стучат в дверь.
— Ладно, ты где?
Я назвал свои координаты, и мы договорились встретиться через полчаса.
Илюша был все таким же. Толстым, уютно-измятым и полным энтузиазма.
Каждый раз, когда я вижу его после мало-мальски длительного перерыва, я боюсь, что он вдруг похудеет и перестанет походить на Пьера Безухова. Но он, к счастью, не худеет. Скорее наоборот.
Он долго и ласково выбивал пыль из моего пиджака, изо всех сил похлопывая по спине, тряс, жал, крутил, вертел, рассматривал и наконец удовлетворенно кивнул:
— Пока вроде ты ничего.
— В каком смысле, Илюша?
— Признаков синдрома ИО нет как будто. Впрочем, два месяца — слишком малый срок для такого анамнеза.
— А это что такое?
— ИО? Я разве тебе не говорил? Синдром Ионыча. Помнишь такой…рассказ Антона Павловича? Я так называю тех, кто начинает дубеть и прокисать. Симптомы: свинцовость во взгляде, замедленная реакция на нижестоящих, расширение и уплощение зада…
Однокомнатная Илюшина квартира являет собой абсолютный беспорядок, первозданный хаос, Вселенную до сгущения пылевых облаков и образования звезд. Однако пыль здесь в отличие от Вселенной сгуститься не может, потому что покрывает ровным толстым слоем почти все в квартире, за исключением протоптанной хозяином тропинки.
— Ты уж меня прости, — вздохнул Илья. — Ты же знаешь, это у меня психическое заболевание такое. Все собираюсь описать его, да времени не хватает. Я страдаю навязчивой идеей, что чистота в конце концов погубит человечество. Природа не терпит чистоты и мстит человеку за стремление к чистоте и гигиене. Здесь, на маленьком островке в море противоестественной стерильности, я живу в гармонии с природой. Погоди, сейчас есть будем.
— Здесь? — искренне изумился я. — Здесь есть?
— Здесь, к сожалению, нельзя, — вздохнул Илья.
— Почему? — спросил я.
— Пробовал я…
— Ну и что?
— Скрипит очень.
— Что скрипит? Стол?
— Пыль, глупый. Пыль скрипит на зубах. Да громко так, соседи стучат.
— Пошел ты к черту!
— Видишь, как ограничен твой мозг. Чуть выберешься из болота банальности, а ты уже с палкой стоишь — пошел к черту. Ах, Юра, Юра, бедный мой маленький имбецилик! Ладно, пошли на кухню. А пока я буду готовить, вот тебе учебник психиатрии. Держи.
Боже, я никогда не видел столь обстоятельно проработанной книги! Каждая вторая строчка была подчеркнута, против абзацев стояли каббаллистические знаки, а некоторые страницы пестрели таинственными цифрами, выведенными Илюшиной рукой.
Вербальные иллюзии, слуховые галлюцинации… Гм… Описаны В.X.Кандинским еще в XIX веке. Больной уверен, что его мысли принадлежат не ему самому, а кому-то другому и вложены ему… Так, так… Больные жалуются на «сделанные» воспоминания, сновидения… Ага, это уже ближе, подумал я.
Странно, но я нисколько не волновался. В глубине души я был уверен, что совершенно здоров.
Сделанные сновидения. Ну, допустим. Что еще здесь? Псевдогаллюцинации в сочетании с ощущением чуждости и «сделанности» собственных мыслей, их открытость носят название синдрома психического автоматизма Кандинского-Клерамбо.
Увы, подумал я, до психического автоматизма мне далеко. Никаких сделанных мыслей, никакой открытости. Двинемся дальше. Навязчивые идеи. Мысли, от которых человек не может, хотя и хочет, освободиться.
Освободиться от мыслей о Янтарной планете я действительно не могу. Но я и не хочу.
Сверхценные идеи. Это еще что такое? Мысли не носят нелепого характера, но больной неправильно оценивает их, придает чрезмерно большое значение, которого объективно они не имеют. В отличие от навязчивых идей сверхценные идеи не сопровождаются тягостным чувством навязчивости и желанием освободиться от неправильного образа мышления.
А что, это уже довольно близко ко мне. Тягостного чувства нет, желания освободиться нет, а мысль о том, что впервые в истории человечества какая-то другая цивилизация пытается сообщить нам что-то о себе, — так это же явно пустяковая мысль, которой… как там говорится?… придают чрезмерно большое значение, которого объективно мысль не имеет.
Ладно, эдак утонешь в толстенном томе. Ага, вот мои любимые клички — олигофрены, дебилы, имбецилы, идиоты.
А вот и мой собственный парафренный бред. Я начал внимательно читать: «Больной часто считает себя святым, сверхчеловеком, призванным решать судьбу человечества».
Святой ли я? Увы, нет. На сверхчеловека, пожалуй, тоже не тяну. Не та весовая категория. С судьбами человечества — уже ближе.
«Парафренный синдром, — продолжал я читать, — отличается от параноидного фантастического бреда. Однако этот критерий нельзя признать вполне удачным. Вероятно, более правильно рассматривать переход бреда на ступень парафрении как дальнейшее углубление процесса дезавтономизации структуры личности. Личность при этом путает свою биографию с чужой, легко присваивает данные чужой жизни».
Боже, подумал я, какая неточная наука! Дезавтономизация структуры личности. Путаю я свою биографию с чужой? Пока еще нет.
— Ты еще не тронулся? — послышался из кухни голос Илюши.
— Держусь из последних сил, — буркнул я.
— Тогда иди есть.
Кухня, к моему изумлению, оказалась чище, чем была в прошлый раз, а яичница с жареной колбасой выглядела просто великолепно.
— Выпьем по рюмочке? — спросил Плюша.
— Мне предписано отдыхать и циклевать полы, а ты провоцируешь меня рюмочкой. Товарищ, друг называется!..
— Уймись, — ласково пробормотал Илья и налил в рюмки что-то похожее по цвету на лимонную настойку.
Мы чокнулись и выпили. Водка, настоянная на лимонных корках, была хороша.
— Ну, так что с тобой стряслось, мой бедный друг?
— А терпения у тебя хватит выслушать меня?
— Не морочь голову. На что еще годятся друзья? Только чтобы выслушивать.
Я начал рассказывать. Илья доел яичницу и слушал меня, полузакрыв глаза. Мне показалось даже, что он задремал, но он серьезно покачал головой, когда я спросил, разбудить ли его к ужину.
Я рассказывал и остро, всей своей шкурой, всем своим нутром, понимал, как нелепо звучит мой рассказ. Стражам здравого смысла даже не приходится отбиваться от меня. Одного их вида достаточно, чтобы мои истории замерли, остановились, потеряли краски, высохли и превратились в серую пыль. Подобно той, из которой сгущались звезды и которая лежала толстым слоем в Илюшиной комнате.
Но Янтарная планета все равно пела во мне, бесстрашно рвалась наружу, и я рассказывал, рассказывал, стараясь вложить в слова хоть частицу оранжевого отблеска, в котором жил У и его братья.
Когда я замолчал, я почувствовал странное ликование. Мне почудилось на мгновение, что Илья поверил мне. Он сидел, по-прежнему полузакрыв глаза, и не шевелился. А может быть, он все-таки заснул?
Пауза все росла, набухала огромным пузырем. Наконец он открыл глаза и посмотрел на меня.
— Юра, — сказал он, — я хочу задать тебе пошлый вопрос.
— Задавай.
— Это правда? То, что ты мне рассказал?
— Да.
— Тогда ты совершенно напрасно ходил к врачу и читал психиатрию.
— Почему?
— Потому что ты здоров. Если, конечно, не считать легкого слабоумия, которым ты страдал всегда. Во всяком случае, с тех пор, как я тебя знаю. Хочешь, я удивлю тебя?
— Хочу.
— Я верю тебе.
— Правда? — спросил я и почувствовал, как предательски дрожит у меня голос.
— Правда.
— Спасибо, Илюша. — Не знаю почему, на глаза у меня навернулись слезы.
— Не говори глупостей. Понимаешь, я верю тебе. Это… это фантастично! Но я ловлю себя на мысли, что реагирую на твои слова не так, как должен был, наверное. Ты сам-то понимаешь, что произошло? Контакт! Первый контакт с братьями по разуму, первая весточка от другой цивилизации! Величайшее, грандиознейшее событие в истории человечества! Бежать, кричать, звонить в колокола! Праздник людей, праздник планеты! А вместо этого мы сидим в этой маленькой грязной квартирке и более или менее спокойно разговариваем. А ты знаешь, почему? Потому что даже ты сам не до конца уверен, что это все так. И я. Что ты думаешь, напрасно, что ли, наш мозг так натренировался в рациональном мышлении? О нет! Все, что он пропускает сквозь себя, он стремится объяснить, объяснить рационально. А как объяснить твои сны? Рацио-то в этом случае дохленькое, хиленькое, похожее на какую-нибудь научно-фантастическую повесть. Ну хорошо, будем холодны и неторопливы, как судьи. Какие у нас есть доказательства? Рассказ Юрия Михайловича Чернова. Он хороший, честное слово, он хороший. Вот, пожалуйста, характеристика из школы: «За время работы… как квалифицированный, дисциплинированный» и тэдэ. Отзывы знакомых. Свидетельство жены: «Он, знаете, мне почти никогда не лгал. Так, больше по пустякам». Что еще?
Я глубоко вздохнул.
— Вот то-то и оно-то, — продолжал Илья. — Ты спросишь: «А как же ты сказал, что веришь мне?» Я верю. Я верю и не верю. Я верю, потому что знаю тебя. Но не это главное. Верю, потому что хочу верить. Я идиот и романтик. Я не вырос. Я задержался в умственном и эмоциональном развитии. Я ребенок. Глупый ребенок, Мне хочется праздника. Чудес. Неожиданных, ярмарочных чудес, которые показали бы кукиш размеренным будням, размеренным, умным людям. Поэтому я верю тебе. Точнее, даже не верю, а хочу верить. Понимаешь, хо-чу! А диплом мой, кора больших полушарий — они упрямятся. «Позвольте-с, — мямлит кора, — эдак-с всякий начнет утверждать, что он с ангелами по ночам беседует, всевышнего в виде горящего куста видел». И что ей возразить, коре-то? Кора хитра, ой как хитра! И сильна! За ней культура, за ней наука. А против — маленький дурачок, которому хочется чуда. И второй дурачок, который это чудо ему обещает.
— Прости, — сказал я, вставая. Мне стало грустно, но все равно я не мог сердиться на него.
— Мой маленький бедный дебил! — сказал Илья с такой пронзительной нежностью и дружеским участием, что сердце мое трепыхнулось от теплой благодарности и потянулось навстречу толстому человеку в очках, сидевшему напротив меня. — Не валяй дурака. Сиди и слушай умные речи. Все, брат, сводится к маленькому, пустяковому вопросику. Совсем пустяковому вопросику. Нужно получить объективные доказательства того, что ты принимаешь во сне какую-то информацию.
— Только и всего?
— Только и всего. И ты мне позвонишь завтра или послезавтра. И за это время я что-нибудь придумаю.
— Если бы ты мог! — сказал я с таким жаром, что Илья почему-то закрыл глаза и несколько раз энергично кивнул головой.
— Смогу, — сказал он. — Ты ведь знаешь, я гений.
— Знаю, — сказал я.
Он действительно гений, мой нелепый, толстый и измятый друг. Если бы он только так не разбрасывался. Я, кажется, уже и думаю, как Галя, пронеслось у меня в голове.
— Ты думаешь, я стараюсь только из любви к однокашнику?
— Нет, наверное.
— Ты прав. Я хитрый. Я эгоист и все время думаю: а вдруг Юрка и вправду входит в историю? А тогда и я эдакой Ариной Родионовной шмыг — и проскочил вместе с тобой. И твои биографы двадцать первого или тридцать первого века будут отмечать, что первым, кто поверил посланнику небес, был его друг Илья Плошкин, человек неряшливый, но огромного интеллектуального мужества. Ну как, берешь меня в Арины Родионовны? В историю берешь?
— Беру, Арина Родионовна, беру. Собирайтесь.
Галя, разумеется, обрадовалась, что и врач порекомендовал мне отдохнуть.
— Ты сам договоришься в школе?
— Нет, Люш, ни я не буду договариваться, ни ты тем более, — сказал я мягко, но твердо.
— Почему? — Галя посмотрела на меня с легким недоумением.
Если говорить честно, она не привыкла, чтобы я говорил «нет». То есть иногда я, конечно, говорю слово «нет», но в расчет оно не принимается.
— Потому что ни от чего отдыхать мне не нужно. Я совершенно здоров. И Илья Плошкин подтвердил это. А он величайший из психиатров-самоучек, которых я знаю.
Галя не удостоила Плошкина даже фразой. Она его не очень долюбливает. Может быть, она подсознательно ревнует меня к нему. Может быть, она содрогается при мысли о хаосе в его квартире, а скорей всего, в ней говорит инстинктивное недоверие замужних женщин к холостым друзьям мужа.
Мне вдруг стало жалко жену. Бьется она, бьется со мной, пытается сделать из меня взрослого, солидного человека, а он фортель за фортелем выкидывает. То от аспирантуры отказался, то по ночам с маленькими человечками беседует. И не хочет при этом отдохнуть у тети Нюры.
— Люш, — виновато вздохнул я, — я, так и быть, согласен полечиться. (Галя бросила на меня быстрый подозрительный взгляд.) Он порекомендовал мне циклевать полы. Узнай, кому из знакомых нужно недорого отциклевать паркет.
— Идиот! — сказала жена.
Боже правый, что они, все сговорились, что ли, называть меня идиотом, дебилом, имбецилом? А может быть, устами друзей и близких глаголет истина?
— Почему? Разве физический труд не облагораживает человека? Вон Лев Николаевич Толстой пахал, почему же я не могу циклевать полы? Может быть, в них я как раз и найду истинное призвание. Ты все время сама подзуживаешь меня, чтобы я ушел из школы… Мы разбогатеем, купим арабский гарнитур. Нас будут звать в гости заинтересованные заказчики…
Удивительное дело, я испытывал сегодня какое-то сладостное чувство, поддразнивая Галю. Словно мстил ей. А может быть, я и мстил ей подсознательно за то, что она не верила мне?
— Успокойся. Если ты думаешь, что я ввяжусь в ссору с тобой, — клиническим тоном сказала Галя, и глаза ее стали утренне-суровы и колючи, — ты ошибаешься. Телевизор и то интереснее…
ГЛАВА V
Сегодня я узнал еще одну деталь из жизни Янтарной планеты. Оказывается, У и его братья постоянно связаны некоей телепатической (а может быть, и не телепатической) связью с… запасным мозгом. Да, да, именно так. Я видел своими глазами, то есть, я хочу сказать, глазами У, длинное низкое здание со множеством ниш в стене, как в колумбарии. И в каждой нише матово мерцающий металлический кубик.
Если с У или с кем-нибудь из его братьев что-нибудь случится, запасной мозг всегда наготове. Берется новое тело, в него вставляется запасной мозг, который все время накапливал ту информацию, которой обладал погибший мозг, и умерший преспокойно продолжает жить и работать, а место в нише занимает новая запчасть.
Изготовляются ли эти мозги или они как-то рождаются, металлические они или только кажутся такими, этого я еще не знаю.
Я жду каждой ночи с нетерпением наркомана. Мне пришло в голову, что я напрасно ничего не записываю. Хотя каждая, буквально каждая черточка, каждая деталь того, что я видел на Янтарной планете, врезается мне в память, лучше все-таки записывать виденное.
Не откладывая свой замысел в долгий ящик, я тут же положил перед собой чистый лист бумаги, взял ручку, написал слова «Янтарная планета» и оцепенел.
В голове моей в первозданной своей яркости и четкости проплывали плавные, округлые холмы и звучала их мелодия, но слов, чтобы рассказать о них, у меня не было. Был лишь чистый лист бумаги, и чем больше я на него смотрел, тем больше убеждался, что никогда ни за что не смогу покрыть его странными маленькими загогулинками, которые называются буквами и которые теоретически могут рождать самые необыкновенные, тонкие, изысканные, трепещущие слова, способные описать все на свете. Нет, для этого нужно было обладать каким-то волшебством, знать заветное петушиное слово, а у меня была лишь грусть, смешанная с каким-то облегчением. Наверное, потому, подумал я, что мне в глубине души и не хотелось записывать на бумаге свое знакомство с народцем У. Наверное, я боялся, что, перенесенные на бумагу, чары исчезнут, нить порвется и я потеряю Янтарную планету.
— Антошин, — сказал я и посмотрел на последнюю парту, где сидел Сергей, — ты готов сегодня отвечать?
— Yes, — сказал Антошин, и все тридцать шесть голов в классе, мальчишечьи и девичьи, светлые, темные и шатенистые, причесанные и лохматые, разом повернулись к Сергею.
Впервые в письменной истории класса он выказал по доброй воле готовность отвечать, причем сказал это по-английски. Пусть одним словом, но по-английски. Должно быть, он и сам понимал необычность этого момента, потому что явно Покраснел и насупился, отчего стал сразу интереснее.
Класс замер, все хотели быть свидетелями чуда, чтобы потом рассказывать о нем своим детям и внукам: «Как же, как сейчас помню, это было в тот год, когда Сергей Антошин сказал на уроке «Yes».
Антошин ответил на тройку. Но я поставил в журнал с чистой совестью четверку. Подошел и молча пожал ему руку. Если бы я что-нибудь при этом сказал, все пошло бы прахом. Но я молча пожал ему руку, и впервые на лице Сергея вместо брезгливой сонливости сияла тихая гордость.
Черт возьми, как легко отмыкаются ребячьи души и как трудно найти ключик, который бы к ним подходил! Два года я не знал, что делать с Сергеем. Два года.
В перерыве телефон в учительской каким-то чудом оказался свободным, и я, веря в то, что такой день должен быть удачным во всех отношениях, позвонил Илье.
— А я как раз тебе собирался звонить, но никак не мог вспомнить, в какой школе ты терроризируешь детей неправильными английскими глаголами. Бери карандаш и записывай.
— Что, глаголы?
— Запиши телефон и адрес. — Он продиктовал мне: — «Нина Сергеевна. Кандидат медицинских наук Нина Сергеевна Кербель». Записал? Ни пуха ни пера.
— Подожди! Что такое Нина Сергеевна Кербель? Что она делает?
— Она изучает сон и сновидения. Привет от Арины Родионовны. Не обессудьте, батюшка, ежели што не так.
Он засмеялся и положил трубку. Ну что ж, Нина Сергеевна так Нина Сергеевна.
Когда я позвонил ей, она долго молчала, вздыхала в трубку, чем-то шелестела и вдруг спросила:
— А сегодня вы приехать не можете?
Я сказал, что могу. Она снова молчала, дышала в трубку, и я подумал, что, если и научные проблемы она решает с такой же скоростью, тайны сна и сновидений еще долго будут волновать человечество. Наконец она решилась и попросила меня приехать к пяти часам.
Оказалась Нина Сергеевна красивой молодой женщиной с огромными серыми глазами.
— Да, да, — сказала она, пожимая мне руку, — мне звонил наш шеф. Сам. Вы хорошо знаете Валерия Николаевича?
Я неопределенно пожал плечами. Жест должен был обозначить — так себе. Конечно, это было легкое преувеличение, поскольку я первый раз слышал его имя, но мне так не хотелось огорчать Нину Сергеевну. Не знаю почему, но я вдруг посмотрел на ее пальцы. Мне было приятно, что обручального кольца я не увидел.
— Валерий Николаевич мне сказал, что вы журналист…
— Вообще-то… Но я к вам вовсе не по журналистскому делу…
Ай да ловкач Илюша! Журналист…
Нина Сергеевна вопросительно посмотрела на меня:
— А я поняла, что вы журналист. Гм… Ну, раз вы здесь, слушаю вас.
Это был самый трудный момент. Порог, за который так легко зацепиться ногой и шлепнуться лицом вниз. А мне совсем не хотелось падать перед этой стройной женщиной в белом, ловко сидящем на ней халате. Интересно, есть под ним платье или нет? Какая чушь! Но в голову мне лезли самые нелепые вопросы, лишь бы оттянуть страшный миг. Мне захотелось спросить, трудно ли изучать сон и сновидения, как она относится к теории Фрейда, почему халат на ней сидит как влитой, без единой складочки, а на других висит вялыми, жеваными хламидами, что ей снится самой.
Но отступать было поздно. Нина Сергеевна терпеливо и молча смотрела на меня, и я увидел, как в ее огромных серых глазищах начинает тлеть недоумение.
Я зажмурился и прыгнул в холодную, страшную воду.
— Нина Сергеевна, то, что я собираюсь вам рассказать, будет звучать совершенно фантастически. Я это знаю и отдаю себе в этом отчет. И я не обижусь, если в любой момент вы скажете: простите, я занята, у меня много работы. Я вздохну, извинюсь и уйду, унося… и так далее.
Нина Сергеевна слабо улыбнулась и сказала:
— Я действительно занята, но после такого вступления я просто должна выслушать вас.
— Спасибо, — сказал я.
Весь мой ужас испарился, и я смело посмотрел на специалистку по сну. Она снова еле заметно улыбнулась и принялась рассматривать свои пальцы. Пальцы были узкие и длинные.
Я начал рассказывать. Я был краток и, как мне казалось, убедителен. Я рассказал о сновидениях, о посещении психиатра. Она оторвалась от своих пальцев. Лицо ее ничего не выражало.
— Ну, а что мы можем для вас сделать?
— Мне сказали, что вы занимаетесь сном.
— Да, наша лаборатория занимается сном.
— Я думал…
— Понимаете, никто в мире никакими приборами не может зарегистрировать, что именно снится человеку. Мы можем определить момент, когда человек начинает видеть сны, но что он видит, мы не знаем. Это может быть сон о вашей планете, а может быть сон самый обычный и земной. Физиологически они одинаковы.
Должно быть, на лице моем было написано такое разочарование, что она добавила:
— Поверьте, мы бы с удовольствием помогли вам, но я просто не знаю…
В ее глазах не было ни насмешки, ни брезгливого равнодушия. И за это я уже был ей благодарен.
— Простите, Нина Сергеевна, я отнял у вас столько времени.
Я протянул ей руку и на долю секунды задержал ее ладонь в своей. Она внимательно посмотрела на меня, и по лицу ее снова скользнула слабая улыбка.
— До свидания, — сказала она.
Я подумал, выходя, что был бы рад, если бы ее слова оказались вещими. До свидания, Нина Сергеевна.
День был холодный. Снег еще не лег, и голый асфальт стыл на морозе, и от вида его серой наготы было особенно зябко.
Мне должно было бы быть грустно. И оттого, что лаборатория сна помочь мне ничем не могла, и оттого, что у нее такие прекрасные глаза, и оттого, что на пальце у нее нет обручального кольца, а у меня есть, и оттого, что свинцовое небо совсем неохотно цедило скупой зимний свет. Но мне не было грустно. Мой маленький друг протягивал мне с Янтарной планеты не только зыбкую паутину сновидений. Он посылал мне бодрость и веру, и я почувствовал, что начинаю любить далекий и неведомый народец, такой не похожий на нас и такой похожий.
Это случилось утром. Когда я шел в школу. Я подходил к аптеке и увидел метрах в ста Вечного Встречного. Лентяй сегодня опаздывал немножко. Я подумал, что улыбаться ему еще рано — все равно не увидит на таком расстоянии. И вдруг почувствовал в голове… как бы это назвать… ну, легкую щекотку, что ли. Мгновенный зуд, но вовсе не неприятный. Не на коже, не в корнях волос, а где-то внутри, в мозгу. Тут же этот зуд перешел в неясное бормотание. Я по инерции продолжал идти навстречу Вечному Встречному, и с каждым нашим шагом, сокращавшим расстояние между нами, бормотание становилось громче, чище, явственнее, словно голова моя была приемником и кто-то подкручивал ручку настройки. Когда Вечный Встречный был уже в нескольких метрах от меня и мы улыбались друг другу, я услышал четкие слова: «Какой симпатичный молодой человек!»
До самых последних часов своей жизни я буду помнить эти слова!
Я не могу описать вам голос, который я услышал. Это был явно не голос Вечного Встречного. Голос был как бы бесплотный, мой, внутренний голос, без тембра, звука, без окраски, но он четко произнес слова «какой симпатичный молодой человек», и я слышал эти слова.
С невообразимой скоростью у меня перед глазами замелькали термины учебника психиатрии. Вербальные иллюзии, слуховые галлюцинации, псевдогаллюцинации…
На мгновение мне стало страшно. В груди образовалась пустота, властно всосала в себя желудок, сердце пропустило такт. Значит, я все-таки схожу с ума, подумал я и понял тут же, что это неправда. Нет, это неправда. Мне уже не было страшно. Мною овладело детское ощущение, что происходит что-то интересное. Что из фотоаппарата вдруг действительно вылетела птичка и сказала «здрасте».
Я обернулся. Вечный Встречный был уже метрах в ста позади меня. Я помчался за ним, размахивая портфелем, в котором лежал проверенный накануне диктант. Из сорока одной работы семь двоек. Не блестяще, прямо скажем.
— Простите, — сказал я, запыхавшись, и Вечный Встречный посмотрел на меня с недоумевающей улыбкой. — Что вы подумали только что, проходя мимо меня? Это очень важно. Поверьте мне, это…
Вечный Встречный весело рассмеялся:
— Что я подумал? Я подумал: «Какой симпатичный молодой человек». И, ей-богу, это не комплимент, я в этом действительно уверен.
Я быстро обнял своего незнакомого знакомца и чмокнул его в тугую сизую щеку и помчался в школу. Теперь уже в обратном порядке я услышал слова: «Странный мальчик». Сначала они прозвучали чисто и сильно, а затем через несколько шагов слились в неясное бормотание и погасли.
Странный мальчик. По крайней мере один-то человек уже точно знает, что я рехнулся.
А мне было весело. Меня захлестывало радостное ожидание чего-то, детское предвкушение праздника. Птичка ярмарочного фотографа вилась вокруг моей головы, обещая удивительные события и необыкновенные встречи. Мне казалось, что внизу подо мной, в шумной гавани, покачивается на бутылочных волнах мой галеон, который вот-вот отправится в неведомые страны. А может быть, это вовсе не гавань и не галеон, а космодром и ракета. И я иду один по бескрайнему полю к серебристой игле, нацеленной в зенит.
Я посмотрел на часы. Двадцать восемь минут девятого. Сигарету выкурить я, конечно, не успею, но можно не торопиться. Но я не мог идти спокойно. Забыв о педагогической солидности, я галопом взлетел по лестнице, ворвался в учительскую и почти пропел «доброе утро».
Семен Александрович испуганно посмотрел на меня и поднял журнал, словно хотел загородиться этим педагогическим щитом, и я явственно услышал: «Уж не пьян ли он?»
— Нет, нет, — покачал я головой и увидел, как, увеличенное стеклами очков, в выцветших бледно-голубых глазах математика медленно поднималось облачко изумления.
Я схватил журнал и помчался в восьмой «А» раздавать диктант, с семью двойками.
Вечером я решил проделать серию экспериментов. Солидных, корректных, как говорят ученые мужи, экспериментов.
— Люш, — сказал я жене, — ты можешь произнести про себя какую-нибудь фразу и записать ее на листке бумаги?
— А для чего?
— Для эксперимента.
— Фокус, что ли?
— Я ж тебе говорю: эксперимент. Только, пожалуйста, что-нибудь пооригинальнее. А то напишешь «Юрка дурак», и мне будет неинтересно угадывать.
— Зато это будет правда.
— Люшенька, жена моя, спутница жизни, правда правдой, а эксперимент экспериментом. Ты же женщина. Ты должна быть любопытна и недоверчива, как сорока. Не слезай с тахты. Вот тебе карандаш, вот листок бумаги. Когда будешь писать, прикрой листок рукой, чтобы я ненароком не подсмотрел.
— Дай что-нибудь подложить.
Я протянул ей номер «Науки и жизни». Теперь сосредоточиться. Я уже установил, что бесплотный голос в моем мозгу звучит чище и громче, когда я сосредотачиваюсь, прислушиваюсь к нему. И наоборот, когда я занят чем-нибудь, голос исчезает.
Быстрый, летучий зуд, приятная щекотка. Ощущение включенного приемника. Он включен, но передача еще не началась. И вот голос: «Что б написать… Что ему надо отдохнуть? Просто очень. Он просил пооригинальнее. Какую-нибудь стихотворную строчку… Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь…»
Я не удержался. Я хотел написать услышанное тоже на листке бумаги и сравнить потом. Вместо этого я пропел:
– «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь…»
Галя уставилась на меня, слегка приоткрыв рот, и я услышал, как она подумала: «Как это он… Фокус какой-нибудь…»
— Угадал? — спросил я.
— Да-а, — словно не веря себе, протянула Галя. — А как ты это делаешь?
— Очень просто, — небрежно и слегка покровительственно объяснил я. — Я смотрю на тебя и слышу твои мысли. В этот момент, например, никаких ясных мыслей у тебя нет. Но давай-ка поставим еще один опыт.
«Что бы такое придумать, чтоб он не догадался… Какие-нибудь имена… Знакомых… Нет, знакомых он может угадать… Чушь какая, как он может… О, есть! Напишу фамилии сотрудников соседней лаборатории. Зав — Сидорчук, потом этот симпатичный молодой доктор Леонтьев, Малыкина, Ишанова… Как фамилия этого хромого? Ш-ш… А, Шулятицкий. Кто еще? Полищук и Нина Сыч, которые никак не поженятся… Хватит, пожалуй».
— Хватит, — кивнул я, и Галя нерешительно посмотрела на меня.
У меня было такое впечатление, что она еще не решила: то ли удивляться, то ли восхищаться, то ли обругать меня. А для такой решительной особы, как Галя, неопределенность — состояние противоестественное.
— Записала? — спросил я.
— Да.
— Читаю, — сказал я. — А ты следи по своему списку, не пропустил ли я кого-нибудь: «Сидорчук». Дальше у меня записано «с.м.д. Леонтьев». Если я правильно помню, гражданка Чернова, с.м.д. — это симпатичный молодой доктор. — Я вздохнул, изображая отчаянную ревность. — «Малыкина, Ишанова».
— Ешанова, — поправила Галя.
— Хорошо. Я великодушен. Я разрешаю этой даме быть отныне не Ишановой, а Ешановой.
— Она не дама. Она девушка.
— Передай ей мои поздравления. Продолжаю. «Шулятицкий, Полищук и Нина Сыч». Правильно?
— Правильно. Здорово ты это делаешь!.. Будем ужинать?
— Ужинать? — переспросил я.
— Не завтракать же.
Боже, она только что была свидетелем чуда. Самого настоящего чуда. Маленького настоящего волшебства. И зовет ужинать. Вместо того чтобы упасть на колени и обратить ко мне простертые длани, она зовет меня ужинать. У-жи-нать! Слово-то какое нелепое — у-жи-нать. И этот человек, с которым я живу под одной крышей, работает еще в научно-исследовательском институте. Исследовательском. Научном.
Она вся была в этом. Все, что она не могла контролировать, все, что не могла держать в своих маленьких, цепких лапках, она отбрасывала прочь. Ей не нужно было чуда, потому что для созерцания чуда нужна смиренность, а смиренностью моя жена не отличается.
— Галя, — сказал я, — ты — младший научный сотрудник. У тебя готова треть диссертации. Ты знаешь про пищеварение плоских червей больше всех на свете. Ты начинающий ученый. И ты так спокойно отнеслась к тому, что я тебе показал? Как это может быть?
— А что я должна была делать? — Галя сползла с тахты, потянулась, выгнувшись по-кошачьи. — Что сегодня по телевизору, ты не знаешь?
— Люшенька, — жалобно простонал я, — как я это делал? Объясни мне.
— Откуда я знаю? Ну что ты хочешь от меня? Фокус какой-нибудь…
— Какой фокус? — загремел я. — Ну какой это фокус?
— А что это? — необычайно вежливо спросила Галя.
— Это чтение мыслей, вот что это.
— Чтение мыслей, материализация духов и раздача слонов.
— Боже мой, какая эрудиция! Ты даже читала Ильфа и Петрова. Ну хорошо, а если бы я сейчас взлетел в воздух и вылетел в окно?
— Я бы поплакала полгода и вышла, наверное, за другого.
— Спасибо, Люш, за полгода. На самом деле тебе, наверное, хватило бы для слез и полмесяца или полдня. Но я имел в виду благополучный полет. Предположим, я бы полетал и сел на подоконник. И ты бы тоже спросила меня, что сегодня по телевизору?
«С ним все-таки что-то происходит, — услышал я ее мысли. — Попросить Валентину, чтобы она еще раз поговорила с этим врачом…»
— Попроси, попроси! — крикнул я и подумал, что кричать, вообще-то, глупо и я, наверное, на ее месте вел бы себя так же.
— Что — попроси? — Теперь, в первый раз за вечер, из Галиных глаз исчез домашний ленивый покой, и вместо него я увидел поднимающееся изумление.
— Попроси Валентину, чтобы она еще раз поговорила с этим врачом! — Я знал, что зря распаляюсь, но уже ничего не мог поделать с собой. — Ты абсолютно права. Как только встретишь что-то непонятное, не укладывающееся в принятые схемы, давай к психиатру! Последняя линия окопов! Раньше — на костер инквизиции, а теперь — в кабинет к психиатру! Если бы я утверждал, что у тебя на голове рожки, ты бы могла подумать, что у меня галлюцинации. Но ведь это не галлюцинации. Сравни две бумажки. Сидорчук, Леонтьев, Малыкина, Ешанова или Ишанова, как там ее… Или это тоже галлюцинация? Семейная галлюцинация? Ладно, когда я пытался рассказать тебе о своих снах и ты оставалась вежливо-равнодушной, я еще мог тебя понять. Какая-то планета, какой-то человечек У с запасной металлической головой, — мало ли что кому снится! Но сегодня… Объясни мне… Это же… Это же чудо! Это телепатия, которой не существует! А ты говоришь — ужинать!
Галя подошла ко мне и обняла меня. Знакомое теплое прикосновение. Слабый знакомый запах ее духов. Знакомая комната. Чуть криво висящий эстамп с букетом сирени. Сколько раз я собирался вбить новый гвоздик…
— Ну что ты, Юрча, — нежно сказала Галя и потерлась кончиком носа о мою щеку.
Кончик был мягкий и теплый, и я, несмотря на раздражение, почувствовал прилив нежности к этому существу, которое я безжалостно волок за собой из ее привычного теплого мирка к далекой Янтарной планете.
— Не нервничай, хорошо? — сказала она. — Наверное, ты прав. Наверное, я дурочка. Но что же делать, если господь обидел меня разумом? Но ведь ты тоже глупенький. Как ребеночек. Как по-твоему, что я сейчас думаю?
– «Все-таки я его люблю!»
— Правильно, — засмеялась Галя.
Это уже было нечто более понятное, чем можно было привычно распоряжаться. Можно было снова почувствовать себя хозяйкой.
Я не сердился на нее. Одни жаждут чуда, другие бегут его. Мне было только чуть-чуть стыдно за нее. Перед У. И чувство это не было для меня смешным.
Галя ушла на кухню, а я подумал, что лучше всего, наверное, было бы забыть о Янтарной планете и начать выступать с так называемыми психологическими опытами. «А сейчас феномен природы, заслуженный артист республики, продемонстрирует опыты чтения мыслей, основанные на учении Ивана Петровича Павлова…» А я в сатанинском черном фраке, бледный, с горящими глазами выхожу на эстраду, небрежно раскланиваюсь, замечаю во втором ряду сказочной красоты блондинку, подхожу к ней и пристально смотрю на нее. Бедняжка дрожит и не может оторвать от меня завороженного взгляда. Я прошу ее написать на бумажке два предложения и передать в жюри, а сам, отвернувшись, называю их. Зал гремит овациями, блондинка уже не дрожит, а вибрирует, а я продолжаю психологические опыты, основанные на учении Ивана Петровича Павлова.
Я улыбнулся. Нет, я не предам своего друга У и его дар ни за какие деньги, эстраду и завороженный взгляд блондинки. Не я хозяин дара и не для заработка протянули мне братья У серебряную ниточку сквозь бесконечные просторы космоса.
Вдруг удивительно громко и неожиданно зазвонил телефон. Галя взяла трубку.
— Привет, Илюшенька… Да, дома, даю трубку.
Я взял трубку.
— Ты можешь ко мне приехать? Прямо сейчас? — выпалил одним духом Илья.
— Что-нибудь случилось? — спросил я.
— О имбецил! Стараешься для него, ломаешь голову, а он спрашивает, не случилось ли что-нибудь!
— Хорошо, Илюша, сейчас приеду.
Галя вопросительно посмотрела на меня:
— Уезжаешь?
— Съезжу к Илье.
— Надолго?
— Нет, часа через два буду дома.
— Езжай, только осторожно. Я сегодня видела такую страшную аварию у Белорусского… Маршрутка и троллейбус…
ГЛАВА VI
Илья, наверное, высматривал меня в окно, потому что не успел я захлопнуть дверцу лифта, как он тут же распахнул дверь своей квартиры. Он схватил меня за руку и втащил на кухню, где зло шипел на плите чайник.
— Прости меня, Юрочка, но я действительно не ошибался, считая тебя олигофреном.
— Спасибо.
— И себя тоже. Вчера и сегодня я изнасиловал всех, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к кибернетике.
— К кибернетике?
— Вот-вот. Именно здесь и проявляется твое клиническое слабоумие. Что такое твои сновидения, если ты не разыгрываешь нас? Это сигналы, несущие какую-то информацию. Так?
— Очевидно.
— «Очевидно»! Я думаю, очевидно. Всем изнасилованным в нашем институте я задавал один и тот же вопрос: если, скажем, одна цивилизация пытается передавать в первый раз информацию другой цивилизации, как она может привлечь внимание к своим сигналам? И все кибернетики в один голос отвечали: чтобы привлечь внимание к своим сигналам, они должны постараться подчеркнуть их искусственный характер.
— А как?
— Вот именно, а как? И все изнасилованные ответили одно и то же: варьируя сами сигналы или интервалы между ними. Скажем, если сигналы поступают с интервалами в две, четыре, шесть и так далее единиц времени, можно быть абсолютно уверенным, что интервалы эти не носят случайного характера. Или, допустим, интервалы меняются в геометрической прогрессии: два, четыре, восемь, шестнадцать… То же самое можно сказать о длине или силе самих сигналов. Ты меня понимаешь?
— Как будто.
— А раз так, то мы можем сделать вывод. Твои людишки безусловно носители разума. Они должны понимать, что те, кто принимает их сигналы, захотят их проверить…
— Но их сигналы ведь не нужно расшифровывать. Это ж не какие-нибудь там точки и тире или кривые. Это кинофильм. Многосерийный учебный кинофильм.
— Да, но… — Илья задумался, но тут же встрепенулся. Они должны понимать, что само содержание сновидений зафиксировать нельзя.
— Почему они обязательно должны так думать? Я не знаю, спят ли они вообще, видят ли сны. Этого я, повторяю, не знаю. Но я же тебе объяснял, что они не знают, что такое мои мысли и чужие мысли. Их мысли свободно циркулируют между всеми братьями У. И для них поэтому необходимость доказать кому-то, что я думал то-то и то-то, а не то-то и то-то, абсурдна и не укладывается в сознание. Ты понимаешь, они не могут знать, что такое ложь. А раз они не знают, что такое ложь, они не могут знать, что такое проверка.
— Да, ты, наверное, прав, — как-то сник Илья. — Хотя попробовать все-таки стоит.
— А что именно?
— То, о чем говорили кибернетики. Частоту сигналов.
— Но сон…
— Сновидение — это и есть сигнал. Ты ж говорил мне, что в лаборатории сна умеют объективно фиксировать начало сновидений.
— Да, так мне сказали. Но что такое сон? Заснул…
— В отличие от тебя я предприимчив и любознателен. Я сегодня прочел пять книжечек о сне. Сон, дорогой мой слабоумный друг, дело не простое. Там есть свои фазы и так далее. Пойди в лабораторию, упади в профессорские ноги…
— Там изумительные ножки…
— Профессорские?
— Почти. И глаза. Серые. Потрясающей формы. И узкие, длинные ладони. Ее зовут Нина Сергеевна.
— Да, это тебе не Янтарная планета. Здесь ты сразу становишься красноречив. С ней ты, я надеюсь, договоришься о сне.
— Не говори пошлостей.
— Боже мой, боже мой, какое воспитание, какие манеры! Пардон, мсье. Я, знаете, забылся. Экскьюз ми, сэр…
Илья что-то еще продолжал бормотать, а я вдруг вспомнил, что забыл сказать ему о телепатии. Это было невероятно. Как я мог забыть?
— Илюшенька, — сказал я, — а ты знаешь, мне кажется, что они дают нам еще одно подтверждение своего существования.
— Какое?
— Они каким-то образом наделили меня способностью улавливать чужие мысли.
Илья встал и выключил газ под плевавшимся паром и негодующе клокотавшим чайником.
— Неостроумно.
— Я не пытаюсь острить. Подумай о чем-нибудь. Отвернись от меня на всякий случай. Ну, думай же, думай, если умеешь.
«Разыгрывает или нет?»
— Да нет, Илюша, не разыгрываю. Думай всерьез. Назови про себя хотя бы какие-нибудь цифры.
«Семь… сто три… пятнадцать…»
— Семь, — сказал я, — сто три, пятнадцать…
Илья повернулся ко мне, снял очки, подышал на стекла, потом долго и тщательно протирал их полой пиджака.
Мне стало жаль его.
— Давай еще. Я думаю, — пробормотал он.
– «По улицам ходила большая крокодила».
— Еще, — сказал Илья.
– «Гутта кават ляпидем нон во…» Если я не забыл, это значит по-латыни: «Капля точит камень не силой».
— Еще, — жестко сказал Илья. — Только не повторяй вслух, а запиши на листке бумаги. И я запишу. Давай.
Я написал: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».
Он взял листок и долго, мучительно долго читал то, что я написал. Потом то, что написал он. Потом положил рядом оба листка.
— Юрочка, как же так? Ты можешь ущипнуть меня, ударить, укусить, порезать, но не очень сильно? Как же так? Этого же не может быть. Понимаешь? Не может быть. Нет ни одного случая четко зафиксированной передачи мыслей на расстояние. Ты это понимаешь?
— Я это «понимаешь».
— Так что же ты стоишь?
— А что мне делать?
— О боже, почему мой друг так дементен? Это же… это же… это событие, значение которого не укладывается в сознании. Нет, Юрка, это все правда? Если я не сплю, в честь такого события я клянусь убрать квартиру, покрыть полы польским лаком и выучить наизусть календарь. Что я сейчас подумал?
— Что я стою, как кол, начисто лишенный фантазии.
— С ума сойти! Я уж даже не знаю, как отметить… По рюмочке?
— Нет, мой друг, — важно ответил я. — В отличие от некоторых я не могу относиться к своей голове безответственно. А вдруг алкоголь разрушает способность к телепатии?
— Во имя науки, — жалобно сказал Илья.
— Я тебе дам науку, алкаш! — строго сказал я. — К тому же я за рулем.
— Ладно, бог с тобой. Я вот сейчас подумал… Хотя зачем мне тебе говорить, раз ты и так читаешь мои мысли…
— Разговаривать все-таки привычнее.
— Знаешь, Юраня, пока ты особенно не распространяйся о чтении мыслей.
— Почему?
— Это все слишком серьезно. Не надо делать из этого цирк. Галя знает?
— Да.
— А кто еще?
— Никто.
— Возьми с нее слово, что она никому не скажет. Обещаешь?
— Да.
— А я тоже подумаю, что нам делать дальше.
Педагог есть педагог. Я просто не мог отказать себе в маленьком удовольствии. К тому же я, если говорить откровенно, все-таки тщеславен.
— Так, подумаем, кого бы сейчас вызвать, — сказал я и встал из-за стола.
Седьмой «А» затаил дыхание. Я медленно пошел между партами, заложив руки за спину.
«Не спросит, прошлый раз с места вызывал», - юркнула мысль Коли Сафонова.
— Ты в этом уверен? — спросил я, останавливаясь.
— В чем, Юрий Михайлович? — вскочил ставосьмидесятисантиметровый акселерат.
— В том, что не спрошу тебя, поскольку прошлый раз с места вызывал.
Сафонов несмело улыбнулся.
— Ну что ж, уверенность — прекрасная вещь. Раз ты уверен, не спрошу. Садись, мой юный друг.
Сафонов сел, недоуменно моргая прекрасными пушистыми ресницами.
«А я не выучила!» — испуганно подумала Аня Засылко, маленькая чистенькая, беленькая девочка, у которой была самая длинная и толстая коса в классе, а может быть, и в мире.
— Печально, Анечка, печально, — сказал я и посмотрел на нее.
Класс встрепенулся. В мире нет более отзывчивой аудитории, чем школьный класс. Бездельники почувствовали, что на их глазах происходит что-то интересное, и на всех лицах, кроме беленького личика Ани Засыпко, был написан живейший интерес.
Аня стояла молча, маленькая чистенькая, беленькая девочка с длинной, толстой косой.
— Ты ведь не выучила на сегодня? — играл я с ученической мышкой эдаким учительским котом.
Аня еще больше потупилась и густо покраснела, отчего сразу стала похожа на дымковскую игрушку.
— Садись, Аня. Я твердо знаю, что ты не готова, я это знал с той минуты, когда только вошел в класс, но не буду тебя спрашивать. Я не садист, я не получаю удовольствия от двоек и записей в дневнике. Вот Сафонов только сейчас подумал: «Как это он узнал?» Верно, мой юный друг?
Сафонов сделал судорожное глотательное движение и так выразительно кивнул, что класс дружно рассмеялся.
— Вы видите, милые детки, сколь тщетны ваши попытки ускользнуть из моих сетей. Видите?
Класс печально кивнул. Я их понимал. Плохо, когда ты в сети. Я посмотрел на Антошина. Мне показалось, что в глазах у него тлеет заговорщический огонек. Я подошел к нему. «Хоть бы меня спросил», - подумал Антошин. Даю вам слово, у меня на глаза чуть не навернулись слезы благодарности.
— У меня такое впечатление, что Сергей Антошин не прочь бы ответить. Так, Сергей?
Антошин встал:
— Я учил, Юрий Михайлович.
Он действительно выучил, мой милый Антошин. Он отвечал на «четыре», но я с наслаждением поставил ему «пять». В журнале и в дневнике.
Нина Сергеевна Кербель встретила меня у входа в лабораторию.
— Я не думала, что вы так быстро приедете.
— Вы назначили мне аудиенцию в четыре, а сейчас ровно четыре.
— Неужели уже четыре? Пройдемте сюда, вот в эту комнатку. Пока заведующего нет, я здесь обосновалась.
Нина Сергеевна села за стол, закрыла глаза и помассировала себе веки. На носу были заметны крошечные вмятинки от очков. Я молчал и смотрел на нее. Она, должно быть, совсем забыла обо мне. Наконец она встрепенулась, открыла глаза и виновато улыбнулась:
— Простите, я что-то устала сегодня…
— Господь с вами…
— Слушаю вас.
Она, должно быть, не хотела, чтобы я услышал ее вздох, но я услышал его. Я не хотел этого делать, но уже не мог остановиться.
— Нина Сергеевна, подумайте о чем-нибудь, — сказал я.
Она подняла свои прекрасные серые глаза и посмотрела на меня:
— В каком смысле?
— В буквальном. О чем угодно. Произнесите про себя какую-нибудь фразу.
— Для чего?
— Нина Сергеевна, будьте иногда покорной женщиной, подчиняющей свою волю мужской.
— Вы думаете, я никогда этого не делала? — Она улыбнулась своей слабой, неуловимой улыбкой. — Ну хорошо. Задумала.
— Простите меня, но это банально. Вы подумали: «Что он от меня хочет?»
Нина Сергеевна чуть-чуть покраснела и пожала плечами.
— Еще раз. Что-нибудь более специальное, чтобы свести к минимуму случайное совпадение… Ага, вот это лучше. Вы произнесли про себя фразу: «Быстрый сон был открыт в 1953 году Юджином Азеринским из Чикаго». Угадал?
— Как вы это делаете?
— Не знаю. Я думаю, что это как-то связано с тем, что я рассказывал вам в прошлый раз.
— С вашими сновидениями?
— Да.
— И когда вы впервые обнаружили в себе такую способность? — Манеры Нины Сергеевны сразу стали напористыми, энергичными. Передо мной был уже исследователь.
— Вчера.
— Гм!.. И вы действительно слышите мои мысли?
— Когда нахожусь достаточно близко и концентрирую внимание. Нина Сергеевна, я ведь пришел к вам, честно говоря, не для того, чтобы продемонстрировать свои телепатические способности…
— О чем вы говорите, я вас не отпущу! Вы даже не представляете себе, как это интересно…
— И тем не менее не это главное. Вы давеча говорили мне, что умеете фиксировать своими приборами начало и конец сновидений.
— Совершенно верно. По странному совпадению я только что задумывала фразу, которую вы услышали… Помните, о быстром сне? Так вот, как раз быстрый сон, иногда его называют парадоксальный сон, ремсон или ромбэнцефалический сон — видите, сколько названий, — этот сон и есть сон, во время которого мы видим сновидения.
— И вы можете фиксировать этот сон?
— О да, несколькими способами.
— Хорошо, Нина Сергеевна. Представьте себе на секундочку, что я не сумасшедший…
— Я…
— Я понимаю. Не надо извинений. Представьте себе на секундочку, что мои рассказы о Янтарной планете истинны. Истинны в том смысле, что такая планета существует в реальности, а не в моем воображении. И что мои сны — это информация, которую эта цивилизация посылает нам. Я повторяю — допустим. Так вот, кибернетики говорят, что при передаче сигналов любая цивилизация постарается сделать так, чтобы эти сигналы можно было легко выделить, чтобы виден был их искусственный характер.
— Вы хотите сказать…
— Совершенно верно. Если считать сны сигналами, может случиться, что периодичность их или интервалы между ними будут подчиняться какой-то явной зависимости. Вы меня понимаете?
— Вполне…
— Я прошу вас об эксперименте как о личном одолжении. Если все это окажется чистой фантазией, мы просто забудем об этом. А если нет…
— А если нет?
— Тогда подумаем.
— А мне бы хотелось посмотреть на вашу энцефалограмму во время чтения мыслей. Это может быть интересно. Во всяком случае, таких работ никто никогда, по-моему, не делал. Хотя бы потому, что телепатии, как известно, не существует.
— Ну и прекрасно, Нина Сергеевна. Вы кандидат?
— Да.
— Вы станете доктором. Потом заведующей лабораторией. Потом вас выберут членом-корреспондентом. Вы будете самым красивым членкором. И все будут говорить: «А, это та, интересная, открывшая телепатию…» — «Подумаешь, повезло просто. Попади этот Чернов ко мне в руки, я бы уж академиком стал…» — «Все равно она интересная дама…»
— Благодарю вас. — Нина Сергеевна улыбнулась уже совсем весело.
— За что?
— За самого красивого членкора и за определение «интересная».
— Не стоит.
— А я — то уже сейчас считала себя красивой…
— И я это считаю, — сказал я очень серьезно, и Нина Сергеевна быстро взглянула на меня. — Так вы обещаете?
— Ну, раз вы гарантируете мне членкора, я поговорю с шефом, он как раз завтра выходит после отпуска.
— А он…
— Попробую уговорить.
ГЛАВА VII
Нина Сергеевна шефа не уговорила, но попросила меня приехать и попробовать поговорить с ним самому.
Шеф, Борис Константинович Данилин, оказался невысоким, коренастым человеком лет шестидесяти, с лицом бывшего боксера и настороженными глазами участкового уполномоченного. Он был настолько выутюжен и накрахмален, что даже при малейшем движении издавал легкий жестяный шорох.
Я представился и попросил прощения, за вторжение.
— Да, да, — неохотно сказал заведующий лабораторией, Нина Сергеевна мне говорила о вас. Но у нас ведь научное учреждение, а не спиритическое общество. Хотите вызвать духов — ваше дело. Соберите приятную компанию и занимайтесь столоверчением на здоровье. Но мы-то здесь при чем?
Я почувствовал острое желание повернуться и выйти из комнаты. Но это было легче всего. Обида — защита слабых, а я не хотел быть слабым. К тому же я сражался не за себя. За себя я никогда по-настоящему постоять не умел. Рохля — назвала меня однажды Галя. Это было жестоко, но довольно точно. Но сейчас за мной были У и его братья, и я держал в руке дрожащую серебряную паутинку. Я отвечал за нее. Я не мог ее выпустить, если бы даже передо мной были десять тысяч Борисов Константиновичей и все они могучим хором предлагали мне заниматься столоверчением и вызовом духов.
— Борис Константинович, я не спирит и не прошу вас участвовать в спиритическом сеансе. Я прошу проделать один научный эксперимент.
— Какой эксперимент? — брезгливо сказал заведующий лабораторией и стал раскатывать сигарету между пальцами. — О чем вы говорите? Эксперименты ставят тогда, когда они имеют отношение к науке. Пусть самое отдаленное, но все-таки имеют. А вы, простите меня, приходите не то с телепатией, не то со спиритизмом, не то с теософией. Это же, дорогой мой, чепуха. Абсолютная и раз навсегда решенная че-пу-ха!
Я сделал такой скорбный вздох, что Борис Константинович чуточку смягчился.
— Поймите, если бы ко мне пришел самый симпатичный мне человек и попросил проверить работу изобретенного им вечного двигателя, я бы не стал этого делать, как не стал бы этого делать ни один ученый, слышавший о законе сохранения энергии. Вы тоже пришли ко мне со своего рода вечным двигателем. Не знаю уж, как вы сбили с толку Нину Сергеевну, она вообще человек мягкий, — голос Бориса Константиновича стал сердитым, — но я разрешения на шарлатанские фокусы дать не могу.
Борис Константинович сердился, а я, наоборот, совершенно успокоился. Наверное, и я бы на его месте вел себя так же. Но просто любой нормальный человек должен обладать хоть каплей детского любопытства. Самое страшное существо на свете это человек, начисто лишенный любопытства. Неужели же ученый может быть настолько лишен этого чувства? А может быть, именно потому он и ученый, что не хочет и слышать о вещах, выходящих за рамки его представлений?
Заведующий лабораторией прекратил катать сигарету между пальцами, очень внимательно и придирчиво осмотрел со всех сторон, не прятались ли за ней спириты и телепаты, торжественно вставил ее себе в рот и вынул замысловатую зажигалку.
Почему-то я обратил внимание на его пальцы. Они были короткие, мощные, а аккуратно подстриженные ногти были покрыты бесцветным лаком.
Не согласится, подумал я. Человек, лишенный любопытства, но кроющий ногти бесцветным лаком, — это нелегкая комбинация. Ну и бог с ним. Во мне поднималось прежнее настроение безудержного оптимизма, и суровое, словно отлитое в литейном цехе лицо заведующего лабораторией показалось мне не таким уж металлоломным.
— Борис Константинович, — сказал я, — я знаю, что телепатии не существует. Но можете вы задумать какую-нибудь фразу, или фразы, или числа и записать их на листке бумаги, произнеся лишь их про себя?
— Нет, не могу.
— Почему, Борис Константинович?
— Потому что никакого чтения мыслей на расстоянии не существует.
— А если я докажу вам, что существует?
— Вы ничего не можете мне доказать. Вы не можете доказать то, что не существует.
— Борис Константинович, для чего нам спорить? Насколько проще было бы проделать этот крошечный опыт, о котором я только что говорил. Да давайте даже не проделывать его. Только что вы подумали: «Вот еще напасть на мою голову!» Да или нет?
Заведующий лабораторией сделал губы кружочком и выпустил несколько колец дыма редкостной правильности. Кольца казались такими же жесткими, упругими и металлическими, как и весь он.
Он поднял глаза и посмотрел на меня:
— Вы не ошиблись, и я прошу извинения за слово «напасть», которое пришло мне в голову, хотя обычно за то, что думают, не извиняются. Но вы меня ни в чем не убедили. Абсолютно ни в чем. Сам характер нашей беседы, — Борис Константинович выразительно развел руками, словно говоря: я же в этом не виноват, — характер нашей беседы таков, что вам не составляло особого труда догадаться о моих мыслях.
Я улыбнулся. Во мне проснулся охотничий азарт. Неужели я не загоню его в угол?
— Согласен, Борис Константинович, я действительно навязался на вашу ученую голову. И я вас прекрасно понимаю. Но с другой стороны: отвяжитесь же от этой напасти, от этого настырного протеже слишком доброй Нины Сергеевны. Уважьте его прихоть!
Заведующий лабораторией улыбнулся. Для этого ему пришлось затратить немало усилий, потому что его металлическое лицо никак не хотело складываться даже в самую бледную улыбку.
— Теперь-то я понимаю, как вы заморочили голову моей заместительнице. Будь я женщиной, я бы тоже, наверное, не выдержал такой интенсивной осады.
На мгновение я представил себе Бориса Константиновича дамой и содрогнулся от ужаса.
— Но поймите же вы, молодой человек, никакого чтения мыслей, никакой телепатии не существует. Да сто раз угадайте вы задуманное мною — я лишь пожму вашу руку и скажу, что вы прекрасный иллюзионист.
— И у вас не возникнет желания узнать, как я это делаю?
— Может быть, и возникнет. Но я подавлю его. Если бы я занялся изучением искусства фокуса и иллюзий, тогда я бы не отпустил вас. Я бы запер вас. Я любыми способами постарался бы раскрыть, как вы проделываете свой трюк. Я же занимаюсь проблемами сна и сновидений. Я даже не буду спорить, что интереснее. Каждому свое. Одним — перепиливание дам на манеже цирка, другим — наука. Наверное, перепиливать дам интереснее, вполне допускаю это. Во всяком случае, аплодисментов наверняка больше. Но так или иначе, я выбрал науку. Зачем мне тайны иллюзионистов? Посудите сами. Среди моих знакомых иллюзионистов нет. Это было бы некой интеллектуальной суетой, которая мне в высшей степени неприятна. Эдакие всезнайки, которые ничего не могут пропустить мимо себя. Люди, которые чувствуют себя оскорбленными, если кто-то знает что-то лучше их. Хоккей? Пожалуйста, они объяснят вам закулисную сторону последнего перехода известного мастера из команды в команду. Кино? Пожалуйста. Этот получил столько то за свой последний фильм, а та развелась с мужем из-за того-то и того-то. Иллюзия? Пожалуйста. Все дело во флюидах. Знаете, исходят такие флюиды, и иллюзионист запросто в них разбирается.
Я почувствовал, что суровый Борис Константинович начинает мне нравиться.
— Ваша логика безупречна, и мне совершенно нечего возразить вам, но неужели же в вас нет самого что ни на есть детского любопытства? Любопытства малыша, который ждет вылетающей из аппарата птички? Ладно, не хотите иллюзий — не надо. Но птичку? Неужели и птичку вам посмотреть неинтересно?
— Я вырос, — мягко сказал Борис Константинович.
А может быть, он вовсе не вырос? Может быть, он так яростно сражается против детского любопытства именно потому, что не вырос?
Нет, подумал я. Это, разумеется, было бы очень психологично и очень литературно, но Борис Константинович никогда не был мальчиком. Он родился одетым, при галстуке и никогда в жизни не писал в штаны.
Мы оба замолчали. Заведующий лабораторией посмотрел на часы. Взгляд был корректный. Достаточно быстрый и брошенный украдкой, чтобы не казаться грубым напоминанием. И достаточно в то же время заметным, чтобы я устыдился затянувшегося интервью.
Теперь во мне начала разгораться веселая ярость древних воинов, которой они раскаляли себя перед боем.
— А знаете, Борис Константинович, я не уйду отсюда.
— Как не уйдете?
— А так. Не уйду, пока вы не проделаете маленький опыт, который вам так неприятен.
— Оставайтесь. — Борис Константинович развел руками жестом человека, который снимает с себя всякую ответственность. — А я, с вашего разрешения, откланяюсь.
— А я и вас не пущу, — улыбнулся я, вставая.
— Прямо не пустите?
— Прямо не пущу.
— А если я все-таки попытаюсь уйти?
— Вот видите, а вы говорили, что лишены детского любопытства. Что будет? Мы начнем возиться, упадем на пол, перепачкаемся, ушибемся. На грохот переворачиваемых стульев прибежит Нина Сергеевна и другие сотрудники. Меня, конечно, отправят в милицию и дадут суток десять, но, знаете, изобретатели вечного двигателя ведь маньяки. Препятствия только остервеняют их. Посмотрите на меня — я же типичный маньяк. И очень опасный. Я бы лично с таким не связывался. Ну его к черту. Лишь бы выпроводить как-нибудь.
Борис Константинович вдруг засмеялся. Неловко, неумело, каким-то квакающим смехом.
— Вы все-таки удивительный человек. Если бы вы только были психологом, биологом или даже врачом, я вас тут же пригласил бы в лабораторию. С вашей настойчивостью мы бы выбили себе оборудование, которого нет ни у кого.
— Увы, я учитель английского языка.
— Знаю. Нина Сергеевна говорила мне. Интересно, если это не секрет, как вы заморочили голову Валерию Николаевичу Ногинцеву?
— Во-первых, это не я, а мой приятель. Во-вторых, я был представлен как журналист, пишущий о науке. Как видите, я не останавливаюсь ни перед чем.
— Это-то я вижу, — покачал головой Борис Константинович. — Так что, вы твердо решили меня не выпускать?
— Твердо.
— Ну ладно, уступаю грубой силе.
Заведующий лабораторией уже, кажется, начал постигать искусство улыбки, потому что на этот раз его металлическое лицо сложилось в ее подобие почти без скрипа.
— Спасибо, профессор, — с чувством сказал я. — Но не пытайтесь бежать. Отечественная наука о сне может понести невосполнимый урон.
— Знаете что? — сказал Борис Константинович. — Я думаю, я смогу вас взять старшим лаборантом. Какая была бы в лаборатории дисциплина!
— Я не всегда такой, к сожалению. Скажу вам больше: я разгильдяй. И даже рохля. Это я сегодня такой.
Если бы Галя видела меня сейчас, подумал я. Наверное, даже она с ее напором не смогла бы уломать его.
— Жаль жаль. Ну ладно. Но если уж проводить маленький опыт. то давайте, по возможности, построже. Я останусь здесь, а вы пройдите в комнату налево. Согласны?
— Вполне.
— Держите листок бумаги. Чем писать у вас есть?
— Я учитель, — обиженно сказал я. — Я сплю с четырехцветной шариковой ручкой.
— Прекрасно. Когда я позову вас, возвращайтесь.
— А вы честно не удерете, профессор? — спросил я и улыбнулся самой обезоруживающей улыбкой, которая есть в моем мимическом арсенале.
— Даю слово.
Я прошел в соседнюю комнату, в которой стояли какие-то незнакомые мне приборы, поздоровался с совсем юной девой, которая тщательно рассматривала свои выгнутые дугами тонкие бровки в зеркальце, и сел за шаткий столик. Дева едва заметно кивнула и даже не отвела взгляда от зеркальца. Чувствовалось, что она гордится бровями, этим творением рук своих, и никогда уже не сможет от них оторваться.
Я качнул столик локтями. Он застонал, но не развалился. Пожалуй, сегодняшний день еще простоит. Я сосредоточился. Подумал вдруг, что через стенку я еще никогда не читал мыслей. Получится ли? Легчайшая щекотка, зуд, секунда гудящей тишины и голос: «Ровные как будто. А Машка говорит, что тонковаты, дура». Это бормотание дурочки, все еще стоявшей с зеркальцем в руках. Еще сосредоточиться. Шорох слов: «Таким образом… корреляция… локализуется… дважды проверенные нами… электроэнцефалограмма дублировалась… многоканальном… дает основание…» Только бы успеть записать.
Скрипнула дверь. Зеркальце в руках девицы испарилось, и в ничтожную долю секунды она приняла позу прилежно работающего человека.
— Готовы? — спросил профессор.
— Да, иду.
— Ну как, что-нибудь получилось?
— Вот, — сказал я и протянул заведующему лабораторией листок.
— Ну, давайте посмотрим, молодой человек. Но договоримся: если не получилось, на объективные причины не ссылаться. Идет?
— Идет, идет.
Борис Константинович уселся за стол, неторопливо надел очки в тонкой золотой оправе, взял мой листок и положил его рядом с другим листком. Потом ручкой начал подчеркивать слова по очереди на одном листке и на другом. Закончив, он снял очки, подышал на стекла, достал из кармана белоснежный платок, очень медленно и очень тщательно протер их, снова надел их и снова начал подчеркивать слова.
— Вы не возражаете, если мы повторим? — вдруг спросил он.
— С удовольствием, профессор.
Я снова прошел в соседнюю комнату. Боже, мы тут спорим о принципиальной возможности чтения мыслей на расстоянии, горячимся, а юная лаборантка с выщипанными бровями уже давно пользуется ею в повседневной жизни. Когда дверь открыл профессор, ее как ветром подхватило. Когда вошел я, она даже не посмотрела в мою сторону. Как она могла знать, кто откроет сейчас дверь?
Теперь она была занята не бровями, а губами, которые подкрашивала с необычайным тщанием и чисто восточной отрешенностью от житейской суеты. Если она еще не замужем, подумал я, из нее выйдет превосходная жена. Во время самой яростной ссоры ей нужно только сунуть в руки зеркальце, и, подобно слою масла, успокаивающему бушующие волны, оно сразу погасит ее самый воинственный пыл.
И снова шорох слов. Теперь цифры:
«Два и семнадцать сотых… Четыре… шесть и тридцать две тысячных… одиннадцать… одиннадцать и одна десятая».
На этот раз профессор почти выхватил мой листок. Но читать сразу не стал, а медленно положил на стол. Чем-то он вдруг напомнил мне азартного картежника, томительно медленно сдвигающего карты, чтобы не спугнуть удачу.
Наконец он отодвинул оба листка.
— Я не считал, но, по теории вероятности, случайное угадывание в этих обоих случаях равно ничтожно малой величине, которой можно пренебречь. Стало быть… — Он побарабанил пальцами по столу и вздохнул: — Стало быть, — повторил он, приходится признать, что вы действительно мастер иллюзии.
— О боже правый! — простонал я. — Какая может быть иллюзия? Я — в одной комнате, вы — в другой. Откуда я могу знать, какие слова, фразы или цифры вы произносите про себя?
— И все же. Знаете, я вдруг вспомнил опыт, наделавший в свое время много шума. Один врач посадил двух медиумов-телепатов в двух комнатах, расположенных в разных концах здания. Одному из телепатов врач сообщал какое-нибудь слово или фразу. Затем телепат клал руки врачу на плечи и долго смотрел в глаза, запечатлевая в них это слово. Врач шел в другую комнату, где второй телепат тоже клал ему руки на плечи, впивался взглядом в глаза и наконец произносил безошибочно слово, задуманное врачом. Доктор был потрясен. И знаете, что выяснилось?
— Нет.
— Когда врач называл слово первому телепату, тот незаметно писал его в кармане на липком листочке. Кладя руки на плечи врачу, он приклеивал сзади к пиджаку этот листочек, а второй телепат снимал его. Врач, в сущности, был курьером.
— Остроумно, но у нас же никто не ходит из комнаты в комнату. И я не пишу в кармане. Вы можете в этом прекрасно убедиться, посадив меня рядом с собой и диктуя мне мысленно.
— Гм!.. А что… давайте попробуем.
— Спасибо, Борис Константинович. Только вы сначала напишите то, что продиктуете мне, на листке бумаги. А то потом вы будете искать текст, который я приклеил к вашей спине.
Профессор на мгновение задумался.
— Я, с вашего разрешения, отвернусь, — сказал я.
— Да, пожалуйста.
В одной комнате, почти рядом, мысли профессора звучали громко и чисто. Я без малейшего труда написал фразу, которую заготовил Борис Константинович.
Он подпер голову рукой и прикрыл глаза. На лице его застыла мучительная гримаса. Профессор мужественно сражался за свои убеждения, но вынужден был отступать под напором превосходящих сил противника.
Мне стало жаль его. В сущности, непонятно, почему большинство людей так яростно обороняется против любой новой идеи. Это же праздник, поездка в незнакомую страну.
— Я не могу объяснить то, что вы делаете, — наконец сказал Борис Константинович.
— Но вы верите своим чувствам?
— Значительно меньше, чем данным науки. А телепатии, понимаете, не существует. Не су-щест-вует! Нет ни одного убедительного опыта, есть только слухи, болтовня, непроверенные россказни. Поэтому я выбираю науку. Я не верю своим глазам. Мои глаза могут ошибаться, а вся наука не ошибается. Конан Дойл был вполне рациональным писателем. Но он был искренне убежден, что не раз видел в своем саду танцы фей и эльфов.
— Я не фея и эльф, — как можно мягче сказал я, — и я вовсе не утверждаю, что я телепат. Больше того, я с вами согласен, что никакой телепатии и прочих чудес не существует.
— Значит, вы признаетесь, что это ловкая иллюзия?
— Если бы! — вздохнул я. — Представляете, как я бы зарабатывал, выступая в цирке и на эстраде…
— Это идея. Вместо того чтобы насиловать меня здесь…
— Профессор, вы, надеюсь, понимаете, что такое чувство долга. Так вот, я мучаю вас исключительно из чувства долга.
— Перед кем же?
— Перед народом Янтарной планеты и перед всеми людьми. Я вижу торжествующую улыбку на ваших губах. Слава богу, думаете вы, все стало на свое место: больной человек. Кстати, если бы я даже был болен, листки на вашем столе не стали бы от этого менее реальными… Дорогой Борис Константинович, ответьте мне на один вопрос: если бы объективные показания ваших приборов доказывали, что мой спящий мозг принимает сигналы, посылаемые какой-то цивилизацией…
— Хватит! — крикнул профессор и вскочил с места. — Хватит! Вы что, издеваетесь надо мной?
— Нисколько, клянусь вам! Вы потеряли столько времени, потеряйте еще десять минут. И все время смотрите на листки бумаги на вашем столе. Борис Константинович, вы не простите себе, если прогоните меня сейчас. И до конца дней в душе вашей будет копошиться червячок сомнения.
Профессор молча закурил. На этот раз он забыл о кольцах и затягивался жадно и торопливо. Он закрыл глаза, покачал головой, снова открыл их и посмотрел на меня. Разочарованно вздохнул. Бедняга надеялся, наверно, что я вдруг растворюсь и исчезну и он сможет пробормотать с облегчением: что-то я заработался сегодня, всякая чертовщина мерещится.
— Знаете что, — вдруг сказал он, — давайте еще. Одно слово. — Глаза профессора засветились маниакальным блеском.
— С удовольствием. Только вы произнесли про себя не одно, а три слова, даже четыре «Вышел месяц из тумана»… Это что, стихи?
— Считалка, — простонал специалист по сну и закрыл лицо руками. — «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана…» — Профессор застенчиво улыбнулся и посмотрел на меня.
Я молчал. Он тоже.
Через пять минут он согласился на проведение эксперимента, взяв с меня страшную клятву, что ни одна живая душа на свете не должна знать о нашем договоре. Когда мы прощались, на него жалко было смотреть. Весь он как-то смягчился, как накрахмаленный воротничок после стирки, а глаза были уже не глазами участкового уполномоченного, а человека, убегающего от него.
ГЛАВА VIII
Я сидел в учительской после конца занятий и беседовал с преподавательницей литературы Ларисой Семеновной о смысле жизни. В дверь вдруг просунул голову Вася Жигалин. В элегантном рыжем кожаном пальто Вася был очень эффектен, и Лариса Семеновна сразу забыла о смысле жизни.
— Кто это? — театральным шепотом спросила она.
— У него семеро детей. Если вы отобьете его у жены, вам придется их всех обслуживать, потому что крошки обожают папочку и не расстанутся с ним. А жена его, кстати, весит около восьмидесяти килограммов, и все хулиганы микрорайона прячутся под детские грибочки, когда она выходит из подъезда. Ну как, знакомить?
— Еще одно разочарование, — тяжко вздохнула Лариса Семеновна.
Ей шестьдесят один год, но она обладает живым, молодым умом, обожает шутки и полна какой-то интеллектуальной элегантности.
— Вы по поводу своих детей, товарищ Жигалин? — сурово спросил я.
Вася бочком пролез через полуоткрытую дверь учительской, низко поклонился нам и сказал:
— Спасибо, батюшко, за науку-то…
— Ты на машине? — спросил я.
— На ей, родимой. — Вася снова поклонился.
— Лариса Семеновна, может быть, разрешите подвезти вас? Василий — мужик тверезый, мигом домчит.
— Спасибо, Юрочка, я пройдусь, две остановки всего.
— Тогда разрешите хоть представить вам моего друга Василия… Вась, как твое отчество?
— Ромуальдович. Старик Ромуальдыч кличут меня.
Лариса Семеновна пожала мужественную руку старика Ромуальдыча, тяжелоатлетическим рывком подняла чудовищный свой портфель и ушла.
— Что случилось, Вась? — спросил я. — Что-нибудь дома? В газете?
— Да нет, просто проезжал мимо, дай, думаю, зайду, посмотрю, как там Юрочка.
— Вась, — сказал я, — у тебя и без того блудливые глаза, а сейчас на них просто смотреть непристойно. Давай выкладывай, зачем пришел.
Мы шли по непривычно тихому школьному коридору, и Вася с лживым интересом рассматривал портреты великих писателей на стенах.
Классики неодобрительно косились на него и молчали.
— Понимаешь, в определенных кругах и сферах считается, что единственный человек, который пользуется у тебя непререкаемым авторитетом, — это я. Ничего в этом удивительного, разумеется, нет. Как известно, я умен, рассудителен не по годам, крайне эрудирован и вообще…
— Вась, у меня сегодня было шесть часов, и уши изрядно устали от болтовни.
— Ладно, Юраня. Не буду. Понимаешь, Галя твоя беспокоится за тебя. Ты переутомился, у тебя расстроена нервная система. Она предлагает, чтобы ты отдохнул хотя бы две недельки в Заветах, а ты отказываешься. Она поговорила с моей Валькой, а та снарядила меня. Вот и все. Ты, старик, не обижайся. Если тебе этот разговор неприятен, я тут же замолчу. Но ты же знаешь, как я к тебе отношусь…
Вася — стихийный эгоист. И если он может говорить о ком-то, кроме себя, это значит, что он любит этого человека. А на моей памяти за последние четыре или пять лет Вася уже второй раз говорит со мной не о себе, а обо мне.
— А в чем моя переутомленность, тебе сказали?
— Странные навязчивые сновидения, нелепые идеи… Пойми, старик, это не моя точка зрения. У меня, как ты знаешь, своих точек зрения нет. Не держим-с. И тебе не советую. Накладное дело. Защищай их, следи за ними — хуже детей.
— Не трепись. Почему ты всегда стараешься играть роль циника?
— А ты не догадался?
— Нет.
— Чтобы скрыть за напускным цинизмом легко ранимую душу. Ранимую душу кого?
— Не знаю.
— Идеалиста и романтика. Я идеалист и романтик цинического направления. Или циник романтического склада?
— Вася, ты знаешь, как ты умрешь? Ты погибнешь под обвалом собственных слов.
— Это была бы прекрасная смерть, смерть журналиста.
Мы вышли из школы. Шел мелкий колючий снежок, сухой и похожий на манную крупу. На землю он не ложился и исчезал неведомо куда.
Мы сели в Васину машину. «Жигульбыл совсем новенький и девственно пах свежей краской. Не то что мой дребезжащий ветеран.
— У тебя есть часок или полтора? — спросил Вася.
— Есть.
— Знаешь что? Давай поедем куда-нибудь за город и побродим хоть чуть-чуть по лесу. А?
— С удовольствием.
В машине было тепло. Вася молчал, и я думал о Янтарной планете, о Нине Сергеевне, о профессоре, о чтении мыслей. Неужели вся эта чертовщина происходит со мной? Да не может этого быть! Я вдруг увидел себя со стороны. Связной с незнакомой цивилизацией. Учитель английского языка Ю.М.Чернов берется связать человечество с народцем Янтарной планеты.
И вся нелепость, смехотворность ситуации стала явной. Это же чушь! Бред! Почему я? Разве это может быть? Разве этому есть место в привычном моем мире? В моем мире есть Сергей Антошин с его мамашей, математик Семен Александрович с журналом, прижатым к груди, задолженность по профвзносам, дни зарплаты, Галина теплая и пахучая шея, которую так приятно целовать, первозданная пыль холостяцкой квартиры Илюшки Плошкина… Какая планета, какая цивилизация, какие сны? О чем вы говорите? Не на машине меня за город возить нужно, а лечить от парафенного синдрома с элементами сверхценных идей и онейроидного синдрома.
Я видел себя мысленным взором в центре огромной толпы, и все показывали на меня пальцами, поднимали детей и смеялись: «Он установил связь с чужой цивилизацией! Смотрите на этого учителишку!»
Стоп, сказал я себе. А как же чужие мысли? Или это тоже химера? И железный Борис Константинович, давший трещину?
Я сосредоточился и вместо метания и кружения своих мыслей услышал неторопливый, покойный шорох слов, копошившихся в Васиной голове:
«Хорошо тянет… хотя, похоже, клапанок постукивает… Не забыть во время профилактики. А может быть, не связываться с этим очерком? Мороки много… Хорошо, к Юрке заехал… Жаль, так редко видимся… Друг…»
Спасибо, Вася. Если человек называет человека другом даже в тайнике своих мыслей, значит, он действительно считает его другом. Хорошо, у меня друзья. И вообще меня окружают удивительные люди. И даже профессор оказался вовсе не таким жестяным, каким представлялся сначала.
Я глубоко вздохнул. Вася скосил на меня один глаз:
— Чего вздыхаешь?
— Так… Что у тебя нового в газете?
— Главный вдруг почему-то проникся ко мне. Отличает и голубит.
— Поздравляю.
— Ты что, смеешься, старичок? Это же несчастье.
— Почему?
— Ах ты, святая простота, классный руководитель! Я кто? Спецкор. Надо мной кто? Кому не лень! Его привечает главный? Значит, надо сделать так, чтоб не привечал. Зачем лишний конкурент? Осторожненько, конечно, не торопясь. Классик-то умнее тебя был, товарищ презент перфект.
— Какой классик?
— А этот… тот, кто сказал: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь». Товарищ Грибоедов, если не ошибаюсь.
Нет, Галя все-таки права, подумал я. Я не борец по натуре. Доверчив, неэнергичен, всегда готов идти на компромисс с действительностью и самим собой.
Наверное, Вася преувеличивает. А может быть, и нет. Он весь в каких-то интригах, сложнейших интригах, суть которых я никогда не мог понять. Он делает вид, что страдает от них, но на самом деле он купается в них, плавает, как рыба. Я бы не мог. Я ничего не понимаю в людях. Я по-детски доверчив. Я не умею разговаривать с начальством.
Жизнь казалась мне огромной, сложной, полной запутанных лабиринтов, ловушек, капканов.
— Может быть, остановимся здесь?
— Давай.
Лесок начинался метрах в ста от шоссе. Ели казались вырезанными из темно-зеленого, почти черного бархата и приклеенными к серому низкому небу. Мы шли по нагой, не прикрытой еще снегом смерзшейся земле. Опавшие листья шуршали жестяно и печально. И все-таки это правда. Она реальна, эта тончайшая нить, протянувшаяся из невообразимой дали ко мне. Я здесь ни при чем. Я не претендую ни на какие лавры, чины, звания, награды. По каким-то неведомым причинам нить пришла ко мне…
Я вдруг вспомнил рассказ психиатра о человеке, в руках которого сходились нити от всей Вселенной. Бедный. Если я чувствую на плечах груз, нести который мне помогают У и его братья, что же должен был чувствовать этот несчастный человек в клинике? Ведь нити от Вселенной в его руках — для него абсолютная реальность. Они реальны, как реален для меня У, как реален этот чахлый пришоссейный лесок, припудренный холодной позднеосенней пылью.
И снова я почувствовал себя на ничейной земле между явью и фантазией, в зыбком, неясном тумане.
— Вась, — сказал я, — произнеси про себя какую-нибудь фразу. Чтобы я не мог догадаться какую.
Вася остановился и посмотрел на меня. Рыжее кожаное пальто казалось удивительно красивым и богатым на фоне голых березок и мохнатых елей. Да и сам он был хорош — широкоплечий, уверенный в себе, сильный.
— Почему все люди так банальны? — спросил я. — «Приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора». Почти все вспоминают стихи.
Вася бросил на меня быстрый взгляд и неуверенно хмыкнул.
— Давай еще раз.
Вася наморщил лоб. «Что бы придумать… Как это он делает? — слышал я. — Ага. Очерк писать не буду. С ним слишком много мороки».
— И не надо, — сказал я. — Не пиши этот очерк, если с ним столько мороки.
— Юрка, — вдруг крикнул Вася, — значит, это правда?
— Что? — испуганно спросил я.
— То, что ты телепат. Читаешь мысли. Валька мне говорила что-то, но я пропустил мимо ушей, бабья болтовня. Юрочка, дитя, ты хоть понимаешь, что это такое?
— Не очень.
— Идиот! Маленький бедный идиот! Да ты… да ты на секундочку представь, что это такое! Это же колоссально! Можешь еще раз?
Я еще трижды называл Васе произнесенные им про себя фразы, и он пришел в совершеннейший экстаз. Он носился по лесочку как угорелый и все причитал, что я идиот и ничего не понимаю. Может быть, я и действительно идиот, раз так много людей с таким пылом убеждают меня в этом?
Вдруг Вася разом успокоился и задумчиво посмотрел на меня.
— Юрка, а многим ты уже показывал эти фокусы? — спросил он.
— Ну, нескольким людям.
— А они не будут трепать языком?
Я пожал плечами. К чему он клонит?
— Не знаю…
— Я подумал, что это не такая простая штука, как может показаться с первого взгляда. Обладая таким даром, ты перестаешь быть тем блаженненьким Юрием Михайловичем, которым был раньше…
— Почему?
— Да потому, что ты всесилен! Ты знаешь, что люди готовы отдать, чтобы узнать мысли ближнего своего? Ты, наконец, становишься просто опасным элементом, которого необходимо все время держать под контролем. Ты можешь быть кем угодно, начиная от вокзального вора…
— Вокзального вора?
— Конечно. Стой у багажных автоматов и слушай, как люди повторяют про себя комбинацию цифр, когда засовывают в автомат чемоданы. А потом выбирай, что понравилось.
— Спасибо, Вась, ты открываешь мне глаза.
— Тобою может заинтересоваться милиция, органы госбезопасности.
— Понимаешь, это не моя собственность, и я не могу ею распоряжаться.
— Что не твоя собственность?
— Эта способность читать чужие мысли.
— А чья же, моя?
— Нет. Это доказательство, посланное мне, чтобы я мог убедить людей в том, в чем убедить невозможно.
Вася остановился, положил мне руку на плечо и пристально посмотрел в глаза:
— Что с тобой, Юрка? Неужели Галка твоя все-таки права? Да ты не волнуйся, ты не представляешь, как они сейчас лечат людей. Валька поможет, все сделаем. Попринимаешь какой-нибудь дряни, отдохнешь…
Я засмеялся. Как, в сущности, люди похожи друг на друга, какая одинаковая реакция!
Вася смотрел на меня с таким страхом, с таким состраданием в глазах, что теплая волна благодарности прямо нахлынула на меня, чуть не выжав из глаз слезы.
— Не смотри на меня так, друг Вася. И не оплакивай. Ты журналист и должен ценить необычные истории. Послушай самую необычную историю из всех, что ты когда-нибудь слышал. Или услышишь. Я уже раз пытался рассказать тебе, но ты был пьян и слишком занят собой.
Я рассказал ему о сновидениях, о Янтарной планете, об У.
Я не знаю, поверил Вася мне или нет, потому что он стал непривычно тихим и почти печальным.
Когда мы вышли из леса и подошли к машине, он вдруг протянул мне ключи:
— Ты можешь вести машину?
— А почему же нет?
— Садись тогда за руль. Я не могу. Я должен переварить хоть как-то твой рассказ.
Я понимал его. Если, несмотря на отблеск Янтарной планеты, несмотря на заряды бодрости, посылаемые У, и мне минутами сердце сжимает печаль, что же должны чувствовать другие? Печаль, невыразимую печаль, ибо Вселенная прекрасна и бесконечна, а мы малы и смертны, и гул вечности заставляет сжиматься сердце, как сжимается сердце при виде совершенной красоты. Чехов знал это.
ГЛАВА IX
Когда я приспел домой, Галя уже ждала меня.
— Где ты был так поздно? — спросила она.
Фальшь в ее голосе резала слух. Она же прекрасно знала, что Вася заехал за мной.
— Вася ко мне заезжал.
Галя неважная актриса. Ей, наверное, казалось, что она играет роль молодой женщины, разговаривающей, как обычно, со своим мужем, играет эту роль хорошо, в стиле лучших традиций Художественного театра. А я видел, как она напряжена, как неестественны и вымученны ее движения, голос, слова.
Симпатия, не говоря уж о любви, — хрупкая штука. Это волшебный зеленый луч, который на мгновение изредка вспыхивает при закате. Чуть изменилось что-то, и вместо сказочной зелени — обычный закат.
Я смотрел на жену и тщетно пытался дождаться хотя бы маленького зеленого лучика, который так часто вспыхивал раньше. Зеленого лучика не было. Была двадцатичетырехлетняя среднего роста женщина с довольно обычными чертами лица, с более крупными, чем следовало бы, руками. Сколько раз она заявляла, что садится на диету, белковую, яблочную, капустную, молочную, кишмишную, мясную, очковую и бог знает какую еще, а килограммчиков пять лишних у нее так и осталось, подумал я, глядя, как обтянули ее домашние брюки.
Мне вдруг стало стыдно. Я смотрю на свою жену и выискиваю в ней недостатки, выискиваю придирчиво, некрасиво. Что я делаю? Это же Галя, Люша, то самое существо, которое совсем недавно наполняло мое сердце томительной сладостью, стоило мне только посмотреть на нее.
Мы познакомились в метро. Я даже помню, где это было. На кольцевой между «Белорусской» и «Новослободской». Я смотрел на ноги людей, сидевших напротив. Я люблю смотреть на ноги. В отличие от рук ноги очень выразительны. Усталые, нетерпеливые, кокетливые, самоуверенные… Какие красивые ножки, подумал я. Именно этими довольно пошлыми, но точными словами. И начал скользить взглядом от черных туфелек на толстой подошве вверх, к округлым коленкам, к серой юбке и серой кофточке, к прекрасному овалу лица под серой же маленькой шапочкой. Глаз я не увидел, потому что глаза были опущены на толстенную книжку, которую она держала в руках. Если бы она была менее красива, я бы попытался догадаться, что за книгу она читает. Но книга меня не занимала. Меня занимали ее глаза. У этой девушки, подумал я, должны быть и глаза красивые.
И она подняла глаза. И они были красивые. И она вся была как раз такая, какой должна была быть. И я улыбнулся. Просто так. Потому что она была такая, какой должна была быть. А она сморщила носик и снова уткнулась в книгу.
Перед «Курской» она встала. Я встал за ней. Я видел ее в стекле дверей, на которых написано: «Не прислоняться». Она посмотрела на мое отражение и снова смешно вздернула носик, и я улыбнулся. Мимо нас с грохотом проносились яркие лампы на стенах тоннеля, змеились кабели, а я все ждал, пока снова увижу в стекле, как она морщит нос.
Мы вышли вместе. Я шел за ней на расстоянии шага, но она не оборачивалась. Я так не мог бы. Я не мог бы идти, не оборачиваясь, зная, что за мной идет человек, который смотрит на меня восхищенными глазами. А она могла. В этом и состояла разница между нами.
Я трусоват по натуре, хотя всячески маскирую это. Преимущественно отчаянно храбрыми поступками. Я так боялся, что потеряю в следующее мгновение эту девушку, что сказал ей:
— Это бессмысленно.
Она обернулась, а я ускорил шаг и оказался уже рядом с ней.
— Что бессмысленно?
— Бессмысленно вам пытаться уйти от меня.
— Почему?
— Потому что вы такая, какой должны быть.
Впоследствии Галя меня уверяла, что это была гениальная фраза, что ни одна женщина на свете не смогла бы противиться соблазну узнать, что это значит. Через полгода мы поженились.
И вот теперь я ловлю на себе ее настороженный взгляд и всем своим существом чувствую, знаю, что она не такая, какой должна была быть. Она не выдержала испытания Янтарной планетой и чтением мыслей.
Может быть, не протянись ко мне паутинка от V, она не смотрела бы на меня так, как смотрит сейчас. Не знаю. Я знаю, что мне снова грустно, потому что я слышу Галины слова, которые она не произносит. Возможно, профессор был прав, когда говорил, что за непроизнесенные слова не извиняются. Но я слышал Галины слова, и они были мне неприятны.
— И со всеми этими штуковинами я должен буду спать? спросил я Нину Сергеевну, кивая на датчики электроэнцефалографа.
— Обязательно. Мало того, раз вы уж сами так настаивали, Борис Константинович и я решили провести максимально точные исследования. Поэтому мы будем не только снимать энцефалограмму, но и замерять БДГ.
— Это еще что такое?
Я никак не мог найти для себя верный тон в разговорах с Ниной Сергеевной. То мне казалось, что голос мой сух, как листок из старого гербария, то я ловил себя на эдакой разухабистой развязности. А мне хотелось быть с ней умным, тактичным, тонким, находчивым…
— Это наши сокращения. Быстрые движения глаз, по-английски rapid eye movement или REM.
— Это во сне? Быстрые движения глаз во сне? Я же сплю с закрытыми глазами.
— Конечно. Просто исследователи заметили, что в определенных фазах сна глаза быстро двигаются под закрытыми веками. Впоследствии, как я, по-моему, вам уже говорила, эту фазу назвали быстрым сном. Именно во время быстрого сна человек видит сны.
— Значит, вы будете регистрировать мой быстрый сон?
— Совершенно верно. Самописцы энцефалографа отметят появление волн, характерных для этой фазы, а система регистрации БДГ сработает со своей стороны.
— А как же вы следите за движениями глаз, да еще у спящего, под закрытыми веками?
— Мы приклеим вам на веки кусочки зеркальной фольги, и, когда вы заснете, эта фольга будет отражать свет. Быстрые дрожания этого зайчика и будут соответствовать вашим БДГ. Видите, я вам целую лекцию прочла.
— Спасибо, Нина Сергеевна. Но как же вы? Я буду дрыхнуть, обклеенный датчиками, как космонавт, а вы…
— А я буду работать. Когда я пришла в лабораторию сна, муж все шутил, что я превращусь в соню. Оказалось все наоборот. Большинство опытов со спящими…
Я не слушал, что она говорила. Муж. Я сразу представил его. Отвратительный самоуверенный тип. Холодный и эгоистичный. Тиран и самодур. Мелкая, ничтожная личность. Разве он может оценить такую женщину? А она, как она может жить с этим чудовищем? Для чего ей терпеть вечные скандалы, придирки, оскорбительные издевательства — весь арсенал утонченного садиста?
— А как теперь, привык он? — спросил я и ужаснулся фальшивости своего голоса.
Она щелкнула одним выключателем, потом вторым, третьим. Потом просто сказала:
— Мы разошлись. Два года назад.
Мне захотелось крикнуть: «Умница! Браво! Мо-лодец! Правильно! Так ему и надо!» Вместо этого я неуклюже пробормотал:
— Простите…
— Не за что. Дела давно минувших дней… Ну, Юрий Михайлович, пора укладываться, уже полдвенадцатого.
— Еще немножко, — жалобно попросил я, и Нина Сергеевна улыбнулась.
Должно быть, я напомнил ей большого глупого ребенка, который никак не хочет укладываться. Прекрасный способ понравиться женщине — играть роль умственно отсталого ребенка. Ухаживать, засунув большой палец в рот. Я посмотрел на нее. Она наклонилась над самописцем, заправляя в него рулон бумаги. Лицо ее было красивым, сосредоточенным и необыкновенно далеким. От кого далеким, от меня? А какое, собственно говоря, я имел право на близость? И все равно на душе у меня было весело и озорно. Все еще впереди. Все еще будет. И во всем этом обязательно будет женщина, которая захлопнула крышку самописца и сказала мне со слабой улыбкой:
— Пора, пора. Вы же сами говорили, что обычно ложитесь в это время.
— Хорошо, — нарочито театрально вздохнул я. — А фольгу вы мне наклеите?
— Я.
— Тогда я закрываю глаза.
Я лег на неудобное и неуютное лабораторное ложе. Так, наверное, подумал я, ложатся на стол лабораторные собаки, мыши, кролики — великая армия безвестных служителей науки.
Сердце мое билось. Нет, я не боялся. Я даже не нервничал. Я был полон радостного ожидания, ощущения кануна праздника, во время которого я снова стану У, увижу янтарно-золотой отблеск моей далекой планеты. И самописцы обязательно зарегистрируют что-нибудь необычное. Такое, что заставит нас снова встретиться с Ниной Сергеевной. И ее улыбка окрепнет, станет живой и теплой, как ее пальцы, что прикоснулись к моим векам. Удивительные пальцы. Боже, как, в сущности, мало нужно человеку для счастья! И как много. Лежать на нелепом казенном топчане опутанным проводами, в погоне за далекой химерой, но ощущать при этом прикосновение ее пальцев к векам — как это было прекрасно! Спасибо, У.
На веко мне упала холодная капелька. Нет, это, конечно, не слеза брошенной мужем-негодяем Нины Сергеевны. Это, наверное, капелька клея. Клей начал расплываться, склеивать глаза. Руки Нины Сергеевны приносили сон. Я не сопротивлялся ему. Сон нес с собой детские ожидания, новогоднее нетерпение, обещание праздника.
Я вплывал в сон спокойно, как в теплую маленькую лагуну, и рядом со мной плыла Нина Сергеевна. Веки у нее были серебряные, и я понял, что это фольга, чтобы отражать мои взгляды. Я посмотрел на нее, но она начала исчезать, потому что меня звал У.
Это было удивительное сновидение. Я шел вместе со своими братьями по янтарной земле. Мы шли к низкому длинному зданию, которое я уже видел. Здание, в котором хранились запасные мозги жителей планеты.
Мы вошли в зал. Бесчисленные ниши на стенах, и над каждой-маленький красный огонек, рубиновая тлеющая точка.
Я знаю, для чего мы пришли. Мы прощаемся с Ао, который погиб при взрыве. И мы приветствуем Ао, который снова рождается сегодня. Я полон поющей радости. Я — одно целое с моими братьями. И прибой их мыслей и чувств во мне делают меня всемогущим и вечным. Я — струйка в потоке, я — частица атомного ядра, связанная невидимыми, но могущественными узами с другими частицами. Каждую секунду, каждое мгновение я ощущаю себя единым целым с моими братьями.
Но вот я улавливаю скорбь. Я улавливаю ее и излучаю ее. Потому что все мы думаем сейчас об Ао. Мы все знаем, как он погиб. Смерть его была почти мгновенной. Он не успел подумать о ней. Он ничего не испытал. Взрыв установки, с которой он работал, разметал все вокруг. Он не успел попрощаться с нами. Он не успел осознать, что уходит от нас. И мы поняли, что его нет, потому что ниточка его связи с нами всеми вдруг исчезла из того Узора, что и есть наше братство, наш мир. И Узор обеднел, и мы сразу осознали это, потому что даже без одной нити среди множества других нитей Узор не может быть полным.
И вот мы пришли сюда, в место, которое называют Хранилищем, чтобы снова дать жизнь Ао, ибо Узор не может жить даже без одной-единственной нити.
И в нас звучала мелодия Завершения Узора, особая мелодия, которую мы создаем и слышим каждый раз, когда Завершаем Узор. Это самая торжественная и самая прекрасная из всех наших мелодий, потому что Завершение Узора — самое торжественное из всех наших дел и событий.
Прилетают и уходят в бархатную тьму пространства наши корабли, протягиваются паутинки братства в далекие миры, но Завершение Узора — самый любимый наш праздник. И никогда ни одна мелодия не звучит в наших душах с такой грозной и яростной нежностью, как мелодия Завершения Узора. Гроза и ярость — это наше непрекращающееся сражение с временем, с этим чудовищем, которое пожирает все, от звезд до любви. А нежность — наше чувство, когда мы побеждаем его, это прожорливое время.
Из боковой двери вынесли новое тело. Двое избранных положили его в центре зала и направились к нише, над которой единственной в зале — не тлел рубиновый огонек. Этот огонек перестает тлеть, как только рвется нить, связывающая мозг каждого из нас с мозгом в Хранилище.
Избранные вынули тускло мерцающий мозг из ниши и вложили туда другой. Тот, что они вынули, они поднесли к лежавшему в центре зала телу и вложили в его голову. И сразу же над нишей АО начал тлеть рубиновый огонек.
Мелодия Завершения Узора все поднималась и поднималась к вершинам бесконечно печальной и бесконечно радостной гармонии. Она печальна и радостна одновременно, ибо высшая гармония объединяет в себе все. Мелодия поднималась, пока наконец не взорвалась торжествующим фейерверком. Узор был Завершен.
Тело в центре зала шевельнулось раз, другой, и новый АО встал. Его нить вплелась в наш Узор. Мы одержали еще одну победу над всепоглощающим временем, вырвали из его лап нашего брата.
Когда я открыл глаза в лаборатории сна, я услышал слабое шуршание самописца. В комнату неохотно вползало серенькое утро.
Я почувствовал себя таким счастливым, таким бодрым, что мне стало стыдно. Если бы я только мог сделать так, чтобы и другие услышали мелодию Завершения Узора!.. Если бы ее могла услышать Нина Сергеевна… «Где она?» — подумал я.
Я осторожно сел. Что-то мешало глазам. Ах да, это же фольга, которую мне приклеивала Нина Сергеевна на веки. Наверное, ее можно снять. Я содрал с век серебряные пластиночки, похожие на рыбью чешую. Снял с себя электроды, потянулся и вдруг увидел Нину Сергеевну. Она спала, сидя в кресле. Голова ее лежала на спинке, и вся она казалась такой маленькой, несчастной и усталой, что мне захотелось взять ее на руки, отнести на кровать и уложить рядом с любимой куклой.
Я стоял и смотрел на нее и слушал, как шуршит самописец и как поскрипывает его перо. Внезапно она открыла глаза и посмотрела на меня. Она не вскочила на ноги, не стала извиняться, что заснула, что плохо выглядит после бессонной ночи, не стала ничего спрашивать. Она смотрела на меня и вдруг улыбнулась все той же слабой, неопределенной улыбкой, какой я не видел ни у кого, кроме нее.
— Как сладко я прикорнула! — вздохнула она. — Сколько времени?
— Половина восьмого уже.
— О боже, я продрыхла в кресле часа два! Как только прекратила регистрировать БДГ, решила отдохнуть немного. Ну, а как вы, Юрий Михайлович?
— О Нина! — сказал я с таким чувством, что она вздрогнула и выпрямилась в кресле. — Если бы вы только знали, как это было прекрасно!
— Что?
— Нет… потом. Я не смогу вам рассказать. Где я возьму слова, чтобы описать вам мелодию Завершения Узора? И не существует таких слов…
Нина Сергеевна посмотрела на меня, и в сереньком ноябрьском утре глаза ее были огромны, темны и печальны.
— Вам грустно? — спросил я.
— Да, — кивнула она.
— Почему?
— Не знаю… — Она энергично встряхнула головой, и волосы ее негодующе метнулись.
— Нина… Сергеевна, у меня к вам просьба.
— Слушаю, Юрий Михайлович.
— Могу я вас называть просто Нина?
Нина Сергеевна подумала и серьезно кивнула мне:
— Да, конечно.
— Спасибо, Нина! — вскричал я, и она засмеялась.
Я тоже засмеялся. Стоит человек в лаборатории сна в пестренькой глупой пижаме, стоит перед женщиной в белом халате и кричит ей спасибо.
Нина встала, томно, по-кошачьи, потянулась, умылась кошачьими лапками и сказала:
— Ну-ка, посмотрим, что там наскребли самописцы. А вы одевайтесь пока. Борис Константинович взял с меня слово, что к восьми тридцати духа вашего здесь не будет.
Я пошел в маленькую комнатку, где я мучил профессора, и начал одеваться. Какое это счастье — сидеть в маленькой пустой комнатке, натягивать на себя брюки и думать о детски незащищенном лице Нины, когда она спала в кресле. И слышать мелодию Завершения Узора. Спасибо, Нина, спасибо, У, спасибо, Борис Константинович, спасибо всем моим друзьям и знакомым за то, что они создали мир, который так добр ко мне.
— Юрий Михайлович! — крикнула Нина из соседней комнаты, и я вскочил, запутавшись ногой в брючине.
— Что?
— Идите быстрее сюда, взгляните!
Босой, застегивая на бегу пуговицы, я влетел в лабораторию. Нина держала в руках длинный рулон миллиметровки с волнистыми линиями. Я стал рядом с ней и уставился на бумагу.
— Вот, смотрите.
Я смотрел на волны и зубчики. Волны и зубчики. Зубчики и волны.
— Вы видите?
Нина бросила на меня быстрый боковой взгляд и засмеялась. По крайней мере, она должна быть благодарна, что я так веселю ее. Босой имбецил, смотрящий на миллиметровку с видом барана, изучающего новые ворота. Очень смешно.
— Сейчас я вам все объясню. Видите, вот эти зубчики мы называем альфа-ритмом. Здесь вот, в самом начале. Он соответствует состоянию расслабленности, пассивного бодрствования. Понимаете, Юра?
Юра! Она назвала меня Юрой! Да здравствует альфа-ритм, да здравствует пассивное бодрствование! Отныне я всегда буду пассивно бодрствовать, лишь бы она называла меня Юрой!
— Понимаю, — с жаром сказал я.
— Ну и прекрасно. Идем дальше. Амплитуда ритма снижается, периодически он исчезает.
Зубчики действительно снижались. А может быть, и нет. Я не очень смотрел на них. Я смотрел на Нинин палец, тонкий и длинный палец. Совсем детский палец. А может, это мне просто хочется видеть ее беззащитной и хрупкой и соответственно воспринимать себя самого бесстрашным рыцарем, закованным в эдакие пудовые латы — мечту ребят, собирающих металлолом.
— Юра, вы смотрите?
— Да, да, Нина, клянусь вам! Никогда ни на что я не смотрел с таким интересом…
— Юра, а вы… всегда такой… как бы выразиться…
— Дементный? — спросил кротко я. — Не стесняйтесь, у меня есть близкий друг, которого я очень люблю. Он еще много лет назад нашел у меня все симптомы и признаки слабоумия.
— Не болтайте, я вовсе не то хотела сказать…
— А что же?
— Не знаю… или, может быть… ага, нашла слово: небудничный? Небудничный. Конечно.
— Только по праздникам. Но сегодня у меня двойной, а может быть, и тройной праздник: я был на Янтарной планете, я с вами, и мы сейчас увидим что-нибудь интересное. Какие же это будни? Помилуйте-с, сударыня!
— Спасибо.
— За что?
— За все. А теперь смотрите на бумагу. — Голос Нины стал нарочито суровым. Похоже было, что она пряталась сейчас за ним. — Мы с вами остановились на стадии «А», это самое начало сна. Она у вас очень короткая, но не настолько, чтобы это что-то значило. Двигаемся дальше. Наступает дремота, альфа-ритм все уплощается, появляются нерегулярные, совсем медленные волны в тета- и дельта-диапазонах. Видите?
— Вижу.
— Это вторая стадия, «В», переходит в сон средней глубины. Стадия «С».
— Это уже сон?
— Конечно. Видите вот эти почти прямые участочки?
— Вижу.
— Это так называемые сонные веретена.
— Это я так сплю?
— Спите, Юра. И не мешайте, когда вам объясняют, как вы спите. Тем более, что мы уже в стадии «Д». Стадия «Д» — это глубокий сон.
— Сновидения здесь?
— Нет, практически в стадии глубокого сна сновидений нет. А если и бывают, то они вялы, неярки. Смотрите на волны. Видите, какая высокая амплитуда? Это регулярные дельта-волны и те же сонные веретенца.
— Боже, кто бы мог подумать, что сон — такое сложное дело!
— Все на свете сложно, только дуракам все кажется ясно. Дуракам и еще, может быть, гениям… — Нина вздохнула и тряхнула головой, словно прогоняла от себя образы дураков и гениев. — И вот наконец стадия «Е». Совсем редкая дельта-активность.
— Смотрите, снова зубчики, — сказал я, как идиот.
— Это и есть быстрый сон. Быстрые и частые волны. Очень похожи на ритм бодрствования. Сейчас посмотрим время. Ага, примерно двенадцать сорок. Итак, в двенадцать сорок вы начали видеть сны. Проверим по БДГ. — Она взяла другой рулончик, поменьше. — Вот всплеск. Время, время… двенадцать сорок. Совпадение полное.
— А что же здесь необычного? — спросил я.
— Сейчас увидите. Вот ваш быстрый сон кончается. Занял он всего пять минут.
— Это много или мало?
— В начале ночного сна это обычно. Быстрый сон ведь бывает три, четыре, пять раз за ночь. К утру продолжительность периодов быстрого сна может доходить до получаса.
— И за такие коротенькие сеансы люди успевают увидеть столько интересного?
— Вообще-то в большинстве случаев протяженность события во сне более или менее соответствует протяженности такого же события в реальной жизни. Но бывают и исключения. Во всех учебниках описывается один шотландский математик, который во сне часто переживал за тридцать секунд музыкальный отрывок, который обычно длится полчаса. Но дело сейчас не в этом. Нина снова подняла длинную змею миллиметровки. — Вот коротенький промежуток, и снова период быстрого сна. Это уже не совсем обычно.
— Что не совсем обычно?
— Очень маленький интервал. И главное — второй ваш быстрый сон тоже длился ровно пять минут.
— А должен сколько?
— Что значит «должен»? Обычно продолжительность периодов быстрого сна увеличивается к утру. А у вас — нет. Мало того, Юра. Смотрите. Вот, вот, вот… Вы видите?
— Что? То, что их длина одинакова?
— Вот именно. У вас было десять периодов быстрого сна, и все совершенно одинаковые — по пять минут. Я такой ЭЭГ не видела ни разу. Странная картина…
Что это, думал я, сигналы или не сигналы? Наверное, сигналы. А может быть, так уж я просто сплю?
— Нина, скажите, а может эта картина иметь естественное происхождение? Я имею в виду десять своих снов.
Нина наморщила лоб.
— Не знаю. Надо подумать, показать Борису Константиновичу. Но эти десять периодов… И даже не то, что обычно число этих периодов редко бывает больше шести за ночь… Меня поражает их одинаковость. Ничего похожего никогда не видела…
Нина смотрела на змейку, вычерченную самописцем. Змейка то благодушно распрямлялась, то собиралась в мелкие злые складочки.
— Что-нибудь еще, Нина? — спросил я и осторожно дотронулся до ее локтя.
Локоть был теплый и упругий. Стать позади нее. Поддеть ладонями оба ее локтя. Привлечь к себе.
— Я сразу и не обратила внимания.
— На что?
— На интервалы между быстрыми снами. Девять интервалов, и все время они растут.
— Интервалы?
— Угу.
— А что это значит?
— Не знаю, Юра. Могу вам только сказать, что ЭЭГ совершенно не похожа на нормальную картину сна. — Нина посмотрела на часы: — Юра, вам пора.
— А вы остаетесь?
— Мне еще нужно кое-что привести в порядок. До свидания.
Это было нечестно. Она не могла так просто сказать «до свидания» и выставить меня. После всего, что случилось… «А что, собственно, случилось?» — спросил я себя. То, что я спал в одной комнате с Ниной, не давало мне ровным счетом никаких прав на особые отношения. Что еще? Коснулся рукой локтя? И все.
— Нина, — сказал я тоном хнычущего дебила, — неужели же нам не придется повторить эксперимент?
Нина улыбнулась своей далекой слабой улыбкой. Лицо у нее после бессонной ночи было усталое и слегка побледневшее. А может быть, мне оно лишь казалось таким в свете серого ноябрьского утра. Но оно было прекрасно, ее лицо, и у меня сжалось сердце от нахлынувшей вдруг нежности. Если бы и у меня был свой Узор, как на Янтарной планете, я бы понял, наверное, что мне не завершить его без нее.
Спасибо, У, спасибо, странный далекий брат. Спасибо за радость общения и за радость, которую я испытываю, глядя на это побледневшее и осунувшееся женское лицо с большими серыми глазами. Спасибо за янтарный торжествующий отблеск, который подкрашивает скучное и бесцветное, из бледной размытой туши, начало дня. Спасибо за десять маленьких быстрых снов, в которых ты познакомил меня с Завершением Узора. И что бы ни случилось со мной впредь, я уже побывал в Пространстве, и никто никогда не отнимет у меня вашего привета.
— До свидания, Нина.
Она ничего не ответила. Она стояла и держала в руках бесконечную ленту миллиметровки, и лоб ее был нахмурен.
ГЛАВА X
Мы сидели с Галей в кино. На вечернем сеансе, на который я купил билеты, когда возвращался из школы. Старая французская комедия с покойным Фернанделем в главной роли. Трогательные в своей наивной незащищенности трюки.
Где-то я читал, что волк, желая избежать схватки с более сильным соперником, подставляет под его клыки в знак смирения шею, и тот не трогает его. Так и фильм. Вот моя шея, я сдаюсь.
Галя просунула руку под мою, и ее ладошка легла на мою ладонь. Теплая волна нежности нахлынула на меня. А может быть, не столько нежности, сколько вины и угрызений совести. Но кто знает, что вернее цементирует отношения двух людей…
— Люш, — тихонечко прошептал я.
Она не ответила. Она лишь быстро прижала свою ладошку к моей. Жест успокаивающий, ободряющий. Ничего, Юра, все будет в порядке. Я тебя все-таки уговорю, ты поедешь к тете Нюре в Заветы, в ее уютный домик на самом краю поселка, будешь пить каждый день парное молоко и забудешь про свои фантазии…
Если бы она только не была так уверена в своей правоте, подумал я и резко вырвал свою ладонь из-под ладони Гали. Два дня я не слышал чужих мыслей и совсем было забыл о них. А сейчас, сидя рядом с женой з темном зале кинотеатра, я незаметно для себя включился в неторопливый поток ее мыслей. Подключился по-воровски, как электровор подключается к сети, минуя счетчик. Нет, Юрий Михайлович, по счетчику нужно платить.
Это она думала о тете Нюре, и моя виноватая нежность снова уперлась в плотину ее здравого смысла. Слишком здравого.
Если бы она только могла понять, если бы только треснул ее стальной панцирь непогрешимости… А что тогда? Да и хочу ли я, чтобы этот панцирь лопнул? Если быть честным с собой?
И снова чувство вины начало понемножку подтягивать из моего сердца резервы нежности. И снова ее рука ободряюще похлопала мою. И снова я услышал медленный и уверенный хруст ее мыслей:
«Ему, видно, совсем плохо… бедный… А все из-за упрямства».
Мне захотелось крикнуть ей во весь голос:
«Мне хорошо, не жалей меня! Это я должен жалеть тебя!»
И снова поднявшаяся было теплота ушла в какую-то яму. В моей руке лежала ее чересчур крупная для ее роста рука. Неприятно холодная.
Когда мы возвращались домой, Галя была весела и оживленна. Если уж она решает что-нибудь, она никогда не останавливается на полпути. Она — как снаряд, летящий к цели. Он может попасть в нее или промахнуться, но остановиться или повернуть назад — никогда.
А она твердо решила не подавать виду, не раздражать больного мужа. При душевных расстройствах и психических заболеваниях главное — чуткость родных и близких.
— А что, если сделать на ужин картофельные оладьи? — спросила Галя. — Натрем сейчас десяток картофелин…
Картофельные оладьи — мое любимое блюдо. Но поскольку оно, как известно, довольно трудоемко, изготовляет его Галя не так-то часто.
Я чистил картошку, а Галя натирала ее на терке. Потом мы поменялись ролями. Горка сероватой кашицы все росла и росла в тарелке, темнела, а я думал, что не все на свете, к сожалению, можно исправить при помощи картофельных оладий.
— Юрочка, — сказала мне на большой перемене Лариса Семеновна, — что стало с вашим Антошиным?
— А что такое?
— Метаморфоза. Получил у меня сегодня четверку.
— О, Лариса Семеновна, боюсь сглазить. Сергея как подменили.
— Но все-таки, как это вам удалось?
— Мне?
— Вы же классный руководитель. И отвечаете за все на свете, от успеваемости до первой любви, от отношений с родителями до увлечения спортом.
— Вы знаете, есть такой старинный английский анекдот. В семье родился мальчик. Внешне совершенно здоровый, но и в год, и в два, и в три он так и не заговорил. Ребенка таскали по всем врачам — и все напрасно. Родители смирились. Глухонемой так глухонемой, что же делать? И вдруг однажды, когда ему было лет восемь, мальчик говорит за столом: «А гренки-то подгорели». Родители — в слезы. Как, что, почему же ты раньше не говорил. «А о чем говорить? Раньше все было нормально».
— Гм! И что же ваша бородатая притча должна означать?
— А то, что Антошин столько лет продремал, что в конце концов выспался и проснулся.
— Да ну вас, Юрочка, к бесу!.. Ваша скромность носит вызывающий характер. Истинная скромность состоит знаете в чем?
— Нет, не знаю.
— В признании своих заслуг, вот в чем.
Лариса Семеновна как-то очень ловко и лукаво подмигнула мне, и я подумал, что не одно, наверное, сердце начинало в свое время биться от ее подмигиваний.
— Ладно, Лариса Семеновна, раз вы уже разгадали меня, открою вам свою тайну. Чур, только, никому ни гугу.
— Идет.
— Я незаконный сын Ушинского. Именно от него я унаследовал незаурядный педагогический талант.
— То-то я смотрю, вы на него похожи… Вы с вашими, говорят, в Планетарий собрались?
— Вы наш Талейран и наш Фуше. От вас ничего не скрыть. Сегодня после занятий.
Я люблю ходить со своими охламонами на разные экскурсии. В школе они все ученики. Стоит им выйти на улицу, как они мгновенно преображаются. Девочки сразу взрослеют и хорошеют, мальчики обретают юношескую степенность. Они немножко стесняются организованности экскурсии и быстро разбиваются на группки в два-три человека.
Однажды нас увидел на улице математик Семен Александрович. Не помню уж, куда мы шли. По-моему, в Третьяковку. Он посмотрел на меня, и в глазах его мерцал ужас. Назавтра я спросил, что так поразило его.
«А разве можно ходить не строем?» — посмотрел он на меня.
Ах ты милый мой Беликов, современный ты человек в футляре, хотел я сказать ему, но вовремя удержался. Рожденный ходить строем, иначе ходить не умеет.
Мы вышли из школы. Наконец-то первый раз в этом году пошел настоящий снег. Пушистые, театральные, нарядные снежинки… Просто жалко было смотреть, как гибнут такие шедевры под колесами машин и ногами прохожих.
Алла Владимирова шла вместе с Сергеем Антошиным. Так, так, так. Похоже, что Сергей подымается по социальной лестнице класса, перепрыгивая через ступеньки. Идти рядом с Аллой Владимировой — это дается не каждому. Господи, да я сам бы с удовольствием взял ее под руку. Щеки ее торят на ветру, на длиннющих ресницах тают новогодние снежинки. Ей бы закружиться сейчас в вихре вальса, вылететь на середину улицы, и вся улица замерла бы от восхищения.
А Сергей цвел и цвел от тихой гордости. Он и выше стал, и плечи отведены немножко назад, и грудь колесом под стареньким демисезонным пальтишком. Милый мой Сережа, как я рад, что ты наконец проснулся. И все у тебя будет хорошо, только не засни опять.
Мы доехали на метро до «Краснопресненской», а потом дошли пешком до Планетария. Я уже не первый раз сижу под его куполом, но сегодня я смотрел на звездное небо совсем с особым чувством. Где они, мои далекие братья? В какой части безбрежного космоса?
Тонкая световая указка лектора легко скользила по ночному небу над темными силуэтами домов по его краям. Моя указка была чуточку длиннее.
И снова, как уже случалось, на меня нахлынуло ощущение чуда. Я, Юрий Михайлович Чернов, добившийся в жизни только, пожалуй, того, что Сергей Антошин шел в Планетарий рядом с Аллой Владимировой, я оказался избранником, в кого почему-то уперлась указка, сотканная из сновидений, посланных откуда-то из неведомых далей.
Интересно, как чувствуют себя настоящие избранники судьбы? Как несут свое бремя славы? Неужели привыкают к нему? Главное мое чувство — это чувство нереальности. Не может быть. Не должно быть. А потом я думаю, что все-таки есть. И я знаю еще, что я сам ни при чем. Я просто та точка, в которую уперся луч сновидений. Из альфы Центавра, или Тау Кита, или откуда-нибудь еще с таким же красивым названием…
Первый раз, когда я шел на ночь в лабораторию сна, я заранее сказал об этом Гале.
— А что, есть такая лаборатория? — спросила она. — И туда ходят со своими пижамами? Раньше это называлось по-другому.
На этот раз я сказал ей, что буду ночевать у Ильи. Она ничего не сказала. Пожала лишь плечами. Наверное, мы уже пересекли черту, из-за которой не возвращаются. Эдакий брачный рубикон.
В лаборатории меня встретили Нина и Борис Константинович. Нет, положительно он изменился. Куда девался металл, из которого он был выкован? Живой человек с растерянными глазами. И симпатичный от этого.
— Главное — часы, — говорил он Нине.
— Но, Борис Константинович, я ведь и прошлый раз заметила время включения приборов.
— По каким часам?
— По своим, конечно.
— Давайте найдем что-нибудь поточнее. Как вы думаете, у кого могут быть более или менее точные часы? В лаборатории Бабашьянца?
— Сомневаюсь.
— Если вам не трудно, посмотрите, что-нибудь у них должно быть.
— Борис Константинович, — сказал я, — я еще раз прошу прощения, что доставил вам столько хлопот…
— Перестаньте! — Профессор досадливо махнул рукой. Что-то я не заметил раньше у вас особой деликатности.
— Только ради научной истины. В присутствии истины я буквально стервенею.
— Ну, ну, — пробормотал профессор без улыбки. По-видимому, особой симпатией ко мне он так и не проникся.
Уснул я буквально через несколько минут после того, как улегся на уже знакомое мне ложе. Помимо всего прочего, я здорово устал за эти дни. Последнее, что я услышал, были слова Бориса Константиновича: «Как спит!» Это обо мне, подумал я, и мысль растворилась.
И пришел сон, посланный мне У. И я снова летал. Но не так, как раньше. О, это был совсем другой полет! У стоял на каменистой площадке, и вдруг ощущение своего веса исчезло. Он стал невесом, и легкий ветерок, тянувший с залитого солнцем холма или низенькой горы, раскачивал его, как травинку. Он оттолкнулся ногой и начал подниматься прямо вверх, как ныряльщик поднимается к поверхности воды, как поднимается воздушный шар.
Чувство легкости, свободы. У слегка наклонился в сторону, и горизонт послушно встал дыбом. Мы парили в золотисто-желтом небе, поднимаясь все выше и выше, и я слышал мелодию холмов.
А потом У скользнул вниз. Быстрее и быстрее. Свист воздуха вплелся в мелодию. Страха не было. Было веселое, озорное чувство всевластья над стихиями. Над янтарными холмами внизу, над желтоватым небом с длинными, стрелоподобными облаками. Над силой тяжести, которая сейчас тянула нас вниз и которая вовсе не была чужой и злобной, а была ручной и доброй, как собака. И у самой земли падение прекратилось. И мы снова поднялись вверх. И скатывались по крутым невидимым горкам неведомых силовых полей. И встретили в небе еще одного. Его имя было Эо. А может быть, его имя звучало вовсе не так, но он остался в моей памяти как Эо. И мы играли в небе, как птицы, как играли бы щенки, умей они летать.
И вдруг мы оба скользнули на землю. Нас позвали. Коа столкнулся с неполадками на энергетической станции, в которых он не мог разобраться.
И на помощь ему мысленно спешили братья. Сначала те, кто был ближе других к нему и кто был не слишком занят, потому что это был Малый Зов. И те, кто был ближе других к Коа, включались в его мозг. И их мозг и его мозг становились единым целым, работавшим в едином ритме.
Нам не нужно было объяснять, что случилось на станции, на которой был Коа. Мы знали всё, что знал он. Мы были частью его, а он был нами. Но задача была сложна. Я не могу сказать, в чем она состояла, ибо мозг мой не смог усвоить технические образы, циркулировавшие в кольце Малого Зова. Они были слишком сложны и незнакомы мне.
И всё новые братья вплавлялись в общий мозг, росший в кольце Малого Зова. И самосознание наше все расширялось и расширялось, пока не стало похоже на громадный, безбрежный храм, в котором тысячекратным эхом билась, сплеталась и расплеталась наша общая мысль. И эхо вибрировало и дрожало от нашей общей мощи. И мы поняли, что случилось с машинами Коа и что нужно сделать, чтобы избежать аварии. Но никто не мог бы сказать, что это понял он. Только мы, ибо внутри кольца Малого Зова не было меня, тебя, его. Были только мы.
И как только задача была решена, кольцо распалось, и У снова стал V, существом, протянувшим мне лучик сновидений сквозь бесконечную тьму космического пространства.
И я начал понимать, почему на Янтарной планете всегда сияет радостный отблеск…
— Когда, вы говорите, начался вчера первый цикл? — услышал я, просыпаясь, голос профессора.
— Быстрого сна? — переспросила Нина. — Сейчас посмотрим… Вот. В двенадцать сорок.
— Сегодня?
— В двенадцать сорок.
— Значит, совпадение полное?
— Нет, Борис Константинович. Вчера было десять периодов быстрого сна, а сегодня одиннадцать.
— И этот дополнительный?…
— Тоже пятиминутный.
— А интервалы?
— Надо замерить. Сейчас я займусь.
Я встал.
— Вы что, всю ночь бодрствовали надо мной? — спросил я.
— Нет, — сухо ответил профессор. — Я ездил домой.
— Боже, и все это из-за одного человека…
— Вы здесь ни при чем, — неприязненно сказал Борис Константинович.
— Интервалы точно такие же, как и прошлый раз. Совпадение полное. Дополнительный одиннадцатый цикл приходится на интервал между пятым и шестым периодами быстрого сна.
Профессор посмотрел на ленту.
— Действительно, интервалы все время увеличиваются. Смотрите, последний интервал раз в тридцать — сорок больше первого. Нелепость какая-то…
— А что, если составить график по времени быстрых снов и интервалов?
— Конечно, Нина Сергеевна. Не надо будет, по крайней мере, перематывать каждый раз этот рулон…
Я был здесь больше не нужен. Подопытный кролик сделал свое дело, подопытный кролик может уйти. Жаловаться не приходилось. Спасибо им и за это.
ГЛАВА XI
На следующий день я позвонил Нине и попросил разрешения проводить ее домой. Она опять долго дышала в трубку, молчала и наконец согласилась.
Я приехал на пятнадцать минут раньше срока. По дороге я с трудом подавил в себе желание купить букет цветов. Я уже подошел было к старушке в тоннельчике у Белорусского вокзала и полез в карман за деньгами, как вдруг представил себя у входа в институт. Жених. Имбецил с букетом. Я вздохнул. Старушка соблазнительно встряхнула свои кладбищенские чахлые цветочки и зазывно посмотрела на меня. Я вынул руку из кармана, так и не вытащив денег, и в глазах продавщицы засветилось радостное презрение. Так тебе и надо, говорили они. Ты с цветами был бы не очень-то, а уж без них и вовсе нечего ходить на свидание. Ноги только бить. Сидел бы в обнимку с телевизором.
А может быть, все-таки надо было купить цветочки? Скромный букетик, преподнесенный исследователю благодарным кроликом.
Похоже было, что в их институте никто никому никогда не назначал свиданий, потому что каждый второй выходящий с глубоким интересом рассматривал меня. А может быть, это я вздрагивал и поворачивался, когда взвизгивала тяжеленная дверь и выпускала в облачке пара очередного мэнээса или лаборанта.
Нину я не узнал. Я сообразил, что она стоит подле меня, только тогда, когда она сказала:
— Здравствуйте…
Я засмеялся.
— Господи, — сказал я, — я же ждал женщину в белом халате. Я вас видел только в белом халате. Простите меня.
Нина взяла меня под руку.
— Жалко, что у меня нет портфеля, — вздохнула она.
— Почему?
— В девятом и десятом классах я ходила домой вместе с одним мальчиком, и он всегда нес мой портфель. Свой и мой.
— Счастливый мальчик!..
Нина неторопливо и внимательно посмотрела на меня сбоку, словно изучала, гожусь ли и я на роль мальчика, несущего портфель. Господи, только что я смотрел на гордого Сережу Антошина, который шел рядом с Аллой Владимировой и кис от счастья. И вот я иду рядом со своей Аллой и тоже молю небо, чтобы подольше идти так по холодной ноябрьской слякоти, ощущая легкое прикосновение ее руки к моей.
— И что стало со счастливым мальчиком? — спросил я.
— Он стал моим мужем, — медленно, словно вспоминая, как это было, сказала Нина. — А потом… потом, когда носить портфель было больше не нужно, выяснилось, что нас мало что связывает… — Нина невесело усмехнулась. Ее лицо сразу постарело на несколько лет.
Я молчал. Всей своей шкурой болтуна я знал, что надо промолчать. Любое слово было бы пошлым. Любой жест был бы оскорбительным, даже легкое пожатие ее руки. Никто не бывает так чуток к реакции на свои слова, как болтуны. Слишком часто они говорят не то и не тогда, когда нужно.
Нина вдруг остановилась у освещенной витрины. В витрине стоял манекен — женщина в длинном черном платье с расшитым серебром подолом. У «женщины» было напряженно-несчастное пластмассовое лицо. Наверное, ей было холодно и ее не радовало черное платье за сто четырнадцать рублей тридцать копеек.
— Красиво? — спросил я.
— Что? Ах, вы про платье? Наверное, красивое…
Мы отошли от витрины.
— Что говорит Борис Константинович? — спросил я.
— Вы должны понять его. — Нина словно обрадовалась, что разговор выбрался с ее прошлого на твердую землю нашего эксперимента. — Он видит, конечно, что ЭЭГ получается фантастическая. Ничего похожего никогда никем не было замечено. И поразительно точное совпадение начала первого быстрого сна, и одинаковая продолжительность всех быстрых снов, и увеличивающиеся интервалы между ними. С другой стороны, что все это могло бы значить? Можно утверждать, что в паттерне вашего сна… Простите, я сказала «паттерн»…
— Я понимаю, Нина, это же английское слово. Образец, схема…
— Совершенно верно. Так можно ли утверждать, что паттерн этот служит безусловным доказательством искусственности, наведенности периодов быстрых снов и соответственно ваших сновидений? Соблазн велик, конечно, но убедительны ли будут наши рассуждения? Да, скажут мужи, ЭЭГ в высшей степени странная, слов нет, но при чем тут космическая мистика? И нам нечего будет ответить. Знаете, Борис Константинович — очень осторожный человек. Это не значит, что он трус…
— Судя по тому, как я должен был его уламывать…
— Вам и меня пришлось уламывать… Поймите же, мозг ученого — это главным образом сепаратор.
— В каком смысле?
— В самом элементарном. Думая, пытаясь истолковать результаты опытов, ты занят в основном отсевом, отбраковкой негодных предположений. Мозг ученого приучен безжалостно отбрасывать всю чепуху. А вы приходите и настаиваете, чтобы мы занимались как раз тем, что всегда отбрасывали как чепуху. Попробуйте, влезьте в шкуру шефа… Но он, повторяю, не трус. Да, он человек суховатый, упрямый, но если он уж приходит к какому-то заключению, он не отступит от него, даже если придется идти напролом.
— Значит, пока вы не пришли ни к какому выводу?
— Пока нет. Вначале мы подумали, что, может быть, само число быстрых снов — десять — что-то может значить. Это гораздо больше, чем наблюдается обычно. Обычно их бывает пять-шесть. Но во втором опыте, как вы слышали, их было уже не десять, а одиннадцать. Что будет в следующем? Может быть, двенадцать, а может быть, шесть. У нас мало материала. С такими данными нельзя делать никаких утверждений. Я построила самый примитивный график. Вот он, вы просили, чтобы я вам его принесла. — Она достала из сумочки листок бумаги. — Он ничего не говорит. Десять и одиннадцать точек на разном расстоянии друг от друга. Расстояния эти, правда, увеличиваются, но случайно ли увеличение или подчиняется какой-то зависимости, мы пока не знаем. Нужны новые серии экспериментов.
— Нина, — вскричал я с пылом, — я готов переехать в вашу лабораторию! Навсегда. Мы купим портфель, и я буду всегда носить его вам…
Будь проклят мой язык! Я все-таки ляпнул глупость. Нинина рука в моей сжалась. Я почувствовал, как она вся съежилась. Впервые за весь вечер я услышал ее мысли. «Не надо, — повторяла она про себя. — Только не надо».
— Простите, Нина.
Она промолчала. Она была ранима, как… Я хотел было подумать «как цветок», но сравнение было пошлым. Нина обладала удивительным качеством отфильтровывать пошлость. Наверное, счастливый мальчик с двумя портфелями не прошел через этот фильтр.
— Мне в метро, — сказала Нина.
— Я провожу вас до дому.
— Не нужно, Юра, — мягко сказала она.
— Я не хотел вас обидеть.
— Я знаю. Я нисколько не обижена на вас. Разве что на себя. До свидания.
По лицу ее скользнула слабая, бледная улыбка, она кивнула мне, повернулась и исчезла в облаке яркого пара, всосанная человеческим водоворотом, бурлившим у входа в метро. Я бросился было за ней, но остановился. Две ошибки за вечер — это было бы многовато.
Уже не спеша я вошел в метро, постоял зачем-то в очереди за «вечеркой», нетерпеливо развернул ее, словно ждал тиража вещевой лотереи или последних известий с Янтарной планеты, и вместо этого прочел вопрос некой И.Г.Харитоновой, которая спрашивала, где можно приобрести квалификацию садовника-декоратора. Бедная Ирина Гавриловна или Ираида Густавовна! Разве счастье в квалификации? А может быть, она и права. Может быть, садовники-декораторы всегда счастливы. Во всяком случае они наверняка счастливее меня. По крайней мере в этот вечер.
Я вышел на своей остановке и понял, что мне не хочется идти домой. Видеть Галю, ловить на себе ее участливые взгляды. Нет, она ни в чем не виновата передо мной, и в этом и состояла ее главная вина. Люди прощают виновных. Но невиновных — никогда.
Она заботилась обо мне и хотела, чтобы я был здоров. Ужасное преступление для жены. Я вздохнул. Ощущение предательства — не самое приятное ощущение. Кому-то оно, может быть, и приятно. Не знаю.
Я позвонил Илье. Он был дома и через полчаса уже втаскивал меня к себе.
— Ну? — закричал он. — Есть что-нибудь?
— Да нет, Илюша. Ничего окончательного.
— Что за тон? Что за интеллигентские штучки? Что за физиономия опечаленного олигофрена?
— Да понимаешь, старик…
— Я тебе не старик. И брось этот жигалинский лексикон. Выкладывай, что случилось.
С Ильей нельзя кривить душой. В его присутствии даже самая мягкая душа никак не может кривиться.
— Илюша, я чувствую, что мы с Галей неудержимо расходимся. Мы идем разными курсами…
— Подожди, при чем тут Галя? При чем ваша семейная жизнь? Я часто называл тебя олигофреном шутя, но я вижу, в каждой шутке есть доля правды. Какая семейная жизнь, какой развод? Как ты смеешь говорить об этом, когда твою дурную голову избрали в качестве приемника братья по разуму? Одно из величайших событий в истории человечества, гимн материалистическому, атеистическому восприятию мира, а ты подсовываешь свою семейную жизнь! Да разве это соизмеримые величины? Да будь ты падишахом с гаремом в тысячу жен и поссорься ты со всеми сразу — и то это была бы микропылинка рядом с горой. Ты хоть понимаешь, осознаешь свою эгоистическую глупость?
Мне стало стыдно. Илья был прав. Но умение мыслить большими категориями — удел больших людей. Улетай я завтра на Янтарную планету, я бы и тогда убивался бы из-за того, что запутался в двух женщинах.
Я посмотрел на себя Илюшкиными глазами. Он был абсолютно прав. Зрелище не из приятных. Хныкающий идиот.
— Ладно, эмоции потом. Я тебе говорил по телефону, что они решили проделать второй эксперимент. Я спал у них еще раз.
— И как?
Илья сделал неосторожное движение ногой, и с пачки книг, лежавших на полу, взметнулся столбик пыли.
— Пошли на кухню.
Я рассказал Илье о втором эксперименте.
— Нина Сергеевна дала мне график. Вот он, я еще сам его не видел.
На листке бумаги на горизонтальной оси были отложены точки. Первые три — почти рядом друг с другом. Остальные — на все большем и большем расстоянии.
— А почему эта точка отмечена особо? — спросил Илья, показывая на шестую точку.
— Потому что в первом эксперименте ее не было. В первом было десять точек, во втором — одиннадцать.
— Чепуха! Почему именно эта? Почему вы не отметили, скажем, вторую или одиннадцатую точку?
— Не знаю, я как-то не подумал об этом.
– «Не подумал»! Господи, я всегда этого боялся больше всего. Братья по разуму протягивают нам руку и попадают в идиота!
— Можно подумать, что ты только и делаешь, что ждешь братьев по разуму.
— Юрочка, — сделал забавную гримасу Илья, — что я вижу? Ты огрызаешься? Старшим?
— Пошел к черту!
Илья захлопал в ладоши:
— Браво, Чернов! Правильно: не можешь лаять на директора школы — лай на друзей, это безопаснее.
— Илья, хочешь, я тебе врежу как следует?
— Ты? Мне? — Илья нарочито скорчился от хохота, качнулся. Стул, на котором он сидел, зловеще хрустнул, и Илья успел вскочить как раз в тот момент, когда он начал рассыпаться.
— То-то, — сказал я. — Так будет с каждым, кто покусится…
— На что?
— Вообще покусится.
— Слушай, Юраня, — вдруг сказал Илья, и лицо его стало серьезным, — ты хоть фамилию своей Нины Сергеевны знаешь?
— Знаю. Кербель.
— Вот тебе телефон. Ты набираешь ноль девять. Всего две цифры, это не трудно, уверяю тебя. А когда ответит женский голос, ты произнесешь всего три слова: «Личный телефон, пожалуйста». Со временем тебе ответит еще один женский голос. Ты скажешь: «Нина Сергеевна Кербель», и она назовет тебе номер телефона. Это не так уж сложно. Хороший попугай, если бы он мог держать трубку, сумел бы сделать это. Звони.
— Я не попугай. Я не могу.
— Почему? Ты брезгуешь? Трубка чистая, я вытираю ее ухом по несколько раз в день.
— Я с Ниной Сергеевной…
— О боже! — простонал Илья, закрыл глаза и принялся раскачиваться из стороны в сторону. — Судьба послала мне в друзья ловеласа, донжуана, казанову. Не пропустит ни одной женщины, с каждой ухитрится поссориться. — Илья вдруг пристально посмотрел на меня: — Это… это как-то связано с Галей?
Такой толстый шумный человек — и такой проницательный.
— Да, — сказал я.
— Я позвоню сам.
Он довольно быстро дозвонился до справочной и получил телефон Нины Сергеевны. Хоть бы ее не было дома, она же подумает, что это мои детские штучки. Попросить позвонить товарища. Хлопнуть портфелем по спине. Дернуть за косу.
— Нина Сергеевна? — спросил Илья. — С вами говорит некто Плошкин. У меня сейчас мой друг Юрий Михайлович Чернов, и мы как раз рассматривали график… Он сам? Он пытается вырвать у меня трубку.
Илья протянул мне трубку и некрасиво подмигнул.
— Нина… — промямлил я в трубку. Сердце билось, словно я заканчивал марафонскую дистанцию.
— Юра, вы, наверное… — Нина замолчала, и я услышал в трубке ее дыхание. — Вы, наверное, рассердились. Я не хотела обидеть вас…
— Нет, что вы! — закричал я, и Илья выразительно постучал себе пальцем по лбу. — Я не обижен.
Маленькую Илюшину кухню заливал янтарный свет. Цвет, в который красит стволы сосен вечернее солнце, продираясь сквозь сизые июльские тучи.
— Ваш товарищ что-то хотел спросить…
— Дай мне, — сказал Илья и вырвал у меня трубку. — Нина Сергеевна, у моего друга стало почему-то такое выражение лица, что я не могу доверить ему серьезные научные переговоры. Нина Сергеевна, мы не могли понять на вашем графике, почему вы новую, одиннадцатую, точку во время второго опыта поместили не в конце, например, а между пятой и шестой? — Илья слушал и кивал головой. — Ага, понял. Я так и подумал. Спасибо, Нина Сергеевна.
Илья положил трубку.
— Понимаешь, расстояние между всеми точками осталось во втором опыте точно таким же, как в первом, и новая точка, похоже, вклинилась между пятой и шестой. Гм, интересно…
Илья положил перед собой график и тихонько загмыкал. Гмыкал он долго, но ничего, очевидно, не выгмыкал, потому что повернулся ко мне и спросил:
— Есть будешь?
— А что у тебя?
— Жульен из дичи, ваше сиятельство. Также рекомендую вашему вниманию седло дикой серны и вареные медвежьи губы. Но больше всего, ваше сиятельство, мы гордимся нашим фирменным блюдом — пельменями!
— Два жульена, хам! И серну целиком. И седло и чересседельник.
— Почтительно рекомендую пельмени, ваше сиятельство.
Илья поставил на огонь кастрюльку с водой, подождал, пока она не начала бурлить, и высыпал в нее пельмени. Пельмени булькнули и утонули и сразу успокоили расходившуюся воду.
— Ваше сиятельство, как только какая-нибудь из утопленниц вынырнет на поверхность, бросайте ей спасательный круг.
Кого благодарить за такого друга, как Илья? Не знаю, чего б я не сделал ради него.
Мы ели пельмени, молчали, и я ни о чем не хотел думать.
ГЛАВА XII
Мы проделали еще два опыта. Они в точности повторяли результаты двух предыдущих, за исключением одной детали. Эта проклятая лишняя точка то появлялась, то исчезала, просто подмигивала нам с графика. Нина Сергеевна и профессор решили продолжать опыты на следующей неделе.
Я смотрел по телевизору спортивную программу. Где-то на другом конце света наши борцы припечатывали к ковру противников. Они долго толкались, упершись лбами друг в друга, пока один из борцов вдруг не хватал противника за ноги…
Галя сидела около меня. Она любит спортивные передачи гораздо больше меня, ни одной не пропускает. Я незаметно посмотрел на нее сбоку. Лицо сосредоточенное, серьезное, собранное — она и зрителем была энергичным. На ней был ее голубенький стеганый халат, который ей очень идет. Я вдруг подумал, что никогда, наверное, не видел ее неряшливо одетой или непричесанной. Галя. Га-ля. Я попробовал имя на язык. Имя было мягкое. Такое же, как и имя, которое я ей дал. Люша. Люш. В чем же она виновата? Она виновата только в том, что я пытаюсь столкнуть на нее ответственность за Нину. Нет, не я, видите ли, разлюбил ее, нет, нет, нет, это она сама виновата. Слишком заботилась о моем здоровье.
Бедная Люша, она этого не заслужила. Разве она виновата, что маленькой ее головке легче думать о простых, ясных делах, которые можно решить, сделать, чем о неясных, романтических и космических фантазиях?
Старый, как мир, спор между реалистами и романтиками. Я поймал себя на том, что мысленно умиляюсь своему романтизму. Опасный симптом. Еще шаг — и начнешь вообще восторгаться собой. Романтик, знающий, что он романтик, — уже не романтик.
Га-ля. Га-ля. Я повторил имя жены несколько раз про себя. Но волшебство звуков не вызывало привычной нежности. А я хотел, я ждал, пока из глубин сердца подымется теплая, таинственная нежность к этому маленькому существу, что сидело рядом со мной и зачем-то смотрело на всё толкавшихся лбами борцов.
Я знал, что поступаю нечестно, но я положил руку на Галино плечо. Я почувствовал, как она сжалась. Она все понимала. Они никогда не обманывала себя. Она всегда отважно выходила навстречу фактам — один на один, ибо часто я бывал ей в этих сражениях слишком плохим помощником. «Ты страус-оптимист, говорила она. — Ты прячешь голову в песок и надеешься, что все как-нибудь обойдется».
Да, она не ошибалась сейчас, как не ошибалась почти никогда. Я все еще продолжал упрямо надеяться, что все образуется, утрясется, устроится.
Она взяла мою руку и мягко, почти ласково сняла со своего плеча.
Зазвенел дверной звонок. Я открыл дверь, и в прихожую вихрем ворвался Илья.
— Солнечная система! — крикнул он так, как никто еще никогда не кричал в нашем кооперативном доме-новостройке. Мы слишком дорожили им. Дом содрогнулся, но устоял.
— Что? Илюша, что случилось? — вскочила Галя.
— Это Солнечная система, Галка, вот что! Ты понимаешь, что я говорю? Солнечная система.
Он схватил мою жену, поднял на руки и попытался подбросить ее вверх, но она уцепилась за его шею.
— Ты что, сдурел?
— Сдурел, не сдурел, какое это имеет значение? — продолжал иступленно вопить Илья. Лицо его раскраснелось, глаза блуждали. — Одевайся немедленно! Едем!
— Куда? Что случилось? Да приди же в себя! — в свою очередь начала кричать Галя.
Случилось в конце концов то, что должно было случиться, пронеслось у меня в голове. Человек, который видит спасение человечества в грязи, должен был раньше или позже соскочить с катушек.
— Точки! — взвизгнул Илья. — Вы олигофрены! Вы одновременно идиоты, имбецилы и дебилы! Я ж вам говорю: точки! Десять точек!
— Успокойся, Илюшенька, — ласково сказал я. — Сколько тебе нужно точек, столько дадим. Купим, достанем. Отдохнешь недельку-другую за городом, походишь на лыжах, авось и обойдется. А там, глядишь, и перейдешь потихонечку на запятые…
— Галя, как ты можешь нести такой крест? — уже несколько спокойнее проговорил Илья. — Жить под одной крышей с таким тупицей! Ты график помнишь? — обернулся он ко мне.
Я почувствовал, как сердце у меня в груди рванулось, как спринтер на старте. Я все понял.
— Точки на графике?
— Да. Десять точек — Солнце и девять планет.
— Но ведь…
— Интервалы соответствуют расстояниям между Солнцем и планетами. Абсолютно те же пропорции. Ты понимаешь, что это значит? Я тебя спрашиваю, ты понимаешь? Это же все. Это то, о чем мы только могли мечтать! Случайность полностью исключается. Вероятность случайного совпадения десяти чисел-это астрономическая величина с минусовым знаком. Это то, чего мы ждали, Юраня! Они не только действительно существуют — они знают, где мы!
Галя как завороженная смотрела на Илью. Вдруг она начала дрожать.
— Что с тобой? — спросил я.
— Ни-че-го, — не попадая зуб на зуб, пробормотала она.
— Ты, может быть, ляжешь?
— Не-ет, Илья, — сказала она, и я почувствовал, что Галя напряглась, как борцы, которые все еще медленно ворочали друг друга на ковре. — Илья, ты не шутишь?
— Нет, — торжественно сказал Илья. — Шутить в исторические минуты могут лишь профессионалы-остряки.
— И это правда? — с яростной настойчивостью продолжала атаковать его Галя.
— Что правда? Что ты спрашиваешь, о чем ты говоришь?
— Все, что говорил Юрка… Сны, телепатия… Это правда?
— О боже! — застонал Илья и застучал себе кулаком по лбу.
— Значит, это правда, — всхлипнула Галя и повалилась на тахту головой вниз.
Плечи ее вздрагивали. Одна домашняя туфля упала на пол, и маленькая ее пятка казалась совсем детской и беззащитной. И случилось чудо. То, чего я не мог сделать уже столько дней, сделала эта пятка. Меня захлестнул поток нежности. Эта дурочка все время была уверена, что я схожу с ума. Нежность моя смешалась с Солнечной системой и выжала из глаз слезы.
— Не нужно, Люш. — Я погладил ее плечо под голубым стеганым халатом.
— О боже, боже! — снова запричитал хором греческой трагедии Илья. — В такую минуту выяснять отношения… Нет предела человеческой глупости!
— Илья, — сказал я, продолжая поглаживать все еще вздрагивавшее Галино плечо, — а как же одиннадцатая точка? Или это еще не открытая планета?
— Ну, хоть вопрос догадался задать! Одиннадцатая точка непостоянна. Она то появляется, то исчезает, но всегда на одном и том же месте, между орбитами Марса и Юпитера. Тем самым нам говорят: это не планета, она непостоянна. Что же это? Это их корабль, который прилетел в нашу Солнечную систему. Ну? Ну? Хватит с вас, обезьянки? Можете вы прекратить вашу микроскопическую возню? Или вы на это неспособны? Одевайтесь немедленно!
— Зачем?
— Мы едем.
— Куда?
Илья скрипнул зубами, схватил меня своими ручищами и основательно тряхнул:
— К твоей Нине Сергеевне.
У меня закружилась голова. Зачем ехать к Нине Сергеевне? Выяснять отношения? Ах нет, это же по поводу графика. И я вдруг понял всем своим нутром, что говорит Илья. Он прав. Не дотянул я. Не тем оказался человеком. Мы получили доказательство контакта, первое объективное доказательство существования разумной внеземной жизни, а я, вместо того чтобы осознать все величие момента, копошусь в каких-то мелочах.
— Уже десять. Начало одиннадцатого.
— Какое это имеет значение? Десять, одиннадцать… Десять и одиннадцать точек — вот что имеет значение.
Прав, прав Илья. Какое нам дело до времени? Его сумасшедший азарт начал передаваться и мне. Уходили назад, теряли резкость волнения последних дней. Нина, Галя. Галя, Нина. Илья прав. Тысячу раз прав!
— Вставай! — крикнул я Гале. — Илья прав, надо ехать, немедленно!
— К этой Нине Сергеевне?
— К ней.
— Я…
— Ну! — сжал кулаки Илья. — Брось свои бабские штучки! Ты же выше этих глупостей! Ты же человек, а не кухонное животное!
Галя вскочила на ноги и вдруг чмокнула Илью в щеку. О боже, мир положительно непознаваем.
— Я люблю тебя! — пропела Галя и умчалась в ванную.
Я начал натягивать на себя брюки.
— Как ты догадался? — спросил я Илью.
— Если бы я… Это не я. Я разговаривал с одним приятелем по телефону. Так, о делах. Он физик. А в голове все время сидит график. Мы кончили, он мне говорит «пока», а я говорю: «Боря, что могли бы значить десять точек, интервалы между которыми всё увеличиваются?» Он говорит: «Не знаю. Планет, например, девять, а что такое десять — не знаю!» И смеется, дубина. Сострил. Я кладу трубку, достаю график и начинаю смотреть на него. Десять точек. И интервалы слева направо всё увеличиваются. И точки как планеты, только все одинаковые. И тогда, как в трансе, я взял карандаш и нарисовал новый график. Первая точка, первая слева, — Солнце. За ней, почти рядом, — крошечный Меркурий, дальше — Венера, Земля, Марс, Юпитер и так далее. Сердце у меня заколотилось, на лбу выступила испарина. Но расстояния, расстояния между планетами? Мне вспомнилось, что где-то у меня валяется не то «Занимательная астрономия», не то что-то в этом духе. Я рухнул на четвереньки и начал по-собачьи перерывать все книги. Первый и последний раз в жизни я пожалел, что у меня нет книжного шкафа. Я нашел книги, которые считал потерянными. Я нашел книжку Данема «Еретики и герои», из-за которой поссорился с Венькой Дерибиным: я обвинил его, что он не вернул мне эту книгу. Ни занимательной, ни какой-либо другой астрономии у меня не было. Я выскочил из квартиры и помчался вниз по лестнице. Люди шарахались от меня, дети начинали плакать. На бегу я посмотрел на себя. Я был покрыт пылью, как паломник, пришедший пешком в Мекку из Австралии. Но отряхиваться было некогда.
Я бросился под колеса автокрана. Машина затормозила, я молниеносно вознесся в кабину и крикнул адрес своего института. У нас есть там библиотека. Шофер посмотрел на меня с ужасом и состраданием.
«Рожает?» — спросил он.
«Что рожает?» — в свою очередь спросил я.
«Жена».
«Нет, у меня нет жены. Мне нужна Солнечная система».
Водитель опасливо отодвинулся, но не особенно далеко, все-таки надо было вести машину.
В институте никого уже не было. Одна вахтерша.
«Марья Гавриловна, — говорю я, — мне нужно в библиотеку».
«Да что вы, товарищ Плошкин, — отвечает Марья Гавриловна, — давно все закрыто».
«Марья Гавриловна, мне очень нужно в библиотеку».
Марья Гавриловна поправляет пояс, на котором висит пустая кобура, и повторяет, что библиотека закрыта.
Тогда я опускаюсь на колени и слезно прошу ее пройти ровно на три минуты вместе со мной в библиотеку и вместе со мной оттуда выйти.
Вахтерша вдруг всхлипнула:
«Вот и Ванечка мой такой же настырненький. В армии он сейчас. Вот как войдет ему что в голову, вынь да положь. Раз, еще в классу в седьмом был, говорит мне: буду, мол, мама, ученым-физиком».
«Ну и что?» — спрашиваю я, все еще стоя на коленях.
«Стал, — радостно всхлипнула Марья Гавриловна. — Из аспирантуры армию-то взяли. Ну что мне с вами, товарищ Плошкин, делать? Пошли».
Я забыл, что покрыт пылью, и бросился целовать вахтершу так пылко, как не целовали, наверно, ни одного вахтера при исполнении служебных обязанностей.
— Я готова, — пропела звонким голоском Галя, входя в комнату.
Я посмотрел на нее и ахнул. Давно уж она не казалась мне такой победно красивой.
Я запер квартиру, мы пошли вниз к машине, а Илья продолжал рассказывать:
— Что вам сказать, мои маленькие, глупые друзья? Я нашел старую добрую «Занимательную астрономию» старого доброго Перельмана, да будет земля ему пухом, и выписал оттуда расстояние планет от Солнца в астрономических единицах. Астрономическая единица, если вы помните, — это расстояние от Земли до Солнца. Приблизительно сто пятьдесят миллионов километров. Меркурий — ноль целых тридцать девять сотых, Венераноль семьдесят две и так далее до Плутона, который отстоит…
— Илья, а куда ехать? — перебил я его.
— Улица Зорге. Знаешь, где это?
— Где-то около Новопесчаной или, как она теперь называется, улица Ульбрихта. Там найдем… А как ты узнал адрес?
— У нее самой. Я измерил расстояние между точками на графике и сравнил с таблицей, которую выписал из Перельмана. Пропорции абсолютно те же.
— Илюша, ты гений! Пыльный, но гений, — сказала с твердой убежденностью в голосе Галя.
— Другой стал бы спорить, — шумно, по-коровьи вздохнул мой друг.
Было около нуля, я это знал точно, потому что снежинки таяли на ветровом стекле «Москвича» и тут же снова замерзали. Я попробовал включить обдув. Нет, двигатель еще толком не прогрелся.
Дом мы нашли быстрее, чем я рассчитывал.
— Я быстро, — сказал Илья.
— А мы? — спросила Галя.
Сегодня был ее час. Сегодня она чувствовала себя победительницей. Сегодня она взяла в союзницы Солнечную систему. Ах, Галка, Галка, экая ты воительница!
Я повернул голову и посмотрел на жену. Она посмотрела на меня. Может быть, мне показалось, а может быть, у нее действительно сверкнула в глазу крошечным бриллиантиком слезинка.
— Люш, — сказал я.
— Тш-ш, — прошептала Галя, — молчи…
Я замолчал, а она положила свою голову мне на плечо. Я вдруг подумал, что это глупо — Илья пошел к Нине Сергеевне, а я сижу с Галей в машине. Но все в этот вечер потеряло смысл или приобрело — кто знает.
Илья открыл дверцу, и я вздрогнул от неожиданности.
— Знакомьтесь, — сказал Илья. — Юру Чернова вам представлять не надо, а это Галя, его жена. Нина Сергеевна — старший научный сотрудник.
Только теперь, продемонстрировав свои права на меня и нашу близость, Галя быстро подняла голову, пробормотала: «Простите», и обернулась к Нине. Ах ты маленькая хитрая дрянь, подумал я. Вопреки ожиданию, я не чувствовал себя несчастным, сидя с этими двумя женщинами. Наоборот, мне стало легко и весело. Я был в точке, где притяжения с двух сторон взаимно уравновешивают друг друга, и плавал в невесомости, как У в одном из последних снов.
— Как ехать, Нина Сергеевна? — спросил Илья.
— А вы… уверены? Мы ведь будем у профессора в полдвенадцатого… Так поздно…
— И вы тоже… Ученый называется! Великие открытия делаются от одиннадцати до часу по четвергам.
Нина засмеялась:
— Наверное, вы правы. Поехали. Ах да, я же не объяснила, куда ехать. Улица Дмитрия Ульянова. Вы знаете, где это, Юрий Михайлович?
Не Юра, а Юрий Михайлович. О женское чутье! О женский такт!
— Знаю, — сказал я. — Я все знаю. Вы хоть позвонили бы профессору.
— Господи, — сказала Нина, — я не сообразила в этой суматохе!
Вначале они минут пять или десять спорили, звонить или не звонить. Затем подряд два автомата оказались неисправными. На углу Красной Пресни автомат работал, но было занято. В результате мы приехали на улицу Ульянова без звонка. Был уже двенадцатый час в начале.
— Идем все вместе, — строго сказал Илья и быстро погнал нас, как стадо гусей, к подъезду.
Кнопку звонка нажал он. Никто не ответил.
— Не может быть, — пробормотала Нина, — ведь я же сама звонила. Было занято.
За дверью, обитой коричневым дерматином, послышались шаги. Вспыхнул глазок и тут же потемнел — должно быть, в него посмотрели.
Дверь открылась. Профессор стоял в пижаме и смотрел на нас. Пижама была выглажена почти столь же тщательно, как и костюм, в котором я его видел. Редкие легкие волосы тщательно причесаны. Интересно, промелькнуло у меня в голове, он спит лежа или стоя?
— Простите, Борис Константинович, — нервно сказала Нина. — Уже поздно, я понимаю…
Профессор молча осмотрел нас всех. Настороженность в его глазах постепенно испарилась. А может быть, он просто просыпался.
— Добрый вечер, — сказал он и сделал приглашающий жест рукой.
Мы вошли в комнату, но не сели.
— Борис Константинович, позвольте вам представить, — сказала Нина, — это жена Юрия Михайловича, а это его друг…
Нина замешкалась, и я понял, что она даже не запомнила имени Ильи.
— И чему же я обязан столь неожиданным визитом? — сухо спросил профессор, так и не кивнув и не пригласив нас сесть.
— Только что выяснилось, что точки на графике быстрого сна Юрия Михайловича полностью соответствуют расстоянию планет Солнечной системы от Солнца, — быстро проговорила Нина Сергеевна.
— И кто же это выяснил, позвольте узнать? — спросил профессор.
— Я, с вашего разрешения, — сказал Илья и полупоклонился. Большой, пыльный, помятый, он все равно являл собой зрелище внушительное.
— Где график? — строго спросил профессор.
— Вот. — Илья стащил с себя куртку, швырнул ее, не глядя, на кресло в чехле и вытащил из кармана листок бумаги. — А это — расстояния планет от Солнца в астрономических единицах. Вот пропорция, которую я составил. Вот пересчет.
— Линейка у вас есть? — спросил все так же строго профессор.
— Нет.
— Машенька, — сказал, не повышая голоса, профессор, и в комнату тут же влетела крошечная немолодая женщина.
Я готов был поклясться, что она караулила у двери, ожидая, пока ее позовут. Женщина стыдливо кивнула нам и замерла, глядя на Бориса Константиновича. Похоже, что она робот, подумал я.
— Машенька, — не отрывая взгляда от графика, сказал профессор, — Витя дома?
— Нет, — пробормотала профессорша испуганно.
— Посмотри, пожалуйста, в его комнате, нет ли у него линейки и готовальни. Или хотя бы линейки.
Так же стремительно, как вошла, профессорша выскочила из комнаты. Старая школа, подумал я, теперь таких жен не выпускают.
Профессор сел за стол, не глядя протянул руку, в которую запыхавшаяся профессорша вложила линейку, и принялся измерять расстояния на графике.
Мы молча стояли вокруг стола. Профессорша тихонько отошла к двери — наверное, ее обычное место — и тоже замерла. На серванте торопливо тикали старинные бронзовые часы. Кусок циферблата был отбит. Как раз на двенадцати — времени, к которому стрелки подходили уже вплотную.
— Вы теорию вероятности знаете? — спросил наконец Борис Константинович Илью.
— Нет, я, знаете, по образованию гуманитарий.
— Так вот, вероятность случайного совпадения равна практически нулю.
— Значит… — тихо сказала Нина, и профессор внимательно посмотрел на нее, словно видел в первый раз.
— Значит, мы сейчас будем пить чай, — сказал профессор и вдруг засмеялся. — Я подумал о том, какая будет физиономия у Штакетникова… Машенька!
Профессорша-робот застыла по стойке «смирно».
— Машенька, организуй, пожалуйста, нам чай и посмотри у Вити, есть ли у него что-нибудь выпить.
Профессор опять неумело прыснул и повернулся к Нине:
— Нет, Нина Сергеевна, вы представляете себе, какая будет физиономия у Штакетникова?
Боже правый и милосердный, подумал я, как люди по-разному реагируют на великие события! Одни подбрасывают к потолку чужих жен, другие плачут, а третьи думают о выражении лица Штакетникова. Нет, я ошибся. Профессорша не могла быть роботом. Роботы не могут работать с такой скоростью. За одну минуту стол накрылся скатертью, скатерть — тарелками с сыром, колбасой, вареньем двух сортов, рюмками и едва начатой бутылкой коньяка, не говоря уж о чайнике. Молодец Витя. Все-то у тебя есть, от линейки до коньяка. Мне бы такого Витю…
— Сядь с нами, Машенька, — сказал профессор и принялся разливать коньяк по рюмкам.
Машенька стремительно бросилась к столу и застыла на краешке стула. Когда профессор выйдет на пенсию, он сможет неплохо зарабатывать. Демонстрация высшей дрессуры супруги.
Профессор поднял рюмку:
— Один мой знакомый американский психолог говорил мне, что самые доверчивые люди на свете — ученые. Никого нельзя так легко одурачить, как ученого. И действительно, сколько ученых мужей попадалось на удочку всяческих шарлатанов! А почему? Потому что ученый привык доверять фактам. И как бы ни были необычны факты, он вынужден принять их. Но если бы ученые не были доверчивы, не было бы науки, ибо все новое всегда кажется абсурдным, как казалось, например, абсурдным Французской академии идея, что с неба могут падать камни. Когда Юрий Михайлович в первый раз пришел ко мне, я не хотел слушать его. То, что он говорил, было фантастично. Но теперь это факты. И я должен им верить. И должен заставить верить других. Ибо ученый — это еще и миссионер, который должен всегда стремиться обращать людей в свою веру. Выпьем за великие факты, свидетелями которых мы с вами стали, выпьем за веру в науку.
Мы все выпили. Профессорша тоже выпила свой коньяк, не сводя взгляда с мужа. Пила она синхронно с ним.
Потом мы выпили за интеллектуальное бесстрашие и за братьев по разуму. Потом за Контакт.
— Машенька, — сказал профессор, — посмотри у Вити, нет ли у него чего-нибудь еще… эдакого…
Старушку как ветром сдуло и принесло обратно уже с бутылкой рома «Гавана-клуб». Профессорша прижимала бутылку к груди.
— Борис Константинович, — сказал я, — знаете, как я определил про себя ваши глаза?
— Как?
— Я решил, что у вас глаза участкового уполномоченного.
— По-ра-зи-тельно! — крикнул профессор.
— Почему?
— Потому что я в молодости работал в милиции.
Мы выпили за нашу милицию. Илья что-то шептал Гале на ухо, и она мелко тряслась от смеха.
— Дорогой профессор! — сказал я и почувствовал, что профессор вот-вот раздвоится и что надо его предупредить об этом. — Дорогой Борис Константинович! Я хотел вас предупредить… — Я забыл, о чем хотел предупредить профессора, но он уже не слушал меня.
— Машень-ка! — позвал он, и мне показалось, что голос его звучит уже не так, как раньше. А может быть, это я уже плохо слышал. — Машень-ка! Посмотри, нет ли у Вити чего-нибудь… Ром не годится.
Я посмотрел на бутылку «Гавана-клуб». Она была пуста.
Ночь постепенно теряла четкие очертания. Машенька еще дважды ходила к Вите, и Витин дух послал нам бутылку «Экстры» и бутылку «Саперави». Эту бутылку профессорша чуть не уронила, так как споткнулась об Илюшину ногу, и Илья поймал ее на лету.
Потом пришел какой-то немолодой лысоватый человек, назвавшийся Витей, и я доказывал ему, что Витей он быть не может, потому что Витя — это ребенок, мальчик такой ма-а-аленький, которому негде спать, так как злые родители заставили всю его комнату бутылками.
Лысоватый человек почему-то пожал мне руку и со слезами на глазах признался, что он все-таки профессорский сын и сам профессор.
Я сказал ему, что профессорский сын и профессор — совсем разные вещи, но он пошел в свою комнату, принес оттуда бутылку венгерского джина и какую-то книжечку, которую он все порывался показать мне, уверяя, что из нее я узнаю о его звании.
Потом он танцевал с Ниной, и Нина сбросила туфли, и мне было смешно и грустно одновременно, потому что все были такими милыми, что сердце у меня сжималось от любви к ним всем.
ГЛАВА XIII
Нина позвонила мне домой и передала просьбу Бориса Константиновича приехать к трем часам в институт. Оказалось, что он идет к директору и хочет, чтобы я был наготове.
— Посидите в приемной с Ниной Сергеевной. Может быть, вам придется продемонстрировать еще раз свои способности, — сказал профессор, когда я примчался к нему.
Мы пошли к кабинету директора института. Впереди — решительный Борис Константинович, за ним — Нина, а за ней уже и я.
— Оленька, Валерий Николаевич у себя? — кивнул профессор на дверь, на которой красовалась табличка «В.Н.Ногинцев». — Он назначил мне аудиенцию ровно на три.
Оленька, существо лет восемнадцати с ниспадающими на плечи русыми волосами, подняла глаза от книжки, которая лежала на пишущей машинке, и кивнула.
— Сейчас, Борис Константинович. — Она нажала на какой-то рычажок и сказала: — Валерий Николаевич, к вам Борис Константинович Данилин.
— Попроси его, пожалуйста, — послышался из динамика низкий мужской голос.
Именно такими голосами должны обладать, по моему глубокому убеждению, обитатели больших кабинетов, перед которыми сидят секретарши с длинными русыми волосами.
Борис Константинович коротко кивнул нам и исчез за обитой черным дерматином дверью.
— Здравствуйте, Борис Константинович, — послышалось в динамике.
— Добрый день, Валерий Николаевич, — ответил голос профессора.
Русоволосое существо потянулось к рычажку, и я вдруг неожиданно для самого себя сказал:
— Оленька, дитя мое, а зачем лишать нас маленького удовольствия? Дайте нам послушать, о чем будут говорить ученые мужи.
— Нельзя, — сказала Оленька, но динамик не выключила.
— А такой красивой быть можно? — спросил я и сам покраснел от бесстыжести своей лести.
Оленька прыснула и посмотрела на Нину Сергеевну.
— Да ничего, он свой. — Нина кивнула в мою сторону с видом заговорщика.
— Ладно, только никому ни слова, а то Валерий Николаевич знаете что мне сделает…
Я не знал, что он сделает Оленьке, но особенно за нее не волновался. Судя по ее манерам, еще большой вопрос, кто кому больше сделать может — директор Оленьке или Оленька директору.
— Валерий Николаевич, я к вам по не совсем обычному делу, — сказал Борис Константинович, и, даже пропущенный через сито динамика, голос его звучал напряженно.
— Слушаю вас.
— В нашу лабораторию сна пришел молодой человек, двадцати пяти лет, и попросил, чтобы мы определили, какой характер носят его сновидения.
— И что же снится молодым людям в наши дни? — мягко забулькал директорский бархатный бас. — Неужели не то, что снилось нам?
— Нет, Валерий Николаевич, — твердо, без улыбки в голосе сказал профессор, сразу же уводя разговор в сторону от предложенной директором слегка шуточной тропинки. — Юрию Михайловичу Чернову снится незнакомая планета, которую он называет Янтарной, так как именно этот цвет преобладает там. Юрий Михайлович уверен, что эти сновидения — не что иное, как мысленная связь, установленная с ним обитателями этой планеты.
Мне стало зябко, и по спине пробежал озноб. Только сейчас я понял до конца, кем должен выглядеть в глазах нормального человека.
— Гм, гм! — басовито кашлянул директор, и в глухих раскатах его голоса можно было уловить приличествующее случаю сочувствие. — Нужно ему помочь?
— Да. Но речь идет вовсе не о психиатрической клинике. Дело в том, Валерий Николаевич, что идеи Юрия Михайловича не заболевание и не иллюзия.
— То есть?… — Голос директора прозвучал чуть суше, словно влажный и мягкий его бас слегка подсушило нетерпение.
Я почувствовал, что изо всех сил сжимаю подлокотники зеленого кресла. Каково же сейчас Борису Константиновичу? Милый, несимпатичный, упрямый и несгибаемый профессор.
— Мы имеем все основания считать, что Юрий Михайлович не ошибается, что с ним установили связь представители некой внеземной цивилизации.
— Очень мило, — облегченно засмеялся директор. — Я, признаться, не подозревал, уважаемый Борис Константинович, что вы у нас шутник-с…
— Я понимаю вас, — сухо и твердо произнес профессор. — Я полностью отдаю себе отчет в том, какое у вас должно сейчас сложиться мнение обо мне вообще и о моих умственных способностях в частности. Я сам прошел через это, и ваш скептицизм вполне понятен.
— О чем вы говорите, какой скептицизм? — с легчайшим налетом раздражения спросил директор. — Если вы для чего-то решили подшутить надо мной, то при чем тут скептицизм? Помилуйте, уважаемый коллега…
— Валерий Николаевич, я вас не разыгрываю и не шучу с вами. Как вы, возможно, заметили, я вообще не очень склонен шутить. В нашей лаборатории проведены исследования, которые на сто процентов подтверждают вывод, о котором я уже имел честь вам сообщить.
— Да вы что, смеетесь, дорогой Борис Константинович? — В бас директора вплелись негодующие нотки.
— Я не смеюсь. Я вам уже сказал, что не смеюсь и не разыгрываю вас. Вы знаете, что за двадцать три года работы в институте я никогда не позволил себе никаких шуточек и никаких розыгрышей. Я повторяю: я не сошел с ума и не шучу. Я прошу вас только выслушать меня.
— Хорошо, — со вздохом сказал директор, и я представил себе, как он откидывается с жертвенным видом в кресле и полузакрывает глаза.
— Мы провели четыре ночных исследования Юрия Михайловича во время сна. Мы получали электроэнцефалограмму, которую дублировали регистрацией БДГ. Вот график быстрого сна испытуемого в первую ночь, во вторую, в третью и четвертую. Обратите внимание, что все периоды быстрого сна начинаются в одно и то же время и продолжаются ровно по пять минут. Вы видели когда-нибудь такую ЭЭГ?
— Довольно странная картина, согласен, но…
— Мы обратили внимание на то, что Юрий Михайлович в отличие от нормы прекрасно помнит все сновидения, во всех деталях и что сновидения последовательно знакомят его с жизнью Янтарной планеты.
— Борис Константинович!..
— Прошу прощения, Валерий Николаевич, я еще не кончил…
— Я вовсе не настаиваю, чтобы вы продолжали этот странный разговор…
— Товарищ директор, я заведующий лабораторией. Я пришел к своему директору. Я, наконец, ученый и пришел к коллеге. Выслушайте же меня спокойно…
— Хорошо, Борис Константинович, если вы настаиваете, я, разумеется, выслушаю вас до конца. Но поймите…
— Поймите вы, что я никогда не пришел бы к вам, если бы не был уверен в том, что говорю. Вы думаете, я не представляю себе, что у вас должно сейчас вертеться в голове? Старый идиот, выжил из ума, этого еще не хватало, и так далее…
— Борис Константинович, я, по-моему, не давал вам…
— Я вас ни в чем не обвиняю. Я лишь прошу, чтобы вы спокойно и беспристрастно посмотрели на графики, лежащие перед вами. Как вы видите, интервалы между короткими периодами быстрого сна всё возрастают слева направо, от первого периода до десятого. В двух случаях между пятым и шестым циклами появляется еще один, дополнительный период. Так вот, пропорция интервалов в точности соответствует пропорциям расстояний от Солнца до девяти планет. Дополнительная же точка между Марсом и Юпитером, которая то появляется, то исчезает, является, по-видимому, космическим кораблем, посланным этой Янтарной планетой. Я обратился к двум математикам с вопросом, какова вероятность случайного Совпадения десяти цифр. Такая вероятность исчезающе мала…
Пауза, которая последовала за последними словами Бориса Константиновича, все росла и росла, пока наконец директор не спросил с глубоким вздохом:
— Вы хотите уверить меня, что речь идет о телепатической связи между некой внеземной цивилизацией и вашим испытуемым. Так?
— Так.
— И вы рассчитывали, что убедите меня в реальности такой связи?
— Рассчитывал, — сказал Борис Константинович.
— Но вы же прекрасно знаете, что телепатия — это миф, фикция, выдумки шарлатанов. Для чего возвращаться к этим мифам?
— Это не миф. Перед вами на столе лежит реальность в виде графиков, составленных абсолютно корректно на основании абсолютно корректных опытов. Опыт повторен четыре раза. Возможность ошибки исключена.
— Вы читали работы, где исследуется вопрос, какова должна быть мощность мозга, чтобы он излучал сигналы, способные достигать мозга реципиента? Это же чушь, раз навсегда установленная чушь. Нет ни одной известной нам формы энергии, при помощи которой можно было бы передавать телепатическую информацию. На нашем с вами уровне обсуждать вопрос о телепатии просто несерьезно. Если бы мы с вами были двумя дикарями, тогда, может быть, мы бы могли говорить о подобной чепухе. Не буду скрывать от вас, Борис Константинович, электроэнцефалограмма действительно весьма занятная, спору нет. Но что касается всего остального… Я даже не могу подобрать слов…
— Валерий Николаевич, в вашей приемной сидит наш испытуемый. Я не хотел говорить раньше об этом, но он может продемонстрировать вам те самые телепатические способности, которые, как мы с вами знаем, не существуют.
Оленька с любопытством посмотрела на меня, чуть склонив голову набок, как собачонка, и тяжелые ее русые волосы тоже опрокинулись набок.
— Борис Константинович, вы взрослый человек, и не мне вас воспитывать. Если вы решили пропагандировать телепатию, это ваше частное дело. Но как сотрудника нашего института, как заведующего лабораторией нашего института я бы попросил вас воздержаться от столь странного хобби. Тем более, что это вовсе не ваша специальность. Вы можете выставлять себя на посмешище, ежели того желаете, но скреплять печатью научного учреждения ваши фантазии — нет, извольте уж, коллега, простить старика. Своим именем и именем института я как-то, знаете, не привык покрывать разного рода… шарлатанство.
— Валерий Николаевич, вы обвиняете меня в шарлатанстве?
— Вы сами себя обвиняете. Спасибо, что избавили меня от столь неприятной миссии.
— Прекрасно, товарищ директор. Допустим, я старый шарлатан. Прекрасно. Благодарю вас. Но вы директор института. Вы ученый. Вы член-корреспондент Академии наук. Поймайте нас на шарлатанстве. Неужели вы думаете, я не понимаю вас? Когда Юрий Михайлович впервые пришел ко мне, я тоже ничего не хотел слушать. Я говорил ему о проектах вечного двигателя, которые ни один грамотный человек не будет рассматривать. И все же он убедил меня, потому что знания не должны быть шорами на глазах.
— Не уговаривайте меня, я никогда ни за что не соглашусь участвовать в шарлатанских трюках.
— Но какая же у нас корысть…
— Дело не в корысти. Вы можете быть даже искренне уверены вместе с вашим подопечным в своей честности…
— Благодарю вас, Валерий Николаевич. Это уже большая похвала…
— Оставьте, Борис Константинович. Закончим этот тягостный разговор и давайте забудем, что мы его вели. Мы знакомы лет тридцать, наверное, и я никогда не давал вам повода сомневаться в моем добром к вам отношении.
В директорском басе снова появились очаровывающие бархатные нотки.
Надо было спасать бесстрашного Бориса Константиновича. Я встал, и Оленька испуганно взглянула на меня.
— Куда вы? — пискнула она. — Нельзя!
Но я уже входил в директорский кабинет.
Директор оказался точно таким, каким я его себе представлял: крупным седым красавцем, стареющим львом.
— Простите, я занят, — коротко бросил он, удостоив меня одной десятой взгляда.
— Я знаю, Валерий Николаевич, что вы заняты. Я как раз тот человек, из-за которого весь сыр-бор.
Директор откинулся в кресле и внимательно посмотрел на меня. Он был так велик, благообразно красив и респектабелен, что я почувствовал себя маленькой мышкой, которая пришла на прием к коту. Борис Константинович молча хмурил брови. Вид у него был встрепанный и сердитый. И вдруг мне так остро захотелось взорвать неприступную директорскую броню, что у меня зачесалось в голове. И вместе с зудом пришел шорох слов, сухой шорох струящихся мыслей. И мысли директора были такие же солидные и респектабельные, как он сам. Такие же корректные и чисто вымытые. Немолодые, но хорошо сохранившиеся мысли:
«Нелепая история… наваждение… Позвать Оленьку…»
— Вы уверены, что это нелепая история, — сказал я, — вы уверены, что это наваждение. Вы даже хотите позвать вашу прелестную девочку, чтобы она выставила меня вон…
«Чушь какая-то… Цирковой трюк…»
— Теперь вы утверждаете, что это чушь какая-то, цирковой трюк.
Краем глаза я заметил, что суровое, взволнованное лицо Бориса Константиновича тронула едва заметная улыбка, и он неумело подмигнул мне.
— Че-пу-ха! — вдруг выкрикнул Валерий Николаевич, и голос его неожиданно стал выше и пронзительнее. — Же де сосьете!
— Уверяю вас, это не салонные игры, как вы говорите. Настолько французский я знаю. Я просто слышу, что вы думаете.
«А может быть, проверить? Ловко он это делает», - пронеслось в голове у директора.
— Конечно, проверьте.
— Что проверить? — вскричал директор.
Его невозмутимая респектабельность исчезала прямо на глазах. Он становился старше, меньше, крикливее, торопливее и суетливее. Он уже больше не был львом. Даже котом, к которому пришла на поклон мышка.
— Проверьте, как ловко я это делаю.
— Не смейте! — уже совсем тонким голосом взвизгнул директор.
Прошелестела дверь. Я обернулся. В дверях стояли Оленька и Нина Сергеевна. Я подмигнул им. Я уже не нервничал и не боялся. Веселая, озорная волна подхватила меня. Опьяняющая радостная невесомость, в которую погружал меня У.
— Что не сметь?
— Не смейте читать мои мысли!
— Да позвольте же, Валерий Николаевич, разве читать чужие мысли возможно? Вы же уже полчаса утверждаете обратное. Или вы теперь согласны с тем, что я слышу чужие мысли?
— Я ни с чем не согласен, — уже несколько спокойнее отчеканил директор. Должно быть, Оленька вливала в него силы. Это элементарный трюк. Цирк. Вы видите мое лицо, вы знаете, о чем идет речь, вам вовсе не трудно догадаться, что я думаю. Я этого тем более не скрываю.
Последняя мысль, по-видимому, несколько поддержала директора, потому что он начал снова увеличиваться в размерах, опять заполняя собой вращающееся немецкое креслице.
— Вот именно, — сказал я и почувствовал, что держу аудиторию в своих руках, что рядом со мной Нина, что ее большие серые глаза смотрят на меня с восторгом и ужасом, что, наконец, на меня смотрит длинноволосая Оленька, которая, наверное, и не представляла, что с ее всемогущим шефом можно так разговаривать. — Вот именно, — повторил я. — Что же может быть проще? Я сейчас выйду из комнаты, вы напишите на листке бумаги какие-нибудь две-три фразы, вложите листок в конверт. Я вернусь в комнату и назову эти фразы. Или не назову их. И все станет ясным.
Все замолчали. И вдруг раздался Оленькин голосок:
— Ой, Валерий Николаевич, сделайте правда так!
Спасибо, Оля! Дай бог тебе хорошего мужа, а если потом дойдет до развода, то быстрого и безболезненного.
Директор института пожал плечами:
— Для того, чтобы покончить с этой нелепой сценой.
Я вышел в приемную, уселся в кресло, в котором уже сидел. Зеленая искусственная кожа на правом подлокотнике лопнула, и сквозь трещинку видна была какая-то набивка. На пишущей Оленькиной машинке все так же лежала открытая книга. Я встал и посмотрел на нее. Биология. Не поступила, наверное, готовится снова.
Я сосредоточился. Надо было отсеять ненужные слова, принадлежавшие Борису Константиновичу, Нине и Оленьке. Убей меня бог, чтобы я мог объяснить, как я это делаю.
Я услышал сухой шорох директорских мыслей: «Что бы такое написать… чтобы покончить с этой комедией?… Кто бы мог подумать, что Данилин способен на такое… Не будем отвлекаться… Что-нибудь такое, чтобы он не мог догадаться по ситуации. Что-нибудь такое, что не имеет отношения к этой сцене… Ну-с, например, что-нибудь вроде этого… «Наш институт…» Нет, это глупо. Нельзя даже упоминать институт в связи с этим шарлатанством… Однако надо что-то написать… Это становится смешно… Они смотрят на меня… Какие-нибудь стихи, может быть? Прекрасно. Что-нибудь школьное, что Оленька знает… «Ты жива еще, моя старушка?» А почему бы и нет? Пишем. «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой…» Какой там свет? Какой-то там свет? Бог с ним. Достаточно».
Пора. Я медленно вошел в директорский кабинет. Все головы повернулись ко мне. Первый раз в жизни я почувствовал себя артистом. Я закрыл глаза и приложил руку ко лбу. Нельзя же разочаровывать девушку с такими необыкновенными волосами.
– «Ты жива еще, моя старушка? — начал декламировать я чужим, деревянным голосом. — Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой…» Строка не окончена. Не Есениным, а Валерием Николаевичем. — Я подошел к столу. Можно конверт?
Директор автоматически взял конверт и протянул его мне. На мгновение мне стало даже жалко его.
— Ольга! — театральным голосом сказал я и протянул конверт Оленьке. — Прошу вскрыть и прочесть вслух.
Словно завороженная, не спуская с меня широко раскрытых глаз, Оленька протянула руку, медленно взяла конверт, открыла его, достала листок, бросила на него быстрый взгляд и громко и явственно сказала:
— Ой!
— Что «ой», дитя мое? — спросил я, самым тщеславным образом упиваясь и Оленькиным «оем», и едва сдерживаемым торжеством милого Бориса Константиновича, и слабой улыбкой Нины.
– «Ты… жива… еще… моя… старушка…» — с трудом, запинаясь, начала Оленька.
— Смелее, дитя, это же не экзамен.
— Хватит! — крикнул директор. — Я даже не спрашиваю, как вы это делаете. Телепатии не существует…
— Вообще-то, наверное, да, но в этом случае… — начал было Борис Константинович.
— Никаких «наверное», никаких «этих» и «тех» случаев! Передача мыслей на расстояние невозможна…
— Но должно же существовать какое-нибудь разумное объяснение тому, что сейчас наблюдали четыре человека? — спросил Борис Константинович. — Или оно не обязательно?
— Для меня не обязательно! — крикнул директор. — Я не цирковой режиссер, с вашего разрешения. Эффектный трюк, не спорю.
— Значит, вы не изменили своей точки зрения? — спросил Борис Константинович.
— Нет, и не изменю, пока я в здравом уме.
— Благодарю вас за любезность, товарищ директор. Хочу вас предупредить, что вынужден буду обратиться выше…
— Можете обращаться к кому угодно, уважаемый Борис Константинович, но меня от ваших бредней извольте уволить-с!
— С удовольствием! Когда ребенок капризничает, его лучше всего оставить в покое.
Директор сделал глубокий вдох и медленно со свистом выпустил воздух. Руки его изо всех сил сжимали подлокотники креслица, словно он собирался сделать стойку.
Борис Константинович пошел к выходу. Мы — за ним.
Армия отступала, сохраняя боевые порядки.
ГЛАВА XIV
Уверовавший во что-то скептик — человек, которого остановить нельзя. Борис Константинович бросился на штурм вышестоящих научных инстанций с такой яростью, что стены здравого смысла не выдержали и рухнули. Была создана специальная комиссия, в которую вошли ученые разных специальностей. Комиссия должна была изучить феномен под названием «Юрий Михайлович Чернов».
Жизнь моя окончательно вышла из привычных берегов. Меня подхватили, понесли, закружили какие-то грозно-озорные водовороты. В веселой и странной круговерти мелькали школа, Галя, Нина, Илья. Днем я отвечал на бесконечные вопросы членов комиссии, наговаривал на магнитную пленку содержание своих сновидений, а по ночам спал в лабораториях, опутанный датчиками и проводами.
В комиссию входил астроном Арам Суренович Вартанян, который был уверен, что главную ценность для науки представляют не мои сны, а информация, передаваемая с Янтарной планеты с помощью чередования периодов быстрого сна и интервалов между ними.
Высокий, смуглый и слегка кокетливый, он все время повторял:
— Меня не интересуют ваши сны, Юра. Это все разные там Четьи-Минеи и прочие толкователи вещих сновидений. Это не наука. Очень мило, очень романтично, очень красиво, но не нужно. Наука начинается с графика. Когда мне показали первые графики вашего сна, я понял, что это То. То, чего ждешь всю жизнь, если ты ученый, а не ученый канцелярист.
Тишайший и нежнейший Сенечка, биофизик лет тридцати, похожий на Иисуса Христа, если не считать земских очков в тонкой металлической оправе, окружал меня по ночам различными экранами, а однажды устроил мою постель в металлической трубе, которую использовали в каком-то институте для насыщения тканей больных кислородом.
Два психолога ежедневно терзали меня своими вопросами и тестами, пока я не догадался стравить их друг с другом, и они начали спор, который продолжался уже вторую неделю.
Примерно через день появлялся председатель комиссии академик Петелин. Академик был маленький, седенький человечек, в котором постоянно бурлила чудовищная энергия. По-моему, никакой проблемы получения термоядерной энергии не существует — существует проблема академика Петелина. Достаточно узнать, как в таком малом теле генерируется такое фантастическое количество энергии, и энергетическая проблема человечества была бы решена раз и навсегда.
Как только мы слышали за дверью стук палки Павла Дмитриевича, мы непроизвольно начинали улыбаться. Павел Дмитриевич влетал в дверь и начинал кружиться по комнате. Казалось, он с трудом удерживается, чтобы не взлететь к потолку. Кружась, он успевал все осмотреть, все спросить, все выслушать, все понять, все запомнить и все решить.
У меня своя теория, почему Павел Дмитриевич сразу поверил в меня, принял результаты первых опытов Бориса Константиновича и согласился стать председателем специальной комиссии. У меня есть серьезные основания подозревать, что старый волшебник тоже мыслит не совсем обычным образом. Сколько раз он смотрел мне в глаза и говорил, о чем я думаю. Не с такой точностью, конечно, как я, но попадание в цель бывало неизменным. Когда я спрашивал его об этом, он заливался мелким бесовским смешком и подмигивал мне.
— Люди, — говорил он, — в сущности, довольно однообразные объекты, куда однообразнее, чем объекты, скажем, астрономические. А я — весьма старый хрыч и неплохо изучил их. Вот ты сейчас, похоже, думаешь, что старый хрыч кокетничает…
— Павел Дмитриевич, как вы можете…
— Ага, попал! Один ноль в пользу академии.
Павел Дмитриевич хитро щурился и спрашивал:
— Хотите, я открою вам секрет, как я сделал научную карьеру?
— Хочу, Павел Дмитриевич.
— Прежде всего я по натуре страшный лентяй и бездельник. Да-да, Юрий Михайлович, я не шучу. Но сколько я себя помню, я всегда был человеком энергичным. Энергия, помноженная на лень, дает, как правило, незаурядные результаты. Кроме того, я легко классифицируюсь. Чудак профессор, сумасброд. Это же тип. Клише. Стандарт. А в наш унифицированный век что может быть лучше и приятней; чем человеческое клише? Не надо думать, кто он и что он, чем дышит и что носит за пазухой. Это как поздравительная телеграмма. Номер три — розочки. Номер семь — голубки на карнизе. Номер десять — чудак профессор. И все рады. Ага, Петелин? Да это же номер десять.
— Павел Дмитриевич, вы меня разыгрываете.
— Конечно, разыгрываю. Неужели я буду говорить с вами серьезно? Серьезно я говорю только со своими врагами.
— А у вас есть враги?
— Ученый, у которого нет врагов, не имеет права называться ученым.
— И много их у вас?
— Много, ох, как много! Знаете, что меня спасает?
— Что?
— Их количество. Враги опасны лишь в небольшом количестве. Когда их становится очень много, они обязательно начинают враждовать друг с другом. А враги твоих врагов — это уже почти друзья. — Академик лихо подмигнул мне и добавил: — А потом вот эта палка! Ну его, думают мои враги, еще врежет, старый дурак.
Академик снова раскатывал горох озорного смешка.
И семейная моя жизнь тоже стала какой-то зыбкой и неопределенной. Галя была той же и одновременно другой. То ли это объяснялось недавними нашими размолвками, то ли она никак не могла привыкнуть к мысли, что живет под одной крышей с космическим телепатом, — не знаю. Внешне отношения наши были вполне нормальными, но у меня все время было ощущение, что мы идем по тонкому льду. То ли выдержит, то ли треснет. А когда подсознательно ждешь все время зловещего хруста, ты, естественно, напряжен. А напряженное состояние никак не способствует благополучному плаванию семейного корабля.
И с Ниной я продолжал видеться регулярно, так как она и Борис Константинович тоже входили в комиссию академика Петелина. По какому-то молчаливому соглашению мы избегали разговоров на личные темы, но порой мне казалось, что это только этап в наших отношениях, железнодорожный перегон, на котором поезд идет без остановок. Но остановки будут, они впереди.
Нина была такой же красивой, как и раньше, а может быть, даже стала еще красивей, и своим обостренным чутьем собаки, развалившейся на сене, я начал замечать пылкие взгляды элегантного Арама Суреновича в ее сторону.
В школе, разумеется, ничего не знали о моих делах. Академик Петелин в первый же день, когда собралась комиссия, сказал, что во избежание ненужной шумихи, сенсаций, кривотолков принято решение пока сохранять работу в тайне, и попросил нас соблюдать ее.
Но поскольку мне почти каждый день нужно было куда-то бежать, я то и дело вынужден был переносить свои уроки, отменять классные собрания и избегать наиболее энергичных родителей.
В один из дней наша директриса Вера Константиновна призвала меня к себе в кабинет.
— Садитесь, Юрий Михайлович, — кивнула она мне и принялась перекладывать бумаги на столе с места на место.
Я сел и вопросительно посмотрел на нее.
— Юрий Михайлович, нам предстоит не совсем приятный разговор. Вы догадываетесь, о чем?
Я вздохнул шумно и виновато.
— Конечно, Вера Константиновна. И не только догадываюсь, я полностью разделяю мысли и чувства, которые владеют вами.
Суровое лицо директрисы, которого никогда не касалась никакая косметика, начало медленно багроветь, и я подумал, что цвет этот очень идет к ее седеющим волосам, туго стянутым в аскетический наробразовский узел.
— И вы еще позволяете себе… — начала было она.
Но я ее прервал:
— Я ничего не хочу позволять себе. Я сам прекрасно понимаю и вполне согласен с вами, что Чернов очень изменился, причем в худшую сторону.
Вера Константиновна достала из кармана носовой платок и трубно высморкалась. Звук был чистый и сильный. У нее не было никакого насморка, ей просто хотелось выиграть время.
— И что же, вы с этим согласны? — Платок она не убрала, держала в руке наготове, чтобы в случае необходимости снова выиграть время.
— Я уже сказал вам, что полностью разделяю ваши мысли и чувства. У меня сейчас просто в жизни трудный период… — Я на мгновение остановился, чтобы выбрать между несуществующей аспирантурой и несуществующими болезнями, и выбрал аспирантуру. — Я поступаю в аспирантуру…
— В очную?
— Нет, в заочную. Вы представляете, какие это хлопоты, особенно для учителя…
Тонкие губы Веры Константиновны были по-прежнему неодобрительно поджаты.
— Уверяю вас, мне самому неприятно, что я вынужден так манкировать своими обязанностями. В ближайшее время я надеюсь освободиться…
— Хорошо, Юрий Михайлович. Я подожду. Но, надеюсь, вы понимаете, что долго так продолжаться не может…
Это случилось на перемене между первым и вторым уроками. Я сидел на своем обычном месте между шкафом с математическими наглядными пособиями, ключ от которого был потерян еще предыдущими поколениями учителей, и весьма развинченным невысоким скелетом, каждый год терявшим по нескольку костей. На шкафу, как раз на уровне моих глаз, был прибит овальный инвентарный номерок. Семнадцать тридцать один. Я сосредоточенно смотрел на номер и думал, что более нелепых цифр не придумаешь. Ни на что их не разделишь, а перемножить их в уме я безуспешно пытался уже несколько лет.
И вдруг что-то произошло в моей голове. Я услышал звук включенного, но не настроенного на станцию приемника. Звук тишины, которая вот-вот должна прорваться звуком. Но звука не было. Вместо него в этой гулкой тишине моей черепной коробки начала копошиться какая-то мысль. Даже не мысль, а мыслишка. Нечто крошечное, неясное, но беспокойное. Она все ворочалась, крутилась, не находя себе места, постепенно росла и крепла. Но к сознанию еще не всплывала. Быть может, не обладай я опытом Янтарной планеты, я бы не обратил внимания на свое состояние. Мало ли что у кого зреет в голове. От теории относительности до решения написать анонимку. Но я прислушивался к себе, как больной, ловящий малейшие симптомы. И мысль наконец оторвалась от дна подсознания и начала медленно подниматься к поверхности. И превратилась уже в нечто, что я знал и ощущал.
А знал я, что на Земле есть еще кто-то, кто обладает такими же способностями, что и я, и кто связан той же нитью с Янтарной планетой, что и я. Не спрашивайте меня, как я это знал. Я не смогу ответить на этот вопрос. Я знал. Я был уверен. Во мне не было ни малейшего сомнения.
И знание это было приятно. Только в этот момент я осознал до конца, каким одиноким я был до сих пор. Один. Один среди миллиардов, выбранный У. Да, меня окружали люди, которые не отвернулись, поддержали, поверив в невероятное, но они полагались только на мои слова. А слова не могли передать ни гармонии плавных янтарных холмов, которую слышишь, паря над ними, ни полного растворения в братьях в Кольце Зова, ни мелодии Завершения Узора, ни самого цвета Янтарной планеты. Слова были слишком грубым инструментом, не рассчитанным на незнакомый мир. И я был в плену Янтарной планеты, отгороженный от людей стеной пустых слов, которые я пробовал и отбрасывал, убедившись в их слабости, тусклости, сухости.
И вот теперь где-то на Земле объявилась живая душа, и мне не нужно будет слов, чтобы разделить с ней счастье знакомства с народом У. Мне стало так хорошо, так радостно, что я тут же впервые в жизни перемножил в уме семнадцать и тридцать один — волшебные цифры с таинственного инвентарного номерка. Пятьсот двадцать семь — какое прекрасное число!
В кресле сидел математик Семен Александрович. Почему всегда в какие-то очень важные для меня минуты взгляд мой обращается на нашего математика? Милый Семен Александрович, отнимите классный журнал от груди, и тогда с вами тоже случится что-нибудь удивительное. Может быть, вам пронзит сердце стрела Амура, прикинувшегося нашим школьным скелетом без половины костей. Амур попадет в вас, и вы влюбитесь в нашу директрису Веру Константиновну. А она в вас. И вместо педагогического сурового пучка на голове сделает себе необыкновенную прическу. А вы придете в пестрой модной рубашке с широким галстуком.
Нет, это, к сожалению, была маловероятная картина. Не из-за Амура, нет. Амур — это просто. Но вот пучок Веры Константиновны — тут и трех Амуров было бы мало.
И все-таки мне нестерпимо хотелось приобщить Семена Александровича к счастью. Я подошел к нему.
— Семен Александрович, — спросил я его, чувствуя себя посланцем судьбы, — хотите, я открою ваш шкаф с вашими усеченными пирамидами?
Математик ушел в глубь кресла и выход из него забаррикадировал классным журналом с чернильной кляксой в правом верхнем углу.
— Э… ключа у нас нет…
— Может быть, закажем новый?
Семен Александрович посмотрел на меня с испугом, будто я предложил ему взорвать школу и ограбить кассу взаимопомощи.
Я подошел к шкафу. Синяя цветная бумага за стеклянными дверцами давно выгорела. Я взялся за ручку и несильно дернул. С печальным скрипом, с которым рушатся легенды, дверца открылась.
— Вот, Семен Александрович, — гордо и великодушно сказал я, — вам подарок. От нас двоих.
Прозвенел звонок, но Семен Александрович не шел на урок. Мелкими шажками он бочком, по-крабьи, подходил к шкафу и вдруг коршуном бросился к нему. С блуждающей улыбкой тайного развратника он выхватывал из его пыльных глубин пирамиды и кубы, прямоугольники и параллелепипеды и дрожащей рукой стирал с них густую школьную пыль.
Девятый «А» я не слишком долюбливаю. Брезгливые снобы, делающие мне одолжение уже своим присутствием. Но сегодня и они показались мне милыми.
— Сегодня объявляется однодневный мораторий на двойки в честь выдающегося события, только что происшедшего в нашей школе, — голосом Левитана сказал я.
— Какого? — заверещали девицы девятого «А», славящиеся своим сорочьим любопытством.
— Был открыт шкаф с математическими пособиями.
Девицы разочарованно хмыкнули. Конечно, они бы предпочли объявление о помолвке Веры Константиновны и Семена Александровича, но, увы, этого я им предложить не мог.
Из школы я пошел домой пешком. Потеплело. Снег весь растаял, шел мельчайший дождь. Даже не дождь, а водяная пыль. И никуда она не шла, а висела в воздухе. Две малышки, пританцовывая, промчались мимо меня. С портфельчиками на спине, с косичками, висящими из-под шапочек. А почему бы и мне не пойти пританцовывающим шагом?
Я зашел в булочную, купил наш дневной хлебный рацион, захватил из овощного магазина пакет картофеля и принялся разогревать себе обед.
И вдруг снова гулкая тишина в голове. Ожидание, что я не один. И что тот второй знает, что есть я. Неважно, знает ли он, кто я и где я, но он знает, что я есть. Я в этом уверен так же, как и в том, что тот второй знает о Янтарной планете. Уверен, знаю.
Я посмотрел на часы. Уже четыре. В пять часов на комиссию должен был прийти Павел Дмитриевич.
Я не стал мыть посуду и помчался в институт, где нам было выделено две комнатки.
— Павел Дмитриевич, — сказал я, когда он влетел в дверь ровно в пять ноль-ноль, — произошло еще одно событие.
Все повернулись ко мне, а председатель комиссии вкусно облизнулся, словно предвкушая что-то интересное.
— Что же, Юрий Михайлович?
— Сегодня я узнал, что на Земле есть еще один человек, который, как и я, принимает сигналы с Янтарной планеты.
— Где он? — Павел Дмитриевич сделал видимое усилие, чтобы не взлететь со стула вверх.
— Не знаю.
— Откуда же вам известно о его существовании?
— Я получил сигнал. Я просто понял, узнал, что такой человек есть. Если вас интересует, я могу даже точно назвать вам время. Так… Это произошло на перемене между первым и вторым уроком. Значит, было это примерно в девять двадцать.
— Какого рода сигнал? — спросил Арам Суренович и почему-то взглянул на Нину, сидевшую у окна.
— Не могу сказать вам точно. Такое ощущение… будто включили приемник, а на станцию не настроили. Тишина, которая таит в себе звук, так, что ли. Гулкая тишина. И какая-то копошащаяся мыслишка. Неясная. И сразу знание. Уверенность.
— Четкая? — застенчиво спросил биофизик Сенечка.
— Что четкая? Уверенность? Абсолютно. Как таблица умножения.
— А что, кто, где? — спросил Павел Дмитриевич.
— Ничего не знаю. Знаю только, что такой человек существует. Знаю, что это человек. Знаю, что он знает обо мне. И все.
— Ах, как было бы хорошо найти его! — вздохнул председатель комиссии. — Представляете, что бы это значило? Если и этот человек получает информацию в форме сновидений и если эта информация совпадает с информацией, которую получает Юрий Михайлович, это значит, что отпадают последние сомнения в существовании такой информации.
— Мы бы посмотрели тогда, как запищали бы скептики вроде Ногинцева, — мечтательно сказал Борис Константинович.
— Ногинцев пищать не может, — сказал Павел Дмитриевич. — У него бас.
— Пускай пищит басом, — предложил Арам Суренович и победно посмотрел на Нину.
— Мы смогли бы опубликовать свои работы, — стыдливо пробормотал биофизик Сенечка и, чтобы не видеть собственного смущения, снял свои земские очки в металлической оправе.
Почему я мысленно называл его очки земскими, объяснить не могу. Земская управа, земский врач, врач Чехов. Не знаю.
— Пока об этом не может быть и речи, — отрубил Павел Дмитриевич и поставил точку, стукнув палкой об пол. Точка получилась мягкая, наконечник на палке был резиновый. — Не может быть и речи! Это было одним из условий при организации комиссии, и я с ним полностью согласен. Вы представляете, какой шум начался бы? Нашего Юру разорвали бы на кусочки. А он нам пока нужен целиком… Послушайте, а вот эти два сигнала — сигнал о том, что есть человек, знающий о Янтарной планете, и что этот человек знает о вашем существовании, вы их получили одновременно?
— Нет. Сначала я узнал о его существовании, а потом, уже около четырех часов, когда я собирался выйти из дому, я получил второй сигнал.
— Характер тот же, что и утром?
— Вы имеете в виду субъективные ощущения? Да.
— Будем надеяться, что Юра сможет уточнить информацию. Это было бы просто замечательно…
— Ногинцев… — начал было Борис Константинович.
Но Петелин оборвал его:
— Что-то я не пойму, друзья мои, чем мы здесь заняты. Выяснением, не осуществился ли первый контакт с внеземной цивилизацией, или утиранием носа уважаемому Валерию Николаевичу Ногинцеву?
— Одно не исключает другого, Павел Дмитриевич, — сказал Арам Суренович.
— Вы правы, дорогой мой, — улыбнулся председатель комиссии. — Если в малом великое найти нелегко, в великом малое, как правило, можно обнаружить без особого труда. Так, Борис Константинович? Карфаген должен быть разрушен. Ногинцеву должен быть утерт нос?
— Должен, — с яростной уверенностью мстителя кивнул Борис Константинович.
— Ого, темперамент, однако, у вас! Не хотел бы я быть на месте вашего директора института и иметь такого сотрудника, как вы… Друзья мои, мне кажется, что сегодня Юрия Михайловича нужно отпустить с миром. Может быть, в спокойной обстановке он быстрее получит какую-нибудь дополнительную информацию о своем коллеге… Ах, как было бы хорошо найти его! Вы только подумайте, что бы это дало нам! Прямо дух захватывает, а у меня, у старого хрыча, дух захватить нелегко, поверьте мне… Юрий Михайлович, если что-нибудь прояснится, звоните мне тут же, в любое время суток.
ГЛАВА XV
Почти две недели я ничего нового рассказать Павлу Дмитриевичу не мог. В один прекрасный вечер в начале декабря Вася Жигалин зазвал нас поиграть в преферанс. Должен был прийти и Илья Плошкин.
На столе уже лежал расчерченный листок с магическими цифрами в центре: пулька до пятидесяти, по одной копейке. Галю услали смотреть по телевизору встречу по водному поло, а мы уселись за круглый стол.
— Мужики, — вдруг сказала жена Васи, — а ведь Юрочка обдерет нас, как липку.
— Это почему ж? — спросил Илья.
— Да потому, что он читает наши мысли.
— Спасибо, мать, — растроганно сказал Вася, — а у меня и из головы выскочило.
— Точно, — кивнул Илья. — Разденет. Он такой. Олигофрены — они хитрые.
— Как хотите, — сказал я. — Я совсем забыл. Вы ж знаете, я начинаю читать мысли, только когда сосредоточусь.
— Ну конечно. А я вот прошлый раз сосредоточилась, и мне впаяли четыре взятки на мизере.
— Ты, мать, лучше не сосредотачивайся, — ласково сказал Вася, — это к добру не приводит.
Валентина густо кашлянула, повела могучими плечами, и Вася сразу сжался и затих.
— Ладно, — сказал я, — не хотите — не надо. Буду нести свой тяжкий крест. Играйте, выигрывайте, проигрывайте свои имения, погружайтесь в пучину разврата, а мы с Галей поехали домой.
— Нет, вы с Галей не поедете домой. Галя будет смотреть, как топят друг друга «Спартак» и «Динамо», а ты спокойненько, не спеша приготовишь ужин.
— А полы натереть не нужно? — деловито спросил я. — Или отциклевать? Я из тимуровской команды…
И в этот момент я услышал уже знакомую мне гулкую, набухшую еще не родившимися звуками тишину. Я замер и закрыл глаза.
— Юрка, — услышал я голос Ильи, — тебе плохо?
Скрипнул отодвигаемый стул. Я махнул рукой:
— Не обращайте на меня внимания. Все в порядке. Просто устал.
— Честно? — басом спросила Валентина.
— Честно, Валюша, не беспокойся.
Я снова закрыл глаза. Тишина все нарастала и нарастала. Она гудела во мне, заполняла меня всего, но никак не могла вылиться в слово, в образ, в мысль, в знание.
— Пика, — сказал Илья.
— Пас, — вздохнула Валентина.
— Трефы, — сказал Вася.
— Трефы мои.
— Тогда бубны. Не торгуйся, Илья. Это не в твоей широкой натуре.
— Уговорил. Бери.
— Бубны. Элементарные, — неуверенно сказал Вася.
— Кто играет шесть бубен, тот бывает убиен, — назидательно сказал Илья.
— Джамбул, — сказал Вася. — Певец векового карточного фольклора.
— Певец говорит «вист», - ехидно сказал Илья.
— Тоже, — сказала Валентина.
А тишина во мне все зрела и зрела и никак не могла разродиться. И я сидел тихо, терпеливо, как наседка. Я и был наседкой.
— Похоже, сударь, что вы без одной, — сухо сказал Илья.
— Боже, сколько в этом человеке злорадства, низкой корысти и стремления унизить ближнего! — плачущим голосом сказал Вася.
— Ах, Вася, если бы ты так писал, как говоришь, тебе бы цены не было, — задумчиво сказал Илья. — Сколько блеска, огня, любви к себе — и все из-за одной недобранной взятки. Какой же шедевр ты создашь, если сядешь на семерной без трех?
— Не пугай его на ночь глядя, — пророкотала Валентина, а то он станет заикой. Я пас. Тебе что-нибудь дать, Юрка?
— Спасибо, я тоже пас. Все нормально.
И вдруг в голове у меня зажглась фраза.
Коротенькая английская фраза: «Спасибо, мисс Каррадос». И гулкая тишина в моей голове исчезла, погасла, словно приемник выключили.
Мисс Каррадос. Что такое мисс Каррадос? Кто такая мисс Каррадос? Связана ли она как-то с моим двойником, к которому, как и ко мне, протянулась с Янтарной планеты тонкая ниточка сновидений?
Тишина и ощущение ожидания были теми же, что и тогда в школе, когда я сидел между шкафом и скелетом. Но на этот раз я прочел фразу. Именно прочел. А может быть, все это мне только почудилось?
Ночью впервые за долгое время я видел вполне земной сон. Мне снился какой-то заграничный город. Я хотел догадаться, что это за город, но почему-то не мог никого спросить.
Я шел по небольшой улочке и слышал английскую речь, но понять, о чем говорят, не мог. И не потому, что не понимал слова и фразы, а потому, что они сливались. И я все старался расслышать, что же все-таки говорят прохожие, и не мог. Я напрягался, вытягивал шею — и не мог разобрать ничего.
Улочка, по которой я шел, была застроена одно- и двухэтажными домиками. На одном из более крупных зданий была вывеска. Я знал, что мне ее обязательно нужно рассмотреть, но почему-то не мог подойти поближе. Как будто на вывеске, небольшой медной табличке, было слово «банк». Да, четыре буквы: «Банк». Очень похоже на «банк». А вот какой банк… Я даже мог пересчитать буквы. Их было семь, и первая… первая была очень похожа на букву «к» в слове «банк».
И больше я ничего не мог понять. Я проснулся с ощущением, что не сумел сделать то, что должен был. Я лежал в темноте, и незнакомая улочка, которую я только что видел, снова проплывала у меня перед глазами. Нет, это был не простой сон. Яркость картины, насыщенность деталями были такими же, как и янтарные сны. Но это была Земля. Люди говорили по-английски, я был в этом абсолютно уверен. Эх, если бы я мог прочитать название банка!..
Павел Дмитриевич пришел в неописуемое волнение, когда я позвонил ему утром. Голос его дрожал от возбуждения.
— Приезжайте к десяти, — сказал он.
— Павел Дмитриевич, — взмолился я, — меня выгонят из школы! Меня уже вызывала директриса.
— Я возьму вас в свой институт. Старшим лаборантом.
— Спасибо, Павел Дмитриевич. Меня уже звали лаборантом, сторожем и завхозом. Но я хочу преподавать английский язык. Или в крайнем случае циклевать полы.
— Вы будете циклевать полы в моем институте. Вам их хватит на всю жизнь. А вообще-то… Знаете что, так, пожалуй, даже будет лучше. Банк. Кто всё знает за заграничные банки, как когда-то говорили в Одессе? Финансисты. Это мысль. Четыре часа.
Я пришел без десяти четыре, а без двух минут четыре в комнату ворвался Павел Дмитриевич, погоняя перед собой вальяжного молодого мужчину с элегантным плоским чемоданчиком в руках. На пухлом, гладком лице его застыло изумление.
— Это товарищ Рыженков, — сказал Павел Дмитриевич. — Я выкрал его прямо с работы.
Выкраденный Рыженков виновато улыбнулся. Должно быть, он не привык иметь дело с людьми типа Павла Дмитриевича.
— Товарищ Рыженков постарается помочь нам в определении национальной принадлежности банка, который видел Юрий Михайлович.
Товарищ Рыженков вытащил сигареты и вопросительно посмотрел на Павла Дмитриевича.
— Никаких сигарет, дорогой… как вас прикажете величать, а то «товарищ Рыженков» слишком официально.
— Никита Алексеевич.
— Так вот, дорогой Никита Алексеевич, спрячьте ваши сигареты. Курить будете, когда определите банк. И чем быстрее определите, тем быстрее закурите. Такой стимул вас устроит? Наполеон, как известно, запрещал своим помощникам ходить в уборную, пока они не управятся. Я не Наполеон и заменил туалет табаком.
Специалист по банкам несмело улыбнулся. Он никак не мог понять, куда он попал и что от него хотят. Он спрятал сигареты в карман и сплел перед собой пальцы рук, изображая готовность и внимание. Руки у него были такие же чистые и пухлые, что и лицо. И обручальное граненое кольцо тоже было новенькое и блестящее.
— Ну-с, начнем, друзья мои. Никита Алексеевич, вы эксперт. Берите бразды правления в свои руки. Задавайте вопросы. Юрий Михайлович опишет вам все, что смог увидеть.
Эксперт слегка развел руками. Жест извинения.
— Ну что ж, начнем, как говорится, с самого начала. Юрий Михайлович, о какой стране идет речь?
— Это-то мы как раз и пытаемся выяснить, — сказал Павел Дмитриевич.
— Простите… гм… — На лице специалиста по банкам появилось удивленное выражение. — Я понял, что… Юрий Михайлович видел какой-то банк…
— Совершенно верно, — сказал Павел Дмитриевич, сердито пристукнул по полу палкой и нетерпеливо задергался на своем стуле — вот-вот взлетит. — Я вам об этом уже говорил.
— Я понимаю, я понимаю, — торопливо кивнул Никита Алексеевич, и было видно, что он привык бывать на совещаниях, где лучше всего было соглашаться со всем.
— Прежде всего, речь идет о стране, в которой говорят по-английски, — сказал я. (Никита Алексеевич что-то записал в такой же аккуратной и пухлой книжечке, как весь он.) — Я видел медную табличку. Слово «банк» я смог рассмотреть, а вот само название…
— Вы входили в банк?
— Юрий Михайлович… гм… не совсем был там, — сказал Павел Дмитриевич. — Я думаю, не в этом дело, и мы не будем этим заниматься.
— Я понимаю, понимаю, — закивал эксперт. Удивительное дело: как только он окончательно потерял всякое представление, что происходит, он успокоился, и на розовом его личике появилось деловое, будничное выражение. — Само слово «банк» было написано по-английски? Вы знаете английский?
— Да. Безусловно по-английски. «Би-эй-эн-кей».
— А сколько слов до или после слова «банк»?
— Одно слово.
— Одно? Без артикля в самом начале?
— Без. Я насчитал в нем семь букв. Так, по крайней мере, мне показалось.
— Понимаю, понимаю. Английский язык. Семь букв… — Никита Алексеевич закрыл глаза, губы его что-то беззвучно шептали.
— Я не уверен на сто процентов, — сказал я, — но мне показалось, что первая буква первого слова похожа на последнюю букву слова «банк». То есть английское «кей». Теперь, когда мы заговорили об этом, мне даже кажется, я понимаю, почему обратил внимание именно на букву «кей».
— Почему же? — спросил эксперт.
— У нее в обоих случаях была очень высокая вертикальная палочка.
— Понимаю, понимаю, — кивнул эксперт, полез в карман и вытащил сигареты.
— Мы же договорились, молодой человек! — сердито сказал Павел Дмитриевич.
— Да, да, конечно, — поспешно согласился Никита Алексеевич, но сигареты не убрал и даже вытащил из пачки сигарету, выбив ее элегантным щелчком. — Киферс. Банк Киферс. Средний провинциальный банк в Шервуде. Капитал на первое января прошлого года составлял двести двенадцать миллионов. Сорок два отделения. Президент Джеймс Перси Аллейн.
— Шервуд? — переспросил Павел Дмитриевич.
— Шервуд, — кивнул Никита Алексеевич. — Вы разрешите?
— Что?
— Курить?
— А, конечно… А вы в этом уверены?
На пухлом лице эксперта промелькнула едва заметная улыбка превосходства.
— Вполне.
— В слове «Киферс» шесть букв, а не семь… Хотя, может быть, после «кей» идут две буквы, «дабл и»?
— Совершенно верно.
Павел Дмитриевич взлетел со своего места, пожал руку эксперту и выпроводил его из комнаты.
— А знаете, Юрий Михайлович, я даже рад, что ваша мисс Каррадос живет в Шервуде. Там есть коллега, с которым у меня недурные отношения. Я был у него дважды. В прошлом году он приезжал в Москву. Старик чудаковат, но честен и услужлив. Гм… Конечно, просьба моя должна будет показаться ему безумной. Узнать, не проводят ли в Шервуде эксперименты с некой мисс Каррадос по установлению контактов с внеземной цивилизацией. Гм!.. Но, с другой стороны, если действительно такие эксперименты проводят, без него не обойтись. Он такой…
— А если мисс Каррадос действительно существует, но никаких опытов никто с ней не проводит? — спросил я испуганно. Я поймал себя на том, что уже начинаю волноваться за судьбу мисс Каррадос.
— Тогда старик Хамберт ответит мне, что я рехнулся.
— А сколько лет вашему Хамберту?
— Он всем говорит, что семьдесят четыре, но, по-моему, ему сильно за восемьдесят. Сильно. Сумасшедший старик, но дело с ним иметь одно удовольствие.
Через три недели, когда я начал уже потихоньку забывать о мисс Каррадос и банке Киферс, во время урока дверь класса приоткрылась, и в щель на расстоянии метра от пола просунулась совсем детская мордочка.
— Простите, — пропищала мордочка, — вы Юрий Михайлович?
— Я, прелестное дитя. А ты кто?
— Я Штыканов Сережа. Вера Константиновна велела вам срочно прийти к ней в кабинет.
Мордочка исчезла, а я посмотрел на ребят:
— Ребята, чтоб без шума. Идет?
— Идет, Юрий Михайлович! — довольно загалдели ребята. Только вы не торопитесь…
— Здравствуйте, Вера Константиновна, — сказал я, входя к ней в кабинет.
— Добрый день, — сурово сказала она. — Садитесь и пишите.
— Уже?
— Что — уже?
— Заявление об уходе?
— Не понимаю ваших шуток, Юрий Михайлович. Садитесь и напишите заявление о том, что просите отпуск на месяц без сохранения заработной платы.
— Я?
— Вы.
— А зачем?
— А вы ничего не знаете?
— Нет.
— Действительно не знаете?
— Нет.
— Мне позвонил академик Петелин и сказал, чтобы вам срочно оформили отпуск на месяц за свой счет и дали характеристику для выезда за границу.
— Мне?
— Вам. Я решила, что все это глупые шутки. Чтобы академик Петелин звонил к нам в школу… Я извинилась на всякий случай и сказала, что на основании только телефонного звонка не могу, и так далее. Этот человек начал кричать и бросил трубку. Через пятнадцать минут позвонили из районо. Сама Клавдия Васильевна. И повторила просьбу насчет вашего отпуска. А потом из райкома. Насчет характеристики. Чтоб сегодня же привезли им. Я, конечно, сказала, что не возражаю… Но в середине учебного года…
— Клянусь, Вера Константиновна, это не моя инициатива. Я, конечно, догадываюсь, о чем идет речь, но я и думать не мог…
Вера Константиновна посмотрела на меня неодобрительно, но с уважением.
— А что все это значит? — спросила она.
— Да так… Гм… Ну как вам сказать… Понимаете, просто подвернулась туристская поездка…
— И поэтому звонят из райкома, чтобы мы сегодня же привезли им вашу характеристику? Юрий Михайлович, может быть, кое-кто в школе считает меня человеком несовременным, — Вера Константиновна обиженно поджала губы, — но я не настолько глупа, чтобы ничего не понимать. Что же делать, поезжайте и постарайтесь не уронить честь нашей школы.
— Постараюсь! — сказал я пылко. — Честное слово!
Повинуясь какому-то импульсу, я взял руку Веры Константиновны в свою, нагнулся и поцеловал.
Она посмотрела на меня безумным взглядом. Она было открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же снова закрыла его.
Веселый сумасшедший вихрь подхватил меня. Я ничего не боялся. Все было возможно.
— Вера Константиновна, — пропел я, — я люблю вас, потому что вы замечательная женщина.
Когда я, пританцовывая, выпархивал из ее кабинета, я заметил, что директриса изо всех сил трет себе ладонью лоб.
ГЛАВА XVI
Я позвонил Павлу Дмитриевичу, и, когда он ответил, трубка ударила меня током — так он был заряжен.
— Немедленно! — кричал он. — Все документы мне!
— Какие документы?
— Приезжайте, заполните все на месте. Мы летим послезавтра. До свидания, мне некогда!
Мы летим послезавтра, мы летим послезавтра, мы летим послезавтра, повторял я, как пластинка со сбитой бороздкой. Мы летим послезавтра.
На мгновение мне стало стыдно. Я сяду в самолет, изображая на своем лице равнодушие много повидавшего путешественника, а Галя останется здесь. И Нина останется здесь. И Илья, и Вася, и Валентина. И Вера Константиновна останется в своем кабинете со спортивными трофеями за стеклами шкафов. И Семен Александрович. Хотя Семен Александрович сейчас все равно не смог бы расстаться с только что открытым шкафом…
Я позвонил Нине. Да, конечно, она знает. Да, конечно, она желает нам успеха.
— Нина, — сказал я, — в шесть часов у выхода. Можно, я вас подожду?
— Нет, Юра, не нужно.
— Почему?
— Не нужно.
— Но почему? Я хочу попрощаться с вами.
— Не нужно, милый Юрочка. Вы очень хороший человек, и вы будете чувствовать себя неловко, потому что уезжаете, а я остаюсь. Потому что вы переполнены предстоящей поездкой, а я в вашем представлении остаюсь в печали и одиночестве. И, наконец, вам будет неудобно, потому что вы чувствуете какие-то несуществующие обязательства по отношению ко мне. — Нина вдруг рассмеялась. — Я права? Вот видите, а то только вы читаете мои мысли.
— Нина, я…
— Не нужно, Юрочка. Вы милый, а поэтому молчите. И всего вам наилучшего.
Я помчался в институт к Павлу Дмитриевичу. Самого его не было, но степенная секретарша удивительно домашнего вида достала из стола папочку и протянула ее мне:
— Павел Дмитриевич просил, чтобы вы все заполнили. Садитесь вот здесь.
Только я успел написать свой год рождения, как вихрем влетел Павел Дмитриевич. Седые его волосы стояли дыбом. Мелкие предметы кружились вокруг него. Он втянул меня в свой кабинет.
— Старик Хамберт нашел-таки мне мисс Каррадос. Ему это было нетрудно. Он сам принимает участие в опытах с ней. Финансирует фонд Капра. И у них решено пока не сообщать ни слова. Хамберт нисколько, оказывается, не был удивлен. Мисс Каррадос тоже знала о вашем существовании.
— А почему мы едем туда, а не они к нам?
— Потому что мисс Каррадос наотрез отказалась. У нее тяжело больна мать. Поэтому они пригласили нас. Вот уже билеты. — Павел Дмитриевич вытащил из кармана две длинненькие книжечки с красным флажком Аэрофлота. — Никто не мог бы добиться разрешения на нашу поездку за такой срок. Только старик Петелин. Каково, а? — Павел Дмитриевич нескромно засмеялся. — Всесоюзный рекорд! И знаете, Юра, почему люди идут мне навстречу? Не знаете? Я открою вам свой профессиональный секрет. Я требую настолько невозможные вещи, что люди просто поражаются. Поражаются и в состоянии транса делают. Вы представляете, что значит получить за три дня все разрешения, документы и даже визы в шервудском посольстве? А, то-то. Чиновник в посольстве настолько был изумлен, что раз пять переспросил меня, когда мы едем. «Да, — говорит он, наши страны, конечно, сотрудничают, у нас много совместных научных программ, но чтобы оформить визы за трое суток — это неслыханно». — «Ладно, — сказал я ему, — так и быть. Я согласен не на трое суток, а на двое. И учтите — говорю я ему, — что вы становитесь на пути научных контактов, и мистер Хамберт, и фонд Капра, и вся шервудская наука, не говоря уж о нашей, вам не простят, и вы никогда не будете избраны почетным академиком за заслуги в области быстрого оформления виз ученым». И знаете, Юра, за сколько негодяй оформил визы? За сутки. А сейчас не мешайте, у меня тысяча дел.
— Я вам не мешаю, Павел Дмитриевич, это вы учили меня, как жить вообще и добывать визы в шервудском посольстве в частности.
— Юрий Михайлович, — строго сказал Петелин, — в моем возрасте трудно переучиваться, а поэтому приходится всегда считать себя правым. Это удобнее, дорогой мой.
— Вы меня развращаете, Павел Дмитриевич, — совершенно серьезно сказал я, продолжая играть роль бесстрашного и наивного правдолюбца, — вы учите меня цинизму.
— Ах, Юра, Юра… Ваше счастье, что ваши друзья с Янтарной планеты выбрали почему-то именно вас. А то сколько есть молодых и не очень молодых людей, которые не спорят со старыми академиками, а соглашаются сразу, всегда и во всем.
— Я постараюсь, — сказал я и виновато повесил голову.
— То-то же. А сейчас выматывайтесь, мой юный друг, и не мешайте мне. На этот раз я не шучу.
— Жена, — сказал я Гале, как только она вошла в квартиру, — я должен покинуть тебя. Послезавтра я улетаю.
— Ну-ну. Хлеб купил или мне сходить?
— Я серьезно. Послезавтра я улетаю с академиком Петелиным в Шервуд.
Галя замерла на мгновение. Она наполовину сняла пальто, и оно висело у нее на одном плече. Обрадуется или обидится, почему не она?
— Ты шутишь?
— Нет. Честно.
Прыжком в длину с места Галя бросилась мне на шею. Пальто, развеваясь, полетело за ней вдогонку. Поцелуй с разгона был стремителен и точен. Она попала мне прямо в нос.
— Юрка, правда?
— А ты все говорила, что я тюфяк и не умею устраиваться. Кто завел блат на Янтарной планете? Юрий Михайлович Чернов. Всех обошел. Тихий-тихий, а как до дела — пожалуйста, вот он я.
— И ты прямо полетишь в Шервуд?
— А как ты хотела, — важно сказал я, — через Сокольники?
— Ой, Юраня, это же… это же…
— Конечно, это же.
— А что привезешь? Пончо, ярко-синее… Замшевый брючный костюм…
— Пончо, а может быть, и ранчо.
— Ты все смеешься.
— Это я от серьезности. Смех — это признание подлинной серьезности.
— Не болтай, Юрка… Как я за тебя рада, дурачок ты мой!..
Маленькая глупая Люша, подумал я, как я мог только подумать, что смогу жить без тебя.
— Люш, я понимаю, как тебе захочется завтра же начать так небрежно бросить между делом в институте: «Мой Юрка обещал привезти мне из Шервуда пончо. Знаете, девки, на Западе сейчас женщины просто помешаны на пончо. Практически не вылезают из него. Даже ночью». Так вот, к сожалению, тебе придется пока обождать с балладой о пончо.
— Почему?
— Потому что в Шервуде, как и у нас, решено пока не разглашать опыты. И едем мы с Петелиным по частному приглашению профессора Хамберта. Петелин — в качестве Петелина, я — в качестве его переводчика.
В глубине души я все-таки не верил, что мы летим. Не верил даже тогда, когда мы ехали с Галей в Шереметьево. Не верил, когда увидели на Ленинградском шоссе огромный указатель «Шереметьево I», не верил, когда на дороге замелькали рекламные щиты Внешторга, не верил, когда наше такси остановилось около длиннющей машины с дипломатическим номером, из которой вылезла сказочной красоты негритянка в расшитой дубленке.
И только в самом аэропорту я начал подозревать, что, может быть, все это реальность, а не фантазии.
Петелина еще не было, и мы стояли около газетного киоска и молчали, потому что говорить нам не хотелось.
Смуглая женщина вела за собой целый выводок смуглых ребятишек. Они шли за ней, как гусята, торопливо переваливаясь на коротких ножках. Последний, самый маленький, тащил на веревочке зеленого крокодила на колесиках. Крокодил, чем-то неуловимо напоминавший крокодила Гену, то и дело переворачивался на спину, и мне стало жалко его.
Молодая красивая женщина держала на руках одетую в шубку девочку, наклоняя ее к дипломатического вида мужчине, по всей видимости отцу. Девочка, однако, дипломата целовать не хотела, а порывалась броситься за поднявшим вверх колесики крокодилом.
Напротив нас стояла группка наших спортсменов. Все были молоды, загорелы — наверное, прямо со сборов где-нибудь в Сухуми, — все в одинаковых синих пальто и все смеялись. Наверное, рассказывали анекдоты.
Я вдруг почувствовал себя старым, мудрым и печальным. Впрочем, печаль моя была легка и тут же упорхнула, потому что, напомнил я себе, мы летим с Павлом Дмитриевичем в Шервуд и потому что мимо нас шли две стюардессы неземной элегантности и красоты и несли с собой обещание новых стран и новых впечатлений.
— Юрка, — сказала Галя, — если ты будешь так смотреть на всех красивых женщин, ты заставишь плакать маленьких детей.
— Почему?
— Потому что у тебя отваливается челюсть и ты становишься похож на паралитика.
— Ладно, — сказал я со вздохом. — Не буду.
— Что не будешь? Смотреть?
— Нет, открывать рот. А вот и Павел Дмитриевич.
Петелин стремительно надвигался на нас в сопровождении молодой женщины и мужчины лет сорока шоферского обличья.
— Неужели это жена? — успела шепнуть Галя.
— По-моему, жена и шофер.
Мы начали здороваться, и Павел Дмитриевич сказал:
— Знакомьтесь. Это моя внучка Леночка, а это ее папа, и, стало быть, мой сын Владимир Павлович.
В этот момент страстный женский голос, усиленный динамиками, интимно прошептал на весь зал, что начинается регистрация пассажиров, вылетающих в Шервуд. Это было удивительно. И время вылета совпадало с тем, что было указано в наших аэрофлотовских билетах в виде книжечек, и номер рейса. Мираж не исчезал. Динамики прошептали все тот же призыв, теперь уже по-английски, и поблагодарили в конце с таким призывом в голосе, что челюсть моя снова отвалилась бы, если бы не жена рядом со мной.
Мы попрощались легко и весело, как подобает старым путешественникам, слегка усталым глобтротерам, исколесившим, излетавшим и истоптавшим весь земной шар. Рио-де-Жанейро? Что вы, разве это интересно? Вот на прошлой неделе в Дар-эс-Саламе я…
Молоденький пограничник, пахнувший одеколоном, внимательно рассмотрел наши паспорта, потом улыбнулся и открыл турникет. Ветер дальних странствий уже гудел в моей голове, и она, моя бедная голова, кружилась оттого, что я напускал на себя серьезный и небрежный вид. Если б они только знали, что я лечу за границу в первый раз в жизни и мне хочется визжать от возбуждения и теленком носиться по залу ожидания!
Мое место в огромном вблизи «Иле» оказалось у самого окна, и я снова поблагодарил судьбу, потому что я люблю смотреть из окошка самолета. Мы взлетели, и белые облака внизу казались такими плотными, такими похожими на огромную заснеженную равнину, что я начал искать глазами лыжников. Не может быть, чтобы в такой погожий день, по такому свежему снежку, вобравшему в себя розоватость от зимнего солнца, не тянулись цепочки лыжников. Но лыжников не было.
Над вытянутым овальным окошком я заметил какую-то ручку и слегка нажал на нее. Опустилась синяя пластмассовая шторка, и снежная долина под нами окрасилась в густо-голубой цвет.
Погасли транспаранты с вечным призывом не курить и застегнуть привязные ремни, Павел Дмитриевич вытащил из кармана сигареты и предложил мне одну.
Я посмотрел на часы. Одиннадцать часов утра. Уже началась перемена после третьего урока. Мария Константиновна смотрит в одну из своих крохотных записных книжечек и зоркими глазами профорга высматривает злостных неплательщиков профвзносов. Семен Александрович не спускает взгляда с обретенных сокровищ открытого мной шкафа. А кто же, интересно, сидит на моем месте рядом с нашим милым старым скелетом? И кто пытается перемножить в уме цифры на старом добром инвентарном номерке? И справляется ли Раечка с моими головорезами? И не отвергнет ли Алла Владимирова дружбу проснувшегося Сергея Антошина?
Я, должно быть, вздохнул так озабоченно, что Павел Дмитриевич бросил на меня участливый взгляд и спросил:
— Что, Юрий Михайлович, так тяжко вздыхаете? Устали от жизни?
— Нет…
— И зря. Надо устать от жизни смолоду, а потом уже отдыхать. Вот я, например…
Я засмеялся.
— Что вы смеетесь?
— Это вы-то отдыхаете?
— А почему нет? — обиженно спросил Павел Дмитриевич. — Вот сейчас, например…
— Сейчас вы привязаны к креслу… По-моему, это единственный способ удержать вас на месте.
— Смотрите, Юрий Михайлович, я ведь могу и не взять вас старшим лаборантом. Почтительности в вас мало.
— А я из школы уходить не собираюсь.
— Как же вас там терпят? Учителя тем более должны быть почтительны к начальству.
— С трудом, наверное…
Павел Дмитриевич задумчиво поцикал сквозь зубы и сказал:
— Юра, а почему все-таки вы мне так нравитесь? Это же противоестественно. Вы недостаточно почтительны, спорите, дерзки, независимы в суждениях и из-за вас происходит одно из крупнейших событий в жизни человечества. А у меня в институте столько молодых людей, которые так прекрасно почтительны, с таким искренним жаром уверяют меня, что я всегда прав, и суждения которых всегда странным образом совпадают с моими.
Я захихикал, и Петелин сказал:
— Вот видите, и смех у вас несолидный. И дым вы выпускаете кольцами, а я не могу. Всю жизнь пытался научиться — и не смог. Может быть, я и академиком стал, чтобы хоть как-то компенсировать этот недостаток. А у вас, поглядите, какие кольца. Изумительные, первосортные, в экспортном исполнении.
Мне захотелось утешить старика:
— Павел Дмитриевич, вы не огорчайтесь. У меня тоже есть недостатки. Один мой близкий друг твердо установил, что я олигофрен.
— Олигофрен — это слишком общее понятие. — Павел Дмитриевич с интересом посмотрел на меня. — А точнее диагноз он не поставил?
— Поставил. Он нашел у меня симптомы идиотии, общей дементности, дебильности и имбецильности.
— Очень интересно. А кто ваш друг по профессии?
— Вообще-то он филолог, но работает в области обмена технической информации.
— Передайте ему, что у него прекрасный глаз.
Павел Дмитриевич подмигнул мне и засмеялся. Удивительное дело, подумал я, почему судьба посылает мне таких замечательных людей? Чем я заслужил это?
Не успел я найти ответ на этот вопрос, как вдруг услышал в себе уже ставшую для меня привычной гулкую тишину. Но на этот раз тишина не росла и не набухала медленно, как почка. Почти сразу она лопнула, схлынула, оставив мне сознание, что этой девушки, мисс Каррадос, нет в живых. Мой мозг еще не мог переварить это знание, а сердце уже сжалось и в груди мгновенно образовалась холодная, сосущая пустота.
Ее не было в живых. Я это знал точно. В горле набряк комок и принялся стремительно расти. Я никогда не видел ее, и тем не менее горе мое было остро и больно кололо, сжимало сердце.
Должно быть, Павел Дмитриевич задремал, потому что, когда я коснулся его руки, он вздрогнул.
— Павел Дмитриевич, — прошептал я торопливо, чтобы ком не заткнул мне горло, — ее нет в живых.
— Кого? — круто повернулся он ко мне, но глаза его уже знали.
— Каррадос.
— Точно?
— Да.
— Когда это случилось?
— Не знаю. Я почувствовал это только сейчас.
Павел Дмитриевич несколько раз качнул головой, откинулся на спинку кресла и пробормотал:
— Да…
Он сразу постарел на моих глазах, и белый задорный хохолок на его голове поник.
— Значит, наша поездка бессмысленна? — спросил я.
Детская привычка задавать взрослым вопросы, на которые заранее знаешь ответы. Детская привычка ждать от взрослых чуда.
Чуда быть не могло. Каррадос не было, и поездка наша, еще не начавшись, потеряла всякий смысл.
Павел Дмитриевич говорил что-то о том, что все равно остались какие-нибудь материалы, а я думал о незнакомой мне девушке. Почему-то я представлял ее похожей на Нину. С такими же огромными серыми глазами, со слабой, неуловимой улыбкой на губах. Бедная, незнакомая мисс Каррадос… Это же абсурдно. Смерть абсурдна, она нелепа, она противоестественна. Был живой человек, и к нему протянулась ниточка сновидений с далекой планеты. И вот человека нет. И конец ниточки повиснет беспомощно. И исчезнет. А если бы ей и не снилась Янтарная планета? Разве смерть от этого становится менее абсурдна? Что должна испытывать сейчас ее мать, отец? А может быть, у нее был жених?
Я, наверное, задремал, потому что вдруг испуганно вздрогнул. Я посмотрел на Павла Дмитриевича. Он уставился в какую-то книгу, но я чувствовал, что он не читает. О чем он думает сейчас? Я вдруг почувствовал, что должен знать, о чем он думает. А может быть, не столько знать, о чем он думает, сколько проверить, могу ли я по-прежнему слышать чужие мысли.
Я сосредоточился, ожидая, призывая к себе шорох чужих слов. Но шороха не было. Были лишь мои собственные беззвучные мысли, которые испуганно бились в моей голове летучими мышами.
Нет, не нужны мне были чужие мысли, ни разу не получил я удовольствия, подслушивая шорохи чужих черепных коробок. Да и не вспоминал почти о своих способностях, пока не возникала в них нужда. Но это был инструмент, было оружие в борьбе за признание Янтарной планеты, за реальность Контакта. Да, это было не мое оружие, не я выковывал его. Мне его дали, и я отвечал за него. Конечно, я не мог потерять это оружие сам. Это чушь. И все-таки в чем-то я был виноват.
Попробовать еще раз. Не спеша. Спокойно. Расслабиться. Не думать ни о чем. И сейчас вслушаться. Жестяной шорох сухих листьев. Сейчас он зазвучит в моей голове.
Но он не звучал. Я ничего не слышал. Ничего. Я протянул было руку, чтоб коснуться руки Павла Дмитриевича и сказать ему о новой потере, но удержался в последнюю секунду. Мне было жаль его. Удар за ударом. И в обоих случаях я был вестником несчастья. Да и что это меняло? Не повернуть же огромный «Ил» с полутора сотнями пассажиров обратно только потому, что учитель английского языка Юрий Михайлович Чернов потерял свою странную способность слышать чужие мысли! Способность, которая и существовать-то по всем правилам науки не могла.
Две стюардессы, в которых я узнал прекрасных шереметьевских богинь, разносили на пластмассовых подносиках элегантную международную еду. На их пластмассовых лицах были корректные международные улыбки.
Я засыпал, просыпался, снова засыпал, а в сердце все торчала заноза.
Наконец нас снова попросили не курить и застегнуть привязные ремни, горизонт встал дыбом, и самолет начал снижаться.
Часть вторая
ЗАРУБЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ГЛАВА I
Профессор Хамберт оказался точно таким, как я его представлял: высокий, сутулый, по-стариковски изящный. Он еще издали помахал нам рукой. Лицо его было серьезно, и я понял, что, к сожалению, не ошибся.
— Добрый день, Хью, — сказал Павел Дмитриевич.
— Добрый день, Пол, — попробовал улыбнуться профессор Хамберт, но улыбки не получилось. — Как долетели?
— Отлично. Познакомьтесь с Юрием Черновым.
— Очень рад, — пожал мою руку профессор. Кожа на его руке суха, морщиниста и прохладна.
— Очень рад, — сказал я.
Пока, к своему некоторому удивлению, я понимал, что говорит профессор.
Павел Дмитриевич не спрашивает о Лине Каррадос, подумал я. Может быть, спросить мне? Я бросил быстрый взгляд на Петелина, но он незаметно покачал головой.
Мы прошли к нескольким металлическим кругам, похожим на аттракцион «колесо смеха». Но на колесе были не люди, а чемоданы. Хамберт спрашивал Павла Дмитриевича о ком-то, чьи имена были мне незнакомы, и я вдруг подумал, что, может быть, все-таки ошибся и мисс Каррадос жива. Но я сам не верил себе. Ее не было.
Мы сняли с вращающихся колес смеха свои чемоданы, прошли таможенников и вышли на улицу. Здесь было теплее, чем в Москве, снега не было. Господи, вот я и в Шервуде, а где же желание прыгать теленком, что переполняло меня в Шереметьеве?
Мы уложили чемоданы в багажник машины, профессор Хамберт сел за руль, повернул ключ и, прислушиваясь к бульканью двигателя, вдруг сказал:
— Лина Каррадос умерла три часа назад в больнице. Ее машина вчера взорвалась по неизвестной причине.
— Мы знали об этом, — мягко сказал Павел Дмитриевич.
То ли из-за его акцента, то ли потому, что по-английски он говорил медленнее, чем по-русски, слова его прозвучали особенно кротко и участливо.
— Я так и подумал, что мистер Чернов может принять этот трагический сигнал.
Мистер Чернов — это я. Надо привыкать. Машина плавно набирала скорость.
— Бедная девушка! — сказал Павел Дмитриевич. — Это несчастный случай?
— Пока трудно сказать. — Старик, не оборачиваясь к нам, слегка пожал плечами, и пальто сзади сморщилось и стало похоже на его морщинистую шею. — Как будто она поехала вечером в Буэнас-Вистас на свидание со своим молодым человеком, и по дороге машина взорвалась. Как, что, почему — пока никто не знает. Мне жаль и ее, жаль и того, что ваш приезд омрачен этим событием. Когда я узнал, что вы согласились приехать к нам, я сказал Марте: «Марта, приедет Пол, и все вокруг него завертится, как в вихре. Как тогда в Москве, когда он нас чуть не замучил своим гостеприимством и своей энергией…»
— Как поживает Марта?
— О, она здорова, насколько можно быть здоровым в нашем возрасте. И знаете, Пол, что она сказала? Она сказала, что приготовит в день вашего приезда истинно русский обед для вас. И вот… — Профессор Хамберт замолчал.
Стекла были подняты, в салоне было тепло и тихо автомобильной тишиной. Эта тишина складывалась из множества звуков: ровного гудения двигателя, мягкого шипения теплого воздуха из печки, щелканья стеклоочистителей. Встречные машины проносились с мягким шелестом.
Мы молчали. Я смотрел на спину Хамберта. Возраст профессора выдавала его шея. Ему, наверное, действительно было много лет, потому что шея была похожа на черепашью, только вылезала она не из панциря, а из темно-серого тяжелого пальто.
— Вы простите меня, друзья, что я молчу, — вдруг сказал профессор, не отрывая взгляда от дороги. — Поверьте, я очень рад вашему приезду… Но я никак не могу прийти в себя. Лина Каррадос… — Я не мог, конечно, слышать, как профессор всхлипнул, но плечи его явственно вздрогнули. — Она… она стала мне за это время как… дочь. Вы же знаете, Пол, у меня никогда не было детей. И вдруг эта девочка… В ней было столько жизни, огня, озорства… Я ловил себя на том, что ждал с нетерпением каждой новой встречи с ней. А Марта просто не отпускала ее от себя. «Миссис Хамберт, — начинала смеяться Лина, — я не могу относиться к вам хорошо». — «Почему?» — спрашивала Марта. «Потому что я влюблена в вашего мужа». — «Лина, он даже не годится тебе в дедушки», - говорила Марта. «Ах, миссис Хамберт, для чего мне дедушка, — покатывалась со смеху Лина, — у меня есть полный набор дедушек. Мне нужен муж. У меня еще не было ни одного мужа. Отдайте мне его, а, миссис Хамберт?» И знаете что, Пол, она действительно любила меня. Как дочь, конечно. Я видел это по ее глазам. — Профессор вздохнул тяжко и безнадежно, и вздох его был слышен даже на фоне работающего мотора.
Мы молчали. Что можно было сказать? Какими словами можно облегчить боль, вызванную смертью близкого человека?
— А где же сам Шервуд? — спросил я Павла Дмитриевича по-русски. — Неужели аэропорт так далеко от города?
— Нет, мы едем не в Шервуд, а в Буэнас-Вистас. Это маленький городок не очень далеко от Шервуда. Хамберт сказал мне по телефону, что они в Буэнас-Вистас.
— А скоро Буэнас-Вистас? — спросил я профессора Хамберта.
Это был первый мой вопрос, заданный в Шервуде, и я тщательно сконструировал его в уме, хорошо отрепетировал и только после этого произнес вслух.
— Уже въезжаем, мистер Чернов.
Мы ехали по улице моего сна. Та самая улица, я бы узнал ее среди миллиона улиц миллиона городов.
— Можно попросить вас ехать чуточку медленнее? — попросил я.
— О, конечно.
А вот и банк. «Киферс банк». И так же, как и во сне, я различил слово «банк» и не мог различить буквы в первом слове. Если во сне я видел этот банк глазами Лины, то зрение у нас, очевидно, было примерно одинаковое.
Маленький, уютный городок. Длинная улица, застроенная небольшими домами.
Машина свернула на совсем узенькую боковую дорогу.
— Линина машина взорвалась здесь недалеко. Не успела она выехать, бедняжка, из Лейквью, как произошел взрыв. А вот и Лейквью.
Среди высоких сосен стоял красивый светлый двухэтажный дом, а вокруг него прятались в кустах несколько коттеджиков — совсем как какой-нибудь подмосковный дом отдыха.
— Сейчас я покажу вам ваше жилище. Вот ваш домик.
Машина остановилась на заасфальтированной площадке у входа в забавный маленький коттедж трогательного старинного вида, если не считать телеантенну на крыше. Позади домика, за зубчатой темной бахромой кустов, рыбьей чешуей сверкнула полоска воды. Ну конечно, Лейквью. «Вид на озеро» в переводе на русский.
Я выгрузил наши чемоданы, и мы вошли в дом.
— Надеюсь, вам здесь будет удобно, — сказал профессор Хамберт.
— Конечно же, о чем вы говорите, — пожал плечами Павел Дмитриевич, стремительно обегая две спаленки, небольшую гостиную с телевизором и нарядную кухню.
— Отдохните, а в восемь я зайду за вами, и мы пойдем пообедаем к нам. Это здесь же. Конечно, это будет совсем не тот обед, о котором мечтала Марта… О господи! — тяжко, по-коровьи, вздохнул профессор, вынул носовой платок и промокнул глаза. — Простите меня, джентльмены.
Он медленно согнулся, с трудом сел в машину и начал разворачиваться, чтобы отъехать от нашего домика. Он опустил стекло, сделал жалкую попытку улыбнуться и крикнул дрожащим фальцетом:
— До восьми!
— Хорошо, Хью, мы будем ждать, — сказал Павел Дмитриевич.
— Павел Дмитриевич, — сказал я, — я не хотел говорить вам раньше, но все равно я должен. Я не слышу больше чужих мыслей. Я пробовал много раз. Это не вопрос — хуже или лучше, этого просто нет. Как будто и не было никогда.
— Милич, вы знаете, кто такой Хью Хамберт? — спросил капитан Трэгг и посмотрел на лейтенанта, сидевшего в кресле и пытавшегося заклеить трещинку в сигарете.
Он отрывал кусочек бумаги с голого края сигареты, слюнявил его и прилеплял к дырочке, но заплаты не держались, и у лейтенанта поэтому было недовольное лицо. Он непонимающе посмотрел на капитана.
— Послушайте, Милич, если бы вы даже решили штопать у меня в кабинете носки, я бы все равно не мог прибавить вам зарплату. Бросьте сигарету и ответьте на мой вопрос.
— Хамберт? Знаменитый астроном и философ.
— Прекрасно. Что значит — образованный человек… Ладно, ладно, не испепеляйте меня взглядом. Я уже привык к вашим испепеляющим взглядам.
— Скажите, почему вы саркастически настроены только утром? — спросил лейтенант Милич и с видимым сожалением достал новую сигарету.
— Потому что с утра у меня ясная голова. Так вот, только что эту ясную голову призвал к себе сам и приказал отправить в Лейквью, около Буэнас-Вистас, нашего самого образованного и самого толкового сотрудника…
— Когда мне ехать? — спросил лейтенант.
— Как вы догадались? — В притворном изумлении капитан широко развел руками.
— Дедукция. С одной стороны, вы позвали меня к себе. С другой — вам нужно послать в Буэнас-Вистас самого образованного и толкового сотрудника. Я знаю, что самый толковый и самый образованный инспектор в управлении — я. Эрго, как говорили древние римляне, мне нужно ехать в этот городишко.
— Боже, боже, кто у меня работает! Какая сила ума, какая истинно христианская скромность!
— Что там такое?
— Подробностей я не знаю, но как будто профессор Хамберт руководит какой-то программой или проектом, который финансирует фонд Капра. Машина одного из сотрудников взорвалась позавчера, а вчера этот сотрудник умер в больнице. И вчера же вечером выяснилось, что исчезли все материалы, связанные с проектом. В довершение ко всему вчера же из Москвы прилетели двое русских, которых Хамберт пригласил принять участие в их исследованиях. Вы же знаете, мы сотрудничаем с ними во многих программах. Вот и все, что я знаю.
— Мне ехать одному или вдвоем?
— Безусловно одному. Мне сказали, что, хотя программа, строго говоря, не засекречена, ее вместе с тем… как бы выразиться… прячут от печати. Поэтому требуется крайняя осторожность. Начните с полиции Буэнас-Вистас. Я думаю, хоть что-нибудь они вам сказать смогут.
— А они не обидятся, что мы лезем в их епархию?
— Нет. Они тоже звонили самому. Этот хитрый Брюнес заранее снимает с себя ответственность. Поразительный у него нюх.
Через два часа лейтенант Милич уже остановил машину у двухэтажного здания полиции Буэнас-Вистас. Не успел он выключить зажигание, как к машине подошел сизощекий высокий полицейский и спросил:
— Лейтенант Милич?
— Я.
— Вас ждет мистер Брюнес.
Капитан, наверное, прав, подумал лейтенант. Им здесь просто не терпится спихнуть с себя это дело. Ученые, русские, совместные исследования — пусть ломает себе голову столичная полиция. А они по-прежнему смогут здесь тихо дремать в своем городишке, воюя со старушками, которые сослепу ставят машины в неположенном месте. Без лавровых венков, но и без терниев.
— Спасибо, что приехали к нам так быстро! — Начальник полиции Буэнас-Вистас протянул Миличу руку. — Капитан Трэгг предупредил меня, что приедете именно вы, и у меня сразу отлегло от сердца. С лейтенантом Миличем я спокоен, сказал я себе…
«Как льстит! — подумал лейтенант. — Прямо-таки с детским бесстыдством».
— В самых общих чертах капитан Трэгг ознакомил меня с ситуацией. Кто у вас занимался взрывом машины?
— Поттер. Он вас встречал внизу. Человек с самым лучшим цветом лица в городе. Сейчас я позову его, если хотите.
— Пожалуйста.
Входя, Поттер уже доставал из кармана записную книжку. Вид у него в отличие от Брюнеса был обиженный. Он-то считает, что разобрался бы во всем и сам, подумал Милич.
— Поттер, это, как вы уже догадались, лейтенант Милич. Имя его вы должны знать… («Знаешь, что льстит, — подумал лейтенант, — но все равно приятно».) Сержант Поттер как раз занимался взрывом машины мисс Каррадос…
— Простите, — прервал его Милич, — как ее фамилия?
— Каррадос. Два «р». Прошу вас, Поттер, введите нашего гостя в курс дела.
— В десять десять восьмого декабря в полицию позвонил какой-то человек, который не назвал себя, и сообщил, что на шоссе, на самом съезде к Лейквью, взорвалась машина. Этот поворот находится в восьми милях от нас. Дежурный тут же отправил туда меня. Меня и «скорую помощь». Я как раз работал позавчера. Я приехал на место в десять тридцать. Машина действительно взорвалась. Это была «Вега-шесть», и поверьте, от нее мало что осталось.
— Вы сфотографировали место взрыва? — спросил лейтенант, и по тому, с какой гордостью Поттер утвердительно кивнул, он понял, что полиция Буэнас-Вистас не слишком часто занимается фотографией.
— Уже с места я вызвал по радиотелефону еще одну машину и попросил взять фотоаппарат со вспышкой. Вот фото, я захватил их с собой.
Лейтенант Милич взял три фотографии. Исковерканный, неузнаваемый кузов. Искореженный, скрученный металл. Типичная смерть века — в ржавом железе.
— А хозяйка машины?
— Когда я приехал, ее уже отправили в больницу.
— Каким образом?
— Когда стали останавливаться машины, привлеченные пламенем, кто-то заметил молодую женщину, лежавшую неподалеку от места взрыва. Она была тяжело ранена. Некая мисс Ван Хойзен с помощью других уложила ее в свою машину и привезла в Буэнас-Вистас в больницу. Так что «скорая помощь», которую прислал дежурный, оказалась ненужной. В больнице мисс Каррадос умерла на следующий день, так и не приходя в сознание. Внутренние кровоизлияния, ожоги, не говоря уж о переломах.
— Вы осмотрели место взрыва?
Поттер посмотрел на Милича с презрением:
— Конечно. Мы не Шервуд, но…
— Ладно, сержант. Если хотите дуться на меня, это ваше дело. Они из столицы, а мы здесь… и так далее. Отговаривать вас не буду, потому что если уж человек решает обижаться, он всегда найдет для этого повод.
Поттер вдруг ухмыльнулся:
— Насчет столичных — это вы точно сформулировали, но обижаться на вас я не буду.
— Ну и отлично.
— В десять часов вечера, конечно, темно, да и погода была позавчера ужасающая. Шел дождь, ветер. Поэтому основной осмотр мест я произвел на следующий день рано утром. Прежде всего о месте взрыва. Машина ехала из Лейквью и взорвалась на самом повороте боковой дороги на шоссе.
— Смогли вы установить характер взрыва?
Сержант Поттер покачал головой:
— Боюсь, что нет. У нас здесь специалистов по взрывам нет, а я ни к какому твердому заключению прийти не мог.
— А не твердому?
— По-моему, взрыв был не случайный.
— На основании чего вы так считаете?
— Ну, прежде всего потому, что взрыв машины практически на ровном месте, без аварии, без столкновения — вещь очень редкая. Потом, когда взрывается машина, на которой едет человек, работающий в секретном проекте, да еще в день приезда русских…
— Ну, коллега, это же не доказательства. Это скорее из области беллетристики.
— Как вы сказали?
— Литературы.
— А… Так я и говорю, что это не твердое заключение. И даже не косвенные доказательства. Общие, так сказать, рамки.
— И все?
— Нет. Я нашел одну почти целую металлическую линейку и кусок другой.
— Линейки?
— Угу.
— Ну и что?
— Мисс Каррадос ничего не чертила…
— Но она же…
— Нет, они мне объяснили в Лейквью, что она никакого отношения к технике не имела. Абсолютно никакого. А молодая девушка девятнадцати лет, не имеющая никакого отношения к технике, не возит обычно в машине две металлические линейки.
Поттер торжествующе посмотрел на Милича, и тот усмехнулся.
— Правильно, сержант, так их, столичных зазнаек.
— Да я…
— Не стесняйтесь, давите их.
— Это еще не все, — театрально сказал Поттер, сделал для пущего эффекта паузу и добавил: — На конце одной из линеек, той, что почти целая, я заметил какую-то неровность. Это оказались следы припоя.
— Значит, вы думаете, эти линейки были частями взрывного устройства?
— Да, — гордо кивнул Поттер, и лейтенант, глядя на мясистое, красное лицо сержанта, подумал, что физиономиста из него не вышло и что Поттер умнее, чем ему показалось.
— Наверное, вы правы, — задумчиво сказал Милич. — Действительно, есть такая конструкция самодельных бомб для машин. К двум металлическим линейкам припаивают проводки, ведущие к детонатору. Линейки друг от друга изолируют так, чтобы они лежали на каком-нибудь изоляторе, например резине, одна над другой, наподобие крокодильей пасти. Концы пасти всовывают в пружины подвески машины. Как только машину слегка тряхнет, пружина сожмется, сожмет концы линеек, замкнув тем самым электрическую цепь, — и пожалуйста, сержант Поттер начинает лазить по месту взрыва. Вы молодец, и я говорю это искренне.
В красном лице сержанта появился кирпичный оттенок, и Милич понял, что его собеседник покраснел.
— Я никогда с такими штуками не сталкивался, — сказал Поттер, — но читал раз про это. Не помню точно, в какой книге, но помню, меня поразило, как все подробно там было описано. Как руководство «Сделай сам».
— Руководство… гм… Пожалуй, единственное, чему людей не надо учить, — это преступлениям. И откуда только фантазия берется!..
— Это точно вы говорите… Я еще помню, что в книге подробно описывалось, куда какой проводок идет. Батарейка, детонатор, взрывное устройство. И я часа два лазил по мокрой траве, в кустах. И нашел несколько кусочков тонких проводков, которые в электропроводке машины не применяются.
Милич посмотрел на начальника полиции Буэнас-Вистас, который тихо сидел в кресле и глядел с отеческой гордостью на Поттера.
— Мистер Брюнес, как бы вы реагировали, если б я попросил у вас сержанта? Я бы на вашем месте не колебался. Если нам удастся чего-нибудь добиться, — лавры пополам. По весу, по счету — как угодно. Половина — полиции Шервуда, половина небольшой, но опытной и самоотверженной полиции Буэнас-Вистас, мужественно стоящей на защите закона и порядка под руководством скромного своего начальника, всеми уважаемого мистера Брюнеса.
Брюнес добродушно рассмеялся. Смех был искренний, и Милич решил, что больше всего, наверное, его рассмешили слова о скромном, всеми уважаемом мистере Брюнесе.
— Вы как этот самый…
— Змий-искуситель?
— Точно. Ну, а если распутать ничего не удастся? Профессор Хамберт летает высоко, туда начальники полиций маленьких городков не залетают, крылышки слабы. Что тогда, если профессор пожалуется? А я как раз вышел на финишную прямую перед пенсией…
— Я как раз к этому и шел. Если провал — виноват во всем лейтенант Милич. Вы не представляете, как эта идея понравится в Шервуде.
— Что вы виноваты?
— Угу. Я стольким людям наступал по глупости на мозоли… А теперь уже не могу отучиться. Плохая привычка — смотреть, как гримасничают владельцы мозолей, когда ступаешь на них…
На лице начальника полиции Буэнас-Вистас появился неподдельный ужас, и Милич подумал, что он-то уж наверняка никому ни на какие мозоли не наступал и вообще, похоже, не вылезал из-за своего стола, в который давно врос. Он даже ничего не сказал по поводу мозолей. На финишной прямой перед пенсией осторожность ценится превыше всего. Впрочем, такие люди, как Брюнес, всегда идут по прямой, избегая поворотов.
— Так как, мистер Брюнес?
— У нас мало людей, и я боюсь, что…
— Профессор Хамберт, как вы выразились, летает высоко, и если бы ему вдруг пришла в голову идея, что полиция Буэнас-Вистас не хочет оказать посильную помощь… На финишной прямой…
Брюнес бросил быстрый взгляд на человека, сидевшего перед ним. Двадцать или даже двадцать пять лет разницы. Один с самоуверенностью молодости шагает по мозолям ближних своих и гордится этим, другой видит лишь финишную ленточку, такую желанную финишную ленточку.
— Хорошо, — вздохнул он. — Поттер, вы будете работать с лейтенантом Миличем. И не вздумайте докладывать мне. Это дело Шервуда, а не наше, и я просто пытаюсь помочь. Понятно?
— Вполне, сэр.
— В таком случае, до свидания.
Когда они вышли на улицу, Милич сказал:
— Если не хотите, можете отказаться.
Поттер только хмыкнул, но ничего не ответил.
— Ладно. У вас тут есть гостиница?
— Есть. Целых две. Мотель Лейквью, хотя никакого вида на озеро из него нет, и отель Лемана.
— Какой из них лучше?
Поттер пожал плечами:
— Наверное, отель.
— Хорошо. Я оставлю там вещи и свяжусь с профессором Хамбертом, а вы съездите в больницу, узнайте у врачей и сестер, не говорила ли что-нибудь мисс Каррадос.
— Она не приходила в сознание.
— Я знаю. Но она могла бредить… что-нибудь. Не знаю, как вы, Поттер, а я вначале всякий раз твердо уверен, что ничего сделать не смогу. Люди задумали преступление, тщательно готовили его, умные люди, способные на все, и я, Генри Милич, должен оказаться умнее их. А вы говорите, инспектор шервудской полиции…
— Я вас понимаю, Мистер Милич.
— Давайте-ка перейдем на имена. Зовите меня Генри. По крайней мере, это короче на два слога, чем мистер Милич. Хорошо?
— Хорошо. А меня зовут Джим.
— Прекрасно. Это-то мы, по крайней мере, выяснили без особых трудностей. Да, вот еще: посмотрите в больнице, оставила ли эта дама, которая привезла Каррадос в больницу, свой адрес.
— Миссис ван Хойзен.
— Тем более. Если найдете ее адрес, поговорите и с ней.
— Хорошо.
— Мне звоните в отель. Если меня не будет, портье скажет, где я. Дайте мне ваши координаты.
— Вот, пожалуйста. — Поттер вынул из бумажника визитную карточку.
— Если не ошибаюсь, я проезжал какой-то отель, когда ехал к вам. Это он и есть?
— Да, в полумиле отсюда. С левой стороны.
ГЛАВА II
— Мистер Милич, — сказал профессор Хамберт, растирая ладонью левую руку, — прежде всего я хотел бы, чтобы вы уяснили себе характер исследований, которые мы вели здесь. Понимаете, эти исследования не совсем… гм… обычные, и я бы попросил вас соблюдать максимальную осторожность. Через несколько минут вы поймете, что я имею в виду. Мисс Каррадос, которая вчера умерла в больнице, принимала сигналы внеземной цивилизации.
— Принимала или хотела принимать?
— Мистер Милич, чтобы нам не тратить лишнего времени, давайте договоримся: я говорю именно то, что хочу сказать. И если я говорю «принимала сигналы внеземной цивилизации», я имею в виду именно этот факт.
Профессор переменил руки и теперь растирал левой ладонью правую руку. Кожа на тыльной стороне рук была у профессора морщинистая, как кожа ящерицы, и покрыта пятнами пигментации. «Я смотрю на кожу его рук потому, что мой мозг пытается выиграть время, чтобы поглотить сказанное профессором», подумал лейтенант Милич.
— Она…
— Мисс Каррадос получала во сне сигналы в виде сновидений. Сомнений у нас в этом нет никаких. Особенно когда мы узнали, что и у русских есть человек, который видит те же сны.
«Спокойно, — сказал себе лейтенант Милич, — никаких эмоций. Ты ищейка, идущая по следу. Тебя не должно волновать, оставил ли следы банальный вор или маленький зеленый человечек с летающего блюдца. Это тебя не касается».
— Этот русский, Юрий Чернов, прилетел вчера вместе с руководителем их проекта академиком Петелиным. Я лично пригласил их. Они приглашали нас, и я бы с удовольствием поехал, но мисс Каррадос категорически отказалась. У нее тяжело больна мать. Практически она обречена… — Профессор медленно и машинально растирал ладонью сухую, морщинистую кожу, словно заряжал себя статическим электричеством. Он помолчал и продолжал: — Если бы я только уговорил ее… Девочка была бы жива…
Пауза все растягивалась, становясь напряженнее и напряженнее, пока Милич не спросил:
— Если не ошибаюсь, вы обратились в полицию из-за того, что у вас пропали материалы?
Профессор вздрогнул, поднял голову.
— А? Да, совершенно верно.
— И когда вы обнаружили пропажу?
— Вчера вечером. Я встретил в Шервуде русских, привез их сюда, показал им их коттедж и договорился, что зайду за ними в восемь часов, чтобы пообедать у нас. Часов около семи я пошел в свой кабинет. Он находится в центральном здании. Я открыл сейф — он был пуст. Все материалы лежали в портфеле: магнитные кассеты с записью рассказов мисс Каррадос, лабораторные исследования ее состояния во время сна — все результаты наших исследований…
Профессор замолчал и опустил голову. Старую седую голову на старой морщинистой шее. Поражения тяжелы вообще, а старикам вдвойне. Или втройне. Проигрыш, который уже не обыграешь, подумал Милич.
— Но самое главное — Лина Каррадос. До момента, пока я не обнаружил пропажу материалов, я был уверен, что это несчастный случай. Но когда я увидел пустой сейф…
— Боюсь, вы, скорее всего, правы, профессор, — сказал Милич. — Похоже, что это не простое совпадение. Сержант Поттер из местной полиции, который осматривал место взрыва, обнаружил кое-какие указания, что в машину была подложена бомба.
— Бомба?
— Я говорю то, что имею в виду. Бом-ба.
— Бомба — в машине Лины?
— Да.
— Но…
— Что «но»?
— Кому она могла мешать? Она была почти девочкой. Ей только исполнилось девятнадцать лет. Она не могла никому мешать. Кто мог захотеть убить ее?
— Пока я не могу ответить на этот вопрос.
— Убить Лину? Это просто не укладывается в сознании. Это какое-то нелепое заблуждение. Полиция ошибается. Ведь ошибается же полиция? Бывают такие случаи?
— Сколько угодно. Но не на этот раз. Скажите, профессор, кто знал, что она вечером поедет в Буэнас-Вистас?
— Кто знал? — Профессор беспомощно пожал плечами. — Все, наверное.
— Что значит — все?
— Вся наша группа, девять человек. Не считая меня и моей жены.
— Стало быть, одиннадцать человек?
— Ну, может быть, еще Дик Колела. Он здесь нечто вроде сторожа. — Профессор на мгновение прикрыл глаза, проверяя себя, потом кивнул: — Да, двенадцать человек.
— А молодой человек вашей сотрудницы?
— Наверное, и он знал, раз она ехала к нему на свидание.
— Вы его видели когда-нибудь?
— Нет, ни разу, но Лина рассказывала о нем. Они познакомились где-то в городе. Он печатник в типографии местной газетки. Сейчас я вспомню его имя… Брюс… да, Брюс Тализ. Кажется, так.
— И вы не представляете себе, кому нужна была смерть мисс Каррадос?
— Абсолютно не представляю. Лина… Она была как птица, маленькая, веселая, бесхитростная птичка. Все улыбались, когда смотрели на нее. Когда она появлялась в своих неизменных джинсах и короткой черной кофточке, которая то и дело задиралась и обнажала полоску загорелой кожи, встряхивала длинными, распущенными по плечам волосами и, сияя, начинала рассказывать нам какую-нибудь милую глупость, мы все расплывались в улыбках… Простите меня, мистер Милич, что я снова и снова с маниакальной настойчивостью повторяю одно и то же, но я ничего не могу поделать. Если бы вы хоть раз видели Лину Каррадос, вы бы поняли меня…
— Убивают не только старых и уродливых. Убивают тех, кто мешает. Чье исчезновение выгодно.
— Может быть. Наверное, вы правы. В этих вещах вы понимаете больше меня. И тем не менее мне вам просто нечего больше сказать.
— А как относились члены вашей группы к работе, которую вы проводили?
— О, с огромным энтузиазмом, разумеется. Вначале, пока у нас были сомнения, энтузиазм разделяли не все. Но когда сомнений не осталось, нами всеми овладела буквально лихорадка. Мы все отдавали себе отчет в необыкновенной важности работы. Даже не просто важности. В исторической роли работы. Вы представляете, что это значит — впервые в истории человечества установить контакт с иной цивилизацией? Пусть вначале даже односторонний. Разумеется, у нас были да и остаются некоторые опасения. Профессор Лернер, например… Это наш социолог. Он считает, что знакомство человечества с иной цивилизацией, стоящей на более высокой ступеньке развития, может оказать отрицательное влияние на весь дальнейший ход истории. Я этой точки зрения не разделяю. Я считаю, что мы вообще переоцениваем влияние идей на судьбы человечества… Но это другой вопрос.
— Скажите, вы, случайно, не знаете, была мисс Каррадос застрахована?
— Понятия не имею.
— Вы можете мне сказать, ездила ли куда-нибудь Лина на своей машине в день трагедии?
Профессор Хамберт склонил голову набок и пожевал серую нижнюю губу.
— Весь день она была здесь. И ночевала здесь.
— Могу я спросить вас, профессор, уверены ли вы в этом?
— Гм… В том, что восьмого она никуда не уезжала, — да. А ночью… Я спросил ее утром, как ей спалось… Я каждое утро задавал ей этот вопрос… — Профессор вздохнул медленно и печально. — А Лина рассмеялась и сказала, что спала как убитая… Как убитая… Как убитая. Все это легко проверить у сторожа. Ворота обычно закрыты, и, чтобы въехать или выехать из Лейквью, нужно, чтобы он открыл их.
— Спасибо. Наверное, у сторожа я смогу узнать и о других.
— Конечно.
— Меня интересует, в частности, кто из сотрудников ночевал здесь в ночь с седьмого на восьмое.
— Обычно почти все предпочитают ночевать здесь. Здесь так тихо…
— Ну что ж, благодарю вас. Если вы дадите мне список ваших сотрудников, на сегодня достаточно.
— Я приготовил список. Вот он. Сейчас все люди здесь, в Лейквью… Все, что я смогу сделать для вас, я сделаю. — Голос профессора стал хриплым, но он не откашлялся. — Я многое отдал бы, чтобы узнать, кто подложил в Линину машину бомбу.
— Да, еще маленькая деталь, чуть не забыл. Вы мне сказали, что открыли сейф, чтобы взять документы, и он был пуст.
— Совершенно верно.
— Никаких следов того, что его пытались взломать?
— Нет. Сейф был в полном порядке. Я набрал комбинацию и открыл дверцу.
— А кто знал эту комбинацию, кроме вас?
— Кроме меня? Никто. Хотя простите, комбинацию знал еще один человек.
— Кто же?
— Лина. Теперь я вспоминаю. Да, конечно, она знала. Я стоял как-то у сейфа, не то закрывая, не то открывая его… Пожалуй, закрывал, потому что был уже вечер. Да, горел свет. Внезапно я услышал Линин смех. «Мистер Хамберт, поздравьте меня! Я только что открыла способ, как разбогатеть!» — «Какой же?» — спросил я. Наверное, я улыбался. Я всегда улыбался, когда разговаривал с ней. Никогда нельзя было заранее знать, что она скажет. «Я стану медвежатницей». — «Что? Ты будешь охотиться на медведя?» — «Ах, профессор, профессор! сказала она, подошла ко мне, взяла мою руку и потерлась щекой о нее. — Какой вы необразованный! Медвежатник — это специалист по открыванию сейфов». — «Ты хочешь стать механиком?» — «Нет, вором. Воровкой. Представляете заголовок в газетах: «Величайшая медвежатница всех времен и народов Лина Каррадос сегодня обчистила свой тысячный сейф». Каково?» «И как же ты собираешься стать медвежатницей?» — спросил я. Когда я разговаривал с Линой, мне неважно было, о чем шла речь. Мне достаточно было смотреть на нее. Наверное, если бы мне было хотя бы лет на тридцать меньше, я бы влюбился в нее. «Очень просто, — пропела Лина, — вот вы сейчас набирали комбинацию девятнадцать-двадцать пять-пятьдесят девять. Правильно?» — «Конечно. Я ведь совсем забыл, что ты читаешь мысли», - сказал я. «То-то же, берегитесь!» — еще раз пропела Лина и выпорхнула из кабинета. — Профессор покачал головой, как бы прогоняя воспоминания. — Простите, я увлекся деталями.
— Что вы, что вы! — сказал лейтенант Милич и подумал, что старику, наверное, не нужно было сбрасывать тридцать лет, чтобы полюбить эту Лину в опущенных на пупок джинсах и черной короткой кофточке. — И, кроме мисс Каррадос, никто комбинации сейфа не знал?
— Нет. Строго говоря, никакой особой уж необходимости в этом сейфе не было. Никаких официальных секретных документов, никаких крупных сумм и так далее. Просто в сейфе было удобнее хранить все материалы опытов, и, кроме того, мы все твердо решили любыми способами предотвратить преждевременное разглашение результатов.
— Гм?… Вы говорите, она читала мысли? Что это значит? В прямом смысле этого слова?
— Видите ли, раньше у нее этого необыкновенного дара не было. Она обрела эту способность уже после сновидений, о которых я вам уже говорил. Мы считали, что чтение мыслей безусловно связано с ее ролью рецепиента космических сигналов.
— И что же, она могла знать, о чем думают окружающие ее люди?
— Да. Она просто читала их мысли, слышала. Правда, для этого ей нужно было сосредоточиться, нужно было захотеть. Только тогда она начинала слышать чужие мысли. Я понимаю, как это все фантастично звучит. Мы сами прошли через стадию неверия, недоумения, нежелания поверить и наконец принятия этого как факта, который существовал, но который мы не могли объяснить. Профессор Лернер первый предположил, что чтение мыслей — инструмент, при помощи которого внеземные корреспонденты Лины пытались привлечь внимание к ее сновидениям.
— Спасибо, профессор. Я должен хорошенько обдумать то, что вы рассказали мне.
— И я не сразу смог все это воспринять. Как до сих пор не могу воспринять, что завтра я не увижу Лину.
Лейтенант встал и посмотрел на профессора. Высокий сутулый старик, погруженный в воспоминания. Лейтенант тихонько вышел из комнаты.
Поттер уже ждал его в гостинице. Он сидел в холле и мирно дремал, держа перед собой газету. Но едва Милич толкнул вертящуюся стеклянную дверь, как он открыл глаза и встал.
— Если не возражаете, пошли наверх ко мне в номер, — сказал лейтенант. — Я заметил, что преступления раскрываются преимущественно тогда, когда снимаешь ботинки.
— Может быть, мне лучше тогда все время бегать босиком? ухмыльнулся Поттер.
Они поднялись в маленький номер, и Милич с наслаждением плюхнулся на кровать.
— Можете занять диван. Что успели?
— Я разговаривал с сестрами и врачом. Она не приходила в сознание и не бредила. Ни слова.
— А эта добрая самаритянка?
— Простите…
— Ах, Джим, Джим, сразу видно, что вы из не очень религиозной семьи. А в меня так матушка вгоняла священное писание, с таким пылом, что я иногда по два дня сидеть не мог. Мать и бабушка. Бабушка и дедушка с отцовской стороны родом из Загреба, тогда это была еще Австро-Венгрия… Да, так нашли вы женщину, которая привезла мисс Каррадос в больницу?
— Да. Она оставила там свой адрес: Стипклиф. Я разговаривал с ней.
— По телефону?
— Нет, съездил туда. Это всего сорок миль. Милая старушка. Знаете, — бывают такие чистые, уютные старушки с личиками, как печеные яблоки. Она ехала в Буэнас-Вистас к дочери. Увидела у шоссе на обочине пламя. Остановилась. Она говорит, что несколько машин уже стояло. Кто-то крикнул — кто именно, она не знает, — что на земле лежит раненый. Она предложила, что довезет его до больницы. Она говорит, что никогда в жизни не ехала с такой скоростью. Ей все казалось, что девушка вот-вот умрет.
— И мисс Каррадос ничего не сказала?
— Нет. Она только стонала.
— Понятно. Послушайте, Джим, вернемся-ка к взрыву. Профессор Хамберт утверждает, что пропавшие из сейфа материалы лежали обычно в портфеле. Не нашли ли вы случайно чего-нибудь похожего на портфель?
— Нашел. Не просто что-то похожее на портфель, а настоящий портфель. И не очень обгорелый. Я так представляю себе, что взрывом его выбросило из машины.
— А что было в нем?
— Ничего.
— Гм?… Где сейчас портфель?
— У меня. В управлении.
— А остатки машины?
— В полиции. Во дворе.
— Ладно. Я позвоню в Шервуд и попрошу, чтобы прислали нашего пиротехника…
— Кого?
— Специалиста по взрывчатке и взрывам. А вы посмотрите портфель, нет ли на нем отпечатков пальцев, хотя шансов, как вы сами понимаете, не слишком много. Если у человека хватает ума и знаний изготовить бомбу и взрывное устройство, подложить ее в машину, а до этого открыть сейф, не повредив его, — этот человек не станет оставлять отпечатки пальцев. Но портфель для очистки совести осмотрите, и завтра мы покажем его профессору. И завтра же утром на всякий случай осмотрите сейф. А вдруг? Хотя я лично в чудеса не верю. Старик ничего существенного рассказать мне не мог. О чем бы он ни говорил, его тут же сносило к этой Лине Каррадос. О ней он рассказывает всякие чудеса. Она и эти сны видела, она и мысли читала.
— Мысли?
— Мысли.
— Чьи?
— Любого, кто был рядом с ней.
— Гм… Вот вам и мотив…
— Не думаю. Ну, могла она, допустим, определить, что кто-то испытывал не слишком возвышенные чувства к ней, кто-то кого-то недолюбливал, кто-то кого-то ревновал… Это еще не повод для убийства.
— Но могла она узнать что-то важное?
— Могла, конечно. И так или иначе мы должны найти, кому выгодна была ее смерть. — Лейтенант вздохнул. — Старику, конечно, нелегко. Уж очень он был к ней привязан… Простите, что я вас эксплуатирую, но постарайтесь найти сейчас по телефону Брюса Тализа. Он работает как будто печатником в типографии городской газеты. У вас одна газета?
— Одна. «Буэнас-Вистас икзэминер». Была еще одна, да закрылась уже лет пять назад.
— Валяйте, Джим. Знаете, как мой шеф в Шервуде судит о работниках? По умению обращаться с телефоном. Преступление раскрыть, говорит он, любой может, а вот ты попробуй уговорить человека на другом конце провода, который тебя не знает и не видит, сделать что-то для тебя. Для этого талант иметь нужно.
Лейтенант Милич закрыл глаза. Всегда так. Хотя бы раз повезло. Хотя бы раз из преступления торчала крепкая заметная ниточка, как из пакета со стерильным бинтом. Чтобы можно было сразу потянуть ее и из пакета выпал бы преступник, держа в зубах заготовленное признание.
А пока что стена. Контакт с инопланетянами. Тут с людьми контакта не установишь, не то что с маленькими зелеными человечками. Стена, на которой пока даже трещин не видно. Разбегайся — и головой. Глядишь — появится трещина. В стене или голове. Но ты чувствуешь такую же панику каждый раз, подумал Милич. Верно, ответил он сам себе. Но на этот раз стена особая. Вещие сновидения и чтение мыслей. Философы и астрономы. Целая академия, и ты должен распутать клубок. Неважно. В конце концов, убивают везде из; за одного и того же. Жадность, страх, ревность, зависть — везде одни и те же двигатели полицейского прогресса.
Милич знал, что на него накатывается волна раздражения. Надо только не торопиться. Подождать, пока она схлынет, и он перестанет жалеть себя и завидовать тем, чья жизнь в такие минуты казалась ему, в отличие от его жизни, полной, яркой, интересной.
— Мистер Милич, что сказать этому Тализу? — Поттер прикрыл рукой микрофон трубки.
— Спросите, может ли он прийти сюда… ну, скажем, через полчаса. Чтобы мы успели пожрать чего-нибудь.
Джинсы, короткая черная кофточка и распущенные волосы. Это тебе не астрономия и философия. «Представляю, каково сейчас старику — потерять такую игрушку. Стоп, Милич, — сказал себе лейтенант. Мысленно он называл себя всегда по фамилии. — Стоп. Это пошло. На уровне капитана Трэгга. Волна раздражения. Жалость к себе».
Они едва успели поесть, как в дверь постучали.
— Войдите! — крикнул Милич, и в комнату вошел высоченный, похожий на Христа парень.
Вьющиеся слегка рыжеватые волосы спадали на плечи, борода была густая и короткая. Светло-голубые глаза смотрели спокойно, и в них не было ни беспокойства, ни любопытства.
— Добрый вечер, — сказал Христос неожиданно высоким голосом. — Я Брюс Тализ.
— Добрый вечер. Я инспектор Милич. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов. Вы знакомы с Линой Каррадос?
— Да.
— Вы знаете, что она погибла?
— Да.
— И вы знаете, как она погибла?
— Да, я читал в газете.
Лейтенант посмотрел на Тализа. Спокойные, терпеливые глаза. Чуть расширенные зрачки. Крупные кисти рук, неподвижно лежащие на белесо-голубых джинсовых коленях. Только что у парня умерла девушка, а он и рыжей бровью не веет.
— Вы долго встречались?
— Нет, недели две.
— Какие у вас были отношения?
Христос медленно пожал плечами и посмотрел прямо в глаза Миличу:
— Она нравилась мне. Я мечтал снять с нее груз.
— Что?
— Снять с нее груз. Так мы в Синтетической церкви называем приобщение к истинной вере.
— А, вы принадлежите к Синтетической церкви? — спросил лейтенант и подумал, что он невнимателен. Он сразу должен был понять, что перед ним синт. Хотя бы по глазам. Спокойствие, принесенное их снадобьем. Как оно у них называется? Ага, христин.
— Да, — ответил парень. — И родители и я. Я надеялся, что помогу и Лине снять груз.
— Вы давали ей христин?
— Нет, мистер Милич. Вы не понимаете. Мы никого не обращаем в нашу веру христином. Христин для нас — как молитва. А у Лины не было веры. Я ей рассказывал о нашей церкви, как она снимает груз с души и сердца и приносит гармонию.
— Она слушала?
— Да, ей было интересно. Она не уставала расспрашивать меня о нашей вере.
— В тот вечер, когда она погибла, у вас было назначено свидание?
— Да, накануне мы договорились встретиться.
— Накануне? Это седьмого декабря?
— Верно.
— В каком она была настроении?
— В обычном. Посмотрит на меня, рассмеется и спросит: «Ну, Брюс, неужели ты всегда будешь таким серьезным?» — «Если не потеряю веру, — отвечал я ей. — Это ведь не серьезность, Лина. Это гармония». — «А что такое гармония?» — спрашивала она. «Ты этого не понимаешь, пока на тебе груз, отвечал я ей. — Груз — это бремя эндокринного испытания, посланного нам небом. Бремя злых страстей. Сними груз — и ты воспрянешь. И вместо груза почувствуешь гармонию».
— Она говорила вам, что ее мать тяжело больна?
— Да. Мы договаривались, что на следующей неделе съездим в Шервуд. Она говорила, что мать страдает и ей нужна вера и помощь.
— Вы знали, что делает Лина в Лейквью?
— Нет, точно не знал. Она как-то сказала, что работает там стенографисткой.
— И вы не расспрашивали ее подробнее?
— Нет, мы, синты, нелюбопытны. Излишняя, суетная информация делает достижение гармонии и удержание ее более трудным.
— Спасибо, мистер Тализ.
— Пожалуйста, — сказал молодой человек, вставая.
Он достал из кармана металлическую коробочку с выдавленным на ней распятием, сдвинул крышку, высыпал на ладонь два белых шарика, привычным движением бросил их себе в рот и вышел из комнаты.
— Ну, что вы думаете, Джим? Настоящий синт или играет?
— Настоящий, — убежденно сказал Поттер. — Так не сыграешь. Да и зачем? Проверить — дело десяти секунд. — Поттер потянулся к телефону.
Милич усмехнулся:
— Я начинаю подумывать, чтобы представить вас своему шефу. Вы хватаетесь за телефон, как киноковбои за пистолет, когда заходят в салун… Бог с ним, с этим парнем. Может быть, ее действительно интересовала Синтетическая церковь, а может быть, она хотела сделать что-нибудь для умирающей матери. Во всяком случае, пока он для нас особого интереса не представляет…
— Мистер Милич…
— Генри…
— Простите, никак не могу привыкнуть… Если Лина и ехала в город на свидание с этим синтом, это вовсе не исключает, что она могла захватить портфель с документами, чтобы передать кому-нибудь по пути.
— И как же все материалы тогда исчезли из портфеля? Дематериализовались?
— Простите…
— Выскочили из портфеля?
— Она могла вынуть материалы из портфеля до взрыва.
— А зачем? Почему бы не передать иксу материалы вместе с портфелем? Представьте себе: вечер, темно, холодно, идет дождь. И нужно вытаскивать из портфеля все эти бумаги, пленки. Я просто не вижу в этом смысла. Впрочем, пока я ни в чем не вижу смысла. Нет, все это в высшей степени мало вероятно. Лина Каррадос выкрадывает материалы, чтобы передать их кому-нибудь, а ей тем временем подсовывают в машину маленькую аккуратненькую бомбочку. Не импонирует мне…
— Простите, не понял.
— Не впечатляет меня эта теория.
— Значит, вы считаете, что материалы вытащила из сейфа не мисс Каррадос?
— Я ничего не считаю. Я ни в чем не уверен. Просто в голове у меня крутятся все эти чудеса: космические сновидения, самодельные бомбы, знаменитый влюбленный старик, голопузая юная красавица, чтение чужих мыслей, русские и все остальное. Разве это для такого человека, как я? Мне по должности положено что-нибудь попроще. Муж раскраивает гаечным ключом череп любимой супруге за то, что та не приготовила вовремя обед. Или наоборот. Все ясно, понятно, четко, гармонично, современно. И ты начинаешь вибрировать в такт…
— Простите, я как-то не совсем улавливаю…
— Ладно. Не надо вибрировать. Я же говорю все это не потому, что хочу вам что-то сказать. Я говорю потому, что сказать мне нечего. Вы замечали такую корреляцию?
— Извините…
— Ах да, корреляция. Связь. Взаимозависимость. Чем меньше человек может сказать ближнему, тем больше он тратит для этого слов. Вот что я хотел сказать.
Сержант Поттер посмотрел на лейтенанта:
— Никак не привыкну, как вы разговариваете… Но я понимаю, понимаю… Я сам, когда голова очень забита чем-то, становлюсь что немой.
— Вы прекрасно все поняли. Правда, с другим знаком. Наоборот. Но это не имеет никакого значения… Значит, завтра вы проверите для очистки совести портфель, также для очистки нашей полицейской совести посмотрите на сейф — а вдруг совестливый преступник оставил нам набор своих отпечатков? А я начну знакомиться с обитателями Лейквью.
ГЛАВА III
Профессор Лернер оказался маленьким человечком с огромной копной седеющих волос и насмешливыми глазами. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и курил. Несколько раз он забывал стряхнуть пепел, и Милич видел, как серенький столбик падал на мятый пиджак социолога.
— Вы спрашиваете, лейтенант, могли бы у кого-нибудь быть мотивы для убийства Лины Каррадос? Сколько угодно. Например, у меня. Мои коллеги, без сомнения, расскажут вам, что Абрахам Лернер не в слишком большом восторге от идеи космического братания.
— И это будет соответствовать истине?
— О да, — тонко улыбнулся Лернер. — Разве могут уважаемые ученые мужи возводить напраслину на коллегу? Меня действительно пугает мысль о том, что человечество могло бы познакомиться с какой-нибудь иной моделью развития.
— Почему?
— Потому что цивилизация наша хрупка и ненадежна. Ни одно уважающее себя страховое общество не возьмется застраховать ее хотя бы на полвека. Мы — странная и нелепая мутация. Разум, сознающий сам себя, — болезненный уродливый нарост на теле органической жизни. Знаете, что лежит в основе неустойчивости общества? Абсурдное противоречие между разумом, сознанием, сознающим себя, и бренным телом, терзаемым страстями, болезнями и обреченным на скорую смерть. Разум противится мысли о смерти и создает пирамиды и религию, философию и радиотелескопы, литературу и наследование состояний.
«О боже правый и милосердный! — подумал лейтенант Милич. — При таком начале он заговорит меня насмерть! И я умру, так и не построив себе пирамиду».
— И вот нашему неустойчивому, жалкому в своих противоречиях обществу говорят: а вот смотрите, как живут другие. В гармонии и спокойствии. Забыв, что такое смерть и одиночество. А ведь именно это основные черты мира, который видела Лина Каррадос. И вы думаете, это видение вдохновит человечество? — Профессор Лернер торжествующе и насмешливо посмотрел на лейтенанта.
Лейтенант почувствовал, что как представитель человечества должен попытаться защитить его.
— Конечно. Если, как вы говорите, какая-то другая цивилизация может жить в мире и согласии, достигнув бессмертия и избавившись от одиночества, разве эта мысль не придаст нам оптимизма?
— Нет, мистер Милич, — радостно вскрикнул профессор Лернер, — не придаст! И знаете, почему? По принципу масштаба зависти.
— Масштаб зависти?
— Угу. Вы ведь не склонны завидовать какому-нибудь Гетти, который даже не знает точно, сколько у него миллиардов. Он слишком далек от вас. Он абстракция. Фикция. Математическая фикция. Столько-то нулей. А вот вашему коллеге, у которого зажигалка со светочувствительным элементом, вы завидуете. Масштаб зависти соизмерим.
— Я не совсем…
— Сейчас, дорогой мой лейтенант, вы все поймете. Если бы Лина Каррадос принимала сигналы с планеты, на которой у автомобилей по сравнению с земными усовершенствованные тормоза, или даже если бы автомобили там летали, все было бы прекрасно. Это та же зажигалка, о которой мы мечтаем. Но речь идет не об автомобильных тормозах. Речь идет о цивилизации, рядом с которой мы — катастрофически размножившиеся темные, глупые, эгоистические животные. Линина цивилизация не зовет нас вперед. Она лишний раз наглядно показывает, кто мы и что мы. И от этого опускаются руки. Линины сны — это зеркало человечества. Только поглядев на ее планету, мы впервые увидели себя со стороны. Мы получили масштаб для сравнений. И сравнение не в нашу пользу. Заставьте человечество посмотреть в это космическое зеркало — и последние остатки воли к прогрессу, надежды на прогресс исчезнут. Профессор вдруг засмеялся и поднял палец правой руки. — Не то чтобы потеря была велика, но все же, согласитесь, жалко. Вы понимаете меня?
Лейтенант вздохнул. В этом и заключалось несчастье. Все они говорят так ловко и так убедительно, что хочется верить каждому, если даже этот каждый говорит нечто прямо противоположное тому, что говорили до него.
— Да, но…
— Никаких, к сожалению, «но»…
— Я хотел сказать, что говорите вы очень убедительно, но я, знаете, привык ко всему относиться настороженно. Инстинкт полицейского. Тем более, что другие…
— О да, — усмехнулся профессор Лернер. — В мире, в котором все становится дороже и дороже, единственный товар, недостатка в котором не замечается, — это теория. Инфляция интеллекта. Ежегодные распродажи вышедших из моды идей. Большой выбор слов. Наборы «Сделай сам». Философ за пять минут. Мисс, эти идеи вам не к лицу. У вас овальное лицо, и мы можем порекомендовать вам новые, только что полученные из-за границы идеи.
«Наркоман, — подумал Милич. — Наркоман. Упивается словами, как наркотиком».
— Мы немножко отвлеклись, мистер Лернер, — сказал он. Мы начали с того, что могло бы побудить кого-то убить Лину Каррадос. Вы сказали, что мотив мог бы быть и у вас.
— Совершенно верно. Я как раз и попытался объяснить вам этот философский мотив. Убивают даже тогда, когда появляется угроза кошельку, репутации или карьере, а здесь — угроза человечеству.
— Значит, вы признаете, что могли бы подложить бомбу в машину мисс Каррадос?
— Безусловно. Насчет «мог бы», наверное, к сожалению, нет. А вот что должен был бы — в этом у меня сомнений нет.
«Прямо дымовая завеса из слов. Каракатица, окутывающая себя темным облачком, чтобы благополучно удрать. Ящерица, оставляющая хвост в зубах преследователя».
— Значит, вы все-таки не подложили бомбу?
— Увы, нет. Я из породы говорунов. Когда легко говорить трудно делать. А ведь у меня были прекрасные возможности. Я знал комбинацию от сейфа в кабинете Хамберта.
— Что?
— То, что вы слышите. Как-то, не очень давно, я проходил мимо кабинета Хамберта. Дверь в него была открыта. В двери стояла Лина и смеялась. Я остановился. Когда Лина Каррадос смеялась, пройти мимо нее было невозможно. Поверьте мне. За шестьдесят четыре года жизни я слышал смех разных женщин. Даже над собой. Лина была рождена для смеха. Совершенное приспособление для получения самого звонкого, самого веселого, мелодичного, пьянящего женского смеха. Она не могла не смеяться. У нее умирает мать в Шервуде, но и мать не могла заткнуть этот серебряный фонтанчик…
«Стоит им заговорить о Лине, как все они становятся поэтами», - подумал Милич.
— Я остановился и услышал, как она говорит Хамберту, что станет… Как это слово? Тот, кто взламывает сейфы?
— Медвежатник?
— Совершенно верно. Она смеялась и говорила, что станет медвежатницей, потому что читает мысли и может определить комбинацию, если замок наборный. И назвала цифры. Я их и сейчас помню. Девятнадцать-двадцать пять-пятьдесят девять.
— Скажите пожалуйста, почему вы рассказали мне об этом случае? Вы ведь могли бы и не рассказывать. Видел вас кто-нибудь тогда у кабинета Хамберта?
— Нет. Ни одна душа.
— Зачем же вы мне рассказали? Допустим, о ваших взглядах на полезность контактов с внеземной цивилизацией мне могли бы рассказать ваши коллеги. Но то, что вы знали комбинацию сейфа?
Профессор Лернер хохотнул. Смешок у него был такой же маленький и стремительный, как он сам.
— Вы думаете, я сам знаю как следует? Разве что начну объяснять вам и пойму. У меня слово предшествует мысли…
«Это видно, — подумал Милич. — И ткет и ткет, прямо опутывает словесной паутиной».
— Понимаете, чтобы высказывать немодные взгляды, нужно обладать определенным интеллектуальным мужеством. И я горжусь тем, что такое мужество, как мне кажется, у меня есть. К шестидесяти четырем годам остается, знаете, не так уж много вещей, которыми можно было бы гордиться. Скрыть что-то от вас… Гм… Я бы почувствовал к себе презрение. Человек, утаивающий что-то от полицейского офицера, уже тем самым зачисляет себя в разряд тех, кто имеет хоть какое-то отношение к преступлению. А преступление мне всегда претит. Хотя бы потому, что всякое преступление банально. Я ясно выражаю свои мысли?
— О, вполне. Если бы только все те, с кем нам приходится иметь дело, думали так же, как вы! Значит, будем пока исходить из того, что вы так и не собрались подложить бомбу в машину мисс Каррадос.
— Пока? Пожалуйста, пусть будет пока.
— Отлично. А что вы могли бы сказать мне о других? Могли быть мотивы у других членов вашей группы?
— Разумеется. Как только несколько цивилизованных существ оказываются связаны общими интересами, у них тут же в изобилии появляются поводы для ненависти, зависти, страха, ревности и тому подобное. И стало быть, и для преступления.
— Например? Можете вы быть конкретнее или вы признаете только крупный шрифт?
— Не понимаю, — нахмурил лоб профессор Лернер.
— Слава богу, а то я один все время морщил лоб… Знаете, в учебниках психиатрии мелким шрифтом обычно набирают истории болезней для пояснения мысли автора. «Больная М.М., двадцати восьми лет, в детстве перенесла…» и так далее.
— Понимаю. Это остроумно. Что ж, перейдем к мелкому шрифту. Начнем с нашего ходячего памятника целой эпохи.
— Вы имеете в виду профессора Хамберта?
— Угу. Старик был явно влюблен в Лину.
— Это при их-то разнице в возрасте?
— Полноте, лейтенант. Шестьдесят лет — велика ли разница? — Профессор улыбнулся. — Он, разумеется, считает, что любит ее как дочь, но его жену это не вводило в заблуждение. Вот вам мелкий шрифт для начала. Профессор X.X., восьмидесяти лет, влюбился в девушку девятнадцати лет. Понимая, что не может рассчитывать на взаимность, не сумев себя обмануть самоувещеваниями, что испытывает лишь отцовские чувства, испытывая муки бессильной ревности к некоему молодому человеку, к которому ездит девушка, он убивает ее. А чтобы отвести от себя подозрения и создать видимость научного преступления, прячет материалы исследований. Каково, а? Идем далее. Супруга X.X., также терзаемая муками ревности и напичканная детективными и шпионскими историями с инструкциями по изготовлению маленьких аккуратных пластиковых бомбочек, взрывает машину соперницы.
— А сейф?
— Это уже детали. Это ваше дело. Я вам лишь подбрасываю идеи. Причем заметьте: бесплатно. А бесплатно разрабатывать детали я не умею. Продолжать или вы устали уже от этого умственного жонглирования?
— Нет, нет, мистер Лернер. Наоборот.
— Отлично. Продолжаем. Мисс Валерия Басс. Это наша специалистка по сну. Ассистентка профессора Кулика, о котором мы еще поговорим. Незамужняя дама тридцати с небольшим лет. Достаточно, чтобы потерять надежду стать настоящим ученым, и недостаточно, чтобы обрести философское смирение. Достаточно, чтобы сменить по крайней мере двух мужей, и недостаточно, чтобы вцепиться в последнего. Рядом с Линой Каррадос кажется бледной старухой с синеватым прозрачным носом. Чем не мотив?
— На этот раз я не аплодирую.
— И правильно делаете. Ученым и артистам аплодировать не следует, они сразу же перестают двигаться вперед. Кто уйдет по доброй воле от сладостных звуков оваций?
«О господи, я засыпаю! Еще немножко — и он усыпит меня этим нескончаемым потоком слов», - подумал лейтенант Милич.
— Следующий абзац мелкого шрифта. Сам профессор Кулик. Гм… Что бы ему придумать? Взглядов у бедняги нет, не было и не будет. Любовь? Только трогательная в своей бескорыстности любовь к себе. А может быть, он тайный безумец, убийца-маньяк?
— Слабо.
— Увы, действительно слабовато. Что значит эгоист… Еще один специалист по сновидениям, профессор Лезе. Никак не может простить родителям, что они родили его в Шервуде, а не в старой доброй Вене, где должен рождаться каждый уважающий себя психоаналитик. Гм… Вполне мог взорвать машину, чтобы потом на досуге не спеша анализировать самого себя.
— Психосамоанализ невозможен.
— Это выдумка психоаналитиков, которые боятся лишиться куска хлеба. Ну, а если говорить серьезно, ему мотива я пока подобрать не могу. Зато Чарльз Медина так и просится на скамью подсудимых. Молод, энергичен, мечтает занять уютную нишу, где наш Хью Хамберт спешно достраивает себе памятник.
— Но разве он не участвует в работе группы? Он в списке, который мне дал мистер Хамберт.
— О да, конечно. Но это группа Хамберта. Проект Хамберта. Хамберт выбил деньги у фонда Капра. Хамберт узнал о девчонке, которой снятся странные сны. А Чарльз Медина не из тех людей, которые согласны быть просто сотрудниками. Если бы ему предложили участвовать в проекте, который должен сделать человечество счастливым, он бы прежде всего спросил, кто будет руководителем. И если не он — отказался бы.
— Но он же согласился на этот раз.
— Может быть, только для того, чтобы скомпрометировать великого старца.
— Нельзя сказать, мистер Лернер, чтобы вы были особенно высокого мнения о ваших коллегах…
— Ученые в целом, как группа, невозможны. А как индивидуумы невыносимы. Пожалуй, за исключением Иана Колби. Это наш теолог, моралист и местный святой.
— Какой у него мог быть мотив?
— У него? Гм… Здесь даже моей фантазии не хватает. Кротчайшее существо. Синт. Синт третьего ранга. Знаете, те, что носят на одежде желтую нашивку.
— Ага. А он подпадает под ваше определение ученых?
— Пожалуй, нет. Он теолог. А это не наука. Религия — это мечта. Теология — поэзия. Он скорее поэт. Тихий, кроткий поэт, стремящийся к недостижимому совершенству…
— Так. Давайте подведем итоги…
— Э, обождите еще. Я совершенно забыл нашего физиолога Эммери Бьюгла. Отличная кандидатура для роли убийцы.
— Почему?
— Твердо убежден, что все несчастья — от разрядки. Спорил с Хамбертом до хрипоты, доказывал, что не следует проводить совместные исследования. Впрочем, он вам расскажет об этом сам. Его дважды просить не нужно, уверяю вас. Знаете, эдакий биологический консерватор. Человек, которого корчит от новых идей. Вот, собственно говоря, и вся наша маленькая компания, которая, надо думать, скоро распадется.
— Как скоро, кстати?
— Пока еще ничего не решено. Хамберт, насколько я понимаю, хотел бы провести цикл исследований с русскими, но что-то у них не получается.
— Что именно не получается?
— Не знаю. Я практически не разговаривал с Хамбертом с момента убийства.
— Ну что ж, благодарю вас, мистер Лернер. Мне было очень приятно беседовать с вами, хотя, конечно, я бы предпочел, чтобы вы сразу признались или хотя бы точно назвали убийцу.
— Увы…
— А вы кому-нибудь рассказывали о номере комбинации?
— Замка сейфа?
— Угу.
— Нет.
— Жаль. Был бы еще один, про которого можно было бы сказать: подозрение пало…
— Еще один?
— Ну конечно. Один уже есть.
— Кто же это?
— Вы, разумеется.
Абрахам Лернер рассмеялся, но смех получился искусственным.
— Вы так убедительно изложили мне свои мотивы, что просто было бы грехом не числить вас в фаворитах… И последний вопрос: в ночь с седьмого на восьмое вы были здесь, в Лейквью?
— Да. Я здесь почти все время. Изумительное место: тишина, покой, воздух божественный.
— А точнее? Вы ведь в коттедже живете один?
— Вы об алиби?
— Приблизительно.
— И в помине нет, — весело сказал профессор. — Весь вечер работал над рукописью, потом посмотрел какую-то глупость по телевизору, почитал в кровати и уснул. Никто и ничто поручиться за меня не может.
— Спасибо, мистер Лернер, вы мне очень помогли.
— Пожалуйста, пожалуйста, — ухмыльнулся ученый, — рад помочь нашей достославной полиции. — Он стряхнул пепел с пиджака и встал.
ГЛАВА IV
Вторую ночь я просыпаюсь в невыразимой печали. Я просыпаюсь рано, когда за окном висит плотная бархатная темнота. Здесь, в Лейквью, тишина необыкновенная. Я лежу с открытыми глазами и слушаю монотонный стук дождя о крышу. Иногда в стук вплетается разбойничий посвист ветра. Под одеялом тепло, но я всем своим нутром чувствую и холодный, бесконечный дождь и ледяной ветер. Вернее, не чувствую. Просто мне легко представить себе, что происходит на улице, потому что душевное мое состояние созвучно погоде. Но оно не вызвано погодой. И даже не гибелью Лины Каррадос, хотя мне до слез жалко ее, жалко всего, о чем мы так и не поговорили. Потому что только мы двое могли понять друг друга.
Я печалюсь оттого, что вот уже вторую ночь подряд не вижу янтарных снов. Я не вижу больше братьев У, не слышу мелодии поющих холмов, не скольжу в воздухе по крутым невидимым горкам силовых полей, не спешу на Зов, не Завершаю с братьями Узора.
И мир сразу потерял для меня золотой отблеск праздничности, кануна торжества, к которому я так привык. Хотя это не так. К празднику привыкнуть нельзя. Праздник, к которому привыкаешь, — уже не праздник. А сны оставались для меня праздником.
Может быть, если бы это была только моя потеря, я бы относился к ней чуточку спокойнее. Или хотя бы попытался относиться спокойнее. Но это потеря для всего человечества. Я здесь ни при чем. Я понимаю, что комбинация слов «я» и «человечество» по меньшей мере смешна. Но я ведь лишь реципиент. Точка на земной поверхности, куда попал лучик янтарных сновидений. Живой приемник на двух ногах и четырнадцати миллиардах нейронов. И вот приемник перестал работать. Сломался ли он? Не думаю. Как не думает и Павел Дмитриевич. Слишком велики совпадения. Потеря дара чтения мыслей, которую я заметил в самолете, пришлась на время, когда Лина Каррадос умирала в больнице. А янтарные сны исчезли после ее смерти.
Павел Дмитриевич убежден, что и Лина Каррадос и я одновременно с ролью приемников выполняли и функции передатчиков. Во всяком случае, жители Янтарной планеты видели Землю нашими глазами точно так же, как мы с ней видели Янтарную планету глазами У.
Они не понимают, что такое смерть. Для них смерть — это острая необходимость тут же Завершить Узор. Страдания Лины Каррадос должны были потрясти их, если ее мозг продолжал работать в режиме передатчика. И страх и боль заставили их прервать с нами связь. Они слишком другие. Они слишком далеко ушли от нас — если вообще когда-нибудь стояли близко, чтобы не ужаснуться мукам, жестокости, смерти. Они должны были прервать с нами связь. Они поняли, что эта боль, мучения, смерть как-то связаны со сновидениями. Они вполне могли это понять.
Бомба, корежащая при взрыве металл. Вспышка, уносящая жизнь. Им нет места на Янтарной планете. И они разорвали нить, что связывала нас.
Я лежу в темноте, в тихой и плотной тишине Лейквью, и сердце мое сжимает печаль. Это нелепо. Когда подумаешь как следует, вдруг остро осознаешь нелепость общества, в котором совершают преступления. Это не новая мысль, я ничего не открываю, даже для себя, но бывает, что, произнеся вслух какое-нибудь самое обычное слово, поражаешься вдруг незнакомым звукам, и слово становится загадочным и чужим. Так и с убийством. Мысль о том, что человек может убить человека, вдруг поражает меня. Убить человека. Брата. Сестру.
Дождь продолжает выбивать по крыше свою скучную и однообразную мелодию. В Москве, наверное, уже лежит снег, и снегоуборочные машины идут по ночным тихим улицам развернутым фронтом, оттесняя его все ближе к тротуарам.
Галя сейчас спит. Хотя нет. Разница во времени. Только собирается. Смотрит по телевизору соревнования по регби. Или стоклеточным шашкам. И думает, может быть, как там Юраня. А может быть, и не думает.
Илья, наверное, прошел протоптанной в пыли дорожкой из кухни к своему ложу и читает сейчас. Он всегда читает самые невероятные книжки. Например «Историю алхимии в Западной Европе». Или «Методику обучения умственно отсталых детей».
А Нина, наверное, спит. Или лежит и думает о выросшем мальчике, который когда-то носил ее портфель. И который ушел от нее. С огромным портфелем. Пустым портфелем, из которого исчезли все материалы опытов. Он не уходит, он уезжает. На странной маленькой машине. К машине что-то привязано. Это же бомба. Сейчас она взорвется. Я вздрагиваю и просыпаюсь. Сердце колотится, лоб горит. Надо успокоиться. Я смотрю на свои часы. Стрелки слабо светятся в темноте. Половина шестого. Надо еще поспать. Боязливо, словно нащупывая брод в бурной, опасной речке, я вхожу в сон.
Утром к нам пришел профессор Хамберт. Как он постарел за эти два дня! Теперь уже не только его шея напоминает ящерицу. И лицо тоже.
Он вопросительно посмотрел на меня, на Павла Дмитриевича, тяжело опустился в кресло.
— К сожалению, снова нет, — покачал я головой. — Ничего похожего.
И профессор Хамберт и Павел Дмитриевич знают, о чем я говорю, так же как и я знаю, о чем они молча спрашивают меня.
Профессор Хамберт вздыхает. Тяжелый вздох разочарования.
— А я все-таки не теряю надежды, — решительно говорит Павел Дмитриевич, но в голосе его больше упрямства, чем уверенности.
— Спасибо, Пол, — грустно говорит профессор Хамберт, — вы очень добрый человек, и вам хочется, чтобы мы все-таки могли провести совместные опыты. И вам очень хочется, чтобы эти опыты были удачными и я перестал бы хныкать.
— Хью, неужели у вас раньше не было неудач? Но вы всегда сохраняли оптимизм… — Павел Дмитриевич делает отчаянные усилия перекачать в профессора Хамберта хотя бы часть своего оптимизма и энергии, но ток не течет и аккумуляторы старика не заряжаются.
— Раньше? Конечно, Пол, были и неудачи. Сколько угодно. Но была надежда на завтра. Или на послезавтра. А теперь у меня нет надежды. Завтра утром не придет Лина и не начнет рассказывать о своей планете. У меня украли эту девочку и величайшее научное, философское и политическое открытие. Украли саму идею Контакта.
— Да, но у нас ведь есть…
— Я понимаю, Пол. И вы понимаете. И вам и нам нужно было подтверждение. Мистер Чернов должен был подтвердить объективно сны Лины Каррадос, а Лина Каррадос — его. Тогда мы были бы готовы сообщить всему миру о Контакте. А так? Сновидений нет, Лины Каррадос нет, никаких материалов нет. Есть лишь какие-то черновые заметки, какие-то воспоминания. Это не годится. В восемьдесят лет неприятно становиться посмешищем. Профессор Хамберт увлекается телепатией. Да, знаете, в его возрасте это простительно. А что, он действительно утверждает, что есть загробная жизнь? И так далее. Может быть, я преувеличиваю, но чуть-чуть. Так ведь?
— К сожалению, так, — кивнул Павел Дмитриевич.
У меня прямо сердце сжимается, когда я смотрю на него. Вокруг него всегда бушуют маленькие смерчи — столько в нем энергии. А сейчас он ничего сделать не может и выглядит поэтому обиженной, нахохлившейся седой хохлаткой.
— И наше пребывание здесь становится бессмысленным, — добавляет Павел Дмитриевич.
— Еще несколько дней, — просит профессор Хамберт и смотрит на меня так, словно от меня зависит, возобновятся или не возобновятся передачи с Янтарной планетой. — Может быть, если найдут убийцу Лины…
— Вы думаете, на Янтарной планете будут ждать расследования? И идея Контакта, таким образом, в руках полиции? — с печальной иронией спрашивает Павел Дмитриевич.
— Не знаю. Я прошу только, чтобы вы остались еще на несколько дней. Поезжайте в Шервуд… — Профессор Хамберт еще раз вздохнул и добавил после паузы: — А я надеялся, что они вот-вот сообщат нам свои координаты. После того как вы сообщили мне об этой гениальной догадке с интервалами между периодами быстрого сна, я был уверен, что они точно так же сообщат нам свои координаты.
«Гениальная догадка, — подумал я. — А этот знакомый Ильи Плошкина, который походя определил, что значат интервалы, даже и не знает, наверное, что высказал гениальную догадку».
Мы решили остаться еще на несколько дней. Да, не так я представляй себе поездку в Шервуд. Вместо интервью и банкетов — тишина Лейквью, дождь без остановки и тяжелые старческие вздохи профессора Хамберта.
— Ну, что нового? — спросил лейтенант Милич у Поттера. Приготовили нам преступники приятный сюрприз?
Сержант Поттер покачал головой:
— Нет. На портфеле ничего, а на сейфе только отпечатки пальцев профессора Хамберта… Был я во всех трех магазинах, в которых можно купить в Буэнас-Вистас металлическую линейку…
— А почему не там, где можно купить, например, паяльник? Или тонкую проволоку?
— Потому что паяльник или провод — довольно обычный товар.
— А металлическая линейка?
— Верно, это тоже не бог весть какая редкость. Но скажите мне, часто ли люди покупают по две металлические линейки? Кому нужно сразу две металлические линейки?
— Молодец, прекрасная мысль. И что же?
— Ничего. Никто две металлические линейки сразу не покупал.
— А по одной? Может быть, он был настолько осторожен, что купил одну линейку в одном магазине, а другую — в другом.
— Я подумал об этом. Они вообще в последнее время не продавали никому таких линеек… Может быть, стоит обыскать все коттеджи в Лейквью?
— Вы думаете, в одном из них мы найдем паяльник и схему устройства самодельной бомбы? Я в этом вовсе не уверен. Если и найдем, то разве что на дне озера. И то, скорее всего, не здесь… Будь они все прокляты!..
— Кто, мистер Милич?
— Опять мистер Милич?
— Простите, Генри. Никак не могу привыкнуть. Вы кого-то прокляли?
— Всех, кто не оставляет после себя приличных следов. Хочешь совершать преступления — пожалуйста, у нас для этого есть все возможности, но подумай и о других. Дай и полиции шанс… Ладно, будем продолжать, больше ничего делать не остается. Отправляйтесь к Дику Колела — это сторож в Лейквью, я уже говорил с ним. Растолкайте его и постарайтесь, чтобы он вспомнил, не ездил ли кто-нибудь куда-нибудь в течение нескольких дней перед взрывом и не приезжал ли кто-нибудь к кому-нибудь. Вряд ли один из этих ученых мужей стал бы долго держать у себя взрывчатку. Скорее всего, ее привезли незадолго до взрыва.
— Хорошо… Генри. — При слове «Генри» сержант сделал усилие.
— А я продолжу знакомство с компанией профессора Хамберта. Если и остальные похожи на Лернера…
— А что он?
— Я думал, он меня задушит словами. Поток, фонтан. Я чувствовал себя мухой, которую паук закатывает в паутину из слов. И притом скользок, как смазанная маслом ледышка. Сам признал, что знал комбинацию замка сейфа.
— Что?
— Даже не признал, а просто сам сказал мне, что случайно услышал, как Лина Каррадос называла цифры Хамберту. И никто его при этом не видел.
— Зачем же он сказал вам об этом?
— В этом-то все и дело. Не по моим он зубам. Только нацелишься пощупать его, а он уже ушел. И такие финты выделывает, что и не знаешь, куда бросаться. Для чего ему было говорить? Оказывается, ему неприятно утаивать, видите ли, что-то от полиции. Это, оказывается, унижает его. Мог он подложить бомбу? А черт его знает. И мог и не мог.
— В каком смысле?
— В самом прямом. С одной стороны, достаточно ума, сообразительности и побудительных причин, с другой — слишком уж у него вся сила выходит словами. Посмотрим, какого о нем мнения другие. И посмотрим на других. Больше пока ничего не остается.
Чарльз Медина был сух, корректен и полон презрения. После каждого вопроса он бросал быстрый взгляд на лейтенанта Милича, словно желая убедиться, что тот еще на месте, и отвечал коротко и ясно.
— Как по-вашему, мистер Медина, у кого из группы Хамберта могли быть веские основания для убийства Лины Каррадос?
— Насколько я знаю, ни у кого.
— А если бы вы узнали, что убийство совершил икс или игрек из вашей группы, были бы вы удивлены?
— Не очень.
— Значит, вы допускаете, что кто-то мог бы подложить бомбу?
— Вполне.
— На основании чего вы так считаете?
— На основании впечатления, которое производят на меня эти люди.
— И какое же это впечатление?
— Мы вращаемся по замкнутому кругу, лейтенант. Я отвечу вам: на меня они производят впечатление людей, которые вполне могли бы сунуть бомбу под машину.
— Но вы же только что сказали, что мотивов ни у кого здесь не было.
— Верно. Насколько я знаю, мотивов ни у кого не было, но вместе с тем, если бы мотивы были, почти любой мог бы пойти на преступление.
— Почти любой?
— Ну, может быть, за исключением Лернера и Колби.
— Почему Лернера?
— Болтлив. Стар и болтлив. Убийство требует холодного ума, расчета, выдержки и скрытности. И даже умения в данном случае контролировать свои мысли, чтобы мисс Каррадос случайно не разгадала его намерения. Лернер — прямая противоположность всем этим качествам. Разве что он может заговорить человека насмерть. Если бы Лину Каррадос нашли мертвой без видимых следов насилия, я бы легко мог поверить, что ее заговорил этот болтун. Задушил словами. Я сам раз едва ноги унес. Прогресс, регресс, модели развития и так далее. Блестящие игрушки для праздных и неряшливых умов…
— Гм… А что вы все-таки скажете о взглядах мистера Лернера? Его боязнь, что контакт с внеземной цивилизацией может оказать пагубное влияние на развитие человечества…
— Чепуха. Сентиментальная чепуха. Набор слов. Контакт с десятью цивилизациями произвел бы на человечество куда меньше впечатления, чем последний развод очередной звезды телевидения. Через два дня все забыли бы об этих цивилизациях.
— Я вижу, вы невысокого мнения о людях.
— Я ученый, мистер Милич. Ученый не может быть сентиментален. У него должен быть ясный мозг, не боящийся фактов, как бы эти факты ни были неприятны ему. Как только у ученого появляется эмоциональное отношение к чему-то, он перестает быть ученым. По крайней мере в этом вопросе. Если ученый изучает людей, он не имеет права любить их.
Медина достал из кармана пачку сигарет, вытащил сигарету, посмотрел на нее с глубоким отвращением и закурил.
— Ну хорошо, — вздохнул Милич. — А что вы можете сказать об Иане Колби?
— Синт.
— И одно это уже исключает его из числа потенциальных убийц?
— Вы знаете, что самое характерное для синтов?
— Что?
— У них не хватает интеллектуального мужества воспринимать жизнь такой, какой она есть. Они смотрят на жизнь сквозь свой христин, надев на себя спасательный пояс христианства.
— А Эммери Бьюгл? Мог бы он убить?
— Наверное. Впрочем, не знаю. Для убийцы у него слишком сильные убеждения…
— Боюсь, мистер Медина, этот парадокс слишком глубок для меня.
— Нисколько. Он так ненавидит прогресс, либералов и социализм, что для обычного убийства у него вряд ли осталось бы достаточно ненависти.
— А если бы это убийство носило политический характер?
— То есть?
— Если бы взрывом машины мисс Каррадос можно было помешать контакту не столько с внеземной цивилизацией, сколько с русскими? Ведь, если я не ошибаюсь, мистер Бьюгл твердо убежден, что такие контакты пагубны.
— Он идиот. Биологический консерватор. Человек жестко запрограммированный. Робот, не способный к обучению…
— Вы не ответили мне на вопрос.
— А, вы спрашиваете, мог бы Бьюгл убить?…
— Совершенно верно.
Медина брезгливо раздавил окурок сигареты в пепельнице.
— Не знаю, — пожал он плечами. — С одной стороны, он в достаточной степени глуп, чтобы быть фанатиком. С другой слишком ничтожен, чтобы быть настоящим фанатиком.
— А мистер Хамберт?
Медина бросил быстрый взгляд на лейтенанта и усмехнулся:
— Мистер Хамберт не способен ни на что. Он памятник. Он занят лишь тем, чтобы голуби не засидели его, чтобы пьедестал не растрескался, чтобы вокруг было чисто подметено и чтобы говорили экскурсиям чистеньких школьников и школьниц, особенно школьниц: а это, детки, памятник великому ученому Хамберту.
— Как по-вашему, мистер Медина, как относился мистер Хамберт к Лине Каррадос?
Медина легонько кончиками пальцев побарабанил по столу. На скулах его затрепетали желваки и тут же успокоились.
— Меня не интересовала личная жизнь Хамберта.
«Ага, голубчик, — подумал Милич, — не на таком уж высоком Олимпе ты пребываешь».
— А у вас какие были отношения?
— С кем?
«Прекрасно знает, кого я имею в виду. Выигрывает несколько секунд, чтобы взять себя в руки», - пронеслось в голове у Милича.
— С Линой.
— Ах, с Линой… Обычные. Самые нормальные отношения.
Лейтенант Милич сделал мысленно заметку вернуться к отношениям Медины и Лины и спросил:
— А вы бы сумели убить?
— Вы меня оскорбляете. — Впервые за время разговора по лицу Чарльза Медины скользнула улыбка.
— Помилуйте, это чисто гипотетический вопрос.
— Нет, вы меня не поняли. Меня обидело уже то, что вы сомневаетесь, мог ли я убить. Конечно, мог. Если бы мне это было очень нужно.
— А вам не нужно было убить Лину Каррадос?
— Для чего?
— Ну, скажем, чтобы монумент, который строит себе профессор Хамберт, остался незаконченным. И чтобы к нему не водили экскурсии школьниц. — На слове «школьниц» Милич сделал ударение, и Медина гмыкнул.
— Вы думаете, это мне все-таки следовало ее убить? спросил он. — Уже поздно. У кого-то были более серьезные основания. Или кто-то оказался расторопнее меня… Но вообще-то я вас теперь понимаю. Вы считаете, что я завидую старику и мог бы пойти на все, чтобы насолить ему. Так? — Медина серьезно и внимательно посмотрел на лейтенанта.
— Приблизительно, — кивнул Милич.
«Ах ты, кремень, — подумал он. — Ты идешь напрямик, и я юлить с тобой не стану».
Медина наморщил лоб и посмотрел поверх своих очков в роговой оправе в окно на серое небо и редкий тяжелый и ленивый дождь.
— Я вас понимаю, — сказал он наконец, — но я не подложил бомбу Лине Каррадос. Надеюсь, вы найдете тому доказательства. У меня их, к сожалению, нет. Надеюсь, презумпция невиновности у нас еще действует? Или мне нужно доказывать вам свою невиновность?
ГЛАВА V
— Кто куда ездил? — Дик Колела пожал плечами. — Так разве я знаю? Мое дело — открой ворота, потом закрой, и все дела. Ну, а если кто сюда, в Лейквью, приедет — спросить к кому. Ну конечно, следить, чтобы смазка была в петлях, подкрасить, если надо где…
— Краска меня не интересует, мистер Колела, — терпеливо сказал Поттер. — Меня интересует, не ездил ли кто-нибудь из сотрудников в последние дни до взрыва куда-нибудь.
— Так я вам и говорю: откуда мне знать? Они каждый день ездят. Кто в Буэнас-Вистас, кто в Шервуд, кто в Стипклиф. Я никого не спрашивал. Мне б сказали, я б спрашивал. А так какое мое дело?
— А сюда никто не приезжал?
— Сюда? — Колела задумчиво поскреб затылок. — Да вроде никто… Хотя обождите… К мистеру Колби — это к синту вроде приезжала машина… Точно, приезжала, теперь вспомнил. Я чего вспомнил — за рулем такой же сидел, как мистер Колби…
— В каком смысле такой же? Похожий?
— Да нет, это… знак у него на одежде такой, как у мистера Колби. Желтая эта нашивка. Уж чего она у них там означает, это меня не спрашивайте. Я когда рос, никаких этих синтов не было. В нашей местности около Стипклифа и католика-то, бывало, не увидишь, а теперь там ихний штаб, что ли…
— Чей штаб?
— Этих синтов. Мне дочка говорила, она и сейчас в Стипклифе живет. И этот, что приезжал, тоже из Стипклифа.
— А откуда вы знаете?
— Ну как же. Я как увидел, что синт он и нашивка у него такая же, как у мистера Колби, я его спрашиваю: «К мистеру Колби, наверное?» А он кивает, да, мол, к нему. А я подумал, чего мне дочка говорила, и спрашиваю: «Из Стипклифа, поди?» — «Да», - говорит. Я тем временем ворота открыл, пропустил его и снова закрыл. Конечно, в такую погоду все время вылезать закрывать да открывать не очень-то приятно, да я уже привык, мне нипочем. Он, этот синт, спросил еще, где машину поставить. Я ему объяснил, что можно к самому коттеджу проехать, а можно и тут, около ворот оставить. Ну, он тут, у ворот, машину поставил, аккуратненько так, вылез. Я ему показал, куда пройти, и он зашагал, портфельчиком помахивая.
— А долго был этот синт из Стипклифа?
— Да нет, наверное, час, может, полтора.
— А кто еще приезжал?
— Да я ж говорю, больше никого.
— Вы сначала и синта забыли.
— Ну и что ж, что забыл, потом вспомнил. У меня память, слава богу, жаловаться не приходится. Вон Эдвин Манн на три года меня младше, а…
— Бог с ним, с Эдвином. Значит, больше никто не приезжал?
— Ну, приезжала к этой женщине длинноволосой… как ее… ага, мисс Басс, сестра ее.
— Сестра?
— Сестра. Точная копия. Такая же носатенькая. Ну, и к этому… маленькому… мистеру Лернеру…
— А кто приезжал к мистеру Лернеру?
— А кто его знает, кто… Человек, стало быть…
— А я — то думал, обезьяна…
Сторож обиженно заморгал, но ничего не сказал.
— А кто он был, откуда, ничего не сказал?
— Нет. Сказал — к мистеру Лернеру, я его пустил. И все.
— Больше никого?
— Нет.
Поттер посмотрел на часы. Половина первого. Лейтенант занят своими беседами. Может быть, съездить в Стипклиф? Бессмысленно, конечно, но попробовать нужно. В Буэнас-Вистас материалы для самодельной бомбы никто не покупал. Нужно было бы быть последним идиотом, чтобы делать это в городке, где всего пятнадцать тысяч населения и который находится под боком. Стипклиф побольше. И подальше. Но огромный Шервуд еще удобнее. В Шервуде человек теряется, как муравей в муравейнике. Конечно, решил Поттер, будь он на месте преступника, он бы приобрел все, что нужно для бомбы, именно в Шервуде, привез в Лейквью, спокойно изготовил бы бомбу и приладил ее вечерком к машине мисс Каррадос. Вечером или даже ночью. Предыдущей ночью, после того как она вернулась из города и легла спать. Захвати маленький карманный фонарик и спокойненько делай свое дело. Вымажешься, конечно… Вымажешься… Может, здесь что есть? Да нет, пустое дело. Ну, вымазал человек куртку, выстирал ее — к утру и сухая. Это не дело. А что дело? Хорошо, что отвечать будет лейтенант. Он отвечает — он пусть и думает, в чем дело. А я свой долг выполняю, и все.
Сержант Поттер вел машину, уверяя себя, что он ни за что не отвечает, но мозг его против воли снова и снова перебирал обстоятельства дела. Лейтенант прав… Хоть бы какая-нибудь ниточка была. Ну хорошо, приезжал к этому синту другой синт. Оба с желтыми нашивками. Ну и что? Можно, конечно, представить себе, что он привез набор для бомбы. Можно, но трудно. Легче, пожалуй, представить, как мисс Басс берет у длинноносой сестрички сверточек, садится за столик, отодвигает всякие там кремы и пудры и начинает собирать бомбочку. Чтобы избавиться от соперницы? Может быть, мисс Басс тоже имела виды на старого Хамберта? У них и разница в возрасте поменьше, всего полвека. А торопилась она потому, что с восьмидесятилетними кавалерами всегда надо спешить…
Что-то всякая чепуха лезет в голову. Как ребенок. Сержант Поттер улыбнулся. «Джелектрик» бежал резво, электромотор жужжал ровно и успокаивающе, и сержанту вдруг показалось, что он еще молод, что все впереди, что когда-нибудь и он будет разговаривать так же небрежно и слегка насмешливо, как лейтенант Милич. Хотя, конечно, образование у него не то. Всякие там вибрации, корреляции и беллетристики — лейтенант их как семечки щелкает, а ему каждый раз приходится дома в словарь толковый лезть. Толстенный том с вырезами для букв сбоку. Старое издание. Отец еще покупал. Отец… Сколько уже, как он умер? Четыре года. Четыре года. Четыре года всего, а будто и не было его никогда. Да он и при жизни человек тихий был. Что был — что не был. Тихий, незаметный. Только иногда, когда он был еще мальчишкой, подойдет к нему, посмотрит в глаза, несмело так, застенчиво, и тут же отведет их. И рукой волосы погладит. Быстро как-то и тут же отойдет. Словно стеснялся чего-то. А может, это от усталости. Он водил автобус, а попробуй посиди за рулем автобуса на городских узких улицах целую смену. От рук до почек все болит. И нервы. Хотя нельзя сказать, что отец нервный был. Наоборот, тихий. Все в себе держал… Это, говорят, хуже…
В Стипклифе Поттер остановился у телефонной будки, взял справочник и начал листать его. Писчебумажные магазины. Раз, два — всего четыре. Можно было и не смотреть в справочнике — все здесь, на центральной улице.
В первом магазине было прохладно, пусто и тихо. Молоденькая девушка в наброшенной на плечи куртке рассматривала журнал. На огромном, в целую страницу, фото была изображена смеющаяся красавица в норковой шубе, стоящая около роскошной машины. Шуба отражалась в лакированной поверхности металла.
— Простите! — Девушка вздрогнула и вскочила на ноги. Зачиталась. — Быстрым движением плеч она сбросила куртку и ожидающе посмотрела на сержанта: — Что вам?
— Мне нужна линейка.
— Какая?
— Знаете, пожалуй, лучше железную. Хоть прочная, по крайней мере.
— Пожалуйста. Вот эти, десятидюймовые, по девяносто. А эти длинные — по два десять.
«Эти, — подумал Поттер, беря в руки парочку десятидюймовых хромированных линеек. — Точно такие же, Господи, неужели же повезет…» Лейтенант его в Стипклиф не посылал. Сам решил ехать. Вот вам и Поттер…
— Короткие, пожалуй, подойдут.
— Одну, две?
— Да давайте две, чтоб не бегать каждый раз, как потеряются…
— Пожалуйста. Доллар восемьдесят.
Поттер с сомнением посмотрел на девушку:
— А хорошие они? Не сломаются?
— Что вы! — обиженно сказала девушка. — Прекрасные линейки, отчего же они сломаются?… Завернуть?
— А что покупатели говорят? Не возвращают?
Девушка бросила быстрый взгляд на Поттера, и он усмехнулся про себя. Она, наверное, думает: ну и зануда. Если он не может решиться купить линейку за девяносто центов, как же он, интересно, женился?
— Никто никогда не жаловался?
— Никто, — еще более обиженно помотала головой девушка и посмотрела на норковую шубу и блестящий бок автомобиля. Она вздохнула.
— А покупают сразу по две линейки? — спросил Поттер и подумал, что незачем было разыгрывать эту маленькую сценку. Можно было сразу спросить, что его интересует.
Девушка снова оторвалась от норковой шубки, на которую смотрела краешком глаза.
— По две? По две линейки?
— Ну да.
— Да. Наверное…
– «Да» или «наверное»?
Продавщица посмотрела на сержанта и еле заметно пожала плечами.
— Ну хорошо, — сказал Поттер. — Так мы, похоже, никогда не договоримся. Я из полиции. Меня интересует, не покупал ли у вас кто-нибудь в последнее время, ну, скажем, за последнюю неделю две такие линейки.
— Конечно, покупали. Иногда по два-три дня никто не спросит, а иногда за день штуки три продашь…
Девушка теперь смотрела на сержанта с большей симпатией. Все-таки полиция поближе к норковым шубкам, подумал Поттер. По крайней мере к краденым.
— Вы меня не совсем поняли, мисс. Не покупал ли кто-нибудь две линейки сразу, как я?
— Не-ет, — с сожалением протянула девушка.
— Точно?
— Точно. Я б запомнила. Металлическая линейка — это не такая вещь, чтоб их сразу по нескольку штук покупали.
— А вы все время одна в магазине?
— Да, мать больна. Когда она здорова, мы с ней меняемся. Магазин принадлежит матери…
— Спасибо, — сказал Поттер и направился к выходу.
— А линейки? — спросила девушка. — Вы их возьмете?
— Давайте, — вздохнул Поттер и протянул деньги.
Второй магазин был больше, наряднее и богаче. На стенах висели две яркие рекламы карманных калькуляторов. На одной из них блондинка неземной красоты извлекала на калькуляторе, судя по подписи, корень. При этом на лице ее было написано такое блаженство, что каждому ребенку сразу же становилось ясно: без карманного калькулятора «Эйч-пи» человек счастливым, красивым и преуспевающим быть не может, не говоря уж о невозможности быстро извлекать корни.
Поттер подошел к продавцу с сонными глазами и, испытывая стыд, что не покупает себе калькулятора «Эйч-пи», спросил, есть ли в магазине металлические линейки.
— Вот такие, — добавил он, показывая продавцу линейку, купленную в первом магазине.
Продавец несколько раз моргнул, пытаясь проснуться, внимательно посмотрел на линейку, потом на Поттера и надолго задумался. Похоже было, он решал, не вложить ли ему все свои сбережения в металлические линейки, раз они начинают пользоваться, таким спросом. Очевидно, ни к какому твердому выводу он не пришел и сказал, что линейки есть.
— Я из полиции, — сказал Поттер и положил локти на прилавок.
— Слушаю, — наклонился к нему продавец. Он уже совсем проснулся.
— Я хотел у вас узнать, не покупал ли кто-нибудь в течение последней недели или двух такие линейки. Причем две сразу.
— Две?
— Да.
— Сразу?
— Да.
— Гм… Интересно. Вот вы спрашиваете — и я сразу вспомнил. Да, только не две…
— Меня интересуют именно две.
— А четыре?
— Что?
— Четыре. Я, помню, подумал: а зачем человеку, интересно, сразу четыре линейки? Что можно делать с четырьмя линейками?
Поттер почувствовал, как по позвоночнику легкой щекочущей волной прошел озноб. Щекочущий охотничий озноб. «Спокойно, сказал он себе. — Не торопись. Скорее всего, это не то».
— А когда это было? — спросил он.
— Гм… Позвольте, сейчас я соображу… Так, так… пять или шесть дней назад… Минуточку… Да, пожалуй, шесть дней назад.
— Вы точно помните?
— Да. В тот день привезли новые калькуляторы, — продавец кивнул на блондинку, все еще пребывавшую в блаженном трансе, — и я, знаете, как-то подумал, когда покупатель попросил четыре железные линейки, что калькуляторы калькуляторами, а железные линейки лет сто уже, наверное, не меняются.
— А вы могли бы описать мне этого покупателя?
— Да, конечно. Среднего роста…
— Возраст?
— Тоже средний. Ну, лет тридцать пять. Может быть, чуть больше. Одет обычно. Если не ошибаюсь, серое пальто. Серая матерчатая кепка.
— Что-нибудь еще?
— Гм… Пожалуй, все.
— Не синт, случайно?
— Нет.
— Вы уверены?
— Конечно. Синта я сразу узнаю. По глазам. По разговору. По запаху. Я их за милю чую, еретиков. Спиной чую.
В голосе продавца появилась страстная хрипотца, а в глазах засветилась ненависть.
— Значит, точно не синт?
— Я ж вам говорю, мистер, я их за милю чую. Ползают по нашей земле, как черви. Нажрутся своего христина и ползают с пустыми глазами, людей от настоящей религии оттягивают. Из нашей Епископальной церкви только за последний год троих переманили. Запретить их секту надо, вот что я вам скажу.
— А ничего он не говорил, когда покупал линейки?
— Да нет, — сказал продавец, и глаза его начали медленно остывать, словно в них выключили ток. — Спросил, сколько. Я ему говорю — три шестьдесят.
— И все?
— И все. Попросил добавить полдюжины резинок, заплатил за все и ушел.
— Полдюжины резинок?
— Ну да.
— Благодарю вас.
Поттер вышел из магазина и сел за руль своего «джелектрика». Мотор он сразу не завел, а сидел, глядя прямо перед собой невидящими глазами. Как там в книжке описывалась самодельная бомба? Самоустройство для замыкания цепи. Металлические линейки с припаянными проводками, а между ними проложены для изоляции резинки. А может быть, все это фантазии, чепуха? Школьный учитель? Мало ли кому могут понадобиться четыре металлические линейки и полдюжины резинок. Раз это был не синт — он и по возрасту не подходит к тому, что приезжал в Лейквью к Колби, — это мог быть кто угодно. А может быть, тот, кто приезжал к Лернеру? Лейтенант говорил, что Лернер может повернуться и тем и другим боком… Придется расспросить сторожа еще раз и снова приехать сюда.
Он вздохнул и включил двигатель. Охотничий азарт давно покинул его. То, что в первую секунду заставило его сердце забиться быстрее, казалось сейчас не таким уж интересным. Не та это ниточка, о которой говорил лейтенант, подумал он и нажал на реостат.
ГЛАВА VI
— Мистер Бьюгл, — сказал лейтенант Милич, — как вы относитесь к идее сотрудничества с русскими?
— Отрицательно, — сказал физиолог и ласково погладил свою лысину.
— Вы высказывали свое отношение профессору Хамберту?
— О да, — кивнул он. — Я не из тех людей, которые делают секрет из своих убеждений. Я не оппортунист, приспосабливающийся к конъюнктуре.
— Значит, приглашая вас сюда, в Лейквью, мистер Хамберт знал о ваших взглядах?
— Думаю, что да. К сожалению, в наших университетских кругах не так много людей, у которых хватает смелости придерживаться немодных взглядов.
— То есть?
— Наши либералы любят считать себя людьми, на которых трудно воздействовать. На самом деле они как дети. Они пешки на политической доске.
— И кто же ими играет?
— Все, кому не лень, все, кому это выгодно. О, вы скажете, что они сами любят всех критиковать. Да, критикуют иногда. Но дело не в этом. Они все накачаны суицидальным синдромом…
— Чем?
— Синдромом самоубийства. Они не понимают, а может быть, и не хотят понимать, что давно превратились в термитов, которые подтачивают основание нашего общества. У них на уме только одно: грызть, и грызть, и грызть, разрушая все, от семьи до патриотизма, от системы свободного предпринимательства до полиции…
«Начинает заводиться, — подумал Милич. — Как шаман».
— А вы?
— Что я? Вы говорите о моих взглядах? Мне вся эта картина баранов, бегущих к обрыву, смешна и отвратительна. Возьмите, например, профсоюзы. Власть их нелепо велика. Забастовки сотрясают страну, подтачивают ее мощь. Но разве много людей в университетских сферах найдет в себе мужество сказать об этом всуе? О чем вы говорите? Вместо этого либералы-профессора, длинноволосые юнцы и их девчонки будут до хрипоты кричать о гражданских правах. Ах, как это сладко — говорить о чужих правах, когда твои тебе давно обеспечили. Папы, презренные буржуазные отцы, погрязли в коммерческой пошлости, а их возвышенные сыночки и дочери, вскормленные при помощи этой коммерческой пошлости, могут смело накуриваться до одурения марихуаной и идти защищать чужие гражданские права. Мне, мистер Милич, эта картина всегда была отвратительна, и я никогда не скрывал своих взглядов. Хотя меня называли и консерватором, и динозавром, и неандертальцем. Наши милые либералы ведь либеральны только тогда, когда люди придерживаются их взглядов. Скажите что-нибудь, что им не нравится, и они начинают жужжать, как потревоженные осы. И ты становишься и тори, и стегозавром, и живым ископаемым, и бог знает кем еще. Дай им власть — и где бы, интересно, были мои гражданские свободы? О, тогда наши славные профессора не очень бы разрешили своим сыночкам и их подружкам идти защищать мои права.
— Я понимаю, мистер Бьюгл, — мягко сказал лейтенант Милич. — Я понимаю, — повторил он голосом няни, успокаивающей расходившегося ребенка. — Но вы все-таки не ответили на вопрос, почему, так отличаясь от вас политическими взглядами, мистер Хамберт пригласил вас сюда?
— Своим вопросом вы уже ответили. Именно, я полагаю, из-за моих взглядов. Если бы я фигурировал среди тех, кто работал вместе с Хамбертом, никто бы не смел усомниться в результатах. Я, таким образом, был приглашен на амплуа адвоката дьявола, который должен все подвергать сомнению.
— И вы выполнили свою миссию?
— Да, вполне.
— И к какому же вы пришли выводу? Я имею в виду опыты с Линой Каррадос.
— Увы, факт Контакта бесспорен.
— Вы говорите «увы»?
— Да, увы.
— Но почему же?
— Вы спрашиваете меня, почему? Да потому, что картина, нарисованная мисс Каррадос, вовсе не та картина, которую мне хотелось бы увидеть. Представляете, что это значит? Каков был бы эффект знакомства с нашими первыми соседями во Вселенной? С первыми, повторяю, соседями. Интересно, какие они? Как живут? Чем живут? Тем более, что соседи богаты. Они умеют то, что нам и не снилось.
— И в чем же опасность?
— А вы не видите, мистер Милич? — Эммери Бьюгл снова погладил себя ладонью по лысине, потом по мясистому лицу, по раздвоенному подбородку с домашней симпатичной бородавкой.
— Нет, признаться.
— Напрасно. Наше общество — это наше общество. И наша цивилизация — наша цивилизация. Мы создавали ее миллион лет, едва спустились с деревьев на землю. Мы тянулись за веткой, бананами, ногой косули, землей соседа, новой машиной. Мы цивилизация индивидуалистов. Это не черта моего характера. Это не черта вашего характера. Это в наших генах. В генах, которые формировались миллионы лет. О, я вижу, вы хотите сказать мне, что те же обезьяны жили стадами. Прекрасно, И мы продолжаем жить стадами. Стадами индивидуалистов. Хорошо ли, плохо ли — это основа нашей цивилизации. Может быть, и жестокая основа, но она обеспечила нам прогресс. Только протянув руку, чтобы отнять у соседа банан, мы стали на путь прогресса…
Профессор Бьюгл прикрыл глаза и тихонько раскачивался.
Милич снова подумал, что он чем-то похож на шамана, входящего в экстаз при помощи однообразных движений.
— И вот нам говорят: дети, познакомьтесь со своими соседями. И дети видят картину, так не похожую на ту, к которой они привыкли… Они видят общество, в котором не существует понятия «я» и «ты». Общество, в котором эти ПОНЯТИЯ слились. Одна гигантская семья, члены которой не могут жить друг без друга. Мы не можем принять эту идею. Они не могут быть моделью для нас. Они вселят в наши сердца, и без того полные смятения и сомнений, отвращение к самим себе, ибо рядом с ними мы действительно выглядим как мясники рядом с серафимами. Но мясники должны жить отдельно от серафимов. В разных измерениях. Это даже не вопрос, кто лучше, мясники или серафимы. Просто они несовместимы. И, наконец, политическая сторона.
— Что значит «политическая сторона»?
— Как по-вашему, какой модели ближе наши соседи — нашей модели или модели социалистического общества?… То-то же, мистер Милич. Я вижу ответ на вашем лице. Им, им выгоднее сны Лины Каррадос и их Чернова. Не нам, а им. А мы снова, как безмозглые овцы, играем в их игру, не понимая, что мы в цугцванге, что любым ходом мы лишь ухудшаем свою позицию. Я это видел с самого начала, еще до того, как Хамберт, этот старый глупый идеалист, пригласил сюда русских. И дело не только в содержании снов. Я вообще против контактов. Космических и политических. Мы стали слишком уязвимы. Наши фигуры, пользуясь снова шахматным языком, стоят слишком плохо. Нам нужно сначала навести порядок в нашем собственном лагере, перегруппировать силы, а потом уже думать об участии в матчах.
— Я понимаю вашу мысль, — сказал лейтенант Милич. — Нечто похожее говорил мне мистер Лернер.
— Лернер? Этот… болтун? У меня не может быть с ним общих взглядов. — На мясистом лице Бьюгла появилось брезгливое выражение.
— Скажите, мистер Бьюгл, а кому, по-вашему, была выгодна смерть Лины Каррадос?
— Всему нашему обществу.
— А в масштабах Лейквью?
— Другими словами, вы хотите спросить меня, кто убил ее?
— Если хотите.
— Не знаю. Я, во всяком случае, этого не сделал. Хотя, наверное, должен был.
Эммери Бьюгл глубоко вздохнул, то ли жалея, что не выполнил своего долга, то ли давая понять, что больше сказать ему нечего.
— Благодарю вас, мистер Бьюгл. Вы прочли мне сегодня замечательную лекцию.
— Пожалуйста. К сожалению, не так уж много людей имеет мужество в наши дни даже выслушивать нас, не говоря уж о том, чтобы разделять наши мысли.
Лейтенант коротко кивнул и вышел из коттеджа физиолога. Пора ехать в Буэнас-Вистас. Принять душ, поесть и вытянуться на кровати. Потрясти как следует головой, чтобы вытряхнуть из нее весь этот бред, который набился в нее за день. Вынуть фильтр, очистить его, прополоскать и вставить обратно.
Опять шел мелкий холодный дождь. На голых ветвях Деревьев сверкали бриллианты. Опавшие листья уже перестали источать пьянящий запах увядания. Они уже сдались. Они уже не были листьями.
«Как хорошо бы тоже сдаться, — подумал лейтенант. — Снять с себя круглосуточный груз. Я уже заговорил, как синт. Я их понимаю. Когда тебе говорят: мы снимем с тебя бремя мыслей и решений, для многих это кажется соблазнительным».
Паники у него еще не было, но и спокойствия тоже. Они не продвинулись ни на один шаг. Бомбу мог подложить практически любой из обитателей Лейквью. Абрахам Лернер, может быть, и прав, когда говорит, что у любого найдется мотив, надо только покопать.
А разве не мог убить Лину Каррадос этот жирный лысый боров? Красноречивый боров, ничего не скажешь.
Лейтенант почувствовал, как неприязнь к Бьюглу все крепнет в нем. «Стоп, — сказал он себе, — это опасно. Это роскошь, которую я пока себе позволить не могу. Симпатии и антипатии — это очки, сквозь которые смотришь на мир. А полицейскому нужны очки, которые не искажали бы то, что он видит».
— Ну, что нового? — спросил он у Поттера, который уже ждал его в гостинице.
— Искал магазин, где бы на прошлой неделе продали кому-нибудь две железные линейки.
— Ну и что, нашли?
— Нет…
— Это не путь.
— Зато я нашел продавца, который продал одному человеку четыре линейки. И полдюжины резинок.
— Четыре линейки? — Лейтенант встряхнул головой, прогоняя сонливость. Загустевшие было мысли снова стали текучими и заскользили, цепляясь друг за друга. Неужели первая ниточка? Давно пора, а то дело начинает врастать в землю — не выдернешь потом. — Когда, кому, где?
— В Стипклифе. По времени подходит вполне: шестого декабря.
— Неужели продавец запомнил день?
— Да, шестого декабря. Купил человек лет тридцати-тридцати пяти. Не синт.
— Почему?
— Что почему?
— Почему вы подчеркиваете, что не синт?
— А… Да потому, что Дик Колела — это сторож здесь, в Лейквью, — сказал мне, что к мистеру Колби приезжал коллега. Синт с желтой нашивкой из Стипклифа. А в Стипклифе штаб-квартира Всеобщей синтетической церкви…
— Понятно… Четыре линейки. Гм… А как вы думаете, Джим, почему четыре?
— Две для взрывного устройства и две про запас.
— Что значит «про запас»? Если испортит линейку в процессе изготовления бомбы?
— Ну?
— Не получается, мой друг.
— Почему?
— Подумайте: ну как можно испортить металлическую линейку? Неудачно припаять проводок? Отколупнул каплю припоя — и начинай снова. Хоть сто раз. Нет, дело не в запасных частях.
— А в чем же?
— А если четыре линейки были рассчитаны не на одну, а на две бомбы?
— На две?
— А что вас так удивляет? Это ведь все-таки не две термоядерные бомбы, а маленькие пластиковые самоделки. Неопытный человек, имея фунт взрывчатки и нужные детали, может изготовить такую бомбу за час или два. Ну, за три часа.
— Дело не во времени. Зачем? Чтобы повторить взрыв, если первый окажется неудачным?
— О, вы начинаете иронизировать. Прекрасный знак. Вы уже думаете, у вас есть идеи, и мои вам кажутся нелепыми. Вот почему начальство никогда не любит людей, которые склонны иронизировать. Нет, Джим, дело не в повторном взрыве. Убийца действительно хотел изготовить две бомбы, но не для повторного покушения… — Лейтенант почувствовал, как наконец в голове его начали возникать комбинации. Версии и гипотезы вздувались пузырями и в то же мгновение лопались под тяжестью собственной абсурдности. Но мозг начал работать. Нет, дорогой Джим, дело не в повторном покушении. — Одна гипотеза оказалась покрепче. Она не лопнула сразу. Лейтенант надавил на нее логикой. Гипотеза прогнулась, но испытание выдержала. Он вытащил ее на свет. Но и свет не смог совладать с ней. Чем больше он крутил ее так и эдак, тем крепче становилась догадка. Ей уже было тесно в черепной коробке, и она сама по себе выскочила из него: — А что, если с самого начала убийца намеревался взорвать не одну машину, а две?
— Две?
— Да, две. Лины Каррадос и…
— Хамберта?
— Ну при чем здесь Хамберт? Я начинаю думать, что икс убил Лину именно для того, чтобы поставить крест на всем проекте. Не Лина была объектом покушения — кому, в конце концов, мешала эта девчонка? — а сам проект. Вся эта затея с космическими контактами. А приняв такую версию, мы должны сделать и второй шаг. Кто, кроме Лины Каррадос, принимал сигналы? Русский. Чернов. Когда убийцы покупали детали, было уже известно, что приедут русские.
— Допустим. Но почему же он не попытался взорвать машину русских?
Нет, подумал Милич, гипотеза затвердела до такой степени, что ею можно даже жонглировать. И, как всегда, удачная догадка доставляла ему чисто эстетическое удовольствие. Она была красива, и ему было приятно играть с ней. Конечно, скорей всего, догадка окажется неправильной. Во время любого расследования не раз и не два приходится выбрасывать такие симпатичные версии. Что делать — версии и существуют для того, чтобы, сделав свою работу, умереть. Но пока что версия была жива.
— Да потому, Джим, что Чернов перестал видеть сны. Мне рассказал об этом Хамберт. Все они страшно огорчены и удручены. Им не только не удалось поставить совместные опыты, но и Чернов потерял связь с теми, кто посылал сигналы. И перестал представлять угрозу для убийцы.
— Выходит, кто-то убил Лину Каррадос только потому, что через нее осуществлялся контакт? Гм, что-то с трудом верится…
— Господи, Джим, разве мало ухлопали людей за последний миллион лет за менее серьезные идеи, чем контакт с внеземной цивилизацией? Забивали камнями, распинали на крестах, сжигали, вздергивали, расстреливали, загоняли в газвагены. Идея, брат Джим, — опасная штука. Это не ревность. Любовь проходит, объект ее стареет, страсти угасают, а не убитые вовремя идеи имеют тенденцию набирать силу. Нет, брат Джим, если кому-то идея контактов — я имею в виду и космические и земные контакты с Советским Союзом, — если кому-то такие контакты кажутся опасными, он пойдет на все, чтобы помешать им.
— Да, конечно… — Поттер пожал плечами, — говорите вы красиво, но как-то…
— Что «как-то»?
— Не знаю… Чересчур… Ну, как бы сказать… Выдуманно. — Поттер обрадовался найденному слову и уцепился за него, как малыш за подол матери: — Выдуманно. Не настоящее это как-то…
— Ага, не настоящее. А если бы старуха Хамберт подсыпала Лине из-за ревности щепотку цианистого калия в гороховый суп, тогда это было бы настоящее? Да, конечно, тогда бы это было настоящее. Или если бы Лина узнала, что Абрахам Лернер ограбил банк в Буэнас-Вистас. Увы, брат Джим, мы с вами невысокого полета птицы. Копаясь в нашем дерьме, мы начинаем думать, что это дерьмо — весь мир.
— А убийство из-за идеи — это что, благородство? — Поттер обиженно нахохлился. Он был обижен за всех тех, с кем всю жизнь имел дело.
— Нет, конечно. Но не в этом дело. Я хочу сказать, что идеи могут вызывать такую же ненависть, как и какие-то более простые вещи. А здесь, в Лейквью, как раз собрались люди, которые умеют ненавидеть идеи.
— В каком смысле?
— В самом буквальном. Они — ученые. Они должны знать цену идеям. А как только знаешь чему-то цену, ничего не стоит начать это ненавидеть. Взять хотя бы Бьюгла. Как только начинает говорить о прогрессе, возбуждается, как шаман. Поглаживает свою лысину, чтобы удержаться, а сам внутри клокочет. Кажется, замолчи он — и услышишь бульканье. Да и Абрахам Лернер не слишком жалует идею космических контактов. Он, пожалуй, относится к ней поспокойнее, чем Бьюгл, но я тоже вполне могу представить его с паяльником в руках.
— Может быть, — вздохнул Поттер, — и все-таки…
— Что, не убедил я вас? — улыбнулся лейтенант.
— Если честно — нет.
— Ну что ж, я еще и себя как следует не убедил. Но тем не менее я думаю, стоит посмотреть.
— Что посмотреть?
— Посмотреть в их коттеджах — а вдруг мы найдем парочку хорошеньких металлических линеечек?
— Вы ж сами говорили, что если что и осталось от изготовленной бомбы, так на дне озера.
— Это верно, говорил. Но вы тут, в Буэнас-Вистас, забываете о диалектике…
— О чем?
— О ди-а-лек-ти-ке. Взгляды меняются. Теперь появилась на свет версия со второй бомбой и сразу начала пищать и требовать внимания…
— Вы меня простите, Генри, но как-то чудно вы говорите, никак не привыкну.
— И ничего удивительного. Я сам к себе никак не привыкну. Появилась, я говорю, версия со второй бомбой.
— Ну, и почему убийца не мог выкинуть в озеро или куда угодно оставшиеся линейки, провод, паяльник?
— Мог, разумеется. А мог и не выкинуть. Подождать: а вдруг Чернов все-таки займет место мисс Каррадос?
— Лейтенант, я, конечно, прикомандирован к вам для помощи. Расследование ведете вы. Но если хотите знать мое мнение…
— Не хочу, братец Джим. Я люблю конструктивные мнения…
— Какие?
— Кон-струк-тив-ные.
Поттер вздохнул. Вздох был такой выразительный, что Милич зааплодировал.
— Браво, мой друг! Мастерский вздох. Артистический. Ни слова, а сколько чувств и мыслей!
На красном лице сержанта появился кирпичный отблеск.
— Если вы хотите издеваться…
— Да будет вам, Джим, что за провинциальная обидчивость! Да, я иногда могу сказать что-нибудь не очень вежливое, мягонькое, уютное, могу посмеяться, но я не хочу вас обидеть, бог тому свидетель.
— Простите, — пробормотал сержант. — Нужно заготовить ордера на обыск?
— Черт те знает. А может быть, коттеджи в Лейквью нельзя считать домом каждого и достаточно согласия администрации в лице Хамберта?
— А если собрать их всех и попросить у них разрешения на обыск? — спросил Поттер.
— А что, это идея. Вряд ли кто-нибудь осмелится отказаться. Ведь тем самым он сразу навлечет на себя подозрение.
— А что, улики лучше подозрений?
— Не забывайте, что он точно не знает, чего мы ищем. Это раз. Во-вторых, линейки и все остальное может быть запрятано. А в-третьих, видно будет. — В голосе лейтенанта оставалось все меньше уверенности, но он упрямо повторил: — Там видно будет.
ГЛАВА VII
Профессор Хамберт медленно поднял голову, посмотрел на Милича и так же медленно кивнул. «Старая черепаха, тянущаяся за пучком травы», - подумал Милич.
— Я попросил собрать вас здесь, чтобы обратиться к вам с маленькой просьбой, — сказал он и обвел всех собравшихся взглядом. — Я хотел бы, чтобы вы оставались здесь, в главном здании, пока мы осмотрим ваши коттеджи. Разумеется, каждый из вас может протестовать, поскольку у нас нет ордеров на обыск. Я рассчитывал на ваше сотрудничество.
— Я не возражаю, — буркнул Эммери Бьюгл и погладил ладонью лысину.
— Давно пора. Я бы на вашем месте, лейтенант, начал прямо с обыска, — сказал Абрахам Лернер.
— Благодарю вас, мистер Лернер, за весьма ценный совет, сказал лейтенант, и единственная женщина в комнате — по всей видимости, это была Валерия Басс — засмеялась.
Профессор Лернер спокойно вытащил из пачки сигарету, закурил, и Милич подумал, что люди ироничного склада ума часто не способны воспринимать чужую иронию.
— Пожалуйста, — сухо кивнул Чарльз Медина. — Надеюсь, я смогу потом разобраться в своих бумагах.
Никто не возражал.
— Прекрасно. Я попрошу вас пока оставаться здесь.
Они вышли на улицу. Дождь усилился. Порывистый ветер нес его полосами. Лейтенант поежился. Поттер молчал, но молчание было явно неодобрительным.
— Начнем с этого коттеджа. Здесь, если не ошибаюсь, живет эта тихая, кроткая жердь Лезе.
Они вошли в коттедж. Когда проводишь обыск, подумал Милич, или нужно быть уверенным, что обязательно найдешь то, что ищешь, или он начинает казаться довольно нелепым занятием.
Обыск у профессора Лезе казался нелепым занятием, потому что они не верили, что найдут что-нибудь. И не нашли.
Не нашли ничего и во втором коттедже, в котором жил Чарльз Медина. И в коттедже Валерии Басе.
— А это чей? — спросил Поттер, когда они подошли к четвертому домику.
— Здесь поселили русских. У них смотреть не будем. Пойдем к следующему. Сейчас я взгляну по плану, чей он. — Он достал из кармана листок бумаги, и ветер сразу попытался выдернуть его. — Абрахам Лернер.
Они пошли к домику. Дождь все усиливался и усиливался, барабанил по крышам, звонко булькал в водосточных трубах. Пахло холодной влагой, мокрой тканью плаща. Серое небо почти не источало света, и невольно хотелось протянуть руку и зажечь электричество.
— Пойдемте, — сказал Поттер, входя в коттедж.
Но Милич стоял под дождем и думал, что именно остановило его. Что-то было не так.
— Промокнете. Черт знает, что за погода! Хоть бы морозик все подсушил, — сказал Поттер и распахнул дверь в дом.
Но Милич продолжал стоять под дождем.
Он стоял терпеливо и ждал. Он привык доверять своим инстинктам. И своим чувствам. Нужно было только набраться терпения и постоять, не двигаясь, под дождем. Он вдруг засмеялся. Все было очень просто. По обеим сторонам коттеджа были водосточные трубы. Аккуратные зеленые водосточные трубы. Одна сердито плевалась водой, из другой еле сочилась струйка.
— Сейчас, братец Джим.
Он подошел к трубе. В нем даже не было охотничьего азарта. Он был уверен, что в трубе что-то есть. Он нагнулся. Черт возьми, придется стать на колени. Пахло мокрым металлом, сыростью. Он засунул руку в трубу. Нет как будто ничего. Глубже. Его пальцы коснулись чего-то. Он снял плащ. Теперь было удобнее, и он без особого труда подцепил какой-то сверток. Два или три раза пальцы соскальзывали, но наконец ему удалось ухватиться покрепче, и он вытащил пластиковый сверток. Стоявшая в трубе вода злорадно выплеснулась ему на ботинки.
Поттер, стоя на крыльце, следил за ним завороженным взглядом. Милич поежился. Один ботинок был совершенно мокрый. Мокрыми были колени. Он достал из кармана носовой платок и вытер лицо. Платок тоже был мокрый.
— Так что там в пакете? — спросил он.
Сержант осторожно снял резинку, сжимавшую горловину пакета, заглянул.
— Две линейки, паяльник, провод, металлическая коробка… — В голосе сержанта звучало изумление ребенка, которому только что показали фокус.
— Значит, Лернер, — сказал Милич.
— Вы мне как с самого начала рассказали о нем, я сразу и подумал, что это подходящая кандидатура.
В домике было тепло и тихо. Миличу вдруг опять все показалось абсурдным и нереальным: и его мокрые на коленях брюки, и красное лицо сержанта, и пластиковый пакет на столе. Рядом с пакетом стоял телефон. Он позвонил в главное здание и попросил, чтобы мистер Лернер пришел в свой коттедж.
Он пришел через несколько минут и остановился в дверях. Взгляд его скользнул по Миличу и остановился на пакете.
— Что это? — спросил он.
— По всей видимости, детали, из которых можно легко сделать пластиковую бомбу.
— Где вы их нашли?
— А вы не знаете? — спросил Поттер. — Может быть, положили и забыли?
— Очень остроумно, — сказал Лернер, не поворачиваясь к сержанту.
— Мы нашли этот пакет в водосточной трубе вашего домика, мистер Лернер, — мягко сказал лейтенант Милич и посмотрел на маленького человечка с всклоченной шевелюрой.
— Очень остроумно, — снова сказал Лернер и зябко потер ладони друг о дружку, словно смывал с них что-то.
— Что именно? — Миличу почему-то на мгновение даже стало жаль человечка, стоявшего перед ним. Наверное, у него нет жены, подумал он. Всегда измят, обсыпан перхотью, пеплом, неухожен.
— Остроумно то, что пакет подсунули именно мне. Человеку, который не скрывал своих взглядов на идею Контакта. Я бы на их месте разделил содержимое пакета на две части. Одну мне, другую — Эммери Бьюглу. Он ведь тоже в оппозиции.
— Значит, вы никогда не видели этого пакета раньше?
Профессор закурил, глубоко затянулся и выпустил дым из ноздрей. Он посмотрел на лейтенанта и покачал головой:
— Ай-яй-яй, дорогой лейтенант, я был о вас более высокого мнения. — Сержант сердито кашлянул, но профессор не посмотрел на него. Он посмотрел на лейтенанта и вздохнул: — Еще одна разбитая иллюзия… Значит, вы считаете меня таким кретином, что я выбрал для тайника место в водосточной трубе, да еще у себя в доме.
— Отчего же, место не столь уж неудачное. Если бы не такой сильный дождь… Да и то я совершенно случайно обратил внимание, что из одной трубы вода почти не течет.
— Допустим. Но почему бы мне не засунуть этот пакет в ту же водосточную трубу соседнего коттеджа? Коттеджа Бьюгла, скажем, или даже Иана Колби, чтобы всех сбить с толку? Почему не закопать пакет на берегу озера? Где-нибудь у забора? Ночи сейчас темные, никто не мешает. Смог же некто приладить бомбу к машине Лины. Я вас не утомил вариантами?
— Нет, напротив, мистер Лернер. Вы, должно быть, заметили, что и в первый раз я слушал вас со вниманием.
— Благодарю вас. В наши дни так трудно найти хорошего собеседника…
— И все-таки меня смущают совпадения, — развел руками лейтенант. — Кроме Хамберта и Лины, вы единственный человек, который знал комбинацию сейфа. Вы высказывали точку зрения, ставящую под сомнение идею Контакта. И у вас нашли детали для бомбы.
— На вашем месте, дорогой лейтенант, я бы выкинул профессора Лернера из головы. Как собеседник он чересчур болтлив, как преступник слишком невиновен. Разве вы сами не чувствуете искусственности ситуации? Кто сказал вам, что я знаю комбинацию? Я. Мог я не говорить? Мог. Мог я не прятать у себя в водосточной трубе пакет? Мог. Это же очевидная инсценировка. Как только вы осмотрите содержимое пакета, вы увидите, что моих отпечатков там нет.
— Ну, ну, мистер Лернер, теперь вы обижаете убийцу, кто бы он ни был. Неужели вы думаете, что он оставил свои отпечатки? А что касается нарочитости, то это, знаете, тонкая штука. Вы считаете, что очевидность в вашем случае уже обеляет вас. А может быть, наоборот? Специально выставить все напоказ: пожалуйста, сам скажу, что против Контакта, что знаю шифр сейфа, пусть даже найдут детали бомбы в доме — это ведь тоже может быть тонкий ход, чтобы отвести подозрения.
— Гм, в этом что-то есть, — почти весело сказал Лернер. Довольно убедительно звучит, почти как моя система доказательств. Еще немножко — и вы убедите меня, что Лину Каррадос убил все-таки я.
«Уж на льду», - подумал Милич и мысленно вздохнул.
Отпечатков пальцев на содержимом пакета не было. Надо было начинать все сначала. Оставалась тоненькая ниточка. Даже не ниточка, а паутинка. Но выбора не было, и приходилось тянуть за паутинку.
Лейтенант Милич сидел в домике у Иана Колби и пил кофе маленькими глоточками. Хозяин дома спросил:
— Может быть, бутерброд?
— Спасибо.
— Жаль, — мягко улыбнулся синт. — Я обожаю кормить гостей. Итак, мистер Милич, вы спрашиваете, как я отношусь к сновидениям бедной Лины Каррадос. У вас есть хотя бы четверть часа?
— Разумеется, — сказал Милич.
Он чувствовал себя удивительно уютно в этой теплой, тихой комнате. Он посмотрел на хозяина. Немолодой округлый человек. Желтые круги на рукавах мягкой куртки. Доброжелательные глаза за стеклами очков.
— Тогда я, с вашего позволения, начну с нашей церкви. Вы знаете, что лежит в основе Синтетической христианской церкви?
— Гм… Скажем, не совсем точно.
— Две идеи. Первая, и она далеко не нова, — это то, что само бесчисленное количество различных христианских церквей и вер — от католиков до, скажем, адвентистов седьмого дня нелепо. Можно ли всерьез в конце двадцатого века говорить об определении понятия благодати — одного из важнейших различий католицизма и протестантизма? Может ли волновать простого человека, тянущегося к вере, разница между понятием благодати как сверхъестественной силы, которой господь награждает верующих у католиков, и благодатью у протестантов, которые считают ее не подарком всевышнего, а чем-то, что составляет неотделимую часть его? Кого может всерьез волновать вопрос о том, как толковать смысл причащения? Кто ближе к истине, лютеране, которые считают, что Иисус Христос действительно незримо присутствует в хлебе и воде, или кальвинисты, видящие в хлебе и воде лишь символ тела и крови нашего спасителя? К кому ближе англиканская церковь, к католикам или протестантам?
Все эти вопросы когда-то имели значение. Из-за них ломали копья, отлучали от церкви, объявляли еретиками, сжигали на кострах, изгоняли в ссылку, основывали новые веры. Сейчас это пустые звуки. Желтые и хрупкие от старости страницы истории, которые давно уже не будоражат сердца. Это наша первая идея. Идея, повторяю, не новая, потому что давно уже существует так называемая Церковь Христа, прихожане которой называют себя просто христианами, а не, скажем, фундаменталистами или баптистами. Были времена, когда входила в моду Синкретическая церковь, претендовавшая на универсальность. Начиная с Вавилона, который отличался удивительной веротерпимостью, и кончая персидским чиновником Мирзой Гуссейном Али, который объявил себя в прошлом веке пророком новой синкретической, то есть всеобщей, веры — бахай, объединившей даже христианство и ислам.
Все это не ново. Нова наша вторая идея. Мы поняли, что религия умирает не потому, что человек не хочет верить. Она умирает потому, что он не может верить. Наука и прогресс лишили человека наивности дикаря, сердце которого тянется к чуду, к ожиданию чуда. Мы стали образованны и скептичны, и скепсис изгнал наивность. И религия стала умирать, как умирает дерево, корни которого больше не могут питать его. О, теологи и богословы, отцы церкви и философы давно почувствовали опасность. Начался текущий ремонт, ремонт во имя спасения. И даже самая неповоротливая и преисполненная гордыни католическая церковь начала потихоньку модернизировать свое здание, выстроенное еще апостолом Петром. И даже русская православная церковь, которая утверждает, что не внесла никаких новшеств в свою философию и литургию за последнюю тысячу лет, и та сдвинулась с места.
Но все это напрасные попытки, дорогой мой мистер Милич. Дело не в религиях, дело в человеке. Не религия стала плоха, а плох стал человек, и не религия нуждается в переделке, а человек. Это наша вторая и главная идея. Мы поняли, что не религию нужно подгонять к человеку двадцатого века, а человека к религии.
Но как? Ополчиться против образования? Смешно, да и современная технология требует образованных людей, а мы вовсе не призываем к возврату в пещеры. Да и пещер, между прочим, все равно не хватило бы.
И вот основатели нашей церкви задумались над причиной, почему в шестидесятых и семидесятых годах стало катастрофически расти увлечение наркотиками. О, наука предлагала много объяснений, но все они не устраивали отцов нашей церкви. Если объяснений десятки, значит, ни одно из них не может быть верно. И они первые поняли, что наркотики — это неосознанный протест против рациональности нашей жизни. Человек не хочет быть гомо сапиенс. Поймите меня правильно, дорогой мой. Дело не в управлении прокатным станом или настройке синхрофазотрона. Человек не хочет быть гомо сапиенс, потому что он подсознательно тяготится материалистической философией, потому что он влачит на себе тяжкий груз рационализма. А он не хочет безжалостного рационализма. Он не хочет бестеневого света науки. Он хочет полумрака тайны и чуда. Вы спросите меня, почему? Да потому, что разум, сознающий сам себя, несовместим с бренностью тела. Можно описать смерть в тысяче подробнейших медицинских трактатов, но таинство ее все равно ускользнет от микроскопа и осциллографа. Человек не хочет умирать. Смерть абсурдна. Смерть делает нас на земле лишь временными жильцами. И мы жаждем чуда. Мы восстаем против науки, убившей чудо и веру. И молодые люди начинают вкатывать себе все большие и большие дозы наркотиков, даже зная, что станут наркоманами. Лишь бы уйти из-под яркого света ламп, забиться в темный угол, где в тени фантасмагорий могут еще случаться чудеса.
И основатели нашей церкви решили создать такой препарат, который не превращал бы человека в своего раба, но позволял бы ему ускользать от проклятия рационального мышления. Так появился христин.
Человек, принимающий таблетки христина, перестает интересоваться внешним миром. Этот мир становится для него призрачным и ирреальным. Нет, он может продолжать работать, как работал раньше, но его работа, будь это управление реактивным лайнером или подметание улиц, становится чужой, иллюзорной. Она становится сном. Сном становится и бремя эндокринных страстей — груз, который мы влачим на себе всю жизнь. И огорчения и заботы тоже становятся иллюзией, которая спадает с тебя, как старая кожа со змеи.
Реальность — это твоя душа. Огромная, неслыханно огромная душа. Равнина без края и конца. И ты один на этой равнине. И ты одинок. Тебе страшно. Ты жаждешь услышать голос, зовущий тебя, молишь о руке, которая повела бы тебя.
И человек слышит голос. Это голос Иисуса Христа, нашего спасителя. А рука, которая ведет тебя к нему, — это наша церковь. Христианская синтетическая церковь.
Каждый человек, который становится прихожанином Синтетической церкви, или синтом, как нас называют, получает бесплатно в своей церкви таблетки христина. Каждый день он принимает их от восьми до двенадцати штук.
Через три года он снижает прием до трех-четырех. Зато он начинает осваивать так называемый авторитм, то есть умение заставлять свой мозг работать в ритме, который раньше обеспечивали ему таблетки христина. Он поднялся на вторую ступеньку лестницы, ведущей к богу, и поэтому он стал синтом второй ступени или ранга. На рукавах его красные нашивки. Синты третьей ступени уже не принимают таблеток. На их рукавах нашивки третьей ступени. Подняться на эту высоту нелегко. Мирская суета бьется прибоем у твоих ног, захлестывает тебя, ты должен противостоять ей, не прибегая к помощи христина. Если тебе тяжело, ты можешь получить христин и начать принимать его, но тогда ты спускаешься на ступеньку и меняешь нашивки…
— Скажите, мистер Колби, много в вашей церкви синтов третьей ступени?
— О нет! Может быть, несколько десятков человек. Большинство занято в штаб-квартире в Стипклифе. Я же, как видите, был приглашен мистером Хамбертом… Не утомил я вас своей проповедью? — Иан Колби застенчиво улыбнулся и виновато развел руками. — Мы, знаете, молодая религия. Мы исполнены миссионерского пыла… А кофе-то совсем холодный… Как я заговорил вас, ай-яй-яй!.. Сейчас я приготовлю новую порцию.
— Благодарю вас, мистер Колби. Скажите, кто именно из штаб-квартиры вашей церкви приезжал к вам на прошлой неделе?
Миличу показалось, что глаза синта за толстыми стеклами очков сразу сделались жесткими и колючими, но напряженность тут же смыла добрая, мягкая улыбка.
— А, вы, наверное, имеете в виду брата Энока Бартона. Да, он приезжал ко мне. Мой старинный друг.
— Скажите, мистер Колби, а как вы относитесь к сновидениям мисс Каррадос?
Синт потянулся к карману, и Милич подумал, что сейчас он бросит в рот таблетку христина и начнет тут же спарывать свои желтые нашивки. Но вместо таблеток он вытащил сигарету, неспешно закурил и лишь после этого пожал плечами.
— Я могу высказывать вам лишь точку зрения нашей церкви, а она так и не была сформулирована.
— Почему?
— Хотя бы потому, что я ничего не сообщал в Стипклиф о работе нашей группы. Профессор Хамберт просил нас соблюдать конфиденциальность, и я согласился.
— Значит, в Стипклифе не знают о Лине Каррадос?
— Нет.
— И ваш коллега Энок Бартон, который приезжал к вам, тоже ничего не знает?
Синт покачал головой. А все-таки глаза у него не такие, как у этого парня, что встречался с Линой, подумал Милич. Не такие отрешенные. Даже вовсе не отрешенные. Настороженные и внимательные. Не очень-то вяжущиеся с приветливой, мягкой улыбкой.
— Скажите, мистер Колби, а как вы сами относились к опытам с мисс Каррадос?
Синт тихонько засмеялся:
— Вы не понимаете, дорогой мой лейтенант. Я сам никак не могу относиться. Чем выше мы поднимаемся по ступенькам к богу, тем больше мы отказываемся от собственных взглядов и суждений. Зачем они мне? Зачем мне мучиться и терзаться, блуждать по чащобе фактов в поисках ответов, когда мне дает их моя церковь? Я снял с себя бремя, освободился от груза.
— Позвольте, я действительно чего-то недопонимаю. Раз у вас нет никаких мнений, как вы можете работать здесь, в Лейквью?
— Я ученый, мистер Милич. Христианский ученый. Синт третьей ступени. Здесь я собираю факты. Собирал, точнее. Я составил определенное мнение о фактах. О том, что несчастная девочка действительно принимала во сне сигналы иной цивилизации. А вот интерпретация этих фактов — это дело моей церкви. Церковь выработала бы точку зрения, и я принял бы ее.
— Угу, теперь я понял. Благодарю вас.
Лейтенант Милич встал. Поднялся и синт. «Наверное, мне почудилось, что в глазах у него была настороженность, — подумал Милич. — Прямо расплывается человек от улыбки».
ГЛАВА VIII
— Так что, братец Джим, подаем в отставку?
— В каком смысле? — угрюмо спросил Поттер и неприязненно посмотрел на лейтенанта.
— В прямом. Найти убийцу мы не можем, буксуем на месте. Добыли за все время пакет с паяльником и двумя железными линейками…
«Попрыгунчик, — подумал сержант. — В отставку… А жрать?»
— Я вот не пойму, вы женаты или нет? — спросил он.
— Я и сам не пойму.
— В каком смысле?
— В прямом. И развестись не развелся, и жить вместе не живем, дай бог ей здоровья.
— В каком смысле?
— В прямом, братец Джим. Хотя бы за то, что отпустила меня подобру-поздорову.
— А как же дети?
— Нет у меня детей, дай ей бог за это счастья.
— А у меня двое.
— Поздравляю, коллега.
— Кормить их надо.
— Ну и кормите, только смотрите не перекармливайте.
— А вы говорите — в отставку…
— О господи! — простонал лейтенант. — За что, за что?
— Что — за что?
— Ничего, — сухо сказал лейтенант, рывком сел и свесил ноги с кровати на пол. — Долой сомнения. Двинемся дальше.
— Давайте. А куда?
— А вот куда. Пока я лежал и вел с вами чисто фатическую беседу…
— Что? Фактическую?
— Фатическую. То есть бессмысленную. Так вот, пока мы благодушно сотрясали воздух, я подумал об одной комбинации. Несколько лет назад подобная штука мне очень помогла. У меня не выходит из головы брат Энок Бартон, который приезжал к Колби накануне взрыва. Сторож, если я не ошибаюсь, рассказывал вам, что он приехал с портфелем и портфель в машине не оставил, а пошел с ним в коттедж Колби. Так?
— Точно.
— Так вот, давайте попробуем одновременно задать вопрос Иану Колби и Эноку Бартону, что было в портфеле.
— Как это — одновременно? Собрать их вместе?
— Нет, в том-то и дело, что не вместе. Я еду в Стипклиф, а вы начинаете в это же время беседу с Колби. И мы оба задаем своим святым собеседникам один и тот же вопрос. Один шанс из ста, что ответы будут разные, поскольку преступники не согласовали заранее ответы.
— Преступники?
— На это у нас тоже один шанс из ста. Значит, по теории вероятности у нас всего один шанс из десяти тысяч. Не так уж плохо.
— Но почему, почему вы решили, что Лину убили эти два синта с желтыми нашивками? Это же…
— Да ничего я не решил, братец Джим. И не переживайте так за Синтетическую церковь, а то я подумаю, что вот-вот вы сами начнете кормиться их таблетками. Мистер Колби мне целую лекцию прочел о Христианской синтетической церкви. Я бы с удовольствием снял груз этого расследования. Как, братец Джим, обратимся?
— Не пойму я что-то вас. То разумно говорите, как человек взрослый и солидный, то как ребенок.
— В этом-то весь фокус, братец Джим.
— В чем фокус?
— А в том. Слышали вы выражение «устами младенца глаголет истина»?
— Ну…
— Вот я и стараюсь не заглушить в себе голос младенца.
— Вы все смеетесь надо мной!
— Над вами, братец Джим, смеяться нельзя. Вы сержант и олицетворяете собой здравый смысл. Ну ладно, ладно, не дуйтесь, вам ведь детей кормить нужно… Значит, так: я еду без предварительного телефонного звонка в Стипклиф, в штаб-квартиру синтов. Если Энок Бартон на месте, я, не заходя еще к нему, звоню вам, и вы тут же хватаете Колби, тащите в его коттедж и спрашиваете, что было в портфеле, с которым приезжал его коллега. Снимите при этом незаметно телефонную трубку.
— Зачем?
— Может быть, Бартон захочет позвонить Колби, прежде чем ответить что-либо мне. «Простите, мистер Милич, меня вызывают…» Или: «Ах, простите, совершенно забыл, мне нужно выйти распорядиться относительно партии христина для Экваториальной Африки».
— А если Колби захочет позвонить Бартону?
— Ему некуда выходить, и его некому вызывать. Не отходите от него ни на шаг, как футбольный защитник при персональной опеке. Все понятно?
— Все, — угрюмо кивнул Поттер. — Но только мне это не по душе. Хоть многие к синтам относятся с насмешкой, а по мне, так их религия не хуже любой другой. Я вот числюсь фундаменталистом, как меня родители воспитали, да только, по мне, что фундаменталисты, что конгрегационалисты, что баптисты все одно.
— Видите, братец Джим, я и говорю, что вы, по крайней мере, созрели для Синтетической церкви. Мне как раз об этом и говорил Колби. Здорово говорил, надо ему должное отдать. Я поехал.
Штаб-квартира Христианской синтетической церкви представляла собой красивое здание, построенное в виде огромных ступеней, ведущих вверх, к небу.
Милич увидел его издалека, еще задолго до того, как свернул с главной улицы Стипклифа, проехал по сосновой рощице и, повинуясь указателям и символическими ступенями и большими буквами ХСЦ, подкатил прямо к стоянке у штаб-квартиры.
Брат Энок Бартон был на месте. Лейтенант позвонил Поттеру и поднялся в лифте на третью ступень. Синт с пустыми глазами поднялся из-за столика и вопросительно посмотрел на Милича:
— Как доложить, брат?
— Скажите, лейтенант Милич из Лейквью.
Синт поднял телефонную трубку:
— Брат Бартон? К вам лейтенант Милич из Лейквью… Хорошо.
Синт положил трубку и улыбнулся:
— Пожалуйста, брат Бартон ждет вас. Восемнадцатая комната.
Брат Бартон оказался плотным седым человеком лет пятидесяти пяти. Рукопожатие его было сильным, улыбка — располагающей.
— Прошу простить меня, мистер Бартон, но я занимаюсь уголовным делом, связанным с убийством некой Лины Каррадос…
— Знаю, знаю, — нетерпеливо прервал его синт. — Мне рассказывал брат Иан Колби.
— Тем лучше. Я хотел вам задать один вопрос. Примерно неделю назад вы приезжали в Лейквью…
— Совершенно верно.
— Вы что-нибудь привезли мистеру Колби?
Не смотреть в глаза, как начинающий следователь, но и не пропустить мгновение, во время которого они напрягаются, брови чуть сходятся, морща лоб. Короткое мгновение, которое важно не пропустить. Но брат Бартон не зря достиг третьей ступени и носил на рукавах желтые нашивки. Как только лейтенант спросил «вы что-нибудь…», он отвернулся, чтобы налить себе воды. Случайное совпадение? Или опыт человека, знающего, что не всегда удается контролировать свои глаза?
— Гм… — неторопливо помычал синт, отпил несколько глотков и осторожно поставил стакан на стол. — Да нет, насколько я помню… — Голос у него был низкий, звучный, уверенный. Голос, которым хорошо читать проповеди и отвечать полицейским на глупые вопросы.
— А что у вас было в портфеле?
Все-таки не удержался, подумал Милич, глядя, как дрогнули веки синта.
— В портфеле?
— Да, в портфеле, который вы держали в руке, когда оставили у ворот машину и пошли к коттеджу мистера Колби.
— Ах да, да, совсем забыл, — неспешно пророкотал синт, и лейтенант подумал, что актер он все-таки неважный. — Я ничего не привез брату Колби, поэтому я не сразу вспомнил о портфеле.
— А почему же вы не оставили его в машине?
— У меня были в нем ценные бумаги…
Скорее всего, это ничего не значит, подумал лейтенант, но врет. Зверь, попавший в капкан. Чем больше дергается, тем больше сжимается пружина.
— Лейквью огорожен. У ворот рядом с вашей машиной оставался сторож…
— Гм… Теперь, когда вы это мне подробно все растолковали, я вижу, что мои объяснения должны звучать гм… несколько неубедительно. Но когда я остановил машину у ворот, я не занимался анализом того, насколько безопасно оставить в Лейквью портфель в машине. Я вообще не думал об этом. — Голос синта окреп и уже рокотал с прежней уверенностью. — Элементарный инстинкт, который, увы, давно уже выработался у нас всех: выходя из машины, возьми с собой ценные вещи. И не хочу вас обидеть, лейтенант, но, к сожалению, немалая вина за этот инстинкт ложится на вас, на полицию… Надеюсь, я не был слишком груб?
— Нет, мистер Бартон. Полицейский, который обижается на каждое замечание о работе полиции, должен бросить свою работу на второй день. А еще лучше в первый же.
Брат Бартон вежливо побулькал в горле легким смешком и положил на край стола ладони. Нет, он не вставал, давая понять, что считает разговор законченным, он лишь показал, что мог бы встать.
— Благодарю вас, мистер Бартон.
Теперь уже встал и хозяин. Вежливый человек — он не смел задерживать гостя.
Из вестибюля Милич позвонил в Лейквью сторожу и попросил его, чтобы он сходил в коттедж Колби и попросил сержанта приехать в Буэнас-Вистас.
— Ну, что сказал наш милый синт? — спросил он у Поттера, когда вошел к себе в комнату в гостинице.
— Ничего не знает. Не обратил внимания, был ли вообще портфель.
— Толково.
— А второй? — вяло спросил Поттер.
— Тоже ничего. Сначала не мог вспомнить. Потом сказал, что захватил портфель автоматически, поскольку в нем были ценные бумаги.
Поттер устало откинулся на спинку кресла. Красное лицо его слегка побледнело, складки в уголках губ углубились. Он постарел лет на десять.
— Вы не заболели случайно, братец Джим? — спросил Милич.
Поттер покачал головой:
— Нет.
— Ну ладно. Один шанс оказался меньше десяти тысяч. Точно в соответствии с арифметикой. — Сержант прикрыл глаза, и Милич добавил: — Может быть, все-таки вы заболели? Устали? Огорчены, что негодяй до сих пор не вручил нам письменного признания? Может быть, просто попросить их всех в Лейквью: «Господа, сержант Поттер устал, и поэтому мы настоятельно просим убийцу признаться. Сержант принимает от пяти до семи. Просьба захватить с собой в случае возможности вещественные доказательства».
— Простите меня, я думаю.
— Что же тут думать, братец Джим? Это очень и очень интересно.
— Пожалуйста, можете смеяться надо мной, сколько вам угодно. Вы лейтенант, я сержант. Вы кончили университет, я нет. Вы — из Шервуда, я — из маленького городка. Меня никто не знает, вы — известный в полиции человек. Но подозревать мистера Колби — это, простите меня, смешно. Вы, конечно, человек неверующий. Да и я, признаться, давненько не брал в руки писание. Но я хоть уважаю в других веру. А мистер Колби — верующий человек. Стоит с ним пять минут поговорить — сразу видишь, перед тобой верующий человек. И хоть многое у них странно, но верят-то они в того же Иисуса Христа, в которого меня учили верить родители.
— Одно другого не касается, братец Джим. Можешь стать синтом, это дело твое. Но, пока ты полицейский, у тебя должна быть открытая голова. Или вы заранее составили себе твердое мнение, кто убийца?
— Не нравится мне этот Лернер… Как обмылок, не за что ухватиться.
— Вот негодяй, действительно. Вместо того чтобы сказать: вяжите меня, он, видите ли, еще и извивается. Я, братец Джим, тоже не в восторге от мистера Лернера, но я также не в восторге от мистера Бьюгла, хотя он, если не ошибаюсь, другого вероисповедания, в религиозном и политическом смысле. Не нравится мне и мистер Медина. Ну, и что из этого?
— Прошло уже столько времени…
— Да, прошло. Преступник умен. Это не пьяный балбес, избивший бармена. У него голова не хуже наших двух. А может быть, и лучше. Единственное наше преимущество заключается в том, что мы не можем бросить расследование. Мы бульдоги, челюсти которых сомкнулись. И пока мы не найдем убийцу, мы не имеем права разжать зубы.
— Но мы же никого не ухватили…
— Да, никого. Мы ухватили дело о взрыве в Лейквью машины Лины Каррадос. И мы не отпустим его. Я, по крайней мере, не отпущу его. Может быть, любое другое дело бросил бы, но это — нет.
— Почему?
— Как вам объяснить, братец Джим… Наверное, это как… — Лейтенант помолчал, склонив голову набок. — Столько лет мы все поклонялись науке… Наука может все. Расщепить атом и послать человека на Луну. Нас учили молиться на науку. Ученый стал жрецом. А потом выяснилось, что жрец гол. Нам не стало лучше, и мы не стали чище. Не стало меньше лжи, и не стало больше счастья. Жрецы науки предали нас, как предали еще раньше политиканы, а еще раньше священники. И я не люблю ученых, братец Джим. Я не люблю жрецов, которые царственно кутаются в несуществующие мантии… А может быть, и не только это… И я хотел стать ученым. А стал полицейской ищейкой. И теперь я должен или признать, что я неудачник, или доказать себе, что ученые не стоят того, чтобы им завидовать. Так или иначе, я их не люблю, братец Джим. Не люблю. И буду счастлив, когда один из этой компании в Лейквью будет трепыхаться, подцепленный на наш крючок… Так-то, братец Джим. Вот вам и первое признание. Правда, пока не убийцы, а полицейского… А сейчас отправляйтесь к своим наследникам и супруге и верьте в своего фундаменталистского бога. А то завтра, может быть, придется поменять его на другого…
ГЛАВА IX
Лейтенанту Миличу снились сны. Он бежал за кем-то по бесконечной дороге, и шаги его были неслышны, словно дорога шла по облакам. Ему было очень важно догнать человека, бледной тенью мелькавшего впереди. И он бежал, задыхаясь. Сердце билось о прутья грудной клетки. Он задыхался. Но что-то все гнало и гнало его. И когда он был в шаге от убегавшего, тот вдруг обернулся, и Милич увидел лицо матери. Лицо было недовольное, с брезгливо поджатыми губами. Седые волосы были собраны в жалкий маленький пучок.
«Где ты был? — скрипуче спросила мать. — Ты уже неделю не брал в руки Библию».
Он хотел было ответить матери, но что-то отвлекло его внимание. Это что-то грубо врывалось в сон, требовало внимания, и Милич наконец понял, что это телефон. Он открыл глаза. Звонок телефона в зыбкой темноте комнаты, слегка подсвеченной фонарем на улице, казался невероятно пронзительным. Он должен был разбудить всю гостиницу, весь город. Весь мир.
С бьющимся сердцем он схватил трубку.
— Да? — пробормотал он хрипло и услышал знакомый голос:
— Милич?
— Да, — сказал лейтенант. Сердце постепенно успокаивалось. Это была не мать. Мать умерла двенадцать лет назад. Это был капитан Трэгг.
— Вы еще не выспались? Придется вам вытащить свою задницу из постели и приехать сюда.
— Что случилось?
— Полчаса назад мне позвонил дежурный и доложил, что в своей квартире убита Валерия Басс.
— Валерия Басс?
— Я вижу, вы еще не совсем очухались. Это дама из Лейквью. Работала там у вас вместе с Хамбертом. А так как я дал строгий приказ срочно докладывать мне обо всем, что связано с Лейквью, меня с радостью разбудили. А я с не меньшей радостью — вас.
— Еду, — сказал Милич. — Приехать в управление или прямо на место?
— Езжайте сразу на место. Пенн-парк, восемнадцать. Квартира четыре «Б». Там будет кто-нибудь из наших и ее экономка, которая позвонила в полицию.
— Еду.
Милич положил трубку и начал одеваться. Он попытался подумать о Валерии Басс, но мозг отказывался работать.
Он прошел мимо спавшего за стойкой портье, в полированной лысине которого отражалась горевшая возле него настольная лампа, и вышел на улицу. Было тихо, и шел крупный, мокрый снег. Снег был театральный, ненастоящий и стыдливо исчезал, едва коснувшись асфальта. Но на машине он не таял, и лейтенант смахнул его с ветрового стекла.
Валерия Басс. Ассистентка профессора Кулика. Тридцать два года. Высокая женщина с вечно ждущим лицом. Не мудрено: когда было два мужа, ждешь третьего. Грустный нос. Нос был умнее своей хозяйки. Нос уже не ждал третьего мужа. Впрочем, теперь ей уже не нужен третий муж. Ей уже никто не нужен.
Щетки с мягким урчанием сгоняли снег с ветрового стекла, и по краям очищаемых полукружий он лежал толстым валиком.
Можно было уже включить обогреватель, и лейтенант с благодарностью услышал шипение теплого воздуха, гонимого вентилятором.
Шоссе было пустым. Три часа ночи. Он проносился сквозь пятна света от висячих ламп и нырял в тоннели темноты.
Только не думать о Валерии Басс. Сейчас думать бессмысленно. Потом.
Мысли, казалось, проносились в его мозгу с такой же скоростью, как пятна света. Они не успевали сложиться, оформиться, одеться в слова. Маленькие обрывки. Они проносились, как снежинки, которые плотной стеной неслись навстречу фарам машины. Басс. Колби. Портфель. Истерика братца Джима. Таблетки христина. Странные сигналы, оседавшие в мозгу смеющейся Лины Каррадос. Металлические челюсти в виде двух линеек. Толчок — они коснулись друг друга, и невидимая искра скользнула по ним, юркнула по проводкам, заставила хлопнуть детонатор и с нелепым грохотом подбросила в воздух машину, разрывая и скручивая металл.
На мгновение лейтенанту почудилось, что сейчас взорвется и его «джелектрик», и он весь сжался в тягостном ожидании. Но машина продолжала спокойно мчаться навстречу стене мокрых снежинок.
Пенн-парк. Неплохая улица, сохранившая еще очарование индивидуальности. Доход, может быть, и невысок, но средние классы традиционно следили за чистотой. Тихая улица. При падающем в свете фонарей снеге похожа на декорацию. Но убийство настоящее.
Дом номер восемнадцать. Конечно, вон он. Две полицейские машины, поставленные во втором ряду, несколько тревожных и любопытных глаз освещенных окон.
Милич нажал на кнопку звонка с цифрой «4б» и услышал мужской голос.
— Лейтенант Милич.
— Пожалуйста, — сказал голос, замок щелкнул, открываясь, и лейтенант вошел в подъезд.
Он поднялся на второй этаж. Да, здесь. Дверь была не заперта. Кто, интересно, дежурит сегодня?
— Привет, лейтенант, — сказал офицер, впуская Милича в квартиру.
— Привет, Баумгартнер. Как дела?
— Да вот видишь, спать не дают. Как будто нельзя отправлять народ на тот свет в дневное время. Трэгг сказал, что у тебя особый интерес к этой даме.
Милич пожал плечами:
— Может быть, еще не знаю. А где она сама?
— Уже увезли. Можешь поговорить со старухой.
— С какой старухой?
— Что-то вроде экономки. Жила с ней.
— А вы что-нибудь нашли?
— Пока ничего. За исключением самого орудия убийства. В старых добрых традициях ей размозжили голову старинными каминными щипцами. Камина нет, а щипцы, видно, служили украшением. Тяжелые такие, с бронзовыми ручками. Макафи и Шуль пытаются найти отпечатки.
— Нет?
— Пока нет… Будешь сам разговаривать со старухой или рассказать тебе то, что она нам сообщила?
— Спасибо, Баумгартнер. Потолкую с ней сам. Где она?
Баумгартнер подвел Милича к двери, постучал и, не ожидая ответа, вошел.
— Миссис Ставрос, это лейтенант Милич. Если бы вы могли еще раз рассказать…
— Конечно, конечно, — сказала густым, прокуренным басом толстая огромная старуха с желто-седыми волосами, небрежно заплетенными в косу, и густыми черными бровями. На ней был суконный черный халат, надетый поверх пижамы. — Вы не возражаете, если я закурю? — спросила старуха.
Она была возбуждена, и ее руки все время двигались, хватаясь то за пуговицы халата, то за подлокотник кресла, то за пачку сигарет, которая лежала на столе. Наконец она заняла руки сигаретой и спичками и посмотрела на Милича маленькими черными глазками:
— Рассказывать все по порядку или вы будете сами задавать вопросы?
— Вы расскажите, миссис Ставрос, что сможете, а я потом, если мне что-то будет неясно, еще спрошу. Хорошо?
— Конечно, конечно. — Старуха выпятила губы, выпустила струю дыма и посмотрела на потолок, словно именно там начиналась история убийства ее хозяйки. — Валерия позвонила мне днем, что приедет вечером. Она сейчас работает где-то около Буэнас-Вистас. Точно я не знаю…
— Это неважно, я в курсе дела, миссис Ставрос.
Старуха обиженно посмотрела на Милича. Это было покушение на ее монополию. Она знала. Только она.
— Конечно, конечно. — Она поджала губы. («Точно так же, как когда-то поджимала их мать, — подумал Милич. — И в сегодняшнем сне».) — Значит, она позвонила, что приедет. Она приезжает раз или два в неделю. Голос у нее был веселый такой. Она назвала меня не миссис Ставрос, как обычно, а Ксения. Она меня всегда называет Ксения, когда у нее хорошее настроение.
«Всегда называет», - подумал Милич. Как людям трудно перейти с настоящего на прошлое время. Понять, что не называет, а называла. И никогда больше не назовет. Грамматика смерти.
— Приехала она часов в восемь вечера. И правда — все улыбалась. Я, конечно, не стала спрашивать. Не люблю я лезть в душу с расспросами. Захочет — сама расскажет. Я ведь помню, что не у себя на старости лет живу, а у людей. — Старуха снова неодобрительно поджала губы и покачала головой. — Да, у людей. Хотя мне на мисс Басс грех жаловаться. А после того как она со своим последним мужем — это с доктором — развелась, так мы и вовсе спокойно зажили. Да, значит, пришла она веселая, улыбчивая такая, чмокнула меня в щечку… Да, вы не смотрите так, она ко мне иногда прямо как к матери… — Старуха одновременно всхлипнула, затянулась, пошарила в кармане и вытерла сухие глаза рукавом халата. — Чмокнула меня — и шмыг в ванную. Она, знаете, как тюлень какой, — часами в воде сидеть может. Ну, поплескалась она, наверное, не меньше часа. И что меня поразило, даже пела там. Сроду такого с ней не было. Что-то такое там мурлыкала про любовь. А потом вылезла и спрашивает, какая у меня вера. Я даже сразу и не сообразила, что она в виду имеет. «В бога в какого вы веруете?» — спрашивает. А я говорю: «Как — в какого? В господа нашего и спасителя, в Иисуса Христа». — «Да нет, говорит, к какой церкви вы принадлежите, Ксения?» — «А, говорю, я и не поняла сначала. К Греческой православной, хотя не так я часто хожу в храм божий, как следовало бы». — «А к Синтетической церкви как вы относитесь? — спрашивает она и поясняет: Это новая религия такая, вы слышали, наверное». Слышать-то я слышала, конечно, да что я о ней знаю? И родители мои, которые в десятом году сюда, в Шервуд, из Салоник приехали, и я — мы всегда были в Греческой православной церкви. И к чему, думаю, она меня про синтов спрашивает? Потом какое-то время прошло, я накормила Валерию, подала на стол кофе — она, знаете, та к кофе любит, что даже на ночь пьет, — она вдруг и говорит: «А знаете, Ксения, я выхожу замуж». И смеется. Весело так. Как дитя. — Старуха снова покопалась в кармане, в котором раз уже не нашла платка, и снова вытерла сухие глаза рукавом халата. — «Ну, — я говорю, — поздравляю вас, дорогая Валерия. А кто же он?» — «О, говорит, очень солидный человек. Необыкновенный человек. Только он синт».
— Что? — вскрикнул лейтенант. — Синт?
— Я никогда не вру, — снова поджала губы миссис Ставрос. — Она так и сказала: синт. Я Валерии и говорю: «Какая разница, баптист ли, католик, иудей — лишь бы человек был хороший. Хотя я, если честно говорить, пошла бы только за православного». Ну, поговорили мы немножко. Она мне объяснила, что он там какой-то пост высокий у себя в церкви занимает и должен согласовать брак со своими старейшинами или как там у них называется. А Валерия прямо так и светится, мне рассказывает. И у меня глаза на мокром месте, потому что последнее время она мрачнее тучи ходила.
Ну, легла она спать. Только легла — телефонный звонок. Я почему обратила внимание — так-то ей полно звонят. Но все знают, что ее нет. Вот никто и не звонит. А тут уже часов двенадцать, наверное, может, чуть меньше, — и телефон. Я слышу, она там что-то поговорила, пришла ко мне в комнату и говорит, что к ней должны заехать, чтобы я не вставала, она сама откроет.
И действительно, наверное, через полчасика раздается звонок. Я понимаю, дело, конечно, не в том, что вдруг такая заботливая стала. Просто, видно, не хотела она, чтоб я видела, кто к ней пришел. Только что про брак разговоры вела… Да я ее не осуждаю. У нынешних-то свои понятия… Ну, она впустила его — и сразу к себе в комнату. А я, конечно, не сплю. Только что название, что я ей чужая, а сама я к ней как к родной. Ну, понятно, и беспокойно мне как-то и любопытно. Встала я тихонечко, вышла в прихожую. Смотрю — куртка висит. Странный, думаю, у нее посетитель.
— Почему странный? — спросил Милич.
— Куртка такая коричневая, нейлоновая. Грязноватая такая… и рукав рваный.
— Ну и что?
— Как вам объяснить? Валерия ведь не девчонка. Тридцать два года. Ну и… думаешь… посолиднее должны у нее знакомые быть… А тут — рваная куртка… И на полу глина.
— Что?
— Глина, говорю. У нас у входа коврик. Так вот и коврик в глине — видно, тер он ноги, — и пол испачкан. Понимаете теперь, почему я говорю — несолидный человек? Солидный человек не придет к даме за полночь да еще в рваной куртке и ботинки в глине.
— Вы не слышали, о чем они говорили?
— Так, если честно сказать, подошла я к двери…
— Ну, и что?
— Ничего не слышно было. Думаю, может быть…
— Что «может быть»?
— Думаю, может быть, спят. И тут слышу шаги. Вроде бы как к двери. Я быстренько в свою комнату. И уже оттуда слышу, как выходят из комнаты Валерии в прихожую. И шаги не ее. И тут же дверь захлопнулась. Знаете, ночью, когда лежишь и не спишь, все слышишь. Проходит полчаса, час. Все тихо. А мне как-то беспокойно на душе. Прямо места себе не нахожу — ворочаюсь и ворочаюсь, и сердце болит. Не знаю, чего именно, а болит и болит. Ну, встала я наконец, подошла к ее двери. А там свет горит. Ни звука. Постучала. Сама не знаю чего — но постучала. Не отвечает. Может, думаю, спит. Забыла свет погасить. Отошла от двери и обратно. Открыла тихонечко дверь и как закричу! Валерия на полу, и около головы лужица темная. Я все сразу поняла. Я как куртку эту увидела — сразу почувствовала: что-то тут не так.
— А вы не слышали, как они поздоровались, когда он вошел?
Старуха посмотрела на лейтенанта с сожалением.
«Считает, видно, меня за идиота», — подумал Милич.
— Неужели бы не сказала вам?
— А вы не могли бы подробнее описать мне куртку, что вы видели на вешалке?
— Пожалуйста. Темно-коричневая, на «молнии». С поясом. Один конец пояса висел почти что до пола. Я еще подумала потеряет ведь.
— Вы говорили, порвана…
— Точно. Рукав один. Сейчас соображу, какой… — Старуха закрыла глаза и наморщила лоб. — Левый рукав. Так, знаете, как за гвоздь зацепил.
— Все?
— Еще можно сказать, что куртка была грязная.
— Грязная?
— Ну да, грязная. Не то чтобы чем-то там вымазана, но грязная. Не чистая.
— Спасибо, миссис Ставрос.
Баумгартнер ждал его в прихожей, откинувшись в кресле, что стояло у столика с телефоном.
— Ну как? — спросил Милич. — Следы есть?
— Похоже, что он не спешил и стер все, что мог стереть. Завтра в лаборатории будет видно. Но надежд у меня не слишком много. Как старуха?
— Лучше, чем большинство полицейских. И наблюдательнее и говорит складнее. Спасибо тебе… Возьмите, пожалуйста, глину с коврика в прихожей на анализ.
— Обязательно. Ты поехал?
— Угу. Ну, будь здоров.
ГЛАВА X
В Лейквью Милич приехал в восьмом часу, когда начало светать и снег из театральных хлопьев превратился в редкий и крупный холодный дождь.
Дик Колела уже встал и вовсе не удивился, увидев лейтенанта.
— Вот погодка! — пробормотал он вместо приветствия. Хоть бы подморозило, что ли, а то от этой сырости не знаешь, куда деться.
— Мистер Колела, вы не возражаете, если я задам вам несколько вопросов?
— Валяйте. Я любому допросу рад, а то уж сам с собой разговаривать начинаю.
— Скажите, кто уезжал из Лейквью сегодня ночью?
— Вчера вечером, вы говорите? Вечером, стало быть, уезжал профессор Лезе. Красивый у него «тойсун», ничего не скажешь. Ну, и кто еще? — Старик подумал и добавил: — Еще мистер Лернер. У него такая же «вега», что была у девчонки у этой, что взорвалась.
Лезе и Лернер. Сдвинуть потихонечку карты. Но он не верил, что карта будет хороша. Это было бы слишком просто и слишком нелепо.
— А когда они вернулись?
— Почти в одно время. Только я ворота за мистером Лернером закрыл и в сторожку зашел, смотрю — снова фары. Вот, думаю, черти, покоя секунды не дадут. Вышел — точно: профессорский «тойсун».
— Это в какое время было?
— Сейчас вам точно скажу… Я еще по телевизору смотрел эту… ну, про семью, родители там разводятся…
— Ну, ну…
— Как раз передача кончилась. Стало быть, одиннадцать часов было.
— И больше никто не уезжал и не приезжал?
— Ночью?
— Да.
— Не… ни одна живая душа.
— Это точно?
— Вы что, — обиделся старик, — не верите мне?
— Я вам верю, но, может быть…
— Ничего не может быть. Ключ у меня в сторожке, а без ключа ворота не откроешь.
— А ворота здесь одни?
— Одни. Даже калитки нигде больше нет.
— Спасибо, мистер Колела.
Конечно, ботинки у него будут вроде тех, что наследили на коврике миссис Ставрос, но Миличу не хотелось откладывать задуманное.
Он вышел из сторожки и пошел вдоль зеленой ограды. Дождь кончился, но порывы ветра то и дело сбрасывали с ветвей снег и воду, и вся рощица была полна шороха. Листья под ногами были влажными и почти черными, словно после пожара.
Он медленно шел вдоль наружной стороны забора, то и дело останавливаясь и осматриваясь. Забор был высокий, почти в его рост.
Ботинки его быстро стали тяжелыми от налипшей глины. Наверняка от той же глины, что осталась на коврике в квартире Валерии Басс.
До чего пустынен лес декабрьским утром! Прозрачен, пустынен, печален. Лейтенанту вдруг стало жаль деревьев, обреченных мокнуть вот так, без жалоб и надежд, до самой весны.
В затянутом тучами небе вдруг образовался голубой колодец. Голубизна была так необычна, так драгоценна в сером, сочившемся влагой мире, что у лейтенанта сжалось сердце.
Прямо у его ног, в кустах, что-то лежало. Наверное, старая тряпка, засыпанная листьями. Лейтенант поковырял кучу ногой. Под листьями лежала коричневая нейлоновая куртка. Отдельно лежал пояс. Старуха не ошибалась. У нее орлиные глаза. Пояс действительно плохо держался.
Лейтенант нагнулся, отвел рукой мокрые ветки от лица и осторожно поднял куртку. Левый рукав был порван.
Где-то здесь он должен был либо перелезть через забор, либо пролезть сквозь щель.
Он нашел щель в десятке шагов от куртки. Если бы он не пробовал каждую доску, он бы прошел мимо. Но одна из досок легко сдвинулась в сторону, и он без особых усилий протиснулся сквозь щель. Конечно, вот и гвоздь, за который, наверное, зацепился ночной посетитель Валерии Басс.
Отдельные, разрозненные части складывались в общую картину теперь легко и свободно. Пока можно было позволить себе роскошь не думать о том, кому принадлежала коричневая куртка. Пока можно было наслаждаться маленьким триумфом.
Кстати, триумф триумфом, а нести куртку через всю территорию Лейквью, пожалуй, не стоило. Пусть владелец этой куртки пока думает, что она преспокойно лежит в кустах. И пусть преспокойно ходит, радуясь, что так ловко раскроил женщине череп тяжелыми каминными щипцами с бронзовыми ручками. Ведь гордость художника свойственна не только живописцам или поэтам. Преступник не меньше их может гордиться своим преступлением, выдумкой и талантом, вложенными в него. А раскроенный череп — что ж, это, так сказать, издержка производства.
Лейтенант вернулся к сторожке.
— Мистер Колела, вы, случайно, не знаете, чья это куртка?
Старик внимательно посмотрел на куртку, пожевал губами.
— Откуда ж я знаю…
— Вы никого не видели в ней из нынешних здешних обитателей?
Старик снова задумчиво пожевал губами, пожал плечами и неуверенно посмотрел на Милича:
— Может быть, этот… ну, полный такой, с лысиной и бородавкой на подбородке?
— Бьюгл?
— Во-во. Он. Я вот сейчас думаю — вроде на нем видел. Он еще со спиннингом шел. Вместе с мистером Колби. Спрашивает у меня, берет ли здесь на спиннинг. А я ему говорю: я, мол, не рыба, откуда я знаю. Как будто бы он в такой куртке был. Не скажу, что в этой. Чего не знаю — не знаю, врать не стану. Но похоже, в такой.
— У вас найдется что-нибудь, во что можно было бы завернуть куртку?
— В газету?
— Давайте газету.
Лейтенант аккуратно завернул куртку и спрятал ее в багажник своего «джелектрика». Было уже половина девятого. Он позвонил из сторожки профессору Хамберту и попросил разрешения зайти.
Профессор встретил его в толстом вязаном свитере и домашних брюках. Он медленно поднял голову и вопросительно посмотрел на лейтенанта. В выцветших глазах клубилась тревога. Боже, подумал Милич, в этом свитере он вылитая черепаха! Старая, печальная черепаха. Не ждущая ничего от жизни и от людей. Интуиция стариков.
— Мистер Хамберт, мне очень жаль приносить вам неприятные известия, но, увы… — Лейтенанту показалось, что профессор съежился, ожидая удара. — Сегодня ночью была убита Валерия Басс.
Профессор замер, прислушиваясь. Медленно поднял правую руку и начал осторожно массировать сердце. По лицу его пробежала гримаса.
— Марта, — позвал он, и в комнату тут же вошла жена профессора.
Она неприязненно кивнула лейтенанту и подошла к мужу:
— Что, дорогой?
— Я думаю, мне бы следовало принять пару таблеток кардиэйда.
— Сердце? — спросила миссис Хамберт и, не ожидая ответа, вышла.
Через несколько секунд она появилась со стаканом воды и двумя розовыми таблетками на ладони. Старик кивнул, проглотил таблетки и запил их водой.
— Он болен, — с ненавистью сказала женщина. — Неужели вы не можете оставить его в покое?
— Марта, не нужно, — сказал профессор.
— Нужно! Этот проклятый проект доконает тебя!
— Марта, прошу тебя… — Профессор с мольбой посмотрел на жену и покачал головой. — Я больше нервничаю от твоего крика. Успокойся, дорогая…
— Вы видели, до чего вы довели нас? — прокурорским тоном спросила миссис Хамберт у лейтенанта. — Я пытаюсь успокоить мужа — у него больное сердце и ему нельзя нервничать, — а выясняется, что это он успокаивает меня. И все из-за вас! Стекла очков миссис Хамберт негодующе сверкнули.
— Марта, лейтенант Милич не взрывал машину, в которой ехала Лина. Будь рассудительна.
— Я не хочу быть рассудительной, когда речь идет о твоем здоровье! — взвизгнула миссис Хамберт. — Всю жизнь мне приходится оберегать тебя от…
— Миссис Хамберт, я прошу прощения, — сказал лейтенант, но я должен…
— Марта, мистер Милич должен мне что-то сказать. Для этого он и пришел.
Профессор осторожно опустился на стул и попробовал откинуться на спинку, словно желая получить опору.
— Хорошо, но только в моем присутствии, — решительно сказала женщина и царственным движением запахнула полы длинного стеганого халата. — Так что же еще у вас случилось?
— Боюсь, что в равной степени и у вас. Я только что вынужден был сообщить вашему мужу, что сегодня ночью была убита мисс Валерия Басс.
— Как это — убита? — недоверчиво спросила миссис Хамберт. — Эта недотепа…
— Увы, чтобы отправиться на тот свет, не нужно обладать особой ловкостью.
Старуха внимательно посмотрела на лейтенанта. Должно быть, она не привыкла, чтобы ей возражали, подумал он. Профессор, во всяком случае, вряд ли ей возражал когда-нибудь.
— И кому же она понадобилась?
— Марта, мне кажется…
— Перестань, Хью, затыкать мне рот! Я не хочу быть старой ханжой и делать вид, что человек мне нравился, только потому, что его больше нет в живых. Это глупо.
— К сожалению, я не могу пока точно сказать, кто убил ее, но одному человеку она безусловно понадобилась. Мистер Колби обещал ей, что женится на ней.
— Колби? Тогда можете арестовать его, — уверенно кивнула миссис Хамберт.
— За что?
— За убийство. У него, наверное, не оставалось другого выхода.
— Марта, лейтенант может подумать… — неуверенно начал было профессор Хамберт.
Но супруга тут же оборвала его:
— Лейтенант ничего не подумает. Я тебе все время говорила, что эта Басс ведет себя самым скандальным образом. Она преследовала бедного Колби так, что он буквально не мог от нее спрятаться. Представляю, как он молил своего синтетического бога…
Профессор покачал головой, поймал взгляд лейтенанта и выразительно пожал плечами.
— А почему вы так уверены, что он бегал от нее? Насколько я понимаю, в таких случаях вряд ли делают предложения.
— Вы ничего не понимаете. Мужчина делает предложение только тогда, когда его загнали в угол. Сначала он отбивается, а потом, когда чувствует, что конец уже близок, он сдается.
— Но в таком случае, миссис Хамберт, у него вряд ли хватит решимости, чтобы раскроить своей невесте череп. Я могу представить себе, что он… скажем так: уступил настойчивым ухаживаниям мисс Басс. Как вы говорите, он, допустим, устал сопротивляться. Но чтобы после этого он убил невесту…
— Он верующий человек, мистер Милич.
— И что, это ему помогло вооружиться каминными щипцами?
— Верующему человеку легче подчиниться воле божьей, а всевышнему, видно, не угодно было, чтобы она заполучила третьего мужа. У более достойных женщин нет ни одного, а ей, видите ли, нужен третий!
Профессор поежился в кресле, словно пробуя надежность спинки, и просительно сказал:
— Перестань же, дорогая. Что ты хочешь от бедной мисс Басс?
— Я? — саркастически воскликнула старуха. — Я от нее ничего не хочу. Я не этот боров Бьюгл, который каждый раз облизывался, когда смотрел на нее…
— Он ухаживал за ней?
— Если облизывание называть ухаживанием — то да.
— А она не выказывала какой-нибудь симпатии к нему?
— Может быть, и выказала бы, если бы Эммери Бьюгла не держала за руки и за ноги жена и шесть человек детей. Наш Эммери настолько ненавидит прогресс, что не признает противозачаточных средств.
— Скажите, миссис Хамберт, как по-вашему, мог мистер Бьюгл ревновать ее к Колби?
— Наверное. Особенно если бы он вбил себе в голову, что все это дело рук красных и либералов. Бедняга везде видит козни либералов. Вы видели, как он ест?
— Нет, не приходилось.
— Он подносит вилку ко рту, потом передумывает, рассматривает кусок, нюхает его и только потом отправляет себе в рот.
— Марта, мне кажется… — сказал профессор, но не окончил фразы и улыбнулся.
— Скажите, миссис Хамберт, а у мистера Лернера не было никаких отношений с Валерией?
— У Лернера? Почему Лернера? — подозрительно спросила она.
— Я пытаюсь представить себе общую картину.
— Хватит с нее двух. Она и их не заслуживала. Бегать за одним и видеть, как на тебя облизывается другой, — это более чем достаточно для такой особы, какой была эта Басс.
— Марта…
— Перестань мне затыкать рот, Хью! С годами ты становишься просто невыносим! Ты не даешь мне сказать буквально ни слова, я не бессловесное животное. Я никогда не влезаю в чужие беседы, как ты иногда себе позволяешь, но всему есть предел, дорогой. Тебе лучше?
— О да, да, — простонал профессор и закрыл глаза.
— Вот так с ним всегда, — вздохнула миссис Хамберт. Стоит ему начать какой-нибудь неприятный разговор, как он возбуждается, начинает нервничать, а нервничать ему категорически нельзя. У него слабое сердце…
— Благодарю вас, миссис Хамберт. Вы очень помогли мне. Картина, которую вы нарисовали, очень жива… — сказал лейтенант, вставая.
— Вот видишь, дорогой! — Старуха испустила пронзительный торжествующий клич. — А ты говоришь, что я ничего не понимаю…
Профессору будет нетрудно умирать, подумал Милич, выходя из коттеджа Хамберта. Чтобы избавиться от такой супруги, имеет смысл даже умереть. Теперь понятно, почему он стал астрономом. Он надеялся, наверное, что хоть в космосе найдет отдых от нее. Но она, судя по ее манерам, сидела рядом с ним в обсерватории и говорила, куда направлять телескоп: «Хью, не говори глупостей, это альфа Центавра. Бета Центавра совсем не там, куда ты смотришь. И не спорь, дорогой. Не затыкай мне рот. Это не твой космос, а наш космос».
Господи, вздохнул Милич, а может быть, он стал знаменитым ученым именно потому, что она совсем затюкала его? И памятник поставят им обоим. И бронзовый Хамберт будет сидеть, заткнув пальцами уши, а она будет стоять против него, навечно раскрыв рот и уперев руки в бока…
…Он вошел в коттедж Бьюгла. Физиолог ждал его.
— Чем обязан столь раннему визиту? — спросил он.
— Несколько вопросов, мистер Бьюгл.
— Пожалуйста, пожалуйста, дорогой лейтенант, я полностью к вашим услугам.
Гладко выбритое лицо физиолога было розово, розово блестела его лысина, и даже бородавка на подбородке была розовая. Ирония судьбы, улыбнулся про себя Милич: всю жизнь сражаться против красных, а самому быть розовым. Впрочем, вскоре цвет лица у него должен слегка измениться.
— Мистер Бьюгл, вы, я слышал, страстный рыболов.
— Страстный — это, пожалуй, преувеличение, но, наверное, не очень большое. — Бьюгл вопросительно улыбнулся, ожидая следующего вопроса.
— А где вы здесь ловите?
— Здесь? Здесь, собственно, выбора нет. На озере. Спиннингом. Иногда с лодки, иногда с берега. В это время года, когда рыба уходит на глубину и засыпает, можно только блеснить. Хищник всегда активен.
— Я бы с удовольствием сходил с вами разок-другой.
— Буду рад. Удочки у меня есть, даже запасная пара резиновых сапог.
— А в чем вы ловите? Все-таки ведь холодно…
— Тепло, уверяю вас, дорогой лейтенант. Я надеваю толстый свитер, нейлоновую куртку и чувствую себя великолепно даже на самом пронизывающем ветру. Важно только, чтобы куртка была из плотной ткани.
— А можно посмотреть вашу куртку?
— Пожалуйста.
Эммери Бьюгл вышел из комнаты, а Милич подумал, что держится он удивительно. Что делать, он уже давно пришел к выводу, что преступление — одна из тех немногих областей человеческой деятельности, в которой любители иногда могут дать сто очков вперед профессионалам.
Он услышал скрип открываемых и закрываемых дверок, глухой стук. Реализм высшего класса. Актер. Талант. Он был, разумеется, уверен, что никому в голову не придет искать в лесу нейлоновую куртку, но и виду не подает, что растерян.
— Удивительное дело! — пробормотал физиолог, входя в комнату. — Ума не приложу, куда она могла деться…
— Куртка?
— Ну да. Я совершенно точно помню, что она висела в шкафу. Да, собственно, ей больше и негде быть.
— А все-таки, мистер Бьюгл?
Физиолог замер и посмотрел на лейтенанта:
— Что все это значит?
— Что именно?
— Весь этот разговор. Вы начали с рыбной ловли, чтобы специально перейти к куртке. Так?
— Совершенно верно.
— Вы знали, что куртки у меня нет?
— Знал.
— Каким образом?
— Она у меня.
— У вас?
— Да. Смотрите. — Лейтенант развернул сверток и показал куртку. — Ваша?
— Вы… вы взяли ее у меня? — Лицо физиолога из розового сделалось красным, и он медленно погладил лысину ладонью, не то успокаивая себя, не то разжигая в себе боевой пыл. Наступление всегда лучшая защита.
— Что вы, мистер Бьюгл… С какой стати?
— А где же вы ее взяли?
— Я нашел ее.
— Нашли?
— Да, в лесочке за забором. В двадцати шагах от оторванной доски. К сожалению, левый рукав разорван. В дыре в заборе один гвоздь торчит так неудачно, что просто невозможно не зацепиться за него.
— Послушайте, лейтенант, что все это значит? Что за детективные заходы? Какой лес, какая дыра, какой гвоздь? Это же нонсенс, чепуха, нелепый розыгрыш.
Милич театрально вздохнул и развел руками:
— Я был бы рад, если бы вы были правы. Куртку, конечно, жаль, но все несколько усложняется двумя деталями. Во-первых, сегодня ночью в своей квартире была убита Валерия Басс… — Лейтенант сделал паузу и смотрел, как Бьюгл дрожащей рукой снова потер себе лысину. — А во-вторых, вашу куртку видела на вешалке в прихожей мисс Басс ее служанка.
— Ну перестаньте же вы! — крикнул физиолог. — Что значит этот бред? Кто из нас рехнулся, я или вы?
— Боюсь, что…
— Чушь, фантасмагория! Мне жаль, конечно, мисс Басе, но я вынужден сейчас говорить о себе. И я заявляю вам совершенно официально, что никогда — понимаете, никогда! — не был у мисс Басс. Ни этой ночью, ни другой, никогда! — Физиолог остановился, наморщил лоб. — Спросите у сторожа. Он безусловно подтвердит вам, что я никуда не уезжал прошлой ночью.
— Безусловно. Я уже говорил с ним.
— Вот видите…
— Я вам сказал, что нашел куртку недалеко от дыры в заборе. Через эту дыру можно было спокойно выйти с территории Лейквью, причем ни одна живая душа не заметила бы этого. Пройти полмили до шоссе, остановить попутную машину… А потом вернуться таким же образом, бросив на всякий случай куртку, рукав которой вы разорвали…
— Я ничего не разрывал…
— Я говорю гипотетически, мистер Бьюгл. Я ни в чем пока вас не обвиняю. Хотя…
— А вы знаете, мистер Милич, что я не запираю здесь свой коттедж? Мне нечего прятать. И у меня здесь нечего красть. Кто мог помешать кому-то войти в мой домик, взять куртку, отправиться к мисс Басс, убить ее и вернуться обратно? Именно так, как вы рассказали. За одним малым исключением: в куртке был не я. Клянусь вам, я не лгу! Это типичная инсценировка. Дьявольская выдумка. О, я уже давно стою у них поперек пути…
— У кого, мистер Бьюгл?
— У всех них. — Физиолог сделал широкий жест рукой. — У всех. У тех, кому не терпится разрушить нашу страну, уничтожить наши ценности, растоптать наши идеалы. Критика? Они называют это критикой, я называю это подкопом. Они подкапываются подо все. Копают, чтобы в нужный момент заложить в подкоп взрывчатку и взорвать все к чертовой матери. Красные профсоюзы и либералы-интеллектуалы-дьявольский союз…
— Мистер Бьюгл, я уже слышал от вас о ваших взглядах…
— Это не взгляды! — крикнул Бьюгл, вскочил и прислушался на мгновение, словно желая убедиться, не довели ли подкоп уже под него. — Это не просто взгляды! Мне говорили — и не раз, — что я пре-уве-ли-чиваю. А я отвечаю: нет. Преувеличить опасность нельзя. — Бьюгл заговорщически понизил голос и зашептал: — Они повсюду, поверьте мне. Это дьявольский союз, дьявольский союз.
— Я не вижу…
— Теперь они добрались до меня. Когда погибла несчастная мисс Каррадос, я еще сомневался. Эммери, сказал я себе, не спеши с выводами. Не превращайся в параноика. Может быть, это убийство и не направлено против тебя. Но я уже тогда знал в глубине души, что это заговор против меня.
— Но каким образом?
— О, я видел их насквозь! Я никогда не скрывал своих взглядов, я всегда смело высказывал их, как бы надо мной ни смеялись, как бы в меня ни тыкали пальцем: ископаемое, неандерталец, пещерный человек. Я с самого начала был против любых контактов. Мне говорили: это — глупо! А я отвечал: это инстинкт самосохранения. Мне говорили: помилуйте, Бьюгл, что общего между земной социалистической страной и неведомой планетой, где нет смерти, где все существа соединены в некоем одном общем союзе? А я отвечал, что важны не детали, а важна идея. А идеи эти враждебны нашему обществу. Это пагубная идея коллективизма против идеи индивидуализма. Неважно, в каком виде предстает эта идея, в виде планеты Лины Каррадос или в любом другом виде. Важно, что она противопоставляется нашей идее. Коллектив против индивидуализма. А я не хочу так жить, я не хочу жить для кого-то и для чего-то. Я хочу сам решать, как мне жить и для чего жить. Нет, дорогой лейтенант, идея коллективизма не для меня! Пускай она даже не активно враждебна. Она враждебна уже самим своим существованием.
И я им мешал. Я все время говорил об этом. И они убили Лину Каррадос, чтобы подозрения пали на меня. Вы думаете, я забыл вопросы, которые вы мне задавали тогда? Но вы оказались порядочным человеком. Я понял это тогда, когда вы слушали меня и не смеялись. Он не смеется, сказал я себе. Ты можешь не беспокоиться, Эммери. И я не беспокоился. Я видел, что полиция на моей стороне. Это счастье, что им не удалось пока перетащить на свою сторону и полицию. Профсоюзы и университеты, торговые палаты и правительственные чиновники везде у них есть свои люди, везде они ведут пропаганду, везде превозносят идеи контактов.
А теперь Валерия Басс! О, какие макиавеллиевские инсценировки! Добить Эммери Бьюгла, убрать человека, который стоит у них поперек пути… — Бьюгл с силой провел ладонью по макушке, выжимая из головы последние мысли. Он вдруг сразу успокоился и посмотрел на Милича: — Допустим на мгновение, что это был я. Что я убил бедную Валерию Басе. Допустим, я догадался, что ее служанка видела мою куртку, и я решил отделаться от нее. Неужели я стал бы бросать ее возле лаза в заборе?
— Она была присыпана листьями, — неуверенно сказал лейтенант.
— Но вы же ее нашли? Что помешало бы мне отойти от лаза не на двадцать шагов, как вы говорите, а на тысячу? Нашли бы ее тогда? Или закопать?
— У вас не было лопаты.
— Верно, не было. Найти какую-нибудь яму…
— Не забывайте, что вы возвращались ночью, в кромешной тьме, подсвечивая себе дорогу фонариком.
— Что ж, пожалуй, вы правы. Они умны. Они мудры, как змеи. Они рассчитывают каждый свой шаг; Они хотят скомпрометировать не только меня, но и всех тех, кто думает, как и я. Мне нечего больше сказать, мистер Милич.
— Скажите, мистер Бьюгл, Валерия нравилась вам?
Бьюгл внимательно посмотрел в глаза лейтенанту, подумал и сказал:
— Я думаю, вы уже говорили с другими. И другие успели насплетничать вам, особенно эта сумасшедшая старуха…
— Вы имеете в виду миссис Хамберт?
— Ее. Она не может простить мне, что я осмелился возражать ее старой, выжившей из ума мумии…
— Мне не хотелось бы…
— Да, мне нравилась мисс Басс. Как может нравиться молодая женщина человеку моего возраста. Я не скрывал своих симпатий.
— А вы знали, что мисс Басс… гм… дарила своим вниманием мистера Колби?
— Я не мог понять ее. Что она нашла в этом святоше? Тихий голос, вкрадчивые манеры… Разве что желтые нашивки, — невесело улыбнулся Бьюгл. — Эти синты так же подгрызают устои, как и другие. По-своему, но подгрызают. Может быть, они и думают, что несут новую религию, но самая лучшая новая религия всегда хуже самой плохой старой. Как самая лучшая новая идея всегда хуже самой плохой старой. В смене всегда опасность. Перемена всегда несет в себе угрозу…
— Простите, мистер Бьюгл, что перебиваю вас. Вы знали, что Колби решил жениться на Валерии Басс?
— Колби? Гм, не думал, что у синта хватит ума оценить такую женщину.
— Он не говорил с вами о мисс Басс?
— Нет. Мы почти не разговаривали с ним. Я вообще почти ни с кем не разговаривал здесь. Странное сборище. Начиная от этого болтливого карлика Лернера и до мумии Хамберта с его сумасшедшей старухой.
— У вас, конечно, нет никакого алиби?
— Вы имеете в виду прошлую ночь?
— Да.
— Боюсь, что нет. Я смотрел телевизор часов до одиннадцати. Потом почитал часок и заснул. Я был у себя в коттедже почти весь день. Вы ведь знаете, мы вообще сейчас в странном положении. После смерти Лины Каррадос и потери Черновым способности к контактам нам практически нечего делать. Но Хамберт не хочет распускать нас. Он все надеется, что вдруг контакт возобновится. Фонд Капра деньги дает — вот мы и сидим здесь, сторожим Лейквью.
— Спасибо, мистер Бьюгл. До свидания.
ГЛАВА XI
Лейтенант вышел на улицу. В ветвях деревьев медленно плыли клочья тумана. Прямо над ним, на ветке ели, сидела коричнево-серая белка. Она с любопытством уставилась на него бусинками глаз, повернулась и с противоестественной легкостью побежала по ветке, слегка раскачивая ее собственной тяжестью.
В голове у Милича медленно вращались два колеса. Они вращались в разные стороны. На одном было написано «Колби», на другом — «Бьюгл». Милич остановился и прикрыл глаза, чтобы не потерять равновесия. Будь они все прокляты, эти ученые мужи, изощренные в обмане, коварстве и расчете!
Клифорд Кулик, высокий выхоленный блондин с заторможенными реакциями, был следующим.
— Мистер Кулик, — сказал лейтенант, — вчера ночью ваша ассистентка Валерия Басс была убита в своей квартире.
Психолог внимательно осмотрел свои ногти и, по всей видимости, остался доволен ими, потому что перешел к воротничку светло-голубой рубахи и бордовому галстуку — проверил их, поправил и только тогда поднял глаза на Милича. Неужели это единственная реакция на смерть человека — проверить, как завязан галстук, подумал лейтенант.
— С вашего разрешения, — вздохнул лейтенант, — я бы хотел задать вам несколько вопросов.
Профессор Кулик снова проконсультировался со своими ногтями, получил, по-видимому, от них согласие и молча кивнул.
— Вы ведь психолог, профессор? — спросил Милич.
— Да, — сказал Кулик, и лейтенант подумал с облегчением, что профессор не глухонемой и ему не придется разговаривать с ним на пальцах.
— И как психолог вы должны уметь наблюдать человеческие реакции в различных ситуациях?
Теперь профессор обратил внимание на свои безукоризненно начищенные туфли. Он внимательно и критически осмотрел их, покачав сначала одну ногу на колене, потом другую, и кивнул.
— Да.
— Прекрасно. Мисс Басс была вашей помощницей. В каком она пребывала настроении в последнее время?
— Вообще характер мисс Басс имела нелегкий, — ровным голосом сказал психолог. — Она была довольно угрюмым и раздражительным человеком, хотя эти качества не сказывались непосредственно на ее работе. Работник она была превосходный. С интровертами это бывает довольно часто. Вы спрашиваете о ее настроении в последнее время?
— Да, профессор. Особенно в последние дни.
— Пожалуй, она была даже еще несколько более угрюмой, неразговорчивой, раздражительной.
— В чем это выражалось?
Профессор снова вернулся к ногтям. Боже правый, подумал Милич, неужели он всегда так нетороплив?
— Кислое, недовольное выражение лица. Низкий уровень общительности. Единственные два человека, с кем она стремилась общаться, — мистер Колби и мисс Каррадос. Возможно, что ее состояние в последнее время связано с гибелью мисс Каррадос.
— Вы говорите, с Линой Каррадос она общалась?
— Да, я не раз видел их вместе. Они были единственными женщинами в Лейквью, если не считать миссис Хамберт.
— А как вела себя по отношению к вашей помощнице Лина?
— Мисс Каррадос была ее полной противоположностью. Экстраверт сангвинического типа. Она была типичным сангвиником — легкий, приветливый характер, склонность к общению. Насколько я мог заметить, у них были самые теплые отношения.
— А после смерти мисс Каррадос Валерия Басс, вы говорите, стремилась поддерживать отношения только с Ианом Колби?
— Да, такое у меня сложилось впечатление.
— Казалась вам ваша помощница счастливой в последние дни?
Профессор оторвался наконец от своих ногтей и посмотрел на лейтенанта:
— Счастливой?
— Угу.
— Нет.
— Производила она на вас впечатление женщины, которая выходит замуж за любимого человека?
— Скорее, наоборот.
— Что значит «наоборот»?
— Я бы сказал, что она производила впечатление женщины, которая не прочь бы выйти замуж, но разочарована отсутствием энтузиазма у своего избранника.
— Вы имеете в виду Иана Колби?
— Возможно.
— Что значит «возможно»?
— Понимаете, мистер Милич, я не занимался психологическим изучением мисс Басс и мистера Колби. Совсем наоборот. Вы полицейский. Вы задаете мне вопросы, ответы на которые могут иметь значение для следствия, поэтому я стараюсь быть точным. Вы меня понимаете?
— Вполне. И поверьте, я ценю ваше стремление к точности. Скажите, если бы вы узнали, что мисс Басс получила предложение о замужестве от Иана Колби, вы бы удивились?
— Я бы подумал, что для влюбленного жениха мистер Колби ведет себя, скажем, несколько странно…
— В чем это выражалось?
— Несколько раз я даже замечал, как он старался избегать мисс Басс.
— Вы в этом уверены?
— Такое у меня сложилось впечатление.
— Значит, мистер Колби не походил на влюбленного?
— Боюсь, что нет. Разве что его влюбленность проявлялась тем странным образом, о котором я уже говорил.
— А может быть, мистер Колби просто болезненно застенчивый человек?
— Не думаю. Я бы скорее сказал обратное.
— То есть?
— Никаких следов застенчивости. Умение держаться. Умение свободно и четко выражать публично свои мысли. Никаких комплексов и ингибиций, которые бросались бы в глаза.
— А нельзя ли отнести любовную застенчивость мистера Колби за счет его религии? Может быть, синты…
— Не думаю. Насколько я знаю, отношение Христианской синтетической церкви к браку традиционное. Что же касается эмоционального портрета типичного синта, то Эрдстрем и Куча подробно исследовали этот вопрос…
— Простите, мистер Кулик, я не думаю, чтобы меня интересовала работа Эрдстрема и Кучи. Мне вполне достаточно вашего мнения.
— Но я не специалист в области психологии религии.
— Меня не интересуют такие детали. Подведем итоги. Вчера вечером, вернувшись домой, мисс Басс сказала своей служанке, что выходит замуж. По словам служанки, она была очень оживлена, весела, благодушна. Она сказала ей, что выходит замуж и что ее жених синт. Судя по поведению Иана Колби и Валерии Басс, это неожиданно для вас?
— По-моему, не только для меня, но и для них самих.
— Скажите, профессор, как психолог можете вы представить себе какой-то фактор, какую-то ситуацию, которая вдруг, в одну минуту все переменила и заставила бы мистера Колби сделать предложение вашей помощнице?
— Только гипотетически. Повторяю, только гипотетически. Внезапное решение могло быть вызвано каким-то важным дополнительным фактором.
— То есть?
— Ну, допустим, жених вдруг узнаёт, что невеста должна получить большое наследство. Или что-нибудь в этом роде.
— Благодарю вас. Пока, пожалуй, это все, о чем я вас хотел спросить.
Дополнительный фактор, подумал лейтенант, направляясь к коттеджу Иана Колби. Неглупо.
…Синт встретил Милича, как старого знакомого:
— Вы уже завтракали? Может быть, хотя бы чашечку кофе?
— Спасибо. Вам никто ничего не говорил сегодня утром? Профессор Хамберт? Или его супруга?
Теолог настороженно посмотрел на лейтенанта. Рука с кофейником замерла.
— Нет. А что случилось? Неужели снова…
— Боюсь, что да…
Колби медленно опустил кофейник на стол:
— Скажите же, не мучайте меня…
— Валерия Басс…
— Валерия? — недоверчиво спросил синт. — Что вы хотите сказать?
— Она была убита в своей квартире в Шервуде прошлой ночью. Убийца раскроил ей череп тяжелыми каминными щипцами.
Колби уставился на лейтенанта невидящими глазами и вдруг быстро зашептал:
— Нет, нет, боже правый и милосердный, сделай так, чтобы это было неправдой! — Шепот был страстный и трепетный. — Это не может быть правдой… Не может! Я же видел ее только вчера вечером. Я разговаривал с ней.
— О чем? — спросил лейтенант.
Колби поднял на него невидящие глаза, с трудом сфокусировал зрачки.
— О чем? Я сделал ей предложение. Я просил ее стать моей женой…
«Она не напрасно пела в ванной, — подумал Милич. — Старуха не лгала. Он действительно сделал ей предложение».
— Кому она могла помешать? — хрипло спросил Колби. — Кому? Может быть, это было ограбление?
— Боюсь, что нет. В квартире ничего не пропало… Мистер Колби, поймите меня правильно. Я полицейский, ведущий следствие. Я не имею права на эмоции. Я должен задать вам несколько вопросов. Я понимаю ваше состояние. Если вы не можете отвечать сейчас, я приду к вам позже.
— Я синт третьего ранга. Я умею владеть своими чувствами. Не думайте обо мне, не обращайте внимания на мое состояние. — Иан Колби медленно выдохнул воздух из легких и так же медленно сделал глубокий вдох. — Спрашивайте все, что вам угодно, мистер Милич. Я молю лишь бога, чтобы мои ответы хоть на миллиметр приблизили нас к поимке преступника. Что за несчастное место, что за несчастный проект! Лина Каррадос, теперь бедная Валерия… — Колби с трудом сделал глотательное движение; кадык его судорожно дернулся.
— Благодарю вас, я ценю ваше мужество. Скажите, вы давно ухаживали за мисс Басе?
Синт бросил быстрый взгляд на полицейского. И тут же, чтобы сгладить впечатление настороженности, провел рукой по лбу.
— Вы спрашиваете, сколько я ухаживал за бедной Валерией? Я не считал дни. Практически с того момента, когда мы познакомились здесь, в Лейквью.
— Как складывались ваши отношения?
— Я не понимаю, мистер Милич…
— Я ведь заранее извинился перед вами. Это чистая формальность. В конце концов, работа полицейского детектива сводится к бесконечным вопросам, часть которых бессмысленна, а другая — неприятна.
— Ну что ж, — пожал плечами синт, — если вы настаиваете… у Валерии был сложный характер. Она была вспыльчива и подозрительна. Но это был человек удивительно цельный и непосредственный. Я быстро понял, что она незаурядная женщина. Она могла быть нежна и очаровательна. Жизнь не раз ранила ее, и она выработала в себе защитные реакции. Она надела на себя кольчугу и шлем. И взгляду обычному она казалась суровой и неласковой. Но тому, кто понимал ее, кто видел ее без доспехов, открывалась трепетная душа, которая тянулась к нежности и любви. Мне повезло, мистер Милич, я сразу понял истинную сущность ее натуры…
— Скажите, мистер Колби, как вы объясните впечатление, которое сложилось у некоторых обитателей Лейквью, что вы порой избегали ее общества?
— Я избегал ее общества? Боже правый, как глаза людей могут быть закрыты фильтрами злобы! Я избегал ее! — театрально воскликнул синт. — Когда я еще и еще раз обыскивал свою душу, мучимый сомнениями, им казалось, что я избегаю ее!
— Сомнениями?
— Я спрашивал себя, смогу ли я совместить свое призвание и служение отцу нашему Иисусу Христу с любовью к Валерии. И когда я понял, что у меня достанет сердца и для веры и для любви, я сделал ей предложение. Я не помнил себя от радости, когда мы расстались. Вы молодой человек. Вы не знаете, что такое полюбить в моем возрасте. Подобно Саре, жене Авраама, которая уже не верила, что сможет родить, и тем не менее родила Исаака, так и я, давно примирившийся с бесплодностью своей души, отдавшей всю свою любовь господу нашему, вдруг почувствовал, как в моем сердце расцвела любовь к женщине… — Синт закрыл лицо ладонями, прерывисто вздохнул и сказал: Простите меня… Бедная, бедная Валерия!..
— Так что, братец Джим, придется теперь вам отвечать на мои вопросы. Усаживайтесь в кресло, налейте себе кофе, если хотите, а я, с вашего разрешения, приму горизонтальное положение. Все важные события в жизни человека случаются тогда, когда он лежит, от рождения до смерти.
Поттер молча откинулся в кресле, обреченно вздохнул и вытащил сигарету.
— Ну хорошо, братец Джим, сегодня вам придется играть роль столпа здравого смысла…
— Опять вы за свое…
— Господи, вы уже и на это обижаетесь, братец Джим? Бросайте тогда свою профессию.
— Вы мне это уже советовали, — угрюмо буркнул Поттер.
— Тем более. Итак, что бы там ни болтал наш преподобный Иан Колби, отношение его к Валерии Басс было далеко не лучшим. Она же, наоборот, старалась привлечь его внимание.
— Женщины пошли, — вздохнул сержант, — хуже мужчин…
— Очень тонкая мысль, братец Джим, но сейчас главное — не огульное охаивание женщин. Можно считать фактом, что Иан Колби вдруг — подчеркиваю: вдруг — делает ей предложение, о котором она, по-видимому, мечтала. Вопрос: почему? Ученый-психолог профессор Кулик, который так любит рассматривать свои ногти, говорит, что столь внезапная перемена могла произойти под влиянием новой информации, полученной упиравшимся ранее женихом. Например, он узнаёт, что невеста получила большое наследство.
— Не надо для этого быть психологом.
— Правильно, братец Джим. Не надо. Ибо мысль банальна. Но основа ее верна. Сформулируем так: что мог узнать Колби? Что заставило его сделать предложение? Мы этого не знаем. От кого мог узнать? Скорей всего, от самой Валерии, поскольку Иан Колби вчера никуда из Лейквью не уезжал.
— Мистер Милич, может быть, вы меня отпустите?
— Генри, мы ведь договаривались?
— Нет, мистер Милич. Из меня толку не будет. Не могу я вот так, без толку, толочь слова. И крутить их так и эдак и все без толку. Если сделать что — пожалуйста. Но сотрясать все время воздух… вы уж простите меня… не мое это дело.
— Мудро. Мудро. Вы мудры, как змий, братец Джим, потому что мы действительно толчем слова в ступе. Но глядишь что-нибудь и натолчем. Ах, братец Джим, если бы вы знали, как мне самому надоели эти беседы с местными идиотами! Может быть, в своих областях они и специалисты, не мне судить, но как люди — это настоящий паноптикум…
— Что?
— Цирк. И вот с этими особями я веду бесконечные разговоры. Я должен просеивать сквозь сито своего мозга их мании и фобии…
— Что?
— Ненависть. Зависть и ревность. Клевету и ложь. Куда приятнее и легче было бы скакать на горячем мустанге с пистолетами в руках и палить на всем скаку в похитителя сокровища. Но увы, братец Джим, если еще и остались мустанги, так в телевизионных студиях, а там обходятся без нас. Поэтому наберитесь терпения, хотя бы даже чуть-чуть, и давайте еще побродим по зарослям логики. Итак, что могла сказать Валерия Басс Иану Колби? Что она знала такого, что заставило синта повернуть на сто восемьдесят градусов? Прежде чем сказать «откуда я знаю», подумайте о том, что Лина Каррадос хорошо относилась к Басс и была человеком общительным.
— Ну, и что?
— Э, нет, братец Джим, так дело не пойдет. Думайте, черт побери! Вы, конечно, делать это не приучены, но хоть старайтесь! Что знала Лина Каррадос? Помните, нам об этом рассказал ваш любимец Абрахам Лернер.
— Номер комбинации сейфа?
— Браво, братец Джим! Запомним это. Итак, Лина Каррадос знала это число. Она общительная, веселая девчонка. И, наверное, не прочь поболтать и прихвастнуть. Может она рассказать Валерии Басс о том, как она поразила профессора Хамберта? Вы, братец Джим, — олицетворение здравого смысла, вы адвокат дьявола. Может или не может? Это очень важный вопрос. Настолько важный, что от него зависит, что окажется в той ступе, в которой мы толчем слова, — вода или убийца Лины Каррадос и Валерии Басс.
— Вы думаете, это один и тот же…
— Не отвлекайтесь, братец Джим. Да или нет?
— Да, — сказал Поттер. Он выпрямился и сидел теперь на самом краешке кресла, словно готовый вот-вот вскочить и бежать куда-то. — Конечно, могла.
— Правильно, сержант. И я думаю, что могла. Лина могла сказать со смехом: «А вы знаете, как я сегодня удивила профессора Хамберта?» — «Нет, Лина, а что случилось?» И Лина, заливаясь тем смехом, о котором мы столько слышали, рассказывает о том, как узнала номер комбинации сейфа.
— А Валерия Басс могла рассказать об этом Иану Колби? недоверчиво спросил Поттер, раздавливая окурок в пепельнице.
— Могла, братец Джим, — почти крикнул лейтенант. — Не только могла, а должна была! Логика человека, который влюблен и пытается любой ценой привлечь к себе внимание объекта своей любви.
— Значит… — нерешительно пробормотал Поттер.
— Именно так. Это значит, что преподобный Иан Колби был пятым человеком, знавшим номер комбинации. Лина погибла. Хамберт отпал сразу. Лернер, к вашему великому сожалению, тоже, по-видимому, не прошел экзамена на роль убийцы. Остались Валерия Басс и Иан Колби. Точнее — синт третьего ранга Иан Колби.
— Выходит, это он взорвал машину?
— Выходит.
Сержант с сомнением покачал головой:
— Для чего?
— Отложим пока объяснение. Всего на несколько минут. Предположим, что побудительный мотив у него был. Это сейчас не так важно. Он взрывает машину. Причем продумано убийство до мельчайших деталей, так что у нас с вами в руках не осталось ни точки. Валерия Басс тоже не дура. Постепенно она начинает осознавать то же самое, что и мы. И в какой-то момент напоминает Иану Колби, что не забыла о том, кто сообщил ему номер комбинации. Что делать Колби? Он успокаивает ее единственным эффективным оружием, которое у него было: признается ей в любви и, делает ей предложение. Время выиграно. Остается теперь отделаться от человека, который всегда будет дамокловым мечом. А наш друг Колби почему-то не хотел, чтобы его супруга постоянно держала в руках меч. Он вообще не хотел заводить супругу, а супругу с дамокловым мечом — тем более. Дальше — это уже вопрос техники. Зайти в открытый коттедж Бьюгла, когда тот был в главном здании, — дело нескольких секунд.
— А откуда он знал, что найдет там куртку?
— Ах, братец Джим, нужно быть внимательнее. Старик Колела, рассказывая о том, как Бьюгл шел на рыбную ловлю, упомянул, что с ним был Колби.
— Значит, он хотел, чтобы мы заподозрили в убийстве Бьюгла?
— Безусловно. Он позвонил Валерии, что должен на секундочку зайти к ней. Валерия на седьмом небе от счастья… Еще бы, появился наконец третий муж. Человек, которого она любит. Интересный человек. Старше ее, но не настолько, чтобы это было смешно или скандально. Синт третьего ранга. Она счастлива, она целует даже от избытка чувств свою страшную старуху, она поет в ванной. На всякий случай Колби просит, чтобы служанку отправили спать: в его положении, пока он не стал ее супругом… И так далее. «Ах ты мой глупенький, наверное, лепечет она по телефону. — Ну конечно же, приходи. Какой ты смешной. Ну никто, никто тебя не увидит, не волнуйся». Наш кроткий, добрый синт надевает куртку Бьюгла, пролезает через дыру в заборе. Я не уверен в этом, но думаю, что его уже ждала машина, посланная из Стипклифа…
— Ну, это уже слишком!
— Слишком? Не думаю, братец Джим. Скорее, наоборот. Скорее, в Стипклифе знали, кто взорвал машину Лины Каррадос.
— Знали?
— Вот мы и подходим к вопросу, почему и зачем Иан Колби взорвал машину и выкрал все документы о Контакте с внеземной цивилизацией. Я задал ему вопрос, как он относится к Контакту. Он не ответил мне, сославшись на то, что определенную позицию в таком сложном вопросе должна выработать церковь. Я не могу ручаться, что именно думают по этому поводу отцы Христианской синтетической церкви, но я могу представить себе. Я могу представить себе, что сам Контакт и Линины сновидения отвратительны им.
— Почему?
— Потому что они не оставляют места для бога. Из всеобщего творца бог превращается в местного надсмотрщика, потому что на Лининой планете бога нет. И те забавные существа, что являлись ей во сне, прекрасно обходятся без него. Настолько хорошо, что рядом с их обществом мы кажемся сбродом злодеев…
— Но чтобы священнослужитель пошел на преступление…
— Ах, братец Джим, я не хочу быть банальным, но сколько же бессчетных миллионов человеческих жизней было загублено во славу божию! От крестовых походов до костров инквизиции, от конкистадоров до армейских капелланов, благословлявших летчиков и бомбардировщиков… Чтобы совершить убийство, между прочим, очень полезно быть уверенным, что ты не злодей, а лишь исполнитель высшей воли. А бог как раз тем и хорош, что снимает с тебя сомнения.
— Не понимаю я все-таки вас, — пробормотал Поттер и зябко поежился. — Как вы говорите о вере… Вы рассказывали, что росли в религиозной семье…
— Религиозные семьи, братец Джим, — самые эффективные рассадники неверия. Но мы отвлекаемся. Мы с вами воссоздали схему двух преступлений. Что мы упустили? Безразлично, укрепят ли пропущенные звенья схему или разрушат ее, как ветхое строение.
— А кто был человек, купивший в Стипклифе четыре линейки?
— Браво, братец Джим! Я вижу, вы входите во вкус толчения слов. Вы уже и сидите так, словно зажали ступку между коленями. Именно из-за этого человечка я и считаю, что по крайней мере Энок Бартон из штаб-квартиры ХСЦ в Стипклифе знал и помогал Колби. И, конечно же, в портфеле, с которым он приезжал в Лейквью, были не ценные бумаги. Там лежали безделушки, из которых даже школьник может легко изготовить бомбочку. Конечно, вы можете сказать: а зачем ему было приезжать? Ведь мог же и Колби съездить в Стипклиф? Мог. И наверняка ездил. Тем более, что приезд Бартона вовсе не улика. У нас вообще нет улик. У нас есть только отличная теория. Изящная, объясняющая все события, внутренне не противоречивая, компактная. Единственное, чего ей не хватает, — это доказательств. Ни одна живая душа не выдаст ордер на арест Колби, сколько бы мы ни соблазняли эту душу своими теориями. Нам нужны улики.
Сержант Поттер вздохнул шумно и печально. Ненадолго вспыхнувшее в нем оживление погасло. Он безнадежно поскреб свой затылок, но ничего не выскреб оттуда и замолчал.
— Есть идеи, сержант? — спросил лейтенант. — Я знаю, сержанту идеи по штату иметь не полагается, но все же?
— Нет, если все это так, как вы рассказали, то сработали они чисто. Иан Колби мог бы даже нам тихонечко признаться во всем, а потом отказаться на суде.
— Значит, братец Джим, улик нет?
— Нет.
— И прекрасно. Раз их нет, мы их создадим.
— Что это вы задумали? Нет, меня уж лучше в это не впутывайте… Может быть, там у вас, в Шервуде, такие вещи и делают, но только не у нас здесь… Нет уж, мистер Милич…
— Генри, Генри, братец Джим!
— Я против закона…
— Да пребудет с нами крестная сила, о чем вы толкуете? Вы думаете, я намерен заняться изготовлением фальшивых улик? Хотя фальшивые улики и лучше настоящих, потому что их делают по заказу, но мне они тоже не по душе, братец Джим.
— А о чем же вы говорите?
— Надо заставить синта ошибиться. Пусть он ошибется и даст нам необходимые доказательства своей вины.
— И как вы заставите его это сделать? Попросите его?
— Браво, братец Джим, вы открываете для себя иронию. Даже если вы и не заработаете продвижения по службе, вы уже обогатились духовно.
— Опять вы смеетесь надо мной! Вначале вы…
— Вначале мы были недостаточно знакомы. Для того чтобы издеваться, нужно быть хорошо знакомым со своей жертвой. Ее нужно даже любить. Но хватит кустарных парадоксов…
— Чего?
— Парадоксов! — крикнул лейтенант. — Сегодня же я подарю вам толковый словарь, и вы начнете посматривать в него перед сном.
— У меня есть словарь, — обиженно сказал сержант. — Я его уже замусолил за время, что познакомился с вами.
— Гм… Ладно. Вернемся к уликам. Мы совершенно забыли о русских. Этот молодой человек, если не ошибаюсь — Чернов, обладал такими же способностями, что и Лина Каррадос. Я имею в виду не только сами сны, но и умение читать мысли.
— Ну и что?
— Вот я и подумал, что если уговорить его на небольшую инсценировку…
— Как так?
— Пусть на самом деле этот дар не вернулся к нему, но ведь можно все разыграть так, словно он снова может читать чужие мысли. Можно?
— Наверное.
— Об этом узнает Колби. Что он должен делать? Думайте, братец Джим. Если вы снова пожмете плечами, я обижусь на вас.
— Он испугается…
— Безусловно.
— Он постарается немедленно покинуть Лейквью.
— Браво!
— Но мы сможем задержать его, заявив, что следствие еще не закончено.
— Сержант Поттер, поздравляю вас, вы начинаете думать. Хотя, может быть, надо не поздравлять вас, а выражать соболезнование. Теперь двинемся дальше. Допустим, Колби остался. Он нервничает. И вдруг узнает, что, скажем, завтра Чернов собирается в Шервуд. Вместе с лейтенантом Миличем.
— Зачем?
— Это он мучается мыслью: зачем? Снова и снова перебирает он в уме все детали обоих убийств, тасует все факты и раскладывает колоду. Чернов читает мысли. И едет с Миличем в Шервуд. Заметьте, с Миличем. Значит, они знают. Он не может догадаться, какие именно у нас улики, и от этого нервничает вдвойне. Он едет в Стипклиф. Теперь в панике уже не он один. Мечет и рвет Энок Бартон. Еще бы, это был бы страшный удар по молодой растущей церкви. Последствия его даже трудно себе представить. И наконец оба синта смотрят друг другу в лицо и читают в глазах друг друга одну и ту же мысль: Чернов должен исчезнуть. Но как? О, тут уже есть над чем подумать конкретно. Раз Чернов и Милич едут в Шервуд, то, скорее всего, в полицейское управление. Иначе Чернов мог бы выбрать себе более интересное общество. Да и сам факт общения русского ученого с шервудским полицейским — дело не очень обычное. Эрго?
— Что?
— Эрго, говорю! По латыни — «следовательно». Запомните, братец Джим. Следовательно, их нужно уничтожить до того, как они попадут в Шервуд. В наш просвещенный век, век прогресса, сделать это нетрудно. Моя машина им известна. Где-то недалеко от выезда на шоссе стоит одна или две машины. В них — хорошие ребята, умеющие метко стрелять во славу Христову.
— Не святотатствуйте, прошу вас! — Сержант вздрогнул и поежился.
— Я не святотатствую, братец Джим. Я констатирую факты и возможности. Итак, меткие верующие ребята с нервами, укрепленными христином, замечают серенький «джелектрик». Две-три автоматные очереди на близком расстоянии — и обоих человечков в машине можно уже не бояться. Довольны меткие братья во Христе, доволен Иан Колби, улыбается Энок Бартон. Христианской синтетической церкви уготовано светлое будущее. Даже мистер Бьюгл и тот доволен: «Я ж говорил, что контакты с русскими до добра не доведут». — «Не он убил, а его убили». — «Ну, знаете, это уже тонкости. Раз его убили, значит, неспроста». И всклокоченный интеллектуал Абрахам Лернер вздохнет спокойнее. Так было бы, если б инициатива принадлежала им. Но она может принадлежать и нам. В нашем управлении есть точно такие же машины, как моя. Только с пуленепробиваемыми кузовами и стеклами. Колби не будет знать, что мы сменили машину. Она будет той же марки, того же цвета, с тем же номером. А спереди и сзади на шоссе будут патрулировать наши замаскированные машины. После того, как по нас выстрелят, нападающие попытаются скрыться, но их задержат. Следы приведут к Эноку Бартону и Иану Колби.
— Гм… Вы так здорово рассказываете, что саму операцию осуществлять вроде бы и не нужно. Неужели вы это сейчас все придумали?
— О нет, — скромно улыбнулся лейтенант, — не за день и не за два.
— Значит, вы уже давно подозревали Колби?
— Угу, братец Джим. Но сыщик — как ученый, которым я когда-то хотел стать: он имеет моральное право на теорию только тогда, когда соберет достаточно фактов и обретет уверенность в своей правоте. Что вы вздыхаете так тяжко, сержант?
— Все это… как-то… если бы мы писали детектив, тогда да. А в жизни…
— А в жизни, вы хотите сказать, все может быть не так?
— Да…
— И прекрасно. Когда все будет не так, тогда мы будем думать, как. Идет?
— Раз вы так считаете, эрго… — Сержант смущенно захихикал.
— Браво, братец Джим! Вы уже пытаетесь говорить на латыни — эрго, вам этого хочется.
ГЛАВА XII
И снова я проснулся в глубочайшей сельской тишине. И снова в нашем коттедже густая ночная темнота. И еле мерцающие стрелки моих часов на столике показывают пять. Я уже просыпался здесь не раз так рано. Но сегодня все по-другому. Я еще не открыл глаза, я только всплывал на поверхность бодрствования, я еще не вынырнул, но уже ощутил в себе такую знакомую острую радость, такой знакомый янтарный блеск. Радость взорвалась во мне праздничным детским фейерверком, и веселые таинственные гроздья в небе тоже были янтарными.
Но на этот раз в моих глазах стояли слезы. Нет, не потому, что янтарно-солнечный блеск слепил их. Потому, что я вернулся к друзьям после долгой разлуки, а я не думал, что когда-нибудь снова побываю на Янтарной планете. Но я вернулся на нее. Я пролетал над уже знакомыми мне плавными холмами, и их мелодия звучала в моем мозгу. Я включился в Кольцо Большого Зова и ощутил в себе чувства и голоса всех своих братьев. И, может быть, я ошибаюсь, но мне почудилось, что братья У стали и моими братьями и они так же рады моему возвращению, как и я.
Этой ночью они показали мне, как отправляется с Янтарной планеты корабль в космос. Это для отправления было включено Кольцо Большого Зова. И улетавшие в безбрежную даль впитывали в себя мысли, голоса, чувства всех своих братьев, чтобы унести с собой.
Я не могу описать, как был устроен их корабль. Может быть, мне рано еще знать это. Но я видел, как он стартовал. Пять братьев улетали с планеты в космос. Они стояли возле корабля, и, казалось, планета гудела от мощного радостного и одновременно печального прибоя Кольца Большого Зова.
Кроме пяти улетавших, у корабля в торжественной недвижимости стоял еще один брат. И я знал, что он избран Освобождающим от тела. Пятеро улетавших медленно взмыли ввысь, и я знал, что они хотят проститься с янтарными холмами. Они скользнули над ними и плавно опустились на то же место, с которого поднялись.
И тогда Освобождающий подошел к первому космонавту. И тот лег на янтарную землю. И Освобождающий нагнулся над ним и вынул из головы матово блеснувший кубик. Такой, какой я видел при церемонии Завершения Узора. Затем лег на землю второй, третий. И у всех улетавших Освобождающий доставал мозг. Он вошел в корабль и один за другим вставил пять кубиков в специальные ниши. И над каждой нишей вспыхнула красная точка.
И в прибое Кольца Большого Зова я ощутил то, что ощущал каждый из улетавших. Они стали частью корабля. Они стали его мозгом. Они ощущали тяжкое напряжение металла, когда корабль устремил свой острый нос в зенит охристого неба. Они ощущали упругую сжатость энергии, рвавшейся наружу. Они ощущали, как эта энергия давит на них, ибо они ощущали себя и силовыми полями, сдерживавшими напор энергии. Они чувствовали, как молниеносными змейками проносились в них сигналы по тысячам цепей, ибо они были одновременно и сигналами и цепями. И при этом они чувствовали себя и братьями своих братьев, и в них, невыразимо прекрасный и грустный, гудел прибой Кольца Большого Зова.
Янтарная планета провожала своих братьев. Гул прибоя усилился, и я вместе со всеми ощутил, как напрягся корабль. Мгновение — и он взмыл вверх.
Провал. Ничего. Пустота. Тьма. И из невероятной пустоты ко мне тянется серебряная паутинка. И связывает меня с пустотой. Я вместе со своими братьями. Я вижу черный бархат космического пространства, расшитый серебром звезд. Одна из звезд особенно ярка и велика. Ей далеко до нашего Солнца. И тут, во сне, я осознаю, что это и есть наше Солнце. Просто я вижу его не с Земли, а с большего расстояния. Потому что корабль-это та одиннадцатая точка на графиках моих сновидений, которая то появлялась, то исчезала. Наверное, если посмотреть хорошенько, я увижу Землю. Но я не увидел ее, потому что проснулся.
И вот я лежу в темной комнате в далеком Лейквью, и радость рвется из меня наружу, словно впрыснута в меня под давлением. Она распирает меня. Я чувствую, что улыбаюсь в темноте. Слезы давно высохли, да и слезы были не жгучими слезами горя, а теплой влагой, которая появляется от избытка чувств.
Нет, если я сейчас же не разбужу Павла Дмитриевича, он никогда не простит мне этого. Впрочем, это вопрос чисто академический, прощать будет некого. Если я не поделюсь сейчас же с ним, радость разорвет меня.
Я опускаю ноги на пол и тихонько бреду в соседнюю спальню. Замираю на мгновение. Павел Дмитриевич медленно втягивает воздух через нос, а выпускает через рот, издавая при этом звук «тс-с-с», словно просит быть потише.
— Павел Дмитриевич, — шепчу я, — Павел Дмитриевич…
— А… — хриплым спросонья голосом бормочет он.
— Это я, Юра.
— Что случилось?
Он щелкает выключателем. В ярком свете настольной лампы он щурится и недоумевающе смотрит на меня. Теперь я вижу, как он немолод. Под глазами набрякли морщинистые мешки, из-под расстегнутой пижамы видны на груди совсем белые волосы. Мне хочется обнять его, отдать ему половину своих сил, своих лет, своих волос и гладкой кожи.
— Ничего, Павел Дмитриевич, — говорю я как можно спокойнее, но, наверное, что-то выдает меня, потому что старик вдруг откидывает одеяло, вскакивает и хватает меня за плечи:
— Юра, это правда?
— Правда.
Старик опускается на кровать. Он шмыгает носом и вытирает его полой пижамы. До глаз, которые подозрительно блестят в свете лампы, дотянуться он не может.
— Рассказывай.
И я рассказываю. Я рассказываю стоя. Как на экзамене. Я то и дело замолкаю. Я не могу найти нужные слова. Но старик не подгоняет меня. Он внимательно смотрит на меня и кивает каждый раз, когда я наконец что-то выдавливаю из себя. Такое выражение лица я видел у мамаш первоклассников, когда те на каком-нибудь вечере декламируют нелепые стишки дрожащими деревянными голосками.
Я рассказывал, наверное, не меньше часа, а потом мы оба заснули и проспали до девяти часов и еле успели к завтраку к профессору Хамберту.
— Хью, — завопил с порога Павел Дмитриевич, — они вернулись!
— Кто? — вздрогнул профессор Хамберт.
А его супруга крикнула из кухни:
— Кого еще ухлопали?
— Никого, Марта, Юрий Михайлович видел Янтарную планету.
Марта вылетела из кухни, словно выброшенная пращой. В одной руке у нее был стакан воды, на ладони другой лежали две таблетки.
— Немедленно прими! — рявкнула она строевым голосом. Тебе вредно волноваться.
Старик хотел было что-то возразить, но лишь слабо покачал головой, покорно открыл рот, и Марта ловко вбросила в него таблетки.
— Это правда, Пол? — спросил профессор Хамберт.
— Правда.
— Вы не представляете, что это значит для меня. Я уже совсем отчаялся. Сначала Лина Каррадос, потом мисс Басс. Первая радость за долгие дни. Спасибо вам, мистер Чернов.
— Я не заслужил вашей благодарности.
— Хью, никаких эмоций! — возбужденно выкрикнула Марта.
Она металась из кухни в комнату и обратно, и мне казалось, что она может вывести из себя даже камень.
— Марта, о чем ты говоришь? — спросил профессор.
— Я знаю, о чем говорю. В отличие от тебя я всегда знаю, о чем я говорю. Мы утрем теперь нос и Лернеру и Бьюглу. И этому юному негодяю Медине. Всем, кто уже собирался вцепиться тебе в бока…
— Марта…
— Не затыкай мне рот! Я лучше тебя знаю, кто вцепляется тебе в бока. Ты, может быть, этого не чувствуешь а я чувствую. Я лучше тебя чувствую то, что ты должен чувствовать. Ты еще можешь не знать, например, что у тебя колет в сердце, а я уже бегу с кардиэйдом. И не спорь со мной. Ты не даешь мне сказать ни слова!
Когда супруга профессора остановилась на мгновение, чтобы перевести дух, он успел сказать нам, что сейчас же соберет всех сотрудников и что ночью меня будут измерять и обследовать всеми доступными способами.
— Отдохните, развлекитесь, съездите сегодня в Шервуд, а то Лейквью стал слишком печальным местом, — посоветовала мне миссис Хамберт.
Идея была неплохой. Я согласился. Миссис Хамберт через минуту сообщила мне, что после совещания меня повезет в Шервуд мистер Лернер.
Павел Дмитриевич остался у профессора, а я вернулся в наш домик. И сразу же, не успел я переступить порог, зазвонил телефон. Лейтенант Милич просил разрешения зайти ко мне.
— Мистер Чернов, — сказал он, появившись через несколько минут на пороге, — вы можете уделить мне четверть часа?
— Разумеется, — сказал я и проверил мысленно, не нарушил ли я ненароком шервудские законы.
Я и дома, когда разговариваю с милиционером, каждый раз ловлю себя на мысли, что начинаю подозревать сам себя. Но, конечно, речь шла о двух убийствах, о которых я уже знал. Они до сих пор никак не входили в мое сознание, не превращались в реальность. Лина Каррадос была человеком, с которым я был связан таинственной нитью. Но ее смерть я воспринимал в первую очередь как разрыв этой нити. Валерию Басс я видел несколько раз. Женщина с ищущими глазами, назвал я ее про себя.
Лейтенант говорил четко и коротко. Сначала он сообщил мне факты, потом выводы. В логичности им отказать было трудно, хотя порой мне начинало казаться, что я лежу на тахте в нашей двухкомнатной крохотной кооперативной квартире и читаю затрепанный томик «Зарубежного детектива».
Гм, интересный план, подумал я, когда лейтенант рассказал о придуманной им ловушке, но тут же представил себе лицо Павла Дмитриевича.
— Я понимаю сложности, о которых вы думаете, — сказал лейтенант, словно прочитав мои мысли. — Советское посольство, согласования, разрешения и так далее. Да и мое начальство поджарило бы меня на медленном огне, если бы я рисковал вашей жизнью. Вы не поедете со мной.
— То есть? — спросил я с некоторым разочарованием. Это был единственный шанс в жизни ехать в пуленепробиваемой машине, поскольку мой «Москвич» к этой категории явно не подходит.
— Вы только разыграете спектакль, о котором я говорил. Вы сядете со мной в машину, и мы выедем отсюда. Как только мы немножко отъедем, вы пересядете в другую машину, которая будет ждать в лесу, а ко мне в машину сядет человек, одетый, как вы. Если план удастся, стреляющие не заметят подмены: когда стреляешь по двигающемуся автомобилю, на лица не смотришь.
Я согласился с лейтенантом, сказав, что сам лично еще никогда по движущимся машинам не стрелял, равно как, впрочем, и по неподвижным. Я также сказал, что не вижу в принципе никаких затруднений при таком варианте, но предпочел бы все-таки, чтобы лейтенант поговорил с профессором Петелиным.
Если лейтенант и был разочарован, он ловко скрыл разочарование за улыбкой. Я тоже улыбнулся ему, и он вдруг совсем как-то по-нашему подмигнул мне. Прежде чем я сообразил, что делаю, я в свою очередь подмигнул ему, чем, надо думать, создал дипломатический прецедент, ибо советские граждане безусловно не должны подмигивать зарубежным полицейским. Те могут это неправильно понять.
Симпатичный человек. Если бы он перевелся из Шервуда в московскую милицию, я бы, наверное, подружился с ним.
Я вытянулся на диване. Я чувствовал себя эдаким Чичиковым. В голове была легкость необыкновенная. Сложнейшая комбинация для поимки религиозного фанатика-убийцы? Пожалуйста. Мне казалось, что я всю жизнь только и занимался, что погоней за религиозными фанатиками. Поймать фанатика? Извольте. Сколько прикажете? Завернуть?
Галя, Галя, если бы она могла сейчас включиться в мои мысли, как включаются на Янтарной планете, представляю, как бы она всполошилась. «Вы знаете, что мой Юрка надумал там, в Шервуде? Преступников ловить, вот что. Дома мыши поймать не может, а там — преступников. Первый раз выехал за рубеж — и нате!»
Всю дорогу до Шервуда профессор Лернер вел со мной бесконечную философскую беседу. Одну половину беседы я не понимал из-за его произношения, вторую — из-за того, что думал о Галиных заказах и не слушал. Пришлось поэтому все время кивать головой в знак согласия, чем, наверное, я немало удивлял старика. Во всяком случае, его и без того всклокоченные волосы стали теперь окончательно дыбом.
Мы поставили машину на платной стоянке и договорились встретиться на ней через полтора часа. Профессор предлагал свои услуги, но я вежливо отказался от них. Как гид по магазинам и товаровед он не вызывал у меня особого доверия. Другое дело, если бы речь шла о философских диспутах…
Я неторопливо шел по неширокой торговой улице. Я даже не шел, а лениво дрейфовал вместе с толпой. Иногда боковые течения заносили меня в магазины и, плавно покружив, выносили обратно на улицу.
Не спеши с покупками, учили меня, оглянись, сравни цены. Я и не спешил. Я прислушивался к обрывкам фраз, которые долетали до меня, присматривался к лицам, останавливался у витрин. Мысли мои были такими же бесцельными, как мой дрейф в людском потоке. То я вспоминал школу, то почему-то перескакивал на Нину Сергеевну, то жалел, что рядом со мной нет ни Ильи, ни Васи. Я бы сказал Илье: «Ты понимаешь, Илья, что мы с тобой гуляем по Шервуду? Что это не «Клуб кинопутешествий», а самый что ни на есть разнастоящий Шервуд? Что вон ту дебелую даму с усиками, рачьими глазами и гигантской сумкой выдумать нельзя — она слишком уродлива для фантазий. Она годится только для реальности». — «Поздравляю тебя, — закричал бы Илья, — для олигофрена ты делаешь успехи! Ты уже начинаешь отдавать себе отчет в окружающей обстановке. Ты даже начинаешь понимать, где ты».
Нет, положительно, будь на то моя воля, я бы формировал туристские группы исключительно на основе дружеских отношений между их участниками.
Меня снова занесло в магазин, и вдруг я увидел Тот Костюм. Тот Костюм, который не раз описывала мне Галя. Темно-коричневая, почти черная замша. Куртка и брюки. Мне показалось, что я услышал рядом с собой возбужденное Галино дыхание. Я представил себе ее в этом костюме. «Что вам угодно, Юрий Михайлович? — спрашивает она меня надменно, глядя на свое отражение в зеркале. — Что вы, позвольте узнать, вообще делаете здесь? Ах, вы пришли домой? Неужели вы не понимаете, что наши прежние отношения уже невозможны. В этом костюме…»
Но цена! Я трижды перевел цену в рубли и обратно всеми известными мне четырьмя действиями арифметики и молча застонал. Всех моих командировочных еле-еле хватало на замшевое чудо, а представить себя говорящим Илье, Васе, его Валентине, Нине Сергеевне, Борису Константиновичу что-то очень печальное о разгуле инфляции в Шервуде и невозможности для простого советского человека купить даже скромный сувенирчик мне было трудно.
Я вздохнул. Конечно, следовало забыть о темно-коричневой замше. Без нее моя семейная жизнь не подвергалась бы такой угрозе. Но и не купив костюм, я совершал предательство по отношению к Люше. Не первое, увы!
Я снялся с якоря у прилавка и, то и дело оглядываясь, поплыл к выходу. Полтора часа были на исходе, пора было идти к машине и снова кивать профессору, ничего не понимая в его пулеметном треске.
ГЛАВА XIII
Я вышел на улицу. Шел мокрый, густой снег. Сразу стало темно. Мне казалось, что всю свою сознательную жизнь я провел осенью. И в Москве и здесь — бесконечная слякоть, сырой, промозглый ветер, скупое на свет небо. И желание определенности: пусть лето, пусть зима — но что-то определенное.
Внезапно меня с двух сторон взяли под руки, и я оказался зажатым между двумя здоровенными мужчинами, отлитыми из чугуна.
— Мистер Чернов, — услышал я тихий, но многозначительный шепот, — не пытайтесь вырваться.
Одновременно я почувствовал, как в бок мне уперлось что-то твердое. Чугунные дяди властно и плавно потянули меня к машине, стоявшей у тротуара. Дверца распахнулась и, прежде чем я понял, что происходит, я уже был в машине, на заднем сиденье, спрессованный с двух сторон своими металлическими похитителями.
Я не успел даже испугаться. Это было, строго говоря, не очень страшно. Все тот же затрепанный томик «Зарубежного детектива». Это могло произойти с Питерами, Пьерами, Петро и даже Педро, но не с Юрием Михайловичем Черновым, рядовым учителем английского языка рядовой московской школы. Мне могли сократить или увеличить нагрузку, составить хорошее расписание или набить его неудобными для меня «окнами», меня могли ругать за профсоюзную задолженность. Это пожалуйста. Но меня не могли похитить средь бела дня два чугунных человека, уперев мне в бок пистолет. Его ствол давил на меня через два слоя ткани, через чужой карман и мою куртку, и все же его прикосновение было неуютно, смею вас уверить. Я сразу понял, что это пистолет. Я слишком много прочел детективов, чтобы не понять, что означает это прикосновение. И тем не менее, повторяю, я не боялся. Вернее, боялся, но не очень. В ситуации не было ничего привычного, а для того, чтобы по-настоящему испугаться, нужно, наверное, хорошо знать, что тебе угрожает.
Возможно, мне нужно было попытаться вырваться из металлических объятий, когда они подошли ко мне на улице. Возможно. Но я, честно говоря, не успел даже подумать об этом. И даже, если бы и подумал, все равно не смог бы.
Вдруг в голове у меня мелькнула идиотская мысль. В Тулу, как известно, со своим самоваром не ездят. А может быть, здесь и не принято вырываться из объятий людей, которые тянут тебя в машину? Может быть, здесь это считается невежливым? Я даже хмыкнул от такой глупой мысли, и чугунные тумбы с обеих сторон сдавили меня чуточку крепче.
Машина мчалась по городу, и я все еще никак не мог привыкнуть к мысли, что не могу сказать водителю: остановитесь, пожалуйста, я опаздываю, профессор Лернер будет нервничать, и голова его станет похожа на седого ежа.
Внезапно давление одной из чугунных молчаливых тумб ослабло. Резко и сильно запахло аптекой. Я повернулся, чтобы посмотреть, что делает тот железный джентльмен, что отвернулся от меня, и откуда исходит аптечный запах, но в этот момент он сунул мне в лицо какую-то тряпку или полотенце. Запах стал невыносим. Я дернулся в сторону, назад, вперед, но они с силой вдавили меня в сиденье. Едкий запах душил меня. Полотенце все приближалось к лицу, неотвратимо, как рок. Я напряг все силы. Мне казалось, что я могу разворотить машину, но горячие тиски с обеих сторон не отпускали меня.
«Наверное, это не смерть, — мелькнуло у меня в голове, когда тряпку прижали к моему лицу, — так не убивают».
Это была последняя моя осознанная мысль, потому что после этого я был занят своим дыханием. Сначала я пытался не дышать, но когда запас воздуха в легких был израсходован, инстинкт оказался сильнее воли. Я сделал судорожный глубокий вдох, и маслянистая резкая вонь хлынула в меня. Один вдох, другой, третий. Голова моя странно тяжелела. Вонь вливалась теперь в голову, переполняла ее, делала чужой и тяжелой. И в этой тяжести не было места мыслям. Я пытался думать. Я пытался понять, что со мной делают, но мысли были так же зажаты, как и я.
Небытие наваливалось на меня огромным черным покрывалом. Я знал, что это должно быть страшно, но и страх не мог пробиться сквозь загустевшее желе моих мыслей. Покрывало все ближе и ближе. Отпихнуть его, вырваться. Но я недвижим. И все. Нет сил сопротивляться. Оно обволакивает меня. Я окончательно забываюсь.
Обычно я просыпаюсь сразу. Выскакиваю из глубин сна на поверхность, как надутый мяч, как дельфин. На этот раз я просыпался мучительно медленно. То я начинал осознавать, что сплю, и, стало быть, просыпался, то снова забывался. Наконец я сделал усилие и вылез из болота. Полежал, приходя в себя, открыл глаза и увидел над собой потолок. Не автомобильный пластмассовый потолок в мелких симметричных дырочках, который я видел над собой в последний раз, а самый обычный белый потолок. Появилась первая координата. Потолок наверху. Значит, я под ним. Я вздохнул и попытался сесть. Все поплыло, стало на дыбы, как земля, когда самолет делает разворот, и я снова повалился на свою лежанку.
Не сразу. Осторожнее. Медленнее. Я слегка оторвал голову от подушки. Да, под головой была подушка. Уже хорошо. Неплохой признак. Подушку дают тогда, когда хотят, чтобы тебе было удобно.
Я сел с третьей попытки. Комната начала медленно вращаться, затем остановилась, закрутилась в обратную сторону и наконец остановилась. Остановилась и тошнота, которая поднималась из желудка, застряла где-то на полпути.
Я сидел на диванчике, на котором лежали подушка и одеяло. Окон в комнате не было, если не считать маленького окошка почти под самым потолком. Потолок был низкий, даже ниже, чем в нашей московской кооперативной квартире.
Я вспомнил все, что произошло со мной. Бесконечное жужжание профессора Лернера, людские потоки, которые несли меня, Тот Костюм из темно-коричневой замши и, наконец; чугунные объятия, прижатый к ребрам сквозь ткань куртки ствол пистолета. Я вспомнил тяжелую маслянистую вонь, врывающуюся в мои легкие, и вздрогнул от воспоминания запаха, как вздрагивают назавтра после перепоя, вспоминая запах алкоголя. Хлороформ или что-то в этом роде. Усыпили, чтобы спокойно приволочь меня сюда. Зарубежный детектив продолжался. Похищенного привезли в заброшенный загородный дом. Положим, судя по чистоте, дом не слишком запущен. Способность мыслить литературными штампами приободрила меня. Если на ум идут всякие детективные глупости, это значит, что хлороформ выветрился и голова начинает работать.
Я жив. Это хорошо. Это просто отлично. Я так обрадовался, что начал представлять себе разные глупости. Входит человек в черной маске: «Мистер Чернов, где сокровище?» — «На острове». — «На каком?» — «На острове Сокровищ». Гм… Выдумка не ахти какая, но для человека, из которого выходят пары хлороформа, не так уж скверно. Теперь, поразмяв мозги чушью, можно подумать. Меня похитили. Именно меня. Меня не спутали с молодым миллионером или заезжим восточным принцем. Они назвали меня мистером Черновым, эти чугунные дяди. Они были настолько железны, что в Москве ребята их мигом бы стащили в металлолом. В них обоих килограммов двести, не меньше.
Меня похитили, усыпили в машине и привезли сюда. Для чего? Раз я не юный миллионер, не восточный принц, а мистер Чернов, то, надо думать, не для выкупа. Вряд ли они рассчитывают, что советское посольство отвалит им миллион за Юрия Михайловича Чернова. Хотя кто знает…
Нет, все это с самого начала связалось в моем мозгу с тем, что мне рассказал лейтенант Милич. Первый вариант: религиозные фанатики узнали о плане лейтенанта и решили предвосхитить события. Стоп. Это уже глупо. Не выдерживает никакой критики. Если бы они узнали о плане, нужно было просто ничего не делать.
А может быть, они похитили меня с той же целью, с какой убили Лину Каррадос, если верить лейтенанту? Чтобы сорвать Контакт? Это уже не такая глупая мысль. Во всяком случае, не такая глупая, чтобы я сразу увидел ее абсурдность.
Я подумал, что не попытался даже попробовать дверь. Недаром Галя всегда попрекает меня недостатком инициативы и энергии. Я, конечно, был уверен, что дверь заперта, но мне стало стыдно.
Я встал. Немножко меня покачивало, но равновесие я сохранял. В камерах полагается считать шаги. От дивана до двери четыре шага и один шажок. Конечно, дверь заперта. Преимущества умозаключения над голой эмпирикой.
Что еще в камере? Мой диван, столик. Раковина и кран. Два стула. И все. Даже для камеры не густо.
Мне по-прежнему не было страшно. Не могу сказать, что у меня было хорошее настроение, вовсе нет. Но страшно мне все-таки не было. Было все то же ощущение отрешенности, отстраненности. Будто происходит это не со мной. Будто не я заперт в этой комнатке с потолками не выше двух тридцати, а кто-то другой. А я лишь наблюдаю и жду, чем, интересно, вся эта история кончится.
Ждал я, пока эта история чем-нибудь кончится, довольно долго. Больше двух часов по моей «Славе» с момента, пока я пришел в себя.
Наконец дверь открылась, и вошел один из кандидатов в металлолом. В руках у него был пластмассовый в цветочках подносик. На подносе еда. Только при взгляде на нее я понял, как проголодался.
Железный человек поставил поднос на стол, подошел к двери, произнес слово «уборная» и показал, что нужно постучать в нее. Или он считал, что я не умею разговаривать по-английски, или он сам был не силен в этом языке. Как, наверное, и во всех других.
На тарелке была основательная порция салата, здоровенный кусок холодного мяса, хлеб и большая чашка кофе. За кофе им спасибо, моим пленителям. Я жадно выпил полчашки, мгновенно расправился с едой, допил остаток и снова улегся на диван.
Если они продержат меня здесь достаточно долго, подумал я, от такой еды и такого образа жизни я разжирею настолько, что уже никогда не смогу выйти отсюда, даже если меня будет приглашать вся Христианская синтетическая церковь. Впрочем, пока опасения были напрасны. Никто не приглашал меня покинуть свою темницу.
Я подремал немного и проснулся в каком-то странном состоянии. Теперь я испытывал страх. Но не обычный страх, а скорее острое чувство одиночества. Я попытался подумать о Павле Дмитриевиче, о профессоре Хамберте, о лейтенанте Миличе, но все эти люди почему-то стали казаться мне ненастоящими, выдуманными. Я подумал о Москве, но и московская моя жизнь не воспринималась мною как реальность. Реальностью был я сам и переполнявшее меня чувство одиночества. Словно я был один в бескрайнем поле, ровном, как стол, бесцветном и лишенном запахов и ветра. Я мечусь по нему. В одну сторону, другую, третью. Я бегу, потом, запыхавшись, останавливаюсь. Я не оставляю следов на сухой, твердой земле, и мне начинает казаться, что я вовсе не шел и не бежал по полю, а это оно наплывало на меня.
Что за бред, пытался я сопротивляться кошмару, но не мог совладать со своими чувствами. Они не слушались тормозов моей воли. И я скользил в странном оцепенении, как машина на льду, прошедшая юзом.
И не только бескрайнее поле сжимало мне сердце. И голова моя и душа тоже расширились, стали огромными и пустынными, и от их пустынности я страдал еще в большей степени, чем от бескрайнего поля, которое окружало меня.
Если бы я только встретил живую душу, если бы только кто-нибудь протянул мне руку, чтобы я больше не был один, чтобы одиночество не гудело в ушах заунывным, рвущим сердце гулом!..
После ужина — так я определил про себя следующий поднос с едой — я почувствовал новый прилив одиночества. Странный, нелепый по своей остроте. Да, сказал я себе, тебя похитили. Тебя спрятали. Неизвестно, что будет с тобой. Все это верно. И вместе с тем это не повод для таких безотчетных кошмаров. Тем более, что вначале, до обеда, я пребывал в относительно спокойном состоянии духа.
Но все это были слова, пустые заклинания. Они не властны были над моим разыгравшимся воображением. Я ничего не мог поделать с собой. У меня даже мелькнула мысль, что я схожу с ума, и эта мысль еще больше усилила мое уже близкое к панике состояние.
Я молил небеса о скором сне, и они исполнили мою просьбу. Я заснул, и во сне Янтарная планета омыла меня своим чистым золотым блеском. Я снова плыл в беззвучной черной глубине космоса вместе с пятью братьями, которые оставили свои тела на родной планете, чтобы стать частью космического корабля, прилетевшего в нашу Солнечную систему.
Я чувствовал, как дрожит тончайшая нить, которая связывала корабль с родной планетой и со мной.
Я снова был на Янтарной планете и жадно впитывал в себя Зов братьев. Так жадно я не впитывал его в себя никогда, потому что никогда моя душа так не тянулась к У и его братьям.
Я проснулся в темноте, обшарил глазами стены. Там, на стене напротив, где под самым потолком было окошко, света тоже не было. Ночь. Часы показывали пять. Слабые, дрожащие пятнышки цифр. Время моего обычного возвращения с Янтарной планеты.
Как я был благодарен своим далеким братьям, как они успокоили мою душу, насытили ее радостным ощущением братства, изгнавшим вчерашнее страшное одиночество!
После завтрака снова приступ одиночества, но менее острый, чем вчера. Мой мозг все еще был полон янтарными сновидениями, и они плотиной огораживали меня и сдерживали напор кошмаров.
Я не исследователь, не ученый. Я только собираюсь поступить в аспирантуру по методике преподавания английского языка в школе, и то, по глубокому убеждению моей жены, так никогда и не соберусь. И тем не менее мне пришла в голову простая мысль, что существует определенная закономерность между едой и моим состоянием. Когда я только попал в эту западню и едва пришел в себя после хлороформа, я был более или менее спокоен. Зато стоило мне первый раз здесь поесть, как навалилось это страшное ощущение одиночества, эта жажда протянутой спасительной руки, готовность идти за кем угодно, лишь бы выйти из бескрайнего поля без цвета и запаха.
Может быть, может быть. И если бы не У и его братья, я, наверное, не сумел бы сопротивляться напору одиночества. Спасибо вам, мои маленькие далекие друзья, спасибо, что протянули мне спасительную свою вибрирующую паутинку.
Во время обеда я решил сделать эксперимент: я не пил кофе и не ел суп. Если они меня опаивают какой-то дрянью, то, скорее всего, они подмешивают ее в жидкость.
Ходячий металлолом подозрительно посмотрел на нетронутый мною суп и кофе, но ничего не сказал. Я решил впредь выливать жидкость в раковину.
Горд я был своей сообразительностью необыкновенно, потому что постепенно страх одиночества стал уходить и мысли о внешнем мире потеряли свою иллюзорность.
ГЛАВА XIV
На третий день моего заключения, когда я думал о том, как должен сейчас беспокоиться Павел Дмитриевич, я вдруг почувствовал тот легкий зуд, щекотку где-то в голове ощущения, которые я начал почти забывать с тех пор, как потерял свой дар чтения чужих мыслей. И верно, тут же я услышал легчайший шорох сухих листьев. Шорох усилился, перешел в бормотание, а бормотание в свою очередь сложилось в слова. Янтарная планета посылала мне не только сны, но и дар чтения мыслей.
Я прислушался. Мысли, которые я слышал, ползли медленно, еле ворочались, как сытые, ленивые звери: «Брат Энок… говорит, правильно все сделали… Веру разрушают… антихристы… Позвонить бы жене… Брат Энок не велел звонить… говорит, мало ли, может, всю полицию на ноги подняли… Телефоны подслушивают. Вся полиция… Пусть вся полиция. Когда сражаешься за спасителя нашего Иисуса Христа, полиция ничего не сделает… Христин пора принять… Сколько я сегодня принял? Шесть таблеток вроде… Брат Энок говорит, скоро мне можно, выходит, поменьше принимать. А зачем? Мне и по восемь хорошо. В самый раз для спасения души. Так душа к церкви и прилепливается…»
Брат Энок. Я вспомнил рассказ лейтенанта Милича. Энок Бартон. Синт третьего ранга из Стипклифа. Соучастник Иана Колби. В голове у меня созрел план. Хорошо, когда можно не сомневаться, годится твой план или нет. Мне сомневаться не приходилось. У меня был только один план. Других не было и быть не могло.
Когда мой стражник в очередной раз вошел ко мне с подносом, я ровным голосом, не глядя на него, сказал:
— Брат, принимайте по-прежнему по восемь таблеток христина и не сомневайтесь. В самый раз для спасения души. С восьми так душа к церкви и прилепливается. И не беспокойтесь. Когда сражаешься за спасителя нашего Иисуса Христа, полиция ничего не сделает… а домой не звоните, брат Энок ведь говорит, что телефоны подслушивают…
При первой же моей фразе шаги стражника замерли. Я медленно повернул голову и посмотрел на него. Он застыл с подносом в руках. Рот у него открылся, и он забыл закрыть его. Он смотрел на меня не шевелясь. Он стоял так, пока я не кончил говорить. Глаза его были пусты. Я слушал его мысли. Теперь они уже не напоминали сытых, ленивых животных. Они пугливо метались, и я слышал их:
«Это что же… Мои слова… Как же… Быть того не может… Я ж молча… Не говорил. Мои слова, точь-в-точь… Как же так… Это как? Брата Энока поминает… а тот говорил, если кто его имя от меня узнает, кара господня обрушится на мою голову… А Роза как же, ребята еще совсем маленькие…»
— Не бойся, брат, — кротко сказал я. — Не обрушится кара господня на твою голову. И не бойся за Розу и за детей своих маленьких.
Мой стражник долго что-то мычал и тряс головой, как неопытный немой, пока наконец не выдавил из себя:
— Как… что… это?
— Не бойся, брат, — сказал я. — Моими устами говорит отец наш и спаситель, который услышал тебя и отворил тебе свое сердце.
Я начал входить в роль, и в голосе моем появилась вкрадчивость штатного пророка.
— Мне? Свое сердце? — пробормотал чугунный человек. — Как? Почему?
«Мне! Недостойному рабу… Господи… За что?»
— Да, тебе, недостойному рабу своему, отворяет господь наш и повелитель свое сердце и осеняет тебя благодатью. Он выбрал меня, чтобы я возвестил тебе об этом. Ты можешь подумать: «Как же так? Мне открывает волю божью тот, кого я держу под стражей, но пути господни неисповедимы…»
Ах, если б я только получше знал божественную терминологию да на английском, я б этот металлолом з экстаз вогнал, подумал я. Но, как назло, в голове только и крутилось, что «воля божья», «благодать», «осенять» и «пути господни». Приходилось рассчитывать на голову моего стражника. Он с Библией был явно на более короткой ноге, чем я.
— Но как же так? — пробормотал мой стражник. — Брат Энок говорил, что вы — инструмент дьявола, которым тот пытается отравить нашу веру сомнениями… — Он замолчал.
«Как же так? — продолжал он уже про себя свой скорбный монолог. — Инструмент дьявола — и передает мне слова господни… Боже правый и милосердный, укрепи мою веру и разум, не знаю что и подумать…»
— Не печалься, брат, и не терзай свою душу сомнениями. Господь бог наш и спаситель слышит твою молитву. Он укрепит твою веру и разум, хотя твоя вера и без того крепка и радует его сердце.
Стражник медленно опустился на колени. Его наморщенный, страдающий лоб разгладился и лицо просветлело.
«Попробовать сейчас или отложить на завтра? — подумал я. — Наверное, надо использовать шанс. Другого может не быть. Его могут сменить, этого человека…»
— Господь повелел мне возвестить тебе свою волю: ты станешь укреплять веру на земле. Ты выведешь меня из темницы, и мы понесем слово божие повсюду, и ты станешь первым среди равных в Христианской синтетической церкви.
Я никогда не участвовал в самодеятельности. Мне всегда мешала моя дурацкая стеснительность и сверхкритическое к себе отношение. Но на этот раз я передал стражнику волю господню с такой силой убежденности и страсти, что сам удивился. Прочти я его так перед членами приемной комиссии в каком-нибудь театральном училище, где конкурс — человек по пятьдесят на место, — и меня зачислили бы с ходу.
— А… брат Энок? — дрожащим голосом спросил мой стражник. — Он говорит…
— Не святотатствуй! — прогремел я, и в голосе моем задрожал ужас. — Брат Энок — лишь жалкий человек, который не ведает, что творит, а ты слышишь голос господень, говорящий моими устами!..
Кто, кто в Библии слышал голос божий? Я судорожно попытался вспомнить. Моисей, Авраам, Исаак… Да, но кто, когда и зачем?
«Господи, прости меня за сомнения, но я не знаю, что и думать…» — страстно зашептал про себя стражник.
— Встань, господь прощает тебе твои сомнения, ибо сомнения показывают глубину твоей веры! — трубным гласом пророкотал я.
Стражник медленно, каким-то неуверенным движением поднял ладони к лицу. Он принялся раскачиваться, стоя на коленях, и вдруг начал клониться в сторону. Еще мгновение — и он лежал на полу, похожий на зародыша из учебника анатомии для восьмого класса. Только одетого и постарше.
Я бросился к двери. Она была открыта. Одна ли это дверь или есть еще замки? Может быть, вытащить у синта оружие? Нет, даже если оно у него и есть, не нужно, Не хватало еще советскому учителю носиться по Шервуду с пистолетом в руках.
За дверью была лестница. Судя по тому, что на ней было прохладнее, чем в моей комнате; она вела, должно быть, к выходу из дома.
Так и есть. Ну… открыта или заперта? Вот тут бы и помолиться, подумал я, поворачивая ручку. Но помолиться я не успел, и дверь оказалась запертой. Я толкнул ее плечом. Бессмысленно.
Может быть, стражник еще не очухался и я вытащу у него из кармана ключи. Я кубарем скатился вниз по лестнице и кинулся к взрослому зародышу. Я протянул руку, чтобы залезть к нему в карман, но он вдруг вздрогнул, и я отдернул руку. У меня совершенно не было практики в обшаривании карманов лежащих в забытьи стражников.
Он открыл глаза. Делать было нечего. Или снова сдавать экзамен в театральное училище, или… На второе «или» времени у меня уже не осталось, и я воскликнул:
— Встань! («Может быть, надо было бы «восстань», - мелькнуло у меня в голове). Восстань и выведи отсюда посланца божьего, выполни приказ, посланный тебе свыше…
Синт с трудом встал, потянулся к карману. Сейчас он вытащит пистолет, почему-то подумал я, но он достал плоскую металлическую коробочку с распятием на крышке, вытряхнул несколько таблеток и бросил их себе в рот. Почти цирковой номер, подумал я.
«Восемь таблеток — в самый раз… — услышал я его мысль, если это можно было назвать мыслью. — Ну, пару лишних сегодня приму, ничего…»
— Прими, прими, брат, я разрешаю тебе сегодня принять и двенадцать.
Страха у меня как не бывало. Меня охватило озорное веселье. Все будет хорошо, все должно быть хорошо. Я входил в роль. Ах, если бы мои балбесы из восьмого «Б» слушали меня так, как этот чугунный синт!
Синт начал трястись мелкой дрожью. Давай, давай, металлолом, туда или сюда, подумал я. В обморок — так падай. Выполнять волю божью — так выполняй, черт возьми, и не трясись!
Продолжая трястись, синт уставился на меня. Я уже не мог слышать его мысли. Их у него просто не было, если не считать жалкой окрошки из слов «как», «воля», «божья» и так далее.
Я пошел к двери, пятясь, как придворный. Синт двинулся за мной. Я поднялся по лестнице. Он за мной.
«Как сказать, — подумал я, — «открой»? Простовато, буднично. Низкий стиль».
— Отомкни! — загремел я.
«Длань», «десница»? Что бы там еще такое вспомнить?
Не сводя с меня взгляда, словно в трансе, синт достал ключ, открыл дверь, и мы оказались на улице, во дворе загородного домика. Я поежился от холода.
— В машину! — скомандовал я, и синт подвел меня к «веге» с плохо выправленным левым передним крылом. — В Шервуд! — Он мог и не знать, где находится Лейквью.
— Вы понимаете, что вы наделали? — кричал капитан Трэгг, размахивая пальцем у самого носа лейтенанта Милича. — Вы понимаете, чем это грозит? Три тысячи человек брошены на поиски Чернова. Три ты-ся-чи! И всё из-за ваших идиотских теорий. И-ди-от-ских! Нафантазировал черт те знает что, а я, старый дурак, уши развесил. Прогресс, регресс, бог, черт! Вы еще вспомните, что такое прогресс! Третий день, вы понимаете? Третий! Если сегодня Чернова не найдут, можете подыскивать себе работу.
На столе запищал зуммер, и капитан поднял трубку:
— Ну, что там еще? Здесь, здесь Милич.
Капитан швырнул трубку, и лейтенант поймал ее.
— Лейтенант Милич слушает… Что? — Он вскочил на ноги. Держите их! Бегу! — Он кинулся к двери.
— Кто там? — крикнул капитан Трэгг.
— Чернов!
Лейтенант Милич посмотрел на Иана Колби, сидевшего перед ним в его кабинете.
— Ну что же, мистер Колби, ваш коллега Энок Бартон признался во всем. Я думаю, что и у вас нет другого выхода.
Синт вздохнул, мягкая улыбка скользнула по его лицу.
— Дорогой лейтенант, если не ошибаюсь, я вас угощал в свое время кофе… Отплатите мне тем же.
— С удовольствием, мистер Колби.
Лейтенант поднял телефонную трубку и попросил принести арестованному кофе.
— Так как? — Лейтенант посмотрел на человека, сидевшего перед ним.
Немолодой человек с располагающим к себе мягким лицом. Именно мягким, подумал лейтенант. Без костей. И даже нос был мягким. Уютное, домашнее лицо.
Синт кротко улыбнулся:
— К сожалению, я не вижу для себя выхода. Кто знал, что Чернов вдруг начнет читать мысли? Впрочем, если бы мы его и не похитили, он бы мог услышать, что я думаю. А это, — снова улыбнулся синт, — было бы не совсем желательно.
— Значит, похищение было в какой-то степени, так сказать, и профилактическим мероприятием?
— Совершенно верно. Полностью покончить с идеей Контакта, скомпрометировать ее. Это, конечно, было главное. Обезопасить себя тоже.
— В каком смысле?
— Не только на случай, если бы Чернов снова начал читать мысли. Я ведь прекрасно видел, что вы все больше склоняетесь к мысли, что оба преступления совершил я. У вас не было в руках никаких улик. Были, дорогой лейтенант, или нет?
— Нет, мистер Колби, — покачал головой лейтенант.
— У вас была теория. Вы догадывались. Я это быстро понял. Но улик, повторяю, не было. И тем не менее мы нервничали. Все самые продуманные планы имеют тенденцию срываться из-за пустяков. И когда я услышал, что мистер Чернов снова вступил в Контакт, у меня мгновенно созрела идея похитить его. И с экспериментом покончено, и следствие запутано, и заложник у нас есть на всякий случай. В крайнем случае мы бы смогли произвести обмен: мы вам — советского гражданина, вы нам прекращение следствия.
Лейтенант молча кивнул:
— Нечто такое я и предполагал… А знаете, мистер Колби, когда у меня в первый раз возникло подозрение? Когда вы сказали мне, что ваша церковь еще не пришла к какой-то определенной точке зрения по поводу контактов с внеземной цивилизацией.
— Да, — кивнул синт, — я солгал вам тогда. Но почему вы не поверили мне?
— Потому что вы показались мне умным и убежденным человеком. И вы не могли не видеть опасности, которая угрожает религии в результате такого Контакта. Прав я?
— Да, правы, — кивнул Иан Колби. — Я с самого начала видел это. Я бы мог тут же уехать из Лейквью, но ведь и без меня этот нож все равно воткнулся бы нам в спину. Поймите, лейтенант, я не жалею о случившемся. Я не беспокоюсь о своей судьбе. Она мне глубоко безразлична. Я не обманываю вас и не рисуюсь. Что такое я? Ничтожная комбинация атомов, которые после моей смерти соединятся в новой комбинации. А душа… Душа суду неподвластна. Душа — это мой двусторонний договор с богом. Только она стоит между нами. Она соединяет или разделяет нас. Но вера… Неужели вы не видите, не чувствуете каждой своей клеточкой, как чувствую я, что мы гибнем без веры? Неужели вы не видите, что лазеры и термоядерная реакция не заменят вам душу? Термоядерная реакция может дать ток, но она не даст вам душу. Зачем вам наука и прогресс, если они отнимают у вас бога?
Вы знаете, что испытывают люди, принимающие христин? Нас часто обвиняют, что это противоестественный нейролептик, вызывающий у человека острое чувство одиночества и страха. А разве и без христина все мы не одиноки? Принявшему таблетку христина человеку чудится, что он один на бесконечном большом голом поле, без цвета, следов, запахов. А разве мы и на самом деле не одиноки в безбрежной вечности? После христина жаждешь указующей длани, отцовской руки, которая увела бы тебя с проклятого поля одиночества. Руки бога и руки церкви. И без христина мы мучаемся от тех же страхов, но ваш прогресс и ваша наука закрыли человеческие души, законопатили их, и вы не можете выбраться из душевного своего кокона и потянуться к свету веры. И здесь на помощь людям приходит Христианская синтетическая церковь. Мы освобождаем человека от бремени прогресса, науки, разума, рационального мышления. Мы возвращаем его в детство и даем ему сладкое чувство покорности высшему существу. Мы освобождаем его от груза. От груза рационального мышления и эндокринных страстей. Зажигаем в его груди одну достойную человека страсть — любовь к богу. Нам говорят: а много вы достигли на пути к богу? Сколько преступлений совершили вы на этом пути! Да, мы несовершенны. Ну, а много ли добились на пути к безбожному прогрессу? Газвагены и напалм?
— Но сновидения Лины Каррадос и Чернова? — спросил лейтенант. — Неужели они…
— Да, да, да. На их планете нет одиночества, нет страха и вместе с тем нет бога. Это мысль, проповедуемая безбожными обществами, ужасна. Она убивает веру. А тот, кто убивает веру, должен быть уничтожен.
— Но вы же говорите о любви…
— Да. И что же? Бывает, что во имя любви приходится убивать. Лина Каррадос была милой, забавной девчонкой. Когда она смеялась, у меня теплело на сердце. Но когда я прилаживал к ее машине бомбу, я не колебался. Великая идея всегда требует жертв…
— Я не философ, мистер Колби, и мать моя и бабушка были простыми верующими женщинами. Но как примирить вашу любовь к богу с убийством двух ни в чем не повинных людей?
— Все, что стоит на пути любви к богу, должно быть уничтожено. Лине Каррадос и Валерии Басе не повезло. Они оказались на пути, и я их уничтожил во имя сохранения веры.
— Боюсь, мистер Колби, для суда этот аргумент защиты покажется не слишком убедительным…
— Меня не интересует суд человеческий, — кротко сказал синт. — А мой бог меня не осудит.
— Но, кроме суда юридического и суда божьего, есть ведь люди…
Иан Колби не ответил. Он сидел, глубоко задумавшись, и глаза его были обращены вовнутрь.
— Ну так что, братец Джим, — улыбнулся лейтенант Милич Поттеру, — купили вы себе толковый словарь?
— Да.
— Эрго…
– «Когито эрго сум». Латынь. «Думаю — следовательно, существую», — с гордостью сказал сержант.
— То-то же, братец Джим.
Я жду, пока свободный конец ниточки сновидений найдет кого-нибудь вместо Лины Каррадос. Ждет Павел Дмитриевич. Ждет мистер Хамберт. Не знаю почему, но у меня такое ощущение, что мы обязательно дождемся.
Конец