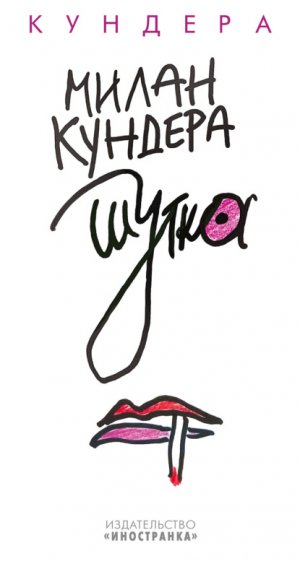
Milan Kundera
LA PLAISANTERIE
Copyright © 1967, 1980, 1985, Milan Kundera
All rights reserved
All adaptations of the work for film, theatre, television and radio are strictly prohibited.
© Н. М. Шульгина (наследники), перевод, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство Иностранка®
Часть первая. Людвик
И вот спустя много лет я вдруг вновь очутился дома. Я стоял на главной площади (несчетное число раз я прошел по ней ребенком, мальчиком, юношей) и не испытывал никакого умиления; напротив, думал о том, что эта ровная площадь, над крышами которой (точно воин в старинном шлеме) возвышается башня ратуши, напоминает большой казарменный плац и что военное прошлое этого южноморавского города, встававшего некогда неприступным валом на пути венгров и турок, отметило его лик чертами непреодолимой мерзости.
После долгой разлуки меня ничто не тянуло на родину; я убеждал себя, что стал к ней совершенно равнодушен, и это казалось естественным: уже пятнадцать лет я не живу в этих краях, осталось здесь лишь двое-трое знакомых или товарищей (да и тех постараюсь обойти стороной), мама похоронена в чужой могиле, мною заброшенной. Но я заблуждался: то, что я называл равнодушием, на самом деле было ненавистью; ее причины ускользали от меня, поскольку на родине происходили со мной вещи и хорошие, и плохие, как во всех других городах, но это была ненависть; я осознал ее как раз в связи с этой поездкой: цели, ради которой я ехал, можно было достигнуть и в Праге, но меня вдруг неудержимо стал привлекать подвернувшийся случай сделать это в родном городе именно потому, что цель была циничной и низменной, глумливо освобождавшей меня от подозрения, что возвращаюсь я сюда ради сентиментальных вздохов по утраченному времени.
Я еще раз неприязненно оглядел безобразную площадь и, повернувшись к ней спиной, пошел по улочке к гостинице, где для меня был забронирован номер. Швейцар вручил мне ключ с деревянной грушей и сказал: «Третий этаж». Номер был неприглядный: у стены кровать, возле нее вычурный туалетный столик красного дерева с зеркалом, посредине маленький стол с одним стулом, у двери крохотный облупленный умывальник. Положив портфель на стол, я открыл окно: выходило оно во двор и на дома, обратившие к гостинице голые и грязные зады. Я закрыл окно, задернул шторы и подошел к умывальнику с двумя кранами – красным и синим; отвернул их на пробу – из обоих текла холодная вода. Оглядел стол: пожалуй, он еще сошел бы – бутылка с двумя рюмками вполне уместилась бы на нем, но хуже было, что за ним мог сидеть всего один человек – в номере не было второго стула. Я пододвинул стол к кровати и попробовал подсесть к нему, но кровать была чересчур низкой, а столик чересчур высоким, кроме того, кровать подо мной так сильно прогнулась, что мне стало сразу же ясно: она не только не годится для сидения, но и свое прямое назначение выполняет весьма условно. Я уперся в нее кулаками, затем лег на нее, аккуратно подняв ноги кверху, дабы ботинками не испачкать (вполне чистые) одеяло и простыню. Кровать провалилась подо мной, и я лежал в ней, как в гамаке или в узехонькой могиле; трудно было представить, чтобы на этой постели можно было улечься вдвоем.
Я сел на стул и, уставившись сквозь прозрачные шторы, задумался. Б это время из коридора донеслись шаги и голоса; это были двое, мужчина и женщина, они разговаривали, каждое их слово было отчетливо слышно: говорили они о каком-то Петре, сбежавшем из дому, и о какой-то тете Кларе, что глупа и якобы балует мальчика; затем раздались поворот ключа в замке, скрип открываемой двери, и голоса переместились в соседний номер; слышны были вздохи женщины (да, явно слышны были даже вздохи!) и твердые заверения мужчины поговорить с Кларой должным образом.
Я встал с уже созревшим решением; еще раз вымыл руки, вытер их полотенцем и вышел из гостиницы, хотя точно еще не знал, куда, собственно, держу путь. Но одно понимал четко: если я не хочу успех своей поездки (поездки достаточно дальней и изнурительной) подвергать риску из-за обычных неудобств гостиничного номера, я должен, при всем нежелании, обратиться к кому-нибудь из здешних знакомых с доверительной просьбой. Я постарался быстро перебрать в памяти забытых друзей времен молодости, но тотчас всех их отверг, хотя бы уж потому, что доверительность требуемой услуги вынудила бы меня перешагнуть через пропасть тех долгих лет, когда я с ними не виделся, – а к этому я вовсе не был расположен. Но тут неожиданно вспомнилось, что в городе, вероятно, живет один человек, переселенец, для которого я сам в свое время выхлопотал место и который, думается, будет рад представившемуся случаю отплатить мне услугой за услугу. Это был чудак, в ком болезненная щепетильность странно сочеталась с непоседливостью и переменчивостью – как мне известно, жена развелась с ним несколько лет назад просто потому, что он жил где угодно, только не с ней и их сыном. Сейчас опасался я лишь одного: не женился ли он во второй раз, ибо это усложнило бы исполнение моей просьбы. Итак, я поспешил к больнице.
Здешняя больница – целый комплекс корпусов и павильонов, разбросанных на обширной территории сада; я вошел в маленькую, невзрачную конуру у ворот и попросил дежурного за столом соединить меня с отделением вирусологии; дежурный пододвинул ко мне – к самому краю стола – телефон и сказал: «Ноль два». Я набрал ноль два и узнал, что доктор Костка ушел минуту назад и сейчас, вероятно, на пути к выходу. Я опустился на скамейку у ворот, дабы не разминуться с ним, и стал глазеть на мужчин, бродивших здесь в светло-голубых полосатых больничных халатах; и вдруг я увидел его: он шел задумчиво, высокий, худой, симпатично неприметный, да, это он. Я поднялся со скамейки и пошел прямо ему навстречу, словно намеревался столкнуться с ним; он поглядел на меня обиженно, но сию же минуту узнал и раскинул руки. Похоже, он был осчастливлен этой неожиданностью, и непосредственность, с какой встретил меня, весьма обнадеживала.
Я объяснил, что приехал около часа назад по одному незначительному дельцу, которое задержит меня здесь дня на два, и он тут же выразил радостное изумление, что моя первая дорожка в городе привела к нему. И вдруг меня покоробило, что пришел я к нему не без корысти, не ради него самого и что вопрос, который задаю ему (я бодро спросил, не женился ли он вторично), лишь симулирует искреннее участие, на деле же – расчетливо-практичен. Он ответил (к моему успокоению), что он по-прежнему один. Я обронил, что нам есть о чем поговорить. Он согласился, выразив сожаление, что располагает лишь немногим более часа, поскольку должен вернуться в больницу, а под вечер автобусом уехать из города. «Вы живете не здесь?» – ужаснулся я. Он уверил меня, что живет здесь, что в новом районе у него гарсоньерка, но «человеку одинокому часто бывает не по себе». Выяснилось, что у Костки в другом городе, за двадцать километров отсюда, невеста, учительница, причем с двухкомнатной квартирой. «Вы со временем переедете к ней?» – спросил я. Он ответил, что едва ли найдет в другом месте столь интересную работу, какую я помог ему когда-то найти здесь, и, несмотря на трудности, его невеста постарается переехать сюда и устроиться. Я стал проклинать (вполне искренне) неповоротливость нашей бюрократии, которая не в состоянии пойти навстречу мужчине и женщине, желающим соединиться. «Успокойтесь, Людвик, – сказал он мне с милой снисходительностью, – это отнюдь не так уж непереносимо. Пусть я и расходую немного больше денег и времени, зато мое уединение остается нерушимым, а я свободным». «Зачем вам так нужна свобода?» – спросил я. «А зачем она нужна вам?» – ответил он вопросом. «Я бабник», – сказал я. «Мне свобода нужна не ради женщин, а ради себя, – ответил он и продолжал: – Знаете что, зайдемте-ка ненадолго ко мне до моего отъезда». Ни о чем другом я и не мечтал.
Мы вышли из больницы и вскоре оказались среди новостроек, вразброд торчавших на изрытом пыльном пространстве (ни газона, ни тротуаров, ни шоссе) и являвших печальный пейзаж на окраине города, окаймленного голой равниной дальних полей. Мы вошли в подъезд и стали подниматься по узкой лестнице (лифт не работал); остановились на четвертом этаже перед дверью, на табличке которой я прочел имя Костки. Из прихожей мы прошли в комнату, и я несказанно обрадовался: в углу стояла широкая и удобная тахта, покрытая красным узорчатым покрывалом; кроме тахты, в комнате были столик, кресло, большой книжный шкаф и радиола.
Похвалив комнату, я спросил Костку, какая у него ванная. «Ничего особенного», – ответил он, польщенный моим интересом, и пригласил меня в прихожую, откуда вела дверь в ванную комнату – маленькую, но вполне приятную, с ванной, душем и умывальником. «При виде вашей чудесной квартиры мне поневоле пришла в голову одна мысль, – сказал я. – Какие у вас планы на завтрашний день и вечер?» – «К сожалению, – извинился он сокрушенно, – завтра я долго дежурю, вернусь только к семи. А вечером вы заняты?» – «Вечером, пожалуй, я буду свободен, – ответил я, – но не могли бы вы мне на день – до вечера – предоставить вашу квартиру?»
Он был ошарашен моим вопросом, но тотчас (словно боялся, что я заподозрю его в нелюбезности) ответил: «С великим удовольствием окажу вам эту услугу». И продолжал, словно умышленно не желая догадываться о мотивах моей просьбы: «Если у вас трудности с квартирой, можете уже сегодня расположиться здесь на ночь, я вернусь только утром, а впрочем, даже не утром, так как пойду прямо в клинику». – «Нет, ни к чему это. Я поселился в гостинице. Но номер ужасно неприютный, а завтра во второй половине дня мне хочется быть в приятной обстановке. Не для того, естественно, чтобы быть в ней одному». – «Да, – сказал Костка и чуть склонил голову, – я догадался. – А немного помедлив, сказал: – Я рад, что могу сделать для вас что-то хорошее. – И добавил: – Если вам при этом в самом деле будет хорошо».
Затем, подсев к столику (Костка приготовил кофе), мы немного потолковали (причем я сидел на тахте и с радостью обнаруживал, что она крепкая, не прогибается и совсем не скрипит). Чуть погодя Костка, объявив, что ему пора возвращаться в больницу, посвятил меня в некоторые таинства своего домашнего обихода: кран в ванной надо потуже закручивать, горячая вода, вопреки всем правилам, течет из крана, обозначенного буквой «X», розетка для шнура от радиолы скрыта под тахтой, в шкафчике стоит едва початая бутылка водки. Дав мне связку с двумя ключами, указал, какой ключ от подъезда, какой от квартиры. За свою жизнь, на протяжении которой я спал на разных постелях, я воспитал в себе особый культ ключей; ключи Костки я также сунул в карман с тихой радостью.
Уже с порога Костка пожелал, чтобы в его гарсоньерке я испытал «поистине нечто прекрасное». «Да, – сказал я, – она позволит мне осуществить одно прекрасное разрушительное действие». «Полагаете, разрушения бывают прекрасными?» – спросил Костка, а я усмехнулся про себя, узнав в этом вопросе (произнесенном мягко, но воинственном по существу) его самого, именно таким, каким он был, когда впервые – более пятнадцати лет тому назад – мы познакомились. Я любил его, хотя он и казался мне немного смешным, и потому, настраиваясь на его лад, ответил: «Я знаю, что вы тихий строитель вечного Божьего дома и не любите слушать о разрушениях, но что мне делать: я не есть каменщик Божий. Впрочем, если бы каменщики Божьи возводили здесь дома с настоящими стенами, едва ли наши разрушения могли бы нанести им ущерб. Но мне представляется, что вместо стен я вижу повсюду одни лишь кулисы. А разрушение кулис – занятие справедливое».
Мы снова были там, где в последний раз (лет девять назад) разошлись; наш спор в эту минуту носил характер весьма отвлеченный, ибо конкретную подоплеку мы хорошо знали и о ней не надо было говорить вновь; повторить стоило разве лишь то, что мы не изменились, что оба по-прежнему не похожи друг на друга (причем, должен сказать, эту непохожесть я любил в Костке и потому охотно беседовал с ним: так я всегда как бы мимоходом постигал, кто я по сути и что я думаю). И дабы у меня не оставалось сомнений относительно себя самого, Костка ответил: «То, что вы сказали, звучит прекрасно. Но позвольте спросить; коль вы такой скептик, откуда у вас эта уверенность, что вам дано отличить кулису от стены? Всегда ли вы были убеждены в том, что иллюзии, над которыми вы смеетесь, и вправду только иллюзии? А что, ежели вы ошибаетесь? Что, ежели это ценности и вы разрушитель ценностей? – И затем добавил: – Преуменьшенная ценность и развенчанная иллюзия, полагаю, имеют равно убогую плоть, они подобны друг другу, и перепутать их проще простого».
Я провожал Костку через город опять к больнице, поигрывая в кармане ключами, и мне было славно в присутствии давнего знакомого, который мог убеждать меня в своей правде когда угодно и где угодно, да хоть и сейчас – дорогой по бугристому простору нового поселка. Впрочем, Костка, зная, что перед нами целый завтрашний вечер, минутой позже от философствования перешел к делам обыденным; он вновь уверился, что завтра я подожду его в квартире до семи вечера (других ключей у него не было), и спросил, действительно ли мне ничего больше не нужно. Я провел ладонью по лицу и сказал, что мне, пожалуй, не мешало бы зайти к парикмахеру, ибо я оброс до неприличия. «Превосходно, – сказал Костка, – я устрою вам бритье по первому классу».
Я не отказался от покровительства Костки и дал ему возможность отвести меня в маленькую цирюльню, где перед тремя зеркалами возвышались три огромных вращающихся кресла, и на двух из них, запрокинув головы, сидели мужчины с намыленными лицами. Две женщины в белых халатах склонялись над своими клиентами. Костка подошел к одной и что-то шепнул; женщина вытерла салфеткой бритву и, обернувшись назад, крикнула в глубь заведения; оттуда вышла девушка в белом халате и занялась покинутым в кресле мужчиной, тогда как женщина, с которой разговаривал Костка, поклонилась мне и жестом руки попросила сесть в пустое кресло. Распрощавшись с Косткой, я сел, откинул голову на подставленный подголовник, а поскольку, прожив достаточно долгую жизнь, не люблю глядеть на собственную физиономию, отвел глаза от расположенного напротив зеркала, поднял их кверху и стал блуждать ими по белому в разводах потолку.
Не оторвал я от него взора и тогда, когда почувствовал на шее пальцы парикмахерши, засовывавшие мне за воротник рубашки белую простыню. Потом парикмахерша чуть отошла, и я, прислушиваясь лишь к шорканью бритвы о кожаный точильный ремень, застыл в какой-то сладостной неподвижности, исполненной блаженного безучастия. Минутой позже я ощутил на лице пальцы, влажные и скользящие, легко растиравшие по моей коже мыльный крем, и вдруг осознал нечто странное и смешное: какая-то чужая женщина, которая мне столь же безразлична, как и я ей, нежно гладит меня. Затем парикмахерша стала взбивать мыльную пену кисточкой, и мне показалось, будто я вовсе не сижу в кресле, а витаю в белом, покрытом пятнами пространстве, упираясь в него взглядом. И тут я представил себя (ибо мысли и в минуты отдохновения не устают вести свои игры) беззащитной жертвой, отданной на произвол женщине, точившей бритву. А поскольку мое тело истаивало в пространстве и я ощущал лишь лицо, которого касались пальцы, я легко вообразил, что нежные руки парикмахерши держат (поворачивают, гладят) мою голову так, словно ничуть не связывают ее с телом, а воспринимают саму по себе – стало быть, острая бритва, ожидающая на подсобном столике, сможет разве что завершить эту полнейшую обособленность.
Затем прикосновения прекратились, я услышал, как парикмахерша отходит, как сейчас уже и вправду берет в руки бритву, и я подумал (ведь мысли продолжали свои игры), что не худо бы посмотреть, как выглядит держащая (возносящая) мою голову нежная моя убийца. Я оторвал взгляд от потолка и перевел его на зеркало. И ужаснулся: игра, которой я забавлялся, внезапно обрела невообразимо реальные черты; мне показалось, что женщину, склонившуюся надо мной в зеркале, я знаю.
Одной рукой она придерживала мочку моего уха, другой тщательно соскребала мыльную пену с моего лица; я смотрел на нее, и вдруг подлинность, минутой раньше с ужасом установленная, стала понемногу рассеиваться и теряться. Она наклонилась над умывальником, двумя пальцами сбросила с бритвы клок пены, выпрямилась и мягко повернула кресло; на миг наши взгляды встретились, и снова мне показалось, что это она! Разумеется, это лицо было несколько другим, будто принадлежало ее старшей сестре, было посеревшим, увядшим, слегка опавшим; но ведь прошло пятнадцать лет с тех пор, как я в последний раз видел ее! Эти годы наложили на ее истинное лицо обманчивую маску, но, по счастью, эта маска с двумя отверстиями, сквозь которые на меня снова глядят ее настоящие, поистине ее глаза, такие, какими я знал их.
А затем наступило дальнейшее запутывание следов: в цирюльню вошел новый клиент и сел за моей спиной на стул в ожидании своей очереди; вскоре, окликнув мою парикмахершу, стал нести что-то о чудесном лете, о бассейне, строившемся за городом; парикмахерша отвечала, я следил за ее голосом (больше, чем за словами, ничего, кстати, не значащими) и убеждался, что не узнаю этого голоса: он звучал резко, небрежно, развязно, почти грубо, это был совершенно чужой голос.
Она мыла мое лицо, прижимала к нему ладони, и я (вопреки голосу) снова начинал верить, что это она, что после пятнадцати лет снова чувствую на своем лице ее руки, что она снова гладит меня, гладит долго и нежно (я даже забывал, что это не ласки, а умывание); ее чужой голос все время что-то отвечал разболтавшемуся парню, но мне не хотелось верить голосу, хотелось скорее верить рукам, хотелось узнать ее по рукам; по степени нежности ее прикосновений я пытался угадать, она ли это и узнала ли она меня.
Она взяла полотенце, осушила мое лицо. Говорливый парень шумно смеялся остроте, которую сам же изрек, но я заметил, что моя парикмахерша не смеется – по-видимому, не очень-то и вслушивается в его болтовню. Это взволновало меня – в этом я усматривал доказательство, что она узнала меня и в душе растревожена. Я решил заговорить с ней, как только встану с кресла. Она вынула салфетку у меня из-за ворота. Я поднялся. Стал вытаскивать из нагрудного кармана пять крон. Ждал, когда снова встретятся наши взгляды, чтобы назвать ее по имени (парень без устали молол языком), но, безразлично отвернув в сторону голову, она быстро и по-деловому взяла пять крон – я вдруг показался себе безумцем, поверившим обманчивым призракам, и у меня не нашлось мужества заговорить с ней.
Странно взбудораженный, я покинул парикмахерскую; я знал лишь, что ничего не знаю и что это величайшая черствость души – потерять уверенность в подлинности лица, когда-то столь любимого.
Конечно, установить истину не составляло труда. Я поспешил в гостиницу (дорогой заметил на противоположном тротуаре старинного друга молодости, первую скрипку нашей капеллы с цимбалами, Ярослава, но, словно спасаясь от навязчивой и шумной музыки, быстро отвел взгляд) и из гостиницы позвонил Костке; он был еще в больнице.
– Скажите, пожалуйста, парикмахершу, которой вы поручили меня, зовут Люция Шебеткова?
– Теперь у нее другая фамилия, но это она. Откуда вы ее знаете? – спросил Костка.
– С бесконечно давних времен, – ответил я и, так и не поужинав, вышел из гостиницы (уже смеркалось): хотелось еще побродить.
Часть вторая. Гелена
Лягу сегодня рано, хоть и не знаю, усну ли, но лягу пораньше. Павел после обеда уехал в Братиславу, я завтра утренним самолетом лечу в Брно, а потом еще автобусом, Зденочка остается на два дня дома одна, но это ее не огорчает, к общению с нами она не очень-то и стремится. Павла боготворит, Павел – первый мужчина, которым она восхищается, да и он нашел к ней ключик, как находил его ко всем женщинам, как нашел и ко мне и по-прежнему еще находит, на этой неделе он снова стал относиться ко мне, как в давние годы, гладил по лицу и обещал, что ради меня остановится в Южной Моравии на обратном пути из Братиславы, сказал, что нам надо еще раз потолковать, может, и сам понял, что дальше так жить невозможно, может, хочет вернуться к тому, что было между нами прежде, но почему он понял это только сейчас, когда я узнала Людвика? Мне становится страшно, но я не смею печалиться, не смею, пусть мое имя ни в ком не отзывается печалью, эта фраза Фучика – моя заповедь, и мне абсолютно все равно, что эта заповедь теперь не в моде, может, я дура, но и те, что говорят мне об этом, не умнее, у них тоже свои заповеди и словечки, абсурдность, отчуждение, непонятно, почему я должна собственную глупость подменить чужой, нет, я не хочу свою жизнь разломить на две половины. Я хочу, чтобы моя жизнь была цельной от начала до конца, вот почему мне так пришелся по душе Людвик: когда я с ним, мне не нужно менять свои убеждения и вкусы, он обыкновенный, простой, веселый, ясный – то, что я люблю, что я всегда любила.
Я не стыжусь, что я такая, другой, чем я была и есть, быть не могу, до восемнадцати я только и знала, что монастырские запреты, туберкулез, два года санатория, затем два года наверстывала упущенное в школе, даже танцы были для меня недоступны, одно лишь упорядоченное бытие упорядоченных пльзеньчан и учеба, учеба, настоящая жизнь – книга за семью печатями, когда в сорок девятом я приехала в Прагу, мне вдруг открылось чудо, такое счастье, о каком никогда не забуду, и потому никогда не смогу исторгнуть из своей души Павла, хоть его уже не люблю, хоть он оскорбил меня, нет, это свыше моих сил, Павел – моя молодость, Прага, факультет, общежитие и, главное, ансамбль песни и танца имени Фучика, сейчас уже никто не знает, что это значило для нас, там я познакомилась с Павлом, он тенор, у меня был альт, мы выступали на сотнях концертов и подмостков, пели советские песни, наши песни о строительстве новой жизни и, конечно же, народные песни, их мы пели с особым увлечением, моравские песни так полюбились мне тогда, что я, пльзенчанка, чувствовала себя мораванкой, они стали лейтмотивом моей жизни, они сливаются во мне с той порой, с моей молодостью, с Павлом, отзываются во мне всякий раз, когда должно выйти солнце, – отзываются во мне и в эти дни.
А как я сблизилась с Павлом – об этом сейчас и рассказать никому не могла бы, наша история проста до банальности, отмечалась годовщина Освобождения, и на Староместской площади была большая манифестация, наш ансамбль тоже был там, мы всюду ходили вместе, маленькая горстка людей среди десятков тысяч, а на трибуне стояли наши и зарубежные политические деятели, было много выступлений и много аплодисментов, а потом к микрофону подошел Тольятти и по-итальянски приветствовал нас, и площадь ответила ему, как всегда, восторженными возгласами, аплодисментами, скандированием. Случайно в этой ужасной давке рядом со мной оказался Павел, я слышала, как в этот гул он тоже что-то выкрикивает, что-то другое, что-то свое, я поглядела на его губы и поняла, что он поет, нет, он скорее кричал, чем пел, он хотел, чтобы его услышали и присоединились к нему, пел он итальянскую революционную песню, она была в нашем репертуаре и в те годы пользовалась особой популярностью, «аванти пополо, а ла рискосса, бандьера росса, бандьера росса…»
В этом был он весь, ему всегда недостаточно было воздействовать только на разум человека, он хотел покорять и души, мне это казалось прекрасным – на пражской площади приветствовать итальянского рабочего вождя революционной итальянской песней, я мечтала увидеть Тольятти таким же растроганным, какой была я, и потому изо всей мочи стала подпевать Павлу, к нам присоединились другие, еще и еще, и вот уже пел весь наш хор, но гул на площади был таким мощным, а нас была горстка, человек пятьдесят, а на площади по меньшей мере тысяч пятьдесят, они совершенно заглушали нас, это была отчаянная схватка, пока мы пели первый куплет, нам думалось, мы не выдержим, сдадимся, но вдруг произошло чудо, в наше пение стали вливаться все новые и новые голоса, люди услышали нас, и песня исподволь начала высвобождаться из дикого гула площади, словно бабочка из огромного гудящего кокона. Наконец эта бабочка, наша песня, по крайней мере, несколько последних ее тактов, долетела до самой трибуны, а мы с жадным любопытством смотрели в лицо седоватого итальянца и были счастливы, когда нам показалось, что движением руки он отвечает на песню, и я была даже уверена, хотя из той дали ничего не могла разглядеть, что в его глазах стоят слезы.
И в этом восторге и умилении, не пойму даже как, я вдруг схватила Павла за руку, и он ответил мне на пожатие, а когда потом площадь утихла и к микрофону подошел кто-то другой, меня залил страх, что он отпустит мою руку, но он не отпустил, мы держались за руки до самого конца манифестации – не разжали их и потом, когда толпа разошлась и мы много часов подряд бродили по цветущей Праге.
Семью годами позже, когда Зденочке было уже пять, я никогда не забуду этого, он сказал мне, мы поженились не по любви, а подчиняясь партийной дисциплине, я знаю, что сказано это было в сердцах, что это ложь, что Павел женился на мне по любви и просто потом изменился, но все равно ужасно, что он мог сказать мне это, ведь именно он всегда уверял меня, что теперешняя любовь другая, она не бегство от людей, а поддержка в бою, мы так и жили ею, в полдень нам не хватало времени даже пообедать, съедим, бывало, на секретариате две сухие булки, а потом снова почти целый день не видимся, ждала я Павла обычно к полуночи, когда он возвращался с бесконечных шести-, восьмичасовых собраний, в свободное время я переписывала ему доклады, которые он готовил к самым разным конференциям и лекциям, он придавал им огромное значение, только я знаю, какое значение он придавал успеху своих политических выступлений, он сотни раз повторял в своих докладах, будто новый человек отличается от старого тем, что устраняет из своей жизни противоречия между личным и общественным, а спустя годы вдруг взял и попрекнул меня, что товарищи тогда вмешались в его личную жизнь.
Мы встречались почти два года, и меня понемногу охватывало нетерпение, в этом нет ничего удивительного, ни одна женщина не станет довольствоваться обычной студенческой связью. Павла же она вполне устраивала, он свыкся с ее удобной необязательностью, любой мужчина в большой мере эгоист, и дело женщины отстоять самое себя и свое женское назначение, к сожалению, Павел понимал это меньше других в ансамбле, прежде всего я имею в виду моих подруг, так вот они, договорившись с остальными, вызвали Павла в комитет, уж и не знаю, как они там его прорабатывали, никогда у нас с ним не заходила о том речь, но явно не церемонились, тогда ведь преобладала строгая мораль, быть может, с некоторым перебором, но, думается, лучше излишне строгая мораль, чем нынешняя распущенность. Павел долго избегал меня, я боялась, что все испортила, я просто отчаялась, хотела руки на себя наложить, а потом он пришел ко мне, у меня подкашивались ноги, он попросил у меня прощения и в подарок дал мне брелок с изображением Кремля, самую свою дорогую памятную вещицу, я никогда не сниму его, это не только память о Павле, а гораздо большее, и я расплакалась от счастья, а через две недели мы сыграли свадьбу, на ней был весь ансамбль, продолжалась она почти сутки, на ней пели и танцевали, а я говорила Павлу, что, предай мы друг друга, мы предали бы и всех тех, кто справляет с нами свадьбу, предали бы и манифестацию на Староместской площади, и Тольятти, сегодня мне просто смешно, сколько всего мы потом, в общем-то, предали…
Не решу никак, что завтра надеть, пожалуй, розовую кофточку и болонью, в плаще фигура намного лучше, теперь я уже не такая стройная, что поделаешь, возможно, за морщины возраст вознаградил меня другим очарованием, какого нет у молодой девчонки, очарованием прожитой судьбы, во всяком случае, такой меня видит Индра, до чего ж он был разочарован, бедняга, узнав, что я лечу утром, а ему придется ехать одному, он счастлив, когда бывает со мной наедине, любит покрасоваться в своей девятнадцатилетней взрослости, наверняка жал бы при мне со скоростью сто тридцать в час, лишь бы я восхищалась им, бедный гадкий утенок, хотя, впрочем, первоклассный техник и водитель, редакторы с немалой охотой берут его «на местность» для небольших репортажей, и, в общем-то, что греха таить, приятно сознавать, что кому-то хорошо со мной, в последнее время на радио не очень меня жалуют, болтают, что я придира, фанатичка, догматик, партийная ищейка и неведомо еще кто, только я никогда не стану стыдиться, что люблю партию и ради нее жертвую всем своим свободным временем. Что, впрочем, осталось у меня в жизни? У Павла другие женщины, а я теперь и не пытаюсь узнать, кто они, дочка обожает отца, работа моя вот уже лет десять беспросветно однообразна, репортажи, интервью, совещания о выполнении плана, о коровниках, доярках, домашнее хозяйство – такая же безнадега, лишь одна партия никогда ни в чем не провинилась передо мной, и я перед ней ни разу не провинилась, даже в те минуты, когда чуть ли не все хотели покинуть ее, в пятьдесят шестом, когда открылись сталинские преступления, люди с ума посходили, все оплевывали, наша печать, говорили они, бессовестно врет, магазины, что были национализированы, не работают, культура падает, кооперативы в деревнях незачем было организовывать, Советский Союз – страна неволи, а наихудшим злом было то, что так говорили и коммунисты на своих партийных собраниях, говорил так и Павел, и ему опять же все аплодировали, Павлу всегда аплодируют, с самого детства аплодируют, единственный сынок, его мать до сих пор не ложится спать без его фотографий, чудо-ребенок, но мужчина самый заурядный, не курит, не пьет, а вот без аплодисментов жить не может, это его алкоголь и никотин, и, конечно, тогда он обрадовался, что снова может пронимать людей до самого сердца, он говорил о чудовищных казнях без вины осужденных с таким вдохновением, что люди чуть не плакали, я чувствовала, как он упивается своим негодованием, и ненавидела его.
Партия, к счастью, дала по рукам истерикам, они притихли, притих и Павел, должность институтского доцента, преподавателя марксизма была слишком удобной, чтобы рисковать ею, но что-то здесь все же продолжало витать в воздухе, зародыш апатии, недоверия, скепсиса, зародыш, который исподволь и тайком набирался сил. Я не знала, как бороться с этим, разве приросла к партии еще больше, чем прежде, будто партия была живым существом, человеком, и что удивительно – скорей женщиной, чем мужчиной, женщиной мудрой, с какой можно разговаривать совершенно доверительно, особенно когда уже ни с кем ни о чем нельзя говорить, не только с Павлом, другие люди тоже меня недолюбливают, а это выяснилось, когда нам пришлось разбирать ту скандальную историю, наш редактор, человек женатый, связался с монтажисткой из нашего отдела, девицей молодой, незамужней, легкомысленной и циничной, и жена редактора в отчаянии обратилась тогда в партийный комитет за помощью, мы разбирали дело много часов подряд, приглашали для разговора всех поочередно, жену, монтажистку и свидетелей-сослуживцев, стремясь обсудить вопрос со всех сторон и соблюсти объективность, редактор получил партийный выговор, монтажистке вынесли предупреждение, и обоих обязали дать слово комитету, что они расстанутся. К сожалению, слова – одно, а дело – другое, они дали обещание, лишь бы нас успокоить, а сами продолжали встречаться, однако на лжи далеко не уедешь, вскоре мы узнали об этом, я заняла очень твердую позицию, предложила исключить редактора из партии за сознательный обман и двурушничество, какой же это коммунист, если он лжет партии, я ненавижу ложь, но мое предложение не поддержали, редактор получил всего лишь выговор, зато монтажистке пришлось с работы уйти.
Сослуживцы отплатили мне хуже некуда, сделали из меня сущую стерву, гадину, развернули настоящую кампанию, устроили слежку за моей интимной жизнью, а это была моя ахиллесова пята, женщина не может жить без эмоций, она просто перестает быть женщиной, к чему было отпираться, я искала любви в другом месте, раз потеряла ее дома, хотя искала безуспешно, и вот однажды на открытом партсобрании все скопом навалились на меня, заявили, что я ханжа, что клеймлю позором других, якобы разрушающих брачные узы, призываю исключить их из партии, выбросить, уничтожить, а сама, мол, изменяю мужу, если только представляется случай, так говорили на собрании, но за спиной болтали обо мне еще более дикие вещи, на народе я, дескать, прикидываюсь монашкой, а в личной жизни – настоящая шлюха, они словно не могли взять в толк: я строга к людям именно потому, что по своему опыту знаю, каково быть несчастной в браке, не из ненависти к ним я строга, а из любви, из любви к самой любви, из любви к их дому, к их детям, потому что хочу им помочь, ведь у меня тоже ребенок и дом, и я так дорожу этим!
А там кто знает, может, они и правы, может, в самом деле я злюка и людям действительно надо предоставить свободу, никто не смеет лезть в их интимную жизнь, может, мы и вправду весь этот наш мир придумали неудачно и я действительно ненавистный комиссар, который вмешивается в дела, его не касающиеся, но я такая и не могу поступать иначе, чем думаю, теперь уже поздно, я всегда считала, что человеческое существо неделимо, что только мещанин лицемерно раздваивается на существо общественное и существо частное, это мое убеждение, и в согласии с ним я жила, живу так и сейчас.
А в том, что была, возможно, злобной – признаюсь чистосердечно, я теперь ненавижу молодых девиц, этих безжалостных шмакодявок, без толики сочувствия к женщине постарше, ведь им тоже когда-нибудь будет тридцать, и тридцать пять, и сорок, и пусть мне никто не говорит, что эта девица любила его, ей ли знать, что такое любовь, без лишних разговоров она переспит с каждым, для нее нет ни преград, ни стыда, меня ужасно коробит, когда кто-то сравнивает меня с такими девицами лишь потому, что я, уже замужняя женщина, была близка с другими мужчинами. Но ведь я всегда искала любви, и, если ошибалась и не находила ее там, где искала, я с отвращением отворачивалась и уходила прочь, шла за счастьем к иным берегам, хотя знаю, как было бы просто забыть свой девический сон о любви, начисто забыть о нем, переступить границу и оказаться в царстве странной свободы, где нет ни стыда, ни препятствий, ни морали, в царстве редкостно гнусной свободы, где все дозволено, где человеку достаточно лишь прислушаться, а не бьется ли в его утробе секс, это неуемное животное.
И еще кое-что я знаю: переступи я эту границу, я потеряла бы самое себя, стала бы кем-то другим, неведомо кем, и меня приводит в ужас эта возможность, возможность этой чудовищной перемены, и потому я ищу любви, отчаянно ищу любви, в которую могла бы уйти такой, какая я есть, со своими устаревшими снами и идеалами, и не хочу, чтобы жизнь моя разломилась надвое, хочу, чтобы она оставалась цельной от начала до конца, и потому я была так околдована, когда узнала тебя, Людвик, Людвик…
Впрочем, это было ужасно смешно, когда я впервые вошла к нему в кабинет, он не произвел на меня особого впечатления, я с ходу, без всякой робости выпалила, какая информация могла бы заинтересовать меня, каким представляю себе свой радиофельетон, но стоило ему заговорить со мной, как я вдруг почувствовала, что сбиваюсь, болтаю всякую чушь, говорю глупо, а он, заметив мою растерянность, свернул разговор на банальные темы, замужем ли я, есть ли у меня дети, где по обыкновению провожу отпуск, и еще сказал, что выгляжу я молодо и что красива, он хотел помочь мне справиться с моим волнением, как это мило с его стороны, я знавала стольких фанфаронов, которые умели разве что повыставляться, хотя на деле его мизинца не стоили, Павел, например, говорил бы только о себе, но самым комичным во всей истории было то, что я проторчала у него битый час и ушла, так и не узнав для себя ничего нового, а потом корпела над своим фельетоном – ну никак не получался, может, я была даже рада, что ничего не получается, по крайней мере, у меня нашелся предлог позвонить ему и спросить, не хотел бы он прочесть то, что я написала. Встретились мы в кафе, мой жалкий фельетон занимал четыре страницы, он прочел его, вежливо улыбнулся и сказал, что фельетон превосходен, однако с самого начала дал мне понять, что я интересна ему как женщина, а не как редактор, я и не знала, радоваться мне или обижаться, но он был такой милый, мы с полуслова понимали друг друга, он совсем не изнеженный интеллектуал, какие мне противны, нет, у него за плечами богатый жизненный опыт, он и на рудниках работал, я сказала ему, что именно таких людей я люблю, людей горьковской судьбы, но больше всего меня ошеломило, что он из Южной Моравии, что даже играл в капелле с цимбалами, я своим ушам не могла поверить, я услышала лейтмотив всей моей жизни, видела, как из дальнего далека возвращается ко мне молодость, и чувствовала, как Людвик покоряет меня.
Он спросил, что я поделываю днями, я рассказала ему, а он ответил мне на это, неотступно слышу его голос, полушутливый, полусочувствующий, плохо живете, пани Гелена, причем звучало это так, что, дескать, все должно измениться, что я должна жить иначе, что должна больше ощущать радость жизни. Я сказала ему, что против этого не возражала бы, что я всегда была поклонницей радости, что для меня нет ничего отвратительнее, чем все эти новомодные печали и хандра, а он заметил, что это вовсе не важно, чему я поклоняюсь, что поклонники радости по большей части бывают самыми грустными людьми на свете, о, как вы правы, хотелось мне крикнуть, а потом он сказал прямо, без обиняков, что завтра в четыре встретит меня после работы и мы вместе поедем куда-нибудь на природу, под Прагу. Я отказывалась, я все-таки замужняя женщина, и мне не просто поехать с чужим мужчиной в лес, но Людвик ответил на мои возражения шуткой, он, дескать, никакой не мужчина, а всего-навсего ученый, но при этом он погрустнел, да, погрустнел! Я заметила это, и меня бросило в жар от счастья, что он тянется ко мне, и тянется тем сильней, чем чаще я напоминаю ему, что я замужем, и таким образом отдаляюсь от него, а человек всегда больше всего мечтает о том, что ускользает от него, я с жадностью пила эту грусть с его лица, поняв в ту минуту, что он влюбился в меня.
А на следующий день с одной стороны шумела Влтава, с другой – поднимался отвесный лес, все было романтично, я люблю романтику, я вела себя довольно безрассудно, как, пожалуй, не к лицу матери двенадцатилетней дочери, я смеялась, прыгала, потом взяла его за руку и заставила пробежаться со мной, у меня стучало сердце, мы стояли лицом к лицу почти вплотную, и Людвик чуть-чуть склонился и легонько коснулся меня губами, я вырвалась и опять схватила его за руку, и мы снова побежали, у меня небольшой порок сердца, оно начинает сильно биться даже при малейшем напряжении, стоит мне взбежать на один лестничный марш, и потому я скоро замедлила шаг, дыхание понемногу успокоилось, восстановилось, и я вдруг тихонько затянула первые два такта моей самой любимой песни. Ой, светило солнышко да над нашим садом… А когда я почувствовала, что он понимает меня, я запела громче, мне совсем не было стыдно, я чувствовала, как с меня спадают годы, заботы, печали, тысячи серых чешуек, а потом мы сидели в маленьком трактирчике под Збраславом, ели хлеб и колбасу, все было совсем обычно и просто, ворчливый трактирщик, скатерть в пятнах, и все-таки это были восхитительные минуты, я сказала Людвику, знает ли он, что через три дня я еду в Моравию писать репортаж о «Коннице королей»[1]. Он спросил, в какой город, и, когда я ему ответила, сказал, что как раз там он родился, и снова такое совпадение, оно просто ошеломило меня, а Людвик добавил: освобожусь и поеду туда с вами.
Я испугалась, вспомнила о Павле, о той искорке надежды, которую он высек передо мной, я не отношусь цинично к своему браку, я готова сделать все, чтобы сохранить его, хотя бы ради Зденочки, но главное – зачем лгать – ради себя, ради всего, что было, сохранить как память о своей молодости, но я не нашла в себе силы сказать Людвику «нет», я не нашла этой силы, а теперь жребий уже брошен, Зденочка спит, я вся обмираю от страха, а Людвик уже в Моравии и завтра будет ждать меня на автобусной остановке.
Часть третья. Людвик
Да, я вышел побродить. Остановившись на мосту через Мораву, я заскользил взглядом вдоль ее течения. Как безобразна Морава (река до того коричневая, словно течет в ней скорее жидкая глина, чем вода), и как уныло ее побережье: улица из пяти двухэтажных городских домов, стоявших порознь, каждый сам по себе, странно и широко; видимо, они должны были стать основой набережной, пышность которой впоследствии так и не осуществилась; на двух из них изображены лепные керамические ангелочки и разные сценки, ныне совсем облезлые: ангел без крыла, а сценки, местами оголенные до кирпича, утратили свой смысл. Затем улица одиноких домов кончается, а дальше – одни железные мачты высоковольтной линии, трава, на ней несколько припоздавших гусей, и поля, поля без конца и без края, уходящие в никуда, поля, в которых теряется глинистая жижа реки Моравы.
У городов есть известное свойство отражаться друг в друге как в зеркале, и в этом пейзаже (знакомом с детства, но ничего мне не говорившем тогда) я увидел вдруг Остраву, этот шахтерский город, подобный огромной временной ночлежке, полной заброшенных домов и грязных улиц, ведущих в пустоту. Я был застигнут врасплох; стоял на мосту, как человек, нежданно попавший под пулеметный обстрел. Не хотелось дольше смотреть на убогую улицу пяти отшельнических домов, ибо не хотелось думать об Остраве. Я повернулся и побрел берегом против течения.
Передо мной была дорожка, окаймленная с одной стороны густым рядом тополей: узкая аллея, откуда видно все как на ладони. Справа от нее спускался к водной глади берег, поросший сорной травой, а дальше на противоположном берегу реки – склады, мастерские и дворы мелких фабрик; слева от дороги тянулась длинная свалка, а за ней просторные поля, прошитые железными конструкциями мачт с электрическими проводами. Возвышаясь над всем этим, я шел по узкой аллее, словно шагал по длинным мосткам над водами – эта местность навевала сравнение с половодьем главным образом потому, что обдавала холодом, и еще потому, что казалось, будто в любой миг я могу сорваться и упасть. Причем я сознавал, что эта особая иллюзорность местности не более как сколок с того, о чем я после встречи с Люцией не хотел вспоминать; словно бы подавляемые воспоминания переселились во все, что сейчас окружало меня, в пустоту полей, и дворов, и складов, в мутность реки и в вездесущий холод, который связывал воедино весь этот пейзаж. Я понял, что не уйду от воспоминаний, что они плотно обступили меня.
О том, как я пришел к своему первому жизненному краху (а с его недоброй помощью и к Люции), можно было бы рассказывать тоном легковесным и даже с некоторой долей занимательности: всему виной была моя злополучная склонность к глупым шуткам и Маркетино злополучное неумение понять шутку. Маркета принадлежала к числу женщин, все воспринимающих всерьез (тут она в полной мере сливалась с самим духом эпохи) и уже изначально наделенных парками способностью верить, этим сильнейшим свойством их натуры.
Тем самым, конечно, я не хочу, прибегая к эвфемизму, намекать, что Маркета, возможно, была глупа; никоим образом; она была достаточно одарена, умна и к тому же настолько молода (училась на первом курсе, и было ей девятнадцать), что наивная доверчивость относилась скорей к ее прелестям, нежели к недостаткам, тем более что она сочеталась с бесспорным внешним очарованием. Мы все на факультете были влюблены в Маркету и в разной степени пытались завлечь ее в свои сети, что, однако, не мешало нам (по крайней мере, некоторым из нас) легко и незлобиво подтрунивать над ней.
Да, шутка меньше всего сочеталась с Маркетой, а с духом времени и подавно. Шел первый год после Февраля сорок восьмого, началась новая жизнь, и вправду совершенно новая, и лицо этой новой жизни, каким оно запечатлелось в моей памяти, было напряженно-серьезным, причем странным в этой серьезности казалось то, что лицо не хмурилось, а сохраняло подобие улыбки; да, те годы заявляли о себе как о самых радостных из всех прошедших, и каждого, кто не радовался, тут же начинали подозревать в том, что победа рабочего класса огорчает его или (ничуть не меньшее прегрешение) что он индивидуалистически погружен в свои сокровенные печали.
У меня тогда не было особых сокровенных печалей, напротив, я обладал изрядным чувством юмора, и все-таки нельзя сказать, что радостному лику эпохи я соответствовал безоговорочно, ибо шутки мои были слишком несерьезны, а радость эпохи не любила ерничества и иронии; это была радость, как я сказал, серьезная, гордо величающая себя «историческим оптимизмом класса-победителя», радость аскетическая и торжественная, просто-напросто Радость.
Помню, как на факультете мы объединились тогда в так называемые академические кружки, которые часто собирались с целью провести общественную критику и самокритику всех своих членов, а затем на этом основании составить на каждого характеристику. У меня, как и у любого коммуниста, тогда было множество обязанностей (я занимал высокий пост в Студенческом союзе), а если еще учесть, что был и неплохим студентом, такая характеристика не могла угрожать мне ничем особенным. Однако за фразами, в которых отдавалось должное моей активности, моему положительному отношению к государству, работе и глубокому знанию марксистских основ, зачастую следовало упоминание о свойственных мне «остатках индивидуализма». Такая оговорка была не очень опасной, ибо считалось хорошим тоном вносить и в самую безупречную характеристику иное критическое замечание; одного попрекнуть «вялым интересом к революционной теории», другого – «холодным отношением к людям», третьего – неразвитой «бдительностью и настороженностью», а еще кого-то, допустим, «плохим отношением к женщине»; конечно, если к одной оговорке добавлялась еще и другая, если человек оказывался замешанным в каком-либо конфликте или становился жертвой подозрений и нападок, такие «остатки индивидуализма» или же «плохое отношение к женщине» могли стать семенами гибели. И особая фатальность была в том, что такое семя таилось в листке по учету кадров каждого, да, буквально каждого из нас.
Случалось (скорее из спортивного интереса, нежели из всамделишных опасений), я защищался против обвинений в индивидуализме и просил товарищей обосновать, почему я индивидуалист. Особо конкретных тому доказательств у них не находилось. Они говорили: «Потому что ты так себя ведешь». – «Как я себя веду?» – спрашивал я. «Ты все время как-то странно улыбаешься». – «Ну и что? Я радуюсь!» – «Нет, ты улыбаешься, как будто про себя о чем-то думаешь».
Когда товарищи пришли к выводу, что мое поведение и улыбки не иначе как интеллигентские (еще один известный уничижительный нюанс того времени), я поверил им в конце концов, ибо не мог представить себе (это было бы просто верхом дерзновенности), чтобы все вокруг ошибались, ошибалась сама Революция, дух времени, тогда как я, индивид, прав. Я начал следить за своими улыбками и в скором времени почувствовал в себе небольшую брешь, приоткрывшуюся между тем, кем я был, и тем, кем я (сообразно духу времени) должен был быть и силился быть.
Итак, кто же я был на самом деле? Хочу ответить на этот вопрос совершенно честно: я был человеком с несколькими лицами.
И лиц становилось все больше. Примерно за месяц до каникул я стал сближаться с Маркетой (она училась на первом, я на втором курсе), стремясь поразить ее таким же дурацким способом, к какому прибегают двадцатилетние юнцы всех времен: я надевал маску, я изображал из себя более взрослого (духом и опытом), чем был, я держался отстраненно, делая вид, что взираю на мир с высоты и что на кожу мою надета еще одна, невидимая и пуленепробиваемая. Я полагал (кстати, правильно), что пошучивание – вполне доступное выражение отстранения, и если я всегда любил пошутить, то с Маркетой шутил особенно усердно, нарочито и утомительно.
Но кто все-таки я был на самом деле? Я должен еще раз повторить: я был человеком с несколькими лицами.
Я был серьезным, восторженным и убежденным на собраниях, придирчивым и язвительным среди самых близких товарищей; я был циничен и судорожно остроумен с Маркетой; а оставаясь наедине с собой (и думая о Маркете), становился беспомощным и по-школярски взволнованным.
Было ли последнее лицо тем истинным?
Нет. Все эти лица были истинными: не было у меня, как у ханжи, лица истинного и лица ложного. У меня было несколько лиц, ибо я был молод и не знал сам, кто я и кем хочу быть. (Однако несоразмерность между всеми теми лицами смущала меня, целиком я не сросся ни с одним из них и двигался вслед за ними неуклюже и вслепую.)
Психологический и физиологический механизм любви настолько сложен, что в определенную пору жизни молодой человек вынужден сосредоточиться почти исключительно на его простом постижении, тогда как собственное содержание любви – женщина, которую он любит, – при этом ускользает от него (подобно тому, как, допустим, молодой скрипач не сможет достаточно хорошо сосредоточиться на содержании сочинения, пока не овладеет техникой игры настолько, чтобы во время исполнения вообще не думать о ней). Если я говорил о своей школярской взволнованности при раздумьях о Маркете, то должен следом добавить, что проистекало это не столь из-за моей влюбленности, сколь из-за моей неловкости и неуверенности – их тяжесть я постоянно испытывал, и она стала владеть моими чувствами и мыслями в гораздо большей степени, чем сама Маркета.
Тяжесть растерянности и неловкости я усугублял еще и тем, что все время выламывался перед Маркетой: норовил переспорить ее или прямо высмеивал ее взгляды, что не составляло особого труда, ибо при всей смышлености (и красоте, которая – как любая красота – внушала окружающим ощущение мнимой недоступности) эта девушка была доверительно простодушной; она никогда не умела заглядывать за предмет и видела лишь предмет как таковой; она превосходно разбиралась в ботанике, но, случалось, не понимала анекдота, рассказанного ей товарищами; она давала увлечь себя всеми восторгами эпохи, но в минуту, когда оказывалась свидетелем какого-либо политического начинания, совершенного по принципу «цель оправдывает средства», становилась такой же непонятливой, как в случае с рассказанным анекдотом, вот поэтому товарищи и рассудили, что ей нужно подкрепить свой энтузиазм знаниями стратегии и тактики революционного движения и с этой целью на каникулах пройти двухнедельные партийные курсы.
Эти ее занятия для меня были как нельзя более некстати: именно в те две недели я задумал побыть с Маркетой в Праге и довести наши отношения (пока еще ограничивавшиеся прогулками, разговорами и немногими поцелуями) до определенного конца; кроме этих двух недель, времени у меня не было (следующие четыре недели каникул я рассчитывал провести на сельскохозяйственных работах, а последние две – у матери в Моравии), и, конечно, я с болезненной ревностью воспринял то, что Маркета не разделяла моей грусти, приняла занятия как должное, более того – сказала, что ждет их с нетерпением.
С занятий (проходили они в каком-то замке в центре Чехии) Маркета прислала мне письмо, которое было таким же, как и она сама: исполненным искреннего согласия со всем, чем она жила, все ей нравилось: и утренняя пятнадцатиминутная зарядка, и доклады, и дискуссии, и песни, которые там пели; она писала, что у них царит «здоровый дух», а от усердия еще добавила свои соображения о том, что революция на Западе не заставит себя долго ждать.
В конечном счете я соглашался со всем, что утверждала Маркета, верил даже в близкую революцию в Западной Европе; лишь с одним я не мог согласиться: с тем, что она довольна и счастлива, когда мне без нее так грустно. И потому я купил открытку и (чтобы побольнее ранить ее, оглоушить и сбить с толку) написал: «Оптимизм – опиум для народа! Здоровый дух попахивает глупостью! Да здравствует Троцкий! Людвик».
На мою провокационную открытку Маркета ответила коротким письмецом банального содержания, а на последующие мои послания, которыми я в течение каникул заваливал ее, не отвечала. Я торчал где-то на Шумаве, сгребал сено с университетской бригадой и несказанно грустил из-за молчания Маркеты. Писал ей оттуда чуть не каждый день, письма мои были полны умоляющей и меланхоличной влюбленности; я просил ее провести хотя бы последние две недели каникул вместе, я был готов не ездить домой, не видеть своей одинокой матери – лишь бы махнуть куда угодно к Маркете; и все это не только потому, что любил ее, но прежде всего потому, что она была единственная женщина на моем горизонте, а положение парня без девушки мне представлялось непереносимым. Но Маркета на мои письма не отвечала.
Я не понимал, что происходит. Я приехал в августе в Прагу, и мне посчастливилось застать ее дома. Мы пошли вместе на привычную прогулку вдоль Влтавы и на остров – Цисаржский луг (на этот грустный луг с тополями и пустыми площадками), и Маркета утверждала, что между нами ничего не изменилось, да и держала она себя соответствующим образом, однако именно эта судорожно неподвижная похожесть (похожесть поцелуев, похожесть разговора, похожесть улыбки) была удручающей. Когда я попросил Маркету о следующей встрече, она сказала, чтобы я позвонил ей, а уж тогда, дескать, мы договоримся.
Я позвонил; чужой женский голос сообщил мне, что Маркета уехала из Праги.
Я страдал, как только может страдать двадцатилетний парень, если у него нет женщины; познавший физическую любовь, может, раз-другой, причем бегло и плохо, и мысленно не перестающий заниматься ею, такой парень еще достаточно робок. Дни стояли невыносимо долгие и пустые; я не мог читать, не мог работать, по три раза на дню ходил в кино на все дневные и вечерние сеансы, без разбору, лишь бы убить время, лишь бы как-то заглушить ухающий совиный голос, который непрерывно издавало мое нутро. Маркета была убеждена (благодаря моему усердному бахвальству), что мне едва ли не наскучили женщины, а я меж тем не осмеливался окликнуть шагавших по улице девушек, чьи красивые ноги терзали мою душу.
Поэтому я даже обрадовался, когда наконец пришел сентябрь, вместе с ним – занятия, а еще несколькими днями раньше началась работа в Студенческом союзе, где у меня была отдельная комната и множество разнообразных обязанностей. Однако уже на второй день меня вызвали по телефону в партийный комитет. С этого момента я помню все досконально: был солнечный день, я вышел из здания Студенческого союза с чувством, что печаль, которой я был переполнен все каникулы, медленно покидает меня. Я подошел к комитету с приятным любопытством; позвонил – дверь открыл его председатель, высокий молодой человек с узким лицом, светлыми волосами и ледяным голубым взором. Я сказал «честь труду», он же, не ответив на приветствие, обронил: «Проходи дальше, там тебя ждут». В конце коридора, в последней комнате, меня действительно ждали три члена партийного студенческого комитета. Они предложили мне сесть, я сел и сразу же смекнул, что происходит неладное. Все три товарища, которых я хорошо знал и с которыми обычно весело балагурил, на сей раз напускали на себя вид неприступный; хоть они и обращались ко мне на «ты» (как полагается между товарищами), но это «тыканье» было не товарищеским, а официальным и угрожающим. (Признаюсь, с тех пор обращение на «ты» вызывает у меня отвращение; «ты» должно выражать доверительную близость между людьми, но если они взаимно чужие, такое обращение приобретает обратное значение и выражает прежде всего грубость: мир, в котором люди повсеместно «тыкают» друг другу, есть мир не всеобщей дружбы, а всеобщего неуважения.)
Итак, я сидел перед тремя «тыкающими» студентами, которые задали мне первый вопрос: знаю ли я Маркету. Я сказал – знаю. Они спросили, переписывался ли я с ней. Я ответил, переписывался. Они спросили, не помню ли я, что писал ей. Я сказал, не помню, однако в ту же минуту открытка с провокационным текстом всплыла перед моими глазами, и я начал понимать, о чем идет речь. Ты не можешь вспомнить? – спросили меня. Нет, ответил я. А что тебе писала Маркета? Я пожал плечами, дабы создать впечатление, что писала она об интимных вещах, о которых говорить не могу. Она писала тебе что-нибудь о политзанятиях? – спросили. Да, писала, сказал я. Что же она тебе писала? Что ей там нравится, ответил я. А что еще? Что там хорошие доклады и хороший коллектив, добавил я. Она писала тебе, что на политзанятиях царит здоровый дух? Да, сказал я, пожалуй, писала что-то вроде того. А может, писала тебе, что постепенно узнает, что такое сила оптимизма? – напирали они. Писала, сказал я. Ну и что ты думаешь об оптимизме? – спросили они. Об оптимизме? А что я должен о нем думать? – в сбою очередь задал вопрос я. Считаешь ты сам себя оптимистом? – продолжали они. Считаю, ответил я робко. Я люблю пошутить, я вполне веселый человек, стремился я смягчить тон допроса. Веселый может быть и нигилистом, сказал один из них, он способен, например, потешаться над людьми, которые страдают. Веселый бывает и циником, заключил он. Полагаешь, что можно построить социализм без оптимизма? – спросил меня другой. Нет, ответил я. Так ты, стало быть, против того, чтобы у нас был построен социализм, сказал третий. Как так? – защищался я. Потому что для тебя оптимизм – опиум для народа, наступали они. Как так, опиум для народа? – все еще отбивался я. Не выкручивайся, ты так и написал. Маркс считал религию опиумом для народа, а для тебя наш оптимизм является опиумом! Ты так и написал Маркете. Любопытно, как бы к этому отнеслись наши рабочие и ударники, которые перевыполняют планы, знай они, что их оптимизм – опиум, тут же подхватил другой. А третий добавил: для троцкиста созидательный оптимизм – всегда лишь опиум. А ты троцкист. Ради всего святого, откуда вы это взяли? Ты написал так или не написал? Возможно, что-то подобное я и написал шутки ради, ведь тому уже два месяца, я не помню. Мы можем тебе напомнить об этом, сказали они и прочли мне мою открытку: «Оптимизм – опиум для народа! Здоровый дух попахивает глупостью! Да здравствует Троцкий! Людвик». В маленькой комнатке партийного комитета фразы звучали так страшно, что в ту минуту я испугался их и почувствовал, что в них сокрыта такая разрушительная сила, какой мне не одолеть. Товарищи, это была шутка, сказал я и понял, что здесь мне никто не поверит. У вас это вызывает смех? – спросил один из товарищей двух других. Те покачали головами. Знали бы вы Маркету! – вскричал я. Мы знаем ее, ответили мне. Так вот, сказал я, Маркета все принимает всерьез, мы всегда немножко подшучивали над ней и старались чем-то ее ошеломить. Занятно, сказал один из товарищей, по дальнейшим твоим письмам нам не показалось, что Маркету ты не принимаешь всерьез. Вы что, читали все мои письма к Маркете? Выходит, если Маркета все принимает всерьез, взял слово другой, ты решил над ней подшутить. Но скажи нам, что именно она принимает всерьез? Допустим, это партия, оптимизм, дисциплина, не так ли? А все то, к чему она относится серьезно, у тебя вызывает смех. Товарищи, поймите, взмолился я, да я и не помню, как это писал, писал наспех, просто несколько таких шуточных фраз, я даже не думал о том, что пишу, разумей я под этим что-то плохое, я бы не послал открытку на курсы. Пожалуй, нет разницы, как ты это писал. Писал ли ты быстро или медленно, на коленях или на столе, ты мог написать лишь то, что сидит в тебе. Ничего другого написать ты не мог. Возможно, поразмысли ты над этим чуть больше, ты бы такого не написал. Такое ты написал без притворства. Так, по крайней мере, мы знаем, кто ты есть. Так, по крайней мере, мы знаем, у тебя много лиц: одно лицо для партии, другое – для прочего. Я почувствовал, что моя защита лишилась каких бы то ни было аргументов. Я повторял одно и то же: что это была шутка, что это ничего не значащие слова, что их подоплекой было лишь мое настроение и тому подобное. Они не приняли моих возражений. Сказали, что я написал свои фразы на открытке, что любой мог прочесть их, что эти слова приобрели объективное значение и что к ним не было приписано ни одного замечания о моем настроении. Затем спросили, что я читал из Троцкого. Я сказал, ничего. Спросили, кто все же дал мне эти книги. Я сказал, никто. Спросили, с какими троцкистами я встречался. Я сказал, ни с какими. Они сказали, что меня безотлагательно снимают с должности в Студенческом союзе, и попросили отдать ключ от помещения. Он был у меня в кармане, я отдал его. Затем сказали, что моим делом займется первичная партийная организация естественного факультета. Они встали, глядя мимо меня. Я сказал «честь труду» и удалился.
Чуть позже я вспомнил, что в моей комнате в Студенческом союзе остались кое-какие личные вещи. Я никогда не обладал особым пристрастием к порядку, и потому в ящике письменного стола среди разных бумаг валялись мои носки, а в шкафу среди документов – нарезанная ломтями ромовая баба, которую прислала мне из дому мама. И хотя минуту назад в парткоме я отдал ключ, дежурный по первому этажу, зная меня, дал мне казенный, висевший на деревянной доске среди прочих ключей; помню все до мельчайших подробностей: ключ от моей комнаты был привязан толстой пеньковой бечевкой к маленькой деревянной дощечке, на которой белой краской был написан номер моей комнаты. Итак, этим ключом я отомкнул дверь и сел к письменному столу; открыл ящик и стал вытаскивать из него свои вещи; делал я это медленно и рассеянно, пытаясь в эту короткую минуту относительного спокойствия поразмыслить, что со мной приключилось и что мне делать.
Прошло немного времени, и открылась дверь. В ней стояли те же три товарища из комитета. На сей раз они уже не выглядели холодно и замкнуто. На сей раз голоса у них были негодующие и громкие. Особенно ярился самый маленький из них, «специалист» по кадрам. Он накинулся на меня – каким образом я сюда вообще попал. По какому праву. Спросил, не хочу ли я, чтобы он велел полиции выпроводить меня. Чего, дескать, я тут копаюсь в столе. Я сказал, что пришел за ромовой бабой и за носками. Он заявил, что у меня нет ни малейшего права ходить сюда, будь у меня здесь даже полный шкаф носков. Затем он подошел к ящику и самым тщательным образом просмотрел бумажку за бумажкой, тетрадь за тетрадью. В самом деле, это были мои личные вещи – в конце концов он позволил мне у него на глазах положить их в чемоданчик. Сунул я туда и носки, мятые и грязные, положил туда и бабу, которая стояла в шкафу на замасленной, усыпанной крошками бумаге. Они следили за каждым моим движением. Я вышел из комнаты с чемоданчиком, и на прощание кадровик сказал мне, чтобы ноги моей больше здесь не было.
Как только я очутился вне досягаемости парткомовских товарищей и неопровержимой логики их допроса, мне стало казаться, что я невиновен, что в моих сентенциях нет ничего дурного и что надо обратиться к кому-нибудь, кто хорошо знает Маркету, кому я смогу довериться и кто поймет, что вся эта скандальная история не стоит выеденного яйца. Я разыскал одного студента с нашего факультета, коммуниста, и изложил ему суть дела. В ответ он сказал, что в райкоме сидят изрядные ханжи, не понимающие шуток, и что он, зная Маркету, вполне может представить себе, как все происходило. Затем посоветовал пойти к Земанеку, который в этом году будет партийным секретарем нашего факультета и достаточно близок со мной и с Маркетой.
О том, что Земанек будет секретарем парторганизации, я понятия не имел и принял эту новость с надеждой, ибо Земанека хорошо знал и был даже уверен, что и он питает ко мне всяческую симпатию, хотя бы из-за моего моравского происхождения: Земанек страшно увлекался песнями Моравии. Да, в те годы было чрезвычайно модно петь народные песни, но петь не по-школьнически, а с рукой, вскинутой над головой и чуть грубым голосом, изображая из себя истинно простонародного парня, которого мать родила на гулянке под цимбалами.
Я был на естественном факультете, по существу, единственным настоящим мораванином, что явно давало мне кое-какие привилегии; при каждом торжественном случае, то ли на некоторых собраниях, празднествах, то ли на Первое мая, я по просьбе товарищей вытаскивал кларнет и вместе с двумя-тремя любителями, которые всегда находились среди студентов, пытался изобразить некое подобие моравской капеллы. Так (с кларнетом, скрипкой и контрабасом) мы участвовали в майской Демонстрации два года подряд, а Земанек, парень красивый и любивший показать себя, шел с нами, одетый во взятый напрокат национальный костюм, танцевал по ходу шествия, вскидывал руку над головой и пел. Этот коренной пражанин, никогда не бывавший в Моравии, представлялся парнем из народа, и я глядел на него с большой симпатией, счастливый тем, что музыка моей родины, извечно слывшей эльдорадо народного искусства, так любима и популярна.
Земанек знал и Маркету – это было второе преимущество. На разных студенческих мероприятиях мы нередко оказывались все трое вместе; как-то раз (нас была тогда большая студенческая компания) я пошутил, что на Шумаве живут карликовые племена, и стал доказывать это цитатами из якобы существующего научного труда, посвященного этой примечательной теме. Маркета диву давалась, что никогда о таком не слыхивала. Я сказал, что удивляться тут нечему: буржуазная наука умышленно утаивала существование карликов, поскольку капиталисты промышляли карликами, как рабами.
Но об этом следовало бы написать! – выкрикивала Маркета. Почему об этом не пишут! Ведь это был бы аргумент против капиталистов!
Возможно, об этом потому не пишут, проговорил я раздумчиво, что вещь эта несколько деликатная и непристойная: известно, что карлики обладали исключительными талантами по части любовных подвигов, и это стало причиной того, что они пользовались огромным спросом и наша республика тайно вывозила их за большую валюту преимущественно во Францию, где их нанимали стареющие капиталистические дамы в качестве слуг, чтобы на самом деле, естественно, приспособить их к исполнению совершенно иных обязанностей.
Товарищи давились от смеха, вызванного не столько неподражаемым остроумием моих измышлений, сколько Маркетиным возбужденным лицом, всегда готовым во имя чего-то (а при случае против чего-то) загореться; они кусали губы, лишь бы не испортить Маркете радость познания, а кое-кто (прежде всего Земанек) вторил мне со всей серьезностью, подтверждая мои сведения о карликах.
Когда Маркета спросила, как такой карлик в общем-то выглядит, помню, Земанек с глубокомысленным видом сказал ей, что профессор Чехура, которого Маркета со всеми своими сокурсниками имеет честь иной раз видеть на университетской кафедре, происходит от карликов, причем не то по линии обоих родителей, не то – одного из них. Рассказывал об этом Земанеку якобы доцент Гуле, что жил когда-то на каникулах в одной гостинице с супругами Чехурами, достигавшими вместе неполных трех метров. Однажды утром он вошел в их номер, не предполагая, что супруги еще спят, и ужаснулся: они лежали в одной постели, но не друг возле дружки, а в ряд: пан Чехура, скрючившись в изножье, а пани Чехурова – в изголовье кровати.
Да, подтвердил я, как Чехура, так и его супруга по происхождению, несомненно, шумавские карлики, ибо спать в ряд – атавистический обычай всех тамошних карликов; кстати, в стародавние времена свои лачуги они строили не в форме круга или четырехугольника, а всегда в форме длиннющего прямоугольника, так как не только супруги, но и целые семейства имели обычай спать длинной цепью, друг за дружкой.
Когда в тот злополучный сумрачный день я воскресил в памяти эту нашу трепотню, мне почудилось, что от нее забрезжило огоньком надежды. Земанек, который будет обязан вынести решение по моему делу, знает мой стиль вышучивания, знает и Маркету и потому поймет, что открытка, какую я написал ей, была всего лишь шутейным поддразниванием девушки, которой мы все восхищались и над которой (возможно, именно поэтому) любили покуражиться. При первом же случае я рассказал ему о своих незадачах; Земанек, наморщив лоб, внимательно выслушал меня и сказал «посмотрим».
А пока я жил в подвешенном состоянии; ходил, как прежде, на лекции и ждал. Меня часто вызывали на разные партийные комиссии, которые силились главным образом установить, не принадлежу ли я к какой-либо троцкистской группе; я же стремился доказать, что, по сути дела, даже не знаю толком, что такое троцкизм; я ловил любой взгляд ведущих дознание товарищей и искал в нем проблески доверия; иногда я действительно находил такой взгляд и умудрялся долго носить его в себе, лелеять в душе и терпеливо высекать из него надежду.
Маркета по-прежнему избегала меня. Я понял, что это связано со скандалом вокруг моей открытки, и в своей гордой сострадательности не хотел ни о чем ее спрашивать. Но однажды она сама остановила меня на лестнице факультета: «Я хотела бы поговорить с тобой».
Так мы снова после нескольких месяцев оказались на нашей совместной прогулке; стояла уже осень, мы оба были в длинных непромокаемых плащах, да, длинных, много ниже колен, как в то время (время вовсе не элегантное) носили; слегка моросило, деревья на набережной были безлистные и черные. Маркета рассказывала мне, как все произошло: однажды в каникулы, когда она была на партзанятиях, вызвали ее товарищи из руководства и спросили, получает ли она сейчас какую-либо корреспонденцию; она сказала, что получает. Спросили – откуда. Она сказала, что пишет ей мама. А кто еще? Иногда один университетский товарищ, ответила она. Можешь сказать нам, кто? – спросили ее. Она назвала меня. А что тебе пишет товарищ Ян? Она пожала плечами, ей вроде бы не хотелось цитировать слова из моей открытки. Ты тоже ему писала? – спросили. Писала, ответила она. Что ты писала ему? – спросили они. Так, о занятиях и вообще. Тебе занятия нравятся? – спросили ее. Да, очень, ответила она. А ты написала ему, что тебе здесь нравится? Да, написала, ответила. А он что? – продолжали они. Он? – помялась Маркета, ну он ведь чудной, знали б вы его. Мы его знаем, сказали они, и хотели бы знать, что он писал тебе. Ты можешь показать нам ту его открытку?
«Не сердись на меня, – сказала Маркета, – мне пришлось показать ее».
«Не оправдывайся, – сказал я Маркете, – они знали о ней еще раньше, чем заговорили с тобой; не знали бы, не позвали б тебя».
«Я совсем не оправдываюсь, я даже не стыжусь, что дала им прочитать ее, не выдумывай глупости. Ты член партии, а партия имеет право знать, кто ты и что думаешь», – возразила Маркета, а потом добавила, что была в ужасе от того, что я написал ей, так как все мы знаем, Троцкий – самый страшный враг всего, за что мы боремся и ради чего живем.
Что мне было объяснять Маркете? Я попросил ее продолжать и рассказать по порядку, что происходило дальше.
Маркета сказала, что открытку прочли и оторопели. Спросили, что она по этому поводу думает. Она сказала, что все это ужасно. Спросили, почему она сама не пришла показать им открытку. Она пожала плечами. Ее спросили, знает ли она, что такое бдительность и настороженность. Она опустила голову. Спросили, знает ли она, сколько у партии врагов. Она сказала им, что знает, но не могла бы поверить, что товарищ Ян… Ее спросили, хорошо ли она меня знает. И спросили, какой я. Она сказала, что я чудной. Что хоть она временами и думает, что я стойкий коммунист, но случается, я говорю такое, чего коммунист не должен был бы говорить никогда. Они спросили, что, например, такого я говорю. Она сказала, что ничего конкретного не помнит, но для меня как бы нет ничего святого. Они сказали, что и по открытке это ясно видно. Она сказала, что часто по многим вещам со мной спорила. И еще сказала, что на собраниях я говорю одно, а ей другое. На собраниях я, мол, сплошной восторг, тогда как с ней только надо всем подшучиваю и все принижаю. Спросили, думает ли она, что такой человек может быть членом партии. Она пожала плечами. Спросили, построила бы партия социализм, если бы ее члены провозглашали, что оптимизм – опиум для народа. Она сказала, что такая партия социализма бы не построила. Ей сказали, что этого достаточно. И что, мол, пока она не должна ничего говорить мне, так как они хотят проследить, что я буду писать дальше. Она им сказала, что больше не хочет никогда меня видеть. Они ответили, что это было бы нежелательно, что, напротив, она должна писать мне, пока не выявится вся моя подноготная.
«И ты им потом показывала мои письма?» – спросил я Маркету, краснея до корней волос при воспоминании о своих любовных излияниях.
«А что мне было делать? – сказала Маркета. – Но сама я тебе после всего, правда, не могла уже писать. Не стану же я переписываться с кем-то лишь для того, чтобы вывести его на чистую воду. Написала тебе еще открытку, и все. Не хотела тебя видеть, потому что не имела права тебе ничего говорить, но боялась, что ты будешь меня о чем-то спрашивать и мне придется тебе врать прямо в глаза, а врать я не люблю».
Я спросил Маркету, что принудило ее встретиться со мной сегодня.
Она сказала, что причиной тому был товарищ Земанек. Он встретил ее после каникул на лестнице факультета и повел в комнатушку, где помещался комитет парторганизации естественного факультета. Он сказал, что до него дошли слухи, будто я написал ей на партийные курсы открытку с антипартийными изречениями. Спросил, что это были за фразы. Она сказала ему. Он спросил, что она по этому поводу думает. Она ответила, что осуждает. Он сказал, что это правильно, и спросил, продолжает ли она со мной встречаться. Она смешалась и ответила неопределенно. Он сказал, что с партийных курсов на факультет поступили о ней весьма благоприятные сведения и что факультетская организация вполне полагается на них. Она сказала, что рада. Он добавил, что не хотел бы вмешиваться в ее частную жизнь, но думает, что о человеке можно судить по тому, с кем он встречается, какого друга выбирает себе, и что ей не очень пошло бы на пользу, выбери она именно меня.
Лишь несколько недель спустя до Маркеты, дескать, дошел смысл их разговора. Со мной она уже много месяцев не встречалась, так что наущение Земанека, по существу, было напрасным; и все-таки как раз это наущение и заставило ее задуматься, не жестоко ли и допустимо ли нравственно призывать кого-то расстаться с другом всего лишь на том основании, что друг оступился, а значит, справедливым ли было и то, что еще раньше она сама перестала со мной встречаться. Она пошла к товарищу, который вел на каникулах партзанятия, и спросила, по-прежнему ли действует приказ, запрещающий говорить со мной по поводу открытки, но, узнав, что можно уже ничего не утаивать, остановила меня и попросила побеседовать с ней.
И вот теперь она, стало быть, делится со мной тем, что мучит и удручает ее: да, поступила она дурно, когда решила, что не будет со мной встречаться; но все-таки нельзя считать человека совсем пропащим, даже если он совершил самый большой проступок. Она, к примеру, вспомнила Алексея Толстого, который был белогвардейцем и эмигрантом, но, несмотря на это, стал крупным социалистическим писателем. Вспомнила она также и советский фильм «Суд чести» (фильм в то время весьма популярный в партийной среде), в котором ученый-врач предоставляет свое открытие прежде всего в распоряжение зарубежной общественности, что попахивало космополитизмом и предательством; Маркета растроганно ссылалась главным образом на финал фильма: ученый был в конце концов осужден судом чести своих коллег, но любящая жена не покинула осужденного супруга, а старалась влить в него силы, чтобы он сумел искупить свой тяжкий грех.
«Значит, ты решила не покидать меня», – сказал я.
«Да», – сказала Маркета и схватила меня за руку.
«И ты, Маркета, действительно думаешь, что я допустил большую провинность?»
«Думаю, что да», – сказала Маркета.
«А как ты думаешь, я имею право остаться в партии или нет»?
«Думаю, Людвик, что не имеешь».
Я знал, что прими я игру, в которую вжилась Маркета и пафос, которой переживала, похоже, всей душой, то обрел бы все, чего месяц назад так безуспешно добивался: приводимая в движение пафосом спасительства, как пароход – паром, Маркета, без сомнения, отдалась бы мне теперь и телесно. Конечно, при одном условии: что ее спасительство будет действительно полностью удовлетворено, а для полного удовлетворения объект спасения (о, горе, я сам!) должен признать свою глубокую, глубочайшую провинность. Но сделать этого я не мог. Желанная цель – Маркетино тело – была совсем близко, и все-таки столь дорогой ценой я не мог овладеть им, не мог признать свою вину и подписаться обеими руками под невыносимым приговором; я не мог допустить, что близкий мне человек считает меня виноватым, а этот приговор – справедливым.
Я не согласился с Маркетой, отказался от ее помощи и потерял ее, но чувствовал ли я себя безвинным? Разумеется, я убеждал себя в комичности этой скандальной истории, но одновременно (и нынче из дали многих лет это кажется мне самым мучительным и самым типичным) я начинал видеть три фразы на открытке глазами тех, кто расследовал мое дело; я стал ужасаться этих фраз, пугаться того, что под покровом шутки во мне обнаружат и вправду что-то очень серьезное, иными словами – то, что я никогда так и не слился с партией, что я никогда не был настоящим пролетарским революционером, а лишь на основании простого (!) решения «пошел в революционеры» (то есть мы понимали пролетарскую революционность, я бы сказал, отнюдь не как дело выбора, а как дело самой сущности: человек либо революционер и в таком случае сливается с движением в единое коллективное тело, мыслит его головой и чувствует его сердцем, либо им не является, и ему ничего не остается, как лишь хотеть им быть; но тогда он все равно бесконечно виноват в том, что им не является: он виноват своей самостоятельностью, инакостью, своим неслиянием).
Когда я вспоминаю свое тогдашнее состояние, мне по аналогии приходит мысль о беспредельной силе христианства, которое внушает верующему его исходную и непрерывную греховность; и я стоял (и мы все так стояли) перед лицом революции и ее партии с вечно опущенной головой и потому исподволь смирялся с тем, что мои фразы, замышленные как шутка, все-таки по сути греховны; и в голове моей стал разматываться клубок самокритики: я говорил себе, что фразы осенили меня не просто так, не с бухты-барахты, что товарищи уже и раньше (и, видимо, поделом) указывали мне на «остатки индивидуализма» и на «интеллигентство»; я говорил себе, что стал слишком самонадеянно цепляться за свое образование, за студенческий статус и интеллигентское будущее и что мой отец, рабочий, погибший в годы войны в концентрационном лагере, едва ли понял бы мой цинизм; я упрекал себя, что от его пролетарского образа мыслей во мне, к сожалению, не осталось и следа; я упрекал себя во всех возможных грехах и смирялся даже с необходимостью какого-то наказания; противился я лишь одному: быть исключенным из партии и тем самым заклейменным, как один из ее врагов, жить, как заклейменный враг того, что я выбрал уже в юности и к чему действительно льнул душой, представлялось мне поистине кошмаром.
Такие самокритичные речи, что одновременно были и умоляющей защитой, я произносил раз сто мысленно, по меньшей мере, раз десять перед различными комитетами и комиссиями и наконец на решающем пленарном заседании нашего факультета, где обо мне и о моей провинности во вступительном слове (впечатляющем, блистательном, незабываемом) говорил Земанек и от имени комитета предложил исключить меня из партии. Дискуссия, последовавшая за моим покаянным выступлением, развернулась не в мою пользу; никто не заступился за меня, а под конец все (их было человек сто, среди них и мои преподаватели, и самые ближайшие товарищи), да, все до единого подняли руки, чтобы одобрить не только мое исключение из партии, но и (этого я никак не ожидал) мой принудительный уход из университета.
Еще в ту же ночь после собрания я сел в поезд и уехал домой, однако родной очаг не принес мне никакого утешения уже хотя бы потому, что несколько дней я вообще не осмеливался сказать маме, гордившейся моим студенчеством, обо всем, что случилось. Зато на второй день пришел ко мне Ярослав, товарищ по гимназии и по капелле с цимбалами, в которой я играл еще гимназистом, и возликовал, что застал меня дома: послезавтра он, дескать, женится и просит меня быть у него свидетелем. Я не мог отказать старому товарищу, и мне, стало быть, ничего не оставалось, как отметить свое падение свадебным весельем.
Надо заметить, Ярослав ко всему был еще и завзятым моравским патриотом и фольклористом; воспользовавшись собственной свадьбой во благо своих же этнографических увлечений, он устроил ее в духе старых народных традиций: национальные костюмы, капелла с цимбалами, посаженый отец, произносящий витиеватые речи, перенос невесты через порог, песни и вообще множество круглосуточных церемоний, которые он, разумеется, воссоздавал в большей степени по этнографическим книгам, нежели по живым воспоминаниям. Но я обратил внимание и на нечто странное; как ни держался мой друг Ярослав, новоиспеченный руководитель весьма прибыльного ансамбля песни и танца, всевозможных старинных обычаев, однако (явно памятуя о своей карьере и повинуясь атеистическим призывам) он не пошел со свадебниками в церковь, хотя традиционная народная свадьба без священника и Божьего благословения просто немыслима; он заставил посаженого отца произносить всякие народные обрядовые речи, но тщательно вычеркнул из них какие бы то ни было библейские мотивы, вопреки тому, что именно они-то и составляли главный образный материал свадебных причетов. Печаль, мешавшая мне до конца слиться с пьяным свадебным весельем, дала мне возможность почувствовать в совершении этих народных обрядов запах хлороформа и на дне этой кажущейся непринужденности увидеть соринку фальши. И когда Ярослав попросил меня взять (по сентиментальной памяти о моем давнишнем участии в капелле) кларнет и подсесть к музыкантам, я отказался. Вдруг припомнилось, как последние два года я вот так же играл на Первое мая, а пражанин Земанек танцевал рядом со мной в национальном костюме, вскидывая руки, и пел. Я не мог коснуться кларнета, я чувствовал, как все это фольклорное верещание противно душе моей, противно, противно…
Лишившись университета, я лишился и права отсрочки военной службы и дожидался теперь осеннего призыва; долгое ожидание я заполнил двумя вербовками: сперва я ремонтировал дорогу где-то под Готвальдовом, а к концу лета подался на сезонные работы на «Фруту», где консервировали фрукты; затем наконец пришла осень, и в одно прекрасное утро (после бессонной ночи в поезде) я приплелся в казарму, расположенную в незнакомом уродливом остравском предместье.
Я стоял во дворе казармы с другими парнями, приписанными к той же части; мы не знали друг друга; в полумраке этой первоначальной взаимной незнакомости на первый план резко выступают на лицах черты грубости и чуждости; так это было и на сей раз, и единственное, что нас по-человечески сплачивало, это неясное будущее, о котором мы обменивались лишь беглыми догадками. Некоторые утверждали, что мы загремели к «черным»; иные отрицали это, а кто вообще не знал, что это такое. Я знал и потому принимал эти догадки с испугом.
Вскоре пришел за нами сержант и отвел всех в один барак; попали мы в коридор, а по коридору – в какую-то большую комнату, сплошняком увешанную огромными стенгазетами с лозунгами, фотографиями и неумелыми рисунками; на стене против двери кнопками была пришпилена большая надпись, вырезанная из красной бумаги: МЫ СТРОИМ СОЦИАЛИЗМ, под этой надписью стоял стул, а возле него маленький сухонький старичок. Сержант указал на одного из нас, и тот уселся на стул. Старичок повязал ему вокруг горла белую простыню, потом взял портфель, прислоненный к ножке стула, достал машинку для стрижки и заехал ею парню в волосы.
С парикмахерского стула начинался конвейер, призванный преобразить нас в солдат: от стула, на котором мы лишались волос, нас погнали в соседнюю комнату, где велено было раздеться догола, упаковать одежду в бумажный мешок, перевязать его бечевкой и сдать в окошко; голые и бритоголовые, мы прошли по коридору в следующее помещение; там получили ночные рубахи; в ночных рубахах дошли еще до одной двери, где нам выдали армейские башмаки – «поллитровки»; в «поллитровках» и нижних рубахах промаршировали через двор к другому бараку, где приобрели рубахи, подштанники, портянки, ремень и форму (на куртках были черные петлицы!); и, наконец, мы протопали к последнему бараку, где сержант провел перекличку, распределил нас по отделениям и закрепил за нами комнаты и койки.
Так в два счета каждый из нас был лишен своей личной воли и стал чем-то, что внешне походило на вещь (вещь направленную, посланную, зачисленную, откомандированную), а внутренне – на человека (страдающего, озлобленного, напуганного); в тот же день нас повели на построение, затем на ужин, затем по койкам; поутру нас разбудили и препроводили на рудник: на руднике наши отделения разбили на трудовые бригады и одарили инструментом (лампой, буром, лопатой), с которым никто не умел обращаться; потом подъемная клеть опустила нас под землю.
Когда мы, с трудом волоча ноющее тело, поднялись наверх, уже поджидавшие сержанты построили нас в шеренгу и снова отвели в казарму; мы пообедали, после обеда начались строевые занятия, после строевых занятий – уборка, политучеба, обязательное пение; вместо личной жизни – комната с двадцатью койками. И так изо дня в день.
Обезличивание, которому мы подверглись в первые дни, казалось мне абсолютно беспросветным; безликие, предписанные действия, которые мы выполняли, заменили любые наши человеческие проявления; эта беспросветность была, конечно, относительной, порожденной не только реальными обстоятельствами, но и неприученностью зрения (как будто из света попадаешь во тьму), со временем она начала понемногу редеть, и в этом «сумраке обезличивания» в людях уже проглядывало кое-что человеческое. Я должен, конечно, признать, что был одним из последних, сумевших приспособить зрение к измененной «светосиле».
А главная причина состояла в том, что я всем своим существом противился своей участи. Ведь солдаты с черными петлицами, среди которых я оказался, занимались строевой подготовкой исключительно без оружия и работали на рудниках. За работу им, правда, платили (в этом смысле они находились в лучшем положении, чем другие солдаты), но меня это мало утешало: то и дело возникала мысль, что все это люди, которым молодая социалистическая республика не хотела доверить оружие, ибо считала их своими врагами. Естественно, это приводило к более жестокому обращению и к устрашающей опасности, что действительная служба может продлиться дольше, чем обязательные два года; однако больше всего меня ужасал факт, что я оказался среди тех, кого считал своими смертельными врагами, и что меня к ним причислили (окончательно, бесповоротно и с пожизненным клеймом) мои же собственные товарищи. Поэтому первое время я жил среди «черных» упрямым нелюдимом; я не хотел сближаться со своими врагами, не хотел приспосабливаться к ним. С прогулками тогда дела обстояли совсем скверно (на увольнительную солдат не имел права, он получал ее лишь как награду, и это практически означало, что он выходил в город раз в две недели – в субботу), но в те дни, когда солдаты гурьбой заваливались в трактиры и охотились за девушками, я с радостью оставался один; забирался на койку в казарме, старался читать что-то или даже заниматься (математику, кстати, достаточно для работы карандаша и бумаги) и кейфовал в своей неприкаянности; я верил, что здесь у меня единственная задача: продолжать борьбу за свою политическую честь, за право «не быть врагом», за право выйти отсюда. Не раз и не два я заходил к политруку части и пытался убедить его, что оказался среди «черных» по ошибке; что был исключен из партии по причине своего интеллигентства и цинизма, но не как враг социализма; я объяснял ему снова (в какой уж раз!) комичную историю открытки, историю, которая, впрочем, совсем уже не была смешной, а становилась из-за моих черных петлиц все подозрительнее, и, казалось, скрывала в себе нечто, о чем я умалчиваю. Но я должен честно признаться, что политрук выслушивал меня терпеливо и проявил почти неожиданное понимание моего стремления к оправданию; где-то наверху (как незримое определение места!) он и вправду справлялся о моем деле, но в конце концов вызвал меня и сказал с откровенной горечью: «Почему ты обманывал меня? Я узнал, что ты троцкист».
Я стал понимать, что нет силы, способной изменить тот образ моей личности, который сложился в каком-то наивысшем третейском ареопаге, где решаются людские судьбы; я понял, что этот образ (сколь бы ни похож он был на меня) гораздо реальнее, чем я сам; что вовсе не он моя, а я его тень; что вовсе не он виноват, что не похож на меня, а в этой непохожести повинен я и что эта непохожесть – мой крест, который я ни на кого не могу возложить и вынужден нести его сам.
И все-таки сдаваться я не хотел. Хотел поистине нести свою непохожесть; оставаться тем, кем, как было решено, я не являюсь.
Прошло недели две, пока я чуть привык к изнуряющей работе на руднике с тяжелым отбойным молотком в руках, вибрация которого отзывалась в теле ночи напролет. Но ломил я работу на совесть и с какой-то даже яростью; решил давать высокую выработку, и вскоре мне это стало удаваться.
Однако никто не видел в этом проявления моей сознательности. Работу нам оплачивали, и пусть вычитали за питание и проживание, все равно на руки мы получали достаточно, и потому многие, каких бы взглядов ни придерживались, тоже вкалывали с большим пылом, чтобы извлечь из этих напрасных лет хоть какую-то пользу.
Хотя нас всех и считали остервенелыми врагами режима, в казарме, однако, сохранялся весь уклад общественной жизни, который был привычен в социалистических коллективах: мы, враги режима, под присмотром политрука устраивали десятиминутки, ежедневно у нас бывали политбеседы, мы вывешивали стенгазеты, куда наклеивали фотографии деятелей социалистических государств и писали лозунги о счастливом будущем. Поначалу я почти демонстративно принимал участие во всех этих мероприятиях. Но и в этом никто не усматривал признака сознательности, делать это вызывались и другие, если хотели привлечь внимание командира и получить увольнительную. Солдаты воспринимали эту деятельность не как деятельность политическую, а всего лишь как бессмысленную хлопотню, которой приходится расплачиваться с теми, в чьей власти мы находимся.
Я понял, что это мое сопротивление напрасно, что уже и свою «непохожесть» воспринимаю один я, а для других она невидима.
Среди младшего командного состава, на чей произвол мы были отданы, запомнился мне один чернявый словак, младший сержант, который отличался от остальных мягкостью и полным отсутствием садизма. Он пользовался у нас любовью, хотя некоторые злорадно утверждали, что его доброта проистекает исключительно из его глупости. Сержанты в отличие от нас, естественно, владели оружием и время от времени занимались стрелковой подготовкой. Однажды после таких учений воротился младший сержантик с великим торжеством: занял на стрельбах первое место. Многие из нас громко поздравляли его (полусерьезно, полушутя); младший сержантик знай краснел от удовольствия.
Случайно в тот день я остался с ним наедине и, чтобы поддержать разговор, спросил: «Как вам удается так хорошо стрелять?»
Младший сержантик испытующе посмотрел на меня и сказал: «У меня есть один способ, который помогает мне. Я воображаю, будто это не просто мишень из жести, а империалисты. И такая злость меня разбирает, что я бью без промаха».
Я хотел спросить его, каким он представляет себе такого империалиста (какой у него нос, волосы, глаза, шляпа), но он опередил мой вопрос и сказал серьезным и раздумчивым голосом: «Не знаю, чего вы все меня поздравляете. Ведь случись война, я бы в вас стрелял!»
Когда я услышал такое из уст добряка, который не способен был никогда прикрикнуть на нас и которого в конце концов за это перевели куда-то в другое место, я понял, что нить, связывавшая меня с партией и с товарищами, безнадежно выскользнула из рук. Я очутился за пределами своего жизненного пути.
Да. Все нити были прерваны.
Прервано было образование, участие в движении, работа, связи с друзьями, прервана была любовь и поиски любви, прервано было просто-напросто все осмысленное течение жизни. Мне не оставалось ничего, кроме времени. Зато его я узнал так интимно, как никогда прежде. Оно уже не было тем временем, с каким я общался когда-то, временем, превращенным в труд, любовь, стремления всякого рода, временем, воспринимаемым равнодушно, поскольку и оно было неназойливым и деликатно скрывалось за моей собственной деятельностью. Сейчас оно явилось мне обнаженным, само по себе, в своем исконном и подлинном виде и принудило меня назвать его настоящим именем (ибо теперь я проживал чистое время, одно пустое время), дабы ни на минуту не забывать о нем, беспрестанно думать о нем и чувствовать его тяжесть.
Когда играет музыка, мы слышим мелодию, забывая, что это лишь одна из форм времени; когда оркестр умолкает, мы слышим время; время само по себе. Я жил в паузе. Разумеется, никоим образом не в оркестровой генеральной паузе (ее размер точно определен знаком тире), а в паузе без установленного срока. Мы не могли (как это делалось в других частях) отрезать деленьица портняжного сантиметра, чтобы видеть, как день за днем сокращается наша двухлетняя действительная служба: «черных» могли держать в армии сколько заблагорассудится. Сорокалетний Амброз из второй роты был здесь уже четвертый год.
Служить в те времена в армии, оставив дома жену или невесту, было мукой мученической, это значило – в мыслях неусыпно быть на бесполезной страже их неустерегаемого существования, неусыпно охранять их роковую неустойчивость. И еще – вечно надеяться на их возможный приезд и вечно дрожать, как бы командир не отменил назначенной на этот день увольнительной и жена не приехала бы к воротам казармы впустую. Среди «черных» (с черным же юмором) ходили слухи, что офицеры поджидают истосковавшихся по ласке солдатских жен, подваливают к ним и так собирают плоды жажды, которые по праву положены задержанным в казарме солдатам.
И все-таки: у тех, у кого дома осталась женщина, даже сквозь паузу тянулась нить, возможно, тонкая, возможно, томительно тонкая и оборванная нить, но все-таки нить. У меня не было и такой; с Маркетой я прекратил всякое общение, если и приходили ко мне еще какие-то письма, так только от мамы… Ну и что? Разве это не нить?
Нет, это не нить; дом, поскольку это лишь родительский дом, еще не нить, это всего лишь прошлое: письма, которые пишут родители, это послания с материка, от которого ты удаляешься; да, такое письмо разве что напоминает тебе, заблудшему, о гавани, из которой ты выплыл в условиях столь честно, столь жертвенно созданных; да, говорит такое письмо, гавань все еще есть на этом свете, она все еще существует, безопасная и прекрасная в своей давнишности, но дорога, дорога к ней потеряна!
И я, стало быть, исподволь привык к тому, что жизнь моя утратила свою непрерывность, что жизнь выпала у меня из рук и мне не суждено ничего другого, как начать наконец внутренне существовать там, где я реально и непреложно был. Так мое зрение постепенно приспосабливалось к сумраку овеществления, и я начинал воспринимать людей вокруг себя, позднее, правда, чем другие, но, к счастью, еще не настолько поздно, чтобы успеть безнадежно отстраниться от них.
Из этого сумрака прежде всего выплыл (так же, как выплывает он первым из сумрака моей памяти) Гонза, уроженец Брно (он говорил на почти невразумительном пригородном жаргоне), попавший к «черным» из-за того, что избил кагэбэшника, своего бывшего одноклассника. Избил потому, что поругался с ним, но суд не внял Гонзиным объяснениям; полгода он отсидел за решеткой и прямо оттуда прибыл к нам. Гонза был профессиональным монтажником, и ему, очевидно, было без разницы, будет ли он работать где-то монтажником или кем-то еще; он ни к чему не испытывал тяги и проявлял к будущему полное равнодушие, которое было источником его вызывающей и беззаботной вольности.
Редкостным ощущением свободы с Гонзой сравниться мог разве что Бедржих, самый большой чудик нашей двадцатикоечной комнаты, попавший к нам два месяца спустя после регулярных сентябрьских призывов; поначалу он был определен в пехотную часть, но там упрямо отказывался взять в руки оружие, ибо это противоречило его особо строгим религиозным принципам; когда перехватили его письма, адресованные Трумэну и Сталину, в которых он патетически призывал обоих правителей распустить во благо социалистического единства все армии, в части совсем растерялись; сперва ему позволили даже участвовать в строевой подготовке – среди всех воинов он единственный был без оружия, но команды «оружие на плечо» и «оружие к ноге» выполнял безукоризненно, хотя и с пустыми руками. Прослушав первые политические лекции, он принял горячее участие в дискуссии и вовсю громил империалистов – поджигателей войны. Но когда на свой страх и риск сделал и вывесил в казарме плакат, в котором призывал сложить любое оружие, военный прокурор обвинил его в мятеже. Уважаемый суд был настолько сбит с толку его миролюбивыми речами, что вынес решение подвергнуть его психиатрическому обследованию и после долгого колебания снял с него обвинение в мятеже и направил к нам. Бедржих торжествовал; удивительное дело: он был единственным, кто сам добился черных петлиц, и был счастлив, что носит их. Здесь он чувствовал себя свободным – хотя его свободность проявлялась не в дерзости, как у Гонзы, а напротив – в спокойной дисциплинированности и трудолюбии.
Все остальные солдатики в гораздо большей степени были подвластны опасениям и тоске: тридцатилетний венгр Варга из южной Словакии – далекий от национальных предрассудков, он воевал во время войны в нескольких армиях и прошел через несколько пленов по обеим линиям фронта; рыжий Петрань – его брат – удрал за границу, убив при этом солдата пограничной службы; простак Йозеф, сын богатого крестьянина из лабской деревни (слишком привыкший к голубым просторам, где шныряют жаворонки, он испытывал удушливый ужас от адского подземелья шахт и штолен); двадцатилетний Станя, взбалмошный щеголь с пражского Жижкова, на которого местный национальный комитет дал убийственную характеристику – надравшись на первомайской демонстрации, он якобы нарочно мочился у края тротуара на глазах у ликующих граждан; Павел Пекны, студент юридического факультета, который в февральские дни с кучкой сокурсников принял участие в антикоммунистической демонстрации (в скором времени он понял, что я принадлежал к лагерю тех, кто после Февраля выкинул его с факультета, и был единственным, не скрывавшим своего злорадного удовлетворения, что я теперь загремел туда же, куда и он).
Я мог бы перебрать в памяти и других солдат, что разделили со мной тогдашнюю участь, но хочется держаться самого существенного: больше всех я любил Гонзу. Вспоминаю один из наших первых разговоров; случилось это во время торопливой перекуски в штольне, когда мы оказались рядом и Гонза, хлопнув меня по колену, сказал: «Ну, глухонемой, ты что, собственно, за птица?» И я, будучи тогда и вправду глухонемым (обращенным в свои вечные мысленные самооправдания), с трудом попытался ему объяснить (искусственность и неуместность тех слов я сам тотчас с неприязнью почувствовал), как я сюда попал и почему, по сути дела, не имею ко всему этому никакого отношения. Он сказал мне: «Дурья башка, а мы, по-твоему, имеем отношение?» Я хотел было снова объяснить ему свой взгляд на вещи (подыскивая более естественные слова), но Гонза, проглотив последний кусок, сказал медленно: «Будь ты таким же длинным, как и дурным, так солнце прожгло бы тебе черепушку». В этой фразе весело ухмылялся плебейский дух пригорода, и я неожиданно устыдился того, что не устаю избалованно добиваться утраченных привилегий, тогда как свои убеждения я строил именно на отвращении к привилегиям и к избалованности.
Со временем я очень подружился с Гонзой (он уважал меня за то, что я быстро решал в уме всякие арифметические головоломки, связанные с нашей зарплатой, и несколько раз не позволил нас облапошить); однажды он высмеял меня, что я как дурак провожу увольнительные в казарме, и вытащил меня прошвырнуться с ребятами по городу. Эту прогулку я хорошо помню; нас было тогда человек восемь, в том числе Станя, Варга и еще Ченек, недоучившийся студент-прикладник из второго взвода (он потому попал к «черным», что в училище упрямо рисовал кубистские картины; а сейчас ради той или иной выгоды во всех воинских помещениях крупным планом изображал углем гуситских воинов с булавами и цепами). Мы не располагали слишком большим выбором, куда идти: центральные районы Остравы были для нас запрещены, доступны были лишь некоторые ближние кварталы, а в них – лишь некоторые кабачки. Мы дошли до соседнего предместья и несказанно обрадовались: в бывшем спортивном зале, куда нам не возбранялось входить, была танцулька. Мы заплатили какие-то гроши за вход и ввалились внутрь. В просторном помещении было много столов и стульев, людей поменьше: с десяток девушек, мужчин примерно тридцать; половина их – солдаты из местной артиллерийской казармы; стоило им увидеть нас, как они тотчас набычились, и мы всей своей шкурой почувствовали, что они оценивают нас и пересчитывают. Мы разместились за длинным пустым столом, заказали бутылку водки, но страшненькая официантка строго объявила нам, что алкоголь в розлив подавать запрещено; тогда Гонза, заказав восемь стаканов лимонаду, взял у каждого по банкноте и уже минуту спустя вернулся с тремя бутылками рома, который затем мы под столом доливали в лимонад. Делали это тайком – знали, что артиллеристы не спускают с нас глаз и только ждут, как бы поймать нас на незаконном распитии алкоголя. Воинские части, надо сказать, испытывали к нам глубокую неприязнь: с одной стороны, они видели в нас некий подозрительный сброд – убийц, преступников и врагов, готовых (в плане тогдашней шпионской литературы) совершить в любое время предумышленное убийство их миролюбивых семейств, с другой (и это было, по-видимому, важнее) – завидовали нам, поскольку у нас водились деньги и мы могли пользоваться всякими благами несравнимо больше, чем они.
В этом-то и была особенность нашего положения: мы не знали ничего, кроме усталости и надсады, каждые две недели нам брили черепушку, чтобы волосы не внушали не положенной нашему брату уверенности в себе, мы были изгоями, не ожидавшими от жизни уже ничего хорошего, но у нас были деньги. Пусть и негусто, но для солдата с его двумя увольнительными в месяц это было такое состояние, что он мог в те немногие часы свободы (в тех немногих дозволенных заведениях) вести себя как крез и тем вознаграждать себя за хроническое бессилие прочих долгих дней.
Пока на эстраде плохонький духовой оркестр играл поочередно то польку, то вальс и в центре зала кружились две-три пары, мы спокойно оглядывали девушек и пили лимонад, чей спиртной привкус уже сейчас возвышал нас над всеми, сидевшими в зале; мы были в отличном настроении; я чувствовал, как в голову вступает пьянящее ощущение веселого дружелюбия, ощущение компанейства, какого я не испытывал с тех пор, как в последний раз играл с Ярославом в капелле с цимбалами. А Гонза меж тем разработал план, как из-под носа у артиллеристов увести побольше девушек. План был прекрасен по своей простоте, и мы тут же приступили к его осуществлению. Энергичнее всех взялся за дело Ченек; задавака и комедиант, он исполнял свою роль, к нашему великому удовольствию, самым блистательным образом: пригласив танцевать густо накрашенную черноволосую девицу, подвел ее к нашему столу; велел налить им обоим ромового лимонада и бросил ей со значением: «Ну что ж, по рукам!»; черноволосая одобрительно кивнула и чокнулась. В эту минуту к ним уже подваливал паренек в артиллерийской форме с двумя сержантскими звездочками в петлицах; он остановился возле черноволосой и сказал Ченеку самым что ни на есть грубым тоном: «Позволишь?» «Само собой, давай, приятель, повоюй», – ответил Ченек. Пока черноволосая подпрыгивала в идиотском ритме польки с пылким сержантом, Гонза уже вызвал по телефону такси; минут через десять подкатило такси, и Ченек встал у выхода из зала; черноволосая дотанцевала польку, извинилась перед сержантом, сказав, что идет в уборную, а уже минутой позже послышалось, как машина отъезжает.
После Ченека добился успеха старик Амброз из второй роты – нашел какую-то потрепанную девицу (правда, ее жалкий вид ничуть не мешал артиллеристам крутиться вокруг нее); через десять минут подъехало такси, и Амброз с девицей и с Варгой (утверждавшим, что с ним никакая девушка никуда не поедет) отбыл в условленный трактир на другом конце Остравы, где поджидал Ченек. И еще нашим двоим удалось увезти одну девицу; в зале нас осталось трое: Станя, Гонза и я. Артиллеристы кидали на нас все более злобные взгляды: они начинали постигать связь между нашей поубавившейся численностью и исчезновением трех женщин из их охотничьего угодья. Мы старались прикинуться невинными агнцами, но чувствовали, что в воздухе пахнет дракой. «Остается лишь последнее такси для нашего достойного отъезда», – сказал я и с грустью уставился на блондинку, с которой мне в самом начале посчастливилось станцевать разок, но тогда я не нашел в себе смелости предложить ей уехать отсюда со мной; надеялся, что сделаю это при следующем танце, но артиллеристы уже так караулили ее, что я больше не рискнул к ней приблизиться. «Ничего не попишешь», – сказал Гонза и поднялся, чтобы пойти позвонить. Но по мере того, как он проходил по залу, артиллеристы поднимались из-за своих столиков и обступали его. Драка висела в воздухе, готовая вот-вот вспыхнуть, и мне со Станей не оставалось ничего, как двинуть на защиту товарища. Кучка артиллеристов окружала Гонзу молча, но вдруг среди них объявился пьяный вдрызг прапорщик (должно быть, у него тоже была бутылка под столом) и оборвал зловещее молчание: его отец, затянул он, в буржуазную республику был безработным, а теперь, мол, зло разбирает смотреть, как тут выставляются буржуи с черными петлицами и так нервы треплют, что он того и гляди смажет по морде такому-сякому-эдакому (то бишь Гонзе). Гонза молчал, но, когда прапорщик на минуту заткнулся, вежливо спросил, чего приятели-артиллеристы изволят от него. Чтобы вы отсюда уматывали подобру-поздорову, сказали артиллеристы, и Гонза ответил, что именно это мы и намерены сделать, но при условии, если они разрешат ему вызвать такси. В эту минуту, казалось, прапорщика кондрашка хватит: туда твою мать, орал он благим матом, так-перетак, мы вкалываем, носу из казармы не кажем, с нас по три шкуры дерут, за душой ни шиша, а эти тут, капиталисты сраные, диверсанты, говнюки хреновые, на такси разъезжать будут, нет уж, да хоть вот этими самыми руками их удавлю, на такси они отсюда не выедут!
Все были захвачены перебранкой; вокруг ребят в форме сгрудились гражданские и обслуга, боявшаяся скандала. И в эту минуту я узрел свою блондинку; оставшись у стола (безучастная к стычке), она встала и пошла в туалет; я неприметно отделился от толпы, прошмыгнул в прихожую, где был гардероб и туалеты (кроме гардеробщицы, там никого не было), и окликнул ее; нырнув с головой в сложившуюся ситуацию, точно пловец в воду, я плюнул на всякий стыд и приступил к делу; запустил руку в карман, вытащил несколько жеваных сотен и сказал: «Не хотите ли прокатиться с нами? Повеселей проведем время, чем здесь!» Блондинка вылупилась на сотенные, пожала плечами. Я сказал, что подожду ее на улице. Она кивнула, скрылась в туалете, а через минуту вышла уже в пальто; улыбаясь, объявила, что сразу видно – я из другого теста, чем остальные. Я охотно принял комплимент, взял ее под руку и повел на противоположную сторону улицы, за угол, откуда мы стали следить, когда у входа в спортзал (освещенный единственным фонарем) появятся Гонза и Станя Блондинка спросила, студент ли я, и, получив подтверждение, поделилась со мной, что вчера в раздевалке на фабрике у нее сперли деньги, причем не ее, а казенные, и что она просто с ума сходит – не ровен час, под суд отдадут; спросила, не могу ли я подкинуть какую сотнягу; я вытащил из кармана две смятые сотенные купюры и дал ей.
Ждали мы недолго – оба приятеля вышли в пилотках и шинелях. Я свистнул им, но в эту минуту из трактира пулей вылетели три других солдата без шинелей и без пилоток и кинулись к ним. Слышал я угрожающую интонацию вопросов, но слов не различал, хотя об их смысле догадывался: они искали мою блондинку. Один из них подскочил к Гонзе, и завязалась драка. Я бросился на подмогу. На Стане повис один артиллерист, на Гонзе – двое; они уж было сбили его с ног, но, к счастью, я подбежал вовремя и кулаками стал дубасить одного. Артиллеристы, надо думать, рассчитывали на численный перевес, но с той минуты, как силы наши сравнялись, они ослабили свой первоначальный натиск; когда под Станиным ударом его артиллерист рухнул наземь и застонал, мы, воспользовавшись смятением в их рядах, быстро покинули поле боя.
Блондинка послушно ждала нас за углом. Увидев ее, приятели впали в дикий восторг, кричали, что я «молоток», лезли обнимать меня, и я впервые после столь долгого времени был искренне весел и счастлив. Гонза вытащил из-под плаща полную бутылку рома (непонятно, как ему удалось сохранить ее во время потасовки) и потряс ею в воздухе. Настроение у нас было отличное, одно плохо – идти было некуда: из одного кабака нас вытурили, в другие нам не было хода, в такси взбеленившиеся соперники нам отказали, а на улице наше существование было под угрозой карательной акции, которая еще вполне могла обрушиться на нас. Мы быстро пустились наутек по узкой улочке, недолго шли между домами, затем с одной стороны путь нам преградила стена, с другой – заборы; у забора обрисовывались драбы, рядом с ними какая-то уборочная машина с металлическим сиденьем. «Трон», – сказал я, и Гонза подсадил блондинку на этот высокий, примерно в метре от земли, стул. Бутылку мы пустили по кругу, пили все четверо, блондинка вскоре развязала язык и пошла с Гонзой на пари: «А сотню не пожалеешь?» Гон-за был джентльмен, сунул ей сотню – и у девушки тут же было поднято пальто, задрана юбка, а в следующую минуту она сама сняла трусики. Она взяла меня за руку, притянула к себе, но я так нервничал, что вывернулся и подтолкнул к ней Станю, который без малейшего колебания втиснулся меж ее ног. Вместе они пробыли едва ли секунд двадцать; затем я хотел уступить очередь Гонзе (с одной стороны, я старался вести себя как великодушный хозяин, с другой – все еще волновался), но на сей раз блондинка была решительнее, рванула меня к себе, и, когда после подбодряющих прикосновений я смог наконец сблизиться с ней, нежно зашептала мне в ухо: «Я здесь ради тебя, дурачок» – и так завздыхала, что у меня и вправду возникло впечатление, будто со мной нежная, любящая девушка, которую я тоже люблю, а она все вздыхала и вздыхала, и я не отрывался от нее до тех пор, пока вдруг не услышал голос Гонзы, отпустившего какую-то грубость, и не осознал, что это вовсе не девушка, которую люблю; я отпрянул от нее, оборвав нашу близость так внезапно и преждевременно, что блондинка даже испугалась и сказала: «Ты что психуешь?» – но к ней уже прижимался Гонза, и громкие вздохи продолжались.
Вернулись мы тогда в казарму совсем поздно, ко второму часу ночи. А уже в полпятого надо было вставать на воскресную добровольную смену, за которую командир получал премию, а мы зарабатывали наши увольнительные на каждую вторую субботу. Невыспавшиеся, все еще одурманенные винными парами, мы двигались в полутьме штольни точно призраки, но я с удовольствием вспоминал прожитый вечер. Хуже получилось две недели спустя; из-за какой-то передряги Гонзу лишили отпусков, и я отправился в город с двумя парнями из другого взвода, с которыми знаком был весьма отдаленно. Мы шли почти наверняка к одной женщине, прозванной из-за ее непомерной длины Канделябр. Уродина она была каких мало, да ничего не поделаешь – круг женщин, доступных нам, был чрезвычайно ограничен, прежде всего нашими небольшими временными возможностями. Необходимость любой ценой использовать свободу (столь крохотную и столь редко обретаемую) приводила солдат к тому, что они отдавали предпочтение «определенному» перед «терпимым». С течением времени путем взаимодоверительных изысканий была установлена целая сеть (пусть хилая) таких более или менее определенных (и, конечно же, едва терпимых) женщин и предоставлена во всеобщее пользование.
Канделябр была из этой всеобщей сети; но меня это ничуть не смущало. Когда оба парня прохаживались насчет ее непомерной длины и без конца повторяли хохму, что неплохо было бы найти кирпич и подставить его под ноги, как дело дойдет до главного, эти шуточки (грубоватые и плоские) некоторым образом щекотали меня и поддерживали мою бешеную тягу к женщине; к любой женщине; чем меньше в ней было индивидуального, одушевленного – тем лучше; тем лучше, если это будет какая угодно женщина.
Но хоть я и выпил изрядно, моя бешеная тяга к женщине тотчас угасла, как только я увидел девицу по прозвищу Канделябр. Все показалось безвкусным и ненужным, а так как там не было ни Гонзы, ни Стани, никого близкого мне, на следующий день настало ужасающее похмелье, оно, точно яд, разрушило даже приятное воспоминание от эпизода двухнедельной давности, и я поклялся себе никогда больше не возжелать ни девушки на сиденье уборочной машины, ни пьяную Канделябр…
Заговорил ли во мне некий нравственный принцип? Вздор; это было просто отвращение. Но почему отвращение, если еще несколькими часами раньше мной владела неистовая тяга к женщине, причем злобная неистовость моей тяги коренилась именно в том, что программно мне было все равно, кто будет эта женщина? Возможно, я был более чуток, чем другие, и мне опротивели проститутки? Вздор: меня пронзила печаль.
Печаль от ясновидческого осознания, что все случившееся было не чем-то исключительным, избранным мной из пресыщения, из прихоти, из суетливого желания изведать и пережить все (возвышенное и скотское), а основной, характерной и обычной ситуацией моей тогдашней жизни. Что ею был четко ограничен круг моих возможностей, что ею был четко обозначен горизонт моей любовной жизни, какая отныне отводилась мне, что эта ситуация была выражением не моей свободы (как можно было бы воспринять ее, случись она хотя бы на год раньше), а моей обусловленности, моего ограничения, моего осуждения. И меня охватил страх. Страх перед этим жалким горизонтом, страх перед моей судьбой. Я чувствовал, как моя душа замыкается в самой себе, как отступает перед окружающим, и одновременно ужасался тому, что отступать ей некуда.
Эту печаль, порожденную ощущением жалкого любовного горизонта, знали (или, по крайней мере, неосознанно чувствовали) почти все мы. Бедржих (автор мирных воззваний) защищался от нее раздумчивым погружением в глубины своего нутра, в котором, вероятно, обитал его мистический Бог; в эротической сфере этой религиозной духовности отвечало рукоблудие, которым он занимался с ритуальной систематичностью. Остальные защищались гораздо большим самообманом: разбавляли циничные похождения за девками самым что ни на есть сентиментальным романтизмом; у кого-то осталась дома любовь, которую он здесь сосредоточенными воспоминаниями отполировывал до ярчайшего блеска; кто-то верил в длительную Верность и в преданное Ожидание; кто-то втихомолку убеждал себя, что подгулявшая девица, которую он подцепил в кабаке, прониклась к нему святыми чувствами. К Стане дважды приезжала пражская девушка, с которой он погуливал еще до армии (но которую не считал своей судьбой), и он, растрогавшись вдруг до слез, решил (под стать своему взбалмошному нраву) немедля на ней жениться. Хоть он и говорил, что устраивает свадьбу лишь ради того, чтобы выиграть два выходных, но я-то знал, что это не более чем деланно-циничная отговорка. Это событие выпало на первые дни марта, когда командир действительно предоставил ему два выходных, и Станя на субботу и воскресенье отбыл в Прагу жениться. Помню это совершенно отчетливо, ибо день Станиной свадьбы стал и для меня днем весьма знаменательным.
Мне была разрешена увольнительная, а так как последняя, проведенная с Канделябром, оставила по себе тяжкие воспоминания, я постарался увильнуть от товарищей и пошел один. Сел я на старый трамвай, ходивший по узкой колее и соединявший отдаленные районы Остравы, и положился на его волю. Потом наугад вышел из трамвайчика и наугад же снова сел в трамвай другой линии; вся эта бесконечная остравская окраина, где в невероятно диковинном конгломерате смешиваются заводские строения с природой, поле со свалкой, рощицы с отвалами, многоэтажки с деревенскими халупами, необычным образом привлекала меня и волновала; я снова вышел из трамвая и отправился пешком в долгую прогулку; я чуть ли не со страстью впитывал этот странный край и пытался добраться до его сути; я старался обозначить словами то, что дает этому краю, составленному из столь разнородных частей, единство и порядок; я проходил мимо идиллического деревенского домика, увитого плющом, и мне пришла мысль, что он уместен здесь именно потому, что совершенно не сочетается ни с обшарпанными многоэтажками, стоявшими вблизи, ни с силуэтами надшахтных копров, труб и печей, создававших его фон; я шел мимо низких временных бараков, которые и сами-то были как бы слободой в слободе, а невдалеке от них стояла вилла, хоть грязная и серая, но окруженная садом и железной изгородью; в углу сада росла большая плакучая ива, что смотрелась на этой земле каким-то залетным гостем – и, возможно, именно потому, говорил я себе, была здесь уместна. Я был растревожен всеми этими мелкими знаками непринадлежности, ибо видел в них не только общий знаменатель края, но прежде всего – образ своей собственной судьбы, своего собственного изгнанничества в этом городе; и, надо признаться, это проецирование моего частного случая на объективность всего города рождало во мне некое смирение; я понимал, что не принадлежу этому краю, так же, как не принадлежат ему плакучая ива и домик, увитый плющом, так же, как не принадлежат ему короткие узкие улицы, ведущие в пустоту и в никуда, улицы, составленные из домиков, пришедших сюда словно из иного мира, я был здесь чужд всему, так же, как были чужды этому краю – краю некогда утешительно сельскому – уродливые кварталы низких временных бараков, и я осознавал, что именно потому, что не принадлежу краю, я должен быть здесь, в этом ужасном городе непринадлежности, в городе, который объял своими неоглядными объятиями все, что ему чуждо.
Немного спустя я оказался на длинной улице Петржковиц, бывшей улице деревни, составлявшей теперь единое целое с ближними остравскими окраинами. Остановился у большого двухэтажного дома, на углу которого по вертикали была прикреплена вывеска: КИНО. Меня поразил вопрос, казалось бы, совершенно несущественный, какой только может прийти в голову глазеющему прохожему: выходит, слово КИНО бывает и без названия кинотеатра? Я огляделся, на доме (что, кстати, ничем на кинотеатр не походил) никакой другой вывески не было. Между этим домом и соседним был примерно двухметровый проход – нечто вроде узкой улочки; я пошел по ней и оказался во дворе; только здесь я обнаружил у здания заднее одноэтажное крыло, а на его стене – застекленные витрины с рекламными афишами и кадрами из фильмов; я подошел к витринам, но и тут не нашел названия кинотеатра; осмотревшись, увидел напротив за сетчатой оградой на соседнем дворе девочку. Я спросил ее, как кинотеатр называется; девочка поглядела удивленно и сказала, что не знает. Пришлось смириться с тем, что у заведения нет названия, что в этой остравской ссылке даже кинотеатры безымянны.
Вернулся я снова (без всякого умысла) к застекленной витрине, и только тут бросилось в глаза, что фильм, объявленный афишей и двумя фотографиями, советский фильм «Суд чести». Тот самый фильм, героиню которого призывала в свидетели Маркета, решив сыграть в моей жизни благодетельную роль сострадательницы, тот самый фильм, на чью строгую мораль ссылались товарищи, когда вели против меня партийное дело; все это в достаточной мере отвратило меня от фильма – я о нем слышать не мог; и надо же – здесь, в Остраве, я и то не избежал его указующего перста… Ну что ж, коль не нравится нам поднятый перст, достаточно повернуться к нему спиной. Я сделал это и пошел со двора снова на улицу Петржковиц.
И тогда я впервые увидел Люцию.
Она шла мне навстречу; входила во двор кинотеатра; почему я не минул ее и не прошел дальше? вызвано ли это было особой замедленностью моей прогулки? или было что-то необычное в запоздало-сумеречном освещении двора, заставившее меня оставаться в нем еще минуту-другую и не выходить на улицу? или причиной тому была внешность Люции? Но ведь внешность эта была совсем заурядной, хотя позднее именно эта заурядность трогала и привлекала меня; так чем же объяснить, что Люция поразила меня с первого взгляда и я остановился как вкопанный? Разве таких же девичьих заурядностей я не встречал на остравских улицах? Или эта заурядность была так незаурядна? Не знаю. Одно ясно: я продолжал стоять и смотреть вслед девушке. Она подошла медленным, неспешным шагом к витрине и стала рассматривать кадры «Суда чести»; затем неторопливо оторвала от них взгляд и прошла через открытую дверь в маленький зальчик, где находилась касса. Да, теперь понимаю: это, возможно, была та особая Люциина неторопливость, что так заворожила меня, неторопливость, от которой словно исходило покорное сознание, что спешить некуда и напрасно тянуть к чему-то нетерпеливые руки. Да, пожалуй, и вправду именно эта неспешность, исполненная грусти, заставила меня издали наблюдать за девушкой – как она идет к кассе, как вынимает мелочь, покупает билет, заглядывает в зал, а потом снова поворачивается и выходит во двор.
Я не спускал с нее глаз. Она стояла спиной ко мне, устремив взгляд вдаль, куда-то за пределы двора, где, огороженные деревянными заборчиками, ползли вверх сады и деревенские хатки, окаймленные контурами коричневой каменоломни. (Никогда не смогу забыть этот двор, помню каждую его деталь, помню проволочную изгородь, отделявшую этот двор от соседнего, где на лестнице, ведшей в дом, лупила глазки маленькая девочка; помню, лестницу обрамлял ступенчатый парапет, на котором стояли два пустых цветочных горшка и серый таз; помню закопченное солнце, спускавшееся к горизонту каменоломни.)
Было без десяти шесть, то бишь оставалось десять минут до начала сеанса. Люция повернулась и медленно пошла двором на улицу; я шел за ней; за мной остался образ опустошенного остравского села, и снова перед глазами возникла городская улица; в пятидесяти шагах отсюда была небольшая площадь, тщательно ухоженная, с несколькими скамейками в маленьком парке, за которым просвечивало псевдоготическое строение из красного кирпича. Я наблюдал за Люцией: она села на скамейку; неторопливость не покидала ее ни на мгновение, я мог бы даже сказать, что и сидела она неторопливо; не озиралась, блуждая взглядом по сторонам, сидела, как сидят в ожидании операции или чего-то захватывающего нас настолько, что мы, ничего не замечая вокруг, обращены взором лишь в себя; возможно, по той же причине она и не осознавала, что я расхаживаю около и разглядываю ее.
Часто говорят о любви с первого взгляда; я прекрасно знаю, что любовь сама склонна создавать из себя легенду и задним числом творить миф своих истоков; я, конечно, не хочу утверждать, что здесь шла речь о такой внезапной любви, но определенное ясновидение и вправду здесь было: эту эссенцию Люцииного существа, или – если быть совершенно точным – эссенцию того, чем Люция стала для меня впоследствии, я понял, почуял, увидел разом и с первого взгляда; Люция принесла мне самое себя, как людям приносят себя явленные истины.
Я смотрел на нее; разглядывал деревенский перманент, крошащий волосы в бесформенную массу кудряшек, разглядывал ее коричневое пальтецо, жалкое, и поношенное, и, пожалуй, чуть коротковатое; разглядывал ее лицо, неброско красивое, красиво неброское; я чувствовал в этой девушке покой, простоту и скромность – ценности, которые были так нужны мне; мне казалось, что мы даже очень близки, что нас объединяет (хоть мы и не знакомы) таинственный дар непринужденного общения; мне казалось, что стоит только подойти к девушке и заговорить с ней, и она, поглядев (наконец) мне в лицо, обязательно улыбнется, как если бы, допустим, перед ней неожиданно возник брат, которого она много лет не видала.
Люция подняла голову; взглянула на башенные часы (и это движение запечатлелось в моей памяти; движение девушки, которая не носит часов на руке и автоматически садится лицом к часам), встала и пошла в кино; я хотел присоединиться к ней; смелость у меня бы нашлась, но вдруг не нашлось слов; и хотя душа была преисполнена чувств, в голове не было ни единого слова; я вновь следом за ней дошел до предбанника, где помещалась касса и откуда можно было заглянуть в зал, зиявший пустотой. Пустота зрительного зала чем-то отталкивает; Люция остановилась и смущенно огляделась; в эту минуту вошли несколько человек и поспешили к кассе; я опередил их и купил билет на ненавистный фильм.
Девушка вошла в зал; я шел за ней; в полупустом зале указанные на билетах места теряли всякий смысл – каждый садился куда хотел; я прошел в тот же ряд, что и Люция, и сел возле. Раздалась визжащая музыка с заигранной пластинки, зал погрузился во тьму, и на экране замелькали рекламы.
Люция должна была понимать, что солдат с черными петлицами не случайно сел рядом – определенно, все это время она осознавала, ощущала мое соседство, и, возможно, ощущала тем больше, что я сам был полностью сосредоточен на ней: происходившего на экране я не воспринимал (до чего курьезное мщение: я радовался, что фильм, на который моралисты ссылались так часто, прокручивается передо мной на экране, а мне хоть бы хны).
Фильм кончился, зажегся свет, горстка зрителей поднялась со своих мест. Встала и Люция. Взяла с колен сложенное коричневое пальто и просунула руку в рукав. Я быстро нахлобучил пилотку, чтобы не видно было моего стриженного наголо черепа, и молча помог ей влезть рукой и во второй рукав. Она коротко взглянула на меня и ничего не сказала, пожалуй, лишь слегка кивнула головой, но я не понял, означало ли это движение благодарность или оно было непроизвольным. Мелкими шажками она вышла из ряда, а я, быстро надев свою зеленую шинель (она была длинна и, скорей всего, не к лицу мне), двинулся за ней.
Еще в зале я заговорил с ней. Словно в течение двух часов, пока сидел рядом с ней и думал о ней, я настраивался на ее волны: заговорил с ней так, будто хорошо знал ее; против обыкновения, я начал разговор не с остроты, не с парадокса, а совершенно естественно – я и сам был поражен: ведь до последнего времени я всегда спотыкался перед девушками, точно едва брел под тяжестью масок.
Я спросил, где она живет, что делает, часто ли бывает в кино. Сказал, что тружусь на рудниках, что это сущая каторга, что редко удается выйти в город. Она сказала, что работает на фабрике, что живет в общежитии и там уже в одиннадцать надо быть дома, а в кино ходит часто, так как не любит танцев. Я сказал, что охотно пойду с ней в кино, когда у нее найдется свободное время. Она ответила, что предпочитает ходить одна. Я спросил, не потому ли это, что ей грустно в жизни. Она согласилась. Я добавил, что мне тоже невесело.
Ничто не сближает людей быстрее (пусть только внешне и обманчиво), чем грустное, меланхолическое соучастие; атмосфера спокойного понимания, устраняющая любые опасения и препятствия и одинаково доступная душе утонченной и грубой, образованной и простой, – самый несложный и притом столь редкостный способ сближения: надо, пожалуй, только отбросить напускное умение «владеть собой», отработанные жесты и мимику и стать естественным; не знаю, как мне удалось (внезапно, без подготовки) достигнуть этого, как могло удаться это мне, бредущему ощупью за своими вымышленными масками; не знаю, но я принял это как нежданный дар и чудодейственное освобождение.
Итак, мы рассказывали о себе самые обыкновенные вещи; наши исповеди были короткими и деловыми. Мы дошли до общежития, постояли недолго; фонарь бросал свет на Люцию, я смотрел на ее коричневое пальтецо и гладил ее: не по лицу, не по волосам, а по обтерханной материи этой трогательной одежонки.
Вспоминаю еще, что фонарь покачивался, что мимо проходили, раздражающе громко смеясь, молодые девушки и открывали дверь общежития, вспоминаю, как я скользнул взглядом вверх по стене дома, где жила Люция, стене серой и голой, с окнами без карнизов; вспоминаю Люциино лицо, которое было (по сравнению с лицами других девушек, каких довелось мне знать в подобных ситуациях) удивительно спокойным, совсем без мимики и походило на лицо ученицы, стоящей у доски и смиренно отвечающей (без строптивости и без лукавства) лишь то, что знает, не думая ни об отметке, ни о похвале.
Мы договорились, что я напишу ей открытку и сообщу, когда снова мне дадут увольнительную и мы сможем увидеться. Мы простились (без поцелуев и объятий), и я удалился. Пройдя несколько шагов, оглянулся: Люция стояла у двери, не открывая ее, и смотрела мне вслед; только сейчас, когда я был далеко, она вырвалась из своей сдержанности и устремила на меня долгий взгляд (до этой минуты робкий). А потом подняла руку – как человек, который никогда не махал рукой и не умеет махать, а только знает, что на прощание машут рукой, и потому неловко отваживается на этот жест. Я остановился и тоже помахал ей; мы смотрели друг на друга издалека, я снова двинулся и снова остановился (Люция все еще махала рукой) – вот так медленно я уходил, пока наконец не свернул за угол, и мы потеряли друг друга из виду.
С того вечера все во мне изменилось; я вновь стал обитаем; я не был уже той горестной пустотой, по которой гуляли (как сор по разграбленному жилищу) печали, угрызения и жалобы; обитель нутра моего оказалась вдруг кем-то убранной и заселенной. Часы, висевшие на ее стене с недвижимыми долгие месяцы стрелками, вдруг затикали. Это было знаменательно: время, которое до сих пор текло, словно равнодушная река от ничего к ничему (я же был в паузе!), без отчетливых звуков, без такта, начало вновь приобретать свой очеловеченный облик: начало делиться и отсчитываться. И стал добиваться увольнительных, и отдельные дни превратились в ступеньки лестницы, по которой я восходил к Люции.
Никогда в жизни я не отдавал никакой другой женщине столько мыслей, столько молчаливой сосредоточенности, как Люции (кстати, у меня уже никогда и не было столько времени). Ни к одной женщине я никогда не испытывал столько благодарности.
Благодарности? За что? Люция прежде всего вырвала меня из круга этого жалкого любовного горизонта, которым мы все были окружены. Конечно, и молодожен Станя определенным способом вырвался из этого круга; дома, в Праге, теперь у него была любимая жена, он мог думать о ней, мог воображать далекое будущее своего супружества, мог утешаться тем, что его любят. Но завидовать ему нельзя было. Актом бракосочетания он привел в движение свою судьбу, но уже в ту минуту, когда садился в поезд, возвращаясь в Остраву, лишался всякого влияния на нее; и так неделя за неделей, месяц за месяцем в его первоначальную радость примешивалось все больше и больше беспокойства, все больше и больше беспомощной тревоги о том, что происходит в Праге с его собственной жизнью, от которой он был отторгнут и к которой не имел доступа.
Встречей с Люцией я тоже привел свою судьбу в движение, но не терял ее из виду; встречался я с Люцией редко, но все-таки почти регулярно и знал, что она умеет ждать меня две недели и больше и встретить после этого перерыва так, словно мы расстались вчера.
Но Люция освободила меня не только от обычного похмелья, вызванного безотрадностью остравских любовных приключений.
Хотя к тому времени я понимал, что проиграл борьбу и бессилен как-либо повлиять на свои черные петлицы, хотя понимал и то, что чураться людей, с которыми придется года два, а то и больше жить бок о бок, столь же бессмысленно, как и бессмысленно без устали отстаивать право на свой исходный жизненный путь (его привилегированность я начал осознавать), но все-таки это мое измененное отношение к ситуации было лишь рассудочным, волевым и не могло избавить меня от внутреннего плача над своей «потерянной судьбой». Этот внутренний плач Люция чудодейственно успокоила. Достаточно было только чувствовать возле себя Люцию в теплом сиянии всей ее жизни, где не играли никакой роли ни вопросы космополитизма и интернационализма, ни бдительность и настороженность, ни споры об определении диктатуры пролетариата, ни политика со своей стратегией, тактикой и кадровыми установками.
На поле этих забот (столь преходящих, что их терминология вскоре станет непонятной) я потерпел поражение, но именно к ним тяготел всей душой. Перед различными комиссиями я мог приводить десятки доводов, почему я стал коммунистом, но что больше всего в движении меня завораживало, даже пьянило – это был руль истории, в чьей близости (истинной или лишь мнимой) я оказался. Мы ведь и в самом деле решали судьбы людей и вещей; и именно в вузах: в профессорской среде мало было тогда коммунистов, и в первые годы вузами управляли почти одни студенты-коммунисты, решавшие вопросы профессорского состава, учебных программ и реформы преподавания. Опьянение, какое мы испытывали, обычно называют опьянением властью, но (при капле доброй воли) я мог бы выбрать и менее строгие слова: мы были испорчены историей; мы были опьянены тем, что, вспрыгнув на спину истории, оседлали ее; разумеется, со временем это превратилось по большей части в уродливое стремление к власти, но (так как все людские страсти неоднозначны) в этом таилась (а для нас, молодых, пожалуй, особенно) и вполне идеальная иллюзия, что именно мы открываем ту эпоху человечества, когда человек (любой человек) не окажется ни вне истории, ни под пятой истории, а будет вершить и творить ее.
Я был убежден, что вне сферы этого исторического руля (которого я опьяненно касался) нет жизни, а есть лишь прозябание, скука, изгнание, Сибирь. И сейчас я вдруг (после полугода Сибири) увидел совершенно новую и неожиданную возможность жизни: передо мной открылись забытые луга вседневности, сокрытые под крылом летящей истории, а на нем стояла бедненькая, жалкая и, однако, достойная любви женщина – Люция.
Что знала Люция о том большом крыле истории? Едва ли когда-нибудь слышала его шелест; понятия не имела об истории; жила под нею; не томилась по ней, она была ей чужой; она не знала ничего о больших преходящих заботах, она жила заботами небольшими и вечными. И я был внезапно освобожден; мне казалось, что она пришла ко мне, чтобы увести меня в свой серый рай; и шаг, что представлялся мне еще недавно страшным, шаг, которым я должен был «выйти из истории», стал для меня вдруг шагом облегчения и счастья. Люция робко держала меня за локоть, и я позволил ей увлечь себя…
Люция была моим серым поводырем. А кем была Люция по своим более существенным данным?
Ей было девятнадцать лет, но на самом деле, пожалуй, гораздо больше, как часто случается с женщинами, у которых была нелегкая жизнь и которых из детского возраста со всего маху бросили в возраст зрелости. Она говорила, что родом из Хеба, что окончила девятилетку, а потом обучалась ремеслу. О доме своем рассказывать не любила, а если рассказывала, то лишь потому, что я принуждал ее. Дома жилось ей плохо. «Наши не любили меня», – говорила она и приводила тому разные доказательства: мать во второй раз вышла замуж; отчим пил и дурно к ней относился; однажды заподозрили, будто она утаила от них какие-то деньги, побили ее. Когда не стало мочи больше терпеть, Люция воспользовалась случаем и уехала в Остраву. Здесь живет уже год; подруги есть, но любит быть одна, подружки ходят на танцы и водят в общежитие кавалеров, а ей не хочется; она серьезная; ей больше нравится ходить в кино.
Да, она так и определила себя: «серьезная», и связывала это качество с походами в кино; в основном любила военные фильмы, в те годы весьма популярные; возможно, потому, что захватывали, а возможно, и потому, что в них сконцентрировано было великое страдание; Люция переполнялась чувствами жалости и печали, которые, как она полагала, приподнимали ее и утверждали в «серьезности», столь ценимой ею в самой себе. Однажды она сообщила мне, что видела «очень прекрасный фильм» – им оказался довженковский «Мичурин»; фильм очень нравился ей, и главным образом по трем причинам: там, мол, отлично показано, до чего прекрасна природа; она всегда ужасно любила цветы; а человек, который не любит деревьев, хорошим человеком, по ее мнению, быть не может.
Конечно, неверно было бы думать, что в Люции привлекала меня лишь экзотичность ее простоты; ее простота, недостаточная образованность ничуть не мешали ей понимать меня. Это понимание основывалось не на опыте или знании, не на способности обсудить что-то и посоветовать, а на чутком соучастии, с которым она выслушивала меня.
Всплывает в памяти один летний день: я получил тогда увольнительную раньше, чем Люция освободилась от работы; конечно, я прихватил с собой книжку, сел на каменную оградку и стал читать; с чтением дела обстояли плохо: мало было времени, да и связь с пражскими знакомыми никак не налаживалась; но еще призывником я бросил в свой чемоданчик три книжечки стихов, которые без устали читал, находя в них утешение; это были стихи Франтишека Галаса[2].
Эти книжки сыграли в моей жизни особую роль, особую уже потому, что я не отношусь к большим любителям поэзии, и единственными книжками стихов, которые я полюбил, были они. Стихи попали мне в руки в то время, когда я был уже исключен из партии; именно тогда имя Галаса снова стало знаменитым, благо ведущий идеолог[3] тех лет обвинил недавно почившего поэта в упадочничестве, безверии, экзистенциализме и во всем том, что тогда звучало как политическая анафема. (Труд, в котором он подытожил свои взгляды на чешскую поэзию и на Галаса, вышел в те годы массовым тиражом, и его изучали в обязательном порядке на собраниях многих тысяч молодежных кружков.)
Человек подчас в минуту несчастья пытается найти утешение в том, что свою печаль связывает с печалью других; пусть в этом, признаюсь, есть нечто смешное, но я искал стихи Галаса потому, что хотел познакомиться с кем-то, кто был так же, как и я, отлучен; я хотел убедиться, действительно ли мой образ мыслей подобен образу мыслей отлученного, и хотел проверить, не принесет ли мне печаль, какую сей влиятельнейший идеолог объявил болезненной и вредоносной, хотя бы своим созвучием какую-то радость (ибо в моем положении я едва ли мог искать радость в радости). Все три книжки я взял перед отъездом в Остраву у бывшего сокурсника, увлекавшегося литературой, а затем и вовсе упросил его отдать мне их навсегда.
В тот день Люция, встретив меня в условленном месте с книжечкой в руках, спросила, что я читаю. Я показал ей. Она удивилась: «Стишки!» – «Тебе странно, что я читаю стишки?» Она пожала плечами и ответила:
«Отчего же», но, думаю, это ей показалось странным – вероятнее всего, стихи в ее представлении сочетались с детскими книжками. Мы бродили диковинным остравским летом, черным, прокопченным летом, над которым вместо белых облаков плыли на длинных канатах вагонетки с углем. Книжка в моей руке непрестанно притягивала Люцию. И потому, когда мы расположились в редкой рощице под Петржвальдом, я открыл ее и спросил: «Тебе интересно?» Она кивнула.
Никому прежде и никому впоследствии я не читал стихов вслух; во мне безотказно действует предохранитель, защищающий меня от того, чтобы излишне раскрываться перед людьми, излишне обнародовать свои чувства, а читать стихи, как мне представляется, это даже не просто говорить о своих чувствах, но говорить о них, стоя на одной ноге; некоторая неестественность самого принципа ритма и рифмы вызывала бы во мне неловкость, доведись предаваться им иначе, как наедине с самим собой.
Но Люция обладала чудодейственной властью (ни у кого другого после Люции ее уже не было) управлять этим предохранителем и избавлять меня от бремени стыда. Я мог позволить себе перед ней все: и искренность, и чувство, и пафос.
И я стал читать:
Я обнимал Люцию за плечо (обтянутое тонкой тканью цветастого платьица) и, осязая его пальцами, отдавался потоку внушения, что стихи, которые читаю (эта тягучая литания!), поют именно печаль Люцииного тела, тихого, смиренного тела, осужденного к смерти. Я прочел ей и другие стихи и, конечно же, то, что еще по сию пору воскрешает ее образ, кончаясь трехстишьем:
И вдруг я почувствовал пальцами, что плечо Люции задрожало, что Люция плачет.
Что растрогало ее до слез? Смысл этих стихов? Или, скорей всего, неназванная печаль, которой веяло от мелодики слов и окраски моего голоса? Или, возможно, ее возвысила торжественная невразумительность стихов, и она растрогалась до слез именно этой возвышенностью? Или, быть может, стихи в ней приоткрыли таинственный затвор, и хлынула накопленная тяжесть?
Не знаю. Люция обвила меня за шею, словно ребенок, прижала голову к пропитанному потом полотну зеленой формы, облегавшей мою грудь, и плакала, плакала, плакала.
Как часто в последние годы самые разные женщины упрекали меня (лишь потому, что я не сумел отблагодарить их за чувства) в заносчивости. Чушь, я вовсе не заносчив, но, откровенно сказать, меня и самого удручает, что со времени моей подлинной зрелости я не смог по-настоящему привязаться ни к одной женщине, ни одну женщину, что и говорить, по-настоящему я не любил. Не уверен, знаю ли я причины такой своей незадачливости, Бог весть, быть может, они кроются просто в моих сердечных пороках или – что вероятнее – в обстоятельствах моей биографии; не хочется быть патетичным, но это так: сколь часто воспоминания возвращают меня в зал, в котором сто человек поднимают руки и таким путем отдают приказ сломать мою жизнь; эти сто человек и думать не думали, что однажды обстоятельства постепенно изменятся; не предполагая ничего подобного, они рассчитывали на то, что мое изгнанничество будет пожизненным. Вовсе не из болезненной чувствительности, скорей из злорадного упрямства, свойственного размышлениям, я нередко и по-разному варьировал эту ситуацию и представлял, что произошло бы, если бы вместо исключения из партии меня осудили на смерть через повешение. И я всегда, без колебаний, приходил к однозначному выводу: и в этом случае все подняли бы руки, тем более если в речи председательствующего уместность петли на моей шее была бы эмоционально обоснована.