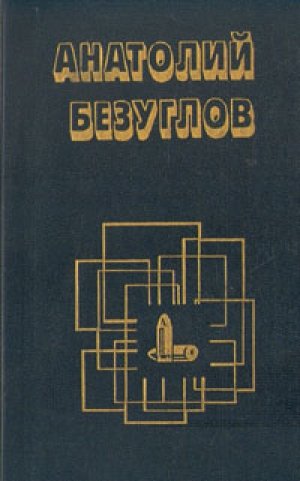
Часть первая
Набитый донельзя автобус, как это бывает в часы пик, проскользил юзом до остановки, и, когда дверцы, сдерживаемые сплотившимися телами, наконец отворились, Лена не сошла – ее буквально вынесло потоком нетерпеливых пассажиров. Сразу стало свободно и легко. Оттого что позади длинный рабочий день, душный переезд в переполненном «Икарусе» и впереди, метрах в пятидесяти, родная девятиэтажка.
Лена поправила на голове сбившуюся песцовую шапку, что никак не удавалось сделать в автобусе, вдохнула морозный воздух, пахнувший почему-то молоком, и быстро зашагала по дорожке, проложенной среди редких голых березок и рябин.
Снег падал косо, из-за чего казалось, что их дом не стоит на месте, а движется вбок и вверх. Почти все окна горели уютным желтым светом, и здание походило на корабль, пробирающийся сквозь непогоду по студеному северному морю.
Лена не заметила, что убыстряет шаги. Непроизвольно отыскала два окна на шестом этаже. Потухшие, как глазницы покойного.
«Может, он в спальне?» – тешила себя надеждой Лена, забегая в подъезд и машинально набирая номер кода входной двери. Окно из спальни выходило на другую сторону дома.
Вот так последнее время каждый день она обманывала себя надеждой, что Глеб вернулся в положенный час и ждет ее, как было прежде, в первые годы ее замужества.
Лифт поднимался медленно-медленно, мучительно долго не открывались автоматические двери.
Лена уже приготовила ключи, вставила один из них в верхний замок, импортный «аблоу».
Глеба не было.
Потому что, если кто-нибудь из них дома, «аблоу» поставлен на жучок.
Неповторимый запах родной квартиры. Одеколона «Арамис», которым муж освежает лицо после бритья, ее французской туалетной воды и едва-едва – сигарет «Космос»: других Глеб не курит. Но дом пуст, и от этих запахов становится еще грустнее. Это запах одиночества…
Лена повесила свою дубленку на вешалку, сняла сапоги, положила вдруг ставшую мокрой и съежившейся шапку на столик в углу прихожей и поплелась в комнату. Когда она бывала одна, то включала все светильники: люстру с хрустальными висюльками, огромную фарфоровую настольную лампу на журнальном столике, бра у тахты. Полумрак, нравившийся Лене, если в квартире находился муж, сегодня угнетал ее.
И все же этот праздник света, выявлявший всю прелесть хорошего дерева мебели, глубину тонов ковров на стенах и полу, тонкость расцветки и узора обоев, не вносил в душу покоя.
Лена пошла в спальню, зажгла плафон на потолке, ночники у изголовья широкой кровати, застеленной диковинным покрывалом с золотистыми драконами, и, бросив равнодушный взгляд на это уютное гнездышко, стала переодеваться в домашнее.
И, уже облачившись в длинный, ладно облегающий ее тело халат, посмотрела на свое отражение в зеркалах трельяжа, показывающих ее с трех сторон.
Себе она не понравилась.
«В самом деле толстею», – вздохнула Лена.
Особенно тоскливо было идти на кухню. Неведомо откуда (с детских лет?) в ней жило ощущение, что кухня в семье – самый заветный уголок, определяющий человеческие отношения. А скорее – выявляющий. Какие там происходят разговоры, как ведет себя Глеб на кухне – это для Лены барометр того, что происходит между ними.
И еще – кухня была всегда желанным полем деятельности. От бабушки и от матери Лена унаследовала талант кулинарки.
Сколько Лена себя помнила, особой заботой в их семье была еда – покупалось больше, чем надо, готовилось в изобилии, вкусно, жирно и сладко.
Лену прочили в кулинары, уже загодя выбирая соответствующее учебное заведение, но стала она инженером-химиком. Совершенно случайно, из-за солидарности с ближайшей подругой. Вместе приехали в Средневолжск, областной город, где вдовствовала ее бабушка по матери, поселились у нее в просторной двухкомнатной квартире (где теперь жила Лена с Глебом) и вместе подали документы в университет на химфак, куда поступили с первого захода. На втором курсе между ними пробежала черная кошка, и подруга ушла в общежитие. Дружба больше так и не вернулась. На память о прежней привязанности осталась профессия.
«Может, и хорошо, что химик, – говаривала покойная бабушка. – А ублажать вкусной едой будешь мужа и деток. На службе небось надоедало бы кормить других, для дома не оставалось бы пороху…»
Глеб и очаровал бабушку тем, что при первом их знакомстве (привести на «смотрины» кавалера внучку заставила сама бабушка) заинтриговал знанием рецептов древних римских гастрономов.
Еще тогда, когда они только встречались на вечерах, ходили вместе в кино, театр, Лена мечтала, как будет холить и нежить своего мужа. В Глеба она влюбилась, как говорится, с первого взгляда, а любовь у Лены прочно связывалась с понятием «замужество». Правда, к глажке, шитью и уборке квартиры душа у нее не лежала. Да и замечено: кто любит поварешку и кухонный нож, тот не особенно жалует иголку, швабру и утюг. И наоборот. Однако выполнять любую работу по хозяйству ее приучили. Но услышанное где-то, еще девочкой, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, давало Лене основание надеяться: в этом она добьется своего наверняка. И вот – не получилось. Глеб оказался не тем мужчиной. Похоже, ему не нравилось и пристрастие жены к еде. С неделю назад, за обедом, – дело было в воскресенье, – он вдруг сказал:
– Господи, ну разве мыслимо так много есть!
Лена убежала из-за стола, бросилась на тахту и разревелась, как девчонка.
Глеб пришел виноватый, сел рядышком и стал гладить ее по голове.
– Ну-ну, Фери, не надо разводить сырость. Я же любя… – извиняющимся тоном говорил он, употребив самое ласковое прозвище, которое взял бог знает откуда. – Сама ведь жалуешься, что платья надо расставлять.
Лучше бы он не касался этого. Самое больное ее место.
В понедельник муж пришел рано, и Лена решила, что теперь-то он будет больше уделять ей внимания. Куда там! Во вторник Глеб вернулся домой за полночь, в среду – еще позже. Словом, опять забыл о жене. Диссертация перевесила супружеский долг.
Ох уж эта диссертация! Третий год пошел аспирантуре Глеба. Как он выразился, впереди – финишная прямая.
Он целыми днями пропадал в библиотеках, да еще засиживался в архиве.
Вчера у нее терпение кончилось. Когда Глеб заявился без четверти два, она закатила ему скандал: библиотеки уже давно закрылись…
– У патрона был, – невозмутимо сказал Глеб, выслушав ее упреки.
Патроном он называл доцента кафедры Михаила Емельяновича Старостина, своего научного руководителя.
Муж, отказавшись даже от чашки чая, сразу направился в спальню. А она весь вечер ждала, приготовив его любимые (единственное желанное для Глеба блюдо) пирожки с капустой и яйцами.
– Неужели ты не мог хотя бы позвонить? – хрустя пальцами, увещевала Лена супруга, когда он, усталый и равнодушный, скидывал одежду. – Ведь у Михаила Емельяновича есть телефон.
Глеб, не удосужив ее ответом, свалился в постель, отвернулся и накрыл голову одеялом. Ей стало до того тоскливо и обидно, что она разревелась. И уже не помнила, что говорила мужу. Умоляла сказать правду, если разлюбил, нечего обманывать себя и ее. Цепляться за него она не станет.
Глеб вдруг всхрапнул. Лена думала – притворяется. Но нет. Он действительно спал. Она пошла на кухню, сварила крепкий кофе и до утра размышляла о том, что семья рушится, если уже не рухнула совсем, и не диссертация является причиной его поздних возвращений, а наверняка женщина, и, может быть, не одна.
Лена пыталась отнестись к своему открытию спокойно, философски. Но…
Как можно думать о таких вещах отвлеченно, если она любит Глеба! Любила!
Лена пила кофе, страдала, ела пирожки (такая привычка: когда худо на душе, она ела еще больше) и дождалась на кухне холодного синего рассвета. Уехала на работу с опустошенным, израненным сердцем, тщетно попытавшись скрыть косметикой темные впадины под глазами.
Слава богу, предаваться своим паническим мыслям не было времени – на комбинате приближался срок сдачи новой технологической линии. И, как это всегда бывает в предпусковые дни, обнаруживались неполадки за неполадками. Никто из инженеров не пошел даже на обеденный перерыв. И только в автобусе по дороге домой в душе с новой силой вспыхнула тоска и боль. Опять пустая квартира, запах одиночества…
Лена толкнула дверь на кухню, щелкнула выключателем. Мягкий свет абажура осветил стол, на котором лежала какая-то бумажка. Лена взяла ее в руки.
Два билета во Дворец спорта. Первый ряд. На завтра.
Она повертела билеты в руках, удивляясь, чего это Глеба потянуло на спортивные соревнования. И тут зазвонил телефон. Аппараты стояли во всех помещениях – блажь мужа. Лена взяла трубку.
– Фери! – раздался чуть загадочный голос Глеба. – Ты довольна?
– Устала… – попыталась проявить строгость и независимость Лена, но на самом деле волна спокойствия и радости уже поднималась к горлу. – Что мы не видели во Дворце спорта?
– Вот те на! – искренне удивились на том конце провода. – Юрий Антонов!
– Да ну? – невольно вырвалось у Лены.
Весь город только и говорил о гастролях популярного эстрадного певца. Девчонки на комбинате умрут от зависти. Всего два концерта! Спекулянты, как она слышала, взвинтили цены до двадцати рублей за билет. Да и за такие деньги трудно достать.
– Глебушка, милый, – заворковала Лена, начисто забыв обо всех обидах, которые ей пришлось вынести в последнее время. – Я безумно рада! Антонов! Да еще первый ряд!..
– И будешь ты царицей мира, – весело пропел в трубку Глеб, – подруга верная моя.
– А мой неверный опять сегодня?… – не удержалась Лена.
– Это почему же неверный? – обиделся Глеб.
– Не цепляйся к словам. – Лена уже пожалела о сказанном. – Задержишься?
– Фери, ты даже не представляешь, что у меня в руках! – восторженно произнес муж.
– Какой-нибудь раритет? – спросила Лена, зная увлеченность мужа.
– Не раритет, но… В общем, я у Арсения Карловича. Дай бог управиться до трех часов. Не сердись и не хмурь бровей.
– Ладно уж. Ты на машине?
– Разумеется.
– Глеб, умоляю, осторожнее. Жуткая гололедица.
– Двадцать кэмэ в час, не больше! – пообещал Глеб и положил трубку.
Лена подошла к окну. Снег, холодный, искрящийся, кружил и кружил, тихо шелестел о стекло и напоминал о том, как неуютно там, во дворе.
– Эгоистка! – сказала Лена своему отражению в окне.
Она представила мужа в огромной квартире у старого, всеми уважаемого в городе библиомана Арсения Карловича Воловика, заставленной (даже на кухне!) шкафами с редчайшими книгами.
Значит, муж действительно занят делом. Как она могла подумать?
Устыдившись своих подозрений, Лена открыла холодильник.
Но есть не хотелось. Душа ее тихо ликовала.
Весь следующий день Лена провела на работе в каком-то розовом тумане. Неувязки с новой линией словно бы и не трогали. Даже когда их распекал главный инженер, Лена думала о том, что ожидает ее вечером. Конечно же она не удержалась и раззвонила сослуживцам о походе с мужем на Антонова. Девчонки завидовали, и это было Лене как маслом по сердцу. Вот только Вера Сухотина… Нет, она тоже радовалась за Лену, но нельзя ощущать свое счастье до конца, если рядом обделенный человек. А Вере Лена сочувствовала глубоко и искренне. Деваха хоть куда – красивая, стройная и неглупая. Но не дай бог кому мыкать горе, как она! Всего двадцать четыре года, а уже вдова при живом муже. Прожили они полтора года. Он пил беспробудно, спустил все, что было в доме, и в один прекрасный день ушел. Вера вздохнула было с некоторым облегчением, но… Ребенок, девочка… Дефективная (по мнению врачей, из-за алкоголика-отца), в пять лет она в своем развитии оставалась на уровне годовалого младенца. И никакой надежды на выздоровление! Вот этот ужас безнадежности так и поселился навсегда в чудных голубых глазах Веры.
«Господи! – думала Лена, глядя на Сухотину. – А я еще жаловалась на свою жизнь! Подумаешь, Глеб весь отдается диссертации. Так ведь временно! Стремится выбиться в люди не только для себя, но и для меня».
Лена старалась избегать ее взгляда, но получилось так, что из проходной они с Верой вышли вместе. И тут же увидели бежевую «Ладу-Спутник», за рулем которой сидел Глеб.
Давненько он не заезжал за женой после работы. Лена вспыхнула было счастьем, но тут же устыдилась его перед подругой. А Глеб весело махал из машины, приглашая обеих в салон: Вере было по пути, и раньше они иногда подвозили ее.
Сухотина на этот раз отказалась, пробормотав что-то насчет магазина, и пошла прочь, жалко опустив плечи.
Глеб, в темно-сером костюме, черной водолазке, оттеняющей его белое холеное лицо, теплый в нагретой и уютной машине, чмокнул жену куда-то в висок и медленно тронул с места.
– Ну что же ты, мать, – улыбнулся он. – Если бы я не проявил мудрость и не заехал за тобой, опоздали бы.
Глеб щелкнул по циферблату своих фирменных часов: Лена действительно задержалась минут на двадцать.
– У нас аврал. Я думала взять такси.
Утром она ушла, когда Глеб еще спал, потому что приехал от Воловика около четырех часов ночи. Даже будучи вся во власти сна, Лена почувствовала, что у мужа отличное настроение. Сейчас он тоже был улыбчив, несколько ироничен – значит, дела шли хорошо.
«Какая я все-таки дура! – счастливо ругала себя Лена. – Не ценить того, что мне выпало…»
Она вспомнила, когда Глеб подошел к ней впервые. Это было на университетском вечере по случаю первомайского праздника. Лена еще раньше приметила этого высокого аспиранта с темно-русыми волосами и серыми глазами. Может быть, потому, что, ей казалось, он походил на артиста Олега Янковского. Правда, чем больше они были знакомы, тем меньше сходства она находила. Но то, первое, впечатление осталось. Лена не могла и мечтать о том, что красивый аспирант остановит свое внимание на ней: по нему вздыхали несколько ее подруг, и вздыхали безнадежно. Исключительной красавицей Лена себя не считала. Талия коротковата, плечи широковаты… Правда, все хвалили ее карие глаза, густые волнистые волосы, прямой нос. Она бы еще добавила: рот тоже неплох, и зубы. Ровные, белые, они составляли предмет особой гордости Лены. Но чтобы он (Глеб Ярцев!) протанцевал с ней весь вечер, не отходил ни на шаг и вызвался провожать – это было как в сказочном сне.
За те четыре-пять часов она наслушалась столько интересного, сколько, пожалуй, не узнала за всю предыдущую жизнь. Глеб был историком, но он с такой же легкостью говорил о музыке и литературе, как и об истории. Впрочем, о неведомых ей вещах – тоже.
Глеб очаровал не только ее. Бабушку, родителей. Правда, отец отнесся к выбору дочери более сдержанно, чем женщины, но все же симпатизировал зятю. Во всяком случае, беседовал с ним с большим удовольствием.
Поженились они за два месяца до получения Леной диплома. И за полгода до смерти бабушки. Ее квартира и досталась молодоженам.
Глеб свернул к их дому, подрулил к подъезду и предупредил жену:
– Фери, у тебя максимум пятнадцать минут. Я жду в машине.
– Беру обязательство управиться за десять, – засмеялась Лена.
Но она едва-едва уложилась в полчаса: не давалась прическа, платье, которое Лена наметила для концерта, оказалось неглаженым.
Прихватив бутерброд, она спустилась к машине, когда до начала концерта оставалось всего ничего. Глеб жал на всю железку.
После первого отделения, в антракте, они пошли в буфет. В фойе яблоку негде было упасть. Лена с некоторым удивлением для себя обнаружила, что молодежи среди зрителей меньше, чем солидных, степенных людей, хотя это – эстрада, а не какой-нибудь серьезный концерт.
– Наивнячка ты у меня, – объяснил Лене Глеб, когда они потягивали у высокого столика пепси-колу из бутылочек. – Билеты ведь в основном кому достались? Блатовикам! А студенты и школьники связями не обзавелись, а посему остались с носом.
Лена еще больше зауважала себя и мужа. Не только попали на концерт, но сидели на первом ряду! Впрочем, к подобным вещам она привыкла и принимала как должное. Ее Глеб имеет право быть везде первым. И она – с ним.
Даже ректор университета – и это знали все студенты и преподаватели – всегда здоровался с Глебом за руку, не забывая справиться о семье и передать привет отцу. Многие считали, что причиной тому – Ярцев-старший и не верили Лене, когда она говорила, что Глеб никогда не использует имя отца, ничего у него не просит. Все, чего ее муж добивается, делается только своими руками и своей головой.
– Приветствую вас, молодые люди! – раздался рядом низкий, с хрипотцой голос.
Глеб и Лена обернулись – коренастый крепкий мужчина с редкими седыми волосами, тщательно зачесанными назад, держал в руках бутылку минеральной воды с надетыми на нее двумя тонкими стаканами и картонную тарелочку с пирожными. Возле него стояла высокая женщина в темно-синем шерстяном платье с воротником и манжетами из елецких кружев.
– Добрый вечер! – обрадовался Глеб, сдвигая на мраморной столешнице пустую посуду. – Пристраивайтесь к нам.
Это был начальник областного управления внутренних дел генерал-майор Игнат Прохорович Копылов с женой Зинаидой Савельевной.
Лена тоже обменялась с ними приветствиями.
– Духотища! – промокнул лоб платком Копылов, наливая себе и супруге минеральной воды.
Без мундира генерал не смотрелся. Впрочем, Глеб чаще видел Копылова в домашнем и теперь не мог решить, как обращаться к нему – по имени-отчеству или же просто дядя Гоша.
– Говорила тебе, овчинка выделки не стоит, – с укоризной произнесла Зинаида Савельевна. – По телевизору лучше.
– Скажешь тоже, – покачал головой генерал. – Да и транслировать не будут. Я узнавал.
– Его чуть ли не каждый день показывают, – не сдавалась жена.
– Вам не нравится Антонов? – округлила глаза Лена.
– Ничего особенного, – пожала плечами Зинаида Савельевна. – Такой ажиотаж, а из-за чего? На уровне художественной самодеятельности.
– Это ты зря, Зинаида, – сказал Игнат Прохорович. – Действительно, простоват вроде, а что-то есть. За душу берет.
– Он прекрасный мелодист! – подхватила Лена, потому что не могла сдержать своего восторга от концерта.
– Антонов подобрал удачный образ, – вставил Глеб. – Свой парень, доступный, понятный… Словно ваш друг и поет только для вас. Людям всегда приятно то, что они легко воспринимают. А вообще-то о вкусах не спорят. Чарли Чаплин считал, что к искусству надо относиться по принципу – нравится или нет.
– Это кто понимает и имеет свое суждение, – продолжала спорить Зинаида Савельевна. – Но скажи честно, Глебушка, неужели это, – она кивнула на дверь в зал, – стоит того, чтобы с выпученными глазами бисировать, кричать, выскакивать на сцену, как та девчонка? Разве нормальный человек…
Во время концерта одна девица несколько раз выбегала с цветами, даже пыталась поцеловать руку певцу.
– Фанатичка, – поддержал ее Глеб. – Но в таланте Антонову не откажешь.
Жена генерала относилась к Глебу как к родному сыну (своих детей у Копыловых не было), и не только потому, что знала его чуть ли не с пеленок. Детский врач, Зинаида Савельевна спасла в свое время Глеба, когда у него был заворот кишок.
– Господи, да покажи тебя несколько раз по телевизору, тут же станешь звездой! Экран – вот что делает славу! – сказала она, имея в виду домашние таланты Глеба: он неплохо играл на гитаре, и голос у него был – несильный, но приятный.
– А что? – усмехнулся Игнат Прохорович. – Данные у тебя подходящие. Прогремел бы на весь Союз! И деньги бы лопатой греб.
– Я не завидую, – улыбнулся Глеб. – Каждому свое.
– Вообще с этими артистами – что в кино, что на эстраде – форменное помешательство, – развивала свою мысль Зинаида Савельевна. – Молятся на них, как на идолов, честное слово! Считается, посмотреть их вблизи – словно прикоснуться к святым мощам. А уж познакомиться!.. – Она махнула рукой. – Я еще понимаю – поклоняться гениальному уму ученого, таланту гениального писателя, изобретателя! Разве может идти в сравнение то, что дают человечеству они и что дают эти! Какой-нибудь академик всю жизнь бился и разрешил проблему, как накормить, согреть миллионы людей… И что же? Кто его знает? Кто забрасывает его цветами, ловит на улице – подпишите фотографию? Никто. А тут – спел шлягер, сразу на руках носят, все блага в кармане. Без пота, как говорится, и крови.
– Насчет пота ты, Зиночка, того, – почесал затылок Игнат Прохорович. – Видела, как у Антонова он по лицу ручьями лился? Нет, этот парень трудяга. Они тоже бесплатно завтраки не получают.
– И музыку сам пишет! – поддержала генерала Лена.
– Между прочим, – вставил свое веское слово Глеб, – Тургенев, наш писатель-классик, сравнивал работу певца с тяжелым крестьянским трудом. Юрий Гагарин как-то зашел к Зыкиной после концерта за кулисы и говорит: «Ну и перегрузки у тебя, Люда! Под стать космическим».
Спор был прерван звонком, возвещавшим о конце антракта. Зрители шумно повалили в зал. Двинулись и Ярцевы с Копыловыми.
– Как батя на новом месте? – спросил у Глеба генерал, когда они медленно продвигались с толпой по фойе.
– Мой старикан доволен, – ответил Глеб.
– Старикан, – усмехнулся Копылов. – Хочешь сказать, мы уже вышли в тираж, пора на пенсию?
– Что вы, Игнат Прохорович, и в мыслях не было, – смутился Глеб.
– Знаем мы вас, молодежь, – шутливо погрозил пальцем генерал. – Не терпится занять наше место. – Он вдруг погрустнел, посерьезнел. – Не спешите. Годы, они, брат, так быстро летят – не успеешь оглянуться. Вот, кажется, давно ли мы с твоим батей были такими же зелеными, как ты? Словно бы вчера, ан видишь… – Игнат Прохорович провел рукой по совершенно седой, без единого темного волоса, голове.
Они разошлись по своим местам.
После концерта поговорить с генеральской четой больше не пришлось. В раздевалке образовалась огромная очередь. Копыловы пристроились где-то в хвосте. А к Ярцевым, как только они вышли из дверей зала, протиснулась старушка-гардеробщица с дубленкой Лены и волчьей шубой Глеба. Надевая шапку у зеркала, Лена поймала на себе удивленный, не без оттенка зависти взгляд Зинаиды Савельевны.
– Что скажешь, Фери? – спросил Глеб, когда они отъехали от Дворца спорта.
– Полный кайф! – зажмурив от счастья глаза, сказала Лена.
Она была еще во власти праздничной атмосферы концерта, переживала блеск огней, музыку, аплодисменты и цветы, к чему, казалось, имела сама непосредственное отношение. Происходило это, наверное, оттого, что они сидели с мужем в двух шагах от рампы, рядом с самыми именитыми, избранными людьми города. И еще Лену возвышало в ее глазах сознание того, что остальные несколько тысяч зрителей долго будут давиться в очереди за своими пальто, потом ждать автобуса и трястись в нем до дома, а они с Глебом катят в уютном теплом автомобиле, свободные и независимые от обстоятельств.
– Говорят, эстрадные певцы зарабатывают кучу денег, – нарушила она молчание.
– Тебя это волнует? – недовольно покосился на нее Глеб.
– Я так… – стушевалась Лена, досадуя, что вылезла со своими глупыми мыслями.
Глеб не любил мелкотравчатых мещанских разговоров. Она ждала упреков, насмешки, но он неожиданно задумчиво произнес:
– Ты знаешь, а Зинаида Савельевна в чем-то права. Действительно, иным лавры достаются слишком легко. Да, миллионы телевизоров, транзисторов, магнитофонов и из пигмея делают великана! Угадай, кого я сейчас вспомнил?
Лена знала, что не угадает, потому что не умела даже приблизительно проследить за ходом его мыслей. Она отрицательно покачала головой.
– Островского… Я имею в виду – драматурга, – сказал Глеб. – Талантище, конечно, огромный! Вклад его в русскую литературу не оценить. А он признался как-то, что тридцать лет работает для русской сцены, написал более сорока пьес, давно уже не проходит ни одного дня, чтобы в нескольких театрах России не шли его пьесы, которые дали сборов только в императорских театрах более двух миллионов рублей, а он не может позволить себе отдохнуть хотя бы один месяц в году! Представляешь?
– Неужели ему не хватало на жизнь? – удивилась Лена.
– Островский так и писал: «Я только и делаю, что или работаю для театра, или обдумываю сюжет вперед, в постоянном страхе остаться к сезону без новых пьес, то есть без куска хлеба с огромной семьей». Вот так, мать…
«Боже мой, – с нежностью подумала Лена, – какая у Глеба светлая голова. Все помнит».
Он молча вел «Ладу», внимательно следя за скользкой дорогой. Лене хотелось слышать его голос, и она спросила:
– Откуда твой папа знает Копыловых?
– Тысячу лет знакомы. Вместе начинали работать в Ольховском районе. После войны. Дядя Гоша служил обыкновенным постовым милиционером.
– Стоял на перекрестке и регулировал движение на дороге?
– Да, Фери, – усмехнулся Глеб. – Ты у меня эрудит. Спутать регулировщика из ОРУДа и постового…
– Не все же такие умные, как ты, – обиделась Лена.
– Не фырчи, – миролюбиво сказал муж. – Понимаешь, постовой милиционер отвечает за порядок на каком-нибудь участке города. Например, на нашей улице. Чтоб на ней было все спокойно.
– Понятно, – кивнула Лена. – А кем в Ольховке работал твой папа?
– О, отец был на три головы выше Копылова! Зампред райисполкома! Потом дядя Гоша ездил учиться, вернулся уже в Средневолжск. И отца повысили, перевели в облисполком. Так они и шли оба вверх. – Глеб усмехнулся. – Да, история развивается по спирали. Отец снова работает в Ольховке. Так сказать, на круги своя…
– Вернется, вернется еще в Средневолжск, – успокоила мужа Лена. – Такой квартирой не бросаются.
Когда Семена Матвеевича, ее свекра, направили в Ольховский район, в городе осталась за ним квартира. Четырехкомнатная, в самом центре, на проспекте Свободы. В этом же доме проживали и Копыловы. Глеб был прописан на площади отца и иногда заезжал туда, чтобы проверить, все ли спокойно и на месте.
– Да, думаю, что старикан долго в Ольховке не задержится, – сказал Глеб, сворачивая к их девятиэтажке.
Он обогнул дом, подъехал к гаражу. Заперев машину, они поднялись к себе.
– Мать, я страшно голоден! – признался Глеб, целуя жену в губы.
Лену обдало сладостной волной: муж давно не был так ласков.
– Глебушка, милый, что тебе приготовить? – спросила Лена, схватив его руку и прижимая ее к своей груди. – Табака пожарить? Или лангет? Можно отбить и в кляре.
– Действуй, мать, а я полезу в ванну.
Лена пошла в спальню. Она слышала, как Глеб включил в большой комнате телевизор, затем в ванной комнате послышался шум воды.
Она сняла праздничное платье, повесила в шкаф, накинула на себя прозрачный пеньюар, подаренный мужем ко дню рождения, присела на пуфик у трельяжа и посмотрелась в зеркало. Глаза у нее были счастливые и оттого глупые. Лена подумала, что в них слишком уж видно желание.
«Ну и пусть!» – улыбнулась она, уже предвкушая всем своим горячим, нетерпеливым телом сладостные безумные минуты.
Лена выдвинула ящичек, где хранила украшения, сняла серебряный витой браслет, серебряные сережки с бирюзой и такой же кулон, сложила все это в коробочку из-под французских духов, потом открыла длинный футляр из старинной тисненой кожи с потускневшей от времени монограммой – витиевато переплетенными заглавными буквами «Л» и «Г», – чтобы положить туда перстень, и обомлела.
Футляр был пуст.
– Странно, – пробормотала Лена, машинально шаря в ящичке.
Затем она стала проверять другие коробочки с такой же монограммой.
Они тоже были пусты.
– Глеб! – закричала Лена. – Глеб!
Но муж, вероятно, не слышал.
Она бросилась в ванную. Глеб уже разделся до трусов, пробуя рукой пенящуюся от шампуня воду.
– Ничего не понимаю… – испуганно сказала Лена.
– Ты о чем? – повернулся к ней муж.
– Драгоценности! Ну, бабушки Лики! Их нет!
– Брось, – недоверчиво посмотрел на нее Глеб.
– Сам пойди посмотри.
Глеб торопливо вытер полотенцем пену с рук и двинулся вслед за женой в спальню.
Лена в какой-то нервной лихорадке вынимала из трельяжного ящика свои украшения – клипсы, сережки, браслеты, кольца, нитки жемчуга, броши. Все это было в основном недорогое, для разных нарядов. Подарки самого Глеба, его и ее родителей. Но драгоценности, что хранились в футлярах с монограммой, исчезли. Кроме перстня, который Лена надевала на концерт.
– Видишь, нет! – истерично крикнула она, демонстрируя пустые коробки. – Нету!
– Успокойся, Фери! – проговорил Глеб. Он побледнел, на лбу резко обозначились две продольные морщины. – Может, ты сунула куда-нибудь? Вспомни!
– Что я, чокнутая, да? Перед отъездом на концерт видела! Понимаешь, тут все лежало, на месте!
Швырнув пустые футляры на трельяж, она прижала кулаки к глазам и тонко заголосила.
– Фери, Фери… – растерялся Глеб. Он обнял жену за плечи, но она оттолкнула его, плюхнулась на постель и заплакала навзрыд.
– Что… скажу… папе? – сквозь слезы выдавила она. – Прокутили, да?
У Глеба на скулах заходили желваки. Он зябко поежился, переступая с ноги на ногу.
– Ну делай же что-нибудь! – взвизгнула Лена. – Чего стоишь? Конечно, это не твое!
– Заткнись! – вдруг заорал Глеб.
Лена от неожиданности замолчала и со страхом посмотрела на мужа.
– Прости… – пробормотал он. – Прости, Фери… Я понимаю… Но нельзя же так убиваться. – И стал гладить ее по голове.
Лена схватила его руку, прижала к губам.
– И ты извини, – тихо прошептала она. – Я вела себя отвратительно. Дурочка, это точно. Но… это ведь не какая-нибудь бижутерия! Сам знаешь – бриллианты, платина, золото. Отец с ума сойдет!
Глеб распахнул шкаф.
– Ты что? – удивилась Лена.
– Нас обворовали! Понимаешь, здесь кто-то был! – зловеще-спокойно сказал он.
И только теперь до нее дошел жуткий смысл происшедшего. Лена встала и принялась вместе с мужем осматривать вещи.
Его и ее кожаные пальто висели на месте. Мохеровая шаль и свитер – тоже. Нетронутыми остались и многочисленные платья Лены, коробки с туфлями, костюмы Глеба, его кожаный пиджак и новые мужские немецкие сапоги «Саламандра».
– Тут все вроде цело, – мрачно констатировал Глеб. – А в комнате?
– Глеб, вода! – вспомнила Лена.
Со словами «Ах, черт!» он побежал в ванную. И вовремя. Пенная шапка уже вываливалась из ванны. Глеб закрыл краны и вернулся к жене.
– Оденься, – сказала она. – Простудишься.
Он натянул на себя спортивный костюм «адидас», и оба супруга пошли ревизовать большую комнату.
Первым делом занялись стенкой. Лена дотошно пересчитывала хрустальные вазы, фужеры, наборы с богемскими рюмками и бокалами. Затем осмотрела ледериновые коробки с серебряными столовыми приборами.
Все было на месте. Как и прочие дорогие и недорогие безделушки: фарфоровые статуэтки, настольные зажигалки, паркер с золотым пером, китайское блюдо семнадцатого века, севрский сервиз.
Радиоаппаратура – а она стоила очень дорого, все японского производства: «Сони» и «Джи-ви-си» – не заинтересовала вора.
– Смотри, и дубленка моя здесь, – показал на вешалку в прихожей Глеб. – Наверное, фасон не понравился, – мрачно сострил он.
– Ты еще шутишь, – вздохнула Лена.
– Что же теперь – вешаться? – усмехнулся муж. – Но как они вошли? – Он осмотрел входную дверь, замки. – Вроде все цело.
– Что гадать? – сказала Лена и, неожиданно для себя, решительно произнесла: – Вот что, Глеб, звони-ка Игнату Прохоровичу! Срочно!
– Погоди, – отмахнулся он.
– Так время!.. Понимаешь? Время дорого! Воры успеют скрыться!
– Не волнуйся, – осклабился Глеб, – уже скрылись.
– Ну, знаешь! – возмутилась Лена.
– Ради бога! Пожалуйста! – Глеб направился в комнату, снова начиная злиться. – Сейчас примчится куча милиционеров, начнутся вопросы, допросы. – Он снял трубку. – Только я хотел бы знать, как к этому отнесется Антон Викентьевич?
– А как? – удивленно спросила Лена. – Я думаю, папа поступил бы именно так.
– Ты уверена? – Глеб, играя трубкой, внимательно смотрел на жену.
И Лена вдруг почувствовала, что твердой уверенности на этот счет у нее нет.
Она почему-то представила себе не отца, а бабушку. Бабу Лику, Леокадию Модестовну. Властную, надменную старуху, которая в свои восемьдесят лет ходила прямо, гордо неся красивую седую голову. И этот вензель на футлярах – Леокадия Гоголева – ассоциировался у Лены с чопорностью и загадочностью матери отца.
Баба Лика занимала отдельную комнату – самую светлую в квартире. Лену приучили входить к бабушке только с ее разрешения. Но Лену туда и не тянуло, хотя у Леокадии Модестовны было множество диковинных, красивых вещей. Ширма, обтянутая шелком, разрисованная хризантемами; фарфоровый божок с монгольским лицом, который долго качался, если его тронуть; веер из черных пушистых перьев; негритенок в чалме, атласных шароварах и с серебряной саблей в руке; альбом семейных дагерротипов в красном сафьяновом переплете.
Баба Лика редко выходила из своего обиталища. Она словно презирала мир настоящего, оставаясь в своем прошлом.
В дни бабушкиных именин (не рождения, а именин!) отец с утра просил Лену одеться понаряднее и навестить Леокадию Модестовну с поздравлением. Старуха сидела у окна в кресле в торжественном темном платье из кастильских кружев. Она, касаясь холодными сухими губами лба девочки, говорила:
– Спасибо, моя милая… – и закрывала глаза, словно засыпала.
Лена, боясь нарушить малейшим звуком ее забытье, тихо удалялась.
Месяца за три до смерти – Лене тогда было пятнадцать лет – баба Лика неожиданно сама пригласила ее в свое логово (так про себя называла девочка комнату старухи). Усадив внучку на старенькое канапе, она достала резной, инкрустированный перламутром и серебром ларец, открыла его ключом, висевшим на шнурке на шее.
– Елена, – торжественно проговорила Леокадия Модестовна, – это все достанется тебе…
Негнущимися, малопослушными пальцами она разложила на диванчике красивые футляры с золоченой монограммой.
– Что это? – наивно спросила девочка.
– Посмотри…
На лице бабушки, пожалуй, впервые промелькнуло что-то наподобие улыбки.
Лена осторожно открыла длинный футляр. И замерла, очарованная красотой золотого колье и перстня, усыпанных драгоценными камнями.
– Шпинель, – дотронулась до самого крупного из них искривленным ревматизмом пальцем старуха. Камень таинственно чуть желтовато искрился лучиками, исходившими из его глубины. – А это – бриллианты… Бразильские…
Они венчиком окружали шпинель.
В других коробочках были сережки, тоже с бриллиантами; еще один перстень из платины с изумрудом; золотой кулон в виде сердечка, выложенного по краям кроваво-красными рубинами и крупным бриллиантом посередине, а также – что больше всего понравилось Лене – браслет из золота с голубой эмалью и александритами.
Дав насладиться девочке этой завораживающей красотой, старуха сложила драгоценности в ларец, заперла его и сказала:
– Когда я умру, а это будет скоро…
– Что вы, бабушка! – запротестовала было Лена, но та остановила ее властным жестом.
– Я знаю… Я чувствую… Так вот, после моей смерти все это достанется тебе. Храни до конца дней своих. – Она указала на портрет своего отца в рамке из красного дерева, стоявший на столе. – Его подарки.
Через день или два, Лена не помнит точно, отец привез в дом нотариуса.
После этого баба Лика уже не выходила из своей комнаты. Умерла она через три месяца.
В завещании, которое прочитал Лене отец, была выражена последняя воля Леокадии Модестовны: все свои сбережения и имущество она оставляла сыну, Антону Викентьевичу Гоголеву, за исключением драгоценностей, которые переходили по наследству к ее внучке, Елене Антоновне Гоголевой, по достижении восемнадцати лет. Список драгоценностей приводился полностью и с дотошным описанием камней.
Тогда еще Лена не придавала значения наследству и не имела понятия о его стоимости. Да еще была обижена за мать, которую свекровь, будучи даже на смертном одре, не простила за что-то.
– Подумаешь – завещание! – сказала Лена матери. – Предрассудки! Носи что хочешь!
– Нет, Леночка, – наотрез отказалась мать. – Ни за что! Душу будут жечь.
Она тоже не могла забыть и простить. Что именно, Лена так и не узнала.
Отец вручил (пустая формальность, конечно, коробочки с вензелем как лежали в шкафу, так и остались там лежать) фамильные драгоценности дочери в тот день, когда Лене исполнилось восемнадцать. Но надеть их ей в общем-то так ни разу и не удалось. По настоятельной просьбе Антона Викентьевича.
– Прошу тебя, доченька, – сказал он, – не дразни гусей. Люди завистливы, и при моем положении могут подумать бог знает что.
И теперь, когда надо было решать, стоит ли заявлять в милицию о похищении драгоценностей, Лена засомневалась.
– Давай посмотрим на вещи трезво, – сказала она.
– Если смотреть на вещи трезво, то голова пойдет кругом, – заметил Глеб.
– Может, позвонить папе? – неуверенно предложила Лена. – Посоветоваться…
– Хочешь, чтобы его хватила кондрашка? – усмехнулся муж.
– Не дай бог! – замахала она руками. – Как же быть? Что я скажу, где драгоценности?
– С чего это он вдруг заинтересуется ими?
– А если все-таки спросит?
– Будем надеяться, что в ближайшее время не спросит. Словом, как-нибудь выкрутимся.
– Как?
– Закажем у ювелира.
– Это же безумные деньги!
– На золото найдем. А уж камни придется вставить поддельные. В дальнейшем же…
– Нет! – решительно отказалась Лена.
Бабушкино наследство было ее единственной надеждой. Вдруг Глеб уйдет от нее? Что тогда?
– Значит… – вопросительно посмотрел на нее муж.
– Звони Копыловым!
– Неудобно! – поежился Глеб. – Пользоваться добрым его отношением… – Видя недовольство жены, он добавил: – Я позвоню дяде Гоше завтра на работу. А сейчас – дежурному по городу.
Глеб набрал 02.
Дежурный по горуправлению внутренних дел принял сообщение от Ярцева в двадцать два часа семь минут. Через три минуты из ворот горуправления милиции вылетела спецмашина с оперативной группой в составе следователя Воеводина, эксперта-криминалиста Баранчикова, оперуполномоченного уголовного розыска Богданова и кинолога Васильева со служебно-разыскной собакой по кличке Король.
В двадцать два часа двадцать пять минут они уже звонили в квартиру потерпевших.
Открывшая дверь хозяйка ахнула: так быстро работников милиции не ждали.
– Я думала, что подобная оперативность существует только в кино, – слабо улыбнулась Лена.
В прихожей сразу стало тесно: помимо сотрудников милиции зашли еще дворник и соседка по лестничной площадке – в качестве понятых.
Следователь Воеводин попросил рассказать о случившемся. Лена повела работников милиции в спальню и поведала о пропаже.
– Когда вы видели ваши ценности в последний раз? – спросил Воеводин.
– Сегодня. В половине седьмого. Понимаете, собиралась на концерт Антонова. Из бабушкиных драгоценностей я надела лишь перстень. Остальное лежало в футлярах.
Эксперт-криминалист занялся фотографированием и снятием отпечатков пальцев на футлярах, трельяже, ручках дверей – входной и той, что вела в спальню.
– Кто помимо вас был еще в квартире? – продолжал спрашивать следователь.
– Никого. Муж, – показала Лена на Глеба, стоявшего в коридоре, – ждал меня внизу, в машине.
– Кто закрывал дверь?
– Я.
– На сколько замков?
– На два, – ответила Лена. – Как всегда. Верхний – «аблоу», нижний – нашего производства.
– Хорошая машина, – заметил Баранчиков, внимательно осматривая верхний замок. – Финны умеют делать.
– Капризный, – заметил Глеб. – Чуть перекос – заклинивает.
– Есть такое, – согласился эксперт-криминалист, щелкая фотоаппаратом со вспышкой.
– Когда вы обнаружили пропажу? – спросил Воеводин.
– Когда вернулись. Без двадцати пяти десять, – ответила Лена.
– Откуда такая точность?
– Муж включил телевизор. Заканчивалась программа «Время». Погоду говорили.
– Сколько у вас ключей от входной двери? – продолжал вести допрос следователь. – Я имею в виду – комплектов?
– Два, – ответила Лена. – У меня и у мужа. – Она зачем-то открыла сумочку, показала связку.
– Хорошо, – кивнул Воеводин. – Вспомните, вы когда-нибудь давали ключи посторонним? – Он посмотрел на Лену, потом на Глеба.
– Вроде нет, – ответила Лена.
– А точнее?
– Нет, – твердо сказала Лена.
– Я тоже, – сказал Глеб.
– Что еще пропало, помимо драгоценностей?
– Ничего! Ни иголки! – заверила Лена. – Мы с мужем проверили. Сразу!
Воеводин заглянул в открытый платяной шкаф, потом прошел в большую комнату, огляделся, вышел в коридор и сделал знак Васильеву.
Кинолог поднял сидевшую до сих пор спокойно собаку. Король обнюхал трельяж, ткнулся носом в предложенные ему футляры с монограммой и грозно направился к Лене.
– Фу! – коротко приказал Васильев.
– Поработайте еще, – сказал Воеводин и продолжил допрос потерпевших: – Кто знал о наличии у вас драгоценностей?
Этот вопрос поставил Лену в затруднение: она и впрямь не помнила, кому говорила или показывала бабушкино наследство. Разве что той, давней подруге, с которой не виделась со времен окончания университета – она сразу уехала в другой город. Лена решила, что ее приплетать не стоит.
– Никто, – ответила она.
– Что, не надевали? – несколько удивился следователь.
– Только перстень. Да и то раза три, не больше, – уточнила Лена.
Наказ отца она выполняла строго.
– А вы что скажете? – обратился Воеводин к Глебу.
Тот пожал плечами:
– Меня ее украшения не интересуют.
– Может, все-таки говорили кому-нибудь? – настаивал следователь.
– Нет, – ответил Глеб.
Воеводин попросил описать похищенные вещи. Лена не только их описала, но и нарисовала по памяти, попутно рассказав, как они к ней попали.
– И во сколько вы оцениваете пропажу? – спросил следователь.
– Точно сказать не могу. Папа считает, что сейчас это стоит тысяч шестьдесят, не меньше. А ему можно верить.
– Он что, ювелир?
– Директор универмага.
Воеводин кивнул. Лене показалось, что он усмехнулся. И вероятно, историю с завещанием поставил под сомнение.
«Ох, надо ли было вызывать милицию? – подумала она. – Наверное, будут допрашивать папу, наводить справки и так далее, и тому подобное. А у него давление».
– Следов взлома не обнаружено, – доложил следователю эксперт-криминалист. – Скорее всего, дверь открывали ключами.
– Но откуда у воров наши ключи? – удивилась Лена.
– Не знаем, не знаем, – задумчиво протянул Воеводин.
Лене опять показалось, что он ей не верит. И снова пожалела, что заварила всю эту кашу.
– Когда вы вернулись с концерта, в каком виде нашли квартиру? – задал еще один вопрос Воеводин. – Может, заметили что-нибудь подозрительное?
– Ничего подозрительного мы не заметили, – сказала Лена. – Все было на своих местах.
Следователь принялся составлять протокол осмотра места происшествия, набросал схему квартиры.
Раздался звонок в дверь – это вернулся оперуполномоченный уголовного розыска Богданов. По его лицу следователь понял, что вернулся он с пустыми руками.
На прощание Воеводин протянул хозяевам листок бумаги:
– Вот мой служебный телефон. Если что припомните – звоните.
– Конечно, конечно! – пообещала Лена.
– А когда у меня появятся вопросы, я приглашу вас к себе.
Оставшись вдвоем, Ярцевы долго молчали. Лена вдруг почувствовала невероятную усталость. Она свалилась в кресло и обхватила голову руками.
Глеб стоял у окна, глядя вниз на отъезжающий рафик с мигалкой на крыше. Жена почувствовала в его позе укор себе. И расплакалась – это была разрядка нервного перенапряжения. Ей стало нестерпимо жалко себя, отца. Отца даже больше.
– Пропади они пропадом, эти бриллианты! – всхлипывая, проговорила Лена.
Муж сел в кресло напротив, положив подбородок на сцепленные кисти рук. Он словно говорил: ведь предупреждал…
Часы показывали четверть третьего ночи.
А в машине, возвращавшейся в горуправление внутренних дел, Богданов рассказывал следователю о том, что ему удалось выяснить у соседей. Никто из них не видел, чтобы к Ярцевым заходили посторонние, когда хозяева были на концерте. И вообще не заметили подозрительных людей ни возле дома, ни в подъезде.
– И Король оплошал, – вздохнул Воеводин. – След не взял.
Васильев сконфуженно хмыкнул.
– Не думаю, чтобы эта Леночка не похвасталась перед кем-нибудь своими драгоценностями, – сказал эксперт-криминалист. – Такого не бывает. Женщина есть женщина.
Вы верите, что действительно наследство? – спросил он у следователя.
– А зачем ей врать? – ответил Воеводин. – Проверить не трудно. Меня сейчас занимает другое. Я почти уверен, что похититель знал о существовании драгоценностей. Вероятно, тщательно готовился к краже.
– Похоже, что так, – согласился Баранчиков. – Ключи… Потом, ему было известно, что в этот вечер Ярцевы поедут на концерт.
– Обратите внимание, – сказал оперуполномоченный уголовного розыска, – он больше ничего не взял из квартиры. А там было чем поживиться. Хотя бы радиоаппаратура.
– Тысяч на десять, не меньше, – подтвердил эксперт-криминалист.
– Больше! – сказал следователь.
– И откуда столько добра? – покачал головой кинолог Васильев. – Ведь они совсем молодые. Мой пацан давно просит хотя бы самый дешевый магнитофон, а я не могу себе позволить.
– Ты же не директор универмага, – усмехнулся Баранчиков.
– Ярцев, Ярцев, – вспомнил Богданов. – Не папаша ли этого Глеба? Ну, начальник облсельхозтехники? – спросил он у Воеводина.
Тот пожал плечами и задумчиво произнес:
– Ох, чует мое сердце, придется поломать голову с этим делом.
Глеб проснулся в начале одиннадцатого. Он даже не слышал, как ушла жена. Сон у Глеба был чуткий. Его всегда раздражал по утрам скрип дверей, возня Лены у трельяжа. А тут – не помнит ни звука.
Легли они в четыре часа, и Глеб словно провалился в бездну.
В спальню лился яркий солнечный свет. В комнате стоял запах французской туалетной воды.
Глеб босиком прошел в ванную комнату. Привычка ходить по дому босиком осталась с детства.
Чувствовал он себя разбитым после кошмарной ночи. Полез под душ, пуская попеременно то горячую, то холодную воду – это всегда отлично помогало.
Действительно, контрастный душ взбодрил тело. Но на сердце было скверно. Он вспомнил объяснение с работниками милиции. Ощущение – словно тебя увидели голым…
Глеб сварил крепчайший кофе, с трудом проглотил холодную котлету без хлеба и с удовольствием убрался из квартиры – тянуло скорее на люди.
Выйдя на улицу, он зажмурился от ослепительного сверкающего снега. Дорога – словно каток. Глеб решил не выводить машину – гололедица, еще вмажут по его новенькой «Ладе».
В университет он поехал на городском транспорте. И сразу пошел в библиотеку.
Люся Шестопалова за столом выдачи зарумянилась при виде Глеба, заулыбалась (он уже привык к обожанию) и протянула ему книгу и две тоненькие брошюрки.
– Вчера весь день пролежали, – с укоризной сказала библиотекарша. – Сделали заказ, а не пришли.
– Эх, знал бы, что на выдаче вы, обязательно пришел бы! – одарил ее улыбкой Ярцев и вручил японский календарик с лукаво подмигивающей девицей: Люся коллекционировала карманные календари.
Она смутилась еще больше, горячо и бессвязно поблагодарила за подарок.
Он нашел свободный столик в читальном зале, углубился в чтение, но сосредоточиться не мог – все время прокручивал в голове ночное событие. Обрадовался, когда на его плечо легла чья-то рука.
– Покурим?
Это был Аркадий Буримович, аспирант кафедры философии.
– Айда, – поднялся Ярцев.
В курительной комнате стояла холодина: форточка была открыта настежь. Глеб достал «Космос», и Аркадий тут же полез за сигаретой. Он, как персонаж из пьесы Островского «Без вины виноватые», курил один лишь сорт – чужие…
– Ну что, румяный мой философ? – шутливо спросил Глеб.
– Да так как-то все, братец историк, – в тон ответил Буримович словами из «Ревизора».
Он был небольшого роста, кругленький, с распадавшейся посередине головы пышной шевелюрой и розовыми пухлыми щечками. По его виду нельзя было подумать, что он занимается такой серьезной наукой. Разве что умные пытливые глаза за сильными линзами очков.
Болтать с ним – одно удовольствие. Аркадий чуть ли не каждый день делал очередное открытие – гениальное, как он выражался. Однако оно жило недолго: его или быстро опровергали, или же выяснялось, что подобная идея давно была высказана кем-то другим.
Если этого толстяка что-нибудь увлекало, то он непременно стремился зажечь кого-нибудь еще. Кто попадется под руку.
Сегодня это был Ярцев.
– Слушай, старик, это грандиозно! – теребя Глеба за рукав пиджака, горячо начал Аркадий. – Я понял…
– С какого конца есть сваренные всмятку яйца? – сыронизировал Глеб.
– Не скалься! – не обиделся Буримович. – Ну вот скажи мне, почему неистребим шабашник?
– Проще пареной репы. Налево больше платят.
– Фу! – поморщился Аркадий. – Рассуждаешь как обыватель. А тут политэкономия! Целая научная система!
Глеб улыбнулся.
Приняв улыбку Глеба на свой счет, Буримович покачал головой:
– Я серьезно, старик.
– Давай, давай, я слушаю, – сказал Ярцев.
– Понимаешь, шабашничать экономически выгодно, – стал развивать свою мысль Аркадий. – Смотри. – Он начал загибать пальцы. – Строитель какого-нибудь СМУ из каждой заработанной десятки отдает государству в виде налога и других удержаний – на содержание управленческого аппарата, армии, милиции, на здравоохранение, образование и прочее – определенную сумму. Скажем, рубля три…
– Ну а как же иначе?
– Верно, все это надо, – согласился Буримович. – И что же? В результате, работая в государственной системе, строитель получает на руки, допустим, семь рублей из десяти. А шабашник? Армию он не содержит, милицию – тоже, больницы, школы… В больницу же ходит, как и мы, детей своих учит бесплатно! Заметь, на мои и твои деньги! Выходит, что десятка, которую он получает у частника, остается целехонькой. Да плюс еще те рубли, которые он должен был отдать врачу и учителям своих детей. То есть он получил все тринадцать целковых за тот же труд, который потратил бы на государство.
– Ты хочешь сказать, эти три рубля он украл из общественного фонда? – проявил знание предмета Глеб.
– Скажем – воспользовался, – пoпрaвил Аркадий. – А я хочу сказать насчет этого общественного фонда потребления. Видишь ли, старик, по моему глубокому убеждению, тут у нас перегиб. Так сказать, забегание вперед. За счет общественных фондов выплаты и льготы населению выросли с тысяча девятьсот сорокового года почти в двадцать раз. С двадцати четырех рублей до четырехсот семидесяти пяти на душу населения. Вникни!
– Это же хорошо, – сказал Глеб.
– Сам рост – да, – кивнул Буримович. – Но вот как происходит распределение? И потом, нужно ли продолжать этот курс? Не забывай, что основной принцип социализма – каждому по труду. Однако принцип этот, увы, соблюдается далеко не всегда. Например, построили дом, как сейчас говорят, с улучшенной планировкой. Очередь в исполкоме подошла для академика и шофера. Оба получили одинаковые квартиры. Справедливо?
– Демократия…
– Погоди! – остановил собеседника жестом Буримович. – Общественная значимость, вклад обоих разве равен?
– Нет, – согласился Глеб.
– Вот именно! Принцип – каждому по труду – нарушен! Более того, уменьшается степень непосредственного стимулирования. Зачем какому-нибудь изобретателю ломать голову, не спать по ночам, проталкивать на нервах свою идею, если он за свои муки получит такую же квартиру, путевку в такой же дом отдыха, что и безынициативный коллега? Горишь ты на работе или делаешь ее тяп-ляп, все равно получаешь те же блага из общественного фонда потребления.
– Ну и что же ты предлагаешь? – спросил Глеб.
– Сократить общественные фонды потребления! – рубанул воздух рукой Аркадий.
– Позволь, позволь, – возразил Ярцев, – это одно из важнейших достижений нашего общества! Бесплатное лечение – а значит, доступное всем, понимаешь! А жилье? Копейки…
– А зачем? – с вызовом спросил философ. – Объясни, почему за жилье установлена символическая плата?
– Потому что это одна из основных потребностей человека! Как хлеб! Как одежда! Их должны иметь все. Умные и не очень, здоровые и больные, многодетные и одинокие.
– Позволь, позволь! – распалился Аркадий. – Я не спорю, квартиры должны иметь все. Но вот какие – это вопрос!
– Нормальные! Со всеми удобствами!
– Я не о том. Смотри, что получается. У нас в семье шесть человек. Живем в двухкомнатной квартире. Правда, стоим на очереди. А соседка напротив – одна в трехкомнатной! У нее умер муж, а дети давно ушли, получив свою площадь.
– Что же делает соседка одна в трех комнатах?
– Сдает! А вот если бы она платила не символическую плату, а реальную – черта с два занимала бы три комнаты! Переехала бы как миленькая в однокомнатную!
– А ты бы – в ее? – усмехнулся Глеб.
– Почему в ее? Может быть, в пятикомнатную. Или – семи! Словом, такую, какая необходима для нашей семьи.
– Не дадут! И не просите.
– И вообще, почему мы должны просить у кого-то квартиру? Почему? – запальчиво произнес Буримович. – Мать с отцом вкалывают за милую душу. Моя жена… Ну и я не бездельничаю. Так дайте же нам возможность самим выбирать ту или иную услугу, благо…
– Многого хочешь, – раздался насмешливый голос.
Они обернулись.
– Привет, Женя, – поздоровался с высоким худым парнем Глеб.
Это был лаборант с химфака. Буримович молча кивнул ему.
– Я не конкретно о себе, – пояснил философ. – О тебе, о нем… О каждом. Потому что убежден: чрезмерное сокращение принципа возмездности, эквивалентности и оплаты получаемых услуг, ограничение сферы товарно-денежных отношений, замена их прямым административным распределением приносит больше отрицательных, чем положительных результатов. И мы еще удивляемся, откуда берутся так называемые «деловые» люди, разные проныры и прохиндеи! Надо за квартиру брать столько, сколько она стоит в действительности, за путевку в санаторий – тоже. Хочешь иметь дачу – плати за землю не символический налог, а сумму, соответствующую затратам на благоустройство поселка, проведение дорог, электричества, газа и тому подобное. Причем – дифференцировано. Желаешь поближе к городу или, например, у речки – дороже, подальше – дешевле!
– С моей зарплатой я могу рассчитывать на клочок болота за триста километров, – рассмеялся лаборант. – Да и мать, хоть она и доцент, тоже не разгуляется.
– Конечно, все эти меры не могут быть проведены при сохранении теперешних окладов, – сказал Аркадий. – Их нужно увеличить. Как и другие регулярные выплаты – пенсии, стипендии… Пусть каждый получает по труду и платит по потребности! Пора уже снять с плеч государства отдельные функции распределения.
– И будет рай! – воздел руки Женя.
– Порядок будет! – сказал Аркадий. – Исчезнет блат. Многие проблемы самоурегулируются…
Глеб вдруг спохватился – заседание кафедры, на котором он должен сделать сообщение. Глянул на часы – в запасе было минут двадцать. Он оставил Буримовича разворачивать свои идеи перед лаборантом, сдал литературу Люсе и пошел в буфет перехватить чашку кофе.
По пути в буфет Глеб вспомнил, что нужно позвонить Копылову. У телефонов-автоматов толклись студенты. Не объясняться же с генералом при народе… Ярцев зашел на кафедру русского языка и литературы, к знакомой лаборантке. Она собиралась идти обедать и, узнав, что требуется телефон, сказала:
– Звони… Будешь уходить, захлопни дверь на английский замок.
– Непременно, – улыбнулся Глеб, протянув ей пачку иностранной жевательной резинки.
– Ну, Ярцев, ну, душка! – Лаборантка сделала ему ручкой и убежала.
Оставшись один, Глеб набрал номер служебного телефона Игната Прохоровича. Ответил помощник генерала. Соединил он с начальником управления весьма неохотно.
Ярцев поздоровался с Игнатом Прохоровичем деревянным голосом: повод не очень приятный, да и не знал он, о чем просить Копылова.
– Знаю, Глеб, знаю, – сказал генерал. – История, конечно, скверная. Передай Лене, пусть не вешает нос. Следователь опытный. Но и вы должны ему помогать.
– Само собой, Игнат Прохорович. Я звоню почему – просто поставить вас в известность.
– Нет, хорошо, что позвонил, – сказал Копылов, хотя Глеб чувствовал, что этот звонок вряд ли что изменит. – От бати вестей нет?
– Он не любитель писем. Я сам собираюсь в Ольховку. Надо же навестить.
– Добре, добре, – обрадовался чему-то генерал. – Передай большой привет Матвеевичу!
Глеб понял, что Игнат Прохорович занят, и поскорее закончил разговор.
В буфете – не протолкнуться. Глеба окликнул доцент Старостин. Научный руководитель Ярцева устроился в уголке.
– Приятного аппетита, Михаил Емельянович, – поздоровавшись, сказал Глеб.
Тот молча кивнул, указал на стул рядом.
– Куда ты, батенька, запропастился? – спросил доцент, прожевав кусок сосиски. – Интересовался зав…
– В библиотеке, – улыбнулся Глеб, усаживаясь за стол и потягивая теплый кофе. – Яко книжный червь. Знаете, очень любопытные сведения удалось разыскать о Суворове.
– Да? – заинтересовался Старостин.
– Генералиссимус был скромен в еде и не любил давать парадных обедов…
– Знаю, знаю… Прижимист был полководец.
– Совершенно верно. – Глеб рассмеялся. – Особенно к нему набивался в гости Потемкин. Суворов все отшучивался, но был вынужден наконец принять светлейшего князя. Понятное дело, фаворит государыни! Суворов призвал к себе метрдотеля Потемкина, Матоне, заказал роскошный обед и просил не щадить денег. Для себя же Александр Васильевич попросил своего повара сготовить два постных блюда. Настал день приема. Обед получился изумительный! Такие блюда подавали, что даже Потемкин ахал! А уж кто-кто, но этот вельможа привык к роскоши! Как выразился о том обеде Суворов, «река виноградных слез несла на себе пряности обеих Индий». Сам же он, сославшись на нездоровье, клевал приготовленное собственным поваром. Назавтра Матоне прислал ему счет. Генералиссимус ужаснулся – тысяча рублей! Платить он отказался, написав прямо на счете: «Я ничего не ел». И отправил его Потемкину. Светлейший князь посмеялся и оплатил счет, сказав при этом: «Дорого стоит мне Суворов».
Глеб замолчал, заметив вдруг, что Старостин его не слушает.
– Забавно, не правда ли? – на всякий случай спросил он.
– Да, да, – встрепенулся Старостин.
– Что это с вами, Михаил Емельянович?
– Так, ничего… – Доцент отодвинул тарелку с недоеденной сосиской. – Понимаешь, инспектор из Министерства высшего образования пожаловал. Проверять.
– Кого и зачем?
– Очередную кляузу, – кисло поморщился Старостин и вздохнул. – И дернул же меня черт согласиться на участие в приемной комиссии! Лучше бы докторскую закончил! Осталось всего ничего, чепуха…
«Затянул старую песню», – подумал Глеб. Насчет докторской он слышит от патрона уже четыре года. С тех пор, как стал на последнем курсе посещать студенческий научный кружок, которым руководит Михаил Емельянович.
Ярцев ожидал, что патрон опять заведет сказку про белого бычка, то бишь про свою докторскую диссертацию, но Михаил Емельянович заговорил о его, Глеба, делах.
– С тобой надо что-то решать. Сегодня будем утверждать план защит на будущий год.
– Сделайте все, чтобы меня вставили, – зажегся Ярцев.
– Когда, милый? – усмехнулся доцент.
– Ну хотя бы в третьем, в крайнем случае – в четвертом квартале.
– Успеем ли? – покачал головой Старостин. – И потом, публикаций у тебя – раз-два и обчелся. Сам понимаешь: уж если идти, то наверняка!
– Публикацию мне в Москве обещали. Около печатного листа. И в записках нашего университета выйдет в мае лист. Это – во! – провел ладонью над макушкой Глеб, но, видя, что патрон сомневается, хмуро добавил: – По-моему, вы заинтересованы в защите товарища Ярцева не меньше, чем он сам. За два года вы не имеете ни одного кандидата наук из своих подопечных. И потом, срок аспирантуры у меня кончается. Что, в преподаватели подаваться? На сто двадцать рэ в месяц? К тому же существует наш уговор…
Старостин вытер бумажной салфеткой рот и поднялся:
– Ладно.
Телефон не прозвенел, а прошептал на тумбочке возле кровати. Ставя аппарат около себя на ночь, следователь Воеводин убирал громкость почти до конца, чтобы в случае экстренного вызова не поднимать на ноги весь дом. Сам он уже натренировался просыпаться от этого шепота.
– Разбудил? – раздался в трубке голос оперуполномоченного угрозыска Богданова.
– Разбудил, – тихо ответил Воеводин, засовывая ноги в шлепанцы. – Погоди…
С аппаратом в руках он вышел в коридор – шнур был длинный, хватало до кухни – и, плотно притворив дверь, чтобы не слышала жена, устроился на сиденье под вешалкой.
– Ну, здорово! – сказал следователь уже громче.
– Доброе утро, – с опозданием приветствовал его Богданов. – Понимаешь, Станислав Петрович, надо встретиться.
– Прямо сейчас?
– Часиков в восемь. Чтоб спокойно обмозговать. А то потом будут дергать.
– Сколько сейчас?
– Семь.
– Лады, – ответил Воеводин.
Расспрашивать оперуполномоченного, чем вызвано его желание увидеться до работы, он не стал – причина, значит, была.
Он прошел на кухню, автоматическим движением включил две конфорки электроплиты. На одну поставил чайник, на другую – сковороду для бесхлопотной яичницы. И тут только увидел на столе лист бумаги с одним словом, написанным большими буквами: «ЕЛКА!!!» – с тремя восклицательными знаками.
– Вот незадача! – сказал вслух расстроенный Воеводин.
Это было напоминание дочурки, что отец обещал сегодня купить пушистую красавицу к Новому году. Он хотел пойти на елочный базар в восемь часов, к открытию, – это было рядом, за углом, – а потом уже на работу. Елки привозили поздно вечером, торговать начинали утром, и к обеду оставались лишь самые захудалые с несколькими жалкими ветками на макушке.
Звонок Богданова нарушил планы.
С елкой тянуть дальше было нельзя – на календаре 27 декабря.
Ровно в восемь следователь открыл дверь своего кабинета, где за столом коллеги уже восседал капитан Богданов.
– Вот, Алексей Павлович, – сказал следователь, вешая пальто на крючок за шкафом, – был зван и прийдох…
За окном было еще совсем темно из-за туч, плотно заблокировавших небо и принесших такую привычную предновогоднюю оттепель.
– Небось вчера отсыпался весь день? – спросил Богданов, вертя на столешнице зажигалку, с которой не расставался никогда, хоть и бросал курить время от времени.
– После дежурства свалился как убитый, – признался следователь. – А потом бегал искал елку. Все впустую.
– А у меня поспать не получилось. Разделся, лег, да только извертелся весь. Не идет из головы эта кража, и все тут! И еще приказание Копылова… Ты же знаешь генерала – «Отыскать и доложить!».
– Что, дело у него на контроле? – удивился Воеводин.
– Да, короче, вернулся я в управление, потолковал с ребятами, может быть, есть или было что похожее… – Богданов щелкнул зажигалкой, некоторое время смотрел на длинный язычок синеватого пламени.
– Ну и как?
– Никаких аналогий, – ответил оперуполномоченный. – Поехал на Большую Бурлацкую, в дом Ярцевых. Поговорил с участковым, дворником. С соседями потерпевших – с первого этажа и на их лестничной площадке. Результат – ноль!
– Спасибо! – отвесил шутовской поклон следователь. – И ради этого ты вытащил меня на час раньше?
– Терпение, Петрович, терпение, – улыбнулся Богданов. – Потом я махнул на комбинат химволокна, где работает Ярцева. Хотел уточнить кое-что. Может, она отдавала драгоценности в ремонт ювелиру? Только рот раскрыл, а эта Леночка заявляет: «Знаете, кто украл?» – «Нет», – говорю. А она мне: «Мужчина!» Спрашиваю, откуда ей это известно. И Ярцева поведала такую историю… Оказывается, в день кражи около восьми часов вечера к ней домой позвонила по телефону ее подруга Людмила Колчина. Ей ответил низкий мужской голос. Колчина попросила позвать к телефону Лену, но мужчина сказал, что ее нет. «А Глеб?» Мужчина ответил, что его тоже нет, они на концерте Антонова.
Оперуполномоченный уголовного розыска замолчал, насмешливо глядя на следователя.
– Оригинал этот ворюга, – сказал Воеводин. – Дает справки знакомым, где находятся хозяева в то время, как он их очищает. Ну а Колчина? – спросил недоверчиво следователь. – Подтвердила?
– Да, да! – кивнул Богданов. – Я говорил с ней. Она еще кое-что сообщила. Эта самая Колчина поднималась к Ярцевым около семи часов вечера. Говорит, после работы, не заходя домой, заскочила к Лене, чтобы взять журнал мод. Их не было. Колчина пошла к себе. Она живет в такой же девятиэтажке, только ее дом слева, под углом к ярцевскому. Из квартиры Колчиной, которая находится на седьмом этаже, видны окна Ярцевых. Около восьми Людмила увидела в них свет, позвонила. Тогда и состоялся разговор с любезным похитителем.
– Но она хоть поинтересовалась, с кем говорит?
– Не догадалась.
– Жаль! Интересно, что бы ей ответили…
– Колчина была уверена, что это приятель Ярцевых или родственник.
– А она не заметила из своих окон, сколько человек в квартире Ярцевых?
– Нет, окна были зашторены. Закрутилась, говорит, сына купала, спать укладывала. Потом – телевизор. О журнале мод вспомнила только на следующее утро, на работе. И тут же позвонила Лене. Та ей поплакалась насчет кражи. Ну а Колчина сообщила о звонке… Вот такая, Петрович, история, рассказанная вашему покорному слуге и зафиксированная по всем правилам.
Богданов протянул следователю протокол допроса. Воеводин открыл сейф, достал папку с делом. Протокол допроса Колчиной стал в ней четвертым по счету документом.
– Негусто, – заметил следователь, и было непонятно, к чему относились эти слова – к сообщению оперуполномоченного или к количеству материалов в деле.
– О, человеческая неблагодарность! – трагически вздохнул капитан, приняв это все-таки на свой счет. – Смотри, теперь мы знаем, что вор был отлично осведомлен о походе Ярцевых на концерт. Это раз! Он прекрасно знал, что в квартире есть ценности. И немалые! Это два!.. Похитителю было известно, где они лежат. Потому что, по словам Ярцевых, он больше ни к чему не прикасался. Это три!.. Напрашиваются кое-какие выводы. Или вор из числа знакомых семьи Ярцевых, или его кто-то навел.
– Все так, Алексей. – Воеводин подошел к окну. Буквально на глазах светлело. Тротуары заполнили спешащие на работу люди. Машины прокладывали колеи в жидком месиве потемневшего снега. – Все так, – повторил следователь. – Но почему ты уверен, что Колчиной ответил вор?
– А кто же, по-твоему? – удивился Богданов. – Выходит, помимо воров квартиру посещал еще кто-то? Без ведома хозяев?! Или ты хочешь сказать, что Ярцевы что-то скрыли от нас?
– Понимаешь, меня смущает этот воспитанный похититель. Ну представь себе, какой дурак, забравшись в квартиру для грабежа, будет отвечать на телефонный звонок?
– Почему дурак? – пожал плечами капитан. – А может, умный! Отличный психолог!
– Ничего себе психолог! – усмехнулся следователь. – Голос – это улика!
– Только записанный на магнитофон, – возразил Богданов. – Я вот подумал, а если он из тех самоуверенных типов, кто перед уходом из ограбленной квартиры выкурит сигарету да еще опрокинет рюмочку-другую из бара жертвы, а? Правда, этот не курил и не пил, но самоуверенности ему, видно, не занимать.
– Возможно, ты прав, – задумчиво произнес Воеводин. – Что и говорить, вор необычный. Незаурядный домушник.
– Точно, – согласился оперуполномоченный. – Взял лишь старинные драгоценности… А ведь там было еще чем поживиться!
Они перешли к тому, каким образом преступник проник в квартиру. Отмычка или взлом, по утверждению эксперта, исключались. Через форточку или балконную дверь – тоже: были заперты изнутри. Да и соседи с верхнего и нижнего этажей в это время находились дома, так что заметили бы.
– Выходит, вор воспользовался ключами, – констатировал следователь. – А вот как он их заполучил? Поговори еще с Леной. Не теряла ли? Не давала ли кому на время?
– Бу сделано! – пообещал Богданов. – А с Глебом?
– Я сам приглашу его сегодня на допрос.
Капитан покинул кабинет Воеводина, когда здание ожило, наполнилось голосами, шумом шагов, хлопаньем дверей.
Станислав Петрович набрал номер квартиры Ярцевых. Трубку взял Глеб. Голос у него был хрипловатый, заспанный. Поздоровавшись и назвавшись, следователь сказал:
– Мне бы хотелось с вами встретиться.
– Ради бога, – ответил Ярцев.
Но по кислому тону Воеводин понял, что особой охоты идти в милицию он не испытывает.
– Через час сможете? – спросил следователь.
Он услышал в трубке какое-то бормотание, разобрав лишь слова «библиотека» и «университет». Наконец Глеб внятно произнес:
– Хорошо.
Станислав Петрович стал наспех набрасывать план допроса, но раздался звонок внутреннего телефона – вызывал начальник следственного отдела. Воеводин проторчал у него битый час. Начальник поинтересовался и кражей на Большой Бурлацкой.
– Пока похвастать нечем, – откровенно признался Воеводин.
– Форсируйте, Станислав Петрович, форсируйте, – строго сказал шеф и, чтобы несколько смягчить приказание, добавил: – Меня тоже теребят. Генерал сегодня лично интересовался.
– Буду стараться, товарищ подполковник, – ответил следователь.
Возвращался он к себе несколько задетый словами начальника отдела. Ведь тот отлично знал, что помимо кражи у Ярцевых в производстве у Воеводина находилось еще шесть дел. И упрекать следователя в прохладном отношении к службе повода вроде бы не имелось.
Подготовиться к разговору с потерпевшим Воеводин так и не успел: Глеб Ярцев явился минут на пять раньше назначенного времени. Он был без шапки, в мохнатой волчьей шубе, которая очень ему шла, – этакий положительный киногерой, покоряющий суровые северные просторы.
– Можете раздеться, – указал на свободный крючок следователь.
– Благодарю, – с достоинством ответил Ярцев, но шубу не повесил, а небрежно кинул на стол соседа Воеводина по кабинету. Станиславу Петровичу это не понравилось, но замечание он делать не стал, благо коллега сегодня отсутствует, уехал в город по делу.
Занося в бланк протокола допроса данные потерпевшего с его слов, Воеводин отметил про себя, что глаза у Ярцева красные, веки чуть припухли. Подумал было: может, он кутил всю ночь? Но перегаром от Глеба не пахло, и на похмельного он не походил. А вот недоспал – явно. Словно в подтверждение мыслей следователя, Ярцев пару раз прикрыл рот рукой, маскируя с трудом сдерживаемую зевоту.
– Глеб Семенович, хотелось бы услышать ваше мнение…
– Относительно?… – вопросительно посмотрел на следователя Ярцев.
– Кто мог украсть драгоценности вашей жены. Вы, наверное, прикидывали, а? И время у вас было.
– Ни в Шерлоки Холмсы, ни в Мегрэ не гожусь, ей-богу! – развел руками Глеб.
– Даже не мечтали никогда?
– Разве что на заре юности. И то мимолетно. История – это, простите, серьезнее, глубже.
– Историк, простите, тоже в своем роде следователь, сыщик. Разве не так?
– Да, – после некоторого размышления сказал аспирант, – в наших профессиях есть кое-что общее. Хотя бы загадка смерти Наполеона. Тут действительно историкам приходится быть и криминалистами…
– Вот видите, – заметил следователь, – криминалистика и история рядом. Попробуйте вспомнить, проанализировать события, предшествующие краже. Кто бывал у вас дома? Часто заходят?
– Мы с женой не затворники. Вполне коммуникабельные люди. Сами бываем в гостях, и к нам, естественно, приходят. Но, смею вас заверить, порядочные люди. Я вообще не завожу сомнительных знакомств. Да и жена… Ведь еще древние говорили: скажи, кто твой друг…
– И я скажу, кто ты, – закончил Воеводин. – Стало быть, вы за всех ручаетесь?
– Скажем по-другому: верю. Просто не допускаю мысли, что кто-то из них… – Ярцев подумал и твердо произнес: – Нет, не допускаю!
– И все же, – мягко настаивал следователь, – кто чаще всего бывал у вас? Конкретно, по фамилиям?
– Конкретно? – недовольно передернул плечами Глеб и, посмотрев в потолок, стал перечислять: – Да хоть бы Лев Сафронов, Светлана Ненашкина…
– Кто они, где работают? – уточнил следователь, делая запись в блокноте.
– Оба аспиранты. Мои коллеги.
– Хорошо. Кто еще?
Ярцев назвал еще с десяток человек, заключив с иронией:
– Как видите, они не из тех, кто проникает в дом через форточку или с помощью отмычки.
– Вашу дверь открыли ключами, – сказал следователь, не обратив внимания на иронию. – Понимаете, Глеб Семенович?
– Разумеется, – посерьезнел Ярцев. Стряхнув с колен несуществующие соринки, он с обидой произнес: – Уж не хотите ли вы сказать, что я самолично любезно предоставил вору свои ключи?
– Он мог снять с них слепки и изготовить такие же. Или, имея ключи на руках какое-то время, изготовить копии. Вспомните, вы никому не давали ключи?
– Я уже говорил. Когда вы были у нас, – холодно ответил Ярцев. – Могу лишь повторить: не давал никому!
– Когда вы не дома, где их держите? – продолжал допрос Воеводин.
– В кармане.
– Чего?
– Осенью и зимой – плаща, пальто, шубы или дубленки… Если тепло – в пиджаке. Ну, еще в брюках… Исчерпывающе?
– Вполне. Допустим, вы сдаете плащ, пальто или дубленку в гардероб… С ключами?
Этот вопрос озадачил Ярцева. Он помолчал, потом расплылся виноватой улыбкой:
– Никогда бы в голову не пришло! Действительно, ключи я отдаю вместе с одеждой. Бывает, на целый день. – Он с уважением посмотрел на следователя. – Вот видите, какой уж из меня Мегрэ! – Глеб махнул рукой. – Значит, вы считаете, что могли сделать еще один комплект?
– Могли, – кивнул Воеводин. – Где вы чаще всего бываете?
– В университете, в публичной библиотеке, – стал припоминать аспирант. – В архиве… Раз в неделю посещаю сауну.
– Какую?
– Во Дворце спорта. Одно время ходил в Научно-исследовательский институт машиностроения, но там хуже. И обслуживание не то… Вот, пожалуй, и все места, где я обретаюсь постоянно.
– Больше ничего не припомните?
– Ну, может, в кафе, в ресторанах. Но это очень редко, так сказать, эпизодически.
– Хорошо. Когда вы в последний раз видели драгоценности жены? Я имею в виду – пропавшие?
– О-о! – протянул Глеб. – Давненько. Когда мы только поженились.
– И больше не видели? – удивился следователь.
– Представьте себе, нет! И вообще, у нас с Леной правило: ее вещи, письма и прочее меня не касается. Так же ведет себя жена по отношению к моим личным делам. По-моему, иначе и не может быть у интеллигентных людей.
– А что, разве она не надевала эти украшения?
Ярцев рассказал о тесте, о его щепетильном отношении к своей репутации честного человека, о просьбе к дочери, чтобы она не носила бабушкины драгоценности.
– И Лена, поверьте, его просьбу выполняла, – заключил Глеб. – Исключение – перстень. Его она надевала, но редко.
– А не могли драгоценности исчезнуть раньше? – спросил Воеводин.
– Не понял…
– Может, они пропали до того дня, когда вы ходили на концерт? – уточнил следователь.
– Извините, – сухо произнес Ярцев. – Странное предположение. Вы считаете, я должен поставить под сомнение слова жены?
Воеводин пожал плечами.
– Думаете, она обманывала меня? – хмуро продолжал Глеб. – И вас? Но зачем? С какой целью? Драгоценности не застрахованы, так что… И потом, надо было видеть ее лицо! Честное слово, самая гениальная актриса не смогла бы так сыграть!
– Глеб Семенович, может, у вашей жены в последнее время возникли денежные затруднения? Например, хотела купить себе что-нибудь, а денег не было.
– Ну и вопросы вы задаете! – с откровенным раздражением заметил Ярцев. – Кажется, все ясно: похищены ценности… Так ищите их! Зачем подвергать сомнению честность моей жены?! Мою, между прочим, тоже! Я верю Лене! Когда ей что-то надо, она обращается ко мне.
– Но вы же сами говорили, что не лезете в дела друг друга.
– Говорил, – вдруг устало провел по лицу рукой Глеб. – Но я не представляю себе повода, зачем было жене разыгрывать комедию. Уж если честно, натура она простая, бесхитростная. Обдумывание и исполнение какой-либо сложной ситуации – не для нее. – Он потер пальцами глаза, вздохнул. – По правде говоря, мне вся эта история до лампочки.
– Шестьдесят тысяч, – усмехнулся следователь. – Целое богатство!
– Нет, я, конечно, переживаю, но только из-за Лены. По существу же какой от этих бриллиантов толк? Лежат себе, и все! Надеть – значит насмерть обидеть отца. Продать – нельзя тем более. – Глеб вдруг виновато посмотрел на следователя. – Простите меня, Станислав Петрович, за резкость. Устаю. Диссертацию надо подбивать, вчера утвердили срок защиты, а дел еще невпроворот. Хорошая машинистка – и то проблема. Я уж не говорю о самой защите. Для меня главное – работа, а тут надо произвести впечатление, играть какую-то роль.
– И все же я попрошу вас: подумайте, кого могли заинтересовать драгоценности вашей жены, – сказал Воеводин в завершение.
Ярцев промямлил:
– Постараюсь… Попробую…
Подписав протокол допроса, он удалился, галантно раскланявшись со следователем. Станислав Петрович видел, как Глеб вышел из подъезда управления, подошел к новенькой «Ладе», стоящей у тротуара, снял шубу и, кинув на заднее сиденье, уселся за руль. Машина медленно тронулась с места.
У следователя осталось странное впечатление от Глеба. «Пропажа на шестьдесят тысяч, – размышлял Воеводин. – А ему, видите ли, до лампочки! Разве это естественно? А если действительно ему безразлично? Или играет?… Может, с женой у него не ладится, тогда и впрямь потеря не трогает».
Станислав Петрович записал в план следственных мероприятий по делу: «Связаться с родителями Лены». Но, подумав, зачеркнул. Потому что вспомнил просьбу самой Лены и Глеба не сообщать пока Гоголевым это неприятное известие, которое могло бы серьезно сказаться на здоровье Антона Викентьевича.
Позвонил Богданов.
– Я с комбината химволокна, – сообщил он. – Беседовал с Ярцевой… Ключи она держит в сумочке, а с сумочкой никогда не расстается.
– Понятно, – сказал следователь. – Куда теперь?
– К ювелиру. Год назад Лена отдавала бабкин перстень в мастерскую, чтобы увеличили размер. Думаю, такую дорогую вещь он вспомнит.
– Хорошо, – согласился Воеводин. – Но у меня есть несколько адресов, по которым тебе необходимо работать.
И он вкратце рассказал о разговоре с Глебом, попросив зайти в университет, библиотеку, архив и во Дворец спорта.
– Постарайся разузнать, где еще бывает Ярцев и оставляет пальто с ключами.
– Это же сколько времени потребуется! – присвистнул капитан.
– Что поделаешь, Алексей. Ключи – это у нас пока единственный ход…
В этот же день после работы Лена уехала в Кирьянов, к родителям. С того самого момента, как пропали драгоценности, она больше всего опасалась визита отца или матери: вдруг поинтересуются бабушкиными украшениями? Родители имели привычку навещать под Новый год единственную дочь и привозить гостинцы к праздничному столу: пироги, жареного гуся или индейку, банки с домашними соленьями и маринадами. В обязательном порядке вручались подарки. Лене – что-нибудь из белья, а Глебу – рубашку. И вот она решила, так сказать, упредить родителей, намереваясь вернуться в Средневолжск в субботу вечером.
Лена уехала в скверном настроении. Как она ни храбрилась, Глеб видел, что кража выбила жену из колеи. Он решил по ее возвращении провести вечер дома. Купил ее любимый торт «Прага», охладил бутылку шампанского, до которого жена была большая охотница. Надо было развеять ее хандру. В конце концов, с кражей бриллиантов жизнь ведь не кончалась! Не в этих блестящих побрякушках счастье!
Часу в седьмом, когда Лена вот-вот должна была переступить порог, раздался телефонный звонок.
– Глеб? – послышался в трубке медлительный отдышливый голос. – Здравствуй! Узнал?
– Как же! Добрый вечер, Николай Николаевич! – обрадовался Ярцев. – Из Москвы звоните?
– Зачем же… Я тут, в Средневолжске.
– В Плесе?
– Нет, в «Волжской».
В Плесе, живописнейшем пригороде Средневолжска, располагалась дача, на которой жило приезжее высокое начальство. Там обычно и останавливался Николай Николаевич Вербицкий. Правда, гостиница «Волжская» самая лучшая в городе, но все же…
– Давно у нас? – полюбопытствовал Глеб.
– Третий день… В командировке… Послушай, Глеб, ты не мог бы навестить старика?
– О чем речь! С удовольствием! В каком вы номере?
– Тридцать втором.
– Буду у вас через пятнадцать минут! – не дал договорить ему Ярцев.
Глеб быстренько переоделся и, досадуя, что опять обрекает Лену на одиночество, черкнул ей записку: «Фери! Приехал Вербицкий, зачем-то вызвал меня в гостиницу. Целую».
«Ничего, – успокаивал себя Глеб, спускаясь к машине, – не обидится. Должна понять. Не кто-нибудь, сам Николай Николаевич!»
По дороге в центр, к «Волжской», Глеб мучительно размышлял, зачем он понадобился Вербицкому. Тот был другом отца. Собственно, дружбы-то особой не замечалось. В свое время Вербицкий занимал должность председателя облисполкома, а Семен Матвеевич работал управляющим облсельхозтехники. Их связывала, насколько понимал Глеб, скорее уж служба. Потом Николай Николаевич перебрался в Москву, стал начальником главка и членом коллегии министерства. Наезжал в Средневолжск редко, последний раз – в прошлом году. Для отца это были счастливые дни: Ярцев-старший мечтал переехать в столицу, надеясь на помощь Николая Николаевича Вербицкого. Тот вроде обещал, но…
«Может, теперь Вербицкий вытащит отца снова хотя бы в область? – подумал Глеб. – Дай-то бог».
Единственное, что смущало Ярцева, почему начальник московского главка остановился не в Плесе? А вдруг он уже не член коллегии? Тогда…
И все же Глеб волновался, когда постучал в дверь тридцать второго номера гостиницы: он сам втайне надеялся, что знакомство с Николаем Николаевичем может сыграть роль в его, Глеба, судьбе.
– А ты, я смотрю, все такой же добрый молодец! – с улыбкой встретил Глеба столичный гость. – Располагайся.
Глеб сел в кресло, огляделся. Номер люкс производил впечатление: толстый ковер на полу, цветной телевизор, хрустальный графин со стаканом на столе, бар-холодильник. В полуоткрытую дверь была видна солидная деревянная кровать под роскошным покрывалом.
– Тоже вполне, – сказал Вербицкий, словно отвечая на невысказанный вопрос Глеба. – Дачи нынче не в моде. – И, покончив с этим, спросил: – Ну, рассказывай, как живешь?
– Спасибо, Николай Николаевич, все нормально. Вы знаете, папа…
– Знаю, знаю, – кивнул Вербицкий, – мне Копылов сказал, что он в Ольховке. У тебя в семье, надеюсь, полный порядок?
– Лично я доволен, – на всякий случай улыбнулся Глеб.
– А жена? Лена, кажется? – подмигнул Николай Николаевич.
– Да, Лена. Вы же знаете, она из Кирьянова. Инженер. А я ввел ее в круг интересных людей. Потом, у меня самого есть перспектива. На будущий год защищаюсь.
– Кандидат наук – звучит, – благосклонно кивнул Вербицкий.
– Сто семьдесят в месяц.
– Для твоего возраста весьма и весьма.
– И сразу засяду за докторскую. Мой научный руководитель считает, что материала у меня достаточно.
– А идей? – усмехнулся Николай Николаевич.
– Ну, этого добра больше чем достаточно! – прихвастнул Глеб. Впрочем, так же, как и насчет мнения Старостина о докторской диссертации Ярцева. Но почему бы не покрасоваться перед Вербицким? Для будущего… Ведь если сам себя не похвалишь, от других не дождешься. Скромность, конечно, украшает, но вот помогает ли?
– Что ж, успеха тебе, – пожелал Николай Николаевич. – Голова у тебя на месте, я всегда говорил.
Глеб слышал это впервые, и от слов Вербицкого сладостно защемило в груди. Авось!
– А вы как? – в свою очередь спросил Глеб. – Татьяна Яковлевна, Вика?
– Мы с Татьяной Яковлевной стареем. Она, как ты, наверное, знаешь, на пенсии. Я, правда, не думаю. Да и не отпустят. Ну а Вику ты увидишь завтра.
– Как? – вырвалось у Глеба.
– Как говорится, не в службу, а в дружбу – сможешь встретить ее? Она едет поездом.
– Конечно! О чем речь! – радостно закивал Ярцев, подумав, что это, вероятно, и есть причина, зачем он понадобился бывшему председателю облисполкома. – Но как же… А Новый год?
– Отпразднуем здесь. Знаешь, Глеб, как она иной раз тоскует по Средневолжску!
– Понятное дело, город детства.
Вербицкий встал, подошел к бару. Фигура Николая Николаевича была довольно смешной: длинное худое тело, узкие плечи и заметно выдающийся живот, обтянутый шерстяным спортивным костюмом с белой полосой вдоль рукавов – мода пятнадцатилетней давности.
Он достал бутылку минеральной воды, открыл и предложил гостю:
– Будешь?
– Полстаканчика, если можно, – сказал Глеб и, приняв тяжелый хрустальный стакан, осторожно поинтересовался: – Вика замужем?
Вербицкий отпил пару глотков воды, вздохнул.
– Я и сам не знаю, – как-то виновато улыбнулся он. – Дочь у нас своеобразный человек. Дитя своего времени. Мы вас плохо понимаем. Короче, увидишь, поговоришь сам. Одно гарантирую – прежнюю Вику ты не узнаешь.
Слова Вербицкого заинтересовали Глеба.
Вика… Виктория… Они учились в одной школе, только Глеб – двумя классами старше. Была худая, угловатая, с прямыми черными волосами. За ее большой рот кто-то назвал девочку Щелкунчиком. Прозвище пристало надолго.
Это теперь Глеб понимал, сколько слез, вероятно, было пролито из-за насмешек сверстников. Но тогда…
Дети жестоки. Не сознавая того, они могут причинять нестерпимую боль и обиду друг другу, которая иной раз не выветривается из души и памяти всю жизнь.
Вику даже не защищало то, что она прекрасно рисовала. Старшеклассники и те восхищались красочно оформленными стенгазетами, к которым приложила свою руку Вербицкая.
У Глеба с Викой была своя тайна. Когда он учился в десятом классе (она соответственно в восьмом), то получил от дочери предисполкома записку. Невинную по форме, но значительную по смыслу (о, Глеб уже был избалован обожанием девчонок и умел расшифровывать недомолвки!): «Не взялись бы Вы достать пригласительные билеты на концерт учащихся музыкальной школы для меня и моей подруги?»
Во-первых, Вика могла бы обратиться к нему с такой просьбой устно. Во-вторых, билеты не были проблемой. Но главное заключалось в другом. Это была записка к мальчику…
Глеб был избалован, но циником не был. Он передал в запечатанном конверте просимые билеты через посредника, но во время концерта к двум восьмиклассницам не подошел. А сколько было благодарности, призыва и в то же время смущения во взглядах Вербицкой, которые она бросала на него!
К своей чести (а Ярцев ставил себе это в заслугу), он никому никогда не говорил об этом случае. Даже отцу, который более чем прозрачно намекал сыну, что весьма желал бы дружбы между Глебом и дочерью председателя облисполкома. Сиречь, хотел бы видеть ее в своих снохах.
– Папа, – отмахивался Ярцев-младший, – да ты посмотри на нее!
– Что ты понимаешь! У Вики красивые глаза, рот…
– Рот?! – смеялся Глеб. – Ой, умру, ой, держите меня!
Летом, после того концерта, Вербицкие уехали в Москву.
С тех пор Глеб не видел Вику. А прошло уже семь лет!
Единственное, что о ней знал Глеб (из разговора отца с Николаем Николаевичем), – Вика училась в художественном институте имени Сурикова в Москве.
– И все-таки в такой праздник уезжать сюда… – Глеб с сомнением покачал головой. – Провинция – она и есть провинция. Тут даже апельсинов или мандаринов не достанешь.
– По мне, хоть бы их и век не было, – махнул рукой Николай Николаевич. – Не понимаю, что на них так бросаются? Ну что может быть лучше хорошей антоновки или семиренки! Я всегда говорю: везем за тридевять земель, с другой, можно сказать, стороны земного шара всякие там бананы, манго, папайю! А свое добро – душистое, ароматное и полезное, да-да, в тыщу раз полезнее! – яблоки, груши и другую прелесть собрать и сохранить не можем! Частник предлагает заготовителям почти бесплатно: берите, пользуйтесь! Ан нет! Для своего не хватает транспорта, тары и еще черт знает чего! Вот, ей-богу, дай мне ананас, так я откажусь от него в пользу крыжовника! – Видя, что Глеб улыбается, Вербицкий прервал свою филиппику: – Ты не согласен?
– Да нет, просто вспомнил… – сказал Ярцев. – Был когда-то такой граф Завадовский, по-моему, в начале прошлого века… Так его сын прямо-таки помешался на ананасах. Потреблял их в несметном количестве. Сырыми, вареными…
– Как вареными? – удивился Вербицкий.
– Более того, их для него даже квасили. В бочках, как капусту… А потом варили из них щи или борщ.
– Нет, ты серьезно? – все еще не верил Николай Николаевич.
– Исторический факт!
– Это же… это же стоило, наверное, кучу денег!
– Совершенно верно. Сын Завадовского умер чуть ли не в нищете!
– Да, – вздохнул Вербицкий. – Русская натура. Не остановишь. – Он усмехнулся. – Вот что, Глеб, квашеными ананасами я тебя угостить не могу. А вот ужином…
– Нет-нет, – запротестовал Ярцев. – Спасибо. Я дома…
– Ох уж эта провинциальная скромность, – недовольно заметил Николай Николаевич. – Возьмем что-нибудь легкое, перекусим. От этого не растолстеешь. Понимаешь, не люблю я есть в одиночестве. Ну как?
– Уговорили! – засмеялся Глеб.
– Вот и ладненько, – потирая руки, произнес Вербицкий. Он снял трубку, позвонил в ресторан и заказал ужин в номер. А Глеб, пока Николай Николаевич перечислял блюда, гадал, чем все-таки вызвана такая милость? Почему Вербицкий столь любезен с ним?
Вербицкий, положив трубку, продолжил разговор о дочери:
– Открою еще один секрет. Вика едет поработать на пленэре. Ну, рисовать с натуры, на воздухе. Так это у них называется.
– Знаю, – кивнул Ярцев.
– У нее талант. Не как отец говорю… Послушай, как у тебя завтра день? – неожиданно перескочил он.
– Располагайте мною сколько вам надо, – с готовностью откликнулся Ярцев.
– Ну как же… Перед Новым годом… У тебя жена, – все еще сомневался Вербицкий.
– Николай Николаевич, – обиделся Глеб, – если я говорю…
– Хорошо, хорошо, – поднял вверх руки Вербицкий. – Сможешь подбросить нас с Викой в Ольховку?
– Запросто! Я бы рекомендовал прямо к отцу.
– Я так и хотел, – улыбнулся Николай Николаевич. – Примет?
– Господи! Доставьте ему такую радость! – воскликнул Ярцев, размышляя, кокетничанье это или просто элементарная вежливость? Уж кто-кто, а Вербицкий отлично должен знать, как к нему относится Ярцев-старший, испытанный приятель и бывший подчиненный.
За ужином договорились, что Глеб заедет за Николаем Николаевичем завтра к одиннадцати часам утра. Потом они встретят Вику и сразу отправятся в Ольховку.
– Стряхну с себя московские заботы, поброжу с ружьишком по лесу, – мечтательно произнес Вербицкий. Он был заядлым охотником.
Глеб засиделся у Николая Николаевича до начала двенадцатого.
– Не мешало бы позвонить отцу, – прощаясь, сказал Глеб. – Предупредить.
– Ой, – поморщился Вербицкий, – эти пышные встречи, застолья… Я же знаю Семена Матвеевича! Мы тихо, скромненько.
Он проводил Глеба до лифта.
А когда Ярцев вернулся домой, Лена бросилась ему на шею, довольная поездкой к родителям, радостная от того, что хоть остаток вечера они проведут вместе, попивая холодное шампанское. По ее словам, отец действительно собирался в Средневолжск накануне Нового года, но теперь не приедет. И вообще до весны не выберется. Глеб сообщил, что завтра повезет Вербицких в Ольховку.
– А как же праздник? – жалобно вырвалось у Лены.
– Так в запасе целых двое суток! Успею вернуться десять раз!
– Смотри, – шутливо погрозила мужу Лена, – положит на тебя глаз московская художница.
– Вот уж чего не приходится опасаться! Ты бы видела эту страшилу!
Жена встала, подошла к нему сзади и теплыми руками обняла за шею. Ее волосы, мягкие, пушистые, пахнущие шампунем, щекотали Глеба.
– Боже мой, – не то прошептала, не то простонала Лена, – какая же я счастливая!
Он ощутил трепет молодого, жаждущего ласки тела.
– Ну? – тихо произнесла жена.
– Пойдем, – так же тихо и ласково ответил Глеб.
Ровно в одиннадцать Ярцев подкатил к гостинице «Волжская». Вербицкий, стоявший под большим бетонным козырьком, приветствовал его поднятием руки и солидно подошел к машине.
– По тебе можно сверять часы, – сказал он, довольный, устраиваясь рядом с Глебом и энергично пожимая ему руку.
Глеб отметил про себя, что Николай Николаевич одет не по-полевому. Рассчитывает на амуницию отца?
– Ну и погодка! – озираясь, сказал Вербицкий.
– Все же лучше, чем гололедица, – ответил Глеб.
С неба сыпался не то снег, не то дождь. Из-под колес автомобилей веером разлетались серые брызги. Дворники едва успевали смахивать с лобового стекла грязные потеки.
– Завтра обещали мороз. Так что гололед обеспечен.
– Но мы уже будем в Ольховке.
Так, перебрасываясь незначащими фразами, доехали до вокзала, где пришлось протомиться в ожидании опаздывающего поезда три часа. Наконец объявили прибытие московского.
Когда возле них медленно остановился мягкий вагон, Николай Николаевич радостно замахал кому-то в окне и бросился к двери.
Глеб едва поспевал за ним. Пришлось ждать, пока выйдут скопившиеся в проходе пассажиры. Потом они зашли в опустевший вагон, пахнущий цитрусовыми: все пассажиры были увешаны авоськами с апельсинами и мелкими бледными мандаринами.
– Привет, – спокойно сказала стоящая у входа в купе девушка в джинсах, высоких сапогах, меховой короткой курточке и огромной лисьей шапке.
Вербицкий запечатлел на ее полных, сочных губах нежный поцелуй, потрепал по щеке и нырнул в купе, откуда донеслось нетерпеливое радостное собачье повизгивание.
– Ну, здравствуй, Глеб! – протянула ему длинную изящную кисть незнакомка, чудесные глубокие серые глаза которой смотрели с чуть насмешливым любопытством.
– Вика! – Глеб задержал ее ладонь в своих руках, от неожиданности растеряв все слова, которые приготовил для встречи. – Сколько лет, сколько зим!
– Я тебя сразу узнала, – сказала Вика, остановив свой взгляд на его ямочке на подбородке.
– А я тебя нет, – ответил Ярцев с улыбкой. – Честное слово! Ну прямо…
Договорить ему не дали: дородная женщина с двумя чемоданами разделила их. Вика отступила в купе. И когда Глеб вошел в него, то увидел трогательную картину: Николай Николаевич расположился на сиденье, а в его колени упирался лапами лохматый пес, стараясь лизнуть хозяина в лицо. Но псу не удавалось это из-за намордника.
– Познакомься, – показала на собаку Вика. – Дик.
Услышав свое имя, пес повернул голову. Был он весь какой-то круглый, с плотным лоснящимся мехом и кольцом закрученным хвостом.
– Лайка, – скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Ярцев.
– Порода! – протянул Николай Николаевич, потрепав собаку по загривку.
– Носильщика, наверное, надо?
– Зачем? – деловито взялся за чемодан Глеб, обозревая немногочисленный багаж Вики. – Управимся.
– Конечно, – поддержала она, надевая на плечо зачехленное ружье и беря в руки спортивную сумку. – А ты, папа, возьми мольберт. Надеюсь, донесешь? – усмехнулась дочь.
– Мы еще можем! – бодро ответил Николай Николаевич, подхватывая деревянный плоский ящик, и, скомандовав собаке: «Рядом!» – первый двинулся к выходу.
Ярцеву помимо чемодана досталась еще целлофановая сумка с рекламой сигарет «Кент», полная огромных, чуть ли не с голову ребенка, грейпфрутов.
В машине Вербицкий сел рядом с Глебом, а Вика расположилась с собакой на заднем сиденье.
– Как мать? – поинтересовался Николай Николаевич у дочери. – Небось сердится на нас, что бросили?
– По-моему, даже довольна, – ответила Вика, не отрывая глаз от окна. – Первый Новый год не будет торчать у плиты. Ее пригласили Колокольцевы. Ты же знаешь, зимой у них на даче – прелесть!
– Еще бы! Барвиха! – Заметив, что дочь не налюбуется родным городом, Вербицкий сказал: – Средневолжск-то, а? Не узнать! Строят не хуже, чем в матушке Москве.
– Угу, – кивнула Вика, оглядывая громаду проплывающего мимо Дворца спорта. – Но я люблю набережную, Рыбачью слободу…
– Это ты сейчас увидишь, – пообещал Ярцев, сворачивая к Волге.
Слова гостьи несколько задели его: намеренно показывал Вике новые современные строения в городе, чтобы поняла, каким он стал, а ей, видишь ли, подавай провинциальные прелести.
Впрочем, это, наверное, и есть ностальгия по детству, с которым связаны и великая река, и тихие окраины, утопающие в садах и рощах. Совсем еще юными они каждую весну ходили смотреть на ледоход, а в Рыбачьей слободе ботаничка проводила занятия на свежем воздухе.
Правда, сейчас стояла зима, и все же Вика не смогла сдержать восторга, когда они ехали по набережной, потом – по кривым улочкам предместья.
Глеб видел ее лицо в зеркале заднего обзора и вдруг вспомнил замечание своего отца, когда-то сделанное в адрес Вики. Насчет ее глаз и рта.
«А батя-то был прав, – подумал Ярцев. – Какие чувственные, манящие губы… Глаза тоже красивые, ничего не скажешь. Николай Николаевич не соврал: Вику не узнать. Как в сказке Андерсена – из гадкого утенка вырос прекрасный лебедь».
Всегда чувствующий себя выше женщин, с которыми ему до сих пор приходилось встречаться, Глеб ощущал – теперешняя Вика словно бы смотрит на него сверху вниз. Он старался понять – отчего? Может, столичность? Принадлежность к кругу людей, занимающих высокое положение? Вращение в художественной элите?
– Глеб, сделай милость, остановись, – попросила Вика.
Они уже пересекли городскую черту. Ярцев встал на обочине.
– У Дика очень важные дела, – с улыбкой объяснила девушка, выходя с собакой из машины.
Пес бросился к молодым сосенкам, растущим у дороги, и бесцеремонно задрал лапу у первого же дерева.
Николай Николаевич вопросительно посмотрел на Ярцева – что он скажет о Виктории? Но Глеб отвел глаза.
Он наблюдал за девушкой, которая в ребячьем восторге лепила снежки и бросала в Дика, который, покончив со своими делами, кидался за белыми кругляшами и радостно повизгивал. А мысли Глеба снова переключились на своего отца, и он не мог не признать, что Семен Матвеевич понимал толк в женщинах, в их красоте. То, что Глеб чувствовал еще в раннем детстве, с годами открылось во всем своем точном и полном смысле: батя был увлекающимся (мягко выражаясь) мужчиной.
Судя по старым фотографиям, Калерия Изотовна, мать Глеба, была красивая, очень женственная, в ее облике чувствовалась какая-то светлая одухотворенность. Ярцев не помнит, чтобы она хоть раз повысила голос, сделала резкий жест, сказала грубое слово. Даже в те, прямо скажем, не редкие периоды, когда отец вдруг на некоторое время превращался в сверхзанятого человека, заявлялся домой под утро, а то и вовсе не ночевал. Детям – старшему Родиону и младшему Глебу – с непонятной виноватостью Семен Матвеевич объяснял, что его замучили работа и вымотали командировки. Но они каким-то шестым чувством (особенно Родя) ощущали, что не в этом причина. По окаменелости матери, по ее повышенной ласковости и нежности к сыновьям…
Глеб до сих пор не знает, кто от кого ушел: Семен Матвеевич от матери или Калерия Изотовна от него. В один прекрасный, как говорится, день Глебу сказали, что батя уехал в длительную командировку. Однако это была липа, причем шитая белыми нитками. Глеб видел отца в служебной машине в Средневолжске, а один раз столкнулся с ним чуть ли не нос к носу на улице.
Открыл глаза младшему брату старший. Вызвал его пройтись по городу и, остановившись на набережной, глядя на вечернюю холодную Волгу, хриплым срывающимся голосом произнес:
– Ты уже не сосунок. И должен знать, что этот… этот бабник нас бросил.
Словно кипятком ошпарили душу Глеба эти слова. Он знал, о ком речь. Но его поразила ненависть брата к отцу. А еще больше, что тот ушел от него, младшего сына, своего любимца!
– Врешь, – тихо сказал Глеб.
– Спроси у него самого, – презрительно ответил Родион и пошел прочь, в ярости стуча сжатым кулаком по парапету.
Ему тогда был двадцать один (недавно вернулся из армии), а Глебу – пятнадцать.
Глеб не знает, почему он тут же бросился в учреждение Семена Матвеевича. Привычка всегда слышать, что отец работает допоздна?
Батя действительно находился еще там, хотя время было около девяти.
Увидев полные слез глаза сына, его перекосившееся лицо, Семен Матвеевич ласково сказал:
– Здравствуй, Глеб… Садись.
Тот послушно сел, не заметив, однако, особого смущения отца. Скорее уж в Семене Матвеевиче ощущалась решимость. Видимо, поставить последнюю точку.
– Для твоего ума это пока очень сложно, – продолжал Ярцев-старший. – Дай бог, чтобы понял потом. Поверь только, бросать я никого не собирался. Так получилось. Словом… – Он махнул рукой.
– А Родион говорит… – с клекотом вырвалось у Глеба.
– Эх, Родька, Родька, – вздохнул отец и неожиданно жалобно спросил: – Ты-то хоть будешь со мной?
– Конечно, папа, конечно! – бросился к отцу Глеб.
– Ну и слава богу, – с облегчением произнес тот, прижимая к себе сына.
Отец расспросил о школе, поинтересовался, есть ли в чем нужда – в деньгах, вещах. Прощаясь, он сказал:
– Не переживай шибко, скоро все утрясется…
Смысл «утрясется» прояснился только через полгода. А в тот день Глеб вернулся домой за полночь: бродил по городу с потрясенной, переворошенной душой и разумом. На вопрос встревоженной матери, где он пропадал, Глеб сказал, что был у отца.
– Ну и хорошо, – почему-то спокойно произнесла она. Была с Глебом ровна, нежна, но ничего не объясняла.
Полгода отец не жил на своей квартире по улице Свободы. За это время Родион женился на женщине старше себя на четыре года, с ребенком. Они работали на одном заводе. Вскоре старший брат со своей супругой получили трехкомнатную квартиру от предприятия. Глеб потом узнал, что в этом помог Родиону отец. Через Николая Николаевича Вербицкого. Мать переехала жить к старшему сыну. Вот тогда-то и вернулся Семен Матвеевич в свой дом. С двадцатисемилетней Златой Леонидовной. Она была красавица. И очень соответствовала внешностью своему имени – золотые кудри, персиковый цвет лица и светло-янтарные глаза.
Глеб остался с ними. Единственным чадом, так как Ярцев-старший с новой женой детей не заимели.
Вопрос же, кто кого оставил, так и остался для Глеба открытым, потому что Родион как-то сказал брату, что Калерия Изотовна сама, мол, указала отцу на дверь, не в силах дольше терпеть его измены.
Первое время после разъезда семьи Глеб метался, считая, что совершил предательство по отношению к матери. Развалилась и его дружба с братом, который не скрывал своего неудовольствия, когда Глеб приходил к ним. Как всегда, мать оказалась мудрее всех.
– Не принимай слова Роди близко к сердцу, – сказала она сыну однажды. – Брат есть брат.
И то, что младший сын остался с отцом, она не осуждала. С Глеба словно сняли непосильную ношу. Вскоре у Родиона в семье произошло прибавление. И какое – сразу двойня!
Никогда Глеб не забудет того дня, когда он, выходя из школы, попал в объятия брата. И хотя стоял лютый мороз, тот был весь нараспашку, без шапки, с невероятно радостным и глупым лицом.
– Поздравляю дядьку! – Он схватил Глеба поперек тела и попытался подбросить вверх. – Слышь, дядька, у тебя два племяша! Яшка и Аркашка! Знай наших!
Родион потащил брата разыскивать живые цветы (выложил кругленькую сумму улыбчивому и загадочному человеку с южной внешностью), и они вместе пошли в роддом, чтобы передать букет роженице.
Глебу казалось, что теперь-то они снова будут близки с братом, как в детстве, вернется к ним радостное единение. Но то оказалось лишь единичной, последней вспышкой братской дружбы.
Родион окунулся в заботы (шутка ли, двое детей!) и Глеба словно не замечал. Но былое отчуждение исчезло – и то слава богу! Осталось лишь равнодушие. Правда, отца старший сын так и не простил…
– Ну, тронулись? – сказала Вика, хлопая дверцей и утихомиривая расходившегося пса.
Глеб, оторвавшись от своих мыслей, включил зажигание.
– Ой, Виктория, – недовольно заметил Николай Николаевич, – загубишь ты охотничью собаку! Тебе бы все играться.
– Сам виноват, – парировала дочь. – Не стоило, живя в Москве, обзаводиться охотничьей собакой.
– Что поделаешь, люблю, – вздохнул Вербицкий и, обращаясь к Глебу, сказал: – Охотничьи собаки – моя страсть.
Пес, словно поняв, что говорят о нем, радостно взвизгнул.
Николай Николаевич стал расписывать достоинства лаек. Действительно, собаки были его коньком. Глеб сделал вид, что внимательно слушает, но его больше занимала дорога. И это не ускользнуло от Вики.
– Папа, в этом деле ты профессор, но не отвлекай нашего водителя.
– Молчу, молчу! – поднял руки Вербицкий.
А шоссе было действительно тяжелым для водителя. Подмораживало, и надо было быть предельно осторожным. Летом Глеб добирался до Ольховки часа за три, теперь же они прибыли в райцентр через добрых четыре. Отсюда до совхоза «Зеленые дали», где директорствовал Семен Матвеевич Ярцев, было еще километров двадцать. Так что, когда бежевая «Лада» Глеба въехала на центральную площадь совхоза, уже стемнело.
– Заглянем к бате в контору или сразу домой? – спросил Глеб.
– Домой, только домой! – воскликнул Вербицкий. – Не будем афишировать наш приезд.
– Все равно через минуту весь поселок узнает, – улыбнулся Глеб, сворачивая в боковую улочку. – Деревня есть деревня.
Они миновали ровный ряд добротных домов с мезонинами, гаражами и аккуратными хозяйственными постройками.
– Богато живут, – не удержался от замечаний Вербицкий.
– Вот и приехали, – сказал Глеб, останавливаясь у ажурных металлических ворот, за которыми виднелся роскошный двухэтажный особняк с большими окнами, светившимися уютно и зазывно.
Ярцев вышел из машины, нажал на кнопку звонка. Трепыхнулась занавеска на одном из окон, и чье-то лицо прильнуло к стеклу. Через полминуты створки ворот сами раздвинулись, и Ярцев подал «Ладу» к дому, из которого уже выходила радостная хозяйка в накинутом на плечи оренбургском платке.
– Господи! – всплеснула руками Злата Леонидовна, увидев, что из машины помимо пасынка выходят Вербицкий и его дочь. – Николай Николаевич, дорогой! Вот радость-то!
Николай Николаевич галантно поцеловал ей руку, указал на Вику:
– Узнаете?
– А как же! – заключая в объятия дочь Вербицкого, проговорила с торжественными модуляциями в голосе Ярцева. – Дай-ка я на тебя посмотрю!.. Расцвела!
Вика ответила просто:
– Я очень рада видеть вас, тетя Злата.
Дошла очередь до Глеба. Мачеха чмокнула его в щеку, прошлась пятерней по волосам:
– Забываешь нас, сынуля.
– Диссертация, – начал было оправдываться Глеб.
– А позвонить нет времени?
Потом был представлен Дик, вызвавший у хозяйки дома совершеннейший восторг.
– Ну, в дом, в дом! – провозгласила Злата Леонидовна.
Не успели вынуть из машины вещи, как у ворот взвизгнул тормозами примчавшийся как бешеный уазик.
Сработал невидимый сельский телеграф.
– Вот черти! – гремел баском широко шагающий к дому Ярцев-старший в расстегнутой дубленке. – Ну хороши, ничего не скажешь! Даже не сообщили!
– Сюрприз, так сказать, – улыбнулся Вербицкий, обнимаясь с хозяином. – Но ты как узнал?
– У меня разведка поставлена будь здоров, – засмеялся Семен Матвеевич. – Батюшки, Вика! – развел он руками. – Уважили, братцы! Ей-ей! Такой подарок к Новому году!
Он поцеловал девушку в лоб.
– Приглашай в свои апартаменты, – сказала мужу Злата Леонидовна, кивая на дом.
– Дом твой, – хохотнул Ярцев-старший, – а я прописан в Средневолжске.
– Милости просим, дорогие гости, – нараспев произнесла Злата Леонидовна.
Все потянулись в особняк, радуясь, что утомительная дорога позади и их ждут уют и гостеприимство.
Утром следующего дня – а это было 30 декабря – гости, в том числе и Глеб, проснулись поздно. Семен Матвеевич давно уже уехал в контору, так что потчевала приезжих завтраком одна хозяйка.
За ночь убрались куда-то тучи, небо очистилось, и на дворе стоял волшебно-прозрачный солнечный день.
Завтракали в просторной кухне, обшитой деревом и украшенной огромными блюдами семеновской росписи, играющими пламенными красками от яркого света, льющегося из широкого окна.
– Какая у вас тут красота, тетя Злата! – восторгалась Вика, глядя через окно на голубые елочки у самого дома, усыпанные сверкающим снегом.
– А тишина! – добавил Николай Николаевич.
– И красота, и тишина в наличии, – усмехнулась Злата Леонидовна, подавая всем кофе со сливками. – Особенно хорошо, если на недельку-другую.
– В город тянет? – спросил Вербицкий.
– Еще бы, – со вздохом призналась хозяйка. – Я же городская до мозга костей. Дачку здесь иметь не отказалась бы, а вот жить постоянно…
– И Семен Матвеевич того же мнения? – продолжал интересоваться Вербицкий.
– Спросите у него, – ответила Ярцева и переменила тему: – А вам как в Москве? Небось совсем превратились в коренных столичных жителей?
– Да как сказать… – неопределенно ответил Николай Николаевич. – В Москве, конечно, масштабы другие. Но, признаюсь честно, никак не привыкну к сутолоке, коловороту людскому. А транспорт! Переполненное метро, автобусы… Иной раз это просто убивает! Выбраться куда-нибудь в гости – целая проблема.
– Но вас, наверное, это не касается, – перебила гостя Злата Леонидовна.
– В каком смысле? – не понял Николай Николаевич.
– Ну, видимо, у вас персональная машина.
– Никакой персональной.
– Как? – изумилась хозяйка. – Начальник главка! Член коллегии!
– Ну и что? – пожал плечами Вербицкий. – Персональные только у министра и его заместителей. Я же пользуюсь одной «Волгой» на двоих. И чтобы не ссориться, мы договорились, что каждый ездит через день.
– Ну и ну! – все еще удивлялась Ярцева. – Ведь вы вершите огромной отраслью! На всю страну! Это же выше, чем председатель облисполкома!
– В принципе да, – кивнул Николай Николаевич.
– Но ведь в Средневолжске у вас была персональная! И, насколько я знаю, даже два шофера!
– Было, было, – улыбнулась Вика. – Случалось, едешь в папиной машине, регулировщики честь отдают.
– Не тебе же, – усмехнулся Вербицкий.
– Вот я и говорю: самой машине козыряли! – засмеялась Вика. – Здесь папа был кум королю! Знаете, я очень стеснялась. Особенно в школе. Везде меня совали первой. Учителя помнили день моего рождения, поздравляли. Ученики добивались дружбы. А за спиной – шептались. – Она вздохнула. – Спросите у Глеба, что обо мне говорили за глаза. Так ведь, а?
Все посмотрели на Ярцева. А он не знал, что ответить.
– Что ты, Вика, – пробормотал Глеб, ошарашенный вопросом, и вспомнил ее прозвище – Щелкунчик.
– Брось, – махнула рукой Вика. – Я знаю. – Видя, что щекотливая тема не очень пришлась к столу, она улыбнулась. – Тетя Злата, в Москве другие кумиры. Вот взять хотя бы папиного министра. В своем кабинете он Зевс-громовержец! А вышел на улицу – никто! Другое дело – Вячеслав Тихонов, Иосиф Кобзон, Инна Чурикова или Алла Пугачева. Их узнают, млеют от восторга.
– Это понятно – звезды, – с почтением произнесла хозяйка.
– Ну, еще космонавты или дикторы телевидения, – добавил Вербицкий.
– Так что наш папуля… – сказала Вика и замолчала, прислушиваясь к чему-то.
В прихожей раздался какой-то странный шум.
– Злата Леонидовна! – послышался голос.
– Это елка, – сказала хозяйка, выходя из кухни.
– Елка? – обрадовалась Вика и бросилась в переднюю.
Глеб тоже вышел и увидел парня с высокой, под потолок, лесной красавицей.
– Познакомьтесь, это Рудик, мой незаменимый помощник, – представила парня Злата Леонидовна.
Тот вежливо поздоровался, с трудом удерживая в руках елку, густые ветви которой шуршали по стенам.
Дом наполнился запахом хвои.
– Куда? – спросил Рудик.
– В большую комнату.
Все забыли о завтраке и собрались в просторной гостиной, где «помощник» по-хозяйски освобождал место для новогодней красы. К дереву была уже прилажена деревянная крестовина. Поместили елку в углу, передвинув диван, журнальный столик и кресла.
– Я пойду, Злата Леонидовна, – сказал парень. – Семен Матвеевич просил вас отыскать шампуры, я их прихвачу.
– Сейчас, сейчас, – засуетилась хозяйка. – Кофе выпьешь?
– Спасибо, – улыбнулся белозубым ртом Рудик, приглаживая русые вихры. – Я уже чаевничал… И еще Семен Матвеевич просил передать, что скоро будет.
Получив из рук Ярцевой связку шампуров, он ушел.
Буквально минут через пятнадцать приехал на своем уазике хозяин дома.
– Ну как, гости дорогие? – весело произнес он, застав всех еще в гостиной. – Выспались?
– Давненько не задавал такого храпака, – признался Вербицкий.
– Теперь я весь в вашем распоряжении, – провозгласил Ярцев-старший.
– Так закинем ружьишки за плечи – и в лес! – обрадовался Николай Николаевич.
– Э, Николай Николаевич, быстро сказка сказывается, – усмехнулся Семен Матвеевич. – И потом, ты сам виноват. Предупредил бы заранее.
– За чем же остановка? – удивился Вербицкий.
– Не будем же мы палить по зайчишкам на совхозных полях! – рассмеялся Ярцев. – Надо подальше, в лес. Там у меня избушка на такой случай имеется. А избушку ту трэба, как говорят хохлы, протопить, прибрать. Да и не доберешься к ней на машине, вон сколько снега за последние дни навалило.
– Сани, я думаю, найдутся? – спросила Вика. – Моя мечта – прокатиться в розвальнях. Так, кажется?
– А ты что, тоже собираешься с нами? – удивился отец.
– Конечно!
– Охотиться? – уточнил Семен Матвеевич.
– Зачем? Писать зимний лесной пейзаж… и вообще…
– Сани, конечно, можно, – посмотрел на Вербицкого хозяин. – А это значит, еще двоих кучеров.
– Нет-нет! – запротестовал Николай Николаевич. – Вика, что за барство? – сделал он выговор дочери. – Отрывать людей. Да и лишние разговоры ни к чему…
– Я тоже так подумал, – сказал Семен Матвеевич. – Сейчас к той избушке очищает дорогу бульдозер. И раз с нами Вика – поедем на двух машинах. Вы на Глебовой «Ладе», а я со всем снаряжением – на уазике. Сам за рулем. Устраивает?
– Во-во! – обрадовался Вербицкий. – Никого из посторонних.
– Не беспокойся, – заверил его Семен Матвеевич, – все свои. Рудик – парень проверенный.
– А что Рудик? – не понял Вербицкий.
– Который елку принес, – объяснила Злата Леонидовна. – Это шофер Семена… Он поехал на бульдозере в Кабанью рощу, где охотничий домик. Поверьте, Николай Николаевич, на него можно положиться как на родного сына.
– Короче, часика через два тронемся, – подытожил хозяин. – Дотемна, может быть, еще успеем поохотиться. Переночуем в той избушке, а уж завтра, с утречка, загоним зверя поосновательней. И вернемся. К праздничному столу и… – Он указал на елку. – Принимается?
– Отлично! – потер руки Вербицкий.
Каждый занялся своим делом. Виктория отправилась с Диком на околицу поселка: ей не терпелось взяться за карандаш. Семен Матвеевич и Николай Николаевич принялись готовить охотничье снаряжение. Злата Леонидовна достала коробки с елочными украшениями. Дела не было только у Глеба. Но мачеха нашла – попросила разобраться с электрогирляндой: несколько лампочек не горели, надо было заменить их.
Но сначала он позвонил в Средневолжск, на работу жене, и сказал, что вернется завтра вечером. Та поворчала и попросила, чтобы приезжал пораньше. Не к самому застолью – ведь приглашены гости, их надо кому-то развлекать, так как на ее плечах праздничная готовка. Глеб пообещал.
А тем временем Семен Матвеевич у себя в кабинете на втором этаже забросал гостя вопросами: что думают и говорят в Москве о перестройке, какие ходят слухи.
– А ты не можешь задать мне вопросы полегче? – усмехнулся Вербицкий.
– Могу. Тогда скажи, что делается в вашем ведомстве?
– Что касается нашей конторы, то в ней в основном перестраивают кабинеты, – осклабился Вербицкий. – Да ускоренным темпом плодятся новые инструкции и указания.
– Это уж точно, бумаг заметно прибавилось, – согласился Ярцев. – На себе чувствую. И все же, перемены какие-нибудь будут?
– Ой, Матвеевич, о чем ты говоришь! – усмехнулся Николай Николаевич. – Вспомни, сколько на нашем с тобой веку провозглашалось разных новых широковещательных программ! И что из того?
– Как же так? – несколько растерялся хозяин. – А переход на хозрасчет, самофинансирование, самоокупаемость?
– Это всего лишь новая упаковка, а содержание старое, – пожал плечами Вербицкий. – Пока живы министерства, без наших инструкций, указаний, одним словом, директив, вам не обойтись.
– Значит, ты считаешь… – вопросительно посмотрел на него Семен Матвеевич.
– Поговорят, пошумят, а в основном все останется по-прежнему.
Слова гостя удовлетворили Ярцева. И он стал нахваливать ружье Николая Николаевича.
– Ты же знаешь, – сказал тот, – я всегда предпочитал бельгийские. Именно эти – «франкотт». Штучное производство. Отделка-то, отделка, а?
– Классная, – кивнул Семен Матвеевич, рассматривая рельефную художественную гравировку на металлических частях. – Пробовал?
– В Белоруссии. Отличная балансировка, посадистость. Я уже не говорю о постоянстве боя! А ты что возьмешь? – спросил Вербицкий, оглядывая солидную коллекцию оружия хозяина.
– Моего «Джеймса Пэрдэя», – ответил Семен Матвеевич, переламывая двустволку и глядя стволы на просвет. – Верная штука, ни разу не подводила. Между прочим, отдал за него семь с половиной тысяч.
– Семь с половиной? – присвистнул Вербицкий, беря ружье из рук хозяина.
– Копейка в копейку, – подтвердил Ярцев. – Уверяю тебя.
– Девятый калибр, – сказал Николай Николаевич, рассматривая ружье. – Думаешь, подстрелим кабанчика?
– Или лося, – подтвердил Ярцев. – Попадаются частенько. Еще хочу прихватить вот это. – Он взял плоский футляр из кожзаменителя, открыл его и бережно вынул красиво инкрустированное и гравированное ружье. – Испытаю в первый раз.
– Дай-ка, дай-ка! – загорелись глаза у Вербицкого. – ТОЗ-34Е… Какая прелесть!
– Новинка.
– Слыхал, а вот держать в руках не приходилось. Молодцы туляки, что возрождают производство уникального оружия! Где достал? – спросил Николай Николаевич с завистью.
– Где достал – секрет, – улыбнулся Семен Матвеевич. – Но вот если хочешь, сделаю и для тебя.
– Спрашиваешь! Конечно хочу! – Вербицкий не мог налюбоваться ружьем. – Смотри, ведь могут же у нас. И еще как! Получше всяких там «зауэров», «манлихеров» и винчестеров!
– Патриот, – похлопал его по плечу Ярцев. – А у самого – «франкотт».
– Так если бы у нас раньше выпускали такую красотищу! – потряс ТОЗом Николай Николаевич. – Ведь туляки всегда делали отличное оружие, но серийное. А я люблю, чтоб редкое. И отделка. Кому нравится шаблон?
– Ты прав, – согласился Ярцев.
– Послушай, – вдруг сказал Вербицкий, отдавая ружье, – как ты сюда…
– Скатился? – с кислой улыбкой закончил за него Семен Матвеевич. – Обстоятельств несколько. А началось все с того времени, когда создали областной агропром. С Лагутиным, председателем, у нас сразу начались трения. Уж кто-кто, а ты его знаешь как облупленного. Твой бывший зам.
– Занозистый мужик, – нахмурился Вербицкий. – Он и под меня копал. Да не по зубам я ему оказался. И что же вы с ним не поделили?
– Во-первых, как ты правильно сказал, любви к тебе он особой не питал. А я вроде бы твой кадр.
– Не думал, что он такой злопамятный, – покачал головой Николай Николаевич. – Дальше?
– Дальше, – усмехнулся Ярцев. – Это уже из порядка причин не личного характера. Понимаешь, у Лагутина свои, местные заботы и проблемы, а у моего республиканского начальства – свои. Да что объяснять! Сам отлично знаешь эти увязки-неувязки. Словом, господа грызутся, а у слуг щеки от оплеух горят. А тут пленум обкома… Нового первого избрали. При старом я бы удержался. Новый же поддержал Лагутина. Вообще сейчас прополка идет – ой-ой-ой! А мой участок всегда был трудным. Раньше я умел ориентироваться, а тут чувствую – надо делать ход конем. Понимаешь, из проигрыша сделать выигрыш. Хотя бы для видимости…
Ярцев замолчал, укладывая ружье в футляр.
– Ну и?… – нетерпеливо спросил Вербицкий, слушая Ярцева с большим вниманием.
– В октябре прошлого года хоронили Костюкова, директора «Лесных далей»… Представляешь, только что повесили на грудь вторую Звезду Героя, а он…
– О, Костюков был голова! – закивал Вербицкий.
– Что ты! Оставил хозяйство – любо-дорого посмотреть! Я сейчас забот не знаю! У меня главный агроном – хоть завтра в академики ВАСХНИЛ! А жилищный фонд! А культура! Не говоря уже о самом производстве!
– Так ты сам сюда напросился?
– А что оставалось делать? Ждать, пока дадут по шапке и предложат какой-нибудь колхоз поднимать?
– Что ж, ход правильный, – после некоторого размышления одобрил Вербицкий. – Отличный ход, ты на виду… Сам себе голова. Вокруг все с тобой здороваются каждый день, уважают. Понимаешь, знают, как говорится, в лицо. И сделать можно много хорошего. Главное – видишь результаты своего труда. А природа чего стоит! Так что живи себе на здоровье, – улыбнулся он. – Радуйся жизни.
– Легко сказать, – вздохнул Ярцев. – Я из таких, кому подавай простор. Пусть область, но все же размах! Порох-то есть! А тут, как ни верти, понижение… Даже снится, что я снова в Средневолжске. Ведь столько трудов там положено! Взять хотя бы квартиру – в центре, четырехкомнатная! Такую теперь не получишь. Потолки под четыре метра! Не могу с ней расстаться, и все тут!
– Это ты правильно сделал, что сохранил ее за собой, не выписался, – одобрил Вербицкий. – Хотя дом у тебя тут – шикарный! Шесть комнат!
– Ну уж дураком меня не назовешь, – усмехнулся Семен Матвеевич. – А в этой хатке, – он оглядел стены, – Злата прописана. Так что комар носа не подточит. Правда, она рвется в Средневолжск – спит и видит!
– Говорила… Насколько я понял, ты считаешь это временным, так сказать, тактическим отступлением? – пристально посмотрел на приятеля Вербицкий.
– Мы предполагаем, а Бог располагает.
– И все же какие планы?
– Ну, через годик хорошо бы сюда, – Ярцев ткнул себя в грудь, – Героя… Поможешь, а?
– Это можно. А потом?
– И дальше рассчитываю на дружескую помощь, – хохотнул Семен Матвеевич, однако не очень смело. – Верные люди тебе небось нужны? Я имею в виду Москву.
– Хочешь честно? – посуровел Вербицкий.
– Разумеется, – несколько напрягся хозяин.
– Когда ты еще возглавлял облсельхозтехнику, я делал заход насчет тебя в министерстве. В кадрах обещали поддержать. А тут вдруг – бац! Узнаю, что ты теперь в Ольховке. Ну сам подумай, как я теперь буду ставить вопрос? – Увидев, что Ярцев нахмурился, он добавил: – Понимаешь, должность – не проблема, а вот прописка, квартира…
– Неужели твой министр не может снять трубку и позвонить председателю Моссовета? – с надеждой посмотрел на приятеля Ярцев.
– Министров много, а председатель один. И потом, за кого просить? Директора совхоза?
– Насколько я помню, однажды один товарищ с должности директора совхоза попал прямо в кресло министра сельского хозяйства Союза, – серьезно проговорил Ярцев и улыбнулся. – Но я, как ты понимаешь, в министры не набиваюсь.
– Ладно, вернусь в Москву, провентилирую, – пообещал Вербицкий.
– И на том спасибо, – обрадовался Семен Матвеевич. – Что это мы все обо мне да обо мне… Сам-то как живешь?
– Жаловаться грех.
– Понимаю, – хитро посмотрел на Вербицкого Ярцев, – значит, правда, что тебя хотят в замминистры?
– Ну ты даешь! – хмыкнул Николай Николаевич. – Действительно, разведка у тебя работает отменно! Ведь насчет этого и в Москве-то в курсе лишь узкий круг.
– Выходит, скоро?
– Не знаю, не знаю… – ответил неопределенно Николай Николаевич. – В ЦК решается. Только прошу тебя, об этом пока…
– Ни-ни! – приложил обе руки к груди Семен Матвеевич. – Ни одной душе!
– Даже Злате! – поднял палец Николай Николаевич.
– Будь спокоен, – заверил Ярцев и радостно потер руки. – Поохотимся мы с тобой на славу! Гарантирую!
В Кабанью рощу добрались не так быстро, как предполагали. Бульдозер хоть и расчистил дорогу, но для сугубо городской машины, какой являлась «Лада», она была нелегкой. Семен Матвеевич, ехавший впереди, несколько раз останавливался, чтобы помочь увязавшему в снегу сыну. Однако эти помехи никому не испортили настроения: уж больно прекрасно было все вокруг – и погода, и торжественно-величественный лес, и ожидающие впереди удовольствие и отдых.
Наконец показался домик на берегу озера, а возле него – бульдозер.
– Как в сказке! – с восторгом произнесла Вика. – Избушка, дымок из трубы и укутанные снегом ели!
Встречать их вышел Рудик. Он помог отнести в дом сумки с продуктами и снаряжение для охоты.
– Солидно, – сказал Вербицкий, когда они зашли в «избушку».
Это был огромный сруб, разделенный перегородками на несколько вместительных комнат. Самая большая – нечто вроде горницы, только вместо русской печи – камин, отделанный чеканкой. В нем яростно пылал огонь.
На стенах висели шкуры медведя и крупного лося, рога которого были прибиты над входом. На полу лежал грубый палас. Из мебели – лишь простой стол и тяжелые стулья из толстых досок.
Рудик выдал всем тулупы и валенки, что привело Вику в восторг.
– Можем играть трагедию, – заметил Глеб, когда они облачились в тулупы.
– Что ты имеешь в виду? – спросила Вика.
– По-гречески «козел» – «трагос», – объяснил Глеб. – В Древней Греции во время праздников, или дионисий, как их называли, актеры разыгрывали представления. Одеты они были в козлиные шкуры. Отсюда и пошло название – трагедия.
– Так это же овчина! – засмеялся Семен Матвеевич, одергивая на сыне тулуп.
– Да? – смутился Глеб и поправился с улыбкой: – Что ж, мы можем разыграть русскую трагедию. Не в козлиных, а в бараньих шкурах.
Ярцев-старший повел всех посмотреть баню, которая сто яла на самом краешке берега. А дальше простиралось плоское блюдо озера. До противоположного берега было километра три.
– Русская баня – это хорошо, – одобрительно отозвался Николай Николаевич, осмотрев предбанник, парилку и самоварную. – А то в Москве все помешались на саунах… И что прямо у воды, тоже здорово! Попарился – и сразу бултых в озеро!
– Так и задумано, – кивнул Семен Матвеевич. – У меня тут в августе отдыхал Элигий Петрович…
– Соколов? – удивился Вербицкий.
– Начальник управления? – уточнила Вика.
– Он самый, – ответил довольный Ярцев-старший. – Был в полном восторге от баньки.
– Кстати, – сказал Глеб, – знаете, как в России многие раскусили, что Лжедмитрий чужестранец?
– Интересно, – повернулся к нему Вербицкий.
– Потому что он не любил баню, – объяснил Глеб. – Об этом писал знаменитый ученый и путешественник Адам Эльшлегер, известный больше под именем Олеарий.
– Действительно, перефразируя Гоголя, – какой русский не любит баню! – засмеялся Николай Николаевич. Он посмотрел на солнце и предложил: – Ну, Матвеич, махнем в лес? А то светило скоро закатится.
– Я готов!
Взяв ружье и приладив к валенкам лыжи, они отправились в лес, сопровождаемые возбужденной собакой.
Вика, чтобы не терять времени даром, тут же устроилась на берегу озера с этюдником. Глеб наблюдал за ее работой. На бумагу ложились быстрые линии, штрихи, складываясь постепенно в пейзаж, который Ярцев видел перед собой. Девушка молчала.
– Не мешаю? – на всякий случай спросил Глеб.
– Нисколько… Даже люблю поговорить, когда пишу, – откликнулась Вика.
– Послушай, а тебе не будет скучно на Новый год с…
– Предками? – с улыбкой подхватила девушка.
– Начнется «А помнишь?», «А вот в наше время…», – сказал Глеб, у которого вдруг мелькнула мысль увезти Вику в Средневолжск; пусть гости, которых он пригласил к себе, знают, какие у него, Глеба, знакомства!
– Знаешь, надоели компании, суета… Так здорово встретить Новый год в деревне!
– Обычно ты где встречаешь? – поинтересовался Глеб.
– Где только не встречала! И в Доме кино, и в ЦДЛ, и в Доме работников искусств, и в Доме композиторов! Публика вроде разная и в то же время одинаковая. – Она криво усмехнулась. – Сплошные знаменитости, аж плюнуть некуда!
«Красуется? – подумал Глеб. – Вроде не похоже».
Сам бы он многое отдал, чтобы встретить новогодний праздник в любом из тех творческих клубов в Москве, которые назвала Вербицкая.
Вдруг издалека, из леса, прогремел выстрел, затем второй. И это показалось таким неестественным среди белой царственной тихой природы.
– Тешатся наши старики, – усмехнулась Вика.
– Пусть им… Разрядка…
– Нет, я рада за отца, – проговорила, как бы оправдываясь, девушка. – Работает он действительно на износ. И такая разрядка у него только в командировках. Когда едет, обязательно прихватывает с собой ружье. В прошлом году охотился даже на Камчатке. Привез оригинальный трофей – голубую выдру. Вернее, шкурку. Ее там охотники ему выделали.
– Голубую? – удивился Глеб. – Никогда не слышал.
– Папа говорит, очень редкий экземпляр.
– И что ты из нее сделала?
– Пока лежит.
– Знаешь, Вика, – предложил Ярцев, – пошли-ка в дом.
– Я не замерзла.
– Не заметишь, как отморозишь нос или щеки.
А мороз на самом деле густел, щипал лицо. Вербицкая с сожалением оторвалась от своего занятия.
В избе после холода показалось особенно уютно. Рудик сидел у портативного телевизора.
– Прохватывает? – спросил он, когда Глеб и Вика скинули с себя тулупы и устроились у камина.
– Хорошо! – тряхнула головой девушка и протянула к теплу руки. Она блаженствовала.
– Неплохо бы перекусить, а? – предложил Глеб.
– Стоящая идея, – улыбнулась Вика.
– Организуем, – деловито поднялся шофер.
Не суетливо, но споро и ловко он накрыл стол – поставил соленые грибочки, огурцы, помидоры, домашнюю ветчину и колбасу.
– Закусывайте пока, – сказал Рудик и исчез на кухне.
– Расторопный малый, – заметил Глеб.
– Внимательный, – кивнула Вербицкая, уплетая аппетитную снедь за обе щеки.
Все ей нравилось, все ее умиляло. И больше всего – шашлык, приготовленный тут же, в камине.
Болтали о разном и не заметили, как за окном стемнело. Рудик зажег свет. Вика вдруг забеспокоилась за отца и за Семена Матвеевича. Но тут дверь распахнулась, и в дом ввалились охотники. Румяные от быстрой ходьбы, радостные и усталые. Дик выражал свою собачью радость тем, что бросился к Вике и стал лизать лицо.
– Лежать! – приказал Вербицкий, показывая дочке трофей – глухаря. – Красавец, а?
– Чудо! – сказала Вика, оглядывая великолепную птицу, веером раскинувшую большие крылья.
Семен Матвеевич передал Рудику свою добычу – беляка и, потирая руки, сказал:
– Ну, Николай, за стол!
– Заповедь охотника какая? – спросил Вербицкий и сам же ответил: – Сперва накорми собаку.
– Рудик накормит.
– Не-не! Только хозяин, – решительно заявил Николай Николаевич.
Дали есть Дику и наконец уселись обедать. Все еще не остыв от азарта, оба охотника, перебивая друг друга, рассказывали, где и как они выследили дичь и как добыли ее.
– А пес у тебя экстра-класс! – нахваливал Ярцев-старший. – Зайца поднял, навел на глухаря…
– Так он же записан в книге ВРКОС! – с полным ртом ответил Вербицкий.
– А что это такое?
– Всероссийская родословно-племенная книга охотничьих собак, – пояснила Вика.
– Смотри-ка, есть и такая? – удивился Рудик, который сел за стол лишь вместе со своим шефом.
– Надо же вести учет породистым собакам, – сказал Николай Николаевич. – В этой книге – только самые лучшие, имеющие полную четырехколенную родословную, имеющие дипломы за испытание рабочих качеств и высокую оценку по экстерьеру… Между прочим, Дик записан в самую высшую группу из русско-европейских лаек.
– И много таких групп? – полюбопытствовал Глеб.
– Пять, – ответил Вербицкий. – В группе, куда входит и Дик, около пятидесяти собак. И все они имеют по нескольку дипломов первой степени! У моего пса дипломы по медведю, утке, копытным и пушным зверям.
– Значит, многостаночник, – хитро улыбнулся Ярцев-старший. – Что же, испытаем его завтра на зверя покрупнее…
Так, за охотничьими разговорами прошел обед. После еды встал вопрос: чем заняться? Вику разморило. От впечатлений, свежего воздуха, тепла. Она пошла в одну из комнат прилечь.
– Эх, пулечку бы расписать, – мечтательно произнес Николай Николаевич.
– Это можно устроить, – улыбнулся Семен Матвеевич. – Карты есть…
– А третий? – спросил Вербицкий.
Ярцев-старший кивнул на сына.
– Играешь в преферанс? – обратился Николай Николаевич к Глебу. Тот кивнул. – Рискнешь с нами?
– Можно…
– Смотри, мы с твоим отцом имеем приличный стаж, – предупредил Вербицкий.
– На ковер, на ковер, – потер руки Ярцев-старший.
Тут же появилась нераспечатанная колода, бумага, карандаш.
– Только просьба, братцы, – попросил Николай Николаевич, – поменьше курите. – Он показал на сердце.
– Конечно-конечно, о чем речь! – откликнулся Семен Матвеевич, расчерчивая лист бумаги. – По сколько?
– По копейке, а? – неуверенно предложил Вербицкий, кинув взгляд на Глеба: мол, он еще молод и на большее не потянет.
– Боишься, без штанов оставим? – засмеялся Ярцев-старший. – Не будем мелочиться.
– Лично я готов, – усмехнулся московский гость, ловко тасуя карты и сдавая их для игры. – Ну, Матвеич?
– Я – пас.
Глеб стал торговаться. Николай Николаевич не уступал, и игра досталась ему.
– Разложимся, папа, – сказал Ярцев-младший, раскрывая карты.
Вербицкий остался без двух[1].
Раздали снова. На этот раз играл Глеб, притом успешно.
– Однако же, – заметил Вербицкий. – Наш гуманитарий не только в истории разбирается… Я думал, у тебя в голове лишь всякие там битвы при Ватерлоо, Бородино…
– Как говорится, нам, гуманитариям, ничто человеческое не чуждо, – улыбнулся молодой историк.
Время летело быстро. Вербицкий нервничал, Семен Матвеевич хмурился.
– Покурим, Глеб, – предложил он.
Отец с сыном вышли на улицу.
– Ты что, спятил? – спросил Ярцев-старший. – Я прикинул: раздел гостя уже рублей на двести…
– Карта идет, – оправдывался Глеб.
– Умерь пыл! Видишь, он расстроился.
– Трус не играет в хоккей, – отшутился было сын.
– Кончай мне эти хохмы! – не на шутку рассердился отец. – Дай ему отыграться. Понял?
– Попробую…
– Не «попробую», а сделаешь! – твердо приказал отец.
Они курили в накинутых на плечи тулупах, глядели на синеву морозной ночи, не нарушаемой ни единым звуком.
– Понимаешь, Вербицкий может помочь мне выбраться отсюда, – продолжал Семен Матвеевич. – И даже не в Средневолжск, а в Москву…
– Иди ты! – не поверил Глеб.
– Факт! Так что смотри… Нужно его ублажать. Пусть выиграет сотню-другую. Вербицкому радость, а мы не обеднеем. И не бойся просадить побольше – я тебе компенсирую дома.
– Идет! – согласился Глеб. И, помолчав, попросил у отца: – Батя, может, я с утра махну домой?
– А гости? Нас ведь трое да плюс собака, ружье и прочее. И потом, в уазике холодно.
– Попроси Рудика, чтобы прислал кого-нибудь с машиной, когда поедет в поселок.
– Ни в коем случае! – отрезал Семен Матвеевич. – Почему, ты думаешь, Николай Николаевич попросил привезти их сюда именно тебя? Да заикнись Вербицкий в Средневолжске – десяток машин выделили бы! И еще спасибо сказали бы, что удостоил. Понимаешь, время сейчас такое… Каждый тени своей боится.
– Понял, понял, – сказал Глеб, и впрямь наконец-то сообразив, почему Вербицкий не остановился в Плесе, почему так любезничал с Глебом.
– А Николай Николаевич тем более не хочет никакой огласки. Нельзя ему – вот-вот назначат замминистра.
– Ух ты! – вырвалось у Глеба.
– Факт. Так что этот человечек мне нужен. И тебе, между прочим, тоже может пригодиться. Сам говорил, что диссертации в Москве утверждают. Усек?
– Все, все! – с улыбкой поднял руки вверх Глеб.
– Знаю, Леночка твоя скучает. Сочувствую. Но дело есть дело. Я вон сам уехал от коллектива. Сегодня же у нас в клубе новогодний бал. Обижаться будут, что директор даже не поздравил. А что поделаешь? У самого сердце болит… Так что обслужим москвичей по высшему разряду. Договорились?
– Со всей душой!
Вернулись в дом. Играли еще пару часов: завтра надо было рано вставать. Когда подвели итог, Вербицкий оказался в выигрыше – около трехсот рублей.
– Детишкам на молочишко, – весело проговорил Николай Николаевич и погрозил Глебу пальцем: – А с тобой нужно держать ухо востро.
Но больше гостя радовался Семен Матвеевич, однако вида не показал.
Открытки с новогодними поздравлениями стали приходить за три дня до праздника. Вынимая поздравления из почтового ящика, Лена каждый раз вспоминала отца. Он считал обычай рассылать десятки открыток по праздникам нелепым: отнимает массу времени на ненужную писанину, да и искренность «сердечных» пожеланий весьма сомнительна. Настоящим близким и друзьям заверения в любви не нужны. По его мнению, открыточная эпидемия – изобретение подхалимов, но, к сожалению, оно охватило буквально всех. И теперь уже не поздравить (вернее, не откликнуться на поздравление) стало как-то неприлично. Вот и переводятся впустую тысячи тонн бумаги.
Сама Лена жила в предновогодние дни как в лихорадке. Готовилась к приему гостей. За их совместную с Глебом жизнь этот праздник они решили провести дома впервые. Раньше – то у родителей мужа, то – у ее, в Кирьянове, то в ресторане.
Прием гостей – дело очень серьезное и хлопотливое. Лена, во всяком случае, относилась к этому ответственно.
Первое – кого пригласить? Споры были долгими. Список получался огромным, более двадцати человек.
– Так не пойдет, – решительно заявил Глеб. – Ярмарка получится…
Решили пригласить Люду Колчину с мужем и Федю Гриднева. Гриднев, инженер-электронщик, был почти своим в доме. Золотые руки: навесить полки, провести параллельные телефонные аппараты, сделать раздвижную дверь – для него раз плюнуть. Он еще не был женат, а вот придет один или нет, Ярцевы не знали.
С гостями вроде бы утряслось, но в последнюю минуту, перед самым отъездом с Вербицким в Ольховку, Глеб позвонил жене на работу и сказал, что будет еще гость, какой-то профессор из Москвы – Валерий Платонович Скворцов-Шанявский. О нем Лена слышала впервые. Для расспросов не было времени: муж очень торопился. Единственное, о чем он успел предупредить, – московский гость вегетарианец. И это повергло Лену в ужас: что для него приготовить?
Наверняка этот Скворцов-Шанявский – важная птица, во всяком случае, нужен Глебу, если он пригласил его на такой интимный праздник. Видимо, будущий оппонент на защите диссертации…
К этим заботам прибавились и другие: муж позвонил из совхоза «Лесные дали» и сказал, что возвратится вечером тридцать первого. А это значит, ей придется мотаться по магазинам и рынкам на общественном транспорте. О такси нечего и думать – нарасхват.
Колчина помогала Лене готовить. Лена вообще не представляла, что бы делала без подруги. И не только потому, что нужны были руки, просто очень уж тоскливо одной в квартире. А тут рядом живой человек, с кем можно болтать и не думать о том, где и что делает сейчас Глеб. Честно признаться, нет-нет да и кольнет у Лены в груди. Муж был далеко, в компании с девушкой. Глуши не глуши в себе ревность, она все равно рвется наружу.
Людмила не обладала кулинарными способностями, но помощницей была расторопной. Болтали обо всем. Людмила поинтересовалась, нашла ли милиция вора. Лена высказала сомнение, что драгоценности вообще когда-нибудь отыщутся.
– Не волнуйся, найдут, – успокоила подруга. – А чем же все-таки ты собираешься кормить профессора?
– Свежие помидоры, огурцы, – загибала пальцы Лена, – на рынке купила. Ну еще цветная капуста, зелень и дыня…
Пока в духовке и на конфорках жарилось, парилось, варилось и тушилось, Колчина украшала квартиру. Тут она была мастер – посещала кружок икебаны.
По ее совету традиционную елку решили не ставить. Людмила принесла хвойные лапы, купленные специально на елочном базаре, цветы, красивые свечи.
То, что она соорудила из этого, привело Лену в восторг.
На тумбочке, журнальном столике и горке Колчина поставила блюда. В них ухитрилась расположить горизонтально и вертикально ветки, которые украсила цветами, блестящими шарами, завершив сооружение свечками. Потушили свет, зажгли свечи – зрелище получилось удивительным!
– Оригинально! Просто потрясающе! – восхищалась Лена, гася свечи и включая люстру.
Колчина побежала проведать своего малыша, находящегося на попечении матери и мужа.
Когда Лена осталась одна, тоска навалилась с еще большей силой. Шел девятый час, а Глеба все не было.
«Может, с ним в пути что-нибудь случилось? – с тревогой думала она. – Перед праздником такая спешка, такая коловерть на дорогах. А сколько пьяных?…»
Беспокойство постепенно переросло в панику. Она позвонила на междугородную и заказала Ольховский район. По срочному тарифу.
Дали минут через десять. В трубке послышалось грудное контральто Златы Леонидовны.
– Леночка! – обрадовалась мачеха Глеба. – Здравствуй, милая! Поздравляю тебя с наступающим…
– Спасибо. И вас также…
– Не знаю даже, что и пожелать тебе в новом году, – продолжала Злата Леонидовна, а Лена с трудом сдерживалась, чтобы не перебить ее вопросами о Глебе. – Конечно же здоровья, счастья, исполнения всех, всех желаний!
Поблагодарив, Лена со своей стороны наговорила ей массу хороших слов и наконец поинтересовалась:
– Глеб давно выехал в Средневолжск?
– А он будет с нами встречать.
– Как?! – вырвалось у Лены.
– Понимаешь, золотко, мой благоверный и Николай Николаевич решили поохотиться. Вика увязалась за ними. Нет, не на охоту, а чтобы побыть в лесу… Поняла?
– Да, – машинально ответила Лена, хотя пока ничего не понимала, а в голове билась одна лишь мысль: Глеба не будет, и это связано с Викой.
– Короче, они вернутся домой часам к десяти, и куда уже Глебу ехать в Средневолжск… Не скучай, золотце. Как только они приедут, я заставлю Глеба тебе позвонить.
Злата Леонидовна щебетала еще о чем-то, Лена отвечала, почти не вникая в смысл слов. А когда положила трубку, разревелась. Обида жгучей волной захлестнула душу. «К черту всех гостей! К черту встречу! – твердила она про себя. – Отменить!»
Уже потом, рассуждая более трезво, подумала: «А как же новое платье? Надо же показаться в нем гостям! А закуски куда девать? И вообще – чего сидеть одной?» Да и перед приглашенными было бы неудобно, особенно перед этим профессором. Лена даже не знала, где, у кого он остановился.
Она посмотрела на новое платье, и ей стало нестерпимо жалко себя. Все, ну буквально все сделала, чтобы понравиться мужу, доставить ему приятное, а он… Перед глазами возникло расплывчатое видение: счастливый Глеб обнимает…
Вику она никогда не видела, но теперь представляла красивой и коварной обольстительницей.
Лена встала, топнула ногой и сказала вслух:
– Буду встречать Новый год с гостями! Буду танцевать! Буду кутить! Буду веселиться!
Пришла Людмила. Увидев заплаканную, с покрасневшими глазами подругу, встревожилась.
– Глеб не приедет. Машина сломалась.
Для Глеба день тянулся невыносимо медленно. Отец с Вербицким отправились в лес поздно: с утра повалил снег, и охотники едва не отказались от намерения поохотиться. Но часам к двенадцати снегопад прекратился, и старики укатили с Диком, а Вика засела за свои этюды. Даже Рудик и тот поехал домой – ждала семья.
Глеб некоторое время наблюдал за тем, как гостья рисует, потом включил телевизор, который тоже вскоре наскучил. Разнообразие внес обед с Викой. Однако она быстро покончила с едой и снова пошла писать, оторвавшись от своего занятия, лишь когда совсем стемнело. Глеб попытался растормошить девушку анекдотами, забавными историями, но она была рассеянна, задумчива, и Глеб совсем загрустил. Он был раздосадован тем, что торчит без толку в этом дурацком домике, пытается безуспешно развеселить гостью, которой это совсем не нужно.
Мысли его теперь были далеко, в Средневолжске, где Лена готовилась к встрече гостей и где ему, Глебу, было бы сейчас куда уютнее и спокойнее. А главное, он там нужнее.
И вообще получилось некрасиво: назвал гостей, а сам укатил бог знает куда. Ну, Колчины и Федя простят. А Скворцов-Шанявский? Придется оправдываться перед профессором…
Разожгли камин. Но и это не развеяло скуку. И когда уже Глеб готов был бросить все к чертям и махнуть домой, в город, снаружи у двери послышались голоса и шум.
– Слава богу! – невольно вырвалось у него.
– Глеб! – заглянул в дом Семен Матвеевич. – Помоги…
Шапка у Ярцева-старшего съехала набок, волосы были мокрые от пота. На рукаве полушубка – кровь.
Глеб и Вика вскочили встревоженные и бросились к двери.
Возле крыльца лежало что-то большое, темное. Вербицкий, тяжело отдуваясь, говорил, довольный:
– Вот это трофей! Отвели-таки душеньку!
– Господи! – выдохнул Глеб. – А мы перепугались!
– Помотал он нас, – вытирая пот со лба, хрипло проговорил Семен Матвеевич.
Приглядевшись, Глеб узнал лося. Его царственные рога неестественно заломились на спину. Свет, падающий из двери, сверкал точечками на остекленевших глазах.
– Как же вы его дотащили? – удивился Глеб.
– Жерди приспособили, – ответил отец. – Давай его сразу в машину.
Трое мужчин с трудом заволокли тушу на заднее сиденье уазика. Туша зверя почти уже закоченела.
Во время этой процедуры Вика не проронила ни слова. А когда зашли в дом, спросила у отца:
– Неужели вам не жалко было его?
– Милая Вика, – улыбаясь, сказал Семен Матвеевич, снимая перепачканный кровью тулуп, – шашлычок любишь? Или бифштекс, а?
– Но… Понимаете, это совсем… – попыталась было что-то сказать девушка, но Семен Матвеевич перебил:
– Так ведь барашков и коровок тоже… – Он провел ребром ладони по горлу.
– И все же, – вздохнула Вика, – стрелять в живого…
– А бифштекс разве из падали? Брось, дочка, – устало опустился на стул Вербицкий. – Ты мне напоминаешь тех чистоплюев, что вещают по телевидению или строчат статейки в газетах: мол, охота – это варварство, жестокость…
– Во-во! – поддержал гостя Семен Матвеевич. – Такую чушь порют! Сами же ни черта в этом не понимают!.. Охота – древнейшее занятие.
– И чем выстрел хуже удара ножа на бойне? – уже с раздражением спросил у Вики отец.
– Или электричества, – поддакнул Ярцев-старший.
– Да нет, я вообще… – смутилась девушка и замолчала.
– Мы его добыли по всем правилам, – продолжал Николай Николаевич. – По-мужски… Километров десять шли за ним.
– Сдаюсь и преклоняюсь, – подняла вверх руки Вика и улыбнулась. – Умывайтесь и садитесь есть.
– Вот это другой разговор! – повеселел Николай Николаевич.
Вербицкая захлопотала у стола.
Семен Матвеевич вышел в другую комнату и вернулся с двумя бутылками коньяка.
– Заслужили, а? – вопросительно посмотрел он на гостя.
– С удовольствием! – потер руки Вербицкий. – Теперь – не грех.
– Кутнем! – радостно произнес Ярцев-старший. – Все свои… Дела в этом году сделаны. Как говорится, потехе – час!
Вика тоже охотно согласилась выпить. Глеб стал отнекиваться, ему ведь предстояло вести машину.
– Кончай сачковать, – отмахнулся отец, наливая ему полную рюмку. – Тут мы сами себе ГАИ и ОРУД!
Только успели выпить по первой, Семен Матвеевич налил еще.
«Действительно, – подумал Глеб, – какая тут, в лесу, милиция!»
От коньяка стало веселее. Уплывало, растворялось чувство вины перед женой и приглашенными гостями.
Вика тоже оживилась. Щеки у нее раскраснелись, глаза заблестели.
– Запомни, доча, – размахивая вилкой с насаженным на нее куском мяса, проповедовал Вербицкий, – настоящие охотники – друзья природы! Понимаешь, настоящие, а не паршивые браконьеры! Вот взять хотя бы лося… Да, прекрасный зверь! Сильный! Но пусти его размножаться самотеком, знаешь, сколько вреда он принесет лесу?
– Это точно, – поддакнул Семен Матвеевич. – Губит молодую поросль…
– Что молодую? Крепкие деревья сводит. Обдирает кору – хана деревьям.
– А кто регулирует его численность? – поднял вверх палец Ярцев-старший. – Мы, охотники. Наука тоже за нас! Вот так, милая Вика! А какое отдохновение и удовольствие доставляет сам процесс идти по следу или караулить зверя! Недаром Тургенев, Пришвин боготворили охоту.
– Лев Толстой как-то сказал, – вставил свое слово Глеб, – «не запрещайте вашим детям заниматься охотой. Это увлечение убережет их от многих ошибок и пороков молодости».
Вербицкий вдруг встал, подошел к нему и смачно поцеловал в макушку.
– Молодец! – произнес Николай Николаевич прочувствованно. – Золотые слова!
И все поняли: он уже изрядно навеселе. Впрочем, остальные тоже были под хмельком. Кто больше, кто меньше.
Время летело незаметно. Ярцев-старший выставлял бутылку за бутылкой. Сам он, казалось, больше не пьянел, зато Вербицкий уже, как говорится, лыка не вязал.
– Пора в поселок, – напомнила Вика. – Тетя Злата, наверное, заждалась.
– Нет! – решительно заявил Семен Матвеевич. – Еще одно важнейшее мероприятие… Банька!
При этих словах Николай Николаевич оживился. Насколько это было возможно в его состоянии.
Растопили баню быстро, благо Рудик приготовил сухие березовые поленья. Парились одни мужчины, оставив Вику у телевизора, по которому перед Новым годом показывали развлекательные передачи.
С жару, с пару Семен Матвеевич выбегал во двор, бросался в снег. И снова в парилку… Он уговаривал последовать его примеру сына и гостя, но те не решились.
Потом пили чай из самовара. Хмель заметно выветрился. Что касается Ярцева-старшего, так он выглядел совершенно трезвым.
Вернулись в дом. Вербицкий предложил дочери пойти поблаженствовать в бане, но Вика не захотела: в одиночестве вроде как-то не с руки.
– После баньки сам Бог велел по сто грамм! – откупорил новую бутылку Семен Матвеевич.
Предложение было встречено мужчинами с восторгом.
Ярцев-старший подхватил Вику и закружил в танце под ритмичную музыку из телевизора.
– Батя у тебя – во мужик! – показал большой палец Вербицкий. – За него! – чокнулся он с Глебом.
«Да, мне бы столько энергии в его возрасте», – с завистью подумал Глеб. И понял, почему мачеха вышла за Семена Матвеевича замуж, будучи моложе чуть ли не на двадцать лет.
В Ярцеве-старшем была какая-то неувядающая сила, задор, мужественность и постоянная готовность к риску.
«Есть ли все эти качества у меня?» – прикидывал Глеб. Хотелось думать, что есть. Хотя иной раз он и замечал с грустью, что многое взял от матери. Ее мечтательность и мягкость. То, что отец всеми силами старался вышибить из сына.
Любимая поговорка Семена Матвеевича – победителей не судят!
Так он и жил – стремясь всегда побеждать и даже из своих поражений делать победу. Над обстоятельствами, над женщинами…
Музыка кончилась. Семен Матвеевич галантно довел партнершу до стула, наполнил коньяком рюмки.
– Славно! – произнес он с чувством. – Славно, друзья!.. Пью за то, чтобы дорогие гости в скором времени опять посетили эту уютную обитель!
– Да я бы здесь остался навсегда! – совершенно искренне признался Николай Николаевич.
– Я тоже, – поддержала его Вика.
Дружно сдвинули рюмки и выпили «посошок» на дорогу.
– По коням! – торжественно провозгласил Семен Матвеевич, постучав пальцем по своим наручным часам.
Стрелки показывали половину одиннадцатого.
Последние часы перед Новым годом для любой хозяйки самые суматошные. И когда вся посуда была перетерта, поставлена на праздничный стол, а Людмила Колчина ушла домой переодеться, дел Лене оставалось еще достаточно.
Первым из гостей явился Федя Гриднев. Со своим «волшебным», как называла его Ярцева, чемоданчиком и трогательным букетиком распустившегося багульника. Инженер был в своем сером скромном костюме, который Лена видела на нем уже третий год.
– Я специально пораньше, – сказал Федя.
– И отлично, – чмокнула его в щеку хозяйка. – Одной тоскливо.
Она сказала, что Глеб, скорее всего, не приедет. Гриднев огорчился:
– А я такой сюрприз приготовил.
– Какой? – загорелись глаза у Лены.
– Увидишь, – загадочно улыбнулся Федор. – Прошу, не заходи, пожалуйста, некоторое время в комнату.
– Ладно, – кивнула Лена.
– А чтобы тебе было веселее, вот… – Федор поставил на холодильник маленький, с папиросную коробку, телевизор, который смастерил сам.
Лена принялась резать закуску, овощи, заправлять салаты.
Инженер возился со своим сюрпризом минут двадцать. И когда он появился на кухне, Лена спросила:
– Теперь можно посмотреть?
– Все равно ничего не увидишь. Он сработает неожиданно.
– Ну и интриган же ты, Федор. Давай тащи все это на стол…
Они принесли готовые блюда в комнату. Как ни старалась хозяйка увидеть, что же сотворил инженер-электронщик, но так ничего и не обнаружила. А он только улыбался.
Федор помог Лене расставить угощение, попутно починил кран в ванной, из которого текло, подкрутил расшатавшуюся дверную ручку в спальне.
– Из тебя муж – просто клад! – нахваливала его Ярцева. – Действительно, почему не женишься?
– А куда приведу жену? – усмехнулся Гриднев. – У нас на тридцать два квадратных метра пять человек. Я, мама, сестра с мужем и ребенком.
– Первое время можно снимать…
Федор присвистнул:
– На какие шиши? Сто тридцать в месяц – не разбежишься.
– Ну, возьми с квартирой.
– Как будто невесты с квартирой валяются на дороге. И потом, насмотрелся я на сестру. Все, буквально все проблема! Племяшка грудная была – пеленок не достать. Хотели в ясли пристроить, сказали, что очередь подойдет не раньше, чем через два года. Из-за этого у сестры прервался рабочий стаж: сидела дома. Хорошо, хоть теперь в детсад определили. Ну и другое прочее… Представляешь, ботиночки ребенку не купишь! Поневоле задумаешься, заводить семью или нет.
Вопрос о детях для Лены был больной: она очень хотела ребенка, но Глеб считал, что это помешает его научной работе. Никакие мольбы и слезы не помогали. А ей часто снилось, особенно в последнее время, что у них дитя – светловолосый мальчишка, ужасно похожий на Ярцева.
– Я тебя оставлю в одиночестве минут на десять, – сказала Лена, показывая на халат.
– Пора уже, – кивнул Федор. – Наверное, вот-вот гости нагрянут.
Лена пошла переодеваться. И только успела сделать прическу и нанести, так сказать, последние штрихи, в дверь позвонили.
Она пошла открывать.
На лестничной площадке стояли три человека. Мужчина лет шестидесяти пяти, среднего роста, в строгом драповом пальто с воротником-шалькой и нерпичьей шапке. Второй – высокий парень атлетического сложения, в кожаном пальто, щегольских сапожках и без головного убора. С ними была женщина в шубе искусственного меха и шерстяном платке. В руке у нее была какая-то нелепая кошелка.
– Если не ошибаюсь, Леночка? – спросил старший, протягивая ей огромный букет чуть распустившихся роз. – Валерий Платонович…
– Да! Да! Проходите, пожалуйста. Спасибо. Очень рада. Какие чудные розы, – несколько растерялась Ярцева: она ожидала, что профессор придет один, а тут еще два гостя.
В прихожей началась церемония раздевания и представления.
Скворцов-Шанявский был в темно-синем костюме, прекрасно сшитом и ладно сидящем, на ослепительно-белой рубашке выделялся галстук-бабочка.
– Простите, дорогая хозяюшка, что я не один. Понимаете…
– Очень хорошо, – перебила его Лена. – Мы всегда рады гостям.
– Позвольте представить – Орыся, – показал он на молодую женщину, но объяснять, кто она, не стал.
Орыся пожала протянутую руку и смущенно проговорила:
– Вы уж извините… Меня затащили к вам…
Выговор у нее был южный, с фрикативным «г». Сняв шубу, она оказалась в скромном, несколько мешковатом платье, которое, однако, не могло скрыть ее ладную фигуру.
Очередь дошла до парня.
– Эрнст Бухарцев, – сказал профессор. – Моя жизнь в его руках…
– В каком смысле? – не поняла Лена.
Эрнст расплылся в улыбке и покрутил обеими руками, словно держался за баранку.
– Очень приятно! – протянула ему руку Лена.
– Можно просто Эрик, – гоготнул парень.
На нем были фирменные джинсы и свитер. Без пальто Бухарцев выглядел еще внушительнее: могучий торс, мощные бицепсы и, как говорится, буйволиная шея.
На что обратила внимание Лена – нос у него был слегка деформирован.
«Боксер, что ли?» – подумала она и указала на дверь в комнату:
– Прошу. Сядем, проводим старый год.
– А Глеб? – огляделся профессор.
Лена объяснила, что муж уехал к отцу в Ольховский район, где задержался по не зависящим от него причинам.
– Оригинально, – усмехнулся профессор несколько растерянно. – Пригласил, а сам укатил.
– Ничего, – успокоила его хозяйка. – Посидим без него.
– Все-таки неудобно, – сказал Скворцов-Шанявский, заходя в комнату, где Федор уже зажег свечи.
Профессор так и застыл на пороге, восхищенно глядя на сверкающий хрусталь, фарфор и елочные шары.
– Это наш большой приятель, – представила Лена. – Мастер на все руки.
Тот назвался, пожал всем руки.
– Чудно! Просто великолепно! – восторженно говорил Скворцов-Шанявский, обходя комнату.
Он похвалил вкус хозяйки, сказал, что ему нравится все-все. И обстановка, и сервировка, и праздничное оформление. Когда он приблизился к бару, дверцы его неожиданно растворились. Профессор от неожиданности застыл, потом рассмеялся.
Лена бросила взгляд на Федю. Тот с улыбкой кивнул и сказал, обращаясь к московскому гостю:
– Возьмите, что вам нравится.
Освещенные лампочкой и отраженные в зеркальной стенке, в баре стояли бутылки виски, джина, вермута – все импортное.
– Благодарю, но, увы, я не пью. Тем более крепкое, – вежливо отказался профессор.
– А вот «Чинзано», – подошла к бару Лена.
Она взяла в руки красивую длинную бутылку, и тут же невидимый голос произнес: «Пейте на здоровье! Но Минздрав предупреждает, что алкоголь – яд!»
Сюрприз, приготовленный инженером, был принят со смехом и восторгом. И, усаживая Гриднева рядом с Орысей, Лена шепнула ему на ухо:
– Здорово! Глебу очень понравится.
Пришли Колчины.
– А это наши соседи и добрые друзья, – представила их Лена. – Прошу любить и жаловать – Людмила и Петр… Ну слава богу, все в сборе. Мужчины, разливайте вино.
Федя и Петр откупорили шампанское, стали наполнять фужеры. Профессор отказался:
– Рад бы в рай, да грехи не пускают.
– Даже глоток шампанского? – огорчилась хозяйка.
– Желчный пузырь… – виновато улыбнулся Валерий Платонович и показал на запотевший графин. – Это что? Сок?
– Морс, – пояснила Лена. – Из черноплодной рябины.
– Прекрасно! Что может быть лучше? – сказал профессор, наливая себе морса.
Накрыла свой фужер рукой и Орыся, когда Гриднев собрался наполнить его.
– Так нельзя, – запротестовал инженер. – Надо обязательно проводить старый год, чтобы вместе с ним ушли все беды и неприятности.
– Спасибо, но, честно, не могу, – приложила руку к груди Орыся. – У меня в четыре утра поезд.
– Всего один бокал! – уговаривал Федя.
Орыся вздохнула:
– Ладно… Но только один!
Эрик тоже не пил.
– За рулем, – кратко объяснил он.
Настаивать никто не стал. Лена предложила сказать тост Скворцову-Шанявскому. Он отнекивался: мол, сам не пьет, но все же поддался настойчивым просьбам.
– Что же, – поднялся он, – будем считать, что в этом бокале вино… Дорогие друзья! Я впервые в этом доме, поэтому прежде всего выпьем, чтобы в нем всегда царили любовь и согласие! Я желаю Леночке и Глебу много-много счастья! Разумеется, благополучия и успехов тоже! Провожая старый год, пусть они, а заодно и мы расстанемся с печалями и неприятностями. Пожелаем Ярцевым в новом году триста шестьдесят пять дней радости и исполнения всех желаний!
Все встали, сдвинули бокалы.
– И чтобы нашлись твои украшения! – добавила Люда Колчина, еще раз чокаясь с Леной.
– Дай-то бог, – вздохнула хозяйка.
После тоста дружно принялись за еду. Профессор положил себе немного лобио, овощей, не притронувшись к мясу.
– О каких украшениях идет речь? – полюбопытствовал он у Лены, которая сидела рядом.
– Не стоит об этом в такой вечер, – уклонилась было она от ответа.
– Почему? – возразила Людмила и рассказала, что Ярцевых обокрали.
– Представляете, – с жаром говорила она, – я, лично я говорила с вором!
– Как?! – удивился профессор.
– Понимаете, я позвонила сюда по телефону как раз в тот момент, когда их грабили! Из наших окон видно их окно в спальне. Я думала, что Лена дома. А мне ответил какой-то мужчина. Голос такой странный, глухой. Вроде как по междугородной…
– Почему вы думаете, что это был вор? – спросил Валерий Платонович.
– А кто же еще? И милиционер сказал, что это был вор! – ответила Колчина, довольная тем, что завладела вниманием компании. – Я запомнила голос, честное слово! Тут же узнаю! Меня два раза расспрашивал оперуполномоченный.
– Ладно, ладно, – недовольно осадил ее муж. – Милиция и без тебя справится.
– Ну и это… – проговорил с полным ртом Бухарцев, обращаясь к Лене, – что милиция?
– А! – махнула она рукой. – Следователь какой-то недотепанный. Представляете, все допытывался, куда я хожу, Глеб, в каких ресторанах бываем, кафе…
– Зачем? – удивился Федор.
– Видишь ли, его осенила гениальная идея, – усмехнулась Ярцева, – будто кто-то из гардеробщиков снял слепки с наших ключей. Двери-то открыли ключами, без отмычки.
– Любопытная версия… – начал было Гриднев, но Лена его перебила:
– Хватит об этом, в конце концов! Давайте лучше поговорим о чем-нибудь веселом! Кушайте, прошу!
– Едим, едим, – откликнулся Петр.
– Вкуснота-а! – протянул Эрик, накладывая себе снова полную тарелку.
– Изумительно! – поддакнула Людмила.
– А вы, Орыся? – спросила Лена. – Отлыниваете…
– Нет, что вы, я ем, – поспешно ответила гостья, беря на вилку маленький кусочек индейки, хотя Федор навалил ей всего.
И вообще, Лена обратила внимание, что инженер очень внимателен к своей соседке, даже слишком. Сколько она помнит Федю, за ним такого не водилось.
Приглядываясь к Орысе, Лена все больше убеждалась, что она красива. И красота ее не стандартная, городская, а самобытная. Выразительные карие глаза, чувственные губы, мягкий овал чуть смуглого лица.
«Ей бы модную прическу да эффектное платье…» – подумала Ярцева.
Еще она отметила, что гостья не то чем-то огорчена, не то просто устала. А это никогда не красит женщину.
«Что-то не получается веселья, – с грустью подумала Лена. – Эх, Глеба нет! Уж он-то умеет завести компанию!»
Мысли о муже не отпускали ее. То охватывало отчаяние (не дай бог, с ним что-нибудь случилось!), то ревность (ох уж эта девица из Москвы!). Лена ждала, что вот-вот раздастся телефонный звонок от мужа. Но время шло, а Глеб не звонил.
– Грустите? – Скворцов-Шанявский положил на руку Лены свою теплую сухую ладонь.
– А? – встрепенулась Лена, отрываясь от своих невеселых размышлений. – Нет… Ничего… – На экране телевизора появилась Спасская башня, и часы стали отбивать двенадцать ударов. – Товарищи, товарищи! – спохватилась она. – Наливайте, а то провороним Новый год! Валерий Платонович, вам слово!
Федя и Петр спешно налили шампанского тем, кто пьет. Профессор чинно поднялся и, когда прозвучал последний удар кремлевских курантов, прочувствованно сказал:
– С Новым годом! С новым счастьем!
Люда чмокнула мужа в щеку, полезла целоваться с Леной, Федором и остальными. Лене показалось, что Петру это не очень понравилось, особенно когда его жена прикоснулась губами к щеке Эрика.
– Целуйтесь, целуйтесь! – требовала Колчина. – Так принято!
– Это на Пасху христосуются, – буркнул ее муж.
Но его замечание потонуло в звуках музыки начавшегося новогоднего представления по телевизору.
А профессор уже наклонился к хозяйке, чтобы запечатлеть на ее щеке поцелуй. Потом к ней подошел Гриднев, тоже с поцелуем.
Концерт начался с вальса.
– Потанцуем? – вдруг предложил Лене Скворцов-Шанявский.
– С удовольствием! – охотно согласилась она. – Обожаю вальс!
Профессор закружил ее в танце. Федор немедленно пригласил Орысю, которая сначала отнекивалась, но потом сдалась, так как инженер был очень настойчив.
Скворцов-Шанявский вел партнершу легко, изящно. В одном из пируэтов их тела прижались друг к другу, ее грудь коснулась его груди, и Лена вдруг увидела странное выражение в глазах профессора. Всего на какой-то миг…
Она хорошо понимала эти мужские взгляды, которые иногда ловила на себе.
Лена растерялась, опустила глаза. Но в ней самой тоже что-то произошло. Она даже не осознала что. Во всяком случае, момент этот был приятен.
– Валерий Платонович, – сказала она, чтобы как-то замять эту нечаянность, – все хочу спросить. Вы будущий оппонент у Глеба? Или как там называется…
– Нет, – улыбнулся он. – Ваш муж не по моей епархии.
– Значит, вы не историк? – округлила глаза Лена.
– Сожалею, что разочаровал вас, – с иронией заметил профессор.
– Вовсе нет, – смутилась Лена. – А чем вы занимаетесь, если не секрет?
– Не секрет, – снова улыбнулся Скворцов-Шанявский. – Торговля. Кстати, тоже наука. Но мой профиль – ценообразование. А если еще точнее – на овощи и фрукты. Езжу по стране, бываю за границей. Даю рекомендации, как лучше обеспечить покупателя вкусной витаминной продукцией.
– Да вы патриот своего дела, – засмеялась Ярцева. – Настолько, что даже мяса не едите.
– Понимаете, Леночка, люди продлевают старость, а я хочу подольше жить молодым, – полушутя-полусерьезно пояснил профессор.
Вальс кончился, и они вернулись к столу. Людмила, слышавшая их разговор, обратилась к профессору:
– Вы уж извините… Я прямо… Что творится с овощами? До того дошло, что осенью, в разгар, так сказать, урожая, за капустой очередь километровая стояла!
– Люда! – укоризненно сказал Петр.
– Что «Люда», что «Люда»? – оборвала его жена. – Я просто интересуюсь.
– Пожалуйста-пожалуйста, – кивнул профессор.
– Помидоры, перец, виноград – болгарские, яблоки – венгерские, – продолжала Колчина. – Неужели своих нет? Ведь огромные площади! Астраханская область, Ростовская, Краснодарский край, Кавказ, Средняя Азия! А Молдавия?… Выполняют, перевыполняют, а где они, овощи и фрукты?
– Больной вопрос, – вздохнул Скворцов-Шанявский. – Что вы сказали, правда. Увы, печальная. И виной тому плохая организация. Понимаете, вырастить урожай – полдела, а вот сохранить его, доставить покупателю – тут у нас ого сколько огрехов!
– Но почему частник умеет сохранять? – горячилась Люда. – И доставлять? За примером далеко ходить не надо. – Она показала на помидоры, огурцы и виноград на столе. – За тысячи километров привезли.
– Все верно, – согласился профессор. – Верно. И все понимают: нужно что-то делать. Есть люди, мои коллеги, а также отдельные руководители, которые знают, как исправлять… Но требуется время! Коренная перестройка. Слава богу, сейчас взялись за нее серьезно.
– Я считаю, надо всем вкалывать по-настоящему, – вставил Петр.
– Что значит «вкалывать»? – чуть усмехнулся Валерий Платонович. – Вот я был в Японии, беседовал с бизнесменами… То, что японцы идут впереди всех стран капиталистического мира по производительности труда, – не секрет. Я спросил у одного менеджера, как им это удается? Очень просто, ответил он, необходимо, чтобы условия заставляли эффективно работать, а не управляющие.
– Там конкуренция, – сказал Федор. – Железный закон: будешь делать плохо – прогоришь.
– Не такой уж плохой закон, – серьезно произнес Скворцов-Шанявский. – При социализме тоже не годится работать некачественно.
Зазвонил телефон. Лена бросилась к нему, думала, звонит Глеб. Но это был отец.
– Подожди, – сказала Лена, – я возьму трубку в другой комнате.
И она побежала на кухню.
Антон Викентьевич поздравил дочь и зятя с праздником, пожелал всяческих благ. Потом взяла трубку мать Лены. Ее интересовало, как проходит встреча Нового года, что на столе, довольны ли гости.
– Все хорошо, мама! – ответила Лена. – Весело, настроение отличное!
Она скрыла отсутствие Глеба и, когда разговор закончился, подумала, что этот вечер представляла себе совсем иначе: будет смех, танцы, розыгрыши, а она – королева компании, веселой, интересной…
«И что за гости? – удивлялась Ярцева. – Этот Эрик… Или глупо улыбается, или молчит. Пришибленная Орыся… Вот профессор действительно светский человек».
Внимание Скворцова-Шанявского льстило ей.
– Можно? – заглянул он на кухню.
– Ой, извините за беспорядок! – стала оправдываться хозяйка.
– Очень милый беспорядок, – улыбнулся Валерий Платонович. – В моей огромной холостяцкой квартире полный порядок, и, увы, скучно.
Лене показалось, что о своем холостяцком положении профессор обмолвился не просто так.
– Глеб? – кивнул на телефон профессор.
– Родители… Вы знаете, я уже волнуюсь, – призналась Лена. – Почему он не звонит? Неужели в пути? Такая гололедица… Пьяные за рулем…
– Да, да, – сочувственно кивнул Валерий Платонович. – Но вы не переживайте. Не забивайте себе голову страхами.
В комнате включили магнитофон. Яростный рок-н-ролл заполнил всю квартиру.
– Вообще-то, – улыбнулся профессор, – бросить в новогоднюю ночь такую очаровательную жену… – Он покачал головой.
– А ну его! – вырвалось у Лены, у которой обида на мужа перерастала в злость.
– Мне так нужно с ним переговорить, – вздохнул профессор.
– Попробую заказать разговор, – сказала Ярцева, жалея, что не сдержалась.
На междугородной сообщили, что линия перегружена, и приняли заказ только по срочному тарифу.
– Подождем здесь, – сказала Лена, опуская трубку на рычаг. – Там шум.
Она заметила, что Скворцов-Шанявский пристально смотрит на нее, смутилась.
– Франция? – спросил он, имея в виду платье.
– Шила у портнихи. Здесь.
– Да ну! – не поверил профессор. – Честное слово, подумаешь, что от Диора! Летом я был в Париже. Зашел в магазин на Елисейских Полях. Тут же подбегает продавец: что угодно? А в зале – ни одной души… Какие платья! Мечта! Я вежливо поблагодарил и вышел.
– Валюты не было?
– Была-а, – протянул со вздохом профессор. – Не для кого покупать…
Лена засмеялась. Валерий Платонович удивленно вскинул брови.
– Обычно бывает наоборот, – пояснила Лена. – Есть для кого, но не на что.
– Вам идут красивые вещи, Леночка, – сказал профессор. – Вас надо одевать как куколку.
Лена от таких приятных слов зарделась:
– Думаю, мой муж будет в состоянии…
– Дай-то Бог. Хотя наука, увы, занятие не очень рентабельное. Я имею в виду материальное вознаграждение.
– Глеб в этом году станет кандидатом, – с гордостью сказала Лена и, увидев ироническую улыбку профессора, добавила: – И тут же сядет за докторскую.
– Вы знаете, когда я был еще без ученой степени, мне казалось: вот защищусь, стану кандидатом – деньги некуда будет девать… И что же? Четыре года угрохал на диссертацию! Света, можно сказать, белого не видел. Получил корочки. И вместо восьмидесяти стал получать сто семьдесят!
– А когда стали доктором?
– Четыреста. Но что такое четыреста рублей? Вот, например, вам нужны сапоги. Ведь дешевле ста пятидесяти нет! Я имею в виду сапоги так сапоги…
Арифметика, которую привел профессор, обескуражила Лену.
– Глеб говорит, что будет писать монографии, а ведь за них платят…
– Милая моя, о чем вы говорите! – покачал головой профессор. – Хорошо платят за художественную литературу. Да и то тем писателям, которые, так сказать, в обойме. Уверяю вас, их не так уж много. А большинство… – Он махнул рукой. – Есть у меня знакомый. Поэт. Выпустил за двадцать лет пять тоненьких книжек… Как-то он признался мне, что, если бы не зарплата жены, положил бы зубы на полку. А что касается научной литературы… Во-первых, очень трудно опубликовать. Во-вторых, платят копейки. А если работа плановая – вообще ничего.
– Неужели все так? – не могла поверить Ярцева. – Ну а вы? Машина у вас?…
– Леночка, я профессор уже семнадцать лет. Консультирую Госагропром. Живу один! – подчеркнул Валерий Платонович. – И потом, бываю за границей. Имею возможность привозить кое-что.
Громко и часто зазвонил телефон. Лена взяла трубку, готовясь высказать мужу все, что у нее накопилось. Но телефонистка жестяным голосом произнесла:
– Ваш абонент в Ольховском районе не отвечает.
– Как не отвечает? – вырвалось у Лены.
– Могу соединить с другим номером. Говорите, с каким.
– Другого нет…
– Что делать с заказом? Снимать?
– Можно повторить? Через полчаса?
– Хорошо, я повторю.
Послышались гудки. Лена стояла в растерянности, продолжая прижимать трубку к уху. Она не знала, что и думать. Почему нет дома даже Златы Леонидовны?
– Леночка, не переживайте, – сочувственно сказал профессор. – Пойдемте к гостям… Отвлечетесь…
– Да-да… Сейчас… Вы идите, Валерий Платонович, – кивнула Лена, кладя трубку на рычаг.
– Я буду ждать, – улыбнулся Скворцов-Шанявский, покидая кухню.
Лена едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Она была почти уверена: все это неспроста. Заговор… Против нее…
Колчин выключил магнитофон и прибавил громкость телевизора. Все уставились на экран. Новогоднее представление было на редкость неинтересным. Но другого развлечения не было.
Опять зазвонил телефон. Лена взяла трубку.
– Ольховку заказывали? – спросила телефонистка.
– Да, да! – заволновалась Лена.
– Номер опять не отвечает… Что будем делать?
– Повторите, пожалуйста. Через полчаса.
– Хорошо.
Все напряженно смотрели на Лену. Ей стало неловко и стыдно перед гостями.
– Гуляют, наверное… В деревне принято ходить из дома в дом, – произнесла она натянуто-весело. – Как насчет чая?
– С удовольствием, – потер руки профессор.
Другие тоже охотно согласились.
Ярцева попросила Людмилу помочь ей, и, когда они зашли на кухню, закрыла дверь поплотнее.
– Твой Петя весь кипит, – сказала она негромко.
– Ой, беда с ним! – вздохнула Колчина. – Каждый раз одно и то же! Ну потанцевала разок с другим, так что с этого?
– Ладно, ладно… Не дразни его…
Потом смотрели телевизор, пили чай. Пироги хозяйки шли на ура.
Федор снова включил магнитофон и пригласил Орысю танцевать. Эрик встал, хотел подойти к Людмиле, но Колчин неожиданно заявил, поднимаясь:
– Лена, спасибо огромное за угощение…
– Как, уже уходите? – удивилась она.
– Ты же знаешь, мама там одна. И Гришка что-то капризничал. Неважно себя чувствовал, – объяснил Петр, глядя в сторону.
Люда поджала губы. Всем стало неловко.
– Да и мне пора, – сказала Орыся. – На вокзал.
– Мы вас подбросим, – отозвался профессор.
– И вы тоже? – огорчилась хозяйка.
– Пора и честь знать, – улыбнулся Скворцов-Шанявский.
Все гурьбой повалили в прихожую.
Лена тоже оделась: решила спуститься вниз, проводить гостей. Федор бросился на кухню и вернулся со своим портативным телевизором.
– Орыся, возьмите, – произнес он взволнованно. – На память.
– Нет, нет, нет! – замахала она руками.
– Прошу!.. Я сам сделал… – растерянно умолял инженер.
– Нехорошо обижать, – заметил профессор с улыбкой. – Человек предлагает от всей души.
– Прямо не знаю… – зарумянилась Орыся.
Воспользовавшись нерешительностью женщины, Федя сунул подарок в ее кошелку.
«Крепенько зацепило парня», – подумала Ярцева.
С этой своей игрушкой Гриднев никогда не желал расставаться, даже когда приятель Глеба предложил за нее триста рублей.
Перед самым уходом зазвонил телефон. И опять – междугородная. Телефон в Ольховке не откликался. Лена в сердцах сняла заказ.
В лифт все не поместились. Первыми уехали Колчины, попрощавшись наскоро. Потом спустились остальные.
У подъезда стояла новенькая черная «Волга» с московским номером. Сиденья были обтянуты красной кожей, на щитке с приборами имелся телефон.
Орыся с неожиданной нежностью поцеловала Лену:
– Спасибо, Леночка! Душу у вас отогрела.
– Да что там… Мало посидели, – смутилась Ярцева, удивляясь словам гостьи.
– Будете в Трускавце, обязательно заходите. Адрес…
– Я дам Глебу, – сказал Эрик.
Федя потянулся к Орысе прощаться, но профессор спросил:
– Разве вы не поедете с нами?
– С удовольствием, – обрадовался Гриднев.
Бухарцев сунул Лене руку:
– Повидаемся в Москве. Давай к нам в столицу с Глебом…
– Спасибо, спасибо, – закивала Лена.
Скворцов-Шанявский поцеловал ей руку и загадочно улыбнулся.
– Вы подарили мне очаровательный вечер, Леночка, – проговорил он с чувством.
– Мне очень приятно, если это так, – сказала Ярцева.
Профессор со спутниками сели в машину. Они махали ей руками, Лена отвечала. До тех пор, пока автомобиль не свернул за дом.
Она поднялась к себе. Глядя на праздничный стол, где оставалось еще много еды, подумала, что лучше бы позвала подруг с работы. Было бы непринужденно, весело, девчонки воздали бы должное угощению. Да и не разбрелись бы так рано.
Лена стала убирать со стола. Забила холодильник, часть блюд определила на балкон. Потом перемыла посуду, расставила все по местам. И когда вся квартира была прибрана, сердце сжала невыносимая тоска. Праздник отгорел как свеча. Остался оплывший огарок кратковременного, так и не состоявшегося счастья. Еле сдерживая слезы, Лена прошла в спальню, сняла халат, достала ночную рубашку, еще новенькую, в целлофановом пакете – подарок матери. Мягкая невесомая ткань ласкала тело.
– Для чего это все? Для кого? – шептала Лена, глядя в зеркало.
Жалость рвала душу. Жалость к себе за свои неоправдавшиеся желания. Снова накинув халатик, она пошла на кухню. Взяла из оставленной кем-то пачки сигарету, закурила. Второй раз в жизни. Дым саданул горло, но вместе с ним входило какое-то странное успокоение, перед глазами поплыло…
И вдруг – дверной звонок. Лена побежала в прихожую, уверенная, что сейчас увидит Глеба.
На пороге стоял Скворцов-Шанявский.
– Ой! – воскликнула она, запахивая полы халата. – Извините, я уже…
– Это вы меня извините, – смущенно проговорил профессор. – Примете?
– Пожалуйста! – пропустила его в квартиру Ярцева. – Я переоденусь…
– Нет-нет! Не надо… Я, собственно, на пару минут. Что Глеб? – спросил он озабоченно, снимая пальто.
Лена развела руками: мол, все так же.
– Он мне так нужен, – сказал Валерий Платонович, приглаживая обеими руками волосы.
– Я все еще надеюсь, позвонит, – грустно сказала Лена и спросила: – Ну как, проводили?
– Да-да, – ответил профессор, направляясь за Леной в комнату. – Посадили в вагон. Ваш Эдисон остался. Мне кажется, Орыся сразила его наповал.
– А Эрик где?
– По-моему, уже спит, – улыбнулся профессор. – Понимаете, Леночка, мне показалось, что вам было грустно оставаться одной. Или я ошибаюсь? – Скворцов-Шанявский внимательно посмотрел на нее.
– Спасибо, что вернулись, – смущаясь, но все же выдержав этот взгляд, ответила хозяйка.
Валерий Платонович взял ее руку и запечатлел на ней поцелуй.
– Чай, кофе? – предложила Лена.
– Что вы! Обкормили, опоили… Если разрешите, немного музыки?… Негромко?
– С удовольствием, – поднялась было Ярцева, но профессор опередил ее.
Он нажал клавишу кассетника и чуть приглушил звук. Заиграла музыка, на которой прервалось их общее сидение. Играл один из модных западных ансамблей. Мелодию разобрать было трудно, но звуки, раздававшиеся из колонок, возбуждали чувственность. Хрипловатый голос не то мужчины, не то женщины модулировал, придыхал, словно исполнитель был в любовном экстазе.
Скворцов-Шанявский протянул Лене обе руки. Она встала, и он медленно повел ее в танце, все сильнее и сильнее прижимая к себе. И опять она почувствовала его волнение, как тогда, в первый раз. Волнение партнера передалось и ей.
– Молодые думают, что они умеют любить, – говорил Валерий Платонович, почти касаясь губами ее уха. – Но пожилые любят тоньше и глубже… Боже мой, Леночка, вы даже не можете себе представить, сколько в вас обаяния, женственности!
– Да? – почему-то шепотом спросила она.
– Поверьте, – тоже тихо продолжал Скворцов-Шанявский. – Почему я не встретил вас лет тридцать назад!
– Меня просто-напросто еще не было! – улыбнулась Лена, которой хотелось, чтобы он говорил и говорил, глядя на нее завороженными глазами.
У нее кружилась голова. Оттого, что такой человек (профессор! Из Москвы!) дарит ей свое внимание и влюбленность.
– Милая, чудная! – ласкал ее взглядом Валерий Платонович. – Вы – мой последний взлет! Что я могу для вас сделать? Что? Просите что угодно!
– Ничего мне не надо! – смеялась Лена. – Ни-че-го-шень-ки!
– У меня сердце разрывается, что вы страдаете из-за тех безделушек, которые у вас украли! Боже мой, да вы… да вы… – Он замолчал, не находя слов.
– Шут с ними! – отмахнулась Ярцева. – Я больше переживаю из-за того, что папа с мамой узнают! Это для них такой удар!
Музыка кончилась.
– Насколько я понял, это был гарнитур? – спросил профессор.
– Да, – кивнула Лена. – Остался только перстень.
– Можете показать?
– Пожалуйста.
Она пошла в спальню, профессор – за ней. Лена достала из трельяжа футляр с монограммой.
Скворцов-Шанявский долго рассматривал кольцо, вертел его так и этак.
– Изумительно! – наконец выговорил он. – Изумительно! Старинную работу сразу видно. Леночка, у меня в Москве есть ювелир. Мастер высочайшего класса! Художник! Скопирует любую вещь! Вы смогли бы подробно нарисовать пропавшие вещи?
– Конечно! – загорелась Ярцева. – Я вообще неплохо рисую. Но зачем рисовать? – Лена достала альбом с фотографиями и нашла снимок, где она снялась в бабушкиных драгоценностях. – Вот…
– Прекрасно! – обрадовался профессор. – Можно, я заберу фото? Приезжайте ко мне в гости, я сведу вас с тем ювелиром.
– Фотографию можете взять, – кивнула она и вдруг спохватилась: – А где я возьму золото, камни?
– Это уж моя забота, – сказал Скворцов-Шанявский, беря ее руку и прижимая к груди.
Из комнаты доносилась музыка. Еще более страстная, чем предыдущая.
– Я не могу принять ваше предложение, – не отнимая руки, сказала Лена.
– Почему же?
– Не могу… Неудобно…
– Это будет счастьем для меня. – Валерий Платонович стал целовать ее руку, поднимаясь все выше, выше, к локтю, плечу, потом надолго приник губами к ее родинке возле уха, где пульсировала, билась жилка.
Как в тумане слушала Лена его слова, нежные, страстные… В ней бушевал страх вперемешку с желанием, отчего было так жутко и сладостно, что кружилась голова и мир стал терять реальные границы и очертания.
Руки Валерия Платоновича гладили ее грудь, шею. Она почти не помнила, как был снят халат, рубашка. Профессор целовал обнаженное тело и тоже, казалось, терял рассудок…
Собирались безалаберно и суматошно. Вике почему-то все казалось смешным. Она смеялась всему – тому, как Николай Николаевич с охапкой ружей ухнул в снег и долго барахтался, пока не встал с помощью Ярцева-старшего на ноги, хохотала над тем, как Семен Матвеевич перепутал тулупы и все никак не мог влезть в маленький, ее, Викин. Состояние смешливости передалось и мужчинам.
– Наверное, со стороны мы похожи на толпу идиотов, – заметил Глеб.
Заднее сиденье уазика занимал лось. Семен Матвеевич взял еще с собой в машину «Джеймс Пэрдэй», с которым почему-то не хотел расставаться. Остальные вещи сложили в «Ладу». Рядом с Глебом села Вика, а Вербицкий устроился на заднем сиденье с Диком. Николай Николаевич снова захмелел. Он все норовил обнять пса, которому это явно не нравилось.
Семен Матвеевич махнул сыну рукой: поехали, мол. Уазик тронулся с места, Глеб двинулся следом.
– Папа, оставь в покое Дика, – сказала девушка, услышав недовольное ворчание собаки.
– Замолчи! Вы, женщины, ни черта не понимаете! – с трудом ворочая языком, произнес Вербицкий. – Мы сами разберемся… Да, Дикуша?
– Ты же знаешь, он не выносит пьяных. Забыл, что ли, как Дик набросился на Колокольцева?
– А меня Дик любит!
– О господи! – вздохнула Вика и, перегнувшись через сиденье, отстранила отца от собаки.
Вербицкий не сопротивлялся. Он улыбнулся и вдруг запел, безбожно фальшивя:
– Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я силенку-у…
Последний звук перешел в странное завывание, отчего Глеб и Вика невольно обернулись. И расхохотались. Задрав голову вверх, Дик «подпевал» своему хозяину.
– Молодец! Давай, давай! – подбодрил пса Ярцев.
А тот выдал такую руладу, что Вербицкий замолчал, пораженный.
– Глеб! – вдруг закричала девушка.
Ярцев мгновенно нажал на тормоза. «Лада» проскочила несколько метров по снежной колее, едва не врезавшись в остановившийся уазик, замерев от него буквально в сантиметре.
Но это обстоятельство, как ни странно, не испугало – тоже вызвало смех.
Семен Матвеевич подошел к машине сына, открыл дверцу.
– Вот что, – сказал он, – махнем-ка через озеро. Сэкономим километров восемь.
– У меня же клиренс, – возразил было Глеб.
– Ерунда! Пробьемся!
– А, давай! – решился Ярцев-младший.
Ему не хотелось пасовать перед девушкой. И вообще, состояние – море по колено.
Семен Матвеевич вернулся в уазик. Из выхлопной трубы вырвался белый дым. Уазик резко свернул с дороги и двинулся к озеру. Глеб ехал по его следам.
Вербицкий снова запел. Дик, казалось, только и ждал этого, чтобы опять продемонстрировать свои вокальные способности, что, неизвестно почему, разозлило Николая Николаевича.
– Передразниваешь?! – погрозил он псу. – Уволю!
Вика даже постанывала от смеха. Глеб вытер рукой выступившие слезы.
Берег был крут, и «Лада» сползала вниз под собственной тяжестью.
– Как на санках, – прокомментировала Вика.
Они выкатили на лед. Он был чуть припорошен: ветры сдули снежный наст.
Семен Матвеевич прибавил ходу. Глеб тоже нажал на акселератор. Он включил приемник. Передавали эстрадный концерт.
– Как настроение? – Глеб посмотрел на девушку.
– Чудесное! – весело откликнулась Вика. – Нет, ты посмотри, как здорово! – показала она рукой вокруг. – Белая-белая плоскость и убегающие вперед красные огни! Потрясающий сюжет!
Семен Матвеевич здорово оторвался от них. У Глеба взыграло самолюбие. Он резко прибавил скорость. Расстояние между уазиком и «Ладой» быстро сокращалось. Темный силуэт леса на противоположном берегу озера ширился, надвигался, за ним уже было видно слабое зарево электрических огней поселка.
– Минут через пятнадцать-двадцать будем дома! – победно произнес Глеб.
– Это хорошо, – кивнула Вика. – Успеем проводить старый и встретить новый год. Примета… Как встретишь новый год, так весь его и проживешь.
Машина Ярцева-старшего была метрах в тридцати. Видимо, Семен Матвеевич решил не уступать.
Глеб еще увеличил скорость.
– Восемьдесят! – крикнул он Вике, указывая на спидометр.
«Лада» наконец нагнала уазик, обошла его. И хотя лица Семена Матвеевича не было видно, Вербицкий состроил ему «нос», довольно гогоча.
Ярцев-старший не сдавался. Он поравнялся с машиной сына и даже чуть обогнал. Но Глеб снова ушел вперед.
– Ура! – радовалась Вика, перекрикивая музыку.
– Вперед! Не уступать! – командовал Николай Николаевич.
Всех увлек азарт погони. Девушка даже раскраснелась, подзадоривала водителя, то и дело поглядывая назад, чтобы убедиться, не нагнал ли их Семен Матвеевич. И вдруг закричала:
– Стой! Стой, Глеб!
От неожиданности он резко нажал на тормоз. Машину развернуло, она крутанулась вокруг своей оси, прочерчивая фарами круг на льду, и остановилась задком к берегу.
А Вика безмолвно раскрывала рот, тыча пальцем в стекло.
На их глазах освещенный фарами уазик медленно, как-то боком, погружался под лед.
Глеб на мгновение оцепенел. Затем рывком распахнул дверцу и выскочил из машины. Он не устоял на ногах от слишком резкого движения и растянулся во весь рост. А когда поднялся, то увидел: машины отца нет. На том месте была черная полынья, и к ней уже мчался Дик длинными прыжками.
Глеб рванулся вперед и снова упал. Поднялся. И вдруг увидел показавшуюся у кромки льда голову отца.
– Держись! – закричал сын на ходу. – Держись, папа! Я сейчас…
Сзади, прерывисто дыша, бежала Вика.
Семен Матвеевич цеплялся за лед, но руки соскальзывали. Дик на брюхе подполз к нему, вцепился в рукав тулупа и стал тащить, упираясь всеми четырьмя лапами в скользкий лед.
Тут Глеб услышал за спиной звук упавшего тела, стон. Он обернулся – девушка барахталась на снегу и никак не могла подняться. Это задержало Глеба. Он помог Вике встать, и дальше они побежали вместе.
Семен Матвеевич был уже на крепком льду. Он что-то крикнул, показывая на полынью. А вот дальнейшее никак не укладывалось в голове: Ярцев-старший сбросил тулуп и… нырнул в черную дыру.
– Куда! – вырвалось у Глеба. – Ты с ума сошел! Зачем?! – Но было уже поздно.
Они остановились метрах в двух от полыньи, не отрывая от нее глаз. Дик метался вокруг кромки изломанного льда и лаял.
– Что случилось? – донесся голос Вербицкого.
Он пробирался к ним, падая и поднимаясь снова. Но Глебу и Вике было не до него. Они напряженно вглядывались в темную воду, на которой плавали куски льда.
Проходили секунды, минуты, а Семен Матвеевич не появлялся.
Ожидание становилось нестерпимым. Глеб вдруг понял – надо что-то предпринимать, и как можно скорее…
– Вы что же… – тяжело отдуваясь, добрался до них Вербицкий и буквально повис на дочери. – Бросили… меня… одного…
– Не видите? – закричал Глеб, показывая на полынью. – Отец там! – И метнулся к «Ладе», бросив на ходу: – Трос надо, трос!
Он не помнил, как добрался до машины, как добежал назад с тросом для буксировки. Вернувшись, Глеб увидел стоящих на том же самом месте Вику и ее отца. Оба были как в столбняке. Смотрели и ждали… Вдруг Дик сел на снег, задрал морду и завыл.
И тут до Глеба дошел весь ужас случившегося. Он понял, что отец уже не вынырнет из этой темной холодной воды.
– В деревню! – принял он решение. – Скорее!
Онемевшая Вика закивала, размазывая по лицу текущие без остановки слезы. Глеб подхватил ее отца, почему-то испугавшись, как бы он тоже не угодил в полынью, и потащил к «Ладе». Николай Николаевич не сопротивлялся. Дик, переставший выть, понуро плелся рядом.
«Почему он снова полез в воду? Почему? – билось в голове у Глеба. – И откуда взялась эта проклятая полынья?… Господи, ведь и мы могли угодить в нее!»
От этой мысли у него между лопаток пробежал холодок.
Запихнув Вербицкого, которого все еще шатало не то спьяну, не то от переживаемого, на заднее сиденье, куда уже запрыгнул Дик, Глеб сел за руль. Как только за Викой захлопнулась дверца, он завел двигатель и развернул машину. Берег был пологий, но «Лада» буксовала, с трудом преодолевая метр за метром, пока наконец не выбралась на дорогу. И тут Ярцев поддал газу.
Летели назад выхваченные светом фар стволы деревьев, машину то и дело заносило на поворотах, но Глеб не сбавлял скорость. Разболелась голова. Он вдруг вспомнил разговор о тулупах, древнегреческой трагедии.
«Накликал-таки я беду, – подумал он. – Вот и сыграли трагедию. По-русски».
– Мы куда? – донесся с заднего сиденья хриплый слабый голос Вербицкого.
– В совхозную контору. Надо же сообщить!.. В милицию, скорую…
Николай Николаевич промычал что-то нечленораздельное.
«Лада» выскочила на главную улицу поселка. Во всех домах светились окна, играли разноцветными огнями елки. Но особенно нарядно выглядела площадь перед дирекцией совхоза. На здании мерцали огромные буквы «С наступающим Новым годом!». Высокая лесная красавица сверкала игрушками и золотой канителью. На ней вспыхивали, пробегая от низа до верха, зеленые, красные, синие и желтые огни. Вокруг елки веселилась молодежь. Было много ряженых. Из невидимого репродуктора гремела зажигательная музыка.
Глеб остановился, заглушил мотор, открыл дверцу и опустил на землю ногу.
– Ты скоро? – жалобным голосом спросил Вербицкий.
– Не знаю, – сказал Глеб, потому что действительно сам пока не знал, к кому идти, кого искать, и попросил: – Николай Николаевич, до батиного дома сто метров… Вы идите с Викой… Скажите Злате Леонидовне… А я… Словом, как только сделаю все, что надо, приеду.
– Хорошо-хорошо, – согласился Вербицкий.
– Найдете? – обратился Глеб к Вике, не очень полагаясь на ее хмельного отца.
Девушка закивала. Покинули машину все, включая Дика. Вербицкие с собакой направились в переулок, а Глеб пошел сквозь веселящийся хоровод сельчан, вспомнив, что рядом с дирекцией живет председатель исполкома сельского Совета. Они с отцом как-то заходили к ней. Властная пожилая женщина с орденской планкой на платье. Звали председателя Надеждой, а отчество Глеб не запомнил.
Кто-то выстрелил в него из хлопушки, обсыпав разноцветным конфетти. Глядя на радостные, раскрасневшиеся лица, Глеб вдруг отчетливо представил себе безжизненное тело отца там, на дне холодного озера. Ему нестерпимо захотелось куда-то убежать, спрятаться, как он делал это в детстве, столкнувшись с какой-нибудь бедой.
Девушка в маске лукавой лисички схватила его за руку, крутанула в танце. Глеб вырвался и побежал.
«Какой-то кошмар!» – мелькнуло у него в раскалывающейся от боли голове.
Он завернул за угол здания дирекции, торкнулся в знакомую калитку. Она была не заперта. Большой сруб с узорчатыми наличниками и коньком на крыше тоже горел всеми окнами. Глеб поднялся на крыльцо, постучал в двери.
Открыла хозяйка. В торжественном платье и фартуке. Через отворенную в комнату дверь был виден праздничный стол с гостями. Пахло пирогами, винегретом, соленьями.
– Еще гость, – приветливо произнесла председатель, вглядываясь близорукими глазами в Глеба. И, узнав, обрадовалась: – А, сынок Семена Матвеевича!.. Ну, с праздником! Проходите…
– С праздником, – машинально ответил Глеб и поспешно сказал: – Понимаете, отец… В общем…
– Ну, что отец? – нетерпеливо произнесла хозяйка.
– Утонул, – выдохнул Глеб.
– Как? – вырвалось у женщины. – Где?
– На озере… В машине… Под лед.
– Постой, постой, – властно приказала хозяйка, – зайди-ка. – А в комнату, где загремела музыка, крикнула: – Тише там!
Глеб зашел в сени, сбивчиво рассказал о случившемся.
– По озеру? На машине?! – всплеснула руками председатель исполкома. – Как же так? Ведь там лед вырубают для совхозного холодильника и частных погребов!.. Он же сам место указал… Как же это?!
Из комнаты вышел встревоженный мужчина.
– Ты чего, Егоровна, шумишь? – спросил он.
– Ой, горе, горе! – заплакала Надежда Егоровна. – Семен Матвеевич в прорубь угодил! – Забыв снять фартук, она накинула шубу, вязаный платок и толкнула входную дверь, бросив на ходу: – Не ждите меня, Кузьма…
Здание исполкома находилось через два дома. Там Надежда Егоровна засела за телефон.
А в это время Вербицкий с дочерью нерешительно топтались у входа в ярцевский особняк. Тяжкое бремя выпало на их долю – сообщить Злате Леонидовне о смерти мужа. Какие слова найти, как подготовить?…
Наконец решились, вошли.
Их встретил запах ванили, корицы, жарившегося в духовке мяса с чесноком и специями.
– Ну, молодцы! – бросилась навстречу хозяйка в длинном сверкающем платье с люрексом, с красивой высокой прической. – Я уж боялась, что опоздаете… Думала…
Она осеклась, переведя взгляд с Вики на ее отца, затем на открытую дверь.
Вербицкие молчали.
– Что?… Что случилось? – спросила Злата Леонидовна. – Говорите же! Ну!
Девушка не выдержала. Зарыдав, она чуть ли не упала на руки Злате Леонидовне. Та, не сводя расширенных глаз с Николая Николаевича, прохрипела:
– Где Семен?
– Беда, Злата… – выдавил наконец Вербицкий. – Мужайся… Семен там, на озере… Словом, погиб… Глеб поднимает людей.
У Ярцевой задрожали губы, изо рта вырвался какой-то клекот. Она стала оседать. Николай Николаевич едва успел подхватить ее. Вместе с дочерью он втащил впавшую в беспамятство женщину в комнату и уложил на диван рядом со сказочно убранной елкой и праздничным столом, заставленным всевозможными яствами, бутылками шампанского и белоснежными конусами накрахмаленных салфеток у каждого прибора.
Глеб потерял ощущение времени. В сельисполкоме то и дело хлопали двери, заходили и выходили какие-то люди. Он забился в уголок кабинета и отчужденно наблюдал за этой суетой. И еще жадно пил тепловатую воду из графина, обнаруженного рядом, на тумбочке. Непрестанно звонил телефон. Надежда Егоровна отвечала четко, коротко.
Вдруг она положила ему на плечо руку.
– Поехали, Глебушка, – ласково сказала Надежда Егоровна.
Он покорно вышел за ней на улицу, где их поджидал лейтенант милиции на мотоцикле с коляской.
– У меня машина, – предложил было Ярцев, но председатель вздохнула и уселась в коляску.
– Куда тебе за руль. За версту перегаром несет…
Глеб взобрался на заднее сиденье.
Расступились люди, стоявшие возле исполкома, лейтенант медленно выехал на главную улицу и там уже прибавил газу. Ледяной воздух щипал за щеки, лез за ворот, в рукава тулупа, вышибал из глаз слезы. Глеб чувствовал, как от холода коченеют губы, скулы. Правда, головная боль стала медленно отступать.
Если бы Глеба спросили, за сколько они домчали до места, он не смог бы ответить. Показалось – в считаные минуты. Когда мотоцикл подъехал к озеру, Глеб удивился количеству машин и людей, сгрудившихся на берегу. Но что поразило больше всего – вертолет на небольшой полянке, по краям которой догорало три костра.
Они слезли с мотоцикла, Глеб отметил про себя: машина скорой помощи, небольшой старенький автобус, рафик с надписью «Милиция», милицейский уазик и черная «Волга».
«Когда они все успели?» – подумал он, замедляя шаг по мере приближения к чернеющей во льду рваной дыре, через которую уже было положено несколько толстых досок.
Человек шесть-семь стояли ближе всего к полынье, четверо из них – с погонами.
– Участковый инспектор лейтенант Зубарев! – откозырял привезший Глеба и Надежду Егоровну милиционер плотному мужчине в папахе.
Тот кивнул и… шагнул к Ярцеву. Глеб даже не успел удивиться, как генерал Копылов – а это был он – положил ему руку на запястье, сжал и скорбно произнес:
– Глеб… как же так?…
Голос генерала дрогнул.
– Дайте побольше света! – скомандовал высокий мужчина в каракулевой шапке-пирожке. – Паша, подгони машину, – попросил он кого-то.
Тут только Глеб обратил внимание, что фары почти всех автомобилей направлены на полынью. Этот самый Паша бросился к «Волге», включил фары, завел двигатель и направил свет на дыру во льду.
Вдруг из воды показалась голова, обтянутая сверкающим капюшоном, с маской для ныряния. Глеб понял, что это аквалангист. Тот помахал рукой и снова исчез. Люди двинулись ближе к полынье. Скоро из нее показались уже два аквалангиста. Молниями засверкала вспышка фотоблица.
У Глеба перехватило дыхание. Аквалангисты вытащили на доски его отца.
Слипшиеся мокрые волосы закрывали лицо Семена Матвеевича. На голове обнажилась круглая, неестественно белая плешь, которую он так тщательно маскировал при жизни.
Ноги у Глеба стали ватными, лоб покрылся испариной.
«Что это у него в руках?» – удивился он и, приглядевшись получше, увидел ружье – любимый отцовский «Джеймс Пэрдэй».
Семен Матвеевич намертво вцепился обеими руками в ствол.
У Глеба все поплыло перед глазами. Чьи-то руки поддержали его, повели прочь. Как сквозь вату, слышал он отдельные фразы:
– Ремень зацепился за ручку дверцы уазика…
– Какую ручку?
– Изнутри…
И женский голос:
– Осторожно! Несите сюда, на брезент!
Глеба усадили в салоне скорой помощи. Что-то едкое, острое ударило в нос. Нашатырь…
– Дыши, парень, дыши, – сказал ему немолодой мужчина в белом халате. – Лучше станет.
Он не выходил из машины, когда приехал огромный кран, не видел, как при помощи его тащили из озера отцовский уазик, который появился из воды вверх колесами: как обнаружили машину на дне, так и зацепили тросами. Когда автомобиль коснулся берега, его перекосило от удара. Одна из задних дверц открылась, и на снег вывалилась туша лося.
Снова замелькала фотовспышка…
– …Пришел в себя? – заботливо спросил Игнат Прохорович.
Глеб слабо кивнул и вылез из скорой. Генерал тут же усадил его в «Волгу», где уже был на заднем сиденье один человек, и сам пристроился рядом. Машина тронулась. Возле водителя восседал высокий мужчина в каракулевой шапке. Он кинул на Глеба быстрый взгляд, но ничего не сказал.
– Где Николай Николаевич? – спросил вдруг Копылов.
– В батином доме, – ответил Глеб, удивляясь, откуда генералу известно про Вербицкого.
По дороге в машине ни слова не было сказано о происшествии. Речь зашла о том, что в этом году большие снега и по весне непременно случится паводок, который может натворить много неприятностей, и что в районе уже создана паводковая комиссия.
«Волга» подъехала к исполкому, следом за ней – милицейский уазик и мотоцикл участкового инспектора. Когда они зашли в здание, первым, кого увидел Глеб, был отцовский шофер Рудик, сидевший на стуле в коридоре. При виде людей в милицейской форме он поднялся, теребя в руках шапку.
Высокий мужчина в каракулевой шапке был прокурор района Кулик, а человек, сидевший рядом с Ярцевым в «Волге», – следователь прокуратуры района Голованов. На месте происшествия присутствовал также начальник Ольховского РОВДа Жихарев. Решено было провести допрос всех, кто мог сообщить что-либо о трагедии на озере. Вот почему и был вызван шофер погибшего директора. Вербицкого тоже пригласили в исполком, все три комнаты которого заняли работники милиции и райпрокуратуры. Вика осталась дома, так как все еще была в шоке и не могла говорить.
С Глебом беседовал Жихарев. Вербицкого допрашивали следователь Голованов и прокурор Кулик. На допросе присутствовал генерал Копылов. Расположились в комнате председателя. Игнат Прохорович сидел в шинели: озяб на озере. Николай Николаевич выглядел ужасно: отекшее лицо, набрякшие мешки под глазами, руки ходили ходуном. Генерал чувствовал себя неловко. Вспоминал те времена, когда он, еще полковник, заместитель начальника областного управления внутренних дел, заходил в необъятный кабинет председателя облисполкома с докладом. Иной раз приходилось выслушивать и резкий выговор: Вербицкий бывал несдержан и мог так отчитать – только перья летели. Ни Кулика, ни Голованова в их краях тогда еще не было.
И вот теперь Николай Николаевич сидел перед ними совершенно растерянный, подавленный, жалкий и старался ни на кого не смотреть.
Заполнив анкетные данные, следователь приступил к существу дела.
– Расскажите, что произошло на Верхнем озере? – задал он первый вопрос.
Вербицкий поежился, откашлялся:
– Даже не знаю, с чего начать…
– Давайте с того, как вы приехали в совхоз «Зеленые дали». Когда, кстати? – Голованов был подчеркнуто вежлив. Наверное, все-таки действовало положение допрашиваемого.
– Вчера утром, – глухо ответил Вербицкий.
– По делам службы?
– В Средневолжске я в командировке. А здесь, собственно, не совсем…
Он говорил медленно, словно цедил каждое слово.
«Тщательно взвешивает», – подумал генерал Копылов.
– Извините, если можно, поточнее, – настаивал Голованов. – Посещение Ольховского района предусматривалось вашей командировкой?
– В праздники человек волен распоряжаться своим временем, – не смог сдержать своего раздражения Николай Николаевич.
– Вчера был рабочий день, – заметил следователь. – Ну хорошо, – смилостивился он, видя, что этот вопрос для допрашиваемого весьма щекотлив. – Чем вы занимались тридцать первого декабря?
Путаясь и сбиваясь, Вербицкий рассказал, что, мол, поохотились, немного отдохнули и затем поехали в совхозный поселок.
– Выпили? – спросил следователь.
Вербицкий промолчал.
– Ярцев употреблял спиртное? – несколько изменил постановку вопроса Голованов.
– Было, – кивнул Вербицкий и добавил: – А что в этом такого? Новый год…
– Что же, он пил в одиночку? – чуть усмехнулся следователь.
Отпираться было глупо: видок у Николая Николаевича был еще тот, сам за себя говорил.
– Я ведь не за рулем, – пожал плечами Вербицкий.
– И много приняли?
– Имеет ли это значение? – чуть ли не со стоном произнес Вербицкий.
– Имеет, Николай Николаевич, имеет, – сказал следователь. – Будь Ярцев трезвый, может, и не случилось бы несчастья. Вы ехали на двух машинах, не так ли? Кто в какой находился?
Николай Николаевич рассказал, стараясь быть предельно кратким. Разумеется, о гонках по льду и других подробностях он умолчал.
Особенно мучительно было Вербицкому рассказывать о самом происшествии. Он почти ничего не видел и не помнил. Радостные крики дочери и Глеба, песни, что он распевал под аккомпанемент Дика, пустая полынья… Смутные отрывки… И чтобы как-то выкрутиться, пояснил:
– Знаете, в машине я задремал. Весь день бродил по лесу с ружьем, устал. Ну, еще рюмочка коньяку. Словом, сморило.
– Да, насчет охоты, – словно вспомнив что-то, спросил Голованов. – Кто получил лицензию на отстрел лося, вы или Ярцев?
У Вербицкого похолодело внутри. Выручило его то, что в комнату заглянул начальник РОВДа.
– Извините, товарищи, – сказал он. – Приехала судмедэксперт, и если есть вопросы…
– Да, да! – ответил молчавший до сих пор райпрокурор. – Есть.
– И у меня, – поднялся следователь.
Они прервали допрос и вышли, сказав, что минут на десять.
Генерал снял шинель: согрелся. Прошелся по кабинету.
– Слушай, Игнат Прохорович, – провожая его глазами, хмуро произнес Вербицкий, – видишь, что этот парень делает?
Копылов остановился возле него.
– Обыкновенное дело – выясняет, – ответил генерал со вздохом.
– Он же меня под монастырь подводит! – воздев руки вверх, трагически сказал Вербицкий. – Неужели не понимаешь, куда он клонит? Вопросики-то какие, а?! Он понавешает на меня такого…
– Но ведь было, да? – снова вздохнул Копылов и сам же ответил: – Было. Ты не скажешь, так этот шофер Матвеича… – Копылов не замечал, что обращается к Вербицкому на «ты», а прежде они всегда были на «вы». Наверное, потому, что так начал сам Вербицкий.
– Шофер не видел, как мы… – поспешно произнес Николай Николаевич и замолчал.
– Глеб даст показания. И потом – вскрытие. Анализы. Тут уж ничего не поделаешь, пьянка налицо.
– Но неужели нельзя избавить меня от всего этого? Ты же генерал! Хозяин области! – В голосе Вербицкого явно звучали просительные нотки. – Слышь, Игнат Прохорович, скажу тебе по секрету… Да, собственно, это уже никакой не секрет. Меня ведь почти утвердили… заместителем министра. Сам понимаешь – связи, возможности. А друзей я не забываю, – многозначительно посмотрел он на Копылова.
– Не те слова говоришь, – покачал головой генерал. – Не те. Времена, брат, переменились. Ой, круто переменились. Тебе, в Москве, это, наверное, еще лучше известно, чем мне.
– Ну что я такого натворил, что? И почему этот мальчишка-следователь позволяет… – начал кипятиться Николай Николаевич. – В конце концов, я могу сейчас снять трубку и прямо к первому секретарю обкома! Действительно!.. – накручивал он сам себя.
– Твое право, – пожал плечами генерал. – Смотри не сделай хуже. В декабре у нас в Средневолжске был зампред госкомитета. В Плесе остановился. Ну и крепко… – Копылов щелкнул себя по воротнику. – Тоже хватался за телефон. И где теперь этот залетный? На пенсию проводили. Без всякой благодарности за многолетний самоотверженный труд. Так что подумай.
Вербицкий сник, еще больше сгорбился.
– И скажи честно, – негромко спросил генерал, – лицензия на отстрел имелась?
Это была последняя капля.
– Какой черт лицензия! – простонал Вербицкий. – Дернула же меня нелегкая потащиться сюда! Поохотился, ничего не скажешь! Отдохнул, называется, душу отвел. Но кто мог подумать? Кто?! Как я мог, стреляный воробей?…
– Во-во… Эх, кабы знать, где упасть, да соломки бы припасть, – покачал головой Копылов.
– Игнат Прохорович, – взмолился Вербицкий. – Ну сделай что-нибудь!
– Дорогой Николай Николаевич, как? Прокуратуре я не указчик. Она сама осуществляет надзор за милицией. Подумай, ты же тертый калач, отлично видишь, что происходит в стране. Ведь крыть нечем! Да еще лось. Браконьерство!
Он не договорил: вернулись Кулик и Голованов.
Снова посыпались вопросы, и каждый для Вербицкого как нож в сердце.
Глеб не спал, а словно находился в обмороке. Утром он разлепил глаза разбитый, с тяжелой головой, с трудом соображая, где находится. На потолке – лепнина, тяжелая люстра. Напротив – во всю стену – полки с книгами.
Кабинет отца… Глеб лежал на диване в брюках, рубашке и носках, под шерстяным пледом. В сознании медленно всплывали картины, которые проходили перед глазами, словно прокрученная задом наперед кинолента. Стоп-кадром застыла самая страшная: мокрая голова бати на снегу с растрепанными волосами и белой-белой плешью.
Впервые Глеб столкнулся со смертью так близко, можно сказать, глаза в глаза.
С тех пор как он себя помнит, в прозрачные и звонкие, как хрусталь, детские годы, в пору юношества, для Глеба оставалось непреложным, что окружавшие его люди – отец, мать, брат Родион – будут всегда. Они даны ему вместе с этим миром, с воздухом, которым он дышит, с солнцем, которое всходит и заходит каждый день. Конечно, кто-то умирал, но то были посторонние, не из его вселенной… И вот она дала трещину, в которую было жутко заглянуть. Там таилось ничто, небытие. Как объяснить и понять их? Для чего это?
Древние говорили: мементо мори. Помни о смерти… Но зачем о ней помнить, если ум наш отказывается представить, что это такое?
Помнить можно вкус еды, прикосновение к женщине, горечь обид и поражений, радость желания и победы…
И вот он прикоснулся к тому, что поколебало незыблемость устоев всех его представлений.
За окном падал медленный печальный снег. Небо было низкое, серое. Глеб посмотрел на часы – начало двенадцатого. Прислушался – дом словно вымер.
«Где Злата, Вербицкие?» – подумал Глеб и вспомнил, что сегодня первый день нового года. Зловещими показались ему слова Вики, которые она произнесла в мчащейся по льду «Ладе»: как встретишь год, таким он и будет…
«Нет, нет!» – старался прогнать от себя эти мысли Глеб.
Он встал, надел туфли, пиджак, пригладил рукой волосы. На солидном письменном столе лежали очки Семена Матвеевича. Глеб застонал: еще долго будут вещи напоминать о том, кого уже нет.
Он спустился по лестнице в холл. Из кухни тянуло запахом свежесваренного кофе. Он на минуту задержался, пытаясь подготовиться к встрече с мачехой, хотя в общем-то не представлял, как вести себя с ней, что говорить.
– Глеб, дорогой мой, любимый! – бросилась к нему на шею Лена, осыпая поцелуями щеки, губы, глаза. – Я с тобой! Я здесь! Бедненький, золотой ты мой!..
Лицо у жены было мокрое от слез, рот пах кофе и сигаретой.
– Ты?… Откуда? – проговорил ошарашенно Глеб. – А где Злата, Николай Николаевич, Вика?
– Я одна… Садись, садись, миленький, – схватила его за руку Лена, усадила рядом и не выпускала из своих ладоней его руки. – Господи, я как узнала – ужас! И почему я не была рядом в это время?
– Так где же все? – перебил Глеб ее излияния.
– Злата Леонидовна вышла. А Вербицких я не видела… Понимаешь, утром позвонила Зинаида Савельевна, ну, жена генерала, говорит: «Сейчас приеду за тобой, собирайся…»
У меня просто все оборвалось внутри, подумала: что-то случилось с тобой. А она – папа погиб… Приехала за мной с Калерией Изотовной и Родионом…
– Они здесь?
– Да здесь, здесь, у соседки… Очень хорошая женщина. – Лена замялась. – Понимаешь, они не захотели идти в этот дом. Ни в какую!
Глеб отлично понимал, почему мать и брат не желали переступить порог этого особняка. Гордость! Они всегда были такие, непримиримые…
Но то, что рядом самые близкие ему люди, как-то успокаивало. Тоска одиночества, которую он ощутил при пробуждении, рассеялась.
– Хорошо, что ты приехала, – сказал Глеб, чувствуя прилив нежности к жене.
Она прижалась к нему, всхлипнула.
– Я не дала тебя будить, – утирая слезы кулачком, словно ребенок, сказала Лена. И вдруг ужаснулась: – Миленький, у тебя жуткий вид! Поешь, выпей кофе… Я приготовила…
– Какая еда! – скривился Глеб. – Кофе – еще куда ни шло…
Только он пригубил обжигающий ароматный напиток, как послышался звук открываемой двери, быстрые шаги, и на пороге появилась Копылова. Заплаканная, в черной косынке на голове.
Зинаида Савельевна говорила какие-то слова сочувствия, соболезнования, и Глеб подумал, что к этому тоже надо привыкать.
– Мать с братом ждут тебя, – печально сказала Копылова. – Пойдем?
– Да-да, – суетливо поднялся Глеб, забыв про кофе.
– Эх, люди, люди! – вздохнула Зинаида Савельевна, непонятно на что сетуя.
У соседки, тети Полины, в чисто прибранной и по-сельски жарко натопленной комнате Глеба встретила мать. Вся в черном, высокая, стройная не по своим годам, она молча поцеловала сына в лоб, камнем положив на его сердце слова:
– Остались мы, Глебушка, без отца…
И он понял, что она до сих пор любит его.
«Господи, сколько же вынесла страданий эта женщина при жизни бати, – подумал сын. – А вот надо же, приехала сразу».
Родион поднялся со стула какой-то неуклюжий, неловко обнял брата, похлопал по плечу, но ничего не сказал.
Они ни о чем не расспрашивали, вероятно, подробности уже узнали от тети Полины. В деревне все всё знают…
Родион подал брату знак выйти в другую комнату. Вышли.
– Это самое… – мялся Родион. – Когда похороны?
– Понятия не имею, – признался Глеб. – Она решает…
– Ясно, – кивнул брат, понимая, что она – это Злата Леонидовна. – Ну и ситуация, – почесал он затылок. – Здесь, что ли, похоронят?
– Тоже не знаю… Впрочем, скорее всего, здесь.
– Та-ак, – протянул Родион. – Надо обмозговать… Да ты садись. – Он усадил брата, сел сам и о чем-то задумался.
Из другой комнаты доносился разговор женщин. Вернее, больше говорила хозяйка, тетя Полина.
– …Я так думаю, теперича Злате тут делать нечего. К деревне она не приспособленная… Да и в таком дому одной… На отоплении разоришься. Правда, к нам газ тянут, но когда это будет, бог знает… В городе жить легче. Удобства все, магазины… Говорят, у Семена Матвеевича в Средневолжске в нескольких сберкассах деньги лежат, да?
– Не интересовалась, – послышался усталый голос матери. – Все, что есть, было его.
– Бедная Злата, – продолжала соседка, – дай бог ей в городе устроиться неплохо… И бабонькам нашим облегчение будет: детишек наконец пристроят.
– При чем здесь детишки? – спросила Зинаида Савельевна.
– Яслей в совхозе не хватает… Дом-то ихний под ясли строили, да Злате шибко понравился. Ведь Семен Матвеевич, царство ему небесное, хотел вселиться в другой, а она настояла…
Глебу откровения простой женщины рвали душу. Родион, однако, прислушивался с интересом.
– Две тысячи четыреста рублей заплатили за дом, – продолжала хозяйка, – а он стоит все пятнадцать, а то и двадцать тысяч…
Калерии Изотовне наверняка неприятно было слушать эти сплетни, и она перебила тетю Полину:
– Вы уж извините, Полина Никаноровна, у человека горе, а вы о чем-то не о том говорите…
– Верно, дорогая… Плету, старая, не соображая…
Женщины перешли на нейтральную тему, а Родион продолжал:
– Ты уж разузнай, когда похороны и прочее… Где, когда…
– Конечно, конечно, – кивнул Глеб, понимая, что у брата с матерью какое-то двусмысленное положение. – Пойду я, Родион. Злата, наверное, уже дома… Поговорю и сразу сообщу.
Сказав матери, что он скоро вернется, Глеб вышел от тети Полины. Его обогнала ватага ребятишек, перебрасывающихся снежками. Прошли мимо два парня и две девушки с непокрытыми головами, в расстегнутых пальто, со смехом обсуждая какого-то Володьку. Откуда-то доносились переливчатые трели гармони, под которую пел высокий женский голос. Деревня праздновала. И тут до Глеба дошел смысл слов «жизнь продолжается».
Он поймал себя на мысли, что его уже занимают не какие-то абстрактные вселенские проблемы, а земные. Триста рублей, которые он по просьбе отца проиграл позавчера Вербицкому, – вот о чем думал Глеб. Батя сказал тогда, что компенсирует. Но не скажешь же об этом мачехе сейчас. А деньги нужны позарез. Дома, в Средневолжске, семейную казну опустошила, наверное, встреча Нового года. Допусти Лену до рынка и магазинов, так не остановится, пока не спустит последний рубль.
«Может, намекнуть все-таки Злате? – колебался Глеб. – Нет, неудобно…»
В особняке он снова застал только жену. Мачеха еще не вернулась. Лена заставила мужа поесть, хотя, честно говоря, особенно настаивать не пришлось: Глеб почувствовал зверский голод. Да и уж больно аппетитно выглядели закуски, приготовленные к встрече Нового года, так никем и не тронутые. Он поглощал еду молча, под болтовню жены, и почти не слушал: как говорится, в одно ухо влетало, а из другого вылетало. Мысли его теперь вертелись вокруг профессора: застанет Ярцев его в Средневолжске или тот укатит в Москву? А встретиться надо обязательно.
– …Насчет мебели мы договоримся, я думаю, – вдруг дошли до сознания Глеба слова жены.
– Какой мебели? – переспросил он.
– Отцовской, какой же еще! – удивилась Лена.
– Ты о чем? – перестал есть Глеб.
– О том, что мы с тобой переедем на проспект Свободы…
– А твою квартиру?
– Отдадим Злате Леонидовне. Вот я и считаю, что нашу мебель мы оставим ей. Модная, современная… А отцовская пусть так и останется у нас. Сейчас стиль ретро очень ценится… Гарнитур из карельской березы! Девчонки умрут от зависти!
– Постой, – снова взял вилку Ярцев, – с чего ты взяла, что Злата захочет к нам, на Большую Бурлацкую?
– Она сама намекнула, что в деревне ни за что не останется. Все загонит. – Лена обвела вокруг руками. – И в город. Говорит, ей здесь делать нечего. А что? Злата теперь вдова, ей в городе площадь нужна. Нам ведь четырехкомнатная квартира – во! – провела она ладонью выше головы.
– Короче, все уже решили, – усмехнулся Глеб.
– Ты сам подумай, – убеждала его жена, – ну как она сделает себе прописку в Средневолжске? Прописана в совхозе…
– О господи! – вырвалось у Глеба.
– Миленький, чем-то ведь мы должны помочь! Не чужая…
– Скажи уж честно, тебе самой не терпится перебраться в отцовскую квартиру, – недовольно пробурчал Ярцев.
– Но ведь ты не такой дурак, чтобы сдать ее государству, – с обидой сказала Лена. – Ведь прописан там, имеешь на нее законные права… А Злате нашу отдадим. Кстати, она сказала, что берет на себя все расходы – похороны, поминки, памятник.
Видя, что муж все сильнее мрачнеет, она замолчала, шмыгнув носом.
– Лена, дорогая, – вздохнул он, – неужели обо всем этом нужно именно сегодня, сейчас?
– Прости, Глеб, прости, милый! – спохватилась Лена. – Конечно я дура! Тебе так тяжело, а я… – Она махнула рукой.
Что-то в поведении жены насторожило Глеба. Нет, она была внимательна, ласкова, в ее искреннем сочувствии он не сомневался, но почему иной раз, встречаясь взглядом с ним, отводит глаза?
У Ярцева на языке так и вертелся вопрос, что это с ней, но мимо окна прошли Злата Леонидовна, Надежда Егоровна и какой-то полный мужчина, кажется, тот, что был заместителем отца.
Глеб внутренне собрался: предстоял печальный разговор о похоронах и связанных с ними других невеселых делах.
Часть вторая
Сойдя с поезда в Трускавце, Орыся взяла «Волгу» частника, хотя идти пешком до дома – не больше пятнадцати минут. Не хотелось встречаться с кем-нибудь из знакомых. Водитель «Волги» и тот знал ее. Но, несмотря на это, он взял с нее трояк не моргнув глазом.
Родная калитка, расчищенная от снега дорожка до двухэтажного особняка. Однако Орыся прошмыгнула во флигелек во дворе. В нем было жарко, пахло свежесваренным борщом. Не успела она снять шубу, как хлопнула входная дверь.
– Слава богу, приехала! – радостно обняла ее Екатерина Петровна. – Чуяло мое сердечко, что сегодня воротишься. С утра вон протопила, прибрала… Небось голодная с дороги?
– Спасибо, тетя Катя, – устало ответила Орыся, стягивая с себя сапоги. – Есть не хочу. Прилягу. Голова разболелась.
– Тогда в постель, в постель, – захлопотала Екатерина Петровна, разбирая кровать. – Это сейчас для тебя самое милое дело.
Пока Орыся раздевалась, она успела сообщить новости, накопившиеся за неделю отсутствия хозяйки. И дом, и флигель принадлежали Орысе.
– Ну, я побежала, – сказала тетя Катя. – Уборку кончать надо.
Напоследок она положила на тумбочку возле кровати деньги. Аккуратно сложенные десятки к десяткам, пятерки к пятеркам, рубли к рублям – плата от постояльцев. Можно было не считать: Екатерина Петровна ни копейки не положит в свой карман.
Орыся легла, прикрыла глаза. Качало, словно она все еще ехала в поезде. В голове плыли вокзалы, люди, улицы Средневолжска, по которым Орыся совсем недавно бродила чужая и неприкаянная. В памяти встала самая болезненная, самая щемящая душу картина – заснеженный двор детского садика, полный веселых ребятишек, которые катались с ледяной горки, лепили снежную бабу. Глядя сквозь щель в заборе, Орыся сразу увидела своего Димку. В клетчатых штанишках, коричневой курточке с капюшоном. Он даже не подозревал, что в десяти метрах находится родная мать, которая жадно ловит каждое его движение. На одно мгновение ей показалось, что он посмотрел в ее сторону. У Орыси дрогнуло сердце: неужели почувствовал?
Нет… Ей это действительно только показалось, потому что уже через секунду Димка со смехом мчался за каким-то мальчишкой.
«Боже мой, и почему я такая несчастная?» – вырвался тихий стон из груди Орыси. Она открыла глаза.
Со стены на нее смотрели десятка два фотографий – то, что осталось от целого чемодана снимков, которые Василь, отец Димки, заядлый фотограф, увез с собой в Средневолжск.
Говорят, не родись красивой, а родись счастливой. Но Орыся с детства только и слышала вокруг себя, какая она красивая, какая счастливая. И сейчас все уверены, что над ней светят эти две звезды. Если бы они знали…
Орыся переводила взгляд с фотографии на фотографию, словно перелистывала страницы их недолгой жизни с Василем.
Вот она совсем молоденькая. Стройная как тополек. В белом халате и шапочке сидит за столиком. Санаторий «Шахтер».
После окончания медучилища ее взяли туда диетсестрой. Работа несложная: подсказать лечащимся, где их место в столовой, дать совет насчет питания. Возле нее всегда выстраивалась очередь мужчин. Молодых, среднего возраста и постарше. А ее сменщица, пожилая опытная диетсестра, обычно просиживала без дела.
Мужчины липли к ней не только из-за внешности. Кто бы ни обращался к Орысе, проявить небрежение, а тем более нагрубить она не могла. Такая уж была натура, отзывчивая и душевная. Еще ее любили за песни. А это – по наследству. Пела мать Орыси, бабушка была лучшей певуньей в деревне. На концертах художественной самодеятельности в санатории слушатели буквально отбивали себе ладони, вызывая Орысю на бис.
А вот на снимке они с Василем. В первый месяц после женитьбы. Да, тогда она была красивая и по-настоящему счастливая. Швадак (мужа она обычно называла по фамилии) влюбился в Орысю с первого взгляда. Потом уже признался, что долго не решался подойти. А она со своей стороны открылась Василю: эта застенчивость и покорила ее. Другие с ходу пытались завоевать, не скупились на комплименты, выставляли напоказ свои достоинства – мнимые или заметно преувеличенные.
Швадак говорил мало. Если делал добро, сам оставался в тени. И даже цветы дарил своеобразно: не прямо в руки, а положит незаметно возле кровати или поставит в вазу в комнате Орыси, пока ее нет. Это продолжалось и тогда, когда они уже прожили несколько лет.
Василь окончил Московский автодорожный институт, вернувшись, работал инженером. К моменту встречи с Орысей он был один как перст. Родители умерли в течение полугода один за другим.
В первые дни знакомства Василь стеснялся приглашать ее в свой особняк. Орысе, выросшей в скромном достатке, намыкавшейся по общежитиям и чужим углам, представлялось, что дом Швадаков – полная чаша. Трускавец – уникальный курорт. Туда едут со всей страны страдающие болезнями печени, почек и другими хворями. В подавляющем большинстве по курсовкам или вообще дикарями. Местные жители сдают все, что только можно сдать под жилье, – разве что не доходит до собачьих будок. А тут – шестикомнатный особняк и еще времянка. У иных домовладельцев доходы от сдачи коек походили на неиссякаемый, как здешние целебные воды, источник. Иметь автомобиль, например, считалось самым обыденным делом.
Но в доме ее мужа роскошью и не пахло. Обстановка, правда, хорошая, но сработал ее – до единого стула – отец Василя, краснодеревщик, славящийся на всю округу. Родители никогда, ни под каким видом не сдавали комнат. Знакомых, прибывших на лечение, принимали охотно, но чтобы за деньги – ни-ни! Этих же принципов придерживался и их сын.
Когда родился Димка и расходы в семье увеличились, Орыся как-то намекнула мужу, что не мешало бы пускать на постой дикарей.
– Зачем тебе это нужно? – удивился Василь.
Она растерялась: деньги лишними не бывают. Хотелось купить Димке шубку да и Василю не мешало бы обновить пальто и костюм, в которых он ходит уже не один год. Не говоря уже о том, с какой завистью (тайной, конечно) смотрит она сама на импортные платья и сапоги других женщин.
– Стать рабом денег – нет! – заявил Швадак. – И потом, в своем же доме ходить на цыпочках? За кем-то убирать, стирать простыни?
– А как же другие? – пыталась оправдаться Орыся.
– Они уже не хозяева, а прислужники! И не только тем, кому сдают койки, но и вещам!.. А я хочу жить как душе угодно, распоряжаться собой и нашим жильем.
Комнатами он распорядился таким образом: самую большую и светлую отдал в полное владение сыну. Чего здесь только не было – шведская стенка, турничок, маты для кувыркания, качели. Василь даже подвесил на стену баскетбольную корзину. Все смастерил сам. Сколько счастливых часов провели здесь отец и сын!
Вторую комнату, самую маленькую, Василь занял под фотолабораторию. Третья – что-то вроде гостиной. Еще две – спальня Орыси и его. Последняя комната предназначалась для друзей и знакомых, изредка приезжавших в Трускавец.
Флигелек когда-то служил отцу Василя мастерской. Сын оставил в нем все как было. Он сам любил постоять у верстака и Димку с малолетства приучал к столярному мастерству.
В сынишке Василь души не чаял. Каким бы усталым ни приходил с работы, тут же забывал обо всем, если Димка тащил его в «спортзал» или в мастерскую, заставляя отца что-нибудь выпилить или выточить на токарном станочке.
Была ли тогда счастлива Орыся? Пожалуй. Любительские фотографии не врут. На них она снята с мужем и Димкой. В саду, под раскидистой карпатской елью в живописных окрестностях города, возле бювета с целебным источником.
А потом идут снимки, где только Димка, Димка, Димка…
Это были последние месяцы их семейной жизни. Как она поняла потом – трудные и мучительные для Василя. И всему виной была ее красота. Наступила пора, когда Орыся расцвела, превратившись в яркую молодую женщину. От ухажеров не было отбоя. Двусмысленные и недвусмысленные намеки, духи, коробки конфет, бутылки дорогих вин, букеты цветов. Она, естественно, ничего, кроме цветов, не принимала, призывая на помощь всю свою выдержку и юмор. Даже откровенным нахалам она не могла грубить, будучи от природы приветливой и мягкой. В зимнем саду санатория часто устраивались танцы. Орыся пару раз оставалась на них. И очень жалела потом. То из-за нее сцепились двое отдыхающих – подводник и шахтер из Донбасса. Дошло до драки. А то ревнивая жена при всех залепила пощечину своему мужу-ученому, который пригласил Орысю на третий танец.
Истории эти стали известны Василю, как доходили и другие сплетни, в которых она выглядела чуть ли не коварной соблазнительницей. Правда, Швадак никогда не реагировал на них, но Орыся чувствовала, что переживает сильно. Верил ли он слухам? Орыся так до сих пор и не знает.
Чтобы не давать повода для огорчений мужу, она ушла из «Шахтера» и устроилась в санаторий «Алмаз», в кабинет физиотерапии. Но и там ее продолжали преследовать мужчины. А зависть и ревность рождали новые сплетни. Тогда Орыся перешла в небольшой ведомственный пансионат администратором. В смысле времени – удобно: сутки дежуришь, трое дома. Теперь ее и отдыхающих отделяла стойка. И надо же было случиться – замдиректора пансионата Недовиз потерял из-за новой сотрудницы голову. Об этом скоро знал весь Трускавец, Василь, разумеется, тоже. И, как всегда, отмалчивался, делая вид, что людская молва его не трогает. И вот однажды…
Это было в ноябрьские праздники. Орысе выпало дежурить. Дежурил и замдиректора. Когда весь пансионат уже спал, сотрудники расположились пить чай. Недовиз дурачился, лез со своими нежностями к женщинам, и особенно настойчиво к Орысе. Чувствовала она себя неловко, а грубо одернуть замдиректора стеснялась. Тот разошелся, обнял ее и поцеловал. Орыся оттолкнула его, но было поздно: в дверях стоял Василь. В расстегнутом пальто, без шапки. Как потом выяснилось, у Димки неожиданно поднялась высокая температура, и он побежал за женой…
Швадак побледнел. Не сказав ни слова, круто повернулся и вышел. Орыся бросилась вслед, догнала, пыталась что-то объяснить, однако Василь оборвал ее словами:
– Иди дежурь.
Она растерялась. Оправдываться? Значит, признать свою вину. Она вернулась, с трудом дождалась конца дежурства.
Дома Орыся застала осунувшегося, падавшего с ног от усталости мужа, проведшего бессонную ночь у кровати сына. У Димки была фолликулярная ангина. Температура держалась несколько дней. Василь тоже свалился: на нервной почве разыгралась астма.
Хотя он родился, вырос в Трускавце и покидал родной дом лишь на время учебы в столице, местный сырой климат был ему неподходящим, и врачи давно советовали его сменить. За время своей болезни и болезни сына Швадак ни разу не обмолвился о той сцене, которую видел в пансионате. Орыся думала, что неприятный момент забыт. Но однажды, вернувшись с работы, Василь сказал:
– Продаем все, и я, ты и Димка переезжаем в Средневолжск.
– А дом как же? – спросила жена.
– Тоже продадим…
Орыся знала, что приятель мужа по институту, с которым в студенческие годы они делили последний рубль, работает в Средневолжске на крупном заводе. Друг этот быстро шел в гору, постоянно звал к себе Швадака, обещая интересную перспективную должность.
Решение Василя, а главное, безапелляционный тон обидели. Выходит, с ее мнением можно и не считаться?
Орыся надулась. Разговор оборвался. Она думала, на этом и кончится. Но через несколько дней Швадак снова заговорил о переезде в Средневолжск.
– Ну и езжай сам! – ответила Орыся. – А я из нашего дома – ни ногой!
– Если ты так за него держишься – оставайся, – в сердцах произнес Швадак. – Дом переведу на твое имя, а Димку заберу с собой. Согласна?
– Делай как хочешь! – с вызовом бросила Орыся.
Она не верила, что муж осуществит задуманное.
Прошла неделя, другая. Отдежурив свои сутки, Орыся пришла домой. Василя и Димки не было. Она подумала, что ушли гулять. Но потом забеспокоилась, не видя на месте игрушек сына, его одежду. И тут же обнаружила на столе в гостиной записку: «Я сдержал свое слово. Надеюсь, и ты сдержишь».
Рядом с запиской – дарственная на дом, заверенная у нотариуса. У Орыси подкосились ноги. Рухнув на стул, она разрыдалась…
В ту ночь она не сомкнула глаз. Готова была броситься на вокзал, помчаться вдогонку за мужем и сыном. Но куда? Может, Василь уехал не в Средневолжск? Или не насовсем, а так, только припугнуть? Через несколько дней опомнится, вернется…
Наутро она позвонила на работу. Там сказали: взял расчет.
«Нет, – продолжала твердить про себя Орыся, – он не может! Бросить, разлучить с сыном!.. На такое Василь не способен…»
Проходили дни, а от Швадака ни слуху ни духу. О случившемся Орыся никому не говорила, на расспросы соседей отвечала: муж уехал в отпуск.
Орыся открылась одной Екатерине Петровне Крицяк. С ней Орыся когда-то работала в санатории «Дружба». Крицяк была нянечкой и недавно вышла на пенсию. Они случайно встретились в городе. Тетя Катя заметила, что Орыся плохо выглядит – не заболела ли? Та пригласила бывшую сослуживицу к себе домой и со слезами на глазах призналась в своем горе. Крицяк стала успокаивать ее: мол, перемелется – мука будет.
– Ты же у нас красавица, – говорила Екатерина Петровна. – Разве таких бросают?
– Лучше бы я была уродина! – с горечью произнесла Орыся.
И говорила искренне. Лежа по ночам в огромном пустом доме, она много думала о муже, о себе.
Почему так жестоко поступил Василь? В чем она виновата? В том, что красивая?
Вспомнилась школа, учитель по литературе. Он был совсем молоденький, со студенческой скамьи, и повседневная рутина его еще не засосала. Орысю поразил его взгляд на личную драму Пушкина, приведшую к роковой дуэли. По мнению преподавателя, Наталья Гончарова была слишком прекрасна. А все, что прекрасно, всегда опасно. Это и привело к гибели поэта. Нет, жену Пушкина он не обвинял. Но быть красивой, говорил учитель, – тяжкий крест. Не каждому по плечу. Быть мужем такой женщины – крест вдвойне…
Конечно, у Орыси и в мыслях не было сравнивать себя с Гончаровой – куда ей до великосветской дамы, блиставшей при царском дворе! Однако тяжесть креста она познала. Ведь не бесчувственная кукла, живой человек. Сколько приходилось испытывать соблазнов! Как-то довольно известный музыкант из Москвы на полном серьезе предлагал ей выйти за него замуж. И это был не курортный роман. Потом забросал Орысю письмами. Да только ли он? Все это волновало, смущало душу. Но она держалась.
А вот Швадак – не смог.
Вскоре от него пришло письмо. Короткое, в несколько строк, с просьбой прислать согласие на развод, заверенное у нотариуса. Она приняла решение: срочно в Средневолжск, отговорить, вернуть! Там уже стояли холода, а сынишка уехал в легком пальто. Она бросилась к тете Кате занять денег на шубку и на дорогу.
– Голубушка, – сказала Крицяк, – а я думала, с вашими-то хоромами у тебя денег куры не клюют!
И посоветовала пустить в дом дикарей. Орыся послушалась. Правда, комнаты в особняке сдавать не решилась, поселила постояльцев во флигеле. Недели через три у нее было и на поездку, и на обнову для сына. Более того, купила наконец себе умопомрачительные импортные сапоги, а Василю – дорогую меховую шапку. В Средневолжск уехала, оставив на попечение тети Кати особняк и жильцов.
При воспоминании о встрече с мужем у нее до сих пор каждый раз ноет сердце. Ни о каком возвращении Василь и слышать не захотел. Увидеть Димку не разрешил. Орыся упрашивала, умоляла, но натолкнулась на решительное «нет».
– Ты сделала выбор добровольно, – отрезал Швадак.
И попросил их с сыном больше не беспокоить. У нее взыграла гордость, обида. Бросив подарки, тут же села в обратный поезд. Заехала в Москву на десять дней – не пропадать же впустую отпуску.
В ее отсутствие тетя Катя заселила курортниками помимо флигеля еще половину особняка. Так что дома Орысю ждали солидная выручка и… посылка от Василя. С детской шубкой и ондатровой шапкой. Еще один удар по самолюбию.
– Не переживай, – успокаивала ее тетя Катя.
Что бы Орыся без нее делала? Крицяк дневала и ночевала у нее, а затем и вовсе перебралась, пустив в свою однокомнатную квартиру, которую с превеликим трудом выхлопотала в исполкоме, курортников. Они устроились во флигеле, отдав весь дом дикарям. Иной раз в особняке одновременно жило до двадцати пяти человек. Появились и постоянные клиенты, которые «бронировали» койки на несколько лет вперед. Например, мать Эрика Бухарцева, которую сын привозил в Трускавец на машине. Крицяк даже завела специальную тетрадку, где вела учет движения проживающих. Она же прибирала в доме, обстирывала жильцов. Не бескорыстно, разумеется.
Орысе завидовали. Еще бы – молодая, красивая, богатая и свободная!
Но только подушка знает, сколько Орыся пролила слез. Иногда разлука с сыном становилась невмоготу. И тогда она срывалась, бежала на вокзал и уезжала в Средневолжск. Хоть одним глазком, издали поглядеть на Димку. Возвращалась она в Трускавец опустошенная, разбитая и несколько дней не высовывала носа из флигеля.
…Тихо скрипнула дверь – это тетя Катя проверяла, спит ли хозяйка. Орыся сделала вид, что уснула. Не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать.
Жить не хотелось.
В город она вышла на третий день. Было солнечно, морозно. Снег сверкал на Яцковой горе, Городище и Каменном Горбе. Вообще в этом году стояла непривычно холодная зима. Орыся вырядилась в дубленку, на голове – мохнатая песцовая шапка, на ногах – роскошные финские сапоги. Приезжих было не так, как летом, но все равно много. У домика с островерхой башенкой над источником «Эдвард» ее окликнули. В румяной молодой женщине она узнала Одарку Явтух. В санатории «Алмаз», где работала в свое время Орыся, Одарка была массажисткой. Она и до сих пор там.
Явтух была депутатом городского Совета, и выбирали ее вот уже третий раз подряд.
Встретились они сердечно, поболтали о том о сем. Одарка поинтересовалась, где работает Орыся. Та сказала, что нигде.
– Тю-у! – протянула Одарка. – Ты что, газет не читаешь, телевизор не смотришь?
– Газеты меня не интересуют, а концерты по телику смотрю. Ну, еще фильмы с продолжением, особенно если про любовь, – отшутилась Орыся.
– Нет, ты словно с луны свалилась, – вздохнула Одарка. – Разве не чуешь, что творится вокруг?
– А что? – состроила невинные глаза Орыся.
– А то… Вчера на сессии горсовета один депутат внес предложение: кто нигде не работает и живет за счет дикарей, отобрать земельные участки, хаты и даже квартиры!
– Ишь какой шустрый! – усмехнулась Орыся. – Слыхали мы и раньше такие речи.
– Верно, – кивнула Явтух. – А теперь – всерьез. От слов, так сказать, перешли к делу.
– Значит, борьба с тунеядцами. Ну-ну… Сколько ни боретесь, их почему-то все больше становится.
– Я бы на твоем месте задумалась, – посоветовала Одарка.
Действительно, о нетрудовых доходах говорили из года в год, но ничего не менялось. Более того, спрос на жилье постоянно рос. Когда-то койка стоила рубль в сутки, потом плата увеличилась до двух, а затем и до трех рублей. В разгар сезона некоторые теперь берут по четыре и даже по пять! Но это никого не останавливает. Просят, умоляют, предлагают любые деньги, лишь бы было где приклонить голову.
Пользуясь безвыходным положением, кое-кто из владельцев домов и квартир ставит условие, чтобы утром постоялец уходил (иди дыши воздухом, пей лечебную воду, гуляй) и возвращался не раньше девяти вечера. Естественно, в таком случае милиции трудно засечь проживающих без прописки.
Орыся до подобных строгостей не доходила. Жалела людей, и условия у нее были приличные – все удобства, даже кухню в особняке предоставила в распоряжение постояльцев, чтоб было где приготовить еду. Всегда чисто, свежее постельное белье, хочешь днем отдохнуть – пожалуйста. В теплое время – а его в Трускавце больше, чем холодного, – пользуйся садиком…
Слова Одарки Явтух заронили в душу тревогу. Действительно, могут крепко прищемить хвост.
В принципе Орыся могла обойтись и без службы: зарплата в сто-сто пятьдесят рублей (на большее она не рассчитывала) составила бы очень скромное место в ее бюджете. Вернее – мизерное. Она сама охотно приплачивала бы кому-нибудь эту сумму, лишь бы не ходить на работу.
Найти бы какую-нибудь шарагу, где только бы числиться! Для галочки, так сказать, чтобы милиция не цеплялась. Но кто на это пойдет? В большом городе, где люди не знакомы даже с соседями по лестничной площадке, подобное провернуть, наверное, можно. А в Трускавце? Каждая собака, как говорится, в лицо друг друга знает. Не пройдет.
Значит, выход один – устраиваться на работу. Но куда?
Мысли эти не давали ей покоя. Орыся не заметила, как очутилась на улице Филатова, у ресторана «Старый дуб». Здесь когда-то действительно стояло могучее дерево, но дуба уже нет, а название осталось.
«Зайти, что ли, поболтать с Кларой?» – подумала Орыся.
Подруга ее, Клара Хорунжая, работала в «Старом дубе» официанткой. Ресторан этот Орысе нравился: уютно, обстановка нестандартная, одежда на работниках – в ярком прикарпатском стиле, и блюда подавали соответствующие.
Хорунжая обрадовалась приятельнице, устроила за отдельный столик, а чтобы никто не подсел, поставила табличку «Для обслуживающего персонала». Посетителей было мало, и Клара могла уделить Орысе сколько угодно времени. Она тут же забросала ее вопросами: где пропадала? Почему такая озабоченная? Орыся поведала о встрече с Одаркой Явтух.
– Господи, чего тебе раздумывать! – сказала Хорунжая. – Иди к нам. Официанткой.
– Ты серьезно? – удивилась Орыся неожиданному предложению.
– А что? Снова в санаторий? Неужто не надоело смотреть на всяких там почечников, печеночников да язвенников? У нас работа веселее, – убеждала Клара. – Навар опять же… Хватит тебе куковать дома. Тетя Катя отлично со всем справится.
– Так-то оно так, – задумалась Орыся. – Действительно, встаю утром и не знаю, чем заняться. От телевизора уже просто тошнит.
– Ну а я об чем? – поддакнула Хорунжая. – А у нас скучать некогда! И, главное, на людях. Такие мужики захаживают – закачаешься! – подмигнула лукаво Клара и еще долго убеждала подругу, что лучшего места Орыся не сыщет.
Орыся размышляла недолго и уже через день пришла устраиваться в «Старый дуб», сама толком не зная, почему согласилась на уговоры Клары. Приняли без всяких проволочек, правда, с испытательным сроком.
Было интересно, потому что внове. Хотя и уставала с непривычки от тяжелых подносов и постоянного пребывания на ногах. Потом освоилась. Режим работы вполне подходящий: день в ресторане, другой – на отдых.
Вполне возможно, что Орыся и прижилась бы в «Старом дубе», если бы…
Это произошло, когда ее испытательный срок подходил к концу. Был будничный вечер, ресторан заполнен наполовину. Появление трех новых посетителей обратило на себя внимание всего зала, а метрдотель бросился к ним навстречу и лично проводил до столика Орыси. С первого же взгляда она поняла: цыгане. Двое мужчин и женщина, одетая в кричащее платье и увешанная драгоценностями. На мужчине помоложе был синий бархатный костюм, красная рубашка с люрексом, а на руке сверкал огромный золотой перстень. Второй мужчина и вовсе будто бы только что сошел с экрана кинофильма о давно забытых временах: надраенные хромовые сапоги, галифе и рубаха наподобие черкески, но без газырей, подпоясанная широченным ремнем с тяжелыми серебряными накладками. Лицо у него было смуглое, со сросшимися густыми черными бровями и лихими усами, а от всей фигуры веяло уверенностью и властностью.
Усаживая посетителей, метрдотель прямо-таки пропел:
– Орысенька, голубушка, обслужи Сергея Касьяновича с друзьями наилучшим образом. – И отвесил в сторону мужчины в галифе низкий подобострастный поклон.
Тот небрежно сунул в нагрудный кармашек метрдотеля крупную денежную купюру и получил в ответ новый поклон, чуть ли не до земли.
Сергей Касьянович поманил пальцем руководителя оркестра, который словно ждал этого момента.
– Весь вечер только мои любимые песни, – сказал цыган подбежавшему музыканту, сопровождая просьбу (она выглядела как приказ) солидной пачкой денег.
Затем Сергей Касьянович сделал заказ: деликатесы, фирменные блюда, шампанское, самый дорогой коньяк и фрукты, причем все в таких количествах, что хватило бы на огромную компанию.
С эстрады полились рыдающие звуки скрипки, и певица запела старинный душещипательный романс.
– Ну, подружка, тебе крепко подфартило, – не без зависти сказала Хорунжая, когда встретилась с Орысей у стойки буфета. – Считай, сотняга чаевых у тебя в кармане.
– Ты уж постарайся, – поддакнул буфетчик. – Тогда выложит и двести, а может, и триста.
– Что-то раньше я его не видела, – сказала Орыся.
– Верно, давненько его не было, – кивнула Клара. – Раньше чаще захаживал… Барон…
– В каком смысле? – не поняла Орыся.
– Цыганский, – пояснил буфетчик. – Не слыхала, что ли? У них так называют самого главного!
– А я думала, что такое бывает разве что в кино… И не боится же швырять деньгами, – покачала головой Орыся.
– А Барону все нипочем! – сказала Хорунжая. – Когда был у нас последний раз, такую гулянку закатил – до самого утра! Наш директор тоже веселился вместе с Сергеем Касьяновичем.
– Что же он за птица, если ему даже ОБХСС не страшен? – поинтересовалась Орыся.
– А может, ОБХСС его самого боится, – пожала плечами Клара. – И не только ОБХСС, но и прокурор…
– Точно, – подтвердил буфетчик. – Пансионат «Сокол» знаешь? – почему-то оглядываясь, негромко спросил он. – Ну, недалеко от рынка?
– Конечно, – кивнула Орыся. – Там с другого входа помещается городская прокуратура.
– Во-во, – еще больше понизил голос буфетчик, – говорят, здание строили под тем видом, что якобы только под прокуратуру, а потом уж большую часть отвели под пансионат. И вроде бы Барон эту уловку знает и держит кое-кого вот так. – Он показал крепко сжатый кулак.
– А я слышала, что Сергей Касьянович огромное наследство получил, – сказала Хорунжая. – Из-за границы. Ведь их племя по всему свету рассеяно… И поэтому у Барона полные карманы чеков. Вещи он только в «Березке» покупает.
– Галифе и сапоги тоже? – прыснула Орыся.
– У него имеется для этого индивидуальный портной и сапожник, – не отреагировала на юмор Клара. – И еще, он в Афганистане воевал. Метрдотель говорит, что самолично видел у Барона не то боевой орден, не то медаль.
– Значит, точно Афганистан, – глубокомысленно кивнул буфетчик. – В Отечественную не мог, под стол пешком еще ходил.
Вернувшись в зал, Орыся пригляделась к Барону. Ему действительно было не больше сорока лет.
И вдруг почувствовала, что он тоже внимательно наблюдает за ней. В каком бы уголке она ни находилась, глаза Барона были устремлены в ее сторону. И от этого взгляда Орысе почему-то было не по себе.
В груди смутно шевельнулось что-то тревожное…
А оркестр не переставал тешить публику цыганскими мелодиями, то грустными, то задорными. Одна из них, зажигательная, огневая, подняла с места друзей Барона, и они пустились в пляс под одобрительные возгласы присутствующих. Вскоре к танцующим присоединились другие посетители ресторана.
Лишь один Барон невозмутимо сидел за столом, глуша бокалами шампанское да время от времени бросая на Орысю свой прямо-таки завораживающий взгляд.
Улучив момент, она сообщила об этом Кларе.
– Смотри, – шутливо погрозила пальцем Хорунжая, – от Барона просто так не отвертишься. На кого положит глаз – ни перед чем не остановится. – И уже серьезно продолжила: – Помнишь, у нас была официантка Зофья?
– Светленькая такая, кудрявенькая?
– Да, между прочим, натуральная блондинка, не крашеная… Барон увидел и как солома загорелся. С ходу предложил встретиться после работы. А Зофья только-только замуж вышла, и за красивого парня. Зофья отказала Барону, да еще, дурища, мужу проговорилась.
– А почему дурища? – поинтересовалась Орыся.
– Потому, – вздохнула Клара. – Муж заревновал, пришел к Барону, стал угрожать ему. А на следующий день Зофьиного супруга так обработали – страшно смотреть! Неделю валялся в больнице без сознания. Череп проломили, ребра переломали. Короче, калекой сделали.
– Кто? Барон? – округлила глаза Орыся.
– Нет. А тех, кто напал, до сих пор не нашли.
– Ну а Зофья?
– Как только муж встал на ноги, уехали из Трускавца. Подальше от греха.
– А может, Сергей Касьянович тут вообще ни при чем?
Хорунжая пожала плечами и сказала:
– Он никогда не бывает один. Обязательно рядом кто-нибудь на подхвате. Как этот. – Она скосила глаза на спутника Барона, только что усевшегося за стол после пляски. – Да еще на улице дежурят.
– А это что за краля с ними? – полюбопытствовала Орыся. – Любовница Барона?
– Райка? С тем дружком Барона. Она с разными приходит. – Клара вдруг прыснула в кулак.
– Ты чего? – удивилась Орыся.
– Представляешь, даже в зубы вставила бриллианты!
– Ну да? – вытаращила глаза Орыся. – Шутишь?
– А ты присмотрись, сама убедишься.
– Неловко как-то.
– Рассказывают, грызла как-то Райка орех и сломала зуб. Очередной хахаль повез ее к дантисту и вставил золотую фиксу с бриллиантом. Райке это так понравилось, что она вырвала здоровый зуб с другой стороны и вставила золотой с бриллиантом. Для симметрии… Ну не чокнутая?
Подойдя в очередной раз к столу Барона, Орыся мельком кинула взгляд на рот хохочущей Райки, потому что не могла все-таки до конца поверить в рассказ Клары Хорунжей. Ну возможно ли такое? Но у Райки, когда она смеялась, действительно в двух боковых золотых зубах пускали разноцветные лучики бриллианты. Прямо чертовщина какая-то!
– Садись, Орыся, – неожиданно сказал ей Барон, выдвигая четвертый стул и наливая в бокал шампанское.
Орыся растерялась.
– Спасибо. Не могу… Понимаете, нельзя нам на работе, – пролепетала она и для убедительности добавила: – Честное слово!
– Садись, садись, – властно произнес Сергей Касьянович. – За знакомство. – Он протянул свой фужер, чтобы чокнуться, ожидая, пока она возьмет налитый ей.
Орыся невольно оглянулась, ища глазами метрдотеля. Но Сергей Касьянович опередил ее, щелкнул в воздухе пальцами, и через мгновение тот стоял рядом, как послушная собачонка.
– Давай, Петя, и ты, – налил ему полный бокал конь яка Барон.
К удивлению Орыси, метрдотель залпом осушил бокал.
– Ну? – нетерпеливо сказал Барон, обращаясь к Орысе.
Метрдотель согласно кивнул ей: мол, не отказывайся.
Пришлось и чокнуться, и выпить, и сесть.
Спустя некоторое время Барон налил Орысе второй бокал. Она почему-то не решилась сказать «нет».
И потом, когда на кухне метрдотель шепнул ей, что Сергей Касьянович ожидает у входа (о подмене уже позаботились), Орыся тоже не нашла в себе сил отказаться. Переоделась и вышла на улицу.
У ресторана стояли «Волга» и жигуленок. Барон, сидевший в «Волге», открыл дверцу, пригласил Орысю в машину. И как только она села, резво взял с места. Тут же, следом за ними, двинулись и «жигули».
«Как же это он не боится пьяный за рулем? – Орыся краем глаза посмотрела на Сергея Касьяновича. – Нарвется на гаишников, лишат прав. А то и вовсе в милицию могут забрать».
Вообще-то он на пьяного не походил, хотя выпил изрядно. Только веки набрякли да побелели.
Впереди у перекрестка показался милицейский мотоцикл, возле которого стоял работник ГАИ в белых крагах и шлеме. У Орыси упало сердце: сейчас поднимет жезл, они остановятся и…
Но Барон, чуть сбавив скорость, приспустил возле себя стекло и небрежно помахал рукой милиционеру. Тот кивнул и весело улыбнулся в ответ, как будто увидел самого дорогого друга. Только что не козырнул.
Орыся едва сдержала вздох облегчения.
– Сергей Касьянович, – спросила она, тяготясь молчанием и неизвестностью, – кто же вы такой, если даже милиция…
– Ой, дорогая-золотая, – усмехнулся Барон, – поменьше задавай вопросов. Не люблю.
Орысю несколько обидел такой ответ, но она промолчала.
Однако когда «Волга» и неотступно следующие за ней «жигули» вылетели за город, не удержалась:
– Но хоть имею я право узнать, куда мы едем?
– Во Львов, – коротко ответил Сергей Касьянович.
– Как во Львов? – вырвалось у Орыси.
– Отдохнуть надо, – сказал Барон, не объясняя, от чего отдохнуть и как.
«Господи, а тетя Катя? – подумала она. – Вот уж переволнуется!»
В машине снова воцарилось молчание. Лишь в едва приоткрытое со стороны водителя окно посвистывал встречный ветер да шуршали шины по асфальту.
Сергей Касьянович управлял машиной уверенно и властно. Впрочем, как и вел себя с людьми. Эта уверенность почему-то постепенно успокоила Орысю.
Во Львове она не была давно. А город этот очень любила за его многолюдность, неповторимые старинные улицы, дома, скверы. Там можно затеряться и в то же время быть среди толпы. Не то что в их игрушечном маленьком Трускавце!
Одна площадь Рынок чего стоит! А Театр оперы и балета имени Ивана Франко с его крылатыми фигурами на фронтоне!
– Ты чего Раису обглядывала? – неожиданно задал вопрос Барон.
Орыся обрадовалась: молчание ее тяготило. Она ткнула себя пальцем в зубы и сказала:
– Что, ей некуда бриллианты девать?
– Понравилось? – не то удивился, не то заинтересовался Барон.
– Эх, кто бы мне подсунул орешек покрепче! – со смехом произнесла Орыся.
– Подумаешь, – пренебрежительно сказал Барон, – бриллианты по одному карату! Всего-то двенадцать тысяч… Я могу тебе в каждый из тридцати двух зубов по два карата!
Сказал так, что она поверила – может.
– Свои как-то лучше, – ушла она от темы.
До Львова домчались менее чем за час. Подкатили к гостинице «Верховина», что на проспекте Ленина. Лиц людей, сопровождавших их на «жигулях», Орыся так и не увидела: Сергей Касьянович сразу повел ее в вестибюль. А там…
Дежурный администратор вел себя с Бароном так же, как метрдотель «Старого дуба». Через десять минут Сергей Касьянович уже вводил ее в роскошный трехкомнатный люкс с коврами на полу и цветным телевизором. А еще через четверть часа им подали в номер царский ужин с черной и красной икрой, разными копчеными и солеными рыбами, свежими жареными шампиньонами, неправдоподобно огромными красными вареными раками, коньяком, шампанским и заморскими фруктами.
Орыся не переставала удивляться могущественности своего «похитителя», как она мысленно называла Барона. И как ему удалось получить номер без всяких паспортов? Ведь у нас и шагу нельзя ступить, пока не удостоверятся, кто ты такой.
В уютный номер не проникал шум с улицы. Мягкий свет торшера освещал столик, играя в гранях хрусталя и золоте напитков.
Они сидели на диване рядом. Барон взялся за коньяк.
– Нет-нет, – запротестовала Орыся.
– А шампанское?
– Немного.
– Как хочешь, – посмотрел на нее Сергей Касьянович.
И снова у нее от этого взгляда тревожно забилось сердце, как там, в «Старом дубе».
Выпили. Он – коньяк, она – шампанское.
Ела Орыся с удовольствием: уехала из Трускавца голодная, да еще дорога…
Наверное, уют и роскошь помещения ее расслабили. Вино, впрочем, тоже. Она почти не уловила момента, когда сильные, железные руки Барона прижали ее тело к своему, отыскали грудь, бедра, а губы жадно потянулись к ее губам.
И тут, словно опомнившись, она резко оттолкнула Барона. Началась борьба, безмолвная, грубая и жестокая. Пощечина еще больше озлобила Орысю, и она вцепилась ногтями в его лицо, не чувствуя дальнейших ударов…
Тяжелая золотистая портьера, трюмо с деревянными завитушками, идиллический пейзаж в багетной рамке на противоположной стене – вот что увидела Орыся, проснувшись.
И вспомнила.
Ругать она себя не стала: сама отлично знала, зачем привез ее Барон в эту гостиницу. При воспоминании о нем она зачем-то повыше натянула на себя одеяло. Прислушалась.
В номере стояла тишина.
«Где же он?» – с каким-то беспокойством подумала она: неизвестность пугала.
Телу что-то мешало. Комбинация… Вернее, то, что от нее осталось, – лохмотья.
Орыся откинула одеяло, хотела встать. Что-то упало на коврик возле кровати.
Два целлофановых пакета. Ярких, с надписью на иностранном языке. В одном было нижнее белье, в другом – платье. Изумительное, нежно-сиреневое, с люрексом.
Ее платье валялось на стуле с оторванным рукавом.
Орыся приложила к себе обновку, посмотрелась в зеркало. И цвет, и фасон – все к лицу.
Она пошла в ванную, привела себя в порядок, сделала прическу, размышляя, куда мог запропаститься Сергей Касьянович. И не успела выйти в гостиную, как появился он, в длинном кожаном пальто и мохнатой лисьей шапке. На щеке алела царапина – след ее ногтей.
Барон прошелся по ней взглядом, улыбнулся, довольный.
– Я немного погорячился, – сказал он, раздеваясь. – А ты мне такая бешеная еще больше понравилась.
– Чем? – спросила она немного кокетливо.
Барон хмыкнул и не ответил. Потом уже, когда они сидели за доставленным из ресторана завтраком, пояснил:
– Запретный плод – он всегда слаще. – И без всякого перехода вдруг заявил: – В ресторане ты больше работать не будешь.
– Как это? – вырвалось у Орыси.
– Вот так! – коротко бросил он.
Орыся поняла, что спорить бесполезно. И опасно: ей вспомнился рассказ Хорунжей о том, как поступили с мужем Зофьи.
После завтрака Сергей Касьянович предложил покататься по городу. Когда вышли на улицу, мела метель, а Орыся была в легком пальто.
– Холодно, – передернула она плечами, поскорее забираясь в машину.
– Согреем, – пообещал Барон.
Орыся не придала значения этому замечанию. Он остановил «Волгу» возле универмага и попросил немного подождать. Вернулся минут через пятнадцать с большим свертком. Когда она развернула его в гостинице – ахнула. Это была норковая шуба…
Во Львове они пробыли три дня. Обошли чуть ли не все рестораны. Орыся устала от этого загула. Пить она не любила и не умела, а приходилось, хотя бы понемногу. Хмель был не в радость, только болела голова.
Потом Сергей Касьянович отвез ее в Трускавец и, прощаясь, предупредил:
– Чтобы ни одного мужика! Узнаю – наше следующее свидание будет на том свете!
Кончался февраль, а зиме, казалось, не будет конца. Обычно в это время в Трускавце уже сходил снег, а тут морозы доходили до двадцати пяти градусов, бушевали метели, скреблись в окна сухими снежинками, и под их шелест сладко спалось в теплой комнате. Как и в тот день, когда прикатила на собственном «москвиче» Наталья Шалак – двоюродная сестра Орыси.
– Вставай, барыня! – разбудила она хозяйку и показала на часы: было около полудня. – Скоро темнеть начнет, а ты еще в кровати.
– Наталка! Ты? – Орыся спросонья протирала глаза, не понимая, наяву перед ней сестра или снится. – Откуда? Какими судьбами?
– Прямиком из Криниц… По твою душу, – ответила Наталья, расстегивая пальто, но почему-то не снимая его.
За Натальей стояла тетя Катя и умильно глядела на Орысю.
– Подымайся, подымайся, милая, – кивала она. – Завтрак уж на столе. Откушаешь вместе с гостьей.
– Какой там завтрак! – повернулась к ней Шалак. – Нам ехать надо!
– Ехать? – встревожилась Орыся. – Куда? Зачем? – И подумала: неужели что с дедом? Из Воловичей доходили вести, что он заболел.
– Не волнуйся, – успокоила ее Наталья. – Радость у нас. Нет, ты не поверишь, ей-богу! Позвонили вчера из Москвы нашей председательше сельисполкома Павлине Васильевне… Помнишь ее?
– А как же! – ответила Орыся, неохотно покидая нагретую постель.
– И говорят, – продолжала Наталья, – ждите в гости иностранцев. Павлина Васильевна растерялась: что за иностранцы, почему именно в Криницы? Ее спрашивают, есть в селе семьи с фамилией Сторожук? Конечно, отвечает председательша, я сама урожденная Сторожук. Вот и хорошо, через два дня встречайте туристку из Канады. Она пожелала посетить места, где родилась, и заодно повидать родственников. Звать ее Миха Стар.
– Так это же!.. – воскликнула Орыся, но Наталья перебила:
– Да, да! Едет тетка Михайлина! Представляешь? Павлина Васильевна так и сказала: это она по-заграничному Миха Стар, а по-настоящему – Михайлина Сторожук. Что же, встретим как полагается!
– Но я-то зачем?
– Здрасте! – удивилась Наталья. – Поможешь. Ты ведь тоже Сторожук, родственница.
– Седьмая вода на киселе.
Орыся открыла шкаф, выбирая, что надеть для поездки.
– Черт! Куда розовый шарф подевался? Он всегда здесь висел.
Тетя Катя заохала, бросилась к шифоньеру и вынула из нижнего ящика богатый мохеровый палантин.
– Прости меня, старую, – оправдывалась старуха. – Ты давеча его на стуле оставила. Вот я и спрятала в ящик.
Наталья смотрела на сестру и недоумевала: неужели это та самая Орыська, которую она знала с детства? В селе у своих деда с бабкой она и корову доила, и за свиньями ухаживала, и навоз убирала, и босиком бегала на речку полоскать белье. Да и когда работала диетсестрой в санатории, о ней отзывались как о скромнице, готовой и подежурить за другого, и с чужим ребенком посидеть. А тут завтрак даже себе не приготовит, все тетя Катя. Однако Шалак промолчала, лишь перед самым выходом спросила:
– Куда думаешь теперь устраиваться?
– А зачем мне работать? – беспечно ответила Орыся.
– Конечно, коровка у тебя щедрая, – не удержалась от шпильки Наталья, кивнув в сторону особняка. – Даже пасти не надо, знай только… – И она задвигала руками, словно доила.
– Твоя тоже, кажется, не скупится на молочко, – усмехнулась Орыся.
Наталья поняла, что она имела в виду. Шалаки работали на селе: Наталья – учительницей, Матей – завклубом. Но имели к зарплате очень хороший приварок. От теплицы. На дворе зима, а они возили на рынок в Киев свежие помидоры и огурцы.
– Тоже мне сравнила! – отпарировала Шалак. – Попробуй вырасти рассаду, удобряй, опрыскивай, поливай! За дитем легче ухаживать!
– Ладно, – недовольно оборвала ее Орыся. – Имеешь – и слава богу! – И дала наказ тете Кате: – Если приедет Сергей Касьянович, скажи, что я в Криницах. На пару дней, не больше.
– Не, не! – испуганно замахала руками старушка. – Разве он на словах поверит? Ты уж, голубушка, черкни ему записку.
Орыся набросала пару слов Сергею, и они поехали.
Сельская жизнь не особенно богата на события, тем паче зимой. Поэтому ожидаемый приезд Михайлины Сторожук взбудоражил не только ее родных, но и всех криничан. На следующий день (а это была пятница) в селе с утра царило необычное оживление. Продолжали прибывать Сторожуки из Драгобыча, Борислава, окрестных селений. Кто на собственных машинах, кто рейсовым автобусом. Орысины дедушка с бабушкой так и не приехали: видать, старик действительно захворал.
Больше всех забот было у Василины Ничипоровны, председателя местного колхоза «Червоный прапор». Ее районное начальство, узнав, что колхоз посетит канадская туристка, дало указание «показать товар лицом», то есть не осрамиться перед заграницей. К тому же колхозный голова приходилась тете Михайлине троюродной племянницей. Вообще-то по части встречи зарубежных гостей опыт у Василины Ничипоровны имелся. Но одно дело официальная делегация, а другое – родственница. Как ее принять? У кого поместить? На это в Криницах претендовало не менее десяти семейств.
Обижать никого не хотелось. Но ведь тетя Михайлина одна! Пришлось выбирать, кто ей ближе по родству. Таким являлся местный бригадир механизаторов Гринь Петрович Сторожук, сын единокровного брата гостьи.
Сам Гринь Петрович узнал, что у него в Канаде есть тетя, лишь пять лет назад, когда умер отец, Петро Остапович. Разбирая после его смерти бумаги, он обнаружил очень интересное письмо – ответ из Красного Креста. Он касался сведений о деде Остапе. На запрос Петро Остаповича отвечали, что его отец, Остап Сторожук, недавно скончался в Канаде. Но у него осталась дочь Михайлина, проживающая в городе Виннипег.
Гринь Петрович терялся в догадках, почему отец скрывал, что у него есть сестра. Конечно, в те времена наличие родственников за границей не афишировали. А Гринь Петрович как раз заканчивал сельхозинститут во Львове, и, скорее всего, отец боялся повредить его карьере.
Как бы там ни было, но Гринь Петрович тут же написал тете Михайлине, которая сразу ответила. Письмо было грустное и радостное одновременно. Грустное, потому что она узнала о смерти единокровного брата своего, так и не повидавшись с ним, а радостное – что объявился племянник. Так у них наладилась переписка. Потом стали приходить посылки. Шубы из синтетического меха, пуловеры, свитера, платья и кофточки с люрексом, джинсы и другая одежда. Гринь Петрович раздавал подарки родственникам.
Вот и выходило: кому, как не ему, принимать в своем доме гостью из далекого города Виннипега. Не было сомнений, что тетя Михайлина останется довольна: жена Гриня Петровича, Ганна Николаевна, была отличной хозяйкой и мастерицей стряпать. Хлеб пекла такой (она работала в местной пекарне), что за ним в Криницы приезжали даже из города. Никакой механизации Ганна Николаевна не признавала – только своими руками!
Покончив с вопросом, у кого будет жить канадская родственница, наметили настоящий сценарий ее встречи. Правда, точного времени приезда тетки Михайлины в Криницы никто не знал: из львовского отделения «Интуриста» сообщили неопределенно – будет к обеду. Встретить решили торжественно, у околицы села. Отправились туда в полдень.
Крутила поземка, мороз стоял под двадцать градусов. Согревались на ледяном ветру притопыванием и прихлопыванием. Кто-то даже предложил разжечь костер. Но тут на дороге показалась черная «Волга». Не сбавляя хода, она промчалась мимо встречающих, которые закричали шоферу, замахали руками. Тот затормозил, подал назад.
И точно, в машине сидела тетя Михайлина. Ее узнали по ранее присланным фотографиям.
«Волгу» обступили со всех сторон. Какой там сценарий, о нем враз забыли! Каждому хотелось протиснуться поближе.
Первым из машины выбрался молодой мужчина в короткой дубленке. За ним вышла гостья, растерянная и взволнованная. Она была в шубе из искусственного меха, в меховой шапке с козырьком. На груди тети Михайлины висели фотоаппарат и кинокамера.
– Дорогу!.. Дорогу! – распорядилась Василина Ничипоровна. – Дайте пройти Гриню Петровичу!
Все расступились. Сторожук, неся на расшитом рушнике каравай и солонку с солью, подошел к гостье.
– Дорогая тетя Михайлина! – произнес он осевшим от волнения голосом. – Добро пожаловать на родную землю.
У Михайлины Остаповны задрожали губы, на глазах показались слезы.
– Гринь, неужели!.. – только и проговорила она.
А Сторожук переминался с ноги на ногу, совал тетке каравай. Та наконец поняла, что от нее требуется, отломила кусочек хлеба, макнула в соль и положила в рот. Кто-то принял из рук Гриня Петровича символ гостеприимства и хлебосольства. Тетка бросилась на шею к племяннику и заплакала. Он совершенно растерялся, гладил ее по спине и приговаривал:
– Ну будет, будет…
– Не верится… – отстранилась от него гостья. – Всю жизнь ждала этого часа.
Она оглянулась, словно что-то ища, затем опустилась на колени, взяла горсть снега и приложила ко рту.
И все поняли: будь земля голая, тетя Михайлина поцеловала бы ее.
Женщины зашмыгали, кто-то всхлипнул. Гринь Петрович бережно поднял тетку и начал было представлять родственников.
– Потом, дома! – остановила его Василина Ничипоровна. – А то совсем заморозим дорогую гостью.
Та и впрямь здорово озябла в синтетической шубе: губы посинели, пальцы еле шевелились. И все же, прежде чем сесть в машину, она несколько раз щелкнула фотоаппаратом, запечатлев на память эту трогательную встречу.
В «Волгу» подсели Гринь Петрович и председатель колхоза.
Молодой человек оказался переводчиком из «Интуриста», звали его Лев Владимирович. Но его помощь не понадобилась: разговор шел на украинском языке. Правда, тетя Михайлина изъяснялась довольно старомодно, иногда вставляя английские слова, которые тут же сама и переводила.
– Ты – вылитый дед Остап! – сказала она, не выпуская из своих рук ладонь племянника.
Впрочем, Гринь Петрович имел сходство и с тетей: одинаковые разрез глаз и форма носа.
В машине было жарко. Сторожук расстегнул пальто. На его груди сверкнуло два ордена, которые заставила надеть жена.
– О! – удивилась гостья. – Ты был на фронте? Почему не писал об этом?
– Да нет, – смутился Гринь Петрович, – не был я на войне. А это, – дотронулся он до наград, – за другое… – И замолчал, поскольку хвалить себя было неловко.
– Он воюет на поле! – пришла на выручку Василина Ничипоровна. – За урожай! Его бригада на всю область гремит! Портрет вашего племянника на Доске почета в райцентре.
Гостья не поняла, что такое Доска почета и почему Гринь Петрович «гремит». Председательнице пришлось объяснять.
– О’кей! – кивнула довольная тетя Михайлина. – Хорошо! Молодец! А какой у вас сегодня праздник? – вдруг спросила она.
– Как? – в свою очередь удивился Гринь Петрович. – Вас встречаем…
– Да? – округлила глаза гостья. – Из-за меня не вышли на работу, правильно я поняла?
Племянник согласно кивнул.
– А хозяин разрешил? Убытка не будет?
Гринь Петрович и Василина Ничипоровна не знали, что и сказать. Поймет ли заокеанская родственница, ведь тут все иначе, чем у них, в Канаде. Как объяснить наши порядки?
Сегодня им начальство само дало добро. А сколько не выходят на ферму или в поле из-за того, что нужно ехать в район за какой-нибудь пустяковой справкой (порой не раз и не два) или же везти чинить телевизор, стиральную машину? Не говоря уже о тех, кому важнее продать клубнику или черешню с приусадебного участка на городском рынке, чем отработать в колхозе. Ну а убытки?… Попробуй взыщи!
Разумеется, этого гостье говорить не следовало, особенно после установки из района «показать товар лицом».
– А мы сами себе хозяева! – бодро ответила голова колхоза.
Тетя Михайлина на секунду задумалась, но больше расспрашивать не стала, схватившись за кинокамеру: ее внимание привлекли добротные красивые дома сельчан, расписанные по фасаду картинами в лубочном стиле. Она снимала до тех пор, пока машина не остановилась у ворот дома Гриня Петровича, где поджидала огромная толпа кринчан.
– Это тоже ради меня? – снова удивилась гостья и, услышав утвердительный ответ, заметила: – У нас в Канаде так встречают только президентов!
Ганна Николаевна, представленная мужем, заключила тетю Михайлину в могучие объятия и повела в дом. Гостья не удержалась, чтобы не сфотографировать колодец во дворе – подлинное произведение искусства, хоть сейчас в музей народного творчества!
Ганна Николаевна отвела тетку в комнату, подготовленную для нее, и сказала:
– Отдыхайте с дороги… Может, приляжете?
– Нет, нет! – запротестовала гостья. – У меня большие планы. Съездить в Каменец, посмотреть на дом отца… И в Колгуевичи обязательно. Родина Ивана Франко!
– Успеется, – уговаривала хозяйка. – Вон откуда ехали, из-за океана! А в вашем возрасте это нелегко.
– О, я еще совсем молодая, – заулыбалась тетя Михайлина, обнажая ряд белых, красивых зубов, слишком белых и слишком красивых, чтобы быть своими. – Мне всего пять лет!
– Пять? – переспросила Ганна Николаевна, подозрительно глянув на гостью.
– Пять! – не переставала улыбаться та.
«Господи! – подумала хозяйка. – Часом, не с приветом тетка-то?»
Гостья, видя замешательство Ганны Николаевны, похлопала ее по плечу:
– Это в шутку. – И пояснила: – Понимаешь, милая Ганна, моя внучка Лайз отдыхала с мужем летом на одном из островов архипелага Мергуи, в Андаманском море. Там существует обычай: когда рождается ребенок, то ему как бы отпускают на жизнь шестьдесят лет. И счет ведется в обратном направлении… Понятно?
– Не очень, – призналась хозяйка.
– Ну, у нас как? Сначала ребенку год, потом два, три и так далее. А у них наоборот – шестьдесят, пятьдесят девять, пятьдесят восемь… Ясно?
– Теперь ясно.
– Вэл! Хорошо! – одобрительно кивнула гостья. – А если ты доживешь до нуля, то дают еще десять лет. Допустим, человеку шестьдесят пять. Тогда говорят: ему пять лет во второй жизни. Мне сейчас семьдесят пять, так что получается: я пятилетняя девочка в третьей жизни…
– Чудно! – покачала головой Ганна Николаевна.
– Но зато удобно для стариков! – засмеялась тетя Михайлина.
– Переодеваться будете? – поинтересовалась хозяйка, оглядев наряд гостьи – вельветовые брючки и свитер.
– Я так буду, – взяла ее под руку тетка Михайлина. – Ну, пойдем познакомимся с родными.
«Да, – подавила вздох Ганна Николаевна, – старый як малый».
Зашли в комнату, где был накрыт праздничный стол. Никто не садился – ждали почетную гостью.
«А наши-то куда наряднее», – с удовлетворением отметила про себя Ганна Николаевна.
И впрямь, на многих Сторожуках костюмы и платья – даже на прием в Кремль не стыдно было бы! Ну а насчет угощения хозяйка не беспокоилась: молочные поросята, индейки, куры, домашняя колбаса и окорок, своего приготовления маринады и соленья, пышные румяные пироги и караваи. Ароматы и запахи стояли такие, что и у сытого потекли бы слюнки.
Увидев все это великолепие, тетя Михайлина бросилась за фотоаппаратом, влезла на стул, щелкнула затвором. И тут же, к удивлению присутствующих, извлекла из камеры… готовый цветной отпечаток.
Всем хотелось посмотреть фото. Орыся тоже разглядывала его как чудо. Стоявший рядом Лев Владимирович тихо пояснил, что аппарат – системы «Полароид».
– У меня в Москве такой же. Правда, трудно с фотоматериалами к нему, но на вас я не пожалел бы… – многозначительно добавил он.
Переводчик, как только зашел в дом Сторожуков, сразу прилип к Орысе и не отходил от нее ни на шаг. И когда наконец сели за стол, устроился рядом.
Поднялась Василина Ничипоровна и произнесла в честь гостьи целую речь. Лев Владимирович шепнул на ухо соседке:
– Выручайте, Орыся, по-украински я ни бум-бум.
Она хихикнула и тоже шепотом спросила:
– Зачем же вас послали с тетей Михайлиной?
– Положено, вот и поехал, – усмехнувшись, ответил работник «Интуриста».
Орысе пришлось переводить ему с украинского языка на русский. Лев Владимирович под этим предлогом придвинулся к ней еще ближе.
Угощение шло на ура. Еще бы, все здорово нагуляли аппетит на морозе. Гринь Петрович, сидящий по правую руку тетки Михайлины, предлагал ей то кусок поросятины, то ломоть окорока, то индюшачью ножку. Но старушка от всего отказывалась. Она положила себе на тарелку куриное крылышко и пару кружочков свежего огурца. К знаменитому хлебу Ганны Николаевны она даже не прикоснулась.
– Хоть пирога отведайте, – попросила Ганна Николаевна, сидевшая по левую сторону тети Михайлины. – Слоеный…
– Нет! Нет! – замахала руками гостья. – Вредно!
– Как? – растерялась хозяйка. – Аль хвораете чем?
И на самом деле, тетя Михайлина выглядела такой тощенькой по сравнению с упитанными, как говорится, кровь с молоком, представительницами среднего и старшего возраста Сторожуков.
– Совсем наоборот! – возразила тетя Михайлина. – Я здорова! Но не хочу заболеть. У нас это слишком дорогое удовольствие.
– От чего тут заболеешь? – встревожилась Ганна Николаевна. – Все свежее, свое. Яички, мясо, масло…
– Да разве можно есть вместе мясо, яйца, картошку, хлеб? – ужаснулась старушка.
– А кто ест мясо без гарнира да еще без хлеба? – вытаращилась на нее Ганна Николаевна.
– Нет, белки надо есть раздельно с углеводами, а крахмал отдельно с белками! – заявила гостья. – Белки с белками тоже вредно! По системе Шелтона!
– Кого-кого? – переспросила Ганна Николаевна.
– Неужели вы не слышали о нем? – удивилась тетя Михайлина. – Шелтон – знаменитый американский врач! Благодаря его системе я не знаю теперь, что такое обращаться в больницу.
– Да разве худой человек – здоровый? – не выдержав, со вздохом заметила Ганна Николаевна, которая была задета за живое.
– А как же! – закивала гостья, смотревшаяся рядом с Ганной Николаевной невзрачной пичужкой. – Надо избавляться от лишнего веса.
– Пусть уж молодые думают о фигуре, – отмахнулась та, – а в мои годы…
– О чем ты говоришь! Вот моему зятю пятьдесят два года. В прошлом году он весил восемьдесят килограммов, а в этом – семьдесят пять! Так что он получил прибавку к жалованью пятьдесят долларов.
– А при чем тут жалованье? – удивился Гринь Петрович.
– На фирме, где он работает, такой порядок: за каждый килограмм сброшенного веса прибавляют десять долларов.
– Ну а фирме какой резон в этом? – еще больше удивился Гринь Петрович.
– О, большой! Выгодно! Худые болеют меньше. Они всегда бодрые, энергичные…
– Сало, значит, тоже не употребляете? – спросила Ганна Николаевна.
– Избави боже! – ужаснулась тетя Михайлина.
– А твой зятек тоже не ест мясо и сало? – встряла в разговор бабка Явдоха, самая старая из Сторожуков.
– Конечно.
– А как же он с жинкой? – покачала головой местная старейшина. – Я б такого мужика на ночь не пускала…
Слова бабки Явдохи потонули в хохоте. А когда смех утих, поднялась председатель сельисполкома и стала говорить о родной земле, которая всегда остается родной для украинцев, где бы они ни были.
– Дорогая Павлина сказала верно, – сказала старушка. – Мы там, в Канаде, не забываем о родине! О, вы представить себе не можете, сколько народу каждый год приезжает в Виннипег на фестиваль украинского искусства в день рождения Тараса Шевченко! Стихи его читают! – Она вздохнула. – Увы, к сожалению, чаще в переводе на английский. А вот песни поем на родном, украинском!
И посетовала, что ее поколение еще помнит и чтит национальные традиции, а вот молодежь…
– Наши, думаешь, лучше? – показала на девчат и парней за столом бабка Явдоха. – Попроси их спеть добрую старую песню – куда там! Эх, жаль Анна не приехала, ее бабушка, – кивнула она на Орысю. – Столько знает песен!
– А почему она не приехала? – поинтересовалась гостья.
– Старик у ней хворает. Спина, плечи… Согнуться-разогнуться не может.
– Надо было написать мне в Канаду, я бы помогла ему. Подруга моей старшей дочери работает по контракту в Китае. Ее отец тоже страдает воспалением суставов, так она прислала ему жилет. Теплый и в то же время лечит. Понимаете, в жилет этот вшита целебная трава, действует через кожу.
– Ишь, до чего додумались, – покачала головой бабка Явдоха. – Ну что ж, уважь, милая… Ну а насчет того, что нет Анны – ладно, не беда. Мы Орысю попросим спеть. Хорошо девка спивае.
– А ты только что ругала молодежь, – улыбнулся Гринь Петрович.
Он встал и сказал тост за молодое поколение Сторожуков, пожелав им быть всегда и везде первыми, присовокупив, естественно, и внуков тети Михайлины.
Старушка расчувствовалась, принесла фотографии. У нее было семь внуков.
– А это моя любимица, Мэри, Машенька. – Она с любовью погладила рукой снимок загорелой девчонки в костюме для тенниса.
Фотографии стали переходить из рук в руки.
Здравицы следовали одна за другой. Глядя на гостей, Ганна Николаевна радовалась: уплетали ее стряпню за обе щеки вопреки всяким там заокеанским умникам, вроде этого Шелтона.
Лев Владимирович тоже ел и нахваливал, уверяя Орысю, что такой вкусной, истинно украинской кухни нигде не пробовал, хотя ему приходилось бывать в самых лучших ресторанах в различных городах страны, в том числе и в Киеве. Услышав, что Орыся хорошо поет, он шепнул ей:
– Это уж слишком.
– Что слишком? – не поняла Орыся.
– Понимаете, когда я увидел вас, просто не поверил: такой цветок! И где? В провинции! – Он отстранился, чуть прикрыл темные глаза, потом снова приблизился. – Изыск! Какой элегант! И оказывается, ко всем вашим совершенствам – еще голос! Жажду услышать.
– Смотрите не разочаруйтесь, – с улыбкой ответила Орыся. – Небось там, в Москве, в театрах наслушались…
– Сказать честно, даже надоело. «Пиковую даму» в Большом слушал раз двадцать, не меньше. Куда прежде всего бегут иностранцы? В Большой театр!
– А я как-то хотела пойти, но не смогла достать билеты.
– Бог мой, я бы устроил это в пять минут! Для «Интуриста» – не проблема! Куда хотите: самая лучшая гостиница, ресторан «Седьмое небо» на Останкинской башне, Алмазный фонд, Театр на Таганке!.. – Переводчик достал из бумажника свою визитную карточку и торжественно протянул Орысе. – Ваш покорный слуга!
– Даже не знаю, когда выберусь в Москву, – сказала Орыся, беря визитку.
– По первому звонку – у ваших ног! – заверил Лев Владимирович и еще тише добавил: – А если вас интересует «Березка», ну там что-нибудь такое-этакое, могу помочь с чеками.
– Это как раз меня не интересует, – небрежно ответила Орыся.
И сказала правду.
– Да вы, вероятно, не знаете, что там можно купить то, чего больше нигде не достанешь!
Орыся, вспомнив Сергея, его подарки, загадочно улыбнулась. Льва Владимировича это задело.
– Ну, например, косметику от Диора.
– У меня есть, – спокойно сказала молодая женщина и, чтобы не быть голословной, открыла сумочку и продемонстрировала флакончик духов, губную помаду, набор теней, тушь и пудру этой знаменитой французской фирмы.
У переводчика даже челюсть слегка отвисла: сколько стоил косметический набор Орыси, Лев Владимирович знал.
– Были бы деньги, – усмехнулась она, потом уже серьезно сказала: – А насчет гостиницы я, возможно, обращусь к вам. Поможете?
– Да-да, – закивал работник «Интуриста», приходя в себя. – Какую пожелаете.
– Где-нибудь в центре. Получше, подороже…
Раньше, когда она задерживалась в столице проездом из Средневолжска, то радовалась койке где-нибудь в «Заре» или «Останкино» за ВДНХ. Но Сергей приучил ее к роскошным номерам, и на другое теперь Орыся не согласилась бы.
– Непременно сделаю! – уважительно произнес Лев Владимирович. – И лучше, если вы дадите знать заблаговременно. Я бы вас встретил. В моем распоряжении очень часто бывает авто, когда обслуживаю какого-нибудь бизнесмена или зарубежного общественного деятеля.
– А вот встречать не надо, – решительно отвергла предложение Орыся. – Тачка – самое милое дело. Ни от кого не зависишь.
Так называть такси приучил ее тоже Сергей. Это слово, сказанное небрежно, также произвело впечатление на переводчика. Он склонил голову и развел руками: как, мол, будет угодно.
За светской беседой с Львом Владимировичем Орыся не заметила, что тетя Михайлина, показав на нее, негромко спросила Гриня Петровича:
– Она что, артистка?
Сторожук затруднился с ответом. Зато Наталья Шалак с улыбкой сказала:
– Орыся у нас безработная.
Тетя Михайлина изменилась в лице, поохала и незаметно вышла.
Слово «безработная» Орыся услышала, но не знала, что оно относится к ее персоне. Лев Владимирович увлек ее историей о том, как был переводчиком одного отпрыска короля с Востока, приехавшего к нам туристом. Малый замучил его, требуя повести в злачные места: дом свиданий, порнокинотеатры, на худой конец – бары со стриптизом.
– Я ему объясняю, что у нас нет подобных заведений, – рассказывал работник «Интуриста». – Предлагаю балет на льду, Театр кукол Образцова, Музей Пушкина. Третьяковка закрыта на реконструкцию… А он уперся – малинки хочет. Скандалист, грозится прервать поездку… Представляете мое положение?
– Вполне, – кивнула со смехом Орыся.
– Так вот… – хотел было продолжить переводчик.
Но как он выкрутился из щекотливого положения, Орыся так и не узнала. На ее плечо легла рука тети Михайлины.
– Прости, дочка, можно тебя на минутку? – наклонилась она к Орысе.
– Да, конечно, – поднялась та.
Тетя Михайлина как-то нежно, по-матерински обняла ее за талию, повела в соседнюю комнату через дверь, которая находилась рядом со стулом Орыси. Лев Владимирович, Наталья и еще несколько человек невольно обернулись вслед.
Как только они переступили порог, канадская родственница горячо заговорила:
– Орысенька, милая, вот, прими от меня! – И старушка вручила ей точно такую же шубу, в какой приехала сама.
– Зачем? – удивилась Орыся.
– Я знаю, что такое быть без работы! Не дай бог! Продашь, это тебе немного поможет, – продолжала старушка с выражением искреннего сочувствия.
Орыся увидела в проеме двери любопытные лица переводчика, Наталки. Вспомнилось вдруг слово «безработная», сказанное сестрой.
«Какой позор!» – ударило в голову. К щекам прилила кровь, и Орыся буквально лишилась дара речи.
– Я понимаю, это мало, – засуетилась тетя Михайлина. – Погоди… У меня есть…
Она достала откуда-то доллары и стала совать в руки «бедной родственницы». Орыся машинально отстранилась, оглянулась. Ей показалось, что Лев Владимирович саркастически усмехнулся.
Орыся смутно помнила, что было дальше. Как она отшвырнула шубу, пробежала через комнату, сопровождаемая удивленными взглядами, как сорвала в прихожей дубленку с вешалки, схватила шапку, мохеровый шарф и выскочила на улицу…
По дороге ехал самосвал. Она подняла руку. Шофер, молоденький парень, тут же тормознул, проскользив юзом мимо. Орыся подбежала к машине, влезла в кабину. Видя, что на ней прямо-таки нет лица, шофер испуганно спросил:
– Что с вами?
Орыся не ответила, неслушающимися пальцами расстегнула сумочку, вынула первую попавшуюся купюру – четвертной – и протянула парню:
– В Трускавец!
Он нахмурился, передернул рычаг скоростей:
– Спрячьте деньги. Так отвезу. Все равно по дороге.
Орыся кусала губы, глядела на проплывающие мимо нарядные дома и ничего не видела.
«Старуха спятила, что ли? – бушевало у нее все внутри. – Предлагать барахло, как какой-то нищенке! И кому – мне! Да я сама могу купить ей сто таких шуб!»
Но еще больше злости было у Орыси на Наталку, что ляпнула про безработную.
Она вспомнила Льва Владимировича, их разговор и ужаснулась: что он теперь подумает о ней?!
Водитель, краем глаза наблюдавший за пассажиркой, осторожно спросил:
– Может, поделитесь, какая у вас беда?
Орыся молча помотала головой. И тут весь позор и стыд пережитого вылился истерикой. Слезы полились из глаз, смывая с ресниц тушь.
Когда она вышла из машины в Трускавце, шофер проводил ее таким жалостливым взглядом, будто она была тяжело больна.
Тетя Катя, увидев зареванную хозяйку, всполошилась, бросилась раздевать.
– Оставьте меня в покое! – выплеснула на нее свою злость Орыся.
Зайдя в комнату, она громко хлопнула дверью и повалилась на кровать.
На следующее утро тетя Катя ходила по флигелю неслышно, как мышь, а в комнату Орыси боялась даже заглянуть. Подойдет тихонечко к двери, прислушается, не позовет ли Орыся, и уйдет в особняк заниматься своими делами.
В первом часу, прибрав в комнатах постояльцев и сменив постельное белье, тетя Катя вошла во флигель с собранными у квартирантов деньгами. И у нее отлегло от сердца: Орыся сидела в кресле в накинутой поверх ночной сорочки норковой шубе. Крицяк знала: если та напялила подарок хахаля, значит, настроение в норме.
– Сергей не был? – встретила вопросом Орыся свою верную помощницу.
– Не был, не был, – успокоила ее тетя Катя. – И не звонил.
Она хотела расспросить, как прошла встреча заграничной родственницы, но не решилась: захочет, сама расскажет.
Крицяк протянула хозяйке деньги – проверить, пересчитать. Но Орыся только отмахнулась. Положив выручку на стол и потоптавшись, тетя Катя вышла.
Орыся встала, потянулась, глянула на себя в зеркало и усмехнулась: видела бы ее сейчас тетя Михайлина. Как ей идет жемчужный цвет меха! Вчерашний эпизод показался мелким и глупым.
«И чего это я так психанула? – подумала Орыся. – Конечно, если бы не этот московский переводчик… Впрочем, да ну его! Возьму появлюсь в Москве, приглашу в самый шикарный ресторан, выставлю пить-есть рублей на двести, вот тогда узнает меня по-настоящему!»
От этих мыслей последние отголоски вчерашнего события растворились полностью, уплыли прочь. Ей вдруг нестерпимо захотелось видеть Сергея, мчаться куда-нибудь в его «Волге» или сидеть с ним в отдельном кабинете ресторана, где приглушенный свет и сигаретный дым рождают удивительную реальность, наглухо отгороженную и отличную от той, где люди живут склоками и завистью, мелочными заботами и повседневным рутинным трудом.
Глядя на свое отражение в трюмо, Орыся подумала: неужто это та, совсем еще недавно неприкаянная, закомплексованная женщина, какой она была до Сергея?
Знакомы они полтора месяца, а как изменилась ее жизнь, отношение к окружающим, а главное – к себе самой!
Красива она по-прежнему, может быть, даже стала лучше. А вот счастлива ли? Этого она определенно сказать не могла. Но увереннее стала и спокойнее – это точно. Может, в этом и заключается счастье?
Сергей словно снял с нее груз колебаний, четко определил ценности, расковал как человека и как женщину. Он сказал: нужно забыть, что было прежде, и она постаралась забыть. Даже все фотографии сына сняла со стены (все до единой!). Сергей сказал: не нужно ничего бояться, и Орыся перестала бояться. Разве что остался инстинкт самосохранения – не делать того, что вызвало бы гнев Сергея. Ну и житейское: как ни хотелось покрасоваться в норковой шубе, но в Трускавце Орыся ни разу ее не надела. Зачем дразнить гусей? Вот поедет в Москву или еще куда-нибудь – пожалуйста. Никто ее там не знает.
Она даже не думала теперь о том, что нигде не работает. Сергей пообещал что-нибудь сообразить, а раз пообещал, значит, сделает.
Как-то Сергей бросил: живем один раз, и сколько ты тратишь на себя, столько, выходит, и стоишь.
После этого она уже не замечала пачки денег, которые он швырял направо и налево, не удивлялась безумным подаркам, с которыми не знала, в сущности, что и делать.
Главное – значит, она их стоит.
Единственное, к чему Орыся не могла пока привыкнуть, так это к внезапным исчезновениям и таким же неожиданным появлениям Сергея. Он мог пропадать день, два, а то и неделю, а потом вдруг приехать. Причем в любое время суток. И каждый раз Орысю поражало, что Сергей знает каждый ее шаг в его отсутствие. Но ревность этого властного, крутого человека ей даже нравилась. В ней она ощущала залог того, что Сергей все время помнит о ней и для него Орыся – что-то очень серьезное.
Сама она нервничала, если он не появлялся день-другой, и страх, что Сергей может и вовсе не появиться, нет-нет да и закрадывался в душу.
Расстались они третьего дня, пора бы ему и приехать.
В норковой шубе стало жарко. Орыся с сожалением повесила ее в шкаф, накинула халат и села завтракать, делясь с тетей Катей впечатлениями о встрече канадской родственницы (о последнем эпизоде она, естественно, умолчала). Крицяк, обрадованная хорошим настроением хозяйки, слушала в оба уха и подсовывала Орысе самые вкусные вещи.
А Орыся все время прислушивалась, не остановится ли у калитки автомобиль, не раздастся ли звук открываемой двери и такие знакомые шаги.
Прибрав на кухне и сполоснув посуду после Орыси, тетя Катя побежала на свою квартиру – собрать дань с курортников. И только она за порог, как возле дома заглушила двигатель машина. У Орыси радостно екнуло в груди: наконец-то Сергей! Она бросилась к окну. К ее огромному разочарованию, во двор вошла Наталка Шалак, семеня своей утиной походкой, держа под мышкой большой сверток.
– Вот принесла нелегкая! – вырвалось у Орыси.
Первое побуждение – запереться и не открывать! Но сестра уже обивала на крыльце налипший на сапоги снег и звук запираемого замка наверняка услышала бы.
– Привет, безработная! – Зайдя, Наталка потянулась к Орысе с поцелуем.
– Здорово, провокаторша. – Орыся, криво улыбнувшись, подставила щеку.
– Ну и переполошила ты канадскую бабку, – сказала Наталья. – Расстроилась старуха вусмерть… На, держи, – сунула она сверток хозяйке.
Орыся развернула – злополучная шуба.
– Уф-ф! – вырвалось у нее.
– Возьми-возьми, а то неудобно. Я дала слово Михайлине, что передам.
– А доллары прикарманила? – съязвила Орыся.
– Нужны они мне! – фыркнула Шалак, снимая пальто. – Скажи лучше, какая муха тебя укусила?
– Она еще спрашивает! – возмутилась Орыся. – Осрамила на виду у всех! Ты хоть думай, когда что ляпаешь! Перед своими еще куда ни шло.
– Так Михайлина, считай, тоже своя, родственница! Я ведь в шутку, и если она поняла по-своему… – Наталья развела руками.
– А этот москвич, Лев Владимирович!
– Он ничего не слышал.
– Ну да, не слышал… – нахмурилась Орыся.
– Ей-богу! Да и все наши ничего не поняли! Удивились, почему ты драпанула как оглашенная, – уверяла сестра. – Уже потом Михайлина мне по секрету рассказала, что там у вас произошло. Попросила тебя не обижаться, если что не так. Говорит, хотела от души.
Орыся недоверчиво смотрела на Шалак.
– Правда, не слышали?
– Факт!
– Тогда еще ничего, – сказала хозяйка, приглашая гостью в комнату. – Долго еще сидели?
– Какой там! Михайлина сорвала всех, потащила в село Иван Франко. Правда, называла его по-старому, Колгуевичами.
– А чего ей там надо? – удивилась Орыся.
– Что ты, у нее железный план мероприятий! После посещения Воловичей – осмотр Музея Ивана Франко в селе, где он родился… Съездили в Каменец…
– Господи, вы еще и в Каменец мотались? – поразилась Орыся.
– Ну а как же! Тетке Михайлине не терпелось взглянуть на дом, где родился дед Остап. Представляешь, у нее фотография сохранилась. Старая-престарая. Хатка под соломенной крышей, вишневые деревья у крыльца… Так забавно!
Она даже привезла с собой план села, где кружком отмечен отчий дом. Но хатки, естественно, давно уже нет, на том месте школа теперь.
– Представляю, как огорчилась старушка.
– Конечно. Ну а потом все пошли к Марийке, – рассказывала дальше Шалак.
– К агрономше или к доярке? – уточнила Орыся.
– К доярке… Та подготовилась не хуже тети Ганны. Жратвы полон стол! А мы еще не очухались после стряпни Ганны Николаевны. Тетка Михайлина, сама понимаешь, ни к чему не притронулась, так что пришлось ее песнями угощать. Нашими, народными… Она знай только кассеты меняла.
– На магнитофоне, что ли?
– Ага. Страсть у иностранцев – все заснять, записать, зафиксировать. – Наталья хихикнула.
– Довольна, значит?
– Бог ее знает, – вздохнула Наталья. – Вышла потом на кухню и расплакалась.
– Они, старые, все такие. Чувствительные, – заметила Орыся.
– Я тоже так подумала, а когда послушала… – Наталья задумчиво покачала головой.
– И что же она рассказала такого? – спросила Орыся.
– Несладко, оказывается, старушка живет, ой, несладко, – снова вздохнула Шалак.
– Тю-у, – протянула Орыся. – Объездила весь свет. А такие путешествия небось в копеечку обходятся! Теперь к нам прилетела. Лев Владимирович говорил, что один только билет сюда и обратно у них стоит как автомобиль. Не новый, конечно, но машина!
– Э-хе, я сама думала, что она богатая. А оказалось? По разным странам тетя Михайлина ездила по контракту, зарабатывала. Особенно намаялась со вторым мужем. Он так и помер безработным.
– Ты смотри! – все больше удивлялась Орыся.
– Поняла теперь, почему она тебе шубу совала? – Хозяйка кивнула, а Шалак продолжала: – Знаешь, откуда у нее эти шубы? Последний, третий муж тети Михайлины занимался мелкооптовой продажей верхней одежды… Между прочим, негр, мистер Самюэль.
– Негр? – округлила глаза Орыся.
– Фото показывала. Здорово похож на Баталова, только черный. Так вот, закупил как-то мистер Самюэль партию искусственных шуб, а они не пошли. Мода изменилась или еще что, не знаю, только почти вся партия осталась у него. Словом, прогорел ее муж. А мы еще удивлялись: как посылка из Канады, так в ней две, три шубы, и все одинаковые. Что же касается приезда сюда – тетке Михайлине денег дал зять да местная украинская община помогла. Сама старуха не осилила бы ни в жизнь.
Наталья замолчала, грустно глядя в окно. Орысе стало не по себе за свое вчерашнее поведение. Но ведь она ничего не знала.
– Я поняла, почему тетя Михайлина расплакалась, – снова заговорила Шалак. – Понимаешь, на кухне увидела, как Марийкина мать пищу с тарелок – прямо в помойное ведро. Ели-то мало… Старушка поразилась: кому это? Мать Марийки тоже удивилась: как – кому, кабанчику… Тетя Михайлина тут и расплакалась. Я, говорит, думала, вы здесь живете впроголодь, покушать, надеть нечего… Ну так в ихних газетах писали. В магазинах, мол, пусто… Сама перебивалась на пособие по безработице, а слала посылки… Вышивала украинские рубашки для продажи, глаза испортила…
– Как испортила? Читает-пишет без очков.
– Это у нее контактные линзы… Колечко было золотое, еще от матери осталось, и то продала. А мы, оказывается, целые куски курятины, мяса, пирогов, хлеба – на откорм кабанчика! Задело, видать… Понять ее можно. В сущности, старушка душевная. Ехала к нам, подарки везла. Недорогие, сувениры, так сказать. – Шалак снова улыбнулась. – Смех, да и только. Бабке Явдохе знаешь что подарила? Микрокалькулятор, вот такой, с карманный календарик.
– А на кой ляд он Явдохе? – прыснула Орыся.
– Чтоб та следила за количеством калорий в своей еде. Не переедала. Пожилым, мол, это особенно вредно.
– Вот дает! По-моему, у тетки Михайлины бзик на этой почве.
– Это точно, – согласилась Наталья и показала ключи от «москвича». – Мне тоже достался подарок.
На кольце болтался брелок – изящный никелированный пистолет.
– Надо отблагодарить старушку, – сказала Орыся.
– А как же! Нина Владимировна уже преподнесла ей десятитомник Ивана Франко. Ты бы видела, как она радовалась! Книги у них ужасно дорогие. Ну а мы, Сторожуки из Воловичей, решили скинуться и купить тетке Михайлине золотое колечко с камушком.
– Взамен того, что она продала? – усмехнулась Орыся.
– Да уж наше, наверное, будет подороже.
В Орысе взыграл размах, к которому приучил ее Сергей. Она решительно распахнула дверцу шифоньера и сняла с вешалки новенькую дубленку.
– Передай от меня, – сказала Орыся.
– Ух ты! – вырвалось восхищенно у Натальи. Она посмотрела на фирменный знак. – Бельгийская?! И тебе не жалко!
– Тетя Михайлина мне шубу, а я – дубленку, – засмеялась Орыся.
– Так старушка в ней утонет, – разочарованно произнесла Наталка, приложив к себе дубленку.
– Действительно, – огорчилась Орыся.
Но отступать не хотелось: сестрица еще посчитает ее жадной. И тут она вспомнила, что Кларе Хорунжей привезли из Ужгорода для дочери дубленый полушубок, весь расшитый национальным гуцульским узором. Сдается, он будет тете Михайлине в самую пору.
Орыся тут же позвонила подруге и предложила обмен – дубленку на полушубок. Клара даже не поверила в такое везение.
– Сейчас мы к тебе заедем, – сказала Орыся.
Когда они с Натальей вышли за калитку, Орыся опешила: к дому подходил… Лев Владимирович.
– Орысенька, дорогая, здравствуйте, – широко расставил он руки, словно хотел заключить ее в объятия.
– Какими судьбами? – сделала Орыся вид, что обрадована.
– К вам в гости.
«Этого еще не хватало!» – подумала Орыся и ответила:
– К сожалению, вот, спешим…
– Ну что ж, – улыбнулся переводчик, – тогда в другой раз.
Он посмотрел на ее особняк, поцокал языком:
– Прекрасное шале!
Чтобы поскорее увести его от дома, Орыся спросила:
– Куда вам? Можем подкинуть.
– Недалеко, в горисполком.
– Садитесь, садитесь, – настойчиво предложила Орыся, открывая заднюю дверцу.
Лев Владимирович с достоинством устроился на сиденье «москвича», думая, что Орыся сядет рядом. Но она залезла на переднее сиденье.
– Вы исчезли, как Золушка, – сказал обиженно переводчик. – А я все искал ваш хрустальный башмачок.
– Он вам не понадобился, – с улыбкой ответила Орыся. – Обнаружили меня и без башмачка.
Доехали до горисполкома в считаные минуты. Прощаясь, Лев Владимирович спросил:
– Наш уговор в силе?
– В каком смысле? – не поняла Орыся.
– Жду вас в Москве, чтобы устроить в гостинице «Космос».
– В силе, в силе…
– И все же я вас буду встречать, – пообещал Лев Владимирович, многозначительно задержав руку Орыси в своей руке.
– Вот пристал, – вздохнула она, когда «москвич» отъехал.
– Замучил меня вчера: куда ты пропала, почему. – Наталья покосилась на сестру. – Сразила, как видно, наповал.
Орыся промолчала.
Клара все еще не могла прийти в себя от счастья: заполучить такую дубленку!
– Давай поскорее, – торопила ее со смехом Орыся, – а то передумаю.
Полушубок Наталья одобрила – национальный колорит и размер подходящий.
– И теплее старушке будет, чем в искусственной шубе, – добавила Орыся.
– В Воловичи? – спросила Шалак, заводя двигатель.
– Нет, – отказалась Орыся.
– Почему? Не хочешь попрощаться с теткой Михайлиной? Она ведь завтра уезжает. Очень просила тебя приехать.
– Скажи, что нездорова.
Когда машина завернула в ее переулок, сердце у Орыси радостно забилось: возле калитки стояла «Волга» Сергея.
– Слава богу! – невольно проговорила вслух Орыся.
– Что? – недоуменно посмотрела на нее Наталка.
– Так, ничего… – ответила Орыся.
И подумала, как здорово, что она спровадила московского переводчика. Неизвестно, чем бы кончилась их встреча с Сергеем.
Часть третья
Направляясь в такси к Киевскому вокзалу, Валерий Платонович Скворцов-Шанявский вдруг подумал о том, что в суете и хлопотах последнего времени не заметил, как в город пришла весна. Она обрушилась в этом году внезапно, без подготовки. Еще десяток дней назад сыпала с серого неба белая крупа, прохожие кутались в зимние пальто, шубы, меховые куртки, а теперь вот разгуливают чуть ли не в пиджаках и кофтах. Бульвары и скверы в центре Москвы покрылись бледно-зеленой кисеей, а в воздухе, пропитанном бензиново-асфальтовой гарью, все явственнее ощущался тонкий аромат распускающихся листочков тополя.
Когда такси подъехало к зданию вокзала, башенка с часами которого золотилась в закатном небе, на душу Скворцова-Шанявского снизошло спокойствие: пусть все дела горят голубым огнем, главное – подлечиться и отдохнуть. Он уже предвкушал приятную поездку, конечно, если не испортит настроение попутчик – в СВ купе двухместные.
В вагоне была идеальная чистота. На полу в коридоре – ковровая дорожка, на окнах – накрахмаленные занавески. Проводница – стройная девушка – сама любезность.
В купе профессора сидело человек шесть: мужчина лет пятидесяти, остальные – молодые ребята. Все были смуглые. Черные волосы, чуть раскосые глаза. Речь восточная.
При появлении профессора старший поднялся и, улыбнувшись, произнес:
– Проходите, проходите, дорогой сосед! – Он сделал жест остальным выйти. – Располагайтесь, мешать не будем. – И тоже вышел, защелкнув дверь.
«С попутчиком, кажется, в порядке», – подумал удовлетворенно Валерий Платонович. Он переоделся в спортивный костюм, пристроил чемодан под сиденье и сел, блаженно откинувшись на спинку. С этой минуты профессор как бы начисто забыл Москву, связанные с ней хлопоты и неприятности, решив до возвращения ни о чем не думать.
Вскоре поезд тронулся, и в купе вошел сосед.
– Ну что же, будем знакомиться? – весело сказал он. – Мансур Ниязович Иркабаев.
– Рад познакомиться, – чуть наклонил голову Валерий Платонович и, назвав себя, спросил: – Из Узбекистана?
– Совершенно верно, – улыбнулся Иркабаев и уточнил: – Из самой жемчужины Узбекистана – Ферганской долины… А вы москвич?
– Москвич, – кивнул профессор.
– И куда едете, если не секрет?
– Какой секрет? – вздохнул Скворцов-Шанявский, потерев правый бок. – Лечиться.
– О, я тоже в Трускавец! – радостно сказал Мансур Ниязович, но радость в его глазах быстро сменилась грустью. – Век бы не видел этого курорта, «Нафтусю»! – Он провел рукой по пояснице.
– Почки? – сочувственно осведомился Валерий Платонович.
На лице Иркабаева промелькнуло страдальческое выражение.
– Шесть лет как наградили…
Профессора удивило слово «наградили», но расспрашивать посчитал невежливым.
Вошла проводница, чтобы взять билеты. Мансур Ниязович спросил, есть ли кипяток.
– Чай будет минут через пятнадцать, – сказала проводница.
– Прости, невестушка, но заварка у меня своя, – улыбнулся Иркабаев.
– Пожалуйста, титан – в конце коридора.
Попутчик профессора достал из сумки заварной чайничек, расписанный восточным рисунком, сыпанул в него добрую пригоршню чая и вышел. Когда он вернулся, купе наполнилось знакомым профессору ароматом.
– Чай не пьешь – откуда силы возьмешь! – весело сказал Иркабаев, извлекая из сумки кишмиш, чищеные ядра грецкого ореха, миндаль, чуть раскрытые соленые косточки урюка, курагу и восточные сладости. В довершение всего он положил на столик неправдоподобной величины лимон.
Глядя на эти приготовления, Валерий Платонович вспомнил Самарканд. Знойное марево, синие изразцы Биби-Ханым и Гури-Эмира, величественный Регистан. В тамошней чайхане профессора потчевали тем же традиционным набором угощений. Правда, он так и не понял, почему узбеки сначала пьют чай, а потом уже едят плов и другую серьезную пищу. Как бы там ни было, поездка в солнечную республику была успешной. Он был рад повторить вояж, но над его местными друзьями пронеслась буря…
Скворцов-Шанявский с благодарностью принял из рук Иркабаева пиалу с зеленым чаем, заметив:
– Сколько молодежи вас провожало…