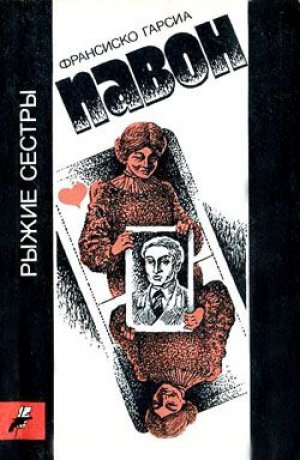
Осеннее утро
Мануэль Гонсалес, по прозвищу Плинио, в честь мудрого Плиния, начальник МГТ, другими словами – Муниципальной гвардии Томельосо (провинции Сьюдад-Реаль), по привычке вскочил с постели ровно в восемь утра. Похоже, в голове у него были часы, потому что едва на башне пробил первый удар, как он почувствовал томление в веках, разомкнул слипшиеся от сна ресницы и взглянул на белый свет с чувством человека, впервые и неторопливо вступающего в жизнь. До четвертого удара он приходил в себя. С восьмым ударом, он всегда – как и в то утро, о котором идет речь, – уже сидел на краю постели и скреб в затылке, уставившись на ряды ракушек и раковин, которые красовались на мраморной крышке швейного столика со времен первого пришествия.
Пока он так, полуголый, сидел, Грегория, его жена, принесла ему отглаженную серую летнюю форму и до блеска начищенные черные штиблеты.
Надев форменный костюм, подпоясавшись ремнем с положенным по уставу пистолетом и прямо, без всякого кокетства, нахлобучив фуражку, он вышел в выбеленный известью дворик, где был колодец, росла смоковница, вились виноградные лозы и выстроились в ряд цветочные горшки. Он бросил равнодушный взгляд на небо, в ясной голубизне которого в то утро плавали крепкие, белые, словно игрушечные облачка.
К нему подошла дочка Альфонса и, поздоровавшись, подала чашечку черного кофе, которым Плинио баловал себя каждое утро. Пока Плинио молча пил кофе, «его женщины», благоразумно держась в отдалении, наблюдали за ним, как всегда, со сдержанной нежностью. Затем, все так же не проронив ни слова, он вытащил кисет, набил папиросу, закурил, глубоко затянулся и, выпуская дым через нос и рот, сказал:
– Ну, все. Я пошел. Какие будут поручения?
– Ты обедать придешь?
– Да.
– Не забудь сказать лавочнику, что оливкового масла у нас только на сегодня.
– Ладно. А тебе, дочка, что-нибудь надо?
– Нет, отец.
И, не пускаясь в дальнейшие разговоры, он окинул их взглядом, коротко улыбнулся, поднял в знак прощания правую руку и, выйдя через калитку, ибо парадным входом пользовались лишь в особых случаях, направился к муниципалитету.
Он всегда шел одной и той же дорогой. По пути каждый раз слышал почти одни и те же приветствия, обменивался одними и теми же репликами:
– Добрый день, Мануэль.
– Бог в помощь, начальник.
– Грех на погоду пожаловаться, Мануэль, денек-то прямо июньский.
Плинио, не выпуская изо рта папиросу, отвечал односложно, а то просто улыбкой или кивком головы.
Женщины, подметавшие у дверей домов, прекращали свое занятие и пропускали его. Был понедельник, и на улице то и дело попадались грузовики с прицепами и сновали мотоциклы. Не все еще закончили сбор винограда, но большинство уже сдало виноград в кооператив. В это раннее утро на улицах царили светлое, великолепное и немногословное оживление. Утром жизнь еще не давит. А к вечеру навалятся дневные заботы и все станет тяжелее, громче и не так чисто, как утром.
Маноло, самый старый парикмахер в селении, он до сих пор еще плел камышовые стулья и играл на гитаре, как обычно в это время открывая свое заведение – «Мужскую парикмахерскую», спросил Плинио:
– Ты, Мануэль, виноград продал или сделал вино?
– Продал.
– А дон Лотарио как всегда?
– Само собой… – коротко ответил Плинио, не останавливаясь.
– Замечательный он человек…
У дверей муниципалитета караульный приветствовал Плинио по уставу, но довольно вяло:
– Никаких новостей, начальник.
В вестибюле под надзором ефрейтора Малесы происходила смена караула. Восемь или десять караульных, обросшие, со слипающимися ото сна глазами, сдавали ночное дежурство, а десять новеньких, свежевыбритых, подтянутых, как молодые деревца, прихватив сигареты, парами выходили в караул.
– Есть происшествия? – спросил Плинио у Малесы в ответ на его приветствие.
– Никаких, начальник. В городе мир и порядок, – ответил тот привычной скороговоркой. – Если у вас нет срочных распоряжений, то ефрейтор отбывает завтракать в бар «Лови».
Плинио вошел в свой кабинет – кабинет начальника МГТ. Глянул на лежавшие на столе газеты. Завел стенные часы, оставшиеся от времен, когда алькальдом был дон Хесус Ухена, и бросил взгляд на тонкую сияющую серебряную пластинку, висевшую над его креслом: «Его превосходительство сеньор Министр от себя лично и от имени славного сеньора Генерального директора Управления безопасности назначает ПОЧЕТНЫМ КОМИССАРОМ бригады уголовного розыска дона Мануэля Гонсалеса Родриго, начальника Муниципальной гвардии Томельосо, принимая во внимание его выдающиеся заслуги…» – и т. д. и т. п.
Потом он подошел к окну и стал смотреть, как по пригородной улице снуют люди: одни шли с рынка, другие – на рынок с плетеными или пластмассовыми корзинами в руках. Люди неуклонно следовали раз навсегда заведенному порядку и привычкам, и Плинио почти наверняка мог сказать, кто сейчас покажется на улице, кто войдет в мясную лавку Каталино, с кем остановится поболтать Херонимо Торрес, и совершенно безошибочно – кто выйдет из церкви после утренней мессы. Эта площадь, его площадь, была для Плинио подмостками, на которых каждый день развертывалось одно и то же представление, где звезды и статисты менялись очень редко. Вот прошли судейские писцы. Перед зданием Банка Испании прогуливаются служащие. Просигналил мотокар развозчика молока. Служанка Хулиты Торрес выбивает ковры… Ему припомнилось, что происходило здесь двадцать лет назад… Луис Марин, отец, всегда сначала выкуривал папиросу в дверях дома и только после этого выходил на улицу. Давид в этот час открывал магазинчик Анхеля Субриеты. Анибал Талайя потирал руки у дверей бара «Бразилия», приходский священник дон Элисео возвращался из церкви домой…
Так до девяти Плинио простоял у окна, разглядывая улицу и перебирая обрывки воспоминаний, а в девять вышел на площадь и направился в кондитерскую к своей доброй знакомой и поклоннице Росио.
Там, среди женщин, занятых пончиками, кренделями и пышками, с краю у стены, рядом с кофеваркой, уже сидели Браулио-философ и ветеринар Лотарио.
– А вот и он, – сказала Росио, завидев Плинио, но не отрываясь от теста, из которого она лепила пончики, – занял почетную должность комиссара – и стал бриться каждый день, а не два раза в неделю, как прежде.
Плинио, не вникая особенно в смысл слов кондитерши, негромко поздоровался.
Браулио-философ, у ног которого стояла плетеная корзина с бутербродами и огромным арбузом, выставлявшим свою луноподобную лысину из-под крышки, сказал, как бы продолжая уже начатый разговор:
– А я утверждаю, что все на свете – сплошная ошибка и нелепость, и величайшая нелепость природы, главная ее ошибка – человек и ею жизнь.
– А собачья жизнь – тоже ошибка? – спросил Плинио очень серьезно.
– Собачья – нет. Собакам, ослам, слонам, китам, клопам и всем прочим живым тварям, которые ползают по земле, летают или плавают, просто умишка не хватает, чтобы осознать, в какую ловушку они попали, а человек, только у него извилины начинают завязываться, сразу смекает, что к чему. Человек понимает, что конец неминуем, и это величайшая и самая печальная превратность в человеческой судьбе. Первое, что он открыл, было не колесо, и не огонь, и не одежда, а собственный неминуемый конец. Животному неизвестно, что оно такое и что с ним станется. А человек знает, и потому вся его жизнь – агония…
– Постой-ка, Браулио, – прервал его дон Лотарио, ветеринар, нетерпеливым жестом, так что пончик, который тот взял из миски, застыл у него на полпути ко рту. – Если вся жизнь – агония, то какая разница, кто будет новым алькальдом и почему в таком случае ты только что так горячо спорил на эту тему?
– Вот именно – почему? – живо подхватила Росио.
Увидев выражение лица Браулио, Плинио чуть не расхохотался и не выплюнул обратно в чашечку кофе, который только что отхлебнул.
– Черт подери!.. Как «почему»? – возразил Браулио. – Раз сам человек – ошибка природы, то всякое дело его рук, любые слова и поступки будут детьми этого ошибочного родителя. Кого бы ни назначили алькальдом – Рамона или Романа, все, что они станут делать или, наоборот, чего не станут делать, будет опечаткой.
– Если так рассуждать, – не утерпел Плинио, изо всех сил стараясь казаться серьезным, – выходит, все равно, каким быть – хорошим или плохим, умным или дураком, обманутым или обманщиком.
– В конечном счете никакой разницы, Плинио. Уверяю тебя, никакой. Все на свете кончается забвением под могильным холмиком. Все проходит и исчезает бесследно, как тот ветер, что сегодня, точь-в-точь как год назад, треплет деревья на кладбище.
– Ну, вот и до Безносой договорились, – с суеверной гримасой вступила Росио. – Вы думаете, приятно каждое утро слушать, как тут Браулио до потери сознания рассуждает о Безносой.
– А как же иначе, Росио, это единственное, о чем можно порассуждать. Единственное, над чем стоит призадуматься… А все прочее – труха.
– А мне лично плевать на смерть, философ.
– Врешь – и не краснеешь, милая моя.
Браулио – в берете, чуть сдвинутом на затылок, без галстука – всегда говорил, уставясь на собеседника, при этом указательный палец его правой руки скользил в воздухе, словно бы очерчивая контуры мысли, которую он излагал.
– Вы, женщины, сами по себе настолько иррациональны, что вам неохота говорить о тленности, вы знать об этом не хотите. Вы ближе к земле, более суетны, и у вас, у женщин, ум ленивый, не то что у нас, мужчин.
– Браво, черт подери! – вскочил дон Лотарио. – Вот это высказался – ну чистый Цицерон. Если бы ты учился, Браулио, ты бы вполне мог писать в «Ревиста де Оксиденте»… Хотя, сказать по правде, людей, глубоко мыслящих, вроде тебя, в журналистике не ценят. Но их мысль живет и проходит сквозь века.
– А любовь? – недовольно скривилась Росио, услышав тираду Браулио. – Любовь, по-вашему, ничего не стоит? Или, как вы сказали, это тоже «труха»?
Браулио, еще не пришедший в себя от похвал ветеринара, обернулся на ее слова, жестом давая понять, что он поглощен размышлениями.
– Любовь – это наваждение, затмение ума, просто кровь ударяет в голову или пониже живота. Любовь нужна затем, чтобы кровь отхлынула от головы, а слезы – от глаз, чтобы не думать о том единственном, что на самом деле реально.
Тут в кондитерскую ввалилось сразу столько народу, что собеседники оказались зажатыми в угол, и слова Браулио остались без ответа. Дон Лотарио посмотрел на часы и пошел к выходу.
– Ладно, сеньоры, до скорого. Мне надо в погребок. Если я тебе понадоблюсь, Мануэль, ты знаешь, где я.
И, не тратя больше слов, дон Лотарио пробрался между толпившимися посетителями и вышел из кондитерской.
Плинио и Браулио, которых со всех сторон толкали локтями и задевали корзинами, выпили у Росио еще по рюмочке касальи, немного – только тише, то и дело замолкая, потому что их без конца прерывали, – поговорили о жизнетерпении (слово, придуманное самим философом), о том, что все это и есть жизнь, а когда исчерпали тему, то один перекинул корзину через руку, а другой отряхнул перепачканный пеплом мундир, и оба вышли из заведения.
– Ступайте с богом, блюститель закона и ты, прорицатель черепов, – проводила их Росио, вытирая рукою пот со лба – так она уморилась от работы.
Прежде чем вернуться к себе в кабинет, Плинио, это стало у него привычкой, прошелся раз-другой по площади. Поздоровался с теми, кто направлялся в церковь, где отпевали сегодня дона Антонио Салисио, умершего накануне в одной из мадридских больниц. Оглядел проезжавшую мимо огромную цистерну со спиртом, потом зашел к Фелиппе Ромеро сказать, чтобы он прислал оливкового масла, купил в ларьке у Кинито «Лансу», местную газету, и, не видя в перспективе на утро ничего приятного, пошел к себе в МГТ. Он прочитал «Лансу», где обстоятельнейшим образом описывались все сыгранные накануне в провинции футбольные матчи, – описывались, по обычаям наших газет, так, что можно было подумать, будто вся жизнь – сплошной матч, немного полистал бумаги, и тут как раз пробило одиннадцать и пришла первая почта, в которой среди прочего несущественного, вроде журнала испанских муниципальных гвардейцев, проспекта энциклопедии, анонимки на члена муниципалитета и рекламы оружейной лавки, было письмо со штампом: «Генеральная дирекция Управления безопасности, отдел уголовного розыска. Мадрид».
При виде письма глаза у Плинио сузились, мышцы лица напряглись, словно он пытался угадать, что это за письмо и о чем в нем говорится, желая продлить удовольствие, он ощупал его, повертел в руках и медленно вскрыл конверт.
В те времена, когда в этих благословенных краях и для перевозки, и для пахоты, и вместо транспорта использовали мулов, дон Лотарио всегда на всякий случай таскал с собой огромный шприц. Но с тех пор как, по выражению коновала, поле механизировали, если в здешних местах не случалось какого-нибудь преступления – большой кражи или же публичного скандала, в разбирательстве которых он мог бы принять участие вместе с МГТ, – дон Лотарио скучал, скучал тяжко, как мясник в великий пост, и все время проводил у себя в «клинике», которую после того, как мулы вышли в отставку, стал называть «погребком». По правде сказать, огромный дом дона Лотарио всегда служил обеим этим целям: в октябре здесь бродил виноградный сок и в течение всего года лечили животных. У самого парадного входа, который вернее было бы назвать сенями, находилась наковальня. От славного времени, когда тут взбрыкивали мулы, ржали лошади, звенел молот и слышались крики погонщиков, осталась только проржавевшая наковальня да полдюжины развешанных, словно в музее, подков. В глубине слева находились кабинет хозяина и лаборатория. Справа – давильня, а внизу – подвальчик или погреб, которым пользовались лишь в дни, когда собирали виноград и поспевало молодое вино. Раньше приятно было зайти в «клинику» к дону Лотарио. Сколько людей и животных входило и выходило оттуда! Сколько там побывало хромых или плохо подкованных мулов! Сколько там повидали рубах, вельветовых штанов, сколько наслушались понуканий, цоканий, притопываний; сколько щелкало зажигалок и вспыхивало спичек, какие реки мочи и горы желтых зубов оставили тут мулы! И посреди всего этого – ветеринар в белом халате с нервными, почти живописными манерами: как мастерски он вкатывал гигантские клизмы, вспарывал нарывы, резал, делал уколы и щупал животы. Теперь же, когда завершался сбор винограда, все погружалось в тишину и меланхолию – как в заброшенном каретном сарае. Часов этак с одиннадцати дон Лотарио с потерянным видом, исключительно из любви к порядку, убирал помещение и просматривал какие-нибудь бумаги. Время от времени он бросал полный тоски взгляд на полки своего кабинета, забитые старинными книгами по ветеринарии, и на белый стол, уставленный пробирками, пузырьками, среди которых возвышались весы и, словно заколдованная птица, затаился под стеклянным колпаком позолоченный микроскоп. На не занятых полками стенах остались еще висеть, покрываясь мягкой осенней пылью, схемы анатомического строения животных и фотографии отборных лошадей, а на краю стола покоились покоробившиеся папки, расходные книги и телефон.
Но, по правде говоря, гораздо больше, чем по былой своей профессиональной славе и хлопотам, тосковал дон Лотарио, когда, случалось, взяв в кулак бороду, он остановившимся взглядом упирался в окно, – гораздо больше тосковал он по знаменитым детективным приключениям, которые довелось ему пережить вместе с великим Плинио… И мало сказать, тосковал – сердце его наполнялось надеждой, а в голове бурлили идеи, когда он в долгие утренние часы, посвященные бумагам и уборке, заново переживал яркие приключения, которые могли случиться тут и которые, будьте уверены, под руководством многоопытного Мануэля Гонсалеса он и сам раскрыл бы во славу их обоих, а заодно и их родного городка Томельосо… Каждый день он рисовал в воображении все более сложные дела, которые следовало раскрыть. В то утро, о котором идет речь, в тот самый момент, когда в мозгу у него начали вырисовываться загадочные обстоятельства смерти сразу семерых важных лиц в «Томельосском казино», у его локтя зазвонил телефон.
– Кто это?
– Дон Лотарио?
– Я слушаю, Мануэль.
– Мне бы хотелось встретиться с вами сегодня в двенадцать тридцать на террасе казино «Сан-Фернандо».
– Есть новости?
– Да.
– Что именно?
– Письмо из Мадрида. Но потерпите до двенадцати тридцати. Увидимся.
– Хорошо, Мануэль.
Нечего говорить, что уже в двенадцать дон Лотарио прохаживался по площади. От угла, где раньше находилась бензоколонка, до улицы Независимости.
Как я уже сказал, был понедельник; всего несколько дней назад кончили убирать виноград, и в городке было спокойно. Погреба были полным-полны, карманы набиты рухнувшими надеждами или оттопыривались новенькими, еще пахнувшими зеленой краской купюрами, какие банк выдает в октябре; разговоры велись умиротворенные, все расслабились, а свежевымытые давильни сверкали чистотой; виноградники, укрытые хворостом и соломой, тоскливо простирали ввысь свои обобранные, без кистей, ветви. Весь городок пропах терпким запахом вина, виноградного сока. Даже сквозь окошки слышно было урчание бродившего в огромных кувшинах вина. Солнце, стоявшее в небе айвою, не пекло, но все-таки пригревало. Последние мухи метались полукружьями, словно выискивая покороче дорожку к смерти. Долгие месяцы стояла засуха, и борозды в поле лежали пустые, ничего в них не проклевывалось. Даже издали видны были разоренные виноградники с поникшими, словно вывешенное на просушку тряпье, ветвями, которые уже не выставляли горделиво напоказ золотистые, припорошенные пылью сосцы своих лоз. Время от времени группки людей проходили вдоль рядов, тщательно выискивая, не остались ли где гроздья, обойденные второпях, рукою сборщика, не затаились ли где под мышкою у лозы сладкие виноградины. Урожай в этом году был меньше, чем в прошлом, однако четырех песет за килограмм – цена, по которой его продавали, – оказалось вполне достаточно, чтобы унять все сетования и успокоить виноградарей, этих не меняющихся с годами детей.
Дон Лотарио несколько раз успел пройтись туда-сюда по площади, поздороваться с приходским священником доном Мануэлем Санчесом Вальдепеньясом, найдя, что он, без сомнения, выглядит хуже, но не теряет свойственной ему горячности и чувства юмора, пошутил с Пепито Ортагой, сыном доктора, приветственно помахал рукой своему коллеге Антонио Боласу, проехавшему мимо в машине, и, когда он уже в который раз взглянул на часы, к нему подошел полицейский Чичаро:
– Добрый день, дон Лотарио. Начальник сказал, если не возражаете, может, зайдете к нему в контору.
– В контору так в контору.
Они перешли площадь в неположенном месте – даром, что ли, оба были представителями власти, – и дон Лотарио почти вбежал в кабинет Плинио.
– Ты свободен? Ну-ка, что за тайну ты хочешь поведать мне?
Плинио достал табак и, лишь набив папиросу, закурив и затянувшись торжественно, как он всегда делал, лишь после этого сказал, время от времени прерывая речь паузами и растягивая слоги:
– Я получил письмо от нашего приятеля, комиссара из Мадридского уголовного розыска, дона Ансельмо Пералеса, – и, как бы ставя точку, вытащил из кармана письмо.
На лице дона Лотарио изобразилось веселое удивление.
Плинио осторожно развернул письмо, водрузил на нос очки и прочитал, обозначая голосом все знаки препинания:
«Сеньору дону Мануэлю Гонсалесу, начальнику Муниципальной гвардии Томельосо. Мой дорогой и замечательный друг! Простите, что я беспокою Вас, но я веду сейчас дело, в котором замешаны люди, жившие некогда в Томельосо… Мне пришло в голову, что Вам, пожалуй, интересно узнать о нем, а может, даже и заняться этим делом. Ибо не напрасно говорят многие – на то есть основания, – что Вы лучший детектив в Испании.
у нас много работы, а людей не хватает, и мне бы хотелось передать Вам это дело как можно раньше, пока след еще не остыл… А поскольку Вы имеете почетное звание комиссара и крест за успехи в роли детектива (простите но я предпочитаю сказать детектива, а не полицейского), мне думается, что просить Вас о сотрудничестве имеет смысл. Я посоветовался со своим начальством, которое относится к Вам с большой симпатией, и мне дали, как у нас говорят, «зеленую улицу». Я оплачу Вам все расходы, пока Вы тут будете находиться, как, разумеется, и расходы дорогого дона Лотарио. Я не знаю, какие у Вас отношения с сеньором алькальдом – полагаю, что хорошие; не знаю Ваших обязанностей там, но думаю, что они не помешают Вам приехать, в противном случае известите меня; но помните, что для Томельосо и для Вашей Муниципальное гвардии это честь, что Вас вызывают в Мадрид. Короче, Мануэль, позвоните мне по телефону – что и как. Я рассчитываю, что Вы быстро разберетесь в этом' деле и мы будем иметь удовольствие провести вместе несколько дней. Горячий привет доброму дону Лотарио.
С сердечным приветом Ваш добрый друг и товарищ – Ансельмо».
Окончив чтение, Плинио сложил письмо, снял очки и уставился на дона Лотарио.
– Прекрасно, Мануэль, прекрасно, – вскочил тот, словно на пружине, – прекрасная возможность дополнить твою биографию, а кроме того, мы чудесно проведем время в Мадриде: уж сколько времени мы отсюда носа не высовывали.
– Главное, что у нас тут в последнее время так тихо и чинно, что недолго и смекалке притупиться… А моя биография, о которой вы так печетесь, лучше бы осталась девственно нетронутой. Беда в том, что я не представляю, как об этом сказать алькальду. Вы знаете, что я одалживаться не люблю.
– Ты, как и все, имеешь право на отпуск. Вот и возьми его… А домашние твои только рады будут, если ты вернешься из Мадрида с победой.
– Не люблю я уезжать от них надолго.
– Какое там надолго! Увидишь, за неделю справимся. А то пусть и они прокатятся в Мадрид – в театр сходят. Ты в этом году ведь за виноград хорошо выручил.
– Не в деньгах дело…
– Давай решайся, Мануэль.
– Да я в общем-то… Только вот привыкаешь к старым методам работы…
– Что значит – старые методы, новые… В искусстве детектива единственно, что нужно – как, впрочем, и во всем остальном, – это голова и интуиция, а в этом ты дашь сто очков вперед всей испанской полиции.
– Ну, что с вами поделаешь, дон Лотарио.
Отъезд
Приготовления к отъезду были стремительными и веселыми. Стремительными, потому что к вечеру следующего дня все было готово. Веселыми оттого, что весть мгновенно облетела городок и лучшая его часть спешила поздравить друзей и пожелать им всяческих успехов.
Дон Лотарио решил не брать машину, потому что, как он выразился, «движение в Мадриде адское». Плинио купил чемодан и надел свой единственный штатский костюм ярко-синего цвета, который, как оказалось, сшит был по моде чуть ли не времен Серрано, но, хотя ему и было лет пятнадцать, не меньше, пиджак оказался довольно длинный. Плинио пообещал жене по приезде в Мадрид сразу же купить другой. Дочь приобрела ему две пижамы – вещь, к которой Плинио всегда относился подозрительно, ботинки, два галстука и рубашки самого современного покроя. Привыкнув постоянно ходить в форменной фуражке, он и мысли не допускал, что можно выйти на улицу с непокрытой головой, и потому хотел купить берет. Но дон Лотарио отговорил его от берета и взамен подарил ему темно-серую шляпу.
Грегория с дочерью настояли на том, чтобы проводить Мануэля до самого мадридского автобуса. Само собой, Плинио велел им ждать на площади, пока они с доном Лотарио пили кофе в казино. Разумеется, когда начальник появился в казино «Сан-Фернандо» в штатском костюме, все от удивления просто рты разинули и потом еще несколько дней обсуждали это событие. Да и он сам так привык к форме, что то и дело поднимал руку, чтобы заложить пальцы за ремень, и рука, не встретив опоры, соскальзывала вниз. Не удалось по-настоящему справиться и с галстуком: узел по неопытности он не затянул как следует, и тот все время съезжал, обнажая верхнюю пуговицу сорочки. Дон Лотарио нервничал из-за этих мелочей и раза два подтягивал другу узел, а потом пообещал научить его завязывать галстук другим узлом, гораздо более надежным, как только они приедут в гостиницу. В штатском Плинио казался чуть ниже ростом и походил на персонаж со старинной фотографии. Единственной современной деталью в его облике были часы на руке.
Маноло Перона, официант, угостил их кофе, а дону Лотарио подарил несколько билетов лотереи Пресвятой девы, покровительницы виноградарей.
В тот день столько народу хотело ехать в Мадрид, что отправлялись сразу три автобуса. И теперь вокруг них бурлила толпа отъезжающих и провожающих. Матери обцеловывали сыновей-солдат, словно те отправлялись во Вьетнам; Фараон, который тоже ехал в Мадрид – по его словам, приодеться и, глядишь, не ровен час что еще перепадет, – тут же бросился к друзьям, расчищая себе путь огромным животом, и повис на них. Были тут и две девочки-студентки в мини-юбочках – «господи спаси, видела бы их бедняжка Хуста, их бабка-кондитерша», – обе жевали жевательную резинку, причем одна из них была острижена почти наголо. Дополнял эту компанию Караколильо Пуро, куплетист, уроженец этого городка, ныне проживающий в Марселе. Сюда он приезжал по случаю смерти отца. Это, разумеется, был не тот случай, когда следовало рядиться в костюм андалузского покроя – правда, с черным крепом почти у самого плеча, в шляпу с загнутыми полями и туфли, какие носят танцоры. Он порхал, виляя бедрами, невероятно пошлый, окруженный родственниками и почитателями, причем некоторые из них тоже принадлежали к этой порочной ветви и, разинув от восторга рты, смотрели на него, добившегося такого успеха там, за Пиренеями, что отделяют их от Франции. Фараон, желая сказать ему приятное, заметил, что он, мол, хорошо сохранился. Караколильо неприветливо ответил, что «сохраняются консервы в банках, он же мужчина, а не какая-нибудь рыба». Фараон едва удержался, чтобы не хмыкнуть по поводу «мужчины», который не рыба, но и не мясо, однако заметил весьма вежливо:
– Не ершись, дружище, я от чистого сердца.
– Ничего себе от чистого сердца, – не мог успокоиться тот. – «Хорошо сохранились» говорят старикам, а мне до старости далеко, приятель. Да, я куплетист и горжусь этим. Уж лучше быть таким, как я, наслаждаться жизнью и брать от нее все, чем таким, как ты: даже мать твоя не знает, кто твой отец…
– Ах ты, сукин… – И возмущенный Фараон бросился к Караколильо.
Однако он позволил Плинио удержать себя и, стоя лицом к лицу с куплетистом, сказал:
– Слушай, Караколильо, лучше заткнись, а не то вместо Мадрида ты у меня успокоишься в канаве.
Некто из окружения Караколильо – обладатель небесно-голубой рубашки и томного взгляда – объяснил ему, кто такой Плинио. При слове «полиция» Караколильо сразу притушил свой запал, словно его подменили. Он закурил новую сигару светлого табака, Держа ее почти за самый кончик, затянулся, выпустил дым через нос и отошел от Фараона и блюстителя порядка.
– Вот приедем в Мадрид, я ему всыплю как следует, – воскликнул возмущенный Фараон, – он у меня еще порадуется, что он не мужчина, этот толстозадый.
– Замолчи, – приказал Плинио.
Машина посигналила, собирая непроворных пассажиров. Плинио попрощался со своими без лишних поцелуев и рукопожатий.
Пассажиры заняли места, и, когда Плинио уже уселся, появился запыхавшийся Браулио.
– Возьми, Мануэль, пригодится в дороге. – И он протянул двухлитровый мех с вином.
– Спасибо большое, Браулио, ты себе верен.
– Завидую я тебе.
– Черт побери, так поехали вместе.
– Может, выберусь к вам ненадолго.
– Давай, старина, выбирайся.
– Это вино прошлогоднее. Ты знаешь какое.
Грегория прослезилась по этому случаю. Дочка улыбалась Браулио. Мануэль с подножки автобуса еще раз помахал им рукой.
– Ты ь этом пиджаке похож на практиканта, – заметил Браулио.
– Почему именно на практиканта?
– А… не знаю.
– Сеньор Мануэль, отъезжаем, – почтительно предупредил шофер.
Плинио дружески потрепал Браулио по голове, окинул взглядом своих и захлопнул дверцу.
– Да здравствует Плинио, черт его подери! – послышалось вдруг. Это кричал Клавете, и многие со смехом обернулись.
– Да здравствует Плинио, умник из Томельосо! – снова крикнул он.
– Да здравствует! – подхватило довольно много голосов.
– Да здравствуют Плинио и сестра Грегория! – не унимался Клавете.
Провожающие обернулись на Грегорию, которая в смущении наклонила голову.
Автобус тронулся, и все стали махать руками. А Мануэль, глядя в окошко, поднес руку к полям шляпы, как будто это была форменная фуражка.
– Дайте глоточек, – попросил Фараон, не успев усесться на место.
Он пил долго, ловко направляя струю, чтобы не облить пиджак.
– Замечательное, – похвалил он, вытирая губы. – Только вот Браулио отстает от времени. Теперь бота[1] не в моде. Теперь в моде термос.
Автобус ехал по улице Сокуэльямос. Дон Лотарио и Фараон сидели рядом. Плинио – через проход от них, рядом с доньей Марией де лос Ремедиос дель Барон, крепкой, еще хорошо выглядевшей женщиной. Сеньора поселилась в Мадриде задолго до войны, а в Томельосо у нее были земли. В городке она появлялась на время сбора винограда, а так – изредка и ненадолго.
В автобусе ехали по большей части люди скромные, главным образом те, кто убежал от земли и теперь работал в Мадриде, где-нибудь на стройке. Мастеровые, девушки, живущие в прислугах, солдаты и прочий люд, не привыкший особенно к путешествиям.
Караколильо Пуро – настоящее его имя было Анастасио Мария Кулебрас, – возбужденный не то ездой, не то недавней стычкой с Фараоном, довольно развязно запел, и двое его длинноволосых дружков подхватили песню.
Длинноволосые в узких брючках хлопали в ладоши и подначивали куплетиста, а тот лез из кожи вон, отбивая в проходе чечетку.
Люди оборачивались, привставали, отстукивали ритм, подбадривали, и он не унимался.
– Давай, мидок, вот это дело! – закричала какая-то женщина.
Обрадованный таким приемом, Караколильо вырос в собственных глазах и теперь, глядя в сторону Фараона, подмигивал и высовывал язык, но так, словно того требовал танец. Однако его воинственный умысел всем был ясен, и люди смеялись.
Фараон же, делая вид, будто ничего не замечает, курил в окошко. Его мясистая грудь, куполообразный живот и двойной подбородок подрагивали.
Когда проехали Педро-Муньос, который тут называют «Перро-те», взрыв художественной самодеятельности иссяк, а Плинио завязал разговор с доньей Марией де лос Ремедиос. Дон Лотарио, прикрывшись шляпой, поклевывал носом, а Фараон тихонько храпел.
Донья Мария говорила об урожае и о граде, но глаза ее то и дело странно поблескивали. Плинио готов уже был подумать о ней дурно, но все стало на свои места, когда он заметил, что глаза у нее начинали блестеть в то время, как кровь волною приливала к лицу и сеньора краснела до корней своих черных волос. Стараясь оправдать свое состояние, имевшее, по-видимому, чисто физиологическую природу, бедняжка все обмахивалась веером и приговаривала:
– Ну и духота!
– Да, действительно, – соглашался Плинио, хотя и придерживался другого мнения относительно температуры и причин, будораживших бедную сеньору. Стоило крови отхлынуть, как лицу Доньи Марии де лос Ремедиос возвращалась его молочная белизна – под стать сверкающему алебастру. И тогда все – и красивые глаза, и прекрасно очерченный рот, обнажавший прелестные зубы, – расплывалось в умиротворенной улыбке. Когда возбуждение спадало, дыхание ее становилось размеренным и под темной тканью платья угадывались шелковистые соски грудей, немного вытянутые и чуть-чуть потемневшие, но еще вполне крепкие. Когда она двигалась, устраиваясь поудобнее, от нее волнами исходил аромат жаркой плоти, хорошо вымытой и надушенной, но не потерявшей при этом своей естественной привлекательности.
Во время разговора донья Мария Ремедиос несколько раз глотала какие-то таблетки, которые, как решил Плинио, должны были снять напряжение ее идущих на спад страстей. Когда же возбуждение утихало, на светлом пушке над верхней губой доньи Марии выступали жемчужины пота, отчего рот ее становился похожим на соблазнительный плод. Плинио почувствовал грусть, глядя на эту бедняжку, пытавшуюся загасить костер своих чувств.
Муж доньи Марии Ремедиос, уроженец Таранкона, умер после войны. Они были женаты всего несколько лет. Овдовев, она осталась в Мадриде и, как рассказывали, никого больше не нашла, жила вдвоем с матерью. И хотя она так и не вышла замуж, облегчения на стороне, по словам ее друзей, она тоже не искала; и вот теперь подходила к концу отпущенная ей женская пора, не богатая событиями, притом столько долгих лет было прожито впустую.
Они мчались по шоссе, и по обеим сторонам мелькали деревья с высохшими листьями и пепельными стволами. Обезлюдевшие селения – большинство жителей их эмигрировало – стойко несли свое грустное одиночество; тут уже привыкли видеть, как уезжают люди, и редко случалось, чтобы кто-то возвращался. Меж дорожных знаков и рекламных щитов – брошенные дома. Бары для шоферов. Бензоколонки. У дверей домов – старухи, бессмысленным взглядом провожающие грузовики и тракторы. И сельские школьники, с тоской глядящие вслед машинам. Старики, дети, женщины, рекламы кока-колы. И снова голое шоссе, петляющее до самого Вильярубиаде-Сантьяго, где автобус делает короткую передышку.
Длинноволосые время от времени взбадривались и, спев что-нибудь, разражались криками или вдруг начинали выделывать па, подражая не то цыганам, не то шутам. Донья Мария де лос Ремедиос вздыхала. Фараон храпел. Дон Лотарио дремал, свесив голову на грудь, а Плинио почувствовал, что начинают ныть суставы – давало знать приближение осени. «Сентябрь придет – дрожь проберет», – любил говорить дон Гонсало, старенький доктор с белой бородкой и сладким голосом… «Дрожь проберет…» Сейчас, в автобусе, Плинио словно чувствовал каждую косточку и каждое биение своего еще бодрого сердца. И он подумал: «Как хрупко то, что мы называем жизнью». Он глядел на бегущую вниз дорогу, на спокойное, затянутое облаками небо, на унылые деревья, и в памяти всплывали обрывки прошлой жизни: лица каких-то мужчин, отражавшиеся в зеркалах казино, усы и бородки, проступавшие в дыму тогдашних сигарет, затянутые талии и длинные, до пола, юбки танцующих женщин в салоне «Сиркуло либераль» – и имена, теперь высеченные в кладбищенских нишах или на пышных памятниках. В такие минуты Плинио казалось, что жизнь похожа на камень, который, как говорится, долбит капля. Капля долбит камень и уходит, не задерживаясь на нем и не собираясь нигде в чудесный и вечный источник, дабы потом со временем вернуться. Мелкая несправедливость природы. Сначала кажется, что всего столько, а потом выясняется, что всего – ничего. Вот и похожи мы на сито, сквозь которое просеиваются дни нашей жизни. Каждый день оставляет после себя дырочку, пока не изрешетят все, а сначала не начнешь. А нам остаются наши старые мысли и ощущения, которым нет ни выхода, ни простора. Каждый новый день все меньше принадлежит внешней жизни и все глубже утопает в толще жизни внутренней в гроздьях воспоминаний. С годами мы становимся вроде наглухо запертого сундука, вроде комнаты без окон, без дверей, вроде бурдюка без горлышка, пока все внутри нас не превращается наконец в такой насыщенный ликер, в такую концентрированную смесь, что мотор отказывает, провода мозга перегорают, лопается и разрывается в клочья кроваво-красное сердце. Плинио знал: его профессия детектива, принуждающая к работе ум и смекалку, – хорошее противоядие от грустного ощущения, что дело идет к смерти. Когда он был занят, то сразу забывал и о своих годах, и о том, что тяжел на подъем и склонен предаваться воспоминаниям… С некоторых пор он особое внимание стал обращать на людей пожилых, старше себя, отыскивая в их жестах, голосах, манерах и повадках признаки, сходные с признаками его собственной осени. Молодые люди казались ему теперь иными существами, словно из другого теста…
К лицу доньи Марии де лос Ремедиос снова прихлынула кровь. Бедняжка почувствовала, что лицо горит, и стала тереть нос. Капельки пота упрямо выступали на верхней губе и на лбу. У женщин осенняя пора жизни проявляется не только в том, что начинают одолевать былые ощущения и воспоминания и тянет снова и снова перепахивать пашню пережитого, но и в том, что приходится вести вот такую маленькую войну с собственным лицом, которое вдруг ни с того ни с сего бросает в жар, с плотью, решительно предъявляющей свои требования. Закат женской поры – тяжкое физическое испытание. И смена настроения имеет чисто биологические причины.
Странное ощущение возникло вдруг у Плинио, словно предчувствие кольнуло. Ему показалось, что в том, как волною приливала кровь к лицу этой женщины, в том, как время от времени брезгливо вздрагивало ее лицо, как сдерживала она трепет груди и как иногда раздумывала над словами, прежде чем сказать, – ему показалось, что во всем этом проскальзывает какая-то неестественность, будто пыталась она заслонить иное… Будто все ее существо жило в каком-то другом мире. И он вмиг забыл о своих раздумьях, навострил глаз и решил повнимательнее последить за поведением этой женщины, в мягких грудях которой словно покоилась вся осень мира.
Все больше и больше безмолвных селений впадало в черную реку шоссе. Река эта текла и вспять не возвращалась. Она звала уйти, бросить эти лачуги и проржавевшие клочки земли, этих облепленных мухами мулов и старуху, которая мочится под себя, прямо на матрац, эту курицу, подбирающую зерна на пашне, и казино с плакатами, изображающими зелено-красных быков; эту старую заслуженную проститутку, истерически хохочущую у дверей в бильярдную, где из проигрывателя несется механическая музыка; и темный переулок, где юные парочки снимают пенки со своей молодости; и хор святош с мутными, как бульон, глазами, что толкутся у колонн, волоча за собой молитвенные скамеечки. «Надо раз и навсегда, – думают молодые люди, – распроститься с этим толстопузым алькальдом, с победительным видом курившим сигару в коридоре. Хватит, в конце концов, изо дня в день смотреть на одну и ту же улицу, названную именем сеньоры, которая подарила приходу алтарь. И не надо будет ходить больше в лавку, где вместе со съестным продают альпаргаты, а свиные ножки пахнут едой, залежавшейся с прошлого века». Во всех взглядах, устремленных на реку-шоссе, на машины, бегущие по нему, можно прочесть одну и ту же мысль: пришел конец этим бесчисленным селениям, рожденным волею феодального закона по прихоти сеньора или монастыря, – селениям, которые не способны приладиться к укладу современной жизни. В Испании ничто не отменяется со временем. То, что устаревает, – гниет и заканчивает свое существование на свалке инерции. Сколько фантазии у испанца, чтобы выйти из любого положения, но он не в силах вообразить, что можно пойти другим путем.
Когда проехали Аранхуэс, спавшие встряхнулись и раз-другой приложились к боте Браулио. Фараон тихонько сказал Плинио:
– А Мария де лос Ремедиос как еще хороша! Попробуй, может, склеишь…
Сеньора, освеженная ветерком от близкой реки, спокойно разглядывала пейзаж за окошком. Плинио обратил внимание на то, как она обеими руками сжимала сумку, на то, как она просторно расположилась на сиденье, как светилось что-то в самой глубине ее вроде бы отсутствующего взгляда. И особенно – на эти капельки нота, покрывавшие пушок над верхней губой и придававшие ей такой соблазнительный вид, и на кончик языка, который время от времени выглядывал, ловя воздух. И на ноздри, чуть раздувавшиеся в одном ритме с сердцем, вдыхавшие воздух не того, однако, мира, в котором она находилась сейчас…
Они въезжали в Мадрид. Караколильо взбодрился и снова ударился в куплеты, стал прихлопывать в ладоши. Автобус остановился рядом с вокзалом Аточа, на улице Тортоса. Люди поднялись, начали доставать чемоданы. Плинио попрощался с Марией де лос Ремедиос, которую, наверное, укачало в автобусе, и теперь она приходила в себя. Выйдя из автобуса, Фараон как ни в чем не бывало похлопал по животу Караколильо Пуро. И Караколильо, стараясь язвительным тоном и гримасой выразить все свое к нему недоброе отношение, отозвался хрипло и недовольно:
– Сукин сын, толстяк проклятый.
Все трое взяли такси до гостиницы «Центральная» на улице Алькала, 4. Старые томельосцы всегда останавливались там. Знакомый вход, те же фотографии в вестибюле, улыбающийся портье. Неторопливый лифт. И всегда в ресторане или в вестибюле оказывался какой-нибудь томельосец, а то и целое семейство – они словно сменяли тут друг друга, чтобы гостиница не испытывала недостатка в завсегдатаях. В «Центральную» приезжали по случаю свадеб, похорон или чьей-нибудь болезни, приезжали по делам, в пору экзаменов и на праздник, приобрести одежду на зиму или на лето, а то – потратить выручку за первую партию вина. Приезжали, чтобы навестить знакомых, приезжали, чтобы просить руки девушки, в которую влюбился сын-студент, приезжали искать протекции.
Друзья распрощались с Фараоном, и каждый пошел в отведенную ему доном Эустасио комнату.
Полчаса спустя Плинио и дон Лотарио стояли в дверях, не очень ясно представляя себе, что делать дальше. Было около восьми вечера. В конце концов они решили, не теряя времени, идти в Управление безопасности на случай, если их друг комиссар дон Ансельмо Пералес еще там, чтобы сразу же приступить к делу.
Попасть в кабинет к Пералесу оказалось делом нелегким. Пришлось выписывать пропуск, показав приглашение, и пройти несколько раз через контроль полицейских и дежурных; только после этого они оказались в маленькой приемной.
Не успели доложить об их приходе, как вышел дон Ансельмо, улыбаясь и протягивая им руки.
Все трое уселись на маленький, выцветший, видавший виды диванчик. Дон Ансельмо, довольно приземистый человек с простоватым, вечно улыбающимся лицом, изложил суть дела. Люстра с двумя утонувшими под стеклянным колпаком электрическими лампочками заливала кабинет желтым, как вино, светом. Дон Ансельмо рассказывал, зажав в уголке рта сигарету, однако сигарета не падала. Иногда он облизывал губы кончиком языка или поводил носом, и сигарета двигалась, словно приклеенная к губе. Он рассказывал очень хорошо, ни на чем не делая особого упора. Иногда только вдруг замолкал ненадолго, словно припоминая другой, сходный с этим случай. Но тут же снова подхватывал нить повествования и, глядя прямо в глаза слушателям, излагал дальше.
– Вы помните дона Норберто Пелаеса Корреа, который был в Томельосо нотариусом в двадцатые годы?
– Конечно, – отвечал Плинио.
– Дорогой друг, – добавил ветеринар, – он был замечательный человек. Немножко старомодный, но замечательный.
– И помните, наверное, двух его дочек-близнецов?
– Конечно, – снова согласился дон Лотарио, – цветные сестрички.
– Почему цветные?
– Они были рыжие, красно-рыжие, и люди их называли цветными сестрами.
– По-моему, дон Лотарио, их называли цветными близнецами, – задумчиво добавил Плинио.
– Может быть… Точно не помню… Они всегда ходили вместе, одинаково одетые, под руку. Тогда им было уже по двадцать лет.
– Очень симпатичные были и воспитанные, – заметил начальник с некоторой тоской в голосе.
– Но у нас в городке им не везло, – сказал дон Лотарио, – женихов у них не было… Может, молодых людей отпугивала мысль, что жениться вроде бы надо сразу на обеих.
– Они никогда не выходили из дому одни. Всегда с родителями. Ни на танцы не ходили, ни на вечеринки, где собиралась молодежь. В общем, довольно жалкую жизнь вели.
Дон Ансельмо рассмеялся и сказал:
– Так вот, эти рыжие сестрицы, цветные близнецы, исчезли.
– Сразу обе? – с удивлением спросил ветеринар.
– Только так и могло быть, – пояснил Плинио. – Как же это случилось?
– Три дня назад, около половины четвертого, они вышли из дому и до сих пор не вернулись.
– Они так и не были замужем? – продолжал расспрашивать Плинио.
– Не были… Вели спокойную, уединенную жизнь. Как вы выразились, довольно жалкую. Друзей немного, но все люди приличные… Дальше своей улицы почти никуда не ходили… А живут они на улице Аугусто Фигероа в старинном доме, почти на углу улицы Баркильо. И вдруг исчезли бесследно, словом, неизвестно, что и думать. Мы тут провели некоторые расследования, но света они не пролили… А поскольку все их знакомые родом из Томельосо – похоже, они на всю жизнь сохранили теплое отношение к родному городку, – я и вспомнил о великом Мануэле Гонсалесе и доне Лотарио и сказал себе: это дело как раз для них. Вот и все.
Плинио с задумчивым видом провел рукою по щеке и затем сказал:
– Вы одного не учли, дон Ансельмо: я или, вернее, мы не знаем здешней жизни. Мы всего лишь скромные сыщики из скромного винодельческого городка, и Мадрид нам не по зубам. Вы знакомы с техникой и методами работы, которые нам неизвестны. Я, дон Ансельмо, детектив-кустарь, а вы меня вытаскиваете из деревни прямо на Пуэрта-дель-Соль и хотите, чтоб я вам что-то объяснил.
– Ладно-ладно, не скромничайте. В этом мы поможем. Если что – звоните мне, и я пришлю вам все, что нужно. Главное в этом деле – голова и свободное время, а у вас и того и другого предостаточно.
– Конечно, попытка – не пытка, что мы теряем?… – сказал дон Лотарио.
– Что значит не пытка, дорогой друг? Да раз нам дали возможность сделать такую попытку в столице, мы просто обязаны совершить нечто удивительное.
– И вы совершите, Мануэль, совершите. Не скромничайте… Вот вам ключ от квартиры. Как только я узнал, что вы согласны, туда больше никто не входил. Полицейский Хименес – я вас сейчас с ним познакомлю – проводит вас и даст вам все разъяснения, какие понадобятся. Я уверен, что не пройдет и недели, как вы мне это дело распутаете.
– Да услышит вас бог, дон Ансельмо… и пусть не обойдет он нас своим вниманием.
Дом рыжих сестер
Пока полицейский Хименес Пандорадо ходил за машиной, Плинио с доном Лотарио стояли у дверей Управления на улице Корреос. Они стояли, засунув руки в карманы брюк, и словно инстинктивно пытались отгородиться от водоворота автомобилей, огней и людей. Выбитые путешествием из привычной колеи, они стояли, почти физически ощущая на своих лицах отблески огней, тени проходящих мимо людей, обрывки разговоров; все вокруг казалось им чужим – полюбить такое было трудно. Шумный мир столицы давил на них.
– Должно быть, Мануэль, я старею, – сказал вдруг ветеринар.
– Почему вы так решили?
– Видишь ли, с некоторых пор я не перестаю спрашивать себя, в чем смысл жизни, – ответил тот с грустью в голосе. – Видно, смерть кружит рядом… Или, может, философия Браулио подействовала?
Плинио провел рукой по бровям и, чуть помолчав, сказал наставительно:
– Это признак не старости, а зрелости. Меня уже не первый год мучает этот вопрос. Далеко не первый. В том, что говорит Браулио, есть смысл.
– Ты хочешь сказать, я немного отстал?
Плинио улыбнулся:
– Нет, маэстро, просто я хочу сказать, что всякому овощу свое время.
– А ты уже перемучился?
– Нет. Уж если эта мысль начнет смущать покой – так на веки вечные… Просто со временем можно притерпеться.
Несколько парней с длинной гривой, в куртках и брюках клеш прошли мимо; они были возбуждены и хохотали так, будто увидели невесть что.
– Сколько оптимизма…
Некоторое время друзья постояли молча, каждый терзаясь своими проблемами. Нарушил молчание Плинио:
– Как сейчас вижу их…
– Кого, Мануэль?
– Рыжих близнецов… Летним утром они под руку прогуливаются по Вокзальной площади и смеются. В белых платьях… И собачка с ними.
– А ведь ни отец, ни мать не были рыжие.
– Наверное, досталось в наследство от какой-нибудь бабки… А может, ошибка крови.
– Насчет ошибки крови – это ты хорошо… Гены, сказали бы мы, люди науки.
– Ну значит, гены передрались.
– Уж не знаю, старина, могут ли драться гены…
Подошел полицейский Хименес с брюшком не по возрасту.
– Машины не будет еще минут пятнадцать.
– Так пойдемте прогуляемся, – сказал Плинио.
– Нет уж, только не гулять… Мне с моим брюхом… Пошли лучше выпьем пива вот тут, напротив, в «Тропикале».
Дону Лотарио предложение пришлось по душе.
– Пошли, я угощаю.
– Прошу прощения, друг, но всем по кружке ставлю я. А вы, если хотите, можете платить потом или за закуску.
– Согласен, я плачу за креветки.
– Смотрите, придется вам раскошелиться…
– Ничего.
Они дождались зеленого света и перешли улицу.
Официант подал пиво и блюдо с креветками, Хименес потирал руки. Грустное настроение дона Лотарио рассеялось.
– Когда мир придет в порядок, – сказал дон Лотарио, очищая креветку, – мы будем жить почти исключительно за счет моря. Потому что еды и богатства в море хватит на всех. Море совсем не изучено. Люди его боятся, потому и берут у него только пляжи да пустячную рыбку.
Хименес, не отрываясь от еды и пива, засмеялся и закивал согласно.
– Это правда, – подтвердил он, – в земле мало что есть, па и получить от нее трудно.
– Значит, дон Лотарио, вы считаете, что земля вся изучена?
– Вдоль и поперек, Мануэль. Еще, пожалуйста, креветок.
Они курили, когда Хименес Пандорадо пришел сообщить, что машина есть.
И они поехали – Хименес рядом с шофером, а оба томельосца – сзади.
Машина привезла их к дверям старинного дома на улице Аугусто Фигероа. Они вошли в сырой, с облупившимися стенами, плохо освещенный подъезд; в привратницкой светловолосая девушка читала комиксы. Они поднялись по широченной пологой лестнице. На площадке каждого этажа стояла старинная скамья лакированного орехового дерева, которая словно приглашала отдохнуть или присесть побеседовать. Из-под облупившейся краски цокольного этажа проглядывали остатки модернистской росписи, точно виньетки в книге Рубена Дарио «Шутки судьбы». Эти рисунки и цвета конца прошлого века выступали как бы для того, чтобы утереть нос снобам, которые сейчас на плакате заново открывали ранее открытое.
На площадке второго этажа Хименес попросил ключ и, не раздумывая долго, отпер дверь. В прихожей на них пахнуло холодной сыростью. Зеркало на черной консоли было покрыто черно-зелено-золотистыми оспинами. Время разъело ртуть и выступило смертоносной сыпью. Лицо выглядело в зеркале постаревшим, в гнойных язвах, как само зеркало. К тому же оно удаляло отражение, словно отбрасывало его вглубь. И трое мужчин в зеркале как бы задумались в глубине уходящего вдаль узкого переулка.
Хименес выступил вперед, зажег свет и открыл двери. Квартира была огромная. Пахло затхлым. Большие комнаты с высокими окнами, широкими балконами и толстыми стенами. Все тут было в духе последней трети прошлого века – не обыденно, но без роскоши, без напыщенности и без особых излишеств. Видно было, что каждый предмет, каждый стул находятся на этом месте с незапамятных времен. На изъеденных временем коврах – пятна старого-престарого солнца, потускневшей сангвины и белесой лазури. Кружевные накидки и подушки немного скрадывали эти осенние тона. В огромной столовой на мебели – серебряные пластинки с гравировкой (наверняка свадебный подарок времен королевы-регентши); натюрморты из птиц и фруктов цвета потускневшей меди. Написанные маслом портреты: кавалеры с бородками, крестами или орденской лентой поверх сюртука и печальные сеньоры с лицами Пречистых дев. Фотографии священнослужителей, сраженные светом и нескромными взглядами. В алькове – непомерно высокие ночные столики, чудовищные зеркальные шкафы, населявшие комнаты толпами призраков; в глуби не – закрытые портьерами двери. Распахнутые, словно объятия, зеркала туалетных столиков, на которых – флаконы цвета крови. Патетические фигуры распятого Христа. Умывальники с умывальными тазами и кувшинами, расписанными зелеными и желтыми ветками. Словно черные позвоночные хребты – подставки для обуви. Под самым потолком – часы. Резные карнизы, а на них – обвисшие шторы из Дамаска и потертого бархата. И кабинет с широкими до потолка полками, уставленными книгами по юриспруденции и переплетенными подшивками журналов. На свободной от полок стене – почетные звания, дипломы в рамках, витрина с эфемерными медалями и крестами, цветом похожими на извлеченный из земли гроб.
Шкафы и комоды были заперты на ключ, который сестры, выходя из дому, наверняка уносили с собой.
У квартиры был такой вид, будто все тут умерли в одночасье. Будто никто больше не придет сюда открывать шкафы, вытряхивать коврики, лежащие у кровати, заводить граммофон из пальмового дерева, мыться в ванне длиною в полтора человеческих роста и цветом как яичный желток, вытаскивать жаровню и надевать ночные рубашки в цветочек, копошиться за швейным столиком с зеленой подушечкой для игл, греметь цветочными горшками и лейками в чулане, выставлять рождественские фигурки, пересчитывать кольца, просматривать поминание в молитвеннике, притрагиваться к ручкам дверей или же включать в гостиной новый телевизор, покрытый кружевной салфеточкой, бывшей в моде в те времена, когда танцевали польку. Хименес обратил внимание друзей на фотографии, которые представляли сестер Пелаес в различных возрастах. Такие одинаковые, всегда вместе, с вечной улыбкой – на одну сторону, ничем не примечательные коротышки, и руки у них, наверное, всегда ритмично двигались. Плинио с доном Лотарио узнали их сразу же, перекинулись словом и задержались перед официальной фотографией дона Норберто Пелаеса и Корреа в мантии, судейской шапочке и с толстенным сводом законов в правой руке. Должно быть, он сфотографировался сразу по получении диплома. На другом, более позднем снимке – очевидно, он уже был нотариусом в Мадриде – дон Норберто с супругой и двумя дочерьми стоял на томельосской площади у фонтана.
– Как сейчас вижу, – сказал дон Лотарио, – идет по Пасео-дель-Оспиталь под руку с женой, белокурой такой, а впереди – девочки, тоже под ручку, и смеются… Сеньора-то сама из Басконии – широкая в кости, полногрудая, но длинноногая, а кожа – шелковистая. Дон Норберто – из Мадрида.
– А вот про него не скажешь, что широк в кости, – пошутил полицейский Хименес. Потом показал на фотографию, которая стояла на столе в кабинете.
Дон Лотарио подошел поближе: на фотографии супруга дона Норберто, совсем еще молодая. И внизу подпись: «Норберто от Алисии».
– Да, это она.
Над креслом у письменного стола – чудовищный портрет маслом самого дона Норберто.
Они осматривали квартиру, время от времени обмениваясь короткими замечаниями или вспоминая что-то по ходу дела, пока наконец Хименес не поглядел нетерпеливо на часы и не сказал:
– Ну ладно, сеньоры, мне надо идти. Как заметил комиссар, все в ваших руках. Вот ключи от квартиры и список всех произведенных по этому делу расследований. Я в любой момент к вашим услугам. Надеюсь, вам быстро удастся найти следы этих красных, рыжих – или как вы их там называете – близнецов.
И без лишних слов протянул им руку и поспешил прочь.
Когда они остались одни, Плинио сказал:
– Пошли в гостиную, по-моему, я видел там электрический камин, а то меня в этом погребе начинает знобить.
Они погасили свет и пошли в гостиную. Проходя мимо телефона в коридоре, Плинио захватил телефонную книгу.
Они включили камин, настольную лампу и уютно устроились за столом. Закурили сигареты, и Плинио, затянувшись и водрузив на нос очки, со свойственной ему неторопливостью принялся листать телефонную книгу. Судя по списку, который дал им Хименес, сделано было мало, да и то, что попроще.
Ветеринар, надвинув шляпу на самые брови и зажав в углу рта сигарету, оглядывал комнату, самую маленькую в квартире, но где, без сомнения, главным образом и проходила неяркая и одинокая жизнь рыжих сестер. По словам Хименеса, у них была всего одна служанка, которая приходила через день, чтобы постирать и убрать квартиру. Остальное же время несчастные сиротки, дочери нотариуса, проводили одни, как сообщила комиссару служанка сестер, которая первая обнаружила, что обе ее старые госпожи исчезли.
Друзья обратили внимание на то, что в этой комнате на самых видных местах по стенам были развешаны в рамках маленького и среднего размера фотографии родственников и друзей. Словно бы затем, чтобы перед глазами всегда было то, что составляло главную и лучшую часть их жизни.
Пока Плинио был занят телефонной книгой, дон Лотарио внимательно, одну за другой, рассматривал фотографии. Многие совершенно потускнели. Очень скоро они выцветут окончательно и превратятся в желтые кусочки картона, на которых не будет ни лиц, ни пятен. Дон Лотарио пробегал взглядом по лицам незнакомых ему людей и думал о том, что образы умерших выцветают и тускнеют в памяти друзей и родственников вот так же, как эти фотографии. И приходит день, когда ни в умах, знавших нас, ни в сердцах, нас любивших, не остается о нас никаких воспоминаний. Потом поделят наши бумаги, мебель и одежду, перестроят кладбищенскую нишу, освобождая место для других, разобьют могильную плиту – и все то, что было нашей жизнью, составляло смысл нашего присутствия на земле, наши слова и манеры станут пустым звуком, будут так далеко от жизни, словно бы мы и не рождались на свет. Ему вспомнилось: когда перебирали полы в зале у них дома, на обратной стороне одной из старинных мраморных плит, которая когда-то, видимо, была могильной плитой, обнаружили надпись: «Хусто Мартинес Ло… (1802–1837)». Это открытие не давало ему покоя, и он несколько месяцев расспрашивал в селении обо всех Лопесах, Лобесах и Лоренсо. И обо всех Мартинесах, и Хусто Мартинесах – не сыщется ли хозяин имени, которое он и его недавние предки топтали в течение всей жизни. Но так ничего и не дознался. Потому что церковный архив сожгли в гражданскую войну, а архив гражданский такие давние времена не охватывает. «Неужели же, – говорил он себе, – этот Хусто Мартинес Ло… прожил на этой грешной земле тридцать пять лет и не оставил о себе никаких воспоминаний?»
– Хусто Мартинес Ло…! – воскликнул он, больше обращаясь к своим мыслям, нежели к действительности. – От тебя в этой долине слез осталось одно колченогое имя, которое по чистой случайности я храню в памяти.
Плинио оторвался от телефонной книги и уставился на дона Лотарио поверх очков. Но поскольку тот продолжал свой осмотр, не замечая, какое впечатление произвели его слова, Плинио, так ничего и не поняв, снова углубился в телефонную книгу.
Прошло довольно много времени, прежде чем дон Лотарио сказал:
– Смотри-ка, Мануэль, сколько тут фотографий наших земляков.
Тот поднялся посмотреть.
– Видишь, вот дон Норберто в дверях муниципалитета вместе с алькальдом Франсиско Карретеро.
– Ну и толст же был братец Франсиско!
– Наверное, какой-нибудь праздник – оба приодеты.
– Да, видно, примечательный день – оба в праздничных костюмах, а у Франсиско в руках – жезл.
– Послушайте, дон Лотарио, а кто такой Хусто Мартинес Ло…?
– Черт возьми! Откуда ты знаешь это имя?
– Вы только что сами его произнесли. – Я?!
– Да, сеньор, вы громко сказали: «Хусто Мартинес Ло…» И что-то еще.
– Наверное, сказал: покойный.
– Не знаю, что именно. Но только вы начинаете разговаривать сам с собой, как тот каталонец, который, помните, ходил в «Сиркуло либераль» и за чашкой кофе заключал сам с собою сделки. Не помните?
– Как не помнить! А в один прекрасный вечер надавал себе пощечин, приговаривая: «Вот тебе, Мелитона, сукин сын. Вот тебе, вот тебе!..»
– И, бывало, после шести или восьми рюмок коньяку – потому что с каждым днем он пил все больше – он начинал говорить будто сразу со многими. Чем больше выпьет коньяку, тем больше ему мерещилось сеньоров вокруг, с которыми он спорил. Так вот, вы, беседуя с этим Хусто Мартинесом, идете по той же дорожке…
Дон Лотарио засмеялся и рассказал Плинио историю с могильной плитой, которую нашли у него в доме.
Поговорив еще немного, друзья принялись звонить по телефонам, которые были в книге, – такой план придумал Плинио.
Первый номер оказался телефоном бакалейного магазина. Дон Лотарио под диктовку Плинио записал адрес. По второму никто не ответил. Третий принадлежал людям, которым, как им объяснили, сестры звонили в тех случаях, когда надо было известить служанку. Четвертый – дону Хасинто Амату, духовнику сестер. Плинио попросил к телефону священника и условился с ним о встрече на следующий день в кафе «Универсаль». Так они звонили довольно долго, пока не получили список, в котором были модистка, гомеопат, домашний врач, молочная лавка и остальное в том же духе. Потом они составили рабочий план на следующий день и уже хотели уходить, собираясь поужинать в гостинице, как вдруг у дверей позвонили.
– Черт подери, Мануэль, а вдруг эти цветные сестрички объявятся и уведут у нас такое заманчивое дело прямо из-под носа, – сказал ветеринар с душевной мукой.
Плинио расхохотался и глотнул табачного дыма так, что тот проник в самые дальние закоулки дыхательных путей; закашлявшись, он пошел открывать.
Это оказалась женщина, тощая и нервная, замученная работой, а может быть, и нуждой.
– Я Гертрудис, служанка сеньорит, – сказала женщина. И, даже при тусклом освещении узнав Плинио, добавила: – Ах ты боже мой да никак это начальник Плинио.
– А я и не знал, Гертрудис, что ты живешь в Мадриде.
– Вот уже два года, сеньор. Я как все. Ну надо же – и дон Лотарио тут! – обрадовалась она при виде входящего дона Лотарио. – Ну надо же!.. Как же я рада, что вы тут! Вначале я вас не припала – в пиджаке-то, но как вы заговорили… А что вы тут делаете?
– А так, позвали – может, найду, куда пропали твои хозяйки.
– Пресвятая дева Мария! Я как раз пошла к другой моей хозяйке – я туда тоже хожу, – а тут мне и сказали, что звонили отсюда. Я и подумала, дай-ка забегу… тут рядышком – не стряслось ли чего еще ненароком.
– Нет, больше ничего. Проходи, садись.
– Хотите, я сначала вам пива принесу, в холодильнике стоит, все одно пропадет. И ветчина есть.
– Вот и хорошо, – сказал дон Лотарио, – и на свою долю неси.
– Ну как же я рада, что вы тут! Ну как я рада, как я рада! – И с этими словами она пошла по длинному коридору.
Когда ветчины и пива стало вдвое меньше и все трое сидели уютно возле камина, Плинио начал допрос:
– Как ты попала в этот дом?
– Так ведь если сеньоритам что было надо, они всегда имели дело только с нашими – из Томельосо. Даже еда в доме всегда была тамошняя: колбасу всякую покупали у Каталино, вино – у Гонсалеса Фернандеса, сыр – у Иносенсии Торрес. Да и я им то кашу по-нашему сварю, – то курочку зажарю. И все, все – так. Полюбилось им все это, когда там жили. А уж такие они хорошие, сеньориты. Ну хорошие – и все тут. И все-то время ходют, ходют. Туда-сюда, туда-сюда. А уж чистюли – все у них блестит. И весь-то день все моют да моют – сверху донизу, ни пятнышка на них, ни пылинки. И уж мастерицы – на все руки. Ну просто отдыха не знают. На работу и на мытье – отдыха не знают. Как они близ-нята, то и думают и делают все одинаково. Уж я и то сколько раз, особенно когда они в рубашках, не могу различить – кто одна, а кто другая. Одна, знаете, побойчее, поразговорчивее. А другая – поспокойнее, потише, но двигались-то они одинаково и руками – тоже одинаково. Я, знаете, Мануэль, как их различала? У одной, у сеньориты Алисии, на большом пальце на правой руке ноготь кривой.
– Послушай, – прервал ее Плинио, – а как ты думаешь, что могло произойти?
– Ума не приложу. Уж я говорила тутошним полицейским. Ума не приложу. Обокрасть их не обокрали, потому как все свои денежки – а их предостаточно – они держат в банке. А тут, как они ушли, никто и пальцем ни к чему не притронулся. И потом, что я могу сказать? Да вы, наверное, сами знаете, такие они замечательные, ну просто благодать божья, некому на них зла держать! А если вы думаете, какие любовные дела – так уж не в том они возрасте Бедняжки! Да они чище самого святого Иосифа.
– А что за люди у них бывали?
– Я всех знаю, кто тут бывает. Всё, божьей милостью, приличный народ. И многие из Томельосо. Что еще? Эта тайна почище непорочного зачатия, скажу я вам.
– Я вижу, тут все на ключ заперто.
– Да, это – да. Хотя в доме они одни были… Я у них как своя, и все равно всегда все запирают. Да и сами они над собой смеются.
– А где они держат ключи?
– Все ключи – в правом ящике, в большом туалетном столе.
– А от ящика туалетного стола?
– Этот у себя в сумке. У каждой по ключу. Ничего подозрительного вы тут не найдете. Можете не стараться.
Гертрудис сопровождала свои слова резкими и решительными жестами. Слова, хотя она их и коверкала, были меткие. Иногда она поднимала кверху изуродованную работой руку, вытянув указательный палец. А когда слушала, ее глаза, глубоко сидящие на тусклом и худосочном лице, не мигая, бегали как ртуть.
– Обе были незамужними и никого у них не было?
– Бедняжки! Ну конечно. У Марии был жених, за всю жизнь один жених, да и он пропал во время войны. А у другой, я так думаю, и вовсе никого. Правду сказать, красивыми они не были. И потом, скажу я вам, им вроде бы… как бы это… огня, что ли, не хватало… Вы меня понимаете?
Дон Лотарио улыбнулся.
– Чистая правда. В женщине горячей, даже если она и немолодая, сразу видно, кровь играет. А эти…
– Ладно, – сказал Плинио, допивая пиво, – нам придется тебя кое о чем спрашивать, так я буду звонить по этому телефону.
– По этому. Я там бываю каждый день. Вы только позвоните, я примчусь мигом, как на велосипеде, это тут рядышком, на улице Гравина. Чуть что надо – Гертрудис тут как тут. А уж для вас, сеньор Плинио и дон Лотарио, – какой разговор. Мне это ничегошеньки не стоит!
Они так устали с дороги, что решили в этот вечер никуда не ходить и, поужинав в гостинице, прошли в маленький салон, справа, посмотреть, не пришел ли Фараон, и выкурить перед сном сигарету.
В кресле сидела какая-то сеньора, очень пожилая, с виду иностранка; на коленях у нее была собачка – китайский мопс. В другом кресле молодой негр читал книжку на английском языке.
С того момента, как они вошли, сеньора с собачкой не сводила с них глаз. Наконец какое-то время спустя она спросила с явным Французским акцентом:
– Вы тоже из Томельосо?
– Да, сеньора, – ответил дон Лотарио. – Как вы это поняли?
– В этой гостинице – все из Томельосо.
– Кроме него, – показал дон Лотарио на негра.
– Он – не оттуда. И я не оттуда, а вот собачка – оттуда.
– Неужели?
– Да. Мне подарила ее одна девочка из Томельосо. Эта собачка дл я меня как ребенок.
И она замолчала, поглаживая песика, которому это определенно нравилось.
– Он у меня один, больше никого на всем свете. Все умерли во Франции.
– Вы давно живете в Испании?
– Пять лет.
– Вам у нас нравится?
– Нет. Но какая разница, где умереть?
Наступила такая тяжелая тишина, что даже негр заметил это и поднял от книги глаза, сверкнув фаянсово-белыми белками.
А французская сеньора, зажав песика под мышкой, с большим достоинством поднялась и, кивнув на прощание, вышла.
Дон Лотарио жестом выразил удивление. Негр, откинувшись в кресле, опять углубился в книгу.
Вышел дон Эустасио посмотреть, кто остался в зале. Поверх очков оглядел негра. Друзья немного поговорили с доном Эустасио, он рассказал им о французской сеньоре, и, поскольку Фараон все не появлялся, они, зевая, разошлись по комнатам, которые находились на верхнем этаже.
Рано утром они уже были на улице Аугусто Фигероа. Воспользовавшись помощью полицейского, которого им прислали из Управления, они открыли ящик туалетного стола, где лежали все ключи. И начали терпеливый осмотр одежды, писем, фотографий, предметов, которые хранили в память о чем-то, шкафов, комодов и шкатулок в поисках того, что могло бы навести их на след.
Из всего, что в это утро предстало их взгляду и прошло через их руки, внимание Плинио и дона Лотарио привлек лишь хранившийся в банке со спиртом человеческий зародыш всего нескольких недель. Банка стояла на верхней полке шкафа в спальне, которая в свое время, видно, принадлежала супругам Пелаес.
– Наверное, семейная реликвия, – сказал дон Лотарио.
Плинио согласился с доном Лотарио, и они пришли к выводу, что, должно быть, все в этом шкафу – семейные реликвии сестер Пелаес, потому что в шкатулках полно было всяких молочных зубов, прядей волос и даже бандаж от грыжи и прожженная женская перчатка.
– Да… видно, люди они памятливые и к смерти относятся с уважением.
После полудня позвонила Гертрудис и сказала, что придет напоить их пивком.
– Неужели ты считаешь, что мы приехали в Мадрид, чтобы день-деньской торчать в этой квартире!.. – сказал вдруг дон Лотарио и вышел на балкон, словно ему не хватало воздуха.
Плинио уставился на него:
– А вы думаете, что мы будем гулять? Мы работать приехали.
– Правильно, но одно другому не мешает. Можно, к примеру, прогуляться по Растро, перекусить в «Ларди» и в парк Ретиро заглянуть… Да мало ли… Просто мне не нравится сидеть тут целый день безвылазно.
– Да, выходить, конечно, надо. Но время у нас еще будет. Вот кончим дело и целый день посвятим здешней экзотике.
Плинио вспомнил, что в комнате рядом с кухней есть еще огромный шкаф, и пошел туда, но настроение у него немного испортилось. Дон Лотарио постоял некоторое время на пороге залитого солнцем балкона, посмотрел на светлые фасады домов и наконец с недовольным видом, проклиная все на свете, отправился к шефу.
Тот уже открыл большой шкаф. Он был битком набит куклами и куколками всевозможных размеров, времен и сортов. Все они были чистенькие, в аккуратных платьицах и разложены в строгом, скучном порядке. Десятки стеклянных глаз смотрели на мужчин. Поднятые ручки, растопыренные пальцы. Застывшие улыбки. Красные ротики, бесконечное множество белокурых головок. Плинио с нежностью разглядывал этот кукольный мир. Все эти бесчисленные фарфоровые, пластмассовые и целлулоидные фигурки символизировали неудавшееся материнство рыжих сестер. Можно представить себе, как они долгие шестьдесят лет вечерами находили отраду у этого шкафа с куклами, баюкали их, переодевая, прижимая к горячим, высохшим грудям, к своим никем не тронутым губам, укачивая на своих не познавших греха коленях. И, может, какую-нибудь, самую любимую, брали с собою в холодную постель, согревая ее у своих костлявых ребер, в белизне нетронутой рубашки, в гнездах рыжих подмышек. Все мальчики, все девочки, которые у них не родились и о которых они мечтали, были здесь, в этом шкафу, многократно повторенные. Одни – с сосками, другие – в распашонках, третьи – в немыслимых пляжных шляпах… И Плинио думами перенесся к собственной дочери, своей бедной дочери, вполне уже взрослой, которая, быть может, тоже не выйдет замуж и тоже мечтает о родах в муках, о младенцах, точно коконы укутанных в одеяльца, о маленьком слюнявом ротике и о детском плаче по ночам. Женщина, чья плоть не познала радости, а чрево – плода, наводит тоску еще большую, чем самый печальный кладбищенский кипарис. Чрево должно получить свою долю радости, и надо ночами в объятиях исходить потом и криками, надо рожать, когда приходит срок, и выталкивать на свет божий тельце, изрыгая плаценту, воды и крики. Надо, черт подери, отдавать должное нижней половине собственного тела, а не вести себя по ночам словно ты мраморный бюст на пьедестале.
– Что ты там делаешь с таким серьезным видом? – спросил его дон Лотарио.
– Ничего. Просто думал.
У дверей позвонили. Дон Лотарио пошел открывать. Это оказалась Гертрудис. Она вошла упругим шагом и, поздоровавшись, спросила без всякого умысла, что они делали целое утро. Плинио спокойно перечислил ей все, что они осмотрели: вещи, одежду, мебель, комнаты.
Гертрудис, считая себя посвященной, начала перебирать, проверяя, все ли они осмотрели:
– А широкий шкаф видели?… А большой комод?… А кладовку?… А шкаф с «детишками»?… А нижние полки стеллажей?… А…
На каждый вопрос Плинио утвердительно кивал головой. Наконец, признав себя побежденной, она пошла за пивом. Плинио сел в кресло и зевнул. А дон Лотарио вернулся на балкон.
– Ну, уж одно-то место вы – ну как пить дать! – не видели, – сказала Гертрудис, входя с пивом.
– Что именно?
– Что именно?… А комнату духов?
– Что же там – в этой комнате?
– А поглядите. Такого, небось, не видели…
– А то, что хранят в шкафах, на полках, на столиках и в сундуках, – такое ты где-нибудь видела?
– Такого тоже не видела, сеньор. Очень они бережливые.
Потом они молча и не спеша разделались с пивом и ветчиной. И только когда закурили, Плинио сказал:
– Ну-ка, пошли заглянем в ту комнату, что там за духи, что за чистилище?
– Духи, сеньор Мануэль, комната духов, не святотатствуйте.
Между большим шкафом времен королевы Изабеллы и дверью из спальни в маленький полутемный кабинет за светлой шторой был коридорчик, в глубине которого находился еще один шкаф, уже осмотренный. В нем хранилась ношеная одежда, белье и шерстяные вещи.
– Где же комната призраков? Шкаф мы уже смотрели.
– Духов, сеньор Мануэль. Она – за шкафом. Давайте отодвинем его немножко, она там.
И действительно, отодвинув шкаф, они увидели маленькую дверь, оклеенную теми же обоями, что и стены спальни. Унылыми обоями в модернистском стиле, модном в начале столетия.
– А почему она называется комнатой духов?
– Да не знаю… Посмотрите сами…Когда мы во время уборки отодвигали шкаф, они ее так называли.
– В шутку, наверное?
– Да нет, сеньор, всерьез.
Они долго перебирали ключи, пка не нашли нужный.
Дон Лотарио открыл дверь. В маленькой каморке, освещенной тусклым светом, который падал из высокого окна, выходившей в помещение, где хранился уголь, затхлый воздух пропах нафталином. Повернули выключатель рядом с дверью. Комната была гораздо больше, чем казалась при размытом свете из окна. В комнате ничего не было, кроме восьми или десяти манекенов из картона и ивовых прутьев, в костюмах разного времени. Но самое интересное: на шее у каждого – как бы вместо головы – была увеличенная фотография. Диковинный отряд, рожденный детской фантазией. Один манекен (почему-то в куртке) соответствовал дону Норберто. Другой – в черной меховой шубке – донье Алисии. Остальные – другие родственники, бородатые и в локонах, – те, что изображены на портретах, украшавших стены гостиной, в сюртуках и в платьях по щиколотку. Среди них выделялся один – в военной форме тридцатых годов; вместо головы у него был увеличенный портрет юноши с чуточку бараньими глазами. На груди мундира под знаками различия республиканской армии была пришита подушечка-сердечко, а на ней – слова, вышитые желтыми буквами: «Мария Пелаес, моя любовь навеки».
– А это, наверное, жених сеньориты Марии, тот, что пропал во время войны.
Плинио и дон Лотарио грустно усмехались, глядя на этот ни на что не похожий музей, а Гертрудис все не могла прийти в себя от изумления:
– Прости, господи, Пресвятая дева Пеньяройская, что же это они мертвяков-то понаставили! То-то и называли ее комнатой духов. Ну, батюшки мои, дела!.. Вот уж не знаю только, где они достали мундир как у жениха сеньориты Марии. Ведь она голого мужчину, бьюсь об заклад, в жизни не видала.
– Наверное, кто-то им принес… Или купили.
– Не знаю, не знаю. Очень подозрительно. Чужая одежда – в этом доме.
Манекены стояли в хронологическом порядке. И только один не умещался в генеалогические рамки – военный с пришитым сердечком.
Дон Хасинто Амат и Хосе Мария Пелаес
Поскольку новостей больше не было, а время близилось к двум, они отправились обедать в гостиницу. По дороге захватили пива и в неторопливом лифте поднялись наверх. Фараон в гостинице не обедал, и они сели за столик одни. За соседним столиком сидела пожилая супружеская пара и молодая девушка: разговаривали о свадьбе. За другим – одинокий сеньор, занятый газетой, ел, не глядя в тарелку.
Покончив с десертом, они перешли в кафе «Универсаль», где договаривались встретиться со священником. Было еще рано, и они выбрали столик у входа, около окна. Из окна хорошо видна была бойкая торговля на Пуэрта-дель-Соль и в самом начале улицы Алькала. Прямо перед ними людской поток растекался с Алькала по улицам Каррера-де-Сан-Херонимо, Эспос-и-Мина и Карретас.
– Сколько людей, и какие все разные, – заметил задумчиво Плинио. – Смотрите, как они идут по переходу, натыкаются друг на друга и даже в лицо друг другу не взглянут. Будто о вещь споткнулись. Каждый замкнут в себе, у каждого голова болит о своем – о чем, со стороны не поймешь, со стороны только видно, что идут, снуют, никого не замечают. И каждый в этой толпе – чужой.
– Это правда, в селах люди больше общаются между собой. А тут люди живут в одном городе, а друг друга не знают и, похоже, знать не хотят.
– Смотрите, вон тот помогает слепому перейти улицу. Ведет его под руку, а на него не глядит. А через минуту и не вспомнит, слепого он переводил или корзину помог перенести.
– Смотрят только на красивых женщин. Видишь, сколько глаз ну прямо прилипло к ножкам вон той… к ножкам и повыше…
– И славу богу. Единственное, что еще способно растопить холод, который сковывает такие вот города… – заметил Плинио. – А я слышал, в Европе уже и на это не глядят.
– А этот медведь на фонтане посреди площади – просто безобразие. Страшное дело, когда чиновник лезет в искусство, – сказал дон Лотарио. – Ты это лучше меня знаешь. Политиков не следует допускать к украшению города – уж очень они грубы и всегда гнул свое. Стоит алькальду или муниципальному чиновнику взяться за украшение села – крышка. Вот и с медведем так же.
– Да и сам фонтан не из лучших.
– Прямо сказать, безобразный.
– Представь, какой простор фантазии дает городским властям такое, скажем, историческое местечко, как Пуэрта-дель-Соль.
– Первым делом они обычно набрасываются на деревья.
– А потом испоганят и всю площадь: перегородят стоянкой для автомашин, которая все равно не решит дела, да еще изроют подземными переходами.
– Друг мой, коммерция есть коммерция, – заметил невозмутимо дон Лотарио. – Если испанец чует, что пахнет деньгами, он не только площадь не пощадит, но и весь город ему нипочем. А поскольку запретить некому…
– Говорят, испанцы – любители старины. Ложь чистейшей воды. У нас нет вкуса к старине – я не говорю об идеях, тут мы пользуемся старьем времен Мафусаила, – но старины, ее красоты и ценности у нас не понимают.
– Черт подери, Мануэль, да ты никак начинаешь злиться!
– Просто все это мне далеко не безразлично. Хоть я и не знаток но то, что сделано предками, уважаю.
– В этом кафе иногда играет женский оркестр. Лица и бедра у них как у добропорядочных семейных женщин, а играя, они потихоньку разговаривают – наверное, о том, что надо купить, или о том, что ребенок болен корью.
– Интересно: вы мне все это уже рассказывали в прошлый раз, когда мы тут были.
Сейчас пустовавшая эстрада под балдахином с кисточками была задернута розовым занавесом.
За стойкой виднелись два больших куба – в одном автоматически, размеренно перемешивался апельсиновый сок, в другом – лимонный.
– Весь вечер его перемешивают, – сказал вдруг дон Лотарио. – Перемешали бы в миксере – и довольно, как ты думаешь?
– Наверное, специально, чтобы вызвать жажду у клиента. Чего только не придумают, чтобы вытянуть у посетителя несколько лишних монет, – заметил Плинио.
Постепенно кафе наполнялось. Мужчины, судя по виду селяне, собирались группками. Некоторые сидели, нахлобучив шляпу или берет, кто-то скреб затылок, не снимая шляпы, как, случалось, делал это и Плинио, или, подперев подбородок ладонью, зевал во весь рот. Были тут и вполне обеспеченные, которые жили на ренту или же на пенсию, а то и на помощь от детей. На большинстве были коричневые костюмы и зеленые шляпы. Говорили они размеренно, поучающе, воздевая кверху руки, с видом презрительным, в давно вышедшей из моды манере. От ближайшей группки долетели обрывки разговоров, пересыпанные названиями имений: «Луг сеньора священника», «Дом на старой меже», и подробности насчет купли, продажи, налогов. У некоторых, наверное, полно было внуков, скорее всего, они не очень-то ладили с невестками и сюда приходили скоротать остаток дня. Они выглядели ужасно одинокими и все, что ни делали, делали с невозмутимым спокойствием: придвинут кофе, бросят туда сахар, размешают, закурят сигарету. Это было единственное, чем они могли заняться до ужина, и растянуть это занятие они собирались как можно дольше. Некоторые, сдвинув очки на кончик носа, листали и перелистывали утренние газеты. Нередко в таком кружке можно было увидеть молодого человека, судя по виду, только что приехавшего в Мадрид, и он, выбитый из привычной колеи, жался к старшим – односельчанам или родственникам. За одним из столиков сидели две женщины с огромными сумками – волосы забраны в пучок, черные вязаные кофточки; они откровенно дремали, прикрыв глаза и свесив голову с двойным подбородком на грудь. Одна из них ни с того ни с сего вдруг встрепенулась, открыла глаза и схватилась за большую пластиковую сумку, стоявшую на столе, и, убедившись, что все в порядке, опять погрузилась в сон.
– До чего похоже на сельское казино, – сказал дон Лотарио.
– Одна разница – это находится на Пуэрта-дель-Соль, а так все точь-в-точь… Это умники не хотят признать, что большинство испанцев – такие… Вернее, – поправился он с усмешкой, – мы такие…
– Да, мы – дети земли, рожденные у дороги, у самой колеи, выбитой повозками, теперь – тракторами. Когда попадаешь в Мадрид, такое впечатление, будто испанцы – все сплошь служащие. А это вовсе не так, большая часть Испании – крестьяне, которые едва умеют читать и писать, говорят, что верят в бога, а в церковь не ходят и думают, будто монархия отличается от республики тем, что король сам – из крестьян. Испанцы – один из самых темных народов в Европе, и кое-кто немало сил положил на то, чтобы он таким и оставался, – говорил дон Лотарио, точно выступая на митинге. – Слава богу, еще позволяют иностранцам с деньгами приезжать к нам на отдых. Может, со временем все же перестанут считать нас нацией, производящей чистильщиков и сардины в консервах.
– Тысячи уехали отсюда и, чтобы прокормиться, стали носильщиками.
– Короче говоря, – подвел итог дон Лотарио, – мы, всегда такие националисты, должны признать, что немногими сдвигами к лучшему обязаны загранице.
– Смотрите, наверное, этот священник ищет нас, – сказал Плинио, указывая на короткошеего священника, который озирался по сторонам, высоко задирая нос, потому что веки у него почти не поднимались.
– Вы дон Хасинто Амат? – вставая, очень вежливо спросил его Плинио.
Они поздоровались, и Плинио представил ему ветеринара. И правда, бедный дон Хасинто не мог сладить с веками. Они все время падали, как оборванные жалюзи, и, чтобы видеть, ему приходилось задирать кверху голову, так, словно он заглядывал поверх довольно высокой изгороди. Когда он сидел, усилия его были не так заметны, потому что сидя он смотрел в лицо собеседнику не прямо, а искоса. Должно быть, удобнее всего ему было смотреть уголком глаза, скашивая зрачок к самому виску. Он был очень смуглый, волосы иссиня-черные; сутана на нем была далеко не новая – полы ее успели побуреть.
– Итак, чем могу быть вам полезен? – спросил он после того, как они закончили обычный обмен любезностями и заказали кофе.
– Я говорил вам по телефону, что Управление безопасности поручило нам расследовать дело сестер Пелаес.
– Да-да, я знаю. Мне сказали в Управлении. Пусть вас не удивляет, что я позвонил и проверил… В таких случаях ничего не известно…
– Вы правильно поступили, – ответил Плинио очень спокойно, проводя кончиком языка по губам. – Ну ладно. Так что вы думаете об этом странном исчезновении?
– По правде говоря, дорогой друг Гонсалес, я не знаю, что и думать. Потому что они обе ну просто святые. Обычно причиной таких происшествий бывают деньги или месть. А тут ничего не украдено. Никто, как вы знаете, ничего не тронул. Деньги они держат в банке. А месть – кто им может мстить? Они, что называется, святые, да и только. Какая-то странная загадка!
– В преступном мире случаются вещи, которые поначалу невозможно понять, а потом обнаруживается – самые обычные причины. Вот я и подумал, что вы, очень хорошо зная их самих и людей, с которыми они общались, вероятно, сможете нам что-нибудь подсказать.
– Конечно, я знаю их. Я много лет их духовник. И был духовником их матушки.
– Я думал, вы моложе.
– Цвет моих волос ввел вас в заблуждение, мне скоро семьдесят. Ну, право же, святые, святые, да и только. У них в доме никогда ничего не случалось. Жизнь Алисии и Марии чиста и прозрачна, как стекло.
– Вы знаете, что у них в доме – в банке со спиртом – хранится человеческий зародыш? – спросил Плинио для разведки.
Священник с довольным видом рассмеялся, запрокидывая голову, потому что от смеха веки у него, видимо, совсем закрывались.
– Ну конечно, знаю. Это выкидыш, который случился у доньи Алисии, их матери, этой святой души. Бедняжка всю жизнь мечтала родить сына. Но ей не удалось доносить, вот она и хранила в банке то, что получилось. Между собою – один я это знаю – они называли его маленьким Норберто. Они часто спрашивали меня, не грех ли хранить зародыш. Я, конечно, говорил, что нет.
– Значит, вы знаете и про комнату духов?
– А как же! Я смеялся – в хорошем смысле слова, конечно, – над этой их выдумкой. Сколько времени проводили бедняжки в этой комнате, беседуя со своими близкими.
– А что это за военный, у которого к форме пришито тряпичное сердце?
– Я смотрю, вы никакой мелочи не пропустите, друг мой Гонсалес. Это единственная тень, я бы не сказал даже – черная, а скорее серая, в истории семейства.
– Расскажите, пожалуйста, что это значит.
– Он был женихом Марии – ко всеобщему неудовольствию. Не то чтобы он был плохим человеком, но, да простит меня бог, не только родителям… мне тоже казалось, что брак этот принесет беду.
– Почему?
– По тем временам это было ни к чему. Он был из тех, из злоумышленников. Вы меня понимаете?
– А именно: коммунист, анархист?
– Нет, просто республиканец. Может, немного радикальный. Из тех, что были с Мартинесом Баррио[2] или Асаньей.[3] Разница невелика, потому что, вы знаете, тогда от Хиля Роблеса[4] до самых левых все были на один манер. Словом, в церковь не ходил, в тридцать шестом голосовал за левых и стал офицером у красных.
– А по профессии кто он был?
– Ветеринар. Ветеринар-республиканец. Это уж вообще ни на что не похоже.
– Ну, – не выдержал дон Лотарио, – почему же это мы, ветеринары, не можем быть республиканцами?
– Не знаю, просто мне всегда казалось, что ветеринары и аптекари уважают порядок.
– Что же с ним случилось? – прервал Плинио.
– Неизвестно. Пелаесов война застала в Сан-Себастьяне, а он оставался в Мадриде. Больше о нем ничего не слышали.
– А его семья?
– Его отец был военный… тоже республиканец… и после войны пропал. Мать умерла, а брат, кажется, живет в Мексике.
– Ясно.
– Мария очень была к нему привязана. Как раз в тридцать шестом они собирались пожениться. Он был славный молодой человек. Но счастья ему не выпало, как и всем республиканцам. Что тут говорить – так уж случилось. Да вы сами знаете. В добропорядочной испанской семье республиканец, как бы хорош он ни был – это немыслимо… В мои дела он никогда не лез – что правда, то правда. В церковь не ходил, но со мною всегда здоровался за руку. Случалось, я высказывал ему свое мнение, и он не сердился. Всегда выслушивал очень вежливо, но стоило мне чуть отвлечься, и он тут же менял тему… Однако вся эта история с женихом – вчерашний день и, по-моему, никакого отношения к делу не имеет.
– Конечно.
– Я даже подумал, может, их выкрали ради выкупа. Они ведь богатые. Но никто ничего не просит… Если бы в тот вечер у них закралось какое сомнение, они перед тем, как выйти из дому, посоветовались бы со мной. Утром я видел их в церкви, мы даже поговорили немного. Они выглядели вполне довольными, как всегда. И такими просветленными.
Плинио и дон Лотарио переглянулись, словно утверждение священника, будто сестры Пелаес выглядели просветленными, не укладывалось у них в голове. Да и сам священник, похоже, удивился, что употребил такое слово, и потому очень серьезно посмотрел на них сквозь щелочки век и наконец сказал:
– Дело в том, что я в жизни не встречал таких опрятных женщин, как сестры Пелаес. Ты можешь беспрерывно сражаться с грязью, и все равно – пятна, все равно – беспорядок. У них же в квартире все было как новенькое, словно только что из магазина. Не заметили? Несколько дней в квартире никто не жил, и все равно – да вы сами видели… Так вот, какие снаружи, такие и внутри, они были чистые, – закончил он со вздохом.
Плинио разочарованно вынул кисет. Было ясно, что больше света на это дело священник не прольет. Они выудили все. Наступило долгое молчание. Плинио несколько раз притрагивался к галстуку, словно проверяя, на месте ли он. Он привык к плотно облегающей форме и теперь чувствовал себя, пожалуй, слишком «разболтанным».
Какой-то мужчина из компании за соседним столиком, с зеленым перстнем и в шляпе точно такого же цвета, сказал:
– Надо же, всю жизнь считал, что у меня повышенная кислотность, а вчера был у врача, лучшего во всем Мадриде, так он сделал анализы и сказал, что кислотность у меня как раз пониженная. И я могу пить коньяк и есть острое… После того как пятнадцать лет я постился, словно монах. Тысячу семьсот песет содрал с меня этот тип за то лишь, что посоветовал мне пить коньяк.
– Да, я вспомнил еще одно, – сказал вдруг священник, поглаживая пальцами свои непроворные веки. – Только вот никак не уразумею, имеет ли это отношение к несчастью… Было время, кома они хотели взять на воспитание ребенка. Это естественно. Жажда материнства, сами знаете.
– Разумеется, зародыш в банке ребенка не заменит, – не ко времени пошутил дон Лотарио.
Священник поглядел на него, словно не понимая. Плинио призвал на помощь всю свою выдержку, чтобы не рассмеяться. Дон Лотарио смутился, а дон Хасинто продолжал, как бы желая забыть неуместную шутку:
– Они начали переговоры… вернее, мы начали переговоры с детским приютом, но все оказалось так сложно, столько хлопот, что они отступились. Потом они стали договариваться с одной женщиной, чтобы она отдала им дочку, которую прижила от свекра.
– Как это – от свекра? – снова перебил дон Лотарио, который все никак не мог угомониться.
– Да, сеньор, от свекра. Дело житейское. Муж у нее умер совсем молодым, и несчастная женщина сошлась со свекром. Но так как у нее были дети и от мужа, то свекор решил отделаться от ребеночка. Но запросил слишком много денег, да еще ставил условия какие-то необыкновенные. Не представляете, как нагло он себя вел. Гнусный бесстыдник!
– Вот так штука! Быть сыном собственного дедушки, – вставил дон Лотарио.
– После этого они больше не делали попыток, – продолжал священник, никак не реагируя на неуместные шутки ветеринара. – Но не думаю, чтобы это имело какое-нибудь отношение к делу.
Плинио пожал плечами и добавил нехотя:
– Никогда не знаешь заранее. Где эти люди живут, вы знаете?
– Помню только – где-то у Каньо-Рото. Их двоюродный брат знает.
– Двоюродный брат?
– Ну да, кузен, Хосе Мария Пелаес, он у них вроде управляющего, советчик в банковских и других вопросах.
– Деловой человек?
– Пожалуй. Вообще-то он рантье, а главное – филателист. Они его страшно любят, он хорошо ведет их дела. Эти дни он был в Париже. Сегодня вечером приезжает. Хотел пробыть там дольше, но, поскольку кузины его пропали, я его сразу же известил, чтобы он все бросил и ехал сюда. Я собирался после вас идти к нему.
– Мы пойдем с вами, – решил Плинио.
– Очень хорошо.
Плинио поднялся и направился к туалету. За эстрадой для оркестра, слева, был еще один зал, еле освещенный. Там за столиками тоже сидели мужчины, утопая в ворохе газет или неподвижно уставившись на ложечку, которой помешивали кофе. Некоторые, совсем седые, в усыпанной перхотью одежде, сидели, прикрыв глаза, и выглядели очень одинокими… Они сидели, вдыхая полумрак и дым, процеживая капля за каплей последние опивки собственной жизни. Один, словно прислушиваясь кипению пригрезившейся птицы, возвел глаза к потолку с отрешенно-мученическим видом – точь-в-точь как на картине в спальне. Может, слышанная в детстве сказка, пережитый в юности порыв, а то и собственная свадьба вдруг привиделись ему на этом гладком, медового цвета потолке. Над головою другого поднимались кольца дыма, густо закручиваясь в кочан цветной капусты. Должно быть, тут сидели те, у кого не было ни компании, ни друзей, те, что бежали от освещенных квадратов окон и погружались в спячку размышлений, предпочитая в мечтах оживлять светлые эпизоды прожитой жизни. Еще один господин спал, утонув в диване, а рядом спокойно сидел совсем маленький ребенок и развлекался тем, что, нахлобучив коричневую шляпу, обнюхивал край, съехавший ему на нос. Повсюду, куда ни глянь, виднелись окурки, и казалось, что это шевелятся, притворившись окурками, кузнечики. Сбившиеся в углу тени походили на сморщенных людей, и на диванах сидели люди, смахивающие на тени. Плинио вспомнилась вдруг «комната духов» в доме Пелаесов.
А между тем дон Лотарио ума не мог приложить, о чем дальше говорить с духовником доном Хасинто Аматом. Совершенно ясно, что священник – да он и не скрывал этого – настроился к нему враждебно. Дон Лотарио упорно смотрел в окно. Тогда священник демонстративно, как будто ветеринара не было за столом, вытащил молитвенник. Дон Лотарио, увидев это краем глаза, рассердился и принялся напевать гимн Риего. Дон Хасинто словно бы ничего не слышал, однако повернулся к нему вполоборота – спиною.
Какая-то сеньора – хоть и под пятьдесят, но с виду в самом соку, блондинка, в бархатном пальто и с роковым взглядом – пила кофе у стойки. Те, что сидели поблизости, бросали в ее сторону взгляды и переговаривались:
– Хороши формы.
– Да, формы что надо! – подхватывали остальные.
Священник поглядел на них из-под упавших век, и его взгляд показался им укоризненным; тогда один из тех, кто отпускал комплименты, вскинул голову и повторил со злостью:
– Уж больно хороши формы!
Последняя фраза долетела до сеньоры в пальто, и она, повернувшись к говорившему в профиль, окинула его взглядом богом данных ей глаз, в которых словно бродило молодое вино.
– И потом, женщина любит, когда ей говорят, что она нравится, – сказал другой.
– Нравится… нравится… нравится… – добавил третий из той компании, подмигивая в сторону священника.
Все засмеялись. Священник глубоко вздохнул и еле слышно произнес что-то по-латыни.
Плинио в своем помятом костюме тоже походил на пенсионера, завсегдатая этого кафе. Он стряхнул пепел, которым был весь обсыпан, и задумчиво уставился в окно. Похоже, этот человек ничем не поможет в деле сестер Пелаес. К тому же его злило, что они до сих пор понятия не имели о существовании кузена-управляющего. «В деревне, – опять подумал он, – каждый человек – это нечто целое, законченное и в то же время часть большого – семьи. Там человека знают со всех сторон, знают его место в семье. А в больших городах людей видишь по частям, сбоку. И почти не имеешь представления обо всей семье. В деревне можно охватить взглядом всю историю жизни человека. А здесь ее надо складывать, как мозаику, из кусочков. Там жизнь каждого подобна книге, которая пополняется день за днем новыми событиями, о чем тебе рассказывают они сами или их близкие. Здесь же в лучшем случае тебе известны названия глав. Там ты сидишь на террасе «Сан-Фернандо», мимо проходит человек, а ты уже в памяти перелопачиваешь всю его жизнь, его удачи и невзгоды, его недостатки и его достоинства, его барыши и убытки, кто его обманул и кто у него помер, и в голову лезут даты: когда он сломал руку, когда eго укусила собака, а у его внучки приключился приступ аппендицита А уж если напрячься, так вспомнишь, где у них место на кладбища в какой лавочке они покупают провизию и какой цирюльник скоблит ему личность по субботам. Здесь же ты как будто видишь не людей, а их тени – сами они друг на друга не смотрят, друг с другом не разговаривают, все равно как афиша: объявляет о человеке, но его живой сути не показывает. Да и женщины-то привлекают твое внимание только формами и подрагиванием бедер… Поэтому бить полицейским в Мадриде – занятие научное и автоматическое. Всякое дело приходится начинать с выяснения, кто есть кто. А в деревне у полицейского работа человечная, сельский полицейский должен отыскать потайной уголок в жизни тех, кого он знает. Деревня – как книга. А города – как лживые газеты…»
– Смотри-ка, а она не прочь, – продолжал за соседним столиком тот, у которого голос был похож на шипящее на сковородке масло, не сводя глаз с женщины у стойки.
– Не прочь, только, наверное, не задаром.
– А может, и задаром. Может, прихоть, хочет скоротать вечерок – Черт подери, так и скажи ей.
Но тут в кафе вошел очень хорошо одетый молодой человек, которого, должно быть, ожидала женщина.
– Представление окончено, – сказал владелец шипящего голоса.
– А я-то удивлялся, что такая вышла на поиски. С этакими формами…
– Итак, сеньоры, вы идете со мною к Хосе Марии Пелаесу?
– Идем.
Они остановились на Пуэрта-дель-Соль, дожидаясь такси. Здесь, на улице, почти незаметно было, что творится у священник, с веками. Поток пешеходов, хлынувших через улицу, чуть было не унес дона Лотарио, и тот, размахивая руками, как в старой кинокомедии, с трудом удерживался на месте. Священник поднимал руку навстречу каждому проезжавшему мимо такси. Видимо он не мог отличить свободного от занятого. Ветеринар каждый paз украдкой хмыкал. Плинио смотрел на балконы гостиницы, и ему хотелось немедленно бросить всех кузенов, ужин, все на свете и от правиться спать. Свободного такси не было. Дон Лотарио локтем подтолкнул Плинио. Какой-то старичок, прилично одетый, рылся в урне, перебирая бумажки. Каждую бумажку просматривал. Некоторые совал в карман, а остальные с рассеянным видом выбрасывал. Изо всех карманов у него торчали бумажки.
– Что это он ищет? – спросил ветеринар.
– Не знаю… Да и он, по-моему, тоже, – вяло ответил Плинио.
Перебрав все, старичок кинулся к следующей урне, ничуть не заботясь, смотрят на него или нет.
Наконец подошло свободное такси, и они доехали до улицы Клаудио Коэльо. Слуга сказал им, что сеньор Хосе Мария уже приехал. Служанка, очень тоненькая, провела их из приемной в большой кабинет. За огромным столом сидел мужчина в зеленом шелковом халате и разглядывал в лупу марки. Ему было лет пятьдесят, бородка аккуратно подстрижена, очки в золотой оправе, стекла очков формой напоминали половинки яйца. Он сделал движение, будто собрался подняться им навстречу, но не встал, а так и остался сидеть, словно привязанный к креслу. На вошедших он посмотрел пустым взглядом, плотно сжав губы.
Дон Хасинто представил ему Плинио и дона Лотарио. Хосе Мария Пелаес неопределенно кивнул и жестом предложил всем сесть. Он не пожал им руки, а лишь вяло протянул кончики пальцев.
Дон Хасинто, высоко задирая голову, изложил историю исчезновения его кузин и разъяснил миссию Плинио и его друга. Кузен слушал все с тем же бесстрастным видом, лишь время от времени украдкой бросая взгляд на лежавшие перед ним марки.
Когда священник закончил свой рассказ, наступило короткое молчание; затем кузен произнес сытым и даже рассерженным тоном:
– Я не понял, что же вы собираетесь делать в этой связи.
В комнате, куда ни глянь, лежали альбомы для марок. Гости, жавшиеся на маленьком диванчике – в кабинете можно было сидеть только на нем, если не считать кресла самого кузена, – чувствовали себя довольно стесненно. Мебель тут была современная и красивая, но ее было мало. В этом кабинете все предназначалось для марок.
Опять наступило молчание, затем Плинио строго спросил:
– Почему вы не вернулись из Парижа сразу же, как только узнали об исчезновении сестер?
Кузен поглядел на Плинио так, словно только теперь заметил его присутствие, потом на священника и только потом – на марки; наконец, почти комично пожав плечами, сказал, глядя в пол:
– А чем я мог помочь?
– Ну, например, помочь нам нащупать след.
– …Я не знаю никакого следа, даю вам слово.
Плинио поднялся. Остальные последовали его примеру, с некоторым усилием отрываясь от диванчика.
– Я полагаю, вы не собираетесь в ближайшие дни уезжать из Мадрида?
– Пожалуй, нет. У меня тут много дел. – И он указал на марки.
Хосе Мария тоже поднялся с кресла, очень неспешно, наверное, он от природы был медлителен. И пошел следом за ними, засунув руки в карманы и низко свесив голову. Несмотря на то что он был довольно молод и сложением не слаб, двигался он как старик. В гостиной он сказал тихо, словно про себя:
– Никогда у меня не было склонности к детективным историям, и я просто не знаю, что сказать.
– Речь идет не о детективных историях, а о ваших кузинах, – отозвался Плинио.
– Если на то пошло, – сказал тот как бы через силу, скребя свой с заметной проседью затылок, – единственное, что я могу сообщить вам интересного, – это то, что у них был пистолет.
– Как – пистолет?! – встрепенулся Плинио.
– Да, у них был дядин пистолет.
– И что?…
– Если он на месте…
Священник, пораженный, уставился на Плинио.
– У них – пистолет?
– Вот кузен говорит. Где же они его держали?
– В постели тетушки Алисии, под матрацем.
– Действительно, под матрацами мы не смотрели.
– А я думал, полицейские осматривают все.
– Может, вы будете так добры и пойдете с нами в квартиру ваших кузин: вдруг вспомните еще что-нибудь.
– Хорошо.
Не вынимая рук из карманов, он замер, глядя в пол. Все ждали, что будет дальше. Наконец он снял очки со стеклами как две половинки яйца, подошел к вешалке, надел плащ, шляпу и сказал:
– Я готов.
– Ты халат не будешь снимать? – спросил его священник.
– Нет…
В такси они ехали молча. Поднялись наверх. Теперь в квартире казалось холоднее. Когда вошли, кузен как будто заторопился, если про него можно так сказать, и, ни слова не говоря, направила в спальню сестер. Все гуськом пошли за ним. Он зажег лампу на тумбочке, опустился на колени у постели, засунул руку меж двух набитых шерстью матрацев и, уставившись взглядом в потолок, начал шарить. Наконец вытащил картонную коробку. Не открывая взвесил на руке.
– Пустая.
Плинио взял у него коробку. Обычная картонная коробка с обрывками этикетки. Постучал по ней. Открыл. Внутри лежала одна обойма. Все переглянулись.
– Когда дядя умер, они хотели выбросить пистолет… А потом – они ведь жили одни, боялись, наверное, – вот и оставили.
– Никогда они мне не говорили, что у них есть пистолет! – воскликнул священник, и на его лице появилось выражение досады.
– Видно, на улицу их заставило выйти какое-то серьезное дело, раз они захватили с собой оружие, – сказал Плинио, поглядывая то на одного, то на другого и не отдавая коробку с обоймой.
– Разумеется, они не думали говорить вам всего, – сказал ветеринар.
Дон Хасинто задрал голову выше обычного, намереваясь испепелить дона Лотарио взглядом, чего, разумеется, не случилось, поскольку веки, как крышки, тут же упали ему на глаза.
– Вы очень любезны, – отчеканил уязвленный священник.
– А что думаете вы на этот счет, дон Хосе Мария? – спросил Плинио кузена, все еще стоявшего у постели на коленях.
– Кузины довольно порывистые особы, – ответил тот, поднимаясь с колен.
– Что это значит? – продолжал Плинио.
– Что… они… скоры на решения.
И опять умолк – руки в карманах, глаза в пол, рот сжат.
– Пожалуйста, объясните, дон Хосе Мария, – попросил Плинио, – что вы имели в виду… Скоры на решения в каких случаях?
– Ну… во всех.
– Хосе Мария правильно говорит, – пояснил священник, – скоры на решения, когда надо творить милосердие, благие дела…
– В этом роде… Или, например, торт купить, – доконал Хосе Мария священника.
Все переглянулись и, не в силах сдержаться, рассмеялись, даже священник. И только кузен стоял по-прежнему, не вынимая рук из карманов и уставясь в пол.
– Хосе Мария хочет сказать, что они порывисты, как дети, но всегда добры и невинны в затеях. Как святые.
– С пистолетом, – ввернул ветеринар: священник вызывал у него неприязнь.
– Да, дерзкий-на-язык-сеньор-ветеринар, с пистолетом. Но сердца у них чисты, как храм.
– Можно войти? – услышали они голос.
Все обернулись. В дверях спальни стояла привратница, коротышка с откровенно перепуганным лицом.
– Простите, сеньоры, и добрый вечер, я ничего, только вижу – вы поднимаетесь по лестнице, и говорю себе: вот станут спускаться – и скажу им, что припомнилось мне и гвоздит весь вечер, весь вечер. А вас все нету да нету, вот и думаю, дай-ка схожу сама. Гляжу – дверь отворена, я тихохонько, тихохонько, и вот я тут… Как бедняжки наши сеньориты пропали, так мы тут в доме, я хочу сказать, в привратницкой… все в голове ворошим, ворошим, не придет ли на ум, что с ними такое могло приключиться. Потому как, сеньоры, глянь-ка, такие люди они распрекрасные, и всю жизнь насквозь мы их знаем, потому как сеньорито Норберто, приехавши нотариусом, сами понимаете, из Томельосо, сразу привез сюда и моего папашу, мир праху его, привез сюда привратником, и так-то с нами обходились, они замечательно, а уж сеньориты… Я с сеньоритами, все говорят, вместе на горшок ходила, можно сказать, потому как матушка моя служила в доме у сеньорито Норберто, чужим глазам не видать, что тут происходило… А уж какая была неприятность, сколько мы пережили с этим выкидышем у сеньоры Алисии, после того в банке-то и держат его… Маленький Норбертильо… Да что сказать, как умер сам наш святой сеньор, а уж медалей у него было – пропасть, отец, значит, наших сеньорит, как сейчас вижу его в гробу…
– Ладно, так что вы вспомнили, что держали в голове весь вечер и собирались нам рассказать? – прервал ее Плинио.
– Что вспомнила? Ах ты, боже мой, начальник Плинио, так вот мой папаша, царство ему небесное, да вы его помните, Андрес Санчес, с вашего позволения, так вот, значит, два дня я была в деревне у своей двоюродной сестры, знаете, так вот, значит, возвращаюсь, а Гертрудис мне и говорит, что вы тут занимаетесь делом наших сеньорит… А мы так каждый год ездим в деревню на День всех святых украсить немножко могилки наших дорогих покойников – ведь уж никого из наших там и не осталось…
– Да-да, правильно, так что же ты вспомнила, расскажи.
– Правильно, Мануэль, правильно, ну и язык у меня… да только я уж так рада видеть вас, да и вас, дон Лотарио. Так вот, наши сеньориты в тот вечер, когда в последний раз они ушли из дому, так вот, они взяли такси, надо же – такси, а так они всегда ходили тут, рядышком, около дома, и из нашего квартала – ни ногой, если ничего такого не было… Коли в церковь – так в церковь святой Варвары или святого Иосифа, коли за сластями – так к Идальго, или к Риофрио, или к Монико, да и в театр – по соседству… Только глянь-ка, Мануэль, в тот вечер они, как вышли, стали у двери и первое попавшееся такси остановили. А я говорю себе: уж не стряслось ли чего – такси взяли!
– А вам ничего не сказали?
– Ни словечка. Я уж все рассказывала другим полицейским, которые важнее вас… я хочу сказать, они мадридские и пришли первые. В общем, сели в такси и – поминай как звали! Я сказала сестре своей Фелисиане, она совсем слепая: «Куда это отправились наши сеньориты, в такси, да все скорей, скорей?»
– Ладно, что еще ты хочешь нам рассказать и помнила весь вечер, а насчет такси мы и сами знали.
– Кто же вам рассказал? – растерянно спросила она.
– Другие полицейские, те, что важнее, как ты говоришь, которые первыми тебя расспрашивали.
– Ах, ну да… А говорили вам, что они очень спешили?
– Нет… не помню.
– Так вот, это меня и гвоздило весь вечер напролет. Это самое – уж больно они спешили.
Отделавшись от священника, кузена-филателиста и утомительной привратницы, Плинио с доном Лотарио зашли в кафе «Лион» обменяться впечатлениями с комиссаром, а потом спустились по улице Алькала к гостинице.
– Знаете, дон Лотарио, – заговорил Плинио, пока они ждали зеленого света на перекрестке Гран-Виа, – дело этих сестер Пелаес, по-моему, ничего интересного не сулит.
– А мне сдается, старина, наоборот, что с пропажей пистолета, как говорят у нас в городке, запахло жареным.
– Так вот, – продолжал Плинио, не обращая внимания на слова дона Лотарио, – не лежит у меня душа к этому Мадриду… Да и какое мне дело до того, что пропали две протухшие сестрицы Пелаес? Какая разница – украл их карлик или приберегла на закуску какая-нибудь похотливая обезьяна? Мне от этого ни холодно ни жарко…
– Бога ради, Мануэль, что за вздор! Тебе представляется случай показать всему миру, что ты детектив мирового класса, вот зачем ты приехал в Мадрид.
– Наплевать мне на мировой класс.
– Ладно, оставим класс в покое. А родной город? Наши томельосцы так на нас надеются, а ты собираешься оставить их ни с чем?
– Дон Лотарио, друг мой, вы что, не видите разве – нет же никакого материала! Это все самодеятельность, как раз такие дела и остаются нераскрытыми. Неужели вы, сеньор кошачий доктор, не понимаете, что возможность нам дали, а дела самого нет? Ведь эти две старые девы так же глупы, как и их кузен с его марками, они так глупы, что вполне могли просто-напросто провалиться в сточную трубу или ненароком их вместе с такси утащил подъемный кран.
– Черт возьми, замолчи, Мануэль. Никогда я тебя не видел таким. В Мадриде ты просто теряешь свое лицо. Говори что угодно, но дело это необычное. И кузен не так глуп, другое дело – он сбит с. толку; да и они сами не так ничтожны. И не забудь: они выросли в нашем городке и все время о нем помнят, а это для нас очень и очень важно. Ради бога и всех святых, пойми ты, игра стоит свеч и тут требуется мастер… Не спеши: придет время, и сам увидишь.
– Вы чисто ребенок, дон Лотарио.
– А ты сегодня, ну, прости меня, дуб дубом.
Так они шли пререкаясь, и у самой гостиницы услыхали раскатистый голос:
– Где это весь день бродят томельосские сыщики? – Фараон тоже возвращался в гостиницу. Несколько прохожих, разумеется, обернулись на его слова. – Два дня вас не вижу, черт возьми. Куда запропастились?
– Фараон, старина! – обрадовался дон Лотарио.
– Идем ужинать в гостиницу дона Эустасио, – сухо отозвался Плинио вместо приветствия.
– Я тоже, хоть и без особой охоты. Какая муха тебя укусила, начальник, погляди на свою кислую физиономию. Уж не оттого ли, что тут тебе никто не козыряет и не кланяется, ты чувствуешь себя обделенным до изжоги?
– Да нет, на ходу засыпаю, устал немножко. Но что я слышу – у тебя нет охоты поесть. Это у тебя-то, обжоры?
– Не о еде речь, старина. Такое и вправду на меня не похоже. Охоты нету в гостиницу идти. Я, как попадаю в Мадрид, хочу чего-нибудь свеженького. Привычки надо оставлять дома. Да вот знакомых никого, а не то гульнули бы, тело просит удовольствий. Вот купил галстук – собрался поразвлечься, а уж теперь и не знаю, что с ним делать.
Он показал синий галстук с разводами всех цветов радуги.
– Уж раз мы встретились, – продолжал он, не давая рассмотреть галстук, – может, пропустим по глоточку.
Плинио нехотя разглядывал галстук.
– Похож на уругвайский флаг, – сказал дон Лотарио.
– Разве он такой?
– Не помню точно, но, уж наверное, необычный.
– Ты намекаешь, не пойти ли нам опрокинуть по рюмочке? – сказал Плинио, а лицо у него было как у обиженного ребенка.
– Как намекаю? Приказываю. Понимать надо. Пропустим по рюмочке, закусим. Потом еще по рюмочке и опять закусим, и так до ста. Потом поужинаем чем бог пошлет, а уж потом поглядим, как сложится – может, подвернется что подходящее… Ну как, идет? Мануэль, взбодрись, а то, глядя на тебя, да еще в штатском, можно подумать: это не ты, а твой брат, и к тому же не очень сообразительный.
Дон Лотарио расхохотался, да с таким удовольствием, что заразил и Плинио, и тот тоже рассмеялся, выронив изо рта окурок, а Фараон, хохоча, хватался за свой огромный живот, успевая при этом беззастенчиво разглядывать прохожих.
– Эй, крошка, хоть ты вся в коже, как в ботинке, я бы не прочь… – вдруг обратился он к проходившей мимо девушке в коротеньком кожаном пальто. – Пошли, полиция, начнем гулянье с Калье-де-ла-Крус и, если бог даст сил, доберемся до Эчегарая, а уж там не соскучишься.
И без долгих рассуждений они отправились на Пуэрта-дель-Соль, чтобы приступить к осуществлению намеченного Фараоном плана.
– Мадрид растет, а веселья в нем убавляется. Те, кто о себе много воображают – а воображают тут о себе все до последней собаки – не ходят больше в таверны и бары, где светло и шумно. Им больше нравятся, видите ли, элегантные заведения, где свету нет, парочки сидят, обжимаются, и за бешеные деньги пьют там виски, которое отдает старым башмаком. Я сейчас только что был в таком месте с двумя типами, которые собираются заняться торговлей вином. Так вот, они два часа продержали меня в каком-то снэк-баре – уж и не знаю, что это слово значит. Вышел оттуда: что в голове, что в кармане – хоть шаром покати. Ну и мошенники, прости господи!
Плинио остановился перед витриной женской обуви.
– На что ты засмотрелся, Мануэль?
– Надо привезти туфли жене и дочке… но больно уж все тут модные. Интересная штука, я помню башмаки, которые носили моя мать и сестры, а какие туфли носят жена с дочкой – никогда не замечал.
– Правда, – согласился дон Лотарио немного грустно. – Когда вступаешь в определенный возраст, уже не видишь того, что перед глазами, а видишь то, что замечал, когда еще мог видеть.
– Любишь ты головоломки, дон Лотарио, – проворчал Фараон.
– Наоборот, все ясно. Теперь смотрим во все глаза, а видим лишь то, что у нас внутри, и, если хотим увидеть, заглядываем – что молодость отложила в кладовую памяти, – пришел на помощь Плинио.
– Это для меня слишком мудрено, Мануэль. Я бы сказал так: теперь ешь по-прежнему, а расти не растешь. Раньше все шло впрок, всякая еда на пользу. А теперь от той же еды вроде бы худеешь.
– Ладно, сеньоры, хватит о старости, выше голову, подходим к острерии.[5] Не удастся вам доконать меня разговорами о старости. Ну-ка, возьмемся за дело, как в молодые годы, когда кровь в жилах кипела. У меня уже слюнки текут. А потом щепоточку соды – и на боковую.
Они вошли в острерию, и, пока думали, что заказать, Фараон, не теряя времени, поклевывал устрицы с блюда, стоявшего на столе. И поскольку на лице молодого человека, на чьем попечении находились эти блюда, появилась тревога, Фараон обратился к нему назидательным тоном, хорошо знакомым его землякам:
– Успокойся, юноша, в уме веди счет, ибо все мы тут люди приличные и к тому же со свежей выручкой за вино.
Они ели, пили и веселились, а местная публика, которой нечасто случалось видеть загулявших провинциалов, глядела на них во все глаза. Нечего говорить, что Фараон, как обычно, ни в словах, ни в жестах себя не сдерживал.
– Почему это, – сказал он вдруг, – нам, которые от земли, так нравятся дары моря? К телятине, к зайчатине я холоден, как собачий нос, а вот по устрицам всяким просто с ума схожу!
Все вокруг смеялись, а Фараон раздувался, как на дрожжах Плинио же чувствовал себя немного неловко; он достал табак и предложил закурить, надеясь унять хоть немного Фараона.
– Погоди, Мануэль, разве устрицы, которые я заказал, хуже та бака? Давай, друг, ешь до отвала.
Плинио и дон Лотарио молчали, а Фараон толстенными губам! шумно втягивал устрицы.
Потом они заходили по пути еще во множество таких же соблазнительных заведений, а когда вошли в ресторанчик «Ла Нуле та», их встретил хор ликующих голосов:
– Фараон! Фараон! Смотрите-ка, и Плинио – в штатском И дон Лотарио тут!
Трое студентов, их земляков, сидели за столом в обществе девушек-иностранок. Все были оживленны и, похоже, навеселе. Ощ бурно обняли вошедших и представили им своих подружек.
– Вот вы какие книжки читаете, бандиты! – сказал Фараон указывая на девушек скорее брюхом, нежели рукою.
– Ладно, садитесь к нам.
– Ну, все вызубрили или кой-чего недочитали?
Одна из девушек, блондинка, высокая и плотная, смотрела на Фараона приветливо, но немного испуганно.
– У этой есть что изучать, правда, Хуниперо? Одна колоннад! чего стоит, – продолжал он, глядя на роскошные ляжки, которых мини-юбка позволяла видеть во всей красе.
Плинио, не выпуская сигареты изо рта, робко улыбался Дон Лотарио приободрился и, позабыв снять шляпу, таращил глаз) на девиц.
– Ну, Фараон, нет тебе равных во всей Ламанче! – сказал Хуниперо Лопес.
– Фар-раон? – удивилась маленькая белобрысая француженка.
– Да, сеньорита, я – Фар-раон.
Он поднялся и, засучив рукава пиджака, пустился в пляс:
– «Я – из земли фараонов…»
Вошла цветочница с гвоздиками. Фараон купил сразу все и принялся осыпать цветами девушек.
– Он совсем спятил, – сказал Плинио дону Лотарио.
– Испанские гвоздики – загранице! – кричал Фараон.
И снова они стали объектом всеобщего внимания. Все повернулись и смотрели на толстяка.
– Вот выйдем отсюда, я покажу вам дом, совсем рядом, где меня в седьмой раз лишили невинности, – сказал вдруг Фараон.
– Лишили невинности… как это, лишили невинности? – спросила немка.
– Не мучайся, барышня, ешь свои креветки.
у третьего студента, лысого Серафина Мартинеса, весь рот был перепачкан едой. Маленькая француженка похлопывала его по спине но он ее не замечал и с увлечением изучал монументальную комплекцию немки.
– Зачем вы сюда приехали? – старался Хуниперо перекричать смеющихся.
– Будут раскрывать убийство, – пояснил Фараон.
– Ты тоже с полицией, Фараон? – спросил Соило.
– Ха, я по общественной линии. А ты, Серафин, чего такой расстроенный? Неужели оттого, что эта пышная креветка не обращает на тебя внимания?
Серафин с улыбкой опустил взгляд, а немка, не понимая, в чем дело, оглядывала всех по очереди.
– Да нет, старина, – сказал Хуниперо, – с этой в любой момент можно поладить. Он грустит потому, что сегодня, придя на квартиру – а дом, где он живет, принадлежит одному из лучших в Мадриде коллежей, – столкнулся с печальным фактом.
– Что стряслось, сынок? – с серьезным видом поинтересовался Фараон.
Серафин снова опустил глаза и засмеялся.
– Да, такое дело… – наконец сказал он.
– Ну-ка, ну-ка, расскажи.
– Да в общем, – сгорая от нетерпения поделиться, объяснил Хуниперо, – домоправительница – ей в обед сто лет – убедила директора коллежа – а он тоже, видно, консерватор, – убедила его, что во всех квартирах надо снять в ванной биде.
– Снять биде?! – воскликнул Фараон с комическим удивлением.
Серафин кивнул.
– Почему? Чем провинились ваши задницы? Все, в том числе и девушки, расхохотались.
– Ну так – почему?
– Нам даже не объяснили…
– И теперь этот несчастный, который так щепетилен в вопросах гигиены своего тела, – разглагольствовал Хуниперо, – теперь он, естественно, страшно недоволен.
– И имеет все основания, – заключил очень внушительно торговец вином. – Они, вероятно, полагают, что этим прибором пользуются одни грешники… Слушай, какая мне мысль пришла. Директор коллежа и домоправительница знакомы с твоим отцом?
– Нет… – подумав, ответил Серафин.
– Гениальная мысль, поверь… Я на такие штуки мастак. Вон Мануэль с доном Лотарио знают…
– Ну ладно… что вы задумали? – решился Серафин.
– Молчок, парень. Государственная тайна.
– Не надо, ведь ты смеха ради можешь такое выкинуть, что меня выгонят с квартиры, а отец перестанет присылать деньги на учение и запихнет меня к себе в трактир.
– Да что ты, старина. Ведь я чего хочу – чтобы весело было, и шутки мои безобидные.
– Не верю я тебе, Фараон.
– Успокойся, даю слово: все будет без сучка, без задоринки.
– Антонио, – стал его уговаривать Плинио, – мы же тебя знаем как облупленного.
– А коли знаете, то вам должно быть известно, что потеха выйдет на славу и ни Серафину, ни кому другому вреда от нее не будет.
До полуночи они сидели, уписывая отбивные, и просили Антонио-Фараона все-таки рассказать им, что он задумал, а заодно припоминали со смехом другие затеи этого весельчака и балагура. Затем Плинио с доном Лотарио отправились в гостиницу, а Фараон и студенты продолжали загул.
Министерская тайна
Они так привыкли завтракать пончиками, стоя в заведении Росио, что есть в ресторане не хотелось. Дон Лотарио понял, что Плинио придерживается того же мнения, и предложил пойти в закусочную «Риск». Вот это да, совсем другое дело – завтракать у стойки, хотя, конечно, не сравнишь с заведением Росио… Стоило Плинио взять в руки пончик, как у него появилось ощущение, будто сейчас войдет Малеса и сообщит о новом деле, еще более дохлом, чем дело этих рыжих– сестер. Как и в Томельосо, они попросили пончики, довольно-таки бледные, но все же пончики. И так же, как дома, закурили и стали разглядывать посетителей, словно ожидали, что с ними начнут здороваться. Но люди проходили мимо, не замечая их, как не замечают мебель. Даже официантка обслужила, не взглянув на них. Дону Лотарио так захотелось закричать: «Ну ради Бога, хоть кто-нибудь скажите: «Здравствуйте», ради Пресвятой девы, поинтересуйтесь кто-нибудь, как спалось!» А между тем за спиной у них стояли стеною люди, в нетерпении ожидавшие, когда же наконец они поторопятся и закончат свой завтрак. А они курили себе, глядя в пространство и с удовольствием попивая кофе. Те, за спиною – всё в одинаковых костюмах, все при часах и с одинаковым выражением спешки на одинаково чиновничьих лицах, – нетерпеливо на них поглядывали. Наконец двое томельосцев поняли, что они заставляют ждать, переглянулись с виноватым видом, расплатились и молча вышли. Они направились вверх по улице Алькала. У дверей дома Пелаесов они увидели Гертрудис.
– Я так просто – узнать, не нужно ли чего?
– Пойдем, приберешься немного.
Гертрудис принялась как попало, небрежно водить тряпкой, а Плинио, усевшись у камина, листал телефонную книгу… Не просто листал, а, сдвинув очки на кончик носа и зажав папиросу зубами, казалось, вынюхивал, нет ли тут какого-нибудь имени или адреса, которые пахнут разгадкой.
Дон Лотарио с потерянным видом, заложив руки за спину, ходил по квартире. Потом он послал Гертрудис за газетой и принялся читать то, чего никогда в жизни не читал. Плинио время от времени делал какие-то пометки на листке бумаги. Должно быть, номера телефонов, по которым следовало звонить. Гертрудис то и дело входила в комнату – видимо, у нее чесался язык, но каждый раз, видя, что они не проявляют никакого желания ее слушать, возвращалась к своему занятию.
Неожиданно зазвонил телефон. Дон Лотарио пошел к телефону, чувствуя, что волнуется. Когда он вернулся в комнату, Плинио вопросительно взглянул на него.
– Да нет, ничего. Это Фараон со своей когортой продолжает раскручивать вчерашнюю затею. Говорит, что купил биде и хочет заехать за мной, чтобы отправиться на квартиру к Серафину. Ну и тип! Ради смеха на все готов.
– Уверен, это будет номер!
– Наверняка. Но мне не хочется оставлять тебя одного.
– Поезжайте и обо мне не беспокойтесь. Только осторожней, не идите у него на поводу, а то знаете, Фараон, он такой, на мелочи не разменивается, шутить – так до потери пульса.
– На этот раз не страшно. Ладно, увидимся в обед, в гостинице.
– С богом, желаю повеселиться.
Одна вещь привлекла внимание Плинио, еще когда он просматривал телефонную книгу в первый раз. На странице, отведенной букве «М», значилось: «Министерство X. Сеньор Новильо, тел…(три раза)».
Он дважды набирал этот номер, но никто не ответил. Что значит «три раза», он так и не понял. Захватив телефонную книгу, Плинио пошел к Гертрудис.
– Послушай, Гертрудис, не знаешь ли ты, кто такой сеньор Новильо из министерства X., который ходит сюда?
– Знаю, Мануэль. Конечно, знаю. Он очень дружит с сеньоритами. А сеньорита Пальмира вяжет для них.
– Кто такая сеньорита Пальмира?
– Секретарша сеньора Новильо. А он делает для них рамочки.
– Значит, кроме министерства, у него окантовочная мастерская, а у нее – вязальная?
– Да нет, Мануэль, мастерские у них прямо в министерстве.
– В министерстве?
– Нуда!
– Ничего не понимаю! Они очень дружны с сеньоритами?
– Жуть! Водой не разольешь! Ходить сюда любят до невозможности.
– А этому сеньору Новильо и его секретарше Пальмире известно, что сеньориты пропали?
– Вот уж не знаю, начальник.
– Схожу-ка я к ним, может, что-нибудь расскажут.
– Одному вам нельзя.
– Почему это?
– Заплутаетесь в учреждении.
– Приду в министерство, спрошу.
– Никто не скажет. Никто не знает, где они. Я раз шесть или восемь ходила с сеньоритами, чтобы запомнить дорогу. Придется мне идти с вами, хотя вижу, вам это не очень по вкусу. Но раз уж вы полицейский и коли все так получилось…
– Странно. Ладно, снимай передник, пошли.
– Я в самый раз, готова, – отозвалась Гертрудис, которая и без того все утро искала предлог, чтобы не убирать в квартире.
Когда подошли к дверям министерства, куда добирались на метро, Гертрудис, беря бразды в свои руки, деловито велела начальнику:
– Идите за мной, да не очень по сторонам смотрите.
Плинио пожал плечами и пошел за нею следом.
Гертрудис была права. Четверть часа, не меньше, шли они из конца в конец здания, поднимались вдоль стены по какой-то лестнице, похожей на пожарную, невероятно крутой. Шли чердаками (во всяком случае, это помещение больше всего походило на чердак), где была свалена старая рухлядь: бумаги, книги, картины, ящики, стремянки, перевернутые полки, рулоны оберточной бумаги, мотки бечевок, бруски, рейки, верстак… Наконец они подошли к низенькой двери, похожей на дверь деревенского чулана, которая вела на узкую обшарпанную лестницу. Потом были темные низкие комнаты с проржавевшими печами, с плакатами военных времен, мешками неизвестно с чем, старинными копировальными машинами, мохнатыми рогожами. И снова лестница, деревянная, по которой им пришлось подниматься при свете зажженной Плинио спички. Потом они шли по какому-то сооружению вроде лесов, вдоль крытой шифером крыши, у самых труб, до слухового окна. Спустились по деревянному скату, влезли в оконный проем, прикрытый вместо шторы куском ковра. Пройдя еще несколько шагов, оказались в абсолютной темноте, и Гертрудис трижды ударила костяшками пальцев в маленькую дверцу. Несколько секунд они ждали. Затем услышали три удара – как бы в ответ. И Гертрудис снова постучала три раза. Слышно было, как лязгнула бородка огромного замка. Дверь чуть приоткрылась. В полоске света показались очки и нос.
– Кто тут? – спросил владелец очков.
– Это я – Гертрудис – и со мной полицейский. Случилось несчастье.
При этих словах владелец очков, увидевший вдобавок Плинио, захлопнул дверь.
– Напугался, бедняжка.
– Что будем делать? – спросил Плинио тихонько.
– Погодите. Они, наверное, разговаривают.
Должно быть, им было о чем поговорить, потому что дверь не открывали.
– Постучи еще, – велел Плинио.
Она опять, как и раньше, трижды ударила в дверь. Почти тотчас дверь открылась и снова показались очки и нос.
– Пройди одна, а он пусть подождет, – сказал мужчина свистящим шепотом.
– Подождите меня, Мануэль, одну секундочку.
Дверь открылась ровно настолько, чтобы впустить Гертрудис, и тут же те, что были внутри, заперли ее.
Мануэль почти на ощупь закурил сигарету – тут уж не до того было, чтобы набивать папиросу. Прислонившись к стене, он стал ждать. Разговор, по-видимому, был тяжелый. Стали мерзнуть ноги, и на минуту ему показалось, что он никогда не выйдет из этой могилы.
От нечего делать он закурил новую сигарету. Сейчас ему ужасно недоставало ремня: когда случалось ждать, он привык стоять, заложив за ремень большие пальцы рук.
В конце концов, когда он, стараясь согреться, стал притопывать ногами, послышался сухой щелчок дверного замка. Дверь отворилась на три четверти, и в проеме показалась фигура Новильо, который оказался довольно высоким и тощим. На нем был старый пиджак и синий фартук, какие носят ремесленники.
– Пройдите, пожалуйста.
Это была довольно большая, похожая на амбар комната, вытянутые окна под потолком почти не пропускали света. Недостаток освещения восполняли две переносные лампы: одна – около вязальной машины, за которой работала толстая женщина в очках, и вторая – над верстаком, где, должно быть, столярничал Новильо. В углу стояли высокая старинная парта и скамьи. На парте лежало несколько счетных книг и горка скомканных бумажек. Гертрудис, по лицу которой видно было, что она пережила неприятные минуты, делала вид, что внимательнейшим образом следит за суетой вязальной машины под руками толстой Пальмиры.
Едва Плинио переступил порог, как Новильо снова запер дверь на два оборота, предложил Плинио сесть в старое камышовое кресло, стоявшее посреди комнаты, словно скамья подсудимых. Новильо, прислонившись к верстаку, смотрел на Плинио с явным неудовольствием. Лицом он походил на старую птицу, был лыс, нос, как говорится, на двоих рос, а на шее четко проступали жилы. Брови и жидкие волосы, аккуратно зачесанные через всю лысину с одной стороны на другую, – все было усыпано опилками.
Плинио обратил внимание на допотопный телефонный аппарат времен танго, который стоял рядом с партой, и на костлявую пишущую машинку, дремавшую в углу под темно-зеленой фланелькой.
Новильо, до сих пор еще не проронивший ни слова и, казалось, занятый мыслью, как бы отсюда удрать, в конце концов в знак добрых намерений предложил Плинио свой кисет. Не спеша, как то положено, они набили папиросы, и, когда закурили, Новильо, усевшись на высокую скамью за верстаком, проговорил:
– Гертрудис сказала мне, что пропали дочки Пелаеса. Я понятия об этом не имел. Скажите, чем могу быть вам полезен.
– Я бы хотел, чтобы вы рассказали, что вы о них знаете, может, это наведет меня на след.
– Ничего из того, что я могу сказать, не наведет вас на след. Я знаю всю их жизнь. Как раз их отец содействовал моему устройству в министерство. Они люди в высшей степени благонравные и жизнь ведут праведную.
Манера говорить у Новильо была чуточку старомодной.
Услышав слова «устройство в министерство», Плинио еще раз осторожно окинул взглядом стопки досок и реечек, слой опилок, покрывавший все вокруг, мозолистые руки Новильо, ковшик с клеем, который стоял на электроплитке, и верстак.
– Я вас понимаю… но в жизни каждого человека, – начал Плинио, имея в виду рыжих сестер, – всегда есть уголок, зная который многое можно объяснить.
– Хоть убейте, сеньор, такого уголка у них я не знаю… Ну, разумеется, всех своих дел они мне не поверяли.
– Что за отношения были у вас с ними?
– Я уже сказал, старая дружба, ну, и время от времени они давали мне заказы – от себя или от своих друзей. Уж очень они своих родителей любили… Любили, а вернее, любят, потому что ничего плохого с ними не могло случиться.
– Вы знаете, что у сеньорит Пелаес был пистолет и что они в тот последний раз взяли его с собой?
– Что? – встрепенулась Гертрудис, которая ни на минуту не теряла бдительности.
– Вы об этом не знали, Новильо? – продолжал Плинио, не обращая внимания на служанку.
– Нет, сеньор, понятия не имел. Откуда мне знать?
– И где же был пистолет? – опять вмешалась Гертрудис, уперши руки в бока и наступая на Плинио.
– Странно, что ты этого не знала. Под матрацем у одной из твоих сеньорит.
– Дева Мария! – выдохнула Гертрудис. – Да откуда же было мне это знать! Да я ни в жизнь к их постели не притрагивалась! Ни к постели, ни к посуде. Они и подойти-то близко не давали к вещам, на которых спали да из которых ели. Такие они щепетильные! Такие чистюли, что даже противно!
– Ладно, так вот этого пистолета на месте не оказалось. Осталась пустая коробка из-под него.
– А кто же знал про пистолет-то? – продолжала допрашивать служанка, хитро на него глядя.
– Их кузен, Хосе Мария Пелаес, – нехотя отвечал Плинио.
– Я тоже, уверяю вас, понятия не имел о пистолете, – оправдывался Новильо.
– Вот вы знаете их столько лет, как вы думаете, что могло заставить их выскочить из дому в такой спешке, да еще с пистолетом?
– Такая реакция совершенно не свойственна их натуре… Может, они получили какое-нибудь анонимное письмо, у них требовали денег…
Плинио удивленно взглянул на него.
– Вот, именно, – продолжал чиновник-столяр, – может, они повезли деньги, куда было велено, а их – раз! – и сцапали.
Плинио с сомнением покачал головой.
– Ни дома, ни в банке денег не тронули.
– Но, сеньор, – воскликнул Новильо, довольный своей проницательностью, – в таких делах никогда не знаешь точно…
– Вы считаете, что у них хватило бы смелости встретиться с шантажистами?
– Я бы, пожалуй, не удивился. А ты, Пальмира? – спросил он, глядя на толстую вязальщицу и секретаршу, которая давно уже остановила машину и, ошеломленная, слушала разговор.
– Я бы – тоже: они такие нервные, такие нервные, ну на все способны.
– И я бы не удивилась, – не выдержала Гертрудис, – иногда – ну чистый порох!
– Вот, слышите? – подвел итоги довольный столяр. – Большинство.
Плинио провел рукой по подбородку и замер, чуть прикрыв глаза, потом покачал головой и сказал:
– Когда у человека в анонимном письме требуют денег, а он не хочет их давать, он сообщает в полицию или предупреждает кого-нибудь, куда он идет.
– А если денег просил человек – ведь может же быть такое, – чье имя они не хотели бы предавать огласке? – продолжал Новильо, начиная увлекаться расследованием.
– Кто именно? – напрямик спросил Плинио, глядя ему в глаза.
– Ну, например… я не знаю… Это так, предположение. Ведь не я сказал, что и у них в жизни может быть тайный закуток. Поймите меня правильно.
– Все, что вы говорите, может иметь смысл лишь в том случае, если вы назовете мне человека или людей, которые могли послужить поводом для такого поступка.
– Я, знаете ли, очень с ними дружен, очень, но самые сокровенные тайны, если они у них есть, – этого я не знаю. Поймите меня правильно.
– Ладно, – подытожил Плинио, – я ведь только хотел познакомиться с вами, дорогой Новильо, и вступить в контакт. Прошу вас, поройтесь в памяти, может, вспомнится что-то, способное пролить хоть каплю света… Я к вам еще как-нибудь зайду.
Новильо провел рукою по затылку, очень пристально посмотрел на Плинио и сказал:
– Я буду рад видеть сеньора в любое время, когда ему угодно… Но только в другом месте. Вы позвоните мне по любому из этих телефонов, и я приду, куда скажете. Очень буду вам за это признателен. – И записал на бумажке телефоны.
– Хорошо, – сказал Плинио, бросив понимающий взгляд в сторону верстака, – если вы мне понадобитесь, я позвоню по одному из этих телефонов… три раза.
– Нижний – домашний.
– Пошли, Гертрудис.
Плинио пожал руку Новильо и следом за сметливой служанкой пустился в обратный путь по лабиринту.
– Ой, как же они на меня накинулись, что я вас привела. Чего только я не говорила: и что вы полицейский, и что меня заставили, я думала, они меня покусают… Понятно, не хотят, чтобы раскрыли их тепленькое местечко, – говорила Гертрудис, ведя Плинио по министерскому лабиринту.
– Давно они тут?
– Сеньориты говорили, я слыхала, еще с довоенных времен.
– Он женат?
– Вдовец. Но, по-моему, прости меня, господи, он всегда жил с этой Пальмирой, она там столько же, сколько и он.
– Ну и жизнь, боже мой! – заметил Плинио, когда они вышли в обитаемую часть здания.
Плинио велел Гертрудис возвращаться домой и закончить уборку да быть на страже – вдруг кто позвонит, а он придет позже. Когда женщина скрылась в метро, он мрачно зашагал по улице, распаляя собственное дурное настроение, причиной которого в конечном счете была тоска по дому. Детская тоска, над которой сам он в глубине души смеялся. И в то же время он чувствовал, что обстановка его возбуждает. Однако его состояние не имело никакого отношения к женщинам, которых он видел вокруг, – скорее это относилось к тем, чьи образы он с юношеских лет хранил в воображении. Молодые девушки, собирающие виноград, женщины у обочины дороги… на аттракционе в парке…
Как давно это было – сиеста в Атахадеро. Темные переулки тех времен, когда он был солдатом.
Женщины выходили из магазинов, такие кругленькие, такие безучастные ко всему, такие чуждые всей этой накипи, которая есть в жизни. Каждая в своей скорлупе, и в голове у каждой – свои собственные крошечные мыслишки и мечты, словно монетки в глиняной копилке.
Он увидел роскошное, огромное и пустое кафе. Не задумываясь особенно, вошел. Облокотился на стойку и попросил кофе с молоком. Какая-то музыка звучала в глубине помещения, словно бы возвещала, что вот-вот должны начаться танцы или что-то вроде этого. Ему по душе пришелся этот покой.
Плинио вдруг показалось, что он в Мадриде уже не один месяц, что совсем в другое время года ехал он в автобусе с доньей Марией де лос Ремедиос, женщиной, вступающей в период климакса, женщиной со светлым пушком над верхней, такой лакомой губкой, и с этим извращенцем Караколильо Пуро.
Он попросил еще кофе и в конце концов опять почувствовал себя в кольце, но на этот раз давили его не люди, как это было утром за завтраком, а равнодушие тех немногих, что были вокруг. Он не привык к тому, чтобы его «не видели», не привык, что его появление не производит переполоха, как он говорил… «Место, где живешь, проникает в тебя до мозга костей, до глубины души. Деревня у меня в каждой поре, я навсегда отравлен ее воздухом, ее голосами, ее глазами, ее дыханием. Не бывает земли ни плохой, ни хорошей. Нет земли иной, кроме той, где ты живешь. С землею происходит то же, что с матерью и детьми. Вдали от родных мест живешь как потерянный, словно не за что зацепиться якорем или что-то в этом роде».
Он вышел. Долго ходил, разглядывая витрины, время от времени окидывая взглядом выходивших из парикмахерских женщин – зрелых, в соку, с гладкой полной шеей. На улице Прим, неподалеку от Национального общества слепых, он наткнулся на них – слепых было много. Тягучими монотонными голосами они просили помочь им перейти улицу, поймать такси. Голоса, которые не меняют образы внешнего мира, вспышки света. Механические голоса, словно еще один посох, соединяющий их с миром. Голоса эти будто тянулись из одних потемок в другие. Они были сами по себе и не ждали отклика ни голосом, ни взглядом. Но торопливо и настойчиво словно оповещали, что они тут, что они существуют. Может, просто уверяли себя, что они есть в этом мире и другие их видят, что они производят шум и не одиноки в потемках.
Голоса слепых подобны свету маяка. У зрячих голоса могут дрожать и выражать неудовольствие, у них голоса неровные и рвутся от любой малости: что-то увидели, удивились, о чем-то замечтались. У этих голосов есть глаза. Слепые же не видят, что вокруг, не видят друг друга; у слепых голоса без цвета, без тонов, без полутонов, без взлетов и без тепла. Абстрактные голоса, словно пластинка, записанная в темной студии.
Плинио почувствовал щемящую нежность к этим слепым. Его восхищало их взаимное согласие, которое ему, человеку из мира света, представлялось невозможным. И он подумал о том, какие удивительные резервы есть у природы для замены той части мира, которая проникает в нас через глаза. Он глядел, как они смеялись, рассказывали о чем-то друг другу, похлопывали друг друга по плечу, как они, блаженствуя, выходили, обнявшись, из таверны «Бузина», и силился угадать, о чем они говорят, какие образы рисуют в воображении, что и как воспринимают из внешнего мира. Он чувствовал к слепым не жалость, а нежность, и острую любознательность, и желание проникнуть в их мир – их, и только их мир, созданный благодаря невообразимым антеннам.
Он дошел до улицы Баркильо. Но возвращаться к работе, в квартиру рыжих сестер, до смерти не хотелось. Что ему там делать? Ничего путного в голову не приходило. Не хотелось снова звонить по телефонам – это почти ничего не дало. Он вошел в кафе «Риофрио», чтобы с помощью еще одной чашки кофе немного растянуть утро.
Он сел за пустовавший у окна столик, попросил кофе и уставился на печальную улицу слепых. «Мир, – размышлял он, чуть прикрыв глаза, – запутанная слепая карта, на которую нанесены дела и голоса слепцов. Каждый из нас по-своему слеп. На одно у нас есть глаза и чувства, а к другому мы бесчувственны как бревно. В одних каналах и стремнинах у нас есть путеводные огни, а иных магистралей и путей, которые для других служат столбовой дорогой, мы вовсе не замечаем… Каждый из нас подобен сосуду, вбирающему в себя содержимое другого, главной сути которого он, быть может, даже не знает. Каждый из нас – образ и подобие живущих рядом, которые начинают проникать в каждую пору нашего существа с первого мгновения нашего появления на свет. Каждый – прибежище некоего существа со множеством неопознанных лиц. Существа, руки которого находятся в непрестанном, неведомом нам движении… Мы – всего лишь полуслепые наблюдатели, созерцающие самих себя, вернее, то, что из нас получается».
Слепые юноша и девушка остановились совсем рядом с окном, за которым Плинио пил кофе. Они разговаривали. Они встретились, не видя друг друга, они нашли друг друга по запаху, узнали по звуку посоха, остановились там, где должны были остановиться, – на приличествующем расстоянии друг от друга, и заговорили оба разом. Не выпуская из рук палок, они легонько, очень нежно гладили друг друга по руке, чуть касаясь кончиками пальцев, самыми кончиками, а две пары губ, не переставая, говорили, и две пары глаз были устремлены кверху, словно надеясь в небе увидеть отражение того, кто стоял перед ним… Они говорили быстро, тихонько смеясь, и лица их были совсем близко, и они легонько притрагивались друг к другу. Им было совершенно безразлично, что кто-то на них смотрит и, может, отпускает замечания в их адрес… В какой-то момент его дрожащая рука притронулась к ее руке, выше локтя, у самого рукава. Она с невероятной мягкостью взяла его руку, поднесла к своим губам и не то тихонько коснулась ее поцелуем, не то велела руке замолчать – вернее, велела ушам, которыми были поры этой руки, или же сделала движение губами, которое было и поцелуем и речью одновременно. Когда Плинио на минуту избавился от впечатления, которое все это на него произвело, он вдруг заметил – в первый раз за все время, – что и слепой и слепая, в особенности он, очень некрасивы. Очень молоды и очень некрасивы. Оба худые. У него длинная шея и правильной формы нос, а она – рыжая, и кожа на лице – красная. Но богом данная слепота ставила их выше этих препятствий, этих помех, таких обычных для нормальных, зрячих людей. Если оба они слепы от рождения, то как они представляют себе красоту? Какими «виделись» они друг другу? Какую красоту создавало, рисовало и внедряло им через поры сердца осязание, что стоит для них за этим словом? Вот они, в глазах всего мира двое возлюбленных, связанных присущими им нитями, где нет света, и она целует и говорит что-то его руке, едва касаясь ее краешком губ, а он с застывшей на лице странной улыбкой, не переставая, шевелит губами, словно шепчет молитву, и молитва расцветает на его лице нежностью, о которой знают только он и небо… Они лишены дара видеть прекрасное… прекрасное, которое может найти отзвук лишь в тончайших нитях сердца, в собственной нежности, в лучшей части твоего существа. Но им, к счастью, не дано видеть и безобразного, мерзкого, что есть в этом мире, не дано прочесть на лицах страха, мучений и равнодушия, как читают эти люди, которые, разговаривая, смотрят друг на друга.
Плинио испытал прилив чувства долга. Он всегда был рабом долга, своих обязанностей. Даже когда делать было нечего, он все равно думал о том, что должен делать. Мадрид, разбивающий все иллюзии, полный жизни, рождающий тоску, – завораживающий и возбуждающий Мадрид бросал ему вызов, подвергая сомнению его профессиональную пригодность – его, начальника Муниципальной гвардии Томельосо. Не мог он сдаться и пойти на поводу у этой запутанной ситуации… Он должен узнать, что произошло с сестрами Пелаес, обнаружить их, живых или мертвых, в чем его с полным основанием убеждал дон Лотарио. Собрав остатки энергии, Плинио расплатился за кофе и вышел на улицу. Не в силах преодолеть искушение, он подошел к слепой паре послушать, о чем они говорят. Вблизи, когда их больше не разделяло стекло, они показались ему менее значительными, показались ему еще более худыми и маленькими, еще более слепыми. Он не понял ничего. Они говорили, пришептывая, и слова были словно мыльные, округлые – какое-то месиво из поцелуев и вздохов. Неожиданно они замолчали и лица их напряглись. Должно быть, они заметили его тень, его дыхание, заметили, что он заслонил им солнце. Ласка повисла в воздухе, на глаза упали веки. Тело обратилось в слух в ожидании подступающего странного и беспокойного ощущения. Плинио перешел на противоположную сторону и оттуда увидел, как тотчас же движения пары словно потеплели, снова зашевелились губы, опять устремились кверху глаза и кончики пальцев слились в поцелуе. Заложив руки за спину, он направился к дому сестер Пелаес.
Он подошел к двери – ей было не меньше сотни лет. Сколько повидали эти широкие пологие лестницы: легионы мертвецов поднялись по ним за эти годы, те, что давно обитают на кладбищах за городом. И в последний день своей жизни они задумчиво поднимались или спускались по этим лестницам, глядя в пол, касаясь перил почти прозрачной рукой. Усатые почтальоны с тяжелыми сумками за плечами; женщины, страдавшие одышкой; девицы в туфлях на каблуках и с синяками на ляжках, оставленными пальцами ремесленников и господ; военные. Сколько сеньор, наизусть знавших молитвы и нищету, волочили по ним свои непременные церковные скамеечки. Сколько детишек в матросских костюмчиках, детишек, которые считали себя бессмертными. Сколько помойных бачков, набитых газетами и чудодейственными молитвами падре Кларета, видели эти ступени. Больше века было этому деревянному настилу. Сколько гробов вынесли по нему на плечах! Сколько воплей раздирало тишину подъезда по субботам в 1898 году.[6] И сколько раз, возвращаясь из театра, кто-то поднимался по этим ступеням, напевая себе под нос лучшую арию из последней комической оперы! А сколько торопливых объятий видела эта лестничная площадка! А на этой кто-то, может, в первый раз почувствовал одышку… Сквозь облупившуюся роспись цокольного этажа на отсыревшей стене проступали старые модернистские мотивы, которые Плинио заметил в первый день. Прежние жильцы не вернутся – их унесла парка, а эти розово-зеленые букетики, написанные в ту пору, когда добрые старые времена Испании умирали, тонули в водах Сантьяго-де-Куба, – эти розочки возвращались. В деревне следы людей стираются, а в городе они оседают в добротных домах, сделанных руками человека. В городе все что ни возьми основано на воспоминаниях о вещах ушедших, на могильной грусти, на следах иссушенной плоти и инерции костей. Разве в поле помнят о смерти, об ушедших? Зреет новый колос, вновь пробиваются виноградные побеги, свежий перегной устилает землю, и россыпи облаков каждую ночь меняют свой узор, а ветер – направление, а там, глядишь, и снова первые ласточки; в деревне, как в детстве, все вокруг то и дело меняется, быстро забывается то, что совсем недавно случилось. И уже все готово к тому, чтобы начаться сызнова. А в городе – да, старина, – в городе без устали перемалывается тоска, на каждом шагу – наводящие страх свидетельства, лестницы, по которым спустилось столько ног, кровати, на которых столько поколений рождалось и росло, шторы из камки, о которые осушалось столько тайком уроненных слез, шкафы с детским бельишком тех, что стали сенаторами и у кого теперь одна одежда – репейник на кладбище… Каждому поколению следовало бы строить свой город, в котором не было бы праха былого, бывших в употреблении биде, и такого добротного и неуходящего воспоминания о смерти, и этих толстых, красных шелковых шнуров на балконных шторах. У каждого поколения должен быть свой город без кладбищ, и все в нем должно быть новым, с иголочки, чистеньким, чтобы не было там фотографий улыбающихся усачей и медальонов, где хранятся белокурые локоны с головок, сквозь которые ныне уже прорастают могучие корни. В дрожь бросает, когда случается найти. на дне сундука длинные панталоны с лентами, заштопанные еще прабабкой. И город, и селения, и дома, как и поля, должны заново одеваться для каждого нового поколения. И чтобы не было в них памятников из камня или бронзы, которые стынут от холода, а ночью на них мочатся, им подрисовывают усы, исписывают бесполезными политическими лозунгами или протестами. И музеев, заполненных призраками в гофрированных воротниках, – да, сеньор, я согласен, нарисованы они отлично, но воронки их глаз нас засасывают, и мы вновь видим «ужасный образ смерти», колею кареты прошлого, столь же печального, как и настоящее, – помол из мириадов тел, печалей, Любовей, зависти, измен, похорон, скорби, увядших грудей, человеческого мусора. Не надо музеев, где вереницы прелестных девушек четыре века подряд улыбаются с дрожащих холстов; не надо музеев, хранящих мертвые картины той жизни, которая сгинула, кончилась, как и мы сами; музеев, где собраны ученый, мудрец, горбун, монах-онанист, человек с семью пальцами, деревенская непорочная дева, которая умерла, так и не разжав ни разу коленей, и учительница-прелюбодейка, умевшая угодить своей страстью сразу многим. Не надо музеев с гипсовыми масками знаменитостей, сделанными через минуту после того, как тот испустил дух. Маска из гипса, плотно наложенного на лицо, на губы и глаза, которые пришлось закрывать плоскогубцами. Маски, изготовленные скульпторами-академиками, которые и сами уже – маски в других музеях, рядом с пыльными письмами, умоляющими о ссудах, проржавевшими орденами и орденскими лентами, похожими на высохшие листья. Музеи с туфельками балерин и сморщившимися шелками и локонами, в которых они танцевали перед Его величеством, чьи забальзамированные останки теперь тоже покоятся в четырех стенах его царства – великолепном раззолоченном пантеоне. Музеи, хранящие портреты вислозадых шутов, улыбки которых, подобно комьям земли, изъедены чернью серы, картины бесполезных баталий, где солдаты ликуют по причине, которой не помнит сам господь бог. Батальные сцены с мертвецами, ранеными лошадьми и мечами самыми примитивными, где вот так же, как сейчас, сгущаются сумерки, окутывая людей странного вида: в перьях, с копьями и со следами венерических болезней на грязных лицах – наградой за любовь смешливых девиц. Ну и ну! А вот портрет Его величества короля, почерневшего, ожесточенно преданного своим страстям – идеям, которые нынче – мыльный пузырь, не более; подгнивший флегматик, незрелый болтун. Короли, умершие от кошачьего укуса, или от клистира, или от загадочных кровотечений в присутствии бледноликих придворных, печально созерцавших их темную блевотину, их грязные бороды, груди, покрытые фальшивыми реликвиями, их старые зады. Древние распутницы, написанные на огромных полотнах, приукрашенные и метафорические, с пропащими глазами, с животами и грудями цвета спелого колоса, распевают старинные романсы. Но веет от них не грехом, не судорогами наслаждения, не разрывающими ночь криками, не разгоряченным чревом и не потными подмышками, а лишь смертью и еще раз смертью. Человек, бедняжка, тянется к воспоминаниям, старается оживить ушедшее, теша себя иллюзией, будто он не умрет… И вот он хранит картины – натюрморты из яблок, которые съел поросенок в эпоху Возрождения, или же безобразную мертвую дичь с поникшей шеей цвета древесной коры, или сторожевых псов, которые жили несколько веков назад, но псов не жалко, потому что они не видят себя в музеях; у псов нет старинных комодов, где бы хранились хвосты их предков, им безразлично, какие они сейчас и было ли вчера. Вот у них совершенная жизнь, она вся умещается между мордой и хвостом, всегда одинаковая, без всякой метафизики и футурологии. Так говорит Браулио. Вот это жизнь – быть тем, что ты есть, без памяти и без надежд, когда все разрешается само по себе, когда только чувствуешь и не думаешь, и есть лишь то, что ты существуешь – сейчас и здесь. Когда не знаешь ни откуда взялись, ни как пройдут наслаждение и боль. Это действительно жизнь, черт подери! Это и значит быть частью природы, жить без этой тени, которая следует за тобой от рождения до смертного часа, грызя тебе мозг и сердце, пока ты дышишь. Жить вот так, ничего не оставляя от себя, вот он, наверное, самый смак!
Когда Плинио вошел в квартиру сестер, у Гертрудис сидела Долорес Арничес, швея, которую Гертрудис специально задержала. Швея сидела на кушетке. Это была худая женщина в очках, с непонятно куда устремленным взглядом. Она еле кивнула и уставилась на что-то поблизости от Плинио. Гертрудис объяснила, что Долорес приходила сюда раз в неделю шить. И последний раз была в день, когда исчезли сестры.
– Пусть расскажет, пусть она вам расскажет.
Долорес начала рассказывать, как школьник отвечает урок. Руки и глаза у нее застыли, шевелились одни только тонкие и сухие, как хлебная корка, губы.
– Так вот, сеньор полицейский, я, как всегда, пришла около одиннадцати. Как всегда, меня накормили завтраком в портновской. Я принялась за работу. Они входили, выходили, иногда посидят немного, что-нибудь расскажут. Подошло время обеда, и опять, как всегда – я уже двадцать лет хожу к ним, – мне подали обедать в портновскую. Я всегда ем одна, после еды я привыкла соснуть немного на диване. Они тоже прилегли, только я их не видела, потому что из комнаты не выходила. Аккурат полчетвертого зазвонил телефон. И тут началось. Я из комнаты слышала: трубку взяла одна из них – не знаю кто. Что-то она вскрикивала удивленно. Что – я не разобрала: тут далеко. Слышу только, что и другая подскочила. И тоже что-то кричать, спрашивать стала, чего – я не поняла. Я было хотела высунуться в коридор, послушать, да не посмела.
– А вот эти крики, о которых вы говорите, они были какие?
– Не могу сказать. Но только необычные. Скорее, как будто сеньориты удивлялись и очень спешили.
– Долго они разговаривали?
– Нет, очень мало… А как повесили трубку, слышу – побежали по коридору. В ванную, наверное, а после – в спальню – одеться, обе сразу, да так споро! Слышу, о чем-то разговаривают на ходу. Понимаете? А потом – полчаса, наверное, прошло – вошла сеньорита Алисия ко мне в комнату, даже на работу не взглянула, а только оставила на столике ужин, деньги и сказала: «Мы сейчас уходим по срочному делу (так и сказала: «по делу», я хорошо помню), когда закончишь, Долорес, если мы еще не вернемся, погаси свет и захлопни дверь. До понедельника». Я и спросить ничего не успела, как они обе – сеньорита Мария ждала ее в коридоре – выскочили, и только дверь хлопнула. И вот, так до сих пор и не вернулись.
И Долорес, считая сообщение оконченным, обратила свой неизвестно куда устремленный взгляд в сторону Плинио:
– А вы не расслышали какого-нибудь имени или слова, которое могло бы подсказать нам, о каком «деле» шла речь?
– Нет, сеньор. Вы знаете, телефон в другом конце коридора, далеко. Обычно не слышно даже, что и говорят-то.
– Вы столько лет у них в доме, как вам кажется, кто мог им звонить и вызвать такое беспокойство?
– Мы тут уже час голову ломаем над этим, – сказала Долорес. – Кто бы это мог быть? Кто мог такой тарарам устроить? Уж я-то их знаю, не думайте, они не станут бегать попусту. Потому как они были или есть – это уж как богу угодно – очень осмотрительные: все обдумают, прежде чем на что-либо решиться. Пальцем не шевельнут, не то чтоб на улицу выскочить, если дело какое пустяковое. Вот так. Уж видно, это дело очень важное. Никогда не бывало, чтоб так они волновались… А в шесть часов – всегда-то я работаю до восьми, а тут я без дела осталась, – в шесть я ушла. И ничего странного, что они к тому времени не вернулись, но вот до сих пор…
Удивительно было в этой женщине, что, замолкая, она не меняла позы. Вернее, когда начинала говорить, лицо ее оставалось неподвижным, только губы шевелились. Глаза смотрели в никуда, руки лежали без движения, а голова была склонена по привычке, как над шитьем, и все тело словно застыло: она сидела в такой позе, будто хотела подняться, да раздумала.
Наступило молчание. Плинио расхаживал по комнате, курил, подстегивая воображение. Долорес сидела на краешке дивана, а Гертрудис, как всегда, следила за расхаживавшим взад-вперед Плинио в ожидании его выводов. Но так как время шло, а он все молчал, она не выдержала:
– Хотите, может, я вам пива принесу, да мы пойдем, если у вас никаких приказаний не будет?
– Ступайте с богом, а я останусь тут, подожду дона Лотарио.
– Так принести пива или не надо?
– Не надо, я только что кофе выпил тут, рядом.
Около двух позвонил ветеринар и сказал, что история с биде завершилась изумительно и что он все расскажет вечером, как договорились. Он звонил из Алькала-де-Энарес, куда они с Фараоном ездили по его виноторговым делам. Поговорив с ними, Плинио пошел в гостиницу, пообедал и, поговорив немного в салоне с кем-то из земляков, в присутствии молчаливой француженки-свидетельницы с китайским мопсом, восседавшей по обыкновению в кресле, решил соснуть часок.
Он совершенно пал духом, а когда дела складываются таким образом, самое лучшее перечеркнуть все сном.
Свет в комнате
Под вечер Плинио проснулся в смятении. Сначала не мог понять, где он. Что за комната? Что он тут делает? Понемногу шум машин вернул его в Мадрид, в гостиницу «Центральная», к делу рыжих сестер. Он еще немного полежал, не поднимая головы с подушки, глядя на балконную решетку, откуда проникал последний предвечерний свет. Закурил сигарету и еще некоторое время полежал, зажав ее во рту, заложив руки за голову. Глянул на рукава своей синей пижамы и невольно усмехнулся. «Хорош ты, Мануэль Гонсалес, муниципальный полицейский из Томельосо, представитель мужественного рода плиниев, хорош ты в этой пижаме! Первый в своем роду спишь таким образом. И все потому, что угораздило тебя приехать в Мадрид, из-за этих сестер Пелаес. И почему это твоя дочь считает, что в Мадриде надо непременно спать в пижаме?»
Он не спеша оделся и спустился в салон. Заглянул в вечерние газеты, лежавшие на столе. «О пропавших сестрах Пелаес – никаких известий», – гласил заголовок на последней странице одной из самых бойких газет. И затем: «В Управлении безопасности нам сообщили, что по-прежнему нет никаких сведений о местонахождении сеньорит Алисии и Марии Пелаес, которые, как мы уже писали, исчезли, выйдя из своего дома на улице Аугусто Фигероа в прошлую субботу. Кажется, этим делом занялся знаменитый специалист из бригады уголовного розыска, имени которого нам не открыли. Однако создается впечатление, что путь, по которому он пошел, очень скоро принесет свои плоды».
Мануэль задумался. Его позабавило это определение – «знаменитый специалист из бригады уголовного розыска». Вот радости-то дону Лотарио!
За стойкой появился дон Эустасио, хозяин «Центральной», и, глядя на Плинио поверх очков, сказал вместо приветствия:
– Кстати, Мануэль, тебе звонили часов в шесть.
– Кто?
– Не назвались. Спросили тебя, я сказал, что ты спишь, и повесили трубку.
– Мужской или женский голос?
– Мужской.
Пройдясь немного вверх по улице Алькала, Плинио вернулся на улицу Аугусто Фигероа. С порога он заметил, что, как обычно, в привратницкой никого не было. Он открыл почтовый ящик и среди рекламных извещений и уведомлений для сеньорит Пелаес нашел конверт, на котором значилось: «Сеньорам полицейским, занимающимся делом сестер Пелаес». Плинио водрузил на нос очки и тут же, на лестнице, вскрыл конверт. В нем был лист обычной бумаги, на котором красными печатными буквами было написано: «Я похитил сестер Пелаес. Это – месть. Вам их не найти. Негодяй Гато Монтес». Плинио перечитал текст, сделал какой-то неясный жест, спрятал бумажку в харман и медленно поднялся по лестнице. Открыв дверь, он с удивлением обнаружил, что не то в кабинете, не то в другой комнате, выходящей в гостиную, горит свет. Он вошел. Там никого не было. Он был твердо уверен, что утром света не зажигал. Солнце сияло вовсю, и в окно, выходившее во двор магазина электротоваров, проникало достаточно света. Нет, он не зажигал электричества. В ясный день в этой квартире можно обходиться дневным светом почти до самого вечера. Он прислушался. Ничего. Медленно, напрягая все пять органов чувств, пошел он по квартире. В такой большой квартире трудно запомнить все до мелочи… Каким же ключом отпирали дверь? Судя по рассказам, было три ключа: у каждой из сестер в сумке и тот, который оставляли привратнице и который теперь был у него. Плинио зажег свет и, прищурившись, оглядывал квартиру, напрягая все свои чувства. Он не решался ни к чему притронуться. Вся мебель была на своих местах. Ящики и двери заперты. Не заметно, чтобы что-нибудь трогали. «Странно, – думал Плинио, – тот, кто тут побывал, оставил самый бросающийся в глаза след: свет в самой заметной комнате. Должно быть, он был очень сосредоточен на своем, ему нужно было что-то определенное. Он хорошо знает дом, его порядки и обычаи и знает, в каком виде все было здесь после прихода полиции. Он что, спешил или так рассеян, что ушел, забыв погасить свет? – Плинио пришло в голову, что, наверное, тогда уже был вечер; раз пришлось зажигать свет. – А может, и по телефону звонили, чтобы проверить, где я? То, что искали, было в кабинете? Что такое важное могло там быть – неспрятанное, в легко доступном месте? Скорее всего, эта комната была первой, куда он вошел, или же последней… Значит, мы имеем дело с завсегдатаями дома». В памяти проносились образы и имена всех, кого он расспрашивал, всех близких к сестрам Пелаес людей, которых он знал… И текст этой дурацкой записки за подписью «Гато Монтес»… Конечно, это неспроста. Стоит в газетах появиться сообщению о похищении, грабеже, преступлении, эти анонимные кретины тут как тут. Он это знал по своему большому опыту. Авторы анонимок, не решающиеся перейти от мысли к действию, потенциальные воры и преступники, и в этих записочках без подписи дают волю своим наклонностям. А вот что действительно забавно – как такое на вид простое, такое домашнее дело двух старых дев, сестер с истерическими наклонностями, по-милому чудаковатых, если верить тому, что о них рассказывают, вдруг загадочно осложнилось, разбив в пух и прах все представления людей осведомленных и известных… «Ах ты, черт подери, почему же это дело приобретает такой загадочный характер и перестает быть по-свойски простым, каким оно показалось мне сначала? А почему оно мне показалось по-свойски простым?… Что за черт! Я вроде начинаю суетиться. Оно кажется домашним, сугубо внутренним из-за людей, которые окружали сестер, но это еще не значит, что в нем не замешан некто, как говорится, из другой оперы…»
Плинио подошел к холодильнику, достал кусок ветчины, съел, заталкивая ее в рот пальцами, и отхлебнул красного вина из бутылки, уже более чем наполовину опорожненной. Потом допил все. Довольный, он рыгнул тихонько и при свете, падавшем из открытого холодильника, не спеша набил папиросу. Закурил, захлопнул ногой дверцу холодильника, опять зашагал по квартире. Пройдя коридор, вошел в кабинет дона Норберто, зажег бронзовую люстру с лампами в колпачках, как аптекарские склянки, и снова принялся оглядывать одну за другой все вещи в комнате. С написанного маслом холста, висевшего над креслом у письменного стола, на него смотрел деревянно напряженный дон Норберто. Рот сжат, плотные губы утолщены – художник хотел придать нотариусу более серьезный вид. Дон Норберто сидел, опершись правой рукою о стол, вроде бы тот самый, что стоит сейчас под портретом. На портрете, как часто бывает с такого рода живописью, дон Норберто, которого Плинио хорошо знал, вовсе не походил на себя, а скорее на дурно раскрашенную статую того, кто сперва был нотариусом в Томельосо, а потом – в Мадриде. Плохие живописцы, желая написать портрет, сначала как будто лепят модель из невесть какой разноцветной глины, а потом с нее рисуют на холсте. Дурные художники, как и плохие писатели, не умеют видеть непосредственно то, что хотят написать. И вот они, кое-как вспомнив то, что уже было написано другими, приспосабливают это к тому, что хотят изобразить сами. «Настоящий художник, – думал Плинио, – это тот, кто на собственный лад умеет общаться с вещами и людьми и может сделать других причастными к этому общению. Иначе говоря, помочь другим увидеть это так, как увидел он сам, потому что без него другие – зрители или читатели – этого бы не увидели. Плохой же художник и сам «не общается», и другим не помогает общаться с окружающим миром, он лишь использует – и, разумеется, неуклюже – опыт своих предшественников». Разглядывая кошмарный портрет и рассуждая таким образом, Плинио вдруг запнулся – только чутье сыщика, каким он обладал, могло подсказать ему: «А ведь портрет-то совсем недавно трогали». Справа вдоль рамы виднелась на стене светлая полоска, которая суживалась кверху. На выгоревшей и закопченной стене белел вдоль рамы узкий клинышек. Осмотрев его, Плинио приподнял картину. И действительно, под портретом стена была того цвета, в который она была окрашена когда-то. Прямая, как кол, фигура дона Норберто приняла на себя всю копоть, пыль и свет, которые предназначались квадрату стены, прикрытому портретом. Так Плинио увидел светлый квадрат стены и почти в центре этого квадрата – тайник… «Черт возьми, вот жалость-то, будь здесь дон Лотарио, он бы сказал, что на этот раз чутье у меня в большом порядке… А я – в форме, хотя и проспал всю сиесту. Господи, пошли мне удачу, ради Грегории и дочери моей».
Но бог удачи ему не послал, потому что картина никак не снималась. Там не было, как обычно в таких случаях полагается, ни шурупчиков, ни костылей. Казалось, она была прикреплена к стене на дверных петлях или на чем-то вроде этого – словом, диковинным образом. И снять ее не было никакой возможности. У него руки устали держать ее на весу, папироса обжигала губы, и он опустил картину на прежнее место, чтобы перевести дух и вынуть изо рта папиросу. Потом одной рукой снова приподнял картину, а другой зажег спичку и поднес ее к стене за рамой, посмотреть, как она крепится. И тут увидел, что краска на светлом квадрате стены в двух местах чуть облупилась, словно тут ее часто касались. Подняв глаза кверху, он увидел прикрепленные к подрамнику две тонкие металлические рейки, которые можно было опустить, и тогда они, упираясь в стену как раз в том месте, где облупилась краска, поддерживали нижнюю часть картины на некотором расстоянии от стены, так, чтобы можно было открыть тайник.
«Ну и хитер этот дон Норберто, а может, это сестрицы так хитроумны». Тайник открывался очень просто, никакого особого запора с комбинацией цифр не было. Замочная скважина, прикрытая никелированным язычком, да плоская ручка. Плинио внимательно оглядел замочную скважину и быстро пошел к туалетному столику – посмотреть, нет ли в ящике среди множества ключей подходящего. Взял связку, вернулся в кабинет и стал пробовать, но все напрасно. Ни один не подходил. Он осторожно пробовал ключи один за другим, стараясь не притрагиваться ни к ручке, ни к язычку замочной скважины рукою, не обернутой в платок, потому что не знал, может, еще придется снимать отпечатки пальцев. Плинио перебрал все ключи. Не годился ни один. «Вот те раз», – проговорил он и сел в кресло нотариуса, не выпуская из рук ключей и не вешая на место картину. Плинио закурил еще одну папиросу, но курить не хотелось, и, сдвинув шляпу на затылок, он стал размышлять. «Одно из трех: либо ключ унес тот, кто здесь побывал, либо он хранится где-то, и это известно тому, кто тут был, или же эти распроклятые рыжие сестрички отдали его… уж не знаю, подчиняясь силе или добровольно. Но не Новильо же прячет их в своем треклятом министерстве… Впрочем, всякое порядочное министерство годится на что угодно… Значит, медлительный племянник, любитель марок, был в Париже, когда похитили этих голубок… Черт возьми, а если не был? Кто сказал тебе, что он уехал, а не находился где-нибудь поблизости? Потому что ни привратницу, ни служанку, ни глядящую в сторону швею – ни одну из них подозревать нет смысла… А священника? Да, но почему тут не может быть замешан еще кто-нибудь? Может быть, мы тут сидим, ворочаем мозгами, а все это – какой-то плут, которого мы даже и не почуяли… Да, но кто сказал этому неизвестному плуту, что я остановился в «Центральной»? И в какое время я там, а когда меня не бывает? Так вот, говорю вам, сеньор нотариус, – думал он, бросая время от времени взгляд на портрет, поднятый, точно капкан, – дельце-то все больше и больше запутывается».
Тут размышления его прервал звонок в дверь. Плинио поднялся, опустил портрет на место, поправил его, прошел в спальню, спрятал ключи в ящик и открыл дверь. Это были Фараон и дон Лотарио.
– А мне позволят посетить место происшествия? – спросил Фараон ужасно напыщенно и таким сладким голосом, каким говорят, хлебнув лишнего.
– Входите, сеньоры.
– Интересно узнать, что ты тут делаешь? – спросил ветеринар.
– Ломаю голову. Что мне еще делать? Ну, как ваше приключение с биде? Позабавились?
– Мура все, мура, – сказал Фараон, смеясь липкими губами.
– Ты не представляешь, Мануэль, что он выкинул, этот наш томельосский Рамзес.
– Ха, будто я его не знаю.
– Молчок. Запрещаю рассказывать – ни слова. Расскажем вей за ужином. А сейчас я хочу позвонить, потому что с этой дурацкой историей я совсем забыл о срочном поручении. Где в этом доме телефонная книга, Мануэль?
– Там, на столике, под телефоном. Погоди. Тебе какую – с адресами или с фамилиями?
– С адресами.
– Пошли в кабинет, там лучше видно.
Они вошли все, и Фараон, найдя в книге номер, записал его на коробке сигарет и вышел к телефону.
– Есть успехи, Мануэль? – по-отечески заботливо спросил дон Лотарио.
– Расскажу потом, когда останемся одни. Но завтра утром в семь я хочу встретиться здесь и поговорить как следует со служанкой, швеей, вы ее не знаете, священником, двоюродным братцем и Новильо, тем, что делает рамки, его вы тоже не знаете. А сейчас мы всех их оповестим.
– Ты меня заинтриговал, Мануэль. Я уже раскаиваюсь, что ходил, тратил время с этим толстяком.
– Погоди, он идет.
Вошел Фараон, дон Лотарио принес пиво, а Плинио вышел звонить по телефону. Потом он тоже – хоть и без особого энтузиазма – подсел к ним. Мысли у него были заняты другим. Дону Лотарио поведение шефа не давало покоя. Когда он вот так сидел с отсутствующим видом, не замечая ничего вокруг, это значило, что в голове у него что-то начинало вырисовываться. Все это выглядело приблизительно так; Плинио сидел и думал, дон Лотарио не сводил с него глаз, а Фараон грыз жареный миндаль и бормотал что-то забавно-бессвязное.
– Да, приятель, – вскочил он вдруг, – вспомнил: ты же должен мне показать эту знаменитую комнату духов, дон Лотарио мне про нее рассказывал. Вот потеха-то!
– В другой раз, Антонио, – пришел на помощь лекарь.
– Да нет, почему же, можно и сейчас, – неожиданно заявил Плинио, к великому удивлению дона Лотарио.
А дело в том, что Плинио при упоминании о комнате духов вдруг вспомнил, что из всей квартиры именно ее-то он и забыл осмотреть, когда увидел в кабинете свет. «Ну конечно же, – снова и снова думал он, – вокруг этой картины обязательно должен быть какой-нибудь ритуал, что-нибудь таинственное, и, конечно же, тут не обойдешься без комнаты с. кукольными духами».
И, захватив нужный ключ, он направился туда решительным шагом, слишком решительным для просьбы Антонио. Дон Лотарио с Фараоном последовали за Плинио по коридору, где стоял шкаф из можжевельника.
– Господи помилуй! – воскликнул виноторговец, когда зажгли свет в каморке с манекенами. – Что за хоровод мертвяков! Ну и сестрицы!..
Теперь Плинио показалось все это еще более мрачным. В прошлый раз у него вызвала улыбку карикатурность смерти, эта могильная пышность. Смерть, изготовленная из тряпок, прутьев и картона да еще одетая в костюмы и с фотографией вместо лица, выглядела еще больше смертью, чем любые мертвецы с одеревеневшими лицами, застывшими глазами и сжатым ртом. От покойников веет чем-то далеким, тихим, в них есть отчужденность и покой, как в заброшенном пустынном дворике или в стоячей воде. Здесь же фигуры были расставлены в строгом порядке – в соответствии с генеалогией, – словно приготовились к контрдансу смерти, но без музыки, да так и застыли на полдороге между жизнью и могилой.
Пожалуй, такое ощущение возникло не у одного Плинио, потому что оба его друга обмякли, широко распахнув глаза. Фараон, открыв рот, переводил взгляд с одной фигуры на другую и слова не мог вымолвить.
– Что за черт! – проговорил он наконец, вытирая тыльной стороной ладони жирные губы. – Гляди-ка, у этого, в сюртуке, даже булавка в галстуке и все причиндалы, какие положено.
– И бинокль, – не удержался дон Лотарио.
– Надо же! А у сеньоры-то – брелок. А у солдата-республиканца – значок с Фермином Галаном и Гарсиа Эрнандесом,[7] – оживился Плинио. – Бедняжки, каждому нацепили, что кому подходит!
– Ты, Антонио, помнишь дона Норберто? – спросил дон Лотарио.
– Не так чтобы очень, но помню.
– Вот он. Погляди, вместо головы его фотография.
– Да-да, я видел в квартире другие его портреты. Надо же, цепочка от часов – как полагается… А может, и часы!
– А вот мы сейчас посмотрим, – сказал вдруг Плинио, подошел поближе и потянул за цепочку, уходившую в правый карман жилета. – Да, сеньор, так и есть. Часы. Пусть стоят, но все-таки часы. Фирмы «Роскофф». – Он завел их и поднес к уху. – Идут.
Все тоже посмотрели, послушали. Потом Плинио опустил их на место – в карман – и вытащил другой конец, продетый в петлю цепочки. На этом конце цепочки висел всего один ключ обычного размера. При виде его Плинио словно током ударило. Несколько секунд он, не прикасаясь, глядел на ключ.
– А тут что висит? – допытывался Фараон, который, рассмотрев часы, отошел теперь с доном Лотарио в сторонку.
– Ничего особенного… ключ какой-то, – сказал Плинио, опуская ключ обратно в карман манекена.
Комментариев Фараона и дона Лотарио Плинио, по правде говоря, не слышал, потому что снова погрузился в размышления. Он почти механически осмотрел, что было в карманах, за воротом и в кулаках у остальных привидений, и ничто не привлекло его внимания – даже то, что в качестве противоядия против республиканского духа рыжие сестры положили ладанки в карманы жениху Марии, которого поглотила победа националистов.
Плинио попросил друзей не выходить из комнаты духов до его возвращения – а ему надо позвонить по срочному делу, – при этом он потихоньку подмигнул дону Лотарио.
Он позвонил комиссару, попросил его завтра утром прислать кого-нибудь снять отпечатки пальцев и прочитал ему анонимку, подписанную «Гато Монтес».
– По-моему, просто розыгрыш.
– Вот и я тоже так подумал.
– Но на всякий случай сохрани: сравним почерк с нашими завсегдатаями. Известное дело – стоит случиться несчастью, как сразу начинаются анонимки и телефонные звонки. Ничего не говорите журналистам, пока не распутаете дело.
– Да меня никто и не спрашивал. Сообщения, которые появились в газетах, должно быть, идут от вас.
– Да, я знаю. Будем держать все в строжайшей тайне. Так, Мануэль, есть все же надежда?
– Ну, смотря что называть надеждой… Знаете, я не обольщаюсь, но, во всяком случае, есть над чем поработать.
– Это только полицейские-новаторы спешат с решениями. А мы, настоящие, которые на своем веку много повидали, мы не спешим. Ладно, Мануэль, завтра в десять придет человек снять отпечатки.
Плинио повесил трубку и впервые за вечер почувствовал, что заботы оставили его и он доволен. К тому же ему приятно было, что такой важный комиссар говорил с ним столь доверительным тоном.
По дороге в комнату духов он закурил.
– Итак, пойдемте, друзья.
– Я тут говорю дону Лотарио: не ровен час еще душок выскочит..
– Не понимаю.
– Чего тут не понимать? Этот капитан-республиканец в одну прекрасную ночь вообразит себя Приапом, подомнет какую-нибудь Норберту из этих, и, глядишь, через девять дней – духи-то, они ведь шустрые – откуда ни возьмись еще одна картонная маска в лохмотьях.
– Ты невозможный, Антонио. Все об одном.
– А что, по-моему, очень остроумно. Пусть тебе дон Лотарио расскажет, что сегодня утром было.
– Ты мне сам расскажешь. Так где мы ужинаем?
– В баре «Аргентина», мы договорились с этой шайкой – студентами и их девицами, – я им исполню романс про биде.
– Ну так пошли, а то я голоден.
Внизу Плинио заглянул к привратнице. Она была у себя, и он спросил, не видела ли она, чтобы кто-нибудь из знакомых входил днем в квартиру сеньорит Пелаес или выходил оттуда.
– Знаете, сеньор Плинио, у меня было очень важное дело, и весь день меня не было дома.
За стойкой в «Аргентине» смеялись и пили вино студенты и швейцарка.
– Мир дому сему! – сказал Фараон, входя, и, широко раскинув руки, направился к швейцарке, которая дала себя обнять, заливаясь смехом не то от счастья, не то от страха. – Иди сюда, моя лапочка, я накормлю тебя устрицами досыта, пока ты не уехала в свою родную Швейцарию.
Они поздоровались, и, когда Фараон наконец отстал от девушки, а это случилось не сразу, он спросил:
– А где же остальные наши курочки?
– Не смогли прийти, – ответил Серафин уныло.
– Какая жалость! Мне-то ведь как раз нравится та, с Парфеноном. Так, значит, все в сборе?
– В соборе? – робко хихикнула швейцарка.
– В сборе, лапочка, в сборе. Так вот, Серафинито, я сдержал слово. Он уже дома, стоит, голубчик, тебя дожидается.
– Директор мне сказал за обедом. Сказал под страшным секретом и взял с меня слово хранить все в строжайшей тайне.
– Миленькое биде, Мануэль, все в цветочках и зеленых листиках. Я купил его на толкучке. Оно, наверное, времен…
– По-моему, в самом деле оно очень красивое, – согласился Серафин.
– Пошли ужинать, стол уже накрыт.
– Так вот, приходим мы в коллеж, с биде под мышкой…
– Стоп, дон Лотарио, право рассказывать – за мной, зря, что ли, я потратился на эту супницу и целое утро мы провели в хлопотах.
– На супницу? – спросила швейцарка.
– Да, супницу, биде по-испански «супница», радость моя. Здесь это так называется.
Когда подали ужин, Фараон начал свою историю:
– Так вот, как уже было сказано, утром на толкучке я купил портативное биде на трех деревянных ножках стиля не то «ампир», не то «вампир» – не помню точно, как мне его назвали. Само собой, его как следует упаковали – в бумагу и картонную коробку, и мы с доном Лотарио на такси поехали в коллеж к Серафинито. Приезжаем, выходим из автомобиля – я, конечно, с этим инструментом под мышкой. И говорим портье, что мы к сеньору директору. «Как о вас доложить?…» – «Отец Серафина Мартинеса. По срочному делу». – «Очень хорошо. Подождите, пожалуйста, здесь чуток».
– Так и сказал «чуток»? – не вытерпел Хуниперо.
– Ну… минутку. А ты помалкивай, каждый говорит на своем языке. Ждем мы, значит. Через некоторое время он возвращается и говорит, чтобы мы прошли в кабинет… А я, естественно, не выпускаю из рук своей гитары. За столом – лысый сеньор в золотых очках, с птичьим носом, очень вежливо здоровается со мной: «Как поживаете, сеньор Мартинес?» – «Спасибо, сеньор директор. Позвольте представить вам дона Лотарио, нашего домашнего врача».
– Не знаю, как я не прыснул, – перебил его дон Лотарио, – когда он меня представлял – так чинно, с торжественным видом, а директор глаз не сводит с этого злосчастного умывальника. Фараон держит его на коленях. А уж тяжелый он, наверное, будь здоров!
– Еще какой! Будь здоров, какой тяжелый этот «вампир»!.. «Так вот, – говорю я ему, – прошу меня простить, но по соображениям, касающимся здоровья моего сына, я вынужден нанести вам визит вместе с нашим домашним врачом, дабы он подтвердил то, что я скажу». – «А что, Серафин болен?» – «Чтобы он болел – этого нету. Но, как говорится, слабоват он, сеньор… Вы же знаете, молодежь, она такая, плоть, как говорится, играет… Вы меня понимаете?» – «Нет, сеньор», – отвечает он так серьезно, а сам вроде о чем-то уже догадывается.
– Я уже решил, – опять вмешался дон Лотарио, – все пропало.
– Успокойтесь, я знал, что делал. Сперва нарочно нагнал на него страху как следует, чтобы потом потихоньку спустить все на тормозах. «Я прошу вас, поясните, о чем речь», – говорит мне директор, а по тону видать: его одолевают самые черные подозрения. «Знаете ли, – начинаю, – я всегда в жизни придерживался самых твердых правил, вот дон Лотарио не даст соврать». А дон Лотарио на все так серьезно кивает… И на то даже, что будто я – член городского совета. И что мой папаша тоже был в городском совете при алькальде Карретеро. «Я всегда уважал правила и порядки всякого учреждения независимо от его ранга. Однако же, сеньор директор, я тем не менее считаю, что здоровье прежде всего, и уж если здоровье подкачало, тогда приходится идти на уступки, позволять излишества, делать поблажки, ну, словом, в этом духе. А все дело в том, что, как сын сообщил мне, когда он вернулся после каникул, то увидел, что из всех комнат исчезли биде».
– Тут этот тип скроил такую рожу, – прервал Фараона ветеринар.
– Просто побелел, – подтвердил Фараон. – Они, видно, ему всю плешь проели с этим делом.
– Посылали анонимки и все такое, – заметил Серафин.
– Так вот, он просто побелел и, хлопнув ресницами, уставился на пакет, который я держал на коленях, уставился и сверлит его глазами, как рентгеном. «Я считаю, – продолжаю я между тем, – сеньор директор, что вы очень правильно поступили, покончив с этими сосудами, потому как нам всем хорошо известно, чему они служат. Чистые и невинные в них не нуждаются. Что до меня, то я всегда считал их инструментом дьявола. И стоит мне увидеть такую штуку, где бы то ни было, не скажу, чтобы я осенял себя крестом, но отвращение она у меня вызывает такое, что и сказать трудно… Однако же, сеньор директор, сыну моему Серафину прибор этот необходим». – «А что такое с Серафином?» – спрашивает он, приходя уже в совсем дурное расположение духа. «А у Серафина…» – «Вот именно, что у него?» – повторяет, а у самого уже глаза на лоб лезут… «А у него… Да вот дон) Лотарио лучше объяснит».
И ветеринар берет слово, чтобы еще раз повторить свое заключение: «Ничего заразного у него нет, не бойтесь. Ничего стыдного. Просто что-то вроде экземы, с детства у него в этом месте раздражение. Мы испробовали много средств, и только одно помогает – почаще мыться теплой водой. Понимаете ли, это у него аллергического характера… С тех пор как он приехал с каникул и вы лишили его этой возможности, он ужасно страдает и вынужден ходить мыться к знакомым».
– Когда бедняга выслушал объяснение дона Лотарио, такое добропорядочное и научное, – продолжал Фараон, – он снова стал нормального цвета и кончил сверлить глазами, как шилом. Потом, подумав немного, он сказал: «Однако, сеньоры, я не могу одному разрешить иметь биде, а остальным – нет. Прежде чем прибегнуть к этой мере, мы все тщательно продумали и теперь не намерены отступать от своего решения». – «И прекрасно делаете, – говорю я ему. – Закон прежде всего. Плох тот правитель, что отступает от справедливых решений. Я вас отлично понимаю, и если бы не то, что ваш коллеж лучший в Мадриде и славится чистотою нравов, святостью и, я бы сказал, приверженностью духу Ватикана, ватиканизму…»
– «Да, вот именно… духу Ватикана», – говорит директор, а у самого на лице сомнение, – вставил дон Лотарио.
– Да, насчет ватиканизма это я, пожалуй зря. Ему в этом, должно быть, послышалось что-то вроде социализма… «Ну ладно, – говорю, – Шут с ним, с ватиканизмом, скажем: духу Ватикана – от этого никому ни холодно ни жарко. Так вот, я не отдаю Серафина ни в какой другой коллеж потому, что высоконравственное воспитание и Строгость правил, которыми славится это заведение, для меня так важны, что мы с доктором много дней ломали голову над тем, как все устроить, чтобы не отдавать мальчика в другое заведение, ненадежное, но чтобы при этом бедняжка не мучился так и не ходил каждый день мыться бог знает куда… Будьте милосердны, сеньор директор, я убежден, что мы нашли выход и что вы не откажете. Перед вами отец, отец единственного сына, и отец готов на любые жертвы, лишь бы сын получил образование…»
– И этот бесстыдник заплакал, – заключил ветеринар.
Раздался взрыв хохота, так что все посетители разом обернулись.
– Да, по-моему, я заплакал, – продолжал Фараон, когда снова стало тихо, – заплакал, как и подобает отцу. И как твой отец, Серафин, никогда из-за тебя плакать не станет… «Мы нашли выход, – продолжал я со слезами на глазах, – вот тут – портативное биде, и мой сын будет прятать его у себя в комнате, хранить под замком и употреблять исключительно в лечебных целях». – Хранить – где?» – спросил тот подозрительно. Я не знаю, что про себя подумал этот тип, – продолжал Фараон со смешной ужимкой, – и я сказал: «Хранить в своем шкафу, под замком, так что его никто абсолютно не увидит и, таким образом, он не послужит дурным примером ученикам вашего заведения…» Деваться было некуда. Директор опустил глаза и задумался… «Прошу вас, сеньор, сделайте милость. Ради бога и всех святых, вот и дон Лотарио, поскольку он тут, даст какое угодно медицинское заключение…» В общем, я еще некоторое время распространялся и так его разжалобил, что он согласился под честное слово, наше и твое, Серафин, что ты никогда не оставишь шкаф открытым, дабы его не увидела какая-нибудь служанка и не испытала бы искушения и никому из учеников не пришла бы в голову мысль, что в заведении есть любимчики… Когда я закончил свою речь, мы все втроем поднялись к тебе в комнату установить эту гитару. Но самого хозяина комнаты и в помине не было. Да и как ему быть там, если в это самое время у него было занятие поинтереснее.
Тайник с драгоценностями
Едва выпили кофе, как Плинио и дон Лотарио, сославшись на усталость, оставили Фараона с сотрапезниками, которые уже строили планы на остаток вечера. Швейцарка окинула их на прощание приторным взглядом. Они вышли на улицу и через минуту уже были в злополучной квартире на улице Аугусто Фигероа.
– Ну, рассказывай, – торопил дон Лотарио, – мне кусок в горло не лез, я все думал, что ты мне расскажешь.
– И все-таки вам придется повременить, мне еще больше не терпится: хочу проверить, не подвело ли меня чутье сегодня в комнате духов. Сейчас проверим, и тогда расскажу.
Они пошли в спальню, достали связку ключей из туалетного столика, отперли комнату манекенов, и, к изумлению дона Лотарио – он даже рот раскрыл, – Плинио кончиками пальцев с величайшей осторожностью отстегнул часы от цепочки, которая была в кармане жилета у двойника дона Норберто, вытащил ее оттуда, зажав в кончиках пальцев, пошел в кабинет. Там Плинио положил цепочку на стол:
– Дон Лотарио, пожалуйста, приподнимите этот портрет за нижнюю часть рамы.
– Ты хочешь, чтобы я поднял?… А он не упадет?
– Будьте спокойны. Вот так. Еще чуть-чуть.
А сам подлез под руку ветеринара, опустил планки и укрепил на них портрет.
– Вот так штука, это же надо такое придумать!
Плинио, воспользовавшись своим носовым платком, взял цепочку с ключом, отодвинул язычок, прикрывавший замочную скважину, и попробовал открыть. Оказалось совсем легко. Но прежде чем посмотреть, что внутри, он обернулся к дону Лотарио и улыбнулся ему во весь рот.
– А теперь посмотрим, что хранят тут оранжевые близнецы.
– Рыжие сестры, Мануэль.
– Один черт.
Сначала они увидели несколько чековых книжек. Чеки не были подписаны, и каждая книжка была на имя обеих сестер. В большом конверте лежали акции разных компаний. Большой футляр для драгоценностей, обитый синим бархатом. Плинио открыл его. Перстни, колье, браслеты, золотые монеты и множество всевозможных часов. Такое обилие драгоценностей привело Плинио в замешательство. Были еще бумажники, в них хранились страховки, облигации, завещания предков и стопки конвертов, перевязанные шелковыми лентами.
– Ну что, Мануэль?
– В том-то и дело, что ничего, дон Лотарио.
– Объясни, как тебя понимать.
Осмотрев все как следует еще раз, Плинио положил все на место, запер тайник – опять с помощью платка, – поднял планочки, опустил на место портрет, но не стал класть ключ в карман жилета дона Норберто, а, завернув в платок, положил его в ящик туалетного столика.
И медленно, словно прогуливаясь по Ярмарочной улице у себя в Томельосо августовской ночью, они вернулись в гостиницу.
На следующее утро в десять прибыл молодой человек из отдела криминалистики и с величайшей осторожностью и аккуратностью проделал все, что полагалось, с ключом и той частью стены, к которой чаще всего прикасались.
Плинио с доном Лотарио, обзвонив всех по телефону, убедились, что полного консилиума до полудня следующего дня собрать не удастся. Главным образом потому, что Новильо, этот государственный служащий и одновременно специалист по изготовлению рамочек, по словам его секретарши, дамы от вязального станка, неизвестно где будет до половины восьмого, поскольку в это время он разносит заказы, а с половины восьмого до восьми он обычно бывает в кафе «Националь».
Когда молодой человек с отпечатками ушел, друзья вернулись к тайнику и еще раз просмотрели бумаги и письма. Внимание их привлекло одно очень теплое письмо дона Норберто из Рима, датированное 1931 годом. По-видимому, это было первое и последнее путешествие нотариуса за границу; письмо было полно самого неподдельного восторга. Сплошные восклицания по поводу «чудес, которые предстали его взору», то и дело итальянские слова и выражения и нежнейшие приветы его рыжим дочуркам.
«Куда уходит любовь к близким нам людям, когда наступает наш смертный час? Где похоронена любовь тех, кого уже нет на свете? – подумалось вдруг Плинио. – В письмах дона Норберто, несмотря на слащавость и манерные словечки, была любовь, сильная и горячая любовь бесхитростного сердца. Любовь, рожденная в этой мрачной жизни силою взгляда, нежностью и расставанием Любовь, которая крепче земли, куда она исчезает потом? Неужели нотариус сошел на нет и, скованный могилой, ничего не чувствует? Неужели все, что было, лишь химические реакции в его мозгу? Неужели в тот последний, смертный час рушится сладостное скрещение шпаг и остается только одна шпага – та, что живет, в то время как другая, пораженная, замолкнувшая, онемевшая, ржавеет и гниет вместе с костями скелета, жилетными пуговицами, зубами и бородавками в зарослях чертополоха и других невеселых трав, в потемках, без света и выхода, на радость червям? Можно ли поверить, что столь редкостная вещь, как любовь, безудержное тяготение, нежная привязанность, глубинный сок и суть жизни, это сладчайшее из вин, жажда, сильнее которой нет, голод, которого не утолить, поцелуй, от которого дух захватывает, – все это превращается в жижу, в перегной, в могильный прах, а на долю тех, кто остается жить, выпадают поникшие знамена, ибо нет больше ветров, на которых они трепетали, и так – до конца, пока не завершится круг этой уже не находящей отзыва любви».
Он снова и снова представлял себе рыжих сестер, представлял их томительными вечерами наедине с этими письмами, с этой любовью, оставшейся в далеком прошлом, любовью сердца, которого уже не обнять. «Несчастная любовь без назначения. Чистая любовь, обращенная. в никуда, к облаку. Нет счастья этой любви, как нет счастья всему, что заваривает человек, когда мечтает и на цыпочках тянется кверху, – один обман хлебает он, обман и дождливые тучи».
Были тут письма деда и бабки Пелаес и еще каких-то родственников, друзей, подруг и, разумеется, тонкая пачка писем от Пучадеса, жениха-республиканца Марии. Они просмотрели их. В одном из них – на почтовой открытке – был стишок: «Влюбленный сказал: «Надо увидеть, чтобы заставить себя полюбить», увидел ее, и теперь сам не может забыть». И потом: «Я представляю тебя в театре, ты сидишь в кресле рядом со мной, тихонько вздыхаешь, на твоем лице – отсветы рампы и твоя белая рука в моих руках». И в другом: «Убеждения твоего отца и таких, как он – само собой, я их уважаю, – строятся на том, чтобы сохранить то, что они имеют, сохранить свое. Я же хочу счастья для всех, чтобы настал день, когда у каждого будет «свое», у каждого будет что защищать, в том числе и человеческое достоинство, права человека, уважение всех и ко всем, – словом, свобода. Видишь, я не такой плохой, как считает дон Хасинто».
Лицо Плинио, почти никогда не выражавшее никаких чувств, порозовело и чуть вспотело от нежности и щемящей тоски: «Права человека. Бедные мои, бедные. Бедные старые либералы, чувства у них превыше корысти, и так далека от жизни, так до ханжества наивна их вера в права для всех. Ну и смех, ну просто смех, какое словоблудие. Того, кто сказал: мир и хлеб, слово и порядок для всех, включая богатых, – того, кто это сказал, в нашем мире, таком, какой он есть, распяли на кресте. Порядок и закон… крепко сколоченный, жесткий и налаженный, – вот что они получали в конце концов. Бедные, мягкотелые, робкие и словоохотливые либералы. Пружина лопалась – бац! – и начиналась драчка». Ему вспомнились республиканцы из его селения. Тот, в кашне, с короткой густой шевелюрой, с книгой Бласко Ибаньеса под мышкой, как он, бывало, расписывал в казино – под прибаутки слушавших его, – как он расписывал близкий – рукой подать! – рай, когда воцарится равенство, братство и справедливость. И что стало потом? Какой трагедией, какой щемящей жалостью все обернулось! Пучадес, этот пропавший жених рыжих сестер, наверное, тоже расхаживал по знаменитым мадридским кафе, наверное, тоже читал цитаты из Бласко Ибаньеса и Дисенты; и тоже, наверное, был окрылен добрыми новшествами Второй республики; и наверняка был уверен, что в конце концов убедит даже дона Норберто. Да и кто мог быть против такой прекрасной программы?
Друзья заперли тайник и отправились обедать в гостиницу. Возбужденные тем, что увидели, они стали вспоминать Томельосо во времена республики, вспоминать те дни, которые Франсиско Гарсиа Павон, внук брата Луиса из книги «Ад», описал в своих «Республиканских рассказах» и в «Либералах».[8]
Под вечер, поскольку никаких дел не предвиделось, они решили сыграть партию в шашки на старой, потемневшей от времени доске, которая нашлась в квартире. Давно не играли они в шашки. В былые времена, когда только что кончилась война, в «Томельосском казино», которое раньше называлось «Очаг земледельца», еще раньше – «Народный бар», а вначале – «Кружок либералов», случалось им помериться силами – «Кто кого», как говорила жена Плинио. Но со временем от клеток стало рябить в глазах, и они перешли к ломберному столу, в компанию Переса Бермудеса, аптекаря дона Херардо и Корнехо из Вальдепеньи, который когда-то был дипломированным тореро.
Так за шашками они просидели почти до семи, до прихода Антонио Фараона. Потом выкурили по сигарете, и Плинио сказал им, что они могут идти, потому что пора ужинать. Сам же он собирался перекусить в «Национале» и заодно выяснить, не появится ли там чиновник, специалист по рамочкам. Фараон с доном Лотарио ничего не имели против такого плана. По правде сказать, общество Плинио немножко их тяготило. Они договорились, что встретятся в «Гайянгос» или в «Ла Чулета», куда по вечерам стекались студенты и «добрейшие иностранки».
Они уже собрались уходить, как вдруг Антонио Фараон что-то вспомнил и, как накануне вечером, попросил разрешения позвонить. Он притащил из прихожей все телефонные книги и, нацепив очки, казавшиеся на его физиономии крошечными, принялся рыться в книгах, разложив их на столике для шашек. Ветеринар с сыщиком чуть насмешливо следили за тем, как медленно водил он пальцем по списку. Когда же он отодвинул в сторону одну из телефонных книг, глаза Плинио, всегда чуть прищуренные, впились в рекламу пива, на которой карандашом, крупными буквами было что-то записано. Он надел очки, придвинул книгу и принялся разбирать закорючки. Фараон отошел к телефону, вполголоса повторяя номер, а дон Лотарио тоже надел очки и заглянул через плечо шефа в книгу.
– Похоже на «Вилла «Надежда», шаль, Каламанчель Верх…» – читал шеф.
– Вилла «Надежда», шаль… Очень странно, – отозвался ветеринар. – А дальше, наверное, Карабанчель Верхний.
– Да… А что за шаль?
– Что вы там разглядываете с таким усердием? – спросил, входя, Фараон.
– Ну-ка, прочти, – сказал ему Плинио. – Это, похоже, вилла «Надежда», а это – Верхний Карабанчель. А вот что за шаль?
Опершись о стол, он наклонился над книгой и тут же все объяснил:
– Ясно как день. Да ведь ясно как день, – заявил он самодовольно и снял очки. – Вилла «Надежда», шале. Верхний Карабанчель.
– Вот это проницательность! – воскликнул ветеринар.
– Да, сеньор, бывают и у вас проблески, – подхватил Плинио.
– Да это, братцы, проще простого, – не унимался толстяк, очень довольный собой. – Все шале называются вилла такая-то, а в Карабанчеле их тьма.
Не отрываясь от записи, Плинио протянул им табак. Когда они закурили, ветеринар спросил:
– Ну, Мануэль, о чем это ты думаешь с таким отрешенным видом?
– Я думаю о том, брат Лотарио, – ответил тот, скребя затылок, – что записывали это наспех, на первом, что попало под руку… и записывали, наверное, разговаривая по телефону.
– Значит, ты считаешь?
– Считаю… До того, чтобы что-то считать, еще далеко. Так – пришло в голову.
Дон Лотарио сидел, прикрыв глаза от удовольствия, что Плинио оказался так догадлив, – величественно прикрыв глаза и раздувая ноздри точь-в-точь как император Гай Юлий Цезарь.
– Мануэль, я убежден, это одна из твоих знаменитых догадок и мы подходим, если еще не подошли, к эпицентру дела Пелаес.
– Успокойтесь, дон Лотарио, свет души моей, вам не хуже меня известно, что в догадках о причинах чужих поступков ошибаться можно на каждом шагу.
– Черт подери, Плинио. А почему бы тебе не дать нам с сеньором коновалом возможность за то время, что осталось у нас до ужина, сгонять на это самое шале под названием вилла «Надежда» и посмотреть, что там да как.
– Тебе, Антонио, тоже не терпится поступить на службу в Муниципальную гвардию?
– Такого желания не было, да и склонности к сыску никогда не имел, но вот попал в вашу компанию и чувствую – меня тоже подмывает… А потом, представь, если этот след ложный, то твоей славе не повредит. Мы с доном Лотарио – лица частные, сходим поглядим, существует ли это место вообще, и, если ты со своей догадкой попал в яблочко, мы тебе звоним по телефону в «Националь», и ты во всеоружии являешься. Если же дело пустое – считай, прогулялись по Мадриду, а гулять по Мадриду осенью – одно удовольствие.
– Согласен. Глядишь, сделаем тебя почетным капралом Муниципальной гвардии Томельосо, толстяк Жду вас в «Национале», и ветер вам в паруса… Только, смотрите, осторожно, не позволяйте себе лишнего.
– Не беспокойся, Мануэль. Я с ним, – с серьезным видом успокоил его ветеринар.
– Ну, ступайте, начальники.
Сказано – сделано. Пошли.
Они вышли втроем, у гостиницы «Центральная» остановились подождать, пока дон Лотарио сходит за своим револьвером – мало ли что! – потом доехали до «Националя», где Плинио вышел. И прежде чем они тронулись дальше, шеф шутливо благословил их.
Плинио вошел в огромное, просторное кафе, но Новильо из министерства там не оказалось. Было слишком рано. Одному садиться за столик не хотелось. Чтобы скоротать время, он решил пройтись по улице. Дошел до Куэста-де-Мойано. Заходящее красно-белое солнце светило ему в спину. Он медленно шагал по улице вдоль выкрашенных в жидкий голубой цвет запертых книжных киосков – точь-в-точь маленькие подмостки кукольных театров. Держась за руки или под руку, прохаживались парочки. Плинио вспомнил старые ярмарочные ларьки в родном селении. Два ряда ларьков с халвой и игрушками вдоль Привокзального проспекта.
Нищий в солдатской шинели старого образца, прожженной известью, прислонясь к стене, сосредоточенно курил. Плинио остановился, рассеянно глядя на него. Нищий показал ему кукиш и поглядел вызывающе. Плинио засмеялся и пошел дальше. Две вялые собаки что-то вынюхивали у ларьков. Должно быть, они были старыми друзьями, потому что двигались и бегали они совершенно одинаково.
Обратно он пошел по другой стороне улицы. На площади Аточа было место, где продавали каштаны. Здесь для защиты от солнца установили яркий, разноцветный зонтик, как на пляже. Последние лучи заходящего солнца ложились красными отсветами на здание вокзала.
Женщина-индуска, толстая и старая, в национальном платье и с татуировкой на руках – по рыбине на каждой, – стояла у здания вокзала и смеялась над чем-то, что рассказывала другая индуска, помоложе, в европейском платье.
На площади, как всегда в это время дня, было полно народу. Молодые люди скромного вида – суда по внешности, мастеровые, однако с длинными волосами и бачками, – сбившись в кружок, курили и болтали. Плинио заметил, что одежда на молодежи была коричневых тонов или, как говорил его кум Браулио, цвета детской какашки. Сплошь и рядом брюки и пиджаки – цвета горчицы, меда или спелого колоса. На тех, что одеты похуже, – остроносые башмаки, или, как их называют дети, «накося, выкуси».
Он пошел по Делисиас; его так и тянуло туда – на улицу Тортоса, откуда уходили томельосские автобусы. Последний автобус уже давно пришел, и никого из знакомых не было. Плинио остановился на углу около бара «Железнодорожный», чтобы оглядеться. Решил зайти выпить пива. В баре народу было мало. Его внимание привлекла молоденькая девушка, сильно накрашенная, в высоких золотых сапогах. Немногочисленные посетители «Железнодорожного» не сводили глаз с девушки в сапогах. А той не сиделось на месте. Она вся извертелась, боясь, как бы не иссякло внимание поклонников. Какой-то толстяк, по виду железнодорожник, пил в одиночестве и, не отрывая глаз от золотых сапог, глупо улыбался. Девушка разговаривала с продавщицей лотерейных билетов, но все ее внимание было обращено не на старуху, а на публику.
Потом Плинио зашел в бар «Платформа», куда обычно, соскучившись по родному селению и соседям, сходились томельосцы, жившие в Мадриде, подгадывая к приходу автобуса, в надежде встретить земляков.
Но и тут знакомых не оказалось; сев за столик в углу, Плинио попросил красного вина. У стойки было несколько мужчин и женщин – судя по говору, из деревни.
Парни, разносившие бутылки с пивом, подавали их так лихо, с такой удалью, словно это были не бутылки, а оружие и они намерены были сразиться разом со всей честной компанией. Вошел молодой красивый негр с маленькой кривоногой испанкой. Они не сводили друг с друга влюбленных глаз. Заказали выпить. Мануэлю нравилась эта смесь национальностей, смесь города и деревни. Не теряя своего мрачноватого своеобразия, Испания, веселая и печальная одновременно, прекрасно уживалась с этой живописной разноплеменной волной, которую принесло с собой время.
Девушка в позолоченных сапогах, выставлявшая на всеобщее обозрение свои ножки в баре «Железнодорожный», и теперь эта, что вошла с негром, напомнили ему – быть может, именно по контрасту – его дочь, его единственную дочь, его собственный нежный, но не продолживший рода отпрыск. «Не повезло мне с бедняжкой. Ей уже за тридцать, а все не замужем. Ни на шаг от матери, вечно в четырех стенах. Всю жизнь снует между колодцем, виноградником и смоковницей. Правду сказать, особого желания выйти замуж она не выказывает. Все идут гулять или в кино, а она – дома, с матерью: в хорошую погоду – у дверей, а зимой слушает радио или шьет». Никогда она не доставляла ему больших неприятностей, но и особых радостей – тоже. Словно так уж создана, чтобы не делать шума, ничего не нарушать. Все принимать таким, как оно есть, жить в полном согласии с заведенным порядком там, где родилась, и такою, какая есть. Мир за стенами дома ей совершенно чужой. И поет она одна, и приходит и уходит – тоже в одиночку. Все делает размеренно, с виду даже медленно, а чистюля – вся в мать. Не любит быть на виду. И жизнью своей довольна… А может, даже хочет поскорее уйти, не оставив ни следа, ни отзвука, как виноградная ветка, которую в положенный срок срывает ветер и уносит в пропасть небытия. На уговоры выйти замуж она лишь качает головой и возвращается к своему занятию. Есть люди, которые по натуре своей как будто ничего не хотят от жизни. Ничего от нее не хотят, никакого зла на нее не держат. Они смиряются и принимают ее условия, словно заключают контракт на пребывание в этой жизни как вечно вынужденное, но, мол, что поделаешь? Люди эти в жизни ничего не значат. Никому от них ни холодно ни жарко, да и их самих ничто не греет… «Само собой, жизнь, – думал Плинио, – может повернуться и так и эдак. И важно пройти по ней, хлебнув по возможности меньше горя, не обращать внимания на житейские мелочи. Все на свете временно. Все проходит. И какая разница, где пролег твой путь – в выбеленных известью стенах деревенского домика или в другом месте? Главное: не обращать внимания на мелочи, и все, – повторял он. – Голова должна быть чем-нибудь занята, и тогда пройдешь по жизни, не вдаваясь в ненужное. Каждый должен научиться как следует плясать свой танец, и плясать его, пока не остановится навеки. Мой танец – законность. Ее – мирный домашний очаг, цветы в горшках, беленые стены. Есть такие, кому нужна война, перемены, страх. Будто они одни на белом свете. А ей, моей бедняжке, довольно молчания, покоя, незатейливой скромности и возможности сновать туда-сюда целыми днями с ведрами воды, напевая что-то, а по ночам – думать, думать… Все мы – и воинственные и миролюбивые – в конце концов кончаем тем, что превращаем собственную жизнь в привычку, в привычку к бесконечным сражениям или к покою, к вечной гонке или тихим вздохам, к ласке или ссорам, к понимающему молчанию или к широковещательным жестам с балкона… Если не считать толчеи, которая неизбежна, поскольку речь идет о человеческом обществе, – толчеи, на которую большинство не обращает внимания, каждый человек – это то, что он несет внутри: бесконечная цепь маленьких прихотей и желаний, собственных представлений и огорчений. У каждого свой мирок, своя маленькая ложь, которая помогает ему скоротать время, пока не придет пора возвращаться в землю и стать снова ничем, как и прежде. Будь у меня деньги, я, быть может, стал бы полицейским комиссаром в Мадриде или в Барселоне, но все равно не стал бы ни архитектором, ни музыкантом. Неважно – в пиджаке или в мундире, я бы все равно был тем, что я есть. Может, чуть покультурнее или уж вовсе неотесанный, но все равно я – это я. Так устроен у меня котелок, так скроен я раз и навсегда. И если бы жена моя и дочка вместо того, чтобы суетиться во дворе, сидели у окна на какой-нибудь господской улице в Мадриде – что проку? – ни той, ни другой выше головы не прыгнуть и от себя не уйти. Родители уходят очень скоро. Братья – с самого начала отрезанный ломоть. А жена – в один прекрасный день встречаешь женщину на улице, и тебя пробирает до печенок; так вот, она и дети, которые приходят по воле божьей, – самое верное наше продолжение, наш образ и подобие. Семья, которая подле тебя и в зрелости, и в старости, и в смерти». О родителях у Плинио сохранились лишь отдельные воспоминания, обрывки фраз, запах, который грезился ему иногда, да фотография цвета корицы, стоявшая в столовой на камине. Почти ничего. Жена и дочь – вот все, что имел он в жизни. Он всегда ощущал их рядом, и мысли о них не выходили у него из головы. Словно они были в нем, были частью его самого. «Я никогда не бываю один, – думал он, – стоит мне закрыть глаза, я вижу их, вижу, как они поливают цветы во дворе, кормят птицу зерном, снуют в кухонном чаду. Весь мой дом – а он почти такой, каким был при моих родителях, – я постоянно чувствую в себе, в каждой поре моего тела. И сам я – часть этих высоких кроватей с шарами, этих кувшинов с зелеными листочками, этого комода, где прежде моя мать, а теперь Грегория хранит теплые вещи; этой низенькой каминной подставки для дров. Вся жизнь – куда ни кинь – проходит под жу-жу-жу женщин. Кормление грудью, пеленки, слюнявнички, жалобы, охи да ахи. Женщины – это сама земля, сама земля во плоти, а с ними всегда – еда, постель, кровь и молоко. Они – наше обличье, тесто, из которого мы сделаны, материал, на котором замешаны, плацента, вар, наш выигрыш в жизни; земля, облаченная в плоть. Женщины – это одеяла, шарфы, свежевыглаженные рубашки; теплое, пахучее – все это они. Питье, еда, полотенца, выбеленные стены, масло, сыр… Их нескончаемая суета от рождения и до смертного часа. Само нутро, горластое, нежное, угрюмое, жесткое и мягчайшее, пропитанное влагой жизни нутро земли, которая родит тебя и проглатывает. Какие бы возвышенные мысли нас ни обуревали, какие бы абстрактные представления нами ни владели, какая бы чистейшая музыка ни увлекала, к какому бы абсолюту мы ни стремились, мы всегда над ними и под ними или с ними, всю жизнь привязаны к их ногам, к их жертвам из последних сил, к их суете, и жизнь приковывает нас к этой несчастной земле, которую недолго нам выпадает топтать. А они наряжаются, украшают себя драгоценностями и опрыскивают одеколоном, чтобы скрыть от других и себя самих свою сущность – то, что тело их – сама земля, ибо из земли и наша бабка, и мать, и жена, и дочь, и служанка, и госпожа. Они – наша мягкая, теплая и прохладная постель, пух и камень, которые обращаются огнем, земля, от которой мы не можем оторваться никогда. И если хотим остаться цельными, то и не должны отрываться. Это они каждый день строят и разбивают нашу жизнь; они дают нам жизнь; продолжают нашу жизнь; растят нас, кормят, поят и мучают под звуки вечно бурлящего, никогда не смолкающего потока житейской суеты; они обмывают и одевают нас в последний путь, оплакивают нас и осмеивают; обманывают нас и валяются у нас в ногах; они как времена года, которые меняются, но не уходят, а мы между тем сгораем, мокнем, мерзнем или сияем, прекрасные или с предсмертной пеной на губах».
Без всякого желания Плинио шел к «Националю» повидаться с Новильо из министерства. Побродив порядком между стульями и мраморными столиками, он наконец обнаружил его: тот сидел один и сосредоточенно читал газету.
Плинио вырос перед ним.
– Добрый вечер, сеньор государственный служащий, – сказал он.
Новильо поднял свой увенчанный очками орлиный нос и не слишком любезно поглядел на полицейского.
– Могу я присесть рядом на минутку?
Вместо ответа специалист по рамочкам подвинулся, уступая ему место. Потом спокойно спрятал очки в футляр, свернул газету и спросил, когда Плинио сел:
– Сеньориты так и не появились?
– Не появились.
– Хочу предупредить, что я знаю не больше, чем в прошлый раз.
– У меня нет ни малейшего сомнения на этот счет.
«Тогда в чем дело?» – Очевидно, это означал его нетерпеливый жест.
– Я хочу попросить вас об одном одолжении, – продолжал Плинио, не обращая внимания на поведение Новильо.
– О каком?
– Я хочу завтра в полдень собрать вас – друзей сестер Пелаес – в квартире на улице Аутусто Фигероа. Я звонил в министерство, и сеньора, которая работает с вами, сказала, где я могу вас найти.
– А зачем это собрание?
– Ну… чтобы всем нам обменяться мнениями по поводу тех фактов, которые у меня имеются… Может, что-нибудь прояснится.
– Сомневаюсь.
– Как знать.
Наступило молчание, и Плинио, воспользовавшись им, заказал пива и предложил Новильо табаку. Пока они набивали папиросы, Плинио обвел взглядом кафе: голубые стены и темные колонны. Круглая стойка у входа казалась каруселью из рюмок и чашек. У прилавка с газетами – и это здесь было – несколько человек покупали и рассматривали выставленные в витрине газеты. Плинио всегда удивлялся огромным размерам этого помещения – кафе походило на столовую в казармах. Кстати, именно здесь устраивались банкеты по различным политическим поводам. За столиком рядом – молодая девушка с сеньором гораздо старше ее. Время от времени он вроде бы украдкой пожимал ей руку. Девушка нервничала и все время озиралась по сторонам. Создавалось такое впечатление, будто она выполняла долг. А мужчина не мог скрыть возбуждения. Расплачиваясь с официантом, он принял серьезный вид и вынул толстенный бумажник. Девушка смотрела на бумажник своими огромными глазами. Она чуть наклонилась вперед, и в вырезе платья, немного отставшем, виднелись только-только округлившиеся груди. А зрелый мужчина, очень серьезно и немного нерешительно отсчитывая купюры, исподтишка запускал глаза ей за ворот. За столиком слева четверо мужчин, по виду селяне, читали каждый свою газету.
– Как называется пост, который вы занимаете в министерстве? – спросил Плинио у Новильо, словно бы между прочим.
Новильо застыл, не донеся папиросы до рта.
– А вам какое дело? – спросил он, и голос его дрогнул.
– Ради бога, простите, – отозвался Плинио немного смущен но. – Я не хотел вас обидеть.
– Хотели или не хотели, но лучше вам не задавать дерзких вопросов. Я делаю в министерстве то, что считаю нужным. Устраивает вас это?
Государственный служащий, видно, был так задет вопросом и настолько встревожился, что люди вокруг уже поглядывали на них, ожидая ссоры.
Плинио ничего не оставалось, как стиснуть челюсти, прикрыть глаза и ждать, пока у того уляжется желчь. И поскольку прошло уже несколько секунд, а чиновник хотя и молча, но по-прежнему смотрел на Плинио, прямо сказать, без всякой любви, Плинио решил сделать еще одну попытку и начал очень осторожно:
– Прошу извинить меня, я не хотел вас обидеть.
– Вы просто-напросто дурно воспитаны, – отозвался тот глухо и по-прежнему вызывающе.
– Послушайте, друг, – разом помрачнев, отчеканил Плинио, – мне кажется, вы забыли, что я – представитель власти и по отношению ко мне вести себя так недопустимо… А потому продолжить разговор нам придется в комиссариате. Будьте любезны, пройдите со мной.
Хотя они говорили тихо, посетители, сидевшие поблизости, не сводили с них глаз. Особенно четыре женщины, сидевшие за столиком напротив. Главная из них – во всяком случае, она у них верховодила, – низенькая толстуха, с лицом цвета протухшего творога, крашеными черными волосами и высоко подбритым затылком, явно симпатизировала Новильо и теперь смотрела на Плинио так, словно готова была подскочить в любой момент. Немолодая супружеская пара, пряча лица за газетой – одной на двоих, – тоже, по-видимому, ожидала бури.
Плинио стоял, поправляя узел галстука, и ждал, пока поднимется чиновник.
– Что-нибудь случилось, Новильо? – подскочила толстая курносая сеньора с подбритым затылком, готовая оказать любую помощь.
– Нет-нет, благодарю вас, сеньора Фэ, – ответил Новильо, который, правду сказать, здорово поутих, услышав приказание Плинио.
Оборот, который приняло дело, привел чиновника в чувство, и, дотронувшись до локтя Плинио, он попросил:
– Пожалуйста, Гонсалес, присядьте на минуту… потом пойдем, куда скажете… Простите мою несдержанность. Но бывает, я не могу с собой совладать… Я скажу все, что вы хотите.
Плинио, поглядев на него очень сурово, с таким видом, будто делает огромное одолжение, сел, но чуть поодаль, как если бы сидел у себя за столом в комиссариате.
Новильо подозвал официанта и попросил Плинио заказать себе что-нибудь за его, Новильо, счет. Тот, не желая своим отказом привлекать внимание, придал лицу соответствующее выражение и попросил принести еще одно пиво.
– Еще раз прошу вас, Гонсалес, – опять начал рамочник, глядя на Илинио усталыми глазами, – простите, что я так вел себя, но положение на службе у меня очень сложное, и любое упоминание об этом меня задевает.
– А в чем все-таки дело? – спросил Плинио, и в глазах у него мелькнула ирония.
– Видите ли… я прошел на должность в министерство в двадцать девятом году по конкурсу…
Старик за столиком рядом, делая вид, будто смотрит совсем в Другую сторону, положил руку на колено девушке. Та вся сжалась и уперлась глазами в мрамор столика. Толстая курносая донья Фэ шепталась со своими товарками, бросая неодобрительные взгляды на старика с девушкой.
– …Меня назначили в отдел концессий, – продолжал Новильо. – Нас в отделе было пятнадцать человек. Но, как вы знаете, в тридцать первом году к власти пришла республика, и отдел закрыли. Остался только я и еще одна девушка – для передачи дел А так как мы занимали много места, а с клиентами нам уже общаться не приходилось, нас перевели на чердак – он тогда был большой, неперегороженный. Со временем, после всяких перестроек и переделок, нас и вовсе задвинули в угол… Мы закончили все дела, как раз когда началась война. С тридцать шестого по тридцать девятый год о нас ни разу не вспомнили. Мы приходили на службу просто убивать время. Когда война кончилась, новая администрация обратила на нас внимание. Мне сказали, чтобы мы дождались пока завершится чистка, и вот в таком положении мы и находимся по сей день. Каждый раз с приходом новой администрации все перестраивали по-новому, а нас загоняли все дальше в глубь здания и все выше. Я еще раз во всех подробностях сообщил, как все было и в каком положении мы находимся. В ответ – ни слова. Потом уже, несколько лет спустя, один приятель рассказал мне, что нам не ответили потому, что не знали, где мы размещаемся. Вaxтepы сменились и не знали плана здания. Помнится, у одного из начальников, по фамилии Ресолюто[9] – обратите внимание, какая подходящая фамилия! – у этого начальника уже было готово решение что с нами делать, и он даже показывал мне проект и все, что положено, но тут у него случился инфаркт миокарда, и все планы он унес с собой в могилу. Наконец я надумал подать еще одно, последнее в жизни ходатайство. Снова изложил всю историю с начала до конца… Я спешил как-то упорядочить наше положение, чтобы нам подняли жалованье, и опять мне не повезло. Сменили министра, почистили высоких чиновников, а нам так и не ответили. Мы устали от того, что никому до нас нет дела, и я подумал: должно быть, нам на роду написано затеряться в административном лабиринте, и в сорок пятом году я решил наладить у себя в конторе скромное – в меру наших сил и возможностей – производство. Нельзя же было сидеть до самой пенсии сложа руки. Заметьте, Гонсалес, в моем возрасте – мне до пенсии осталось всего три года, – в моем возрасте уже ни к чему рыпаться. Всем, что у нас есть, мы обязаны своей мастерской. У каждого в жизни своя дорожка, и бесполезно пытаться с нее свернуть. В конце каждого месяца мы спускаемся вниз, отыскиваем свою ведомость, получаем конверт с жалованьем – и привет. Если кому-нибудь случается спросить, где мы размещаемся, мы отвечаем: «Где всегда». И с богом… Теперь вы можете представить себе, дорогой Гонсалес, что со мной происходит каждый раз, когда я думаю, что теперь, перед самой пенсией, кто-нибудь может обнаружить, в каком дерьме мы сидим, и захочет навести порядок. Поверьте, я не жулик какой-нибудь, я просто продукт нашего бюрократического аппарата… За тридцать лет я не притронулся ни к одному документу. И она – тоже.
– Она – ваша жена? – спросил Плинио, с каждой минутой испытывая все большее удовольствие.
– Нет, секретарша. Она живет у себя, а я – у себя. Ну конечно, столько лет мы вместе, так что все равно как одна семья.
– Да-да.
– Умоляю, вас, Гонсалес, ради всего святого, не рассказывайте этого никому. Какая вам корысть от моей беды? Я хотел быть полезным государству и делал ради этого невозможное, но все без толку. В конце концов, во всех учреждениях вроде этого полно мертвых душ, которые палец о палец не ударяют, а жалованье получают… Я знаю такие случаи. Не умирать же от угрызений совести, если оказываешься в такой ситуации, сам того не желая.
– Не волнуйтесь, Новильо. Я буду нем как могила. Не думаю, однако, чтобы в Испании было много таких, как вы.
– Не думаете? – оживился он. – Много, может, и нет, однако вполне достаточно. Я бы вам рассказал… Вот, например, эта курносая низенькая сеньора, которая спрашивала, не случилось ли со мной чего, она моя хорошая знакомая. Так вот, она уже несколько лет получает две пенсии.
– Не может быть.
– Именно так. Отец ее был служащим, не знаю даже где. Он умер, а ей с тех пор платят не одну, а две пенсии.
– За кого же вторую?
– За какого-то другого покойника, которого она даже не знала. И вот, пожалуйста, живет всю жизнь припеваючи… Еще в это кафе ходит один – мы все тут друг друга знаем, – который получает пособие за какую-то очень важную медаль, которой ему сроду не давали, потому что, кроме всего прочего, он никогда не был в армии.
– Вот это особенно остроумно.
– Мы зовем его «наш герой».
– А чем он занимается?
– Он трубочист.
– Ну и жизнь, бог ты мой! – воскликнул Плинио.
– И поверьте, Гонсалес, с сестрами Пелаес меня связывает лишь старая дружба и услуги, которые мы оказывали друг другу. С тех пор как их отец замолвил за меня словечко и я получил должность, которую занимаю, у нас всегда были очень хорошие отношения. И сколько я ни ломаю голову, не могу понять причины их исчезновения.
– Не сомневаюсь, Новильо, нисколько не сомневаюсь.
Выслушав заверение Плинио, да еще повторенное дважды, служащий Новильо углубился в себя. Разрядившись на исповеди, он теперь расслабился и даже поглядывал на газету, лежавшую на мраморном столике.
Девушка, видимо, устала от дурацких приставаний старика и потому пересела на другой стул – напротив, и теперь они вполне. дружески беседовали. Толстуха с подбритой шеей – та, что получала две пенсии, – играла с подругами в карты.
Теперь, когда Новильо молчал, он показался Плинио похожим на древнюю пишущую машинку, дремавшую на чердаке в министерстве. Пожалуй, Плинио даже не сумел бы сказать, что именно – инерция, скука или отсутствие желаний – печатью лежали на всем облике Новильо– и делали его похожим на вышедшую из употребления вещь. Плинио вспомнил одного типа в Томельосо, который всю жизнь сиднем сидел в казино «Сан-Фернандо», и, если внимательно приглядеться, лицо у него стало частью казино со всеми его причиндалами – бильярдом, домино и тому подобным. У каждого на лице написано, чем он занимается. От проституток, например, за версту разит постелью. А семинарист так же похож на нападающего «Атлетико», как яйцо на шариковую ручку. В томельосском муниципалитете был один конторщик, который даже по центральной улице ходил так, словно выглядывал из окошечка конторы. А бедняга Пако, пономарь, всю жизнь двигал руками, будто размахивал кадилом. Да что далеко ходить за примерами, достаточно взглянуть на Фараона – у него вечно такой вид, словно он только что отобедал. А дон Сантос Каррера столько лет управлял муниципальным оркестром, что на всех смотрел поверх очков, будто из-за дирижерского пульта. Портные первым делом оглядывают твой костюм. Говорят о семье, о чем угодно, а глаз не сводят с одежды, что на тебе. Плинио знал одного извозчика, коротышку. Стоит ему забыться, где бы то ни было, к примеру хоть на похоронах, и он сразу поднимает руки, держит их на весу, будто лошадь вожжами погоняет. Плинио с удовольствием наблюдал за ним на футбольном матче или на корриде: когда дело принимало крутой оборот, он прижимал к себе локти, словно натягивая вожжи, чтобы помешать – смотря где это было – забить гол или поддеть на рога тореро. Или же выбрасывал вперед правую руку, как бы подстегивая кнутом, если жаждал крови или изменения счета. А монахиня сестра Ровира, посвятившая свой век богу, была так целомудренна и набожна, что, когда под конец жизни ей должны были делать уколы в ягодицы, она позволила лишь чуть приподнять нижнее белье, дабы практикант, вонзая шприц, не глазел без нужды на ее тело. «Вот я и говорю, – размышлял Плинио, глядя на Новильо, ужасно похожего на пишущую машинку, которой не пользовались со времен диктатуры Примо де Риверы, – вот я и говорю: на каждом написано, чем он занимается». А уж о характере и говорить нечего. Достаточно ему было бросить взгляд на незнакомого человека, он тут же понимал, на какую ногу тот хромает. «У людей с широким сердцем – открытый взгляд и ясная улыбка. Люди с нечистыми помыслами узнаются по манере чуть прикрывать глаза и по осторожности, с какой выбирают слова. Люди интеллигентные доверчивы и не боятся попасть в смешное положение. Дураки обычно подчеркнуто вежливы и сдержанны. Предатели любезны… В жизни существует масса разновидностей этих типов, и определить их можно не столько по повадкам, сколько по мимолетной тени на лице и даже по походке. Еще выдают руки. У людей с низменными помыслами пальцы короткие, а ногти слабые, безжизненные; им не свойственны резкие жесты. Бывают люди, у которых руки не соответствуют их облику – они достались им от какого-нибудь предка иного биологического склада. И тогда по рукам трудно бывает определить, что можно ждать от этого человека. Мошенников и интриганов разоблачает пассивность рук. В то время как мозг в совершенстве постиг искусство обмана, у пальцев остались свои привычки, и потому пальцами приходится двигать с величайшей осторожностью. В руках, как ни в чем другом, проявляется благородство и свежесть чувств. И робость и дерзость заключены в кончиках пальцев. Если, разговаривая с человеком, хочешь понять, что он такое, смотри ему в глаза, но больше следи за жестами и особенно за руками. Мозг обычно под строгим контролем, а все подавленные мысли ищут выхода и могут вылиться как раз в движении рук. Ведь есть профессии, где руки действуют сами по себе, в то время как мыслями человек далеко».
Фараон с доном Лотарио запаздывали, и Плинио, нетерпеливо взглянув на часы, снова оглядел теснившиеся вокруг столики. За окном лежала площадь Аточа, и машины на ней казались отсюда светящимися червяками. Две скромного вида девушки, от которых пахло кухней, пили за соседним столиком кофе и с жалостным видом о чем-то разговаривали. В простенках между окнами, в нишах, стояли сомнительного вкуса зеленые кактусы. В зале за чашкой кофе или бутылкой вина сидели главным образом влюбленные парочки. Официант еле волочил ноги, разговаривая сам с собой. Новильо углубился в газету. Точными движениями мастера-багетчика он разворачивал на столе листы. Плинио подозвал официанта и расплатился по счету, к чему чиновник отнесся совершенно бесстрастно. Его это ничуть не удивило. Устав от сидения и от общества, Плинио решил было подождать друзей у дверей кафе, и тут они появились. Он поднялся, напомнил Новильо о завтрашней встрече, еще раз пообещал ему держать все в секрете и легким шагом, на ходу поправляя оставленный в Томельосо ремень, направился навстречу входившим.
– Пошли, Мануэль, такси ждет, – сказал Фараон. Он был серьезен.
«Что случилось?» – взглядом спросил Плинио дона Лотарио. Тот – тоже чрезвычайно серьезный – ответил неопределенным жестом.
– Идем, идем, – настаивал Фараон, – дело принимает крутой оборот.
Они вышли из кафе и молча сели в такси. Поскольку никто не проронил ни слова, таксист спросил:
– Куда едем, сеньоры?
– В ресторан неподалеку от театра Мартина, до смерти хочется взглянуть на стройные ножки. – Фараон расхохотался что было мочи; дон Лотарио вторил ему.
– Ладно, шутки в сторону, – сказал Плинио. – Так что там за вилла «Надежда»?
– Я дам тебе тысячу дуро, Мануэль, если ты угадаешь, кто живет в этом домике, – подначивал его виноторговец.
Плинио пожал плечами.
– Помрешь – не додумаешься. Скажите ему вы, а то он решит, что это шутка.
– Там живет, Мануэль, наша односельчанка донья Мария де лос Ремедиос. Та, что ехала с тобой в автобусе. Смотри, как тесен мир!
Плинио просто глаза вытаращил.
– Вот так, сеньор, она живет там со своей матушкой.
– И что она сказала, когда увидела вас?
– Ничего. Мы объяснили, что прогуливались неподалеку, вспомнили, что она тут живет, и решили навестить… А вот поверила она в это или нет – другой вопрос.
– О деле ничего не говорили?
– Ни слова, – ответил дон Лотарио. – Я подумал, что не стоит, подумал, что это тебе решать.
– Очень хорошо сделали.
– Видишь, Антонио, – сказал дон Лотарио* – как я знаю наших классиков!
– Хозяйка, – продолжал Фараон, – пригласила нас выпить до чашечке кофе и показала нам дом, а он огромный и по нынешним временам, верно, стоит кучу денег, и была с нами обходительна, что правда, то правда. Всё тебе приветы передавала.
– Мы расспросили соседей и, когда узнали, что там живет она, решили зайти просто любопытства ради, не имея в виду дела. Да и что, скажи, может быть общего у Марии де лос Ремедиос с сестрами Пелаес?
– Хотя бы то, что они из одного селения.
– Вот и я то же самое сказал дону Лотарио.
Очная ставка
С одиннадцати до самого полудня, пока не начали приходить приглашенные, Плинио с доном Лотарио сидели в гостиной, просматривая газеты, курили и перечитывали письмо философа Браулио, которое как раз этим утром пришло в гостиницу и в котором говорилось приблизительно следующее:
«Дорогие кум и сосед, Мануэль и Лотарио! Дни идут, от вас никаких известий, и потому я решил написать. Я внимательно слежу за газетами, не появится ли какого описания ваших приключений или открытий, но все зря. Я думаю – одно из двух; либо дела свои вы храните в строгой тайне, либо же не считаете еще все до конца ясным, чтобы звонить во все колокола. Как бы то ни было, я уверен, что вы с честью выйдете из любого положения. Во всяком случае, напишите мне хоть несколько слов, потому что не по себе бывает, когда о друзьях ни слуху ни духу.
У нас тут ничего особенного. Как всегда, жизнь кипит в казино «Сан-Фернандо». Что ни день – машин все прибавляется, а разговоров только и слышно что о футболе. Насчет машин, я так думаю, людям, видно, кажется: если ты при машине – значит, живешь лучше и веселее. Этим нашим выскочкам сдается, что, когда он за баранкой и жмет на всю железку, он лучше Других и совсем как господа в прежнее время. Да и по правде сказать, деваться им некуда, вот и ездят с места на место, как будто можно уехать от тоски. А что за штука происходит с футболом – это я не очень понимаю. В жизни я четыре или пять раз был на футболе, на стадионе в Пейнадо, и всякий раз мне казалось: все та же комедия, да и актеры похожи. Понять не могу, как это испанцы, такие любители шумных и ярких развлечений, без Ума от такого невзрачного зрелища. Не много же извилин в голове у тех, кто Неделями пережевывает эту футбольную чушь! Тратить такую короткую Жизнь на такое бездарное и неостроумное занятие можно, только если уж совсем не осталось воображения в этих гладко выбритых головах под беретами. Мне сдается, что так оно и есть, раз люди сами не понимают, что у них Перед глазами, и даже толком не знают, что им нравится. А видят, слышат и говорят то, что им велят видеть, слышать и говорить. Левые обвиняют правительство, что оно нарочно раздувает эту футбольную шумиху с целью отвлечь людей от настоящих и важных вопросов. Не знаю, верно это или нет, но только, думается, раз футболом так удается заморочить голову, то и все другое можно разыграть, как футбольный матч, и, глядишь, на выборах преспокойно пройдет Пракседес Матео Сагаста – я нарочно для примера взял политического деятеля, прах которого уже много лет покоится в земле. Этот светило, Эухенио Ноэль, в своем знаменитом выступлении в «Кружке либералов» в шестнадцатом году сказал, что в мозгу у испанцев одна только мысль – хлеб и зрелища, то есть быки. И, само собой, быки – на первом месте. «Римляне, – сказал он, – добивались того же при помощи хлеба и цирка». Пустых людей великое множество, и сознанием людей управлять нетрудно, а тем более теперь, когда есть радио и телевизоры. Дай большинству футбол, а из тех, кому мало футбола, одним – пряник, другим – кнут, и все будет в полном порядке, и царство, каким бы оно ни было, простоит тысячу лет при условии, конечно, что вдоволь будет розог, вина и чемпионатов мира… Что говорить, с тех пор, как мир таков, мало кто думает о деле и работе со смыслом, а большинство только и печется что о деньгах да о собственном здоровье, на остальное им наплевать.
Здесь у нас новости больше все печальные. Ты же знаешь, как говорит наш доктор дон Гонсало, и сколько раз я убеждался, что он прав: «Сентябрь придет – дрожь проберет». И вправду сказать: дрожь пробирает – ну и осень! Не успели вы отчалить, как Пепе Расура отдал богу душу. Ложился спать – у него голова немного болела, а на другой день к вечеру мы его уже свезли на кладбище. Вчера пришел конец многолетним страданиям бедняги Клементе Посуэло, а дон Анастасио Кордоба при последнем издыхании. Два дня назад отправился я его проведать. Он еще был на ногах, но вот голова что твоя лейка. Как увидал нас – меня и того, кто со мной пришел, – выпрямился в кресле и говорит: «Сеньоры, благодарю, что пришли на мои похороны. Теперь недолго ждать. Как только прибудет гроб и катафалк, я вас оставлю». И, проговорив это, сел в кресло, весь напрягся, закрыл глаза, словно бы в забытьи. Ты не поверишь… И вот уже два дня как бредит, никого не узнает, а сегодня утром мне сказали, что агония подходит к концу. Ну вот, опять заговорил о смерти – ты знаешь, это мой конек. Надеемся, что вы скоро вернетесь и что ваша поездка будет удачной.
Про покойников всё. А в делах постельных ничего нового. Сплетни – те же, а правда ли – в таких делах как узнаешь? У педиков тоже без особых перемен. Похоже, их не прибавилось, а может, просто до моих ушей не дошло. А вот у церковников новости есть. Приехал тут один, из современных, и с амвона чего только не наговорил: и о социальной справедливости, и против богачей, и даже вроде шпильки пускал. против правительства. Уж не знаю, что там стряслось. Но, наверно, стряслось – первый раз в истории церковники так запели. Это по мне: наконец-то решили опереться на бедняков, которые тыщу лет кормились объедками со стола тех, кто все имел и всем правил. Дон Хосе, директор банка, сказал про проповедь новичка: «Этот священник не понимает, что когда Иисус сказал «блаженны нищие», он имел в виду нищих духом, потому что нищим – безденежным – вообще надеяться не на что». Вот как служба уделывает человека!
Насчет рождений и крещений ничего не пишу – это, как говорится, мне без разницы. Нет мне интересу и до того, кто у нас на сносях. Все их заботы у них впереди.
Росио нам все уши про вас прожужжала. Говорит, что вы там растрясете все до последнего гроша. С Фараоном, я думаю, вы не скучаете. Я бы с удовольствием махнул к вам, да подумать тошно, что придется спать в чужой постели и ходить в чужой клозет. Каждому свое, и нет ничего слаще, чем катиться в карете привычки. Припаси побольше рассказов – и особенно для Росио, которая ждет вас не дождется. Будьте здоровы, блюстители порядка, обнимаю – Браулио».
Плинио велел Гертрудис прибрать как следует в столовой, где соберутся все, и приготовить на всех кофе.
Дон Лотарио купил в писчебумажном магазине большие конверты, и на каждом они написали имя одного из приглашенных. В половине двенадцатого они оглядели столовую, избранную местом совещания.
– Ну, все по тебе, Мануэль? – спросила Гертрудис.
– Осталось принести чашки и ложечки.
– Сию минуту. А кофейник я оставлю на кухне.
– Само собой… Да захвати чистую салфетку.
Когда стол был накрыт для кофе и Плинио получил салфетку, он попросил дона Лотарио последить за дверью, чтобы служанка, которая сгорала от любопытства, не понимая, зачем понадобилась салфетка, не подглядывала. Тщательным образом Плинио стал протирать каждую чашечку, ложку и блюдце.
– Черт подери, Мануэль, до чего же приятно видеть, как ты заботишься об отпечатках. Ты, никогда не признававший науки в своем деле.
– Веяние времени, дон Лотарио.
Без четверти двенадцать начали прибывать приглашенные. Плинио решил придать церемонии как можно больше торжественности и значительности, и каждого выходил встречать к дверям. Скупой на слова и серьезный, он неторопливо курил. Священник, дон Хасинто, то и дело вскидывал голову, чтобы взглянуть из-под своих ленивых век, что происходит вокруг. Хосе Мария, филателист, ни во что не вникал, сидел, сложив руки на животе, и мыслями, казалось, был далеко. Пришел Новильо, чиновник, в пиджаке, какие носили в голодные годы, пахнущий опилками – они у него были даже в бровях: должно быть, явился прямо из министерства и не успел переодеться. Привратница тихонько причитала: «Пресвятая дева, ну и жарища, проветрить бы, вредна для здоровья такая парилка…» Гертрудис с обычным хитрым выражением на лице ловко выполняла свои обязанности и каждый раз, как раздавался звонок, бежала к двери открывать. Последней пришла швея, потому что шила она в этот день далеко отсюда и ей пришлось бог знает сколько раз пересаживаться с автобуса на автобус, чтобы добраться До улицы Аугусто Фигероа, объяснила она бесцветным тоном, как всегда глядя куда-то мимо собеседника.
– Ну вот, все в сборе, – объявил дон Лотарио с видом, ничуть не менее значительным, чем у Плинио.
– Тогда можно пройти в столовую, – сказал полицейский.
Жалюзи в столовой были подняты, и чудесный ясный свет играл на серебре, полированной мебели и кофейном сервизе. Каждый по-своему, но все так или иначе были несколько напряжены: никто ведь не знал точно, зачем Плинио явился сюда из деревни.
Плинио пригласил всех за овальный стол и сдвинул немного в сторону большую серебряную вазу, чтобы лучше видеть лица. Он сел во главе стола из каобы и положил руки на его сверкающую поверхность. Все взгляды были обращены на него, и невольно каждый принял такую же позу, так что на столе рядом с чашками и сахарницами сразу же появилось отражение множества рук.
– Пожалуй, надо принести пепельницы, – вскочила привратница, нервничая и не находя себе места, как раз в тот момент, когда все ждали, с чего начнет Плинио. – Мужчины, они такие: чуть что – курить.
– Я принесу, – отозвалась Гертрудис, жестом приказывая ей не вставать.
Этот непредвиденный эпизод разрядил напряженность, все почувствовали себя немного свободнее, но вот Гертрудис расставила пепельницы, и все опять выложили руки на сверкающую поверхность стола, а все взгляды обратились к Плинио. Он же, как всегда, когда ему случалось говорить сразу с несколькими людьми, задумался на мгновение, сжал губы, провел правой рукой по поверхности стола, словно разглаживая ее, и наконец начал:
– Все вы, имеющие отношение к сестрам Пелаес, уже отвечали на мои вопросы и высказывались относительно возможной причины их исчезновения. Я уверен, что каждый из вас сказал все, что знает, однако мне ничего не удалось выяснить, вот так-то. И потому я собрал вас, чтобы всем вместе попытаться еще раз восстановить факты и прийти к какому-нибудь заключению.
Он замолчал и очень медленно, одного за другим, оглядел всех.
– Пречистая дева! – вздохнула привратница.
Швея поелозила узким задом на стуле и повела вокруг своими ни на что конкретно не глядящими глазами.
– Согласно показаниям свидетелей, все происходило следующим образом, – продолжал Плинио. – В тот день, когда хозяйки этого дома кончили обедать, вы, Долорес Арничес, как всегда, шили в портновской. С утра это был обычный для сеньорит Пелаес день, и теперь они отдыхали в кабинете. Больше никого в доме не было. Около половины четвертого зазвонил телефон. Одна из сестер взяла трубку. Кто именно, мы не знаем. Правильно, Долорес?
– Правильно, сеньор. Я вам говорила, мне показалось, будто сеньорита Алисия, но точно не знаю.
– Долорес сразу же заметила, хотя и находилась далеко от телефона, что сеньорита Алисия, словом, та, что подошла к телефону, разговаривала с кем-то, кого никак не ожидала услышать, и что ей сообщили что-то неожиданное. Я правильно рассказываю, Долорес?
– Правильно, сеньор.
– Она очень удивилась, вскрикнула, быстро что-то спросила и, скорее всего, передала – а может, та вырвала – трубку своей сестре Марии, которая тоже вскрикивала, тоже торопилась и что-то спрашивала, но, что именно, Долорес, которая находилась далеко от телефона, так и не разобрала…
– И любопытство не побудило вас выйти в коридор? – бесцветным голосом спросил вдруг Хосе Мария, кузен.
– Нет, сеньор, – ответила швея в страшном смущении, – очень хотелось, но дверь в гостиную, где стоит телефон, была отворена, и меня могли увидеть.
– Ладно, продолжим.
– Но что-то вы все-таки слышали, – настаивал филателист.
– Нет, сеньор, я уже говорила сеньору полицейскому, нет. Я только заметила, что они очень нервничали и все что-то спрашивали, много спрашивали, вроде бы хотели знать, где находится кто-то или что-то.
– Этого вы мне не говорили, – прервал ее Плинио.
– Да, сеньор, я припомнила это после того, как мы с вами беседовали в последний раз. Что-то вроде: «Где ты?», или «Куда ты едешь?», или «Что собираешься делать?» В таком духе, вы меня понимаете?
– Ладно… – сказал Плинио. – Продолжим. Значит, поговорив по телефону, они тут же, без промедления, достают пистолет, который хранился под матрацем у сеньориты Алисии. Одна из них прячет его, скорее всего, в сумочку, на ходу сеньорита Алисия заглядывает в комнату к Долорес, говорит, что они уходят и что должна делать Долорес, когда кончит работу. И уходят они по срочному делу… Правильно, Долорес?
– Правильно, сеньор.
– И вы ни о чем не спросили сеньориту Алисию? – опять вмешался Хосе Мария бесцветным тоном.
– Как же, сеньор, конечно, спросила. Спросила, куда они так торопятся, – я говорила сеньору Гонсалесу, – и они ответили, что по делу. Это я хорошо помню, они сказали «по делу», по срочному делу, вернее. Оставили мне поесть и деньги за работу и попрощались до понедельника – и мне сдается, что другая не заглянула в комнату, потому что плакала. А потом уж слышу – они вышли.
– Значит, сеньорита Мария оставалась в коридоре и плакала?
– Нуда…
– И этого вы мне тоже не говорили, – опять подскочил Плинио.
– Как это не говорила, что она не вошла?
– Что не вошла – говорили, а вот что плакала – нет.
– Ну, так извините, прошу вас, позабыла, уж очень я волновалась, очень волновалась на допросе. В жизни меня не допрашивали ни в полиции, ни в суде.
– Ладно, продолжим: они сбегают по лестнице, по словам привратницы, останавливаются у дверей и хватают первое проходящее мимо такси – видно, очень торопятся. Так?
– Так, сеньор, ну в точности как вы рассказываете. Я, знаете, немного была не в себе, потому как точно в это время, как говаривал мой папаша, меня всегда в сон клонит… Так вот, слышу я: по лестнице бегут, торопятся, я сразу вскочила. Выглянула, только они мне ни словечка не сказали, ну я и не стала выходить из привратницкой. «Куда это сеньориты так бегут, торопятся?» – подумала я. А дальше – больше: вижу, схватили такси. «Вот, думаю, дела! Что ж такое стряслось, что они сразу – в машину, и след простыл!..» А как только они ушли, я, значит, опять забылась и задремала.
– Хорошо, – заключил Плинио монолог привратницы, – все это нам более или менее было известно. Кто из вас еще что заметил?
Все переглянулись, но говорить, судя по всему, ни у кого желания не было.
– Вы, падре, хотите что-нибудь сказать? – обратился Плинио к дону Хасинто.
– Нет. Только я ничего не понимаю. У меня такое ощущение, будто речь идет о совершенно других людях. Спешка, пистолеты, беготня – никак это не вяжется с сестрами Пелаес!
И он умолк, упершись руками и взглядом в стол. Плинио, выждав немного и чувствуя, что других выступлений не предвидится, вытянул руки перед собой и, наклонив голову, спросил:
– Тогда я задам такой вопрос: как вы думаете, ради чего или ради кого могли сестры Пелаес выскочить так поспешно из дому, да еще с пистолетом в сумке? Если никто из вас на этот вопрос не сумеет ответить, то на этом наше расследование – как уже не раз бывало в такого рода делах – следует считать закрытым…
И ни слова больше не говоря, заметно нервничая, он вынул кисет и стал набивать папиросу.
Дон Лотарио с трагическим выражением смотрел на него. То, что Мануэль, как видно, собирался бросить дело, ему совершенно не нравилось. Мануэль всегда был человеком настойчивым и все доводил до победного конца. Он до всего доходил своим умом, и сбить его с толку было невозможно.
– Может, ради какого благого дела… они чисто святые, – будто издалека послышался голос священника.
– Не знаю, какие такие благие дела творят с пистолетом в руке, – возразил быстро ветеринар.
Дон Хасинто на него не взглянул и ничего не ответил, ограничился неопределенным жестом.
– Я вот думаю, прошу прощения, – сказала швея тоном, немного похожим на тон Плинио, и не поднимая глаз, – уйти-то они могли, и уйти на какое-то благое дело, пусть даже и с пистолетом в кармане, кто его знает, как бывает в жизни. А вот хуже, что они не вернулись. Какое благое дело помешало двум святым вернуться домой?
«Сколько желчи в этой швее, которая неизвестно куда глядит!» – подумал Плинио.
– Благое дело может означать, например, когда хотят спасти от опасности любимое существо, – заметил священник.
– Вот это уже лучше, – совершенно искренне согласился Плинио. – А кто, по-вашему, из друзей или близких сеньорит Пелаес в этот день мог находиться в опасности?
– Никто, – вскочил чиновник Новильо, совершенно уверенный в собственной правоте. – Никто, насколько мне известно. У них всего и родственников-то один Хосе Мария, здесь присутствующий, они – женщины спокойные, вели жизнь размеренную и примерную. Если бы жива была их матушка… или отец, или же Норбертино, братец, но он так и не увидел света, тогда еще можно было понять подобное волнение, можно было бы объяснить их странные поступки и то, что они изменили своим привычкам. Эти люди были для сестер смыслом и сутью всей жизни, но их нет в живых, так кто же мог быть еще? Кто?
Он замолчал, весь сжавшись и поблескивая очками, отчего стал очень похож на птицу.
– Вы не назвали, Новильо, одного человека, очень много значившего для них, – проговорил Хосе Мария на сей раз голосом настолько бесцветным, словно эта фраза случайно выскользнула из его серых губ.
– Кого? – спросил чиновник.
– …человека, который решительным образом повлиял на всю жизнь Марии, – ответил тот, уставившись на Новильо, и на этот раз его бесцветней взгляд стал почти выразительным.
Чиновник задумался на минуту и согласился:
– Да, пожалуй. Вы имеете в виду ее знаменитого жениха?
Хосе Мария кивнул и отчеканил:
– Вот именно. Я имею в виду Маноло Пучадеса.
Наступило молчание, все только переглядывались, и каждый подумал свое.
– Этот сеньор пропал тридцать лет назад, – без особого убеждения сказал священник.
– Пропал еще не значит умер, – опять заговорил кузен устало, как говорят о вещах, всем известных. И продолжал с нарочито простодушной улыбкой: – Все, кто умер, пропали, но не все, кто пропал, – умерли… Недавно как раз истек срок тридцатилетнего тюремного заключения и стали появляться некоторые «умершие» в тридцать девятом году.
– Если даже и так, – возразил чиновник, – зачем идти с пистолетом и почему бы не вернуться домой?
– Я всего лишь ответил на вопрос, заданный начальником, – не слишком любезно отозвался Хосе Мария. – Маноло Пучадес – человек, который мог бы всколыхнуть обычную жизнь сестер, особенно Марии. А поскольку я не знаю точно, умер ли он, я полагаю, мой долг – сказать об этом.
И снова все замолчали и задумались. А Плинио первый раз с симпатией взглянул на серого филателиста. Тот сидел, упершись бородкою в грудь, и перекатывал в пальцах не то бумажный шарик, не то таблетку от насморка. Поди узнай, что именно.
Еще раз бросив на филателиста полный признательности взгляд, Плинио сосредоточился и, мобилизовав все свои способности – чутье, наблюдательность, смекалку, – заговорил:
– Кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал о сеньоре из Томельосо, которая еще с довоенных лет живет в Верхнем Карабанчеле, о сеньоре по имени Мария де лос Ремедиос дель Барон?
Никто не ответил.
– Донья Мария де лос Ремедиос дель Барон, – повторил он тоном школьного учителя, – которая живет в Верхнем Карабанчеле, в старинной вилле под названием «Надежда»… Вы, сеньор священник?
– Нет. Понятия не имею.
– А вы, дон Хосе Мария?
Тот помотал головой и скептически осведомился:
– А какое отношение имеет эта сеньора к нашему делу?
У дона Лотарио от удивления отвалилась челюсть: оказывается, Плинио придает такое большое значение их с Фараоном поездке к этой сеньоре; еще раз подивился дон Лотарио замечательному воображению и неизменному профессиональному чутью своего друга.
– Не знаю. Но ее адрес был записан – и второпях – на обложке телефонной книги. Дон Лотарио, принесите, пожалуйста, книгу, о которой я говорю.
И все опять замолчали до возвращения дона Лотарио.
Швея, первая осмотрев запись, заметила:
– Надо же как странно; всё они по порядку делают и пишут всегда буковка к буковке, как привыкли в монастырской школе, а тут – вкривь и вкось.
– Хотя почерк необычный, мне кажется, все же написано это одной из них, – подтвердил священник, очень пристально разглядывавший запись. – Не могу, правда, точно сказать, которой, потому что они все делают очень похоже.
– В жизни не писали они там, где не положено, – сонно подтвердила привратница.
– Верно говоришь, – подхватила Гертрудис, – порядок они любили до противного, прошу прощения. Знаю я, конечно, семейство Баронов – случалось видеть их в городке, но чтобы сеньориты о них когда-нибудь говорили – такого не слышала.
– Этот адрес могли записать, разговаривая по телефону, пожалуй, в этом ничего странного нет, – задумчиво заметил Плинио.
Последовали еще какие-то догадки по поводу записи в телефонной книге и того, какая может быть связь между сеньорой дель Барон и делом, которое они обсуждали. Когда Плинио почувствовал, что обсуждение становится вялым и вот-вот затухнет совсем, он вдруг весело спросил:
– Гертрудис, зачем ты поставила чашки – разве не для кофе?
Та не сразу поняла: ведь Плинио сам просил ее ничего не делать, пока он не скажет. Но потом смекнула, что начальник сказал все это неспроста, и, отозвавшись: «Конечно, сеньор, ваша правда, ну и голова у меня дырявая», выпорхнула на кухню.
Она вкатила в комнату столик на колесиках, уставленный кувшинчиками с кофе и сахарницами, и стала разливать кофе и молоко – сначала женщинам и сеньору священнику, так ее учили, – каждому, кто сколько попросит.
Потом, когда весь сахар был размешан, весь кофе выпит, остатки допиты, губы вытерты, все взгляды опять обратились к Плинио и на всех лицах опять можно было прочитать: «Ну а теперь что?»
Мануэль Гонсалес, начальник Муниципальной гвардии Томельосо, чувствуя, что напряжение спало и появляются первые признаки скуки, нарочито торжественно и с непроницаемым видом точными движениями стал набивать папиросу.
Все ждали, а Гертрудис глядела на него, мигая. Привратница стряхивала с платка несуществующие крошки. Швея неверным взором обводила собравшихся. Священник, как ни старался, ничего не мог с собой поделать и зевал. Новильо, судя по всему, испытывал нетерпение: сидя на краешке стула, он барабанил пальцами по зеркальной поверхности стола. Хосе Мария скучал: зажав между коленями вытянутые руки и сцепив пальцы, он уныло покачивался, не сводя пепельно-серых глаз с кофейной чашки.
Плинио закурил папиросу, затянулся глубоко, почти до боли (он представил себе, как дым выстрелом врывается в бронхи, прорывается еще ниже – в легкие, еще и еще ниже и растекается внутри), и, выпуская табачный дым через нос и рот, проговорил бесстрастным тоном судьи:
– Прошу прощения за то, что задержу вас еще немного, но мы пока не коснулись самой серьезной причины нашего сегодняшнего собрания.
Все – каждый на свой лад и манер – встрепенулись и приготовились к очной ставке.
Плинио ослабил узел галстука и, окинув взглядом всех – одного за другим, сказал:
– Вчера, между тремя и восемью часами вечера, один из вас тайком приходил сюда и унес что-то из тайника.
И, сказав это, он замолчал, не глядя ни на кого в отдельности, но наблюдая за всеми сразу.
Заявление начальника произвело ожидаемое действие. Каждый из собравшихся почувствовал, как от этого обвинения у него по спине пробежали мурашки. Все застыли и напряглись и мало-помалу, почти неосознанно, начали бросать друг на друга настороженные – словно бы невзначай – взгляды. И только Плинио и дон Лотарио, который сидел сжав руками голову и упершись локтями в стол, открыто и беззастенчиво оглядывали собравшихся.
N – Почему вы думаете, что это был один из присутствующих? – задал вполне естественный вопрос священник.
– Насколько мне известно, только присутствующие – по крайней мере некоторые из присутствующих – знали, что в это время меня тут не будет, знали, где находится ключ от тайника и что в нем лежит.
– А как они вошли в квартиру?
– Не знаю. Мне совершенно ясно, что было три ключа. По одному у каждой из сестер, и эти ключи, по-видимому, сестры унесли с собой в сумочках, и еще один, который они всегда оставляли у привратницы «на всякий случай» – тот, что теперь у меня. А дверь, дон Хасинто, не была взломана.
– Позвольте мне, сеньор начальник, задать еще один вопрос?
– Разумеется.
– Откуда вы знаете, что кто-то здесь побывал и трогал что-то в тайнике?
– Потому что я работаю в полиции, падре… И моя обязанность – видеть то, чего не видят другие. А подробностей, простите, я рассказать не могу.
– Ваше право. А знаете вы, что украли из тайника?
– Нет. Говоря откровенно – нет. И не знаю даже – украли ли. Но вы не станете отрицать, что при данных обстоятельствах чрезвычайно важно знать, что понадобилось кому-то в тайнике.
– Разумеется.
– Кто-нибудь из вас представляет, у кого мог быть четвертый ключ от квартиры? – спросил Плинио неожиданно.
– А он и не нужен, – сказал Новильо с самодовольным видом человека, знающего ремесло. – Вам известно, что подделать ключ легче легкого.
– Только этого не хватало!
– Значит, поэтому вы спросили, не видела ли я вчера, чтобы кто-нибудь сюда поднимался? – сказала привратница.
– Да.
– И меня спрашивали, – вскочила Гертрудис, хотя теперь к ней никто не обращался. – Я прихожу, когда меня вызывают по телефону или когда назначают прийти.
Никто на нее не обратил внимания – каждый был занят своим. Плинио словно бы решился на что-то.
– Ладно, сеньоры, не будем терять времени. Тот, кто был тут вчера, оставил отпечатки пальцев на разных предметах, и их изучат в Управлении. Мы тут пили кофе не только потому, что Гертрудис так любезна, но еще и затем, чтобы каждый оставил отпечатки пальцев – каждый на своей чашке, блюдце, ложечке. Если мы сами не разберемся – а я бы этого очень хотел, – то через несколько часов в Управлении безопасности этот вопрос решат самым точным образом.
При этих словах никто не удержался и каждый с подозрением взглянул на свою чашку, так, словно эти отпечатки видны были простому глазу.
– Дон Лотарио, будьте добры, положите чашку, блюдце и ложку каждого в отдельный конверт – вот они приготовлены.
Дон Лотарио проворно поднялся, достал из буфетного ящика большие конверты и, сверяясь с именем на конверте, стал очень осторожно, пользуясь салфеткой, складывать приборы в соответствующие конверты.
– Подождем, пока дон Лотарио закончит. И если к тому времени ничего нового не выяснится, будем считать наше собрание закрытым.
Ветеринар тем временем заклеивал конверты и аккуратно складывал их на буфет.
Пока он этим занимался, все хранили молчание. Некоторые курили. Другие не отрывали взгляда от дона Лотарио. Привратница вздыхала. Гертрудис жестикулировала, вроде как разговаривая сама с собой, а швея застыла точно статуя.
Скоро все чашки, кроме тех, из которых пили дон Лотарио и Плинио, были сложены в конверты. Все по-прежнему молчали. Дон Лотарио сел на место – рядом с Плинио. Тот теребил мочку уха. Священник, побарабанив пальцами по столу, далекий от всего, что происходило рядом и, должно быть, казалось ему детскими играми, сказал:
– Ладно, сеньор Мануэль, если других указаний не будет, я пойду. Я, как всегда, в вашем распоряжении. О результатах исследования вы мне потом расскажете. Ужасно интересно!
– С большим удовольствием и прошу прощения, что вынужден был так поступить: я выполняю свой долг.
– Разумеется, я вас понимаю.
И он вышел, очень серьезный, высоко неся голову.
– Итак, можете идти, если хотите, – сказал Плинио, поднимаясь.
Все задвигали стульями и один за другим, кроме Гертрудис, почти не разговаривая, с мрачным видом вышли из столовой, а потом и из квартиры.
Плинио с доном Лотарио вошли в кабинет и уселись друг против друга, у столика рядом с кушеткой, в кресла, где, если верить рассказам, коротали свои сиесты рыжие сестры. Оба молчали, несколько озадаченные.
– Принести пивка? – спросила Гертрудис, заглядывая в дверь.
– А разве осталось? – удивился Плинио.
– Осталось, потому что дон Лотарио велел купить еще.
– Дева Мария! Ну так неси.
– И ветчину, конечно? Хоть мне и не поручал никто, ни бог, ни черт, я купила окорок. Должны ведь сеньориты как-то заплатить вам за всю эту мороку по их милости.
– Ты хорошо поступила, Гертрудис.
Она принесла поднос и, пока мужчины разливали пиво, стояла в стороне и хитро на них поглядывала.
– О чем ты там думаешь? – спросил начальник, посмотрев на нее.
– Я вот стою, Мануэль, ломаю голову, понять не могу, что ты нам говорил сегодня о чашках и этих напечатках или отпечатках, как их там, не знаю.
– А то, что кто-то сюда приходил и шарил в тайнике, ты поняла?
– Это конечно. Это ясно как божий день.
– Ты, конечно, знаешь, где этот тайник.
– А как же! Миллион раз я поднимала эту картину, когда прибиралась в комнате.
– Ну и, как ты думаешь, кто приходил сюда тайком?
– Честное-благородное, не знаю. Из тех, кто сегодня был, никто не мог. Тут уж грабители или тайна какая. Все одно к одному – и в тайник лазали, и сеньориты пропали… А те, кто сегодня приходил, не грабители, да и тайны в них нет никакой.
– А ты знаешь, где сеньориты держали ключ от тайника?
– Не знаю, сеньор. Наверное, в ящике, в комоде, где и остальные… Ну да это я так только думаю.
– Послушай-ка, – прервал ее Плинио, почесывая висок, и по его лицу скользнуло сомнение. – Ты вчера убирала комнату дона Норберто?
– Нет… Нет, сеньор. В кабинет я вхожу только по субботам. А почему вы спрашиваете?
– Нипочему.
– Может, вы думаете, что я…
– Ладно, ступай…
– Так вы объясните мне про эти самые напечатки?
– Объясню. Это те отпечатки, которые оставляют наши пальцы, когда мы к чему-нибудь прикасаемся.
– Запачканные пальцы, хотите вы сказать.
– И даже чистые. У каждого человека на кончиках пальцев – свой особый рисунок.
– Господи, благослови! А как же разглядеть, он ведь такой маленький?
– Для этого в полиции есть специальные приспособления.
– Ну до чего хитры! И губы тоже такие отпечатки оставляют?
– Нет. А почему ты спрашиваешь?
– Это мое дело.
– Успокойся. Если тебя кто и поцеловал, не нашли еще способа узнавать такое.
– Спаси меня бог, сеньор Плинио! Я интересуюсь из-за своего Бонифасио. Вдруг мне придет в голову узнать, не милуется ли он на стороне с какой кошечкой.
Они все еще смеялись, когда зазвонил телефон. Плинио пошел к телефону и, коротко ответив что-то, вернулся в комнату. Не садясь, он залпом допил стакан и набил папиросу.
– Кто это?
– Сейчас скажу. Гертрудис, – крикнул он в коридор, – мы уходим.
– Ладно. А я тут приберу стаканы. Завтра приходить?
– Если ты будешь нужна, я позвоню. Пошли, дон Лотарио.
– Пошли, маэстро.
В парадном дон Лотарио нетерпеливо спросил:
– Что случилось, Мануэль?
– Хосе Мария Пелаес, кузен, ждет нас в «Мадридском казино».
– Что за черт! Что это значит?
– Не знаю. Думаю, что-нибудь связанное с утренним собранием.
Когда они шли вниз по улице Баркильо, направляясь к улице Алькала, на пути им попалась портновская мастерская Симанкаса, в прежние времена поставщика томельосских франтов, и дон Лотарио сказал:
– Мануэль, а ты вроде собирался заказать костюм?
– В самом деле.
– Ну так вот мастерская сына Симанкаса.
– Завтра непременно, а то мои женщины рассердятся. Послушайте, а что – старик еще жив?
– Отец? Я уверен, что жив. И уверен, что скроит для старых Дружков.
– Ему, верно, лет девяносто, не меньше.
– Ну и что? Живет себе, радуется, пока руки ножницы держат… Хорошая профессия, никогда конца ей не будет, не то что моя.
Они пошли вниз по улице Алькала. Был золотистый, погожий мадридский день.
– А знаете, чего мне хочется? Сесть на террасе какого-нибудь кафе и поглядеть на людей, – сказал Плинио, когда они проходили мимо кафе «Доллар».
– И мне. Особенно в такой день, как сегодня. Вот покончим с этим делом, выйдем с утра пораньше да пройдемся по всем кафе – посидим на террасе, поглядим на женщин, словом, разгуляемся.
– Для меня это дело десятое. Мне главное – голове дать отдых и посмотреть на людей просто так, ничего при этом не разглядывая.
В дверях казино они спросили у однорукого швейцара, здесь ли дон Хосе Мария Пелаес. Тот велел посыльному проводить их в зал, выдержанный в стиле двадцатых годов. В глубине зала, совершенно один, на широченной, обитой кожей софе сидел двоюродный братец. С таким видом, будто свалился откуда-то сверху. Унылое лицо, белые руки сложены на коленях. Односложно предложил вошедшим сесть и спросил, чего они хотят выпить.
– Спасибо. Мы уже пили кофе, – отозвался Плинио с усмешкой, пока дон Лотарио усаживался в кресло, стоявшее к нему ближе других.
И все равно все трое оказались довольно далеко друг от друга – до того огромный был зал. Довольно далеко друг от друга и от времени, в котором жили. Словно забрели невзначай в мечту о belle èpoque.[10] И даже сами стали похожи на экспонаты пустого, без посетителей, музея восковых фигур.
«Вот казино так казино, черт бы его задрал! – подумал Плинио. – Не то что в нашем городке».
Дон Лотарио, выставив вперед подбородок, нетерпеливо перебирал ногами. Плинио по-барски развалился в кресле и, не снимая шляпы и не выказывая нетерпения, пожалуй, даже с мечтательным видом, ждал. Двоюродный же братец Хосе Мария следил за вошедшими, возможно даже с интересом, однако с места не двинулся.
– Это я был в квартире сестер, – сказал он вдруг, еле шевеля гипсовыми губами, сказал как будто издалека, словно думал вслух.
И уставился на свои руки – не то от стыда, не то от робости. Дон Лотарио с сомнением взглянул на Плинио, и непонятно было, в чем он сомневается – в услышанном или же в том, кто это сказал.
Начальник снял шляпу, положил на колени, пригладил рукой волосы и очень вежливо сказал:
– Пожалуйста, продолжайте.
– Они, – заговорил Пелаес, повернув голову к балкону, как будто исповедь его предназначалась вовсе не полицейским, а входившему в окно свету, – они очень предусмотрительны и дали мне этот ключ много лет назад.
Очень медленно он достал из кармана пиджака длинный ключ – точно такой же, какой был у Плинио.
– Возьмите, если хотите.
Плинио поколебался, но все-таки взял ключ.
– Я знаю все, что есть у них в доме. Они всегда мне доверяли, я всегда был им предан… Минуту, прошу прощения, одну минуту…
С неожиданной энергией он вскочил и быстро пошел к выходу.
Плинио и дон Лотарио, немного встревоженные, следили за ним взглядом. Когда тот был уже в дверях, Плинио бросился за ним. Двоюродный братец прибавил шагу. Плинио свернул за ним в коридор и оказался перед дверью. Мужской туалет. Плинио вздохнул с некоторым облегчением. Но все-таки вошел. Пройдя мимо умывальников, Хосе Мария скрылся в кабине и заперся. Плинио решил остаться и послушать. Не станет же он… Нет, слава богу, послышались звуки, вполне соответствующие месту. Плинио подождал еще немного и, услышав шум спускаемой воды, поспешил обратно – в кресло.
Очень скоро вошел и Хосе Мария – как обычно, медленным, неуверенным шагом. Сел на ту же софу и продолжал прежним бесцветным голосом, словно он и не уходил и никакой вспышки энергии не было в помине.
– Они никогда мне ничего не давали. И вечно говорили: вот нас не будет – все тебе достанется, а до тех пор – нет… А мне, истинная правда, ничего и не надо было. Ничего, кроме одной вещи.
– Какой?
– Я понимаю: это смешно, – добавил он, опустив белесые веки, – но уж каждый таков, каким его создал бог… У них тоже странностей хватает. И милых странностей, и не очень милых.
Он опять замолчал и снова обернулся к балкону, как будто ждал, что кто-то оттуда за него продолжит.
– Что вы имеете в виду? – настаивал Плинио.
– Они все хранят, все берегут. Я им всегда говорю: «Вы барахольщицы». А они смеются. Все хранят. Даже письма деда и бабки, когда те были еще только помолвлены… И у них есть четыре письма с марками восемьсот шестьдесят пятого года. Эта марка У нас, филателистов, называется: «Двенадцать реалов, красно-синяя, с перевернутой рамкой». И вот я всю жизнь их прошу. Не письма, конечно, а марки. Зачем они вам, вы же не собираете марок? И я готов заплатить за них. Они нужны мне для коллекции… А они не давали. И все смеялись: «Настанет время, все твое будет».
– Так вот оно что! – выдохнул Плинио.
– Теперь они у меня в альбоме. Я не мог устоять против искушения. Я понимаю, что низко – воспользоваться отсутствием бедных сестриц и завладеть наконец марками, но это было сильнее меня… Я верну их завтра или послезавтра.
– Можете оставить их себе, – сказал Плинио, поднимаясь и не скрывая разочарования. – Это вы звонили вчера в гостиницу, спрашивали меня?
– Я.
– И вы, конечно, знали, где хранится ключ от тайника?
– У меня свой ключ от тайника. – И он показал ключ.
Все трое молча спустились по мраморной лестнице.
– Чтоб тебя! – прорвало Плинио, когда Хосе Мария отъехал на такси. – Ну и заварил он кашу со своими дерьмовыми марками!
– Не говори…
– До чего же мне хотелось вклеить ему по физиономии, когда выяснилось, из-за чего вся петрушка! Черт бы его задрал… И опять мы с пустыми руками. Как прежде. Опять все с нуля. Знаете что, если дом доньи Ремедиос дель Барон тоже ничего не даст, а я этого очень опасаюсь, то завтра же, дорогой мой, садимся в автобус – и прямым ходом в Томельосо.
– Завтра тебе нужно заказать костюм.
– А-а!
– Ну вот, Мануэль, вечно ты спешишь. Если у тебя не получается так быстро, как тебе хочется, ты сразу – в ярость.
– При чем туг ярость? Просто нам ничего не остается. Разве не видите, что за семейка. Может, этим святошам в голову ударило отправиться в Индию лечить прокаженных, а мы тут будем пилить по городу из конца в конец до второго пришествия… Да еще этот братец заморочил нам мозги своими вонючими марками!.. Готов сквозь землю провалиться, как вспомню эти чашечки с ложечками и блюдечками в отдельных конвертах… Говорю я вам…
– Ну, Мануэль, будет. Хотя по правде сказать, когда ты злишься – становишься прямо остроумным.
– С какой рожей стану я теперь объяснять комиссару, что вся эта возня с отпечатками, как говорит Гертрудис, затеяна была, чтобы отыскать четыре марки… Вообще с этими отпечатками мне всегда не везет. Стоит мне ими заняться – все насмарку!
Дон Лотарио надрывался от хохота, несколько прохожих даже остановились и с удовольствием наблюдали за ним.
– Как вспомню эти конверты с надписями, а внутри – чашечка…
– Чашечка, блюдечко и ложечка. Не как-нибудь. Вот смеху-то!
– Ладно, хватит, замолчите.
Когда один немножко успокоился, а другой отхохотался, они взяли такси и отправились в кафе «Мезон дель Мосто», где договаривались встретиться с Фараоном.
Он уже поджидал их, стоя у бара и разговаривая с хозяйкой, пил белое томельосское вино и заедал жаренными с чесноком потрохами. Губы у него были в масле, он смачно уписывал их за обе щеки.
– Ну и ну, блюстители уже тут! – воскликнул он, завидев их. – Налей им сперва пивка, чтоб освежились, а потом неси потроха.
Поздоровавшись и перечитав плакаты над стойкой, Плинио осведомился, готов ли жареный заяц, которого им обещал Антонио Фараон.
– Готов, сеньор, – ответила хозяйка, – как раз сегодня утром с автобусом привезли свеженьких, и через несколько минут – так просил сеньор Антонио – все будет на столе.
В этот момент из распахнутых дверей донеслась песня.
– Вот те на! Откуда вы взялись, прохвосты? – закричал им Фараон.
А певцы – Луис Торрес, Хасинто Эспиноса и Маноло Веласко – кто во что горазд продолжали «с душою», как и требовалось по ходу дела. Точнее, пели Луис и Хасинто, а Веласко лишь робко им подхихикивал.
– Ну ладно, входите, а гимн свой за дверью оставьте, – предложил Фараон.
Но лирики – они были навеселе – не унимались и, стоя в распахнутых настежь дверях, тесно, плечом к плечу, еще некоторое время продолжали тянуть свое.
– Ну что, хотите по новой завести? Видим, видим – дело знаете. Входите, пропустите по рюмочке.
– Да здесь наш полицейский столп из Томельосо, – завопил Луис Торрес, направляясь к Плинио с протянутой для пожатия рукой.
– И столп дон Лотарио тоже… и Фараон, – добавил Хасинто, пожимая им руки.
Когда радость первой встречи немного утихла, попросили еще вина, а к нему – чтобы легче шло – жареных потрохов, всякой закуски и цыпленка, которого здесь умели готовить.
– Ну до чего же я рад! – сказал Луис Торрес, хлопая Фараона по спине.
– Вино здорово способствует радости. А это к тому же выдержанное, – разъяснил толстяк на свой лад.
– А тебе, Фараон, видно, здорово уже поспособствовало, – сказал Хасинто.
– Я, как бы ни складывались дела, эту радость себе доставляю всякий праздник и в канун праздника тоже, а еще по четвергам и во все остальные дни недели. Будь спокоен, уж мне-то не придет в голову помереть от тоски. Жизнь короче глотка вина, и если нет У тебя под боком развеселой девицы, то лучшая забава – засесть где-нибудь в баре в тесном кругу друзей и сидеть, пока глаза на лоб не полезут. А все остальное выеденного яйца не стоит.
– Ну до чего же я рад, честное слово! – повторил Луис. – Ну-ка, Алела, еще по одной нам, да поживей. А вы, Мануэль, рады?
– Я не любитель крайностей. Я печалиться особенно не печалюсь и смеяться до упаду не смеюсь. Я не из тех, у кого на лице написано, что они думают, и во всем люблю меру.
– Это вино хоть и шипучее, но выдержанное, – уточнил Фараон. – Однако же и дон Лотарио, когда войдет в раж, может выдать…
– Всего довольно в винограднике господнем, – сказал дон Лотарио, глядя на Плинио.
Веласко расхохотался и посмотрел на дона Лотарио, а тот неопределенно махнул рукой – вроде бы ему не хотелось в присутствии Плинио обсуждать свои внеслужебные склонности к внеслужебным излишествам.
– Вы уже несколько дней в Мадриде и, значит, ничего не слышали о войне беретов, – начал Луис наставительно.
– Понятия не имеем. Писем нет, – отозвался Фараон.
– Ну и дела – конец света! – продолжал Луис с торжествующим видом и вытащил из кармана какую-то бумажку.
– Погоди читать, я прежде посвящу их в суть дела, – попросил Хасинто, склонный к педантизму. – Суть вот в чем: новая администрация казино «Сан-Фернандо», куда вхожу и я, на общем собрании постановила, чтобы члены нашего казино при входе снимали береты. Вы знаете, это давнишняя мечта наиболее выдающихся членов нашего клуба. Об этом давно твердят, но добиться ничего не удавалось. Так вот, на днях и неизвестно даже почему заварилась такая каша. Те, что стоят за береты, собрались всей бандой и выпустили манифест… думаю, его составлял философ Браулио – он все законы назубок знает. Ситуация очень обострилась, и вот, сеньоры, знайте: того и гляди, начнется из-за этого гражданская война.
– Другими словами, вы ополчились на несчастных, которые не хотят снимать беретов, – проговорил очень серьезно Фараон. – Они, можно сказать, со дня рождения этот берет не снимали. и когда случается на похоронах берет на минутку снять, так они сразу простуживаются с непривычки, а вы хотите, чтобы они в казино целыми днями сидели без беретов, как голые?
Веласко хохотал, не разжимая рта, до слез.
– …Вы требуете невозможного, – продолжал Фараон тоном проповедника. – Мой тесть, к примеру, спал всю жизнь в берете и причащался в берете, и помер в берете, надвинутом по самые уши… А теща моя – она и по сей день жива, – так она обрядила его в саван, а берет монашеским капюшоном прикрыла, чтобы не смеялись над беднягой. Но все-таки берета с него не сняла, потому как знала: это для него последнее удовольствие… Так вот, в деревне все спят в беретах – все до единого. Я своими глазами видел, да еще сколько раз, – лежит себе в постели такой, закутанный по самые уши, только черный берет выглядывает. Как ни странно, но так оно и есть. Летом в самую жару спят в чем мать родила, но шапку с головы ни за что не снимут. Смех, да и только. В Томельосо почти всех жителей мужского пола отцы зачали с беретом на голове. Ради женщины в постели они с беретом не расстанутся, а ты хочешь, чтобы они на старости лет снимали его, входя в казино? Очень сомнительно.
– Есть и еще одна важная причина, – сказал Плинио, когда все немного успокоились, – лица у них обветрились на солнце, а лбы так и остались белыми, да еще волосы повылезли. Вот они и стесняются снять шапку. Считают – некрасиво.
– Нет, это чепуха. Главное – привычка и боязнь простудиться, – перебил его Фараон. – Братец мой Торибио Лечуга в парикмахерской, даже когда его бреют, берета не снимает. А если дело до стрижки дойдет, снимет на минуту – и сразу кашлять начинает. «Так что, – говорит, – сам понимаешь, из парикмахерской я прямым ходом в аптеку, к донье Луисе». Во какие дела!
– И на свалке томельосской всегда полно старых беретов, – вдруг заметил весьма многозначительно дон Лотарио.
– Ну ладно, – вскочил вдруг виноторговец, – при чем тут это? Веласко опять захохотал, хватаясь руками за живот.
– Я сказал только, что, мол, много беретов потребляют у нас в городке, – как бы извиняясь, отозвался ветеринар.
– Ну так читать манифест или нет? – спросил. Луис Торрес, размахивая свернутой бумагой, как шпагой.
– Давай читай, – согласился Плинио. – Браулио зря не напишет.
Тот, склонившись над бумагой, начал: – «Сеньоры члены «Томельосского казино»! Наша достославная томельосская общественность, поддавшись наущению кино, телевидения и приезжих, хочет, чтобы мы обнажали головы…»
– Что за черт, что там задумали приезжие? – взорвался Фараон, который от вина становился раздражительным.
Последовал новый взрыв хохота, а насмеявшись, все снова принялись за вино, потом опять навалились на блюдо жаренных с чесноком потрохов.
– Ну ладно, я продолжаю… «Сельские чинуши, те, что молятся на футбол, шалопаи, что ездят учиться в Мадрид, Саламанку и Кадис, хотят, чтобы мы не покрывали больше голову. Эти, что вслед за американцами накупили мотоциклов, машин и тракторов, священники-республиканцы и пропойцы – любители хереса хотят, чтобы мы сняли наши береты, чтобы они гнили на свалке под химическими удобрениями…»
– Или я схожу с ума, или там написано: под химическими удобрениями, – не унимался Фараон и протянул руку, чтобы схватить бумагу.
– Я так и знал, что в этом месте ты не удержишься, – заметил Луис.
– Ради бога, это уж совсем мура, – упорствовал Фараон.
– Не похоже это на Браулио, – заметил Плинио, – он такого не скажет, да и мертвых не станет понапрасну поминать.
– А тут поминают, – подтвердил Луис, – да еще как поминают! Вот дальше смешно: «Мы, законные томельосцы, прямые потомки Апарисио и Киральте и лучшие в роду Бурильосов, Лара, Торресов, Родригесов и Сеспедесов, которые жили в этом городке, все мы испокон веку были виноградарями и не ходили голышом. Мы, в беретах, хозяева всей округи – до селений Робледо и Криптона, до Сокуэльямоса и Педро-Муньоса, до Мансанареса и Соланы… С беретом на голове уже много веков встречаем мы каждый день зарю и коротаем ночи, превращая наш городок в винную державу,[11] которой ныне завидуют Аргамасилья и Эренсия…
Берет – символ труда и чести самих достойных уроженцев нашего города, тех, кто превратил пустыри в виноградники, берет – знамя тех, для кого честь – превыше всего, тех, кто, наконец, создал наш герб, на котором изображен заяц в зарослях тимьяна…
С тех пор как городок наш – такой, каким вы его видите, со времен сестры Касианы и дона Рамона Ухены, со времени учителя Торреса и алькальда Чакеты, еще до рождения доньи Крисанты, когда кладбище было там, где теперь – площадь, а ярмарки устраивали на Ярмарочной улице… Да, в конце концов, саму революцию, давшую нам общество потребления, устроили наши предки с этим блином на макушке…»
– Ишь ты… ну чисто стихи!
– А ты помалкивай, нарочно так, чтобы запомнилось. Далее: «И старое кладбище и новое – все сплошь в беретах, венчающих черепа. Граждане томельосцы, мужайтесь и стойте до последнего – история принадлежит нам… А вы, чинуши и барчуки, с папиросками светлого табака и в штанах по последней моде, без ширинки, – вы отправляйтесь в «Кружок либералов» или в «Энтрелагос», сосите там свое виски с коктейлями, заедайте дорогими лангустами, из-за которых столько народу прозябает в нищете, а уж мы, истинные дети земли, мы останемся здесь, в «Сан-Фернандо», мы – старая гвардия, от сохи… В темных рубашках и в беретах мы будем пить чистую воду, разговаривать о виноградниках и курить крепкий табак, и то, что положено иметь мужчине, у нас будет таким, как положено…
И они еще называют нас простаками и отсталыми. Гром их разрази! Ведь благодаря нам у них есть кусок хлеба и виноградники, благодаря нам носят они эти дурацкие пиджачки в обтяжку, и, пока мы живы, черт возьми, в «Сан-Фернандо» всегда будет полно настоящих мужчин с покрытой головой… Простаки томельосцы, объединяйтесь, победа будет за нами!»
Они уже покончили с манифестом и почти все обсудили, когда принесли дымящихся цыплят.
– На всех хватит, кто пожелает.
Сдвинули столы и поставили сковороду посредине.
– Ну, ребята, навались! Куры по-деревенски. Давай, Веласко, и не говори потом, что мы тебе не хороши, – ораторствовал Фараон, – ведь вы зашли так – наобум, а вас ждет еда – пальчики оближешь.
– Но платить будем мы, – вскочил Луис.
– Нет, не ты нас сюда приглашал, и ты ни гроша тут не заплатишь, дорогой, но впереди у нас весь вечер и ночь, и никто тебе не помешает повести нас еще куда-нибудь…
– Ты с ума сошел, Антонио, – вмешался Плинио.
– Ни с ума, ни с чего другого. Просто я чувствую себя молодым и полным сил.
– Значит, это вино на тебя действует, – поддел его Хасинто.
– И на тебя точно так же, погляди, как у тебя глаза горят. Вино мне развязывает язык. Без вина и жизнь не в жизнь. Оно снимает тяжесть с сердца и дарит смех, подстегивает нервы, оживляет беседу; друзья от вина кажутся добрее, а женщины – все до единой желанными. Вино веселит и греет сердце. Очищает печень, делает язык острее, а слова весомее, разжигает шутки, будит блеск в глазах, подстегивает мысль, и вся жизнь становится сгустком удовольствий. Пить надо с умом, и тогда чувствуешь себя молодым, и в пыли видишь цветы, руки плачут по женщине, а ноги пускаются в пляс. Вино – это кровь, которая веселит плоть земли. То животворное сусло, из которого творится человек. Все великое в этой жизни ударяет в голову вином. Раскидистые деревья, пышнотелые женщины, кудрявые сады, дерзкие животные, птицы, не знающие законов, пестрые куропатки, мясо освежеванного ягненка, кипящее масло, ребенок, который копошится в пеленках, утро, врывающееся в окно, солнце на закате, отражающееся в стеклах, – все прекрасное и великое в этой жизни сильно, как вино.
– Сразу видно – виноторговец, – робко вставил Хасинто, а Фараон, не забывая о еде и наполняя стакан за стаканом, все не унимался, продолжая слагать гимн Дионису:
– …А когда настает твой черед и в изголовье тебе ставят свечи, это значит, ты потерял поддержку вина. Значит, в немощи ты позабыл о бутылке. Ты видишь жизнь в мрачном свете? От этого недуга есть средство – бочка. Ибо вода к нам приходит с небес, а вино – из нутра земли. Нет фильма лучше того, какой ты видишь на дне стакана. И нет в мире звуков слаще звона струи из боты. Прочисть же мозги пивом, а потом потихоньку принимайся за бутылку. Вот так – за вином и разговорами – и становятся мужчиной. В вине и песнях рассеиваются печали, растворяется тяжесть сердца. Стакан вина на бедре женщины – можно ли пожелать большего?
– Ишь дает, да он поэт почище Браулио! – не удержался Луис.
– …И что может быть лучше, чем сидеть под вечер за кувшином вина…
Тайны Карабанчеля
Когда поели, выпили кофе и перешли к обсуждению предстоящих развлечений, Плинио почувствовал, что все это ему начинает надоедать. Он устал от хохота, выкриков и гама. Надрывное веселье всегда вызывало у него сомнение. Ребячество это – пытаться таким образом стряхнуть житейские заботы и избавиться от гнетущей пустоты. И слишком тягостно для того, кто больше всего или, напротив, меньше всего хотел бы остаться один на один с самим собою и, уставясь на носки собственных башмаков, заглянуть в прозрачное прошлое или наверняка мрачное будущее. Вот люди и толпятся у стойки бара и пыжатся, желая показать власть, которой не имеют, и разговаривают голосами, какими, по их представлению, разговаривают люди сильные, и расписывают истории с женщинами, приличествующие какому-нибудь донжуану, до которого самому ему далеко, и уверяют, что, мол, везде-то ему почет и уважение, – словом, каждый устраивает свой собственный театр, в котором он играет роли, написанные на собственный лад. Изо дня в день каждый выходит на улицу, неся в себе целую труппу и полный репертуар утешительных сказок. И только у некоторых, очень немногих, нефальшивых, прекрасно понимающих, чего они стоят, манера поведения совпадает с тем, что творится у них на душе. Вот у таких, может быть, как он. Плинио никогда не испытывал жалости к себе. Ни жалости, ни восхищения. Однажды дон Лотарио спросил его: «Мануэль, а ты никогда себя не жалеешь?» – «Нет, я не жалею себя, но и радости особой себе не доставляю, – ответил тот. – Я к себе отношусь спокойно. Я занимаюсь в жизни тем, чем хотел. Не более и не менее. И знаю: то, что я делаю, – такой же обман, как, насколько я вижу, и то, что делают другие. Но надо быть терпимым и уметь принять условия игры, которые написаны нам на роду, вполне нам подходят и даже нас выручают. А вам, дон Лотарио, себя жалко?» – «Да нет и, в общем, благодаря тебе. Люди бывают двух типов: одним, чтобы жизнь была сносной, нужно что-то. Это – ты. А другим нужен кто-то. Это – я». – «Кто же это вам сказал, что мне не нужны вы?» – «Я знаю, Мануэль, что нужен, но иначе. Ты мне нужен такой, какой ты есть, я же нужен тебе как наблюдатель. Ты получаешь удовольствие, когда учишь меня рассуждать. А мне нужен ты сам и твои рассуждения, и, какими бы они ни были, я бы все равно был с тобой».
Когда Плинио с высот своих раздумий вернулся на землю – в «Мезон дель Мосто», он заметил, что ветеринар наблюдает за ним. И тогда, наклонившись, Плинио шепнул ему на ухо:
– Пойду в кафе «Комерсьяль», проветрюсь немного. Я что-то отупел от такого количества кур и вина. Не знаю, что буду делать потом. Если я не позвоню, приходите туда.
Он попрощался, сославшись на дела, и ушел. В кафе он сел за отдельный столик, попросил простокваши и попробовал задремать, но ничего не вышло. И скука и дремота, одолевавшие его после обеда, были, видно, чисто профессиональными. С папиросой в зубах, подперев рукою щеку, он наблюдал за движением на площади Бильбао. Из-за машин ничего не было видно. Ему до смерти не хотелось возвращаться в дом сестер Пелаес. Да и зачем? «Если говорить серьезно, Мануэль, на полном серьезе, дело закрыто». Сколько он ни напрягался, никакого следа не учуял. «Должно быть, комиссар уже звонил на улицу Аугусто Фигероа насчет отпечатков. Теперь все равно. Новильо, наверное, пошел разносить готовые рамки, а может, сидит в кафе «Националь» за газетой. Этот дурак Хосе Мария, пустив следствие по ложному следу, к сватовству тридцатилетней давности, блаженствует теперь дома, любуется своими четырьмя марками, которые он тяпнул из тайника за портретом дядюшки Норберто, отца рыжих сестер, того самого, что был нотариусом в Томельосо, потом в Мадриде, после чего отправился в Рим, откуда писал письма, а потом, однажды вечером, отдал богу душу». Прошел продавец газет, и Плинио купил газету. «Ну-ка, не появились ли рыжие сестрицы, изнасилованные где-нибудь близ колодца дядюшки Раймундо. Лучше бы, конечно, пойти в гостиницу да поспать – может, когда пройдет дремота после этой жирной еды и вина, глядишь, и придет в голову какая мысль, а нет – так черт с нею: завтра верну дело комиссару, закажу костюм У Симанкаса и отбуду к себе в Томельосо. Вот так-то оно лучше». Он расплатился. Выкинул газету и пошел к телефону – поведать дону Лотарио о своих планах.
Уже в кабине, отыскивая в телефонной книге номер «Мезон дель Моего», он заметил на обложке несколько номеров, записанных вкривь и вкось. Ему тут же вспомнилась телефонная книга рыжих сестер… вспомнилось, какой ждал в «Национале», как потом вернулись дон Лотарио с Фараоном, вспомнилась донья Мария де лос Ремедиос, с ее приливами, пышущая жаром цветущего тела, грудастая, в полном расцвете своего бабьего лета. Как все странно. Будто прочитав вдруг диковинную телеграмму, он почувствовал, что настроение у него проясняется, становится легким и почти лирическим. Словно все поры раскрылись. Осталось сделать последнее усилие. Он отыскал номер и позвонил в «Мезон».
– Послушай, Адела, пусть дон Лотарио подойдет к телефону… Дон Лотарио, я решил сходить к сеньоре Марии де лос Ремедиос. Посмотрим, что получится. Увидимся в «Гайянгос», выпьем там по рюмочке перед ужином.
– Хорошо. По крайней мере ты хоть оживился.
– Иду, чтобы развязать последний узелок… а точнее сказать – единственный.
– Попытка – не пытка.
– И скорее всего – опять какая-нибудь чепуховина вроде марок. Ну, увидим.
– Не спеши судить. Потом расскажешь. До свидания.
Тут же на площади Плинио взял такси и поехал в Верхний Карабанчель.
В Верхнем Карабанчеле Плинио не бывал с тех пор, как приходил сюда солдатом. Единственное, что осталось у него в памяти, – это темная каменная ограда, которая возвышалась вдоль тротуара по левую руку, если ехатв из Мадрида. Улицу Генерала Рикардоса, уходившую вверх, всю застроили, а в прежние времена здесь было чистое поле. Тогда через пустыри и пустоши ходил трамвай да иногда попадалась одинокая таверна, где рабочие играли в чехарду или спорили о политике. Теперь здесь пролегла улица с современными зданиями.
Он прошел мимо такого знаменитого в прежние времена Дома прессы; теперь, кое-как подкрашенный, кое-где облупившийся, он выглядел заброшенным. Виллы из красного кирпича – место отдыха столичных заправил, – которых раньше тут было множество, теперь либо вовсе исчезли, либо вконец обветшали. От некоторых осталась лишь зеленая садовая решетка да черные парадные ворота, а внутри, там, где раньше был сад, часто высились, словно непрошеные гости, уродливые здания.
Иногда еще встречались сельские постройки, где дверь под крашеным козырьком выходила прямо на улицу, внутри был узкий дворик с какой-нибудь зеленью, а в глубине – жилые комнаты. Когда Плинио проходил мимо такого дома, в памяти всплывали женщины тех времен – платья до пят, волосы собраны в пучок на затылке; под вечер они выходили на улицу выпить чего-нибудь прохладительного. Ему вспомнилась девушка из той поры, на которой он чуть было не женился, – у нее была лавочка, где продавались яйца, и большая родинка на подбородке. Когда он маршировал к себе в казарму, она, стоя в дверях лавочки, посылала ему вслед воздушные поцелуи.
Старая ограда значительно укоротилась, от нее остался только кусок – на память. Здесь, у выхода на площадь, выкурил солдат Плинио сотни сигарет и осмотрел множество девушек с пучками на затылке.
Мануэль чуть было не осел тут и не стал хозяином лавочки, да в последний момент передумал. Жизнь за прилавком – не его призвание. Он вернулся в селение с намерением заняться чем-нибудь, связанным с виноградом, и некоторое время даже был трактирщиком, но потом алькальд Карретеро предложил ему должность в Муниципальной гвардии.
Он остановил такси на площади, рядом с непременной в таком месте церковью, огляделся вокруг, и у него защемило сердце. Как раз здесь они устроили пирушку в день Святого Петра. В тот вечер самым старательным дали увольнительную в город и позволили идти на гулянье, есть жареные пончики и кататься на карусели с лавочницей, по очереди дарившей их своим расположением. В те времена всюду полно было квартеронов в фуражках, с белыми косынками на шее; они похвалялись своей дерзостью, танцевали чотис, раскинув руки как канатоходцы, садились, широко расставив ноги и наклонившись вперед, а рукою упершись в ляжку. Тогда еще в ходу была поговорка: «Коли есть мускулатура – ни к чему тебе культура». Этот народ считал своим долгом постоянно утверждать свое мужское достоинство. Что с ними сталось? Гниют, должно быть, на каком-нибудь католическом кладбище, и уж теперь, как говорится, не до песен им и не до женской ласки. А бедняжка лавочница, которую звали Консуэло, теперь, наверное, одна из тех вон согбенных старушек, что сейчас выходят из церкви. Сколько лет прошло, и от ее, когда-то такого родного лица только и осталось в памяти что родинка на подбородке. Все тут переменилось. Много временных построек унылого вида. Те; что строили с помощью банков, выглядят получше. И на каждом шагу – бары с телевизорами и машины. В прежние времена тут ходили желтые медленные трамваи – до Матадерос, до Нижнего Карабанчеля и до центра, до самой Пласа-Майор. Трамваи с деревянными скамьями вдоль вагона были битком набиты женщинами с корзинами, солдатами и служащими. Помнится, один раз была забастовка вагоновожатых, на их место сели железнодорожники, и трамваи ходили из рук вон плохо.
Главная улица, та, что выходила на площадь, выглядела почти как столичная, во всяком случае с претензией на это. Но на боковых, отходящих от нее улочках почти все дома были старые, особняки казались заброшенными и полно было пустырей и заросших травой участков. Кое-где еще меж заводских громад виднелись стада овец. Главная улица разрослась и помолодела, а вот прилегавшие к ней – обветшали. Словно как оживший ствол с засохшими ветвями. И не Мадрид, и не деревня. В виллах, построенных когда-то для отдыха, теперь не отдыхали – во всяком случае, по их виду этого нельзя было сказать. Какая-то мешанина сомнительного вкуса, новые дешевые дома и рядом – старые, неухоженные, серые, печальные.
Плинио пошел, ориентируясь по тому, что рассказали ему дон Лотарио с Фараоном. Свернул на улицу Эухениаде-Монтихо. Многие улицы были названы по-новому, в честь военных. Между двумя довольно заурядными зданиями был ровный пустырь, а за ним проглядывал, словно театральный задник, столичный квартал Мадрида. Несмотря на то что город разросся и в небо поднялись многоэтажные здания и желтые хвосты дыма, несмотря на хаос и импровизацию, которые натворили сумасшедшие и торгаши, несмотря на все это, Мадрид сохранил что-то от своего классического облика города времен Эдуарде Висенте. Купола старых храмов, забытая серая громада королевского дворца, старые черепичные крыши с трубами и слуховыми окнами, оставшиеся от XIX века. Башни с флюгерами, ровные ряды деревьев и непременное солнце, которое, прежде чем скрыться, кроваво ранит окна верхних этажей. Мадрид до 1936 года издали походил на провинциальный город Кастилии или восточной Испании с кое-как замаскированной бедностью. Не господствовали тут большие частные дома, покрытые патиной времен. Почти не было кирпичной архитектуры. И не в чести был основательный классический стиль. Над скромными, невысокими жилыми домами вдруг взмывала ввысь церковь, то тут, то там маячила частная резиденция или административное здание. Он был похож на большой средневековый город ремесленников, с грехом пополам приспособившийся ко времени, но не имевший ни возможностей, ни сил возвыситься над собственными башнями, как это удалось большим городам Европы. Современные небоскребы, разрывающие ровный городской пейзаж, принадлежат другому миру, иным представлениям, которые ничего общего не имеют с тем, что существовало здесь до них, – с церквями, дворцами или улицами времен Гальдоса. Они, эти небоскребы, – новый облик бедности и отсутствия вкуса. Они порождены не эстетикой гигантов, как небоскребы Нью-Йорка, а спекуляцией земельными участками и разрушают складывавшийся веками облик города. И в центре Мадрида произошло то же самое, что в его предместье – Карабанчеле: резкий, без перехода, скачок от средневекового дома с загоном для скота к блочному строению-улью, минуя широкие проспекты, как в Париже, и чинные каменные здания, высотой превосходящие церкви. Испанец всегда готов кинуться от самого дремучего консерватизма в безрассудную импровизацию. Тут нет архитектурного ритма, и ничто никогда тут не возводилось по заранее обдуманному плану. Либо, пытаясь удержаться на месте, насмерть закручивают гайки, так, что болт летит, либо же хватаются за самые отчаянные и рискованные меры без смысла и без разбора… Значительная часть испанской истории – серия судорог и дерзких выходок наряду с чудовищным умственным застоем и консерватизмом формы. Плинио вспомнилось, Хонас Торрес рассказывал как-то в «Сан-Фернандо» об одной своей знакомой, страшно набожной, которая всю жизнь держала лавочку на Почтовой улице, где предавали ткани для монашеских ряс; когда же дела у нее пошли худо, – а тут как раз хлынули туристы, – она открыла на пляже в Бенидорме магазин «Бикини». В пятидесятые годы она бы ни за что на свете не стала продавать и обычного купального костюма, но вот начался бум, и она от монашеских ряс перекинулась сразу на иную одежду – лифчик и трусики, да такие, что пуп наружу. И еще Плинио слыхал об одном человеке – тот в сороковые годы служил инспектором на танцах и штрафовал каждого молодого человека, которому случалось во время танца слишком приблизиться к девушке; теперь в Барселоне он содержал ночной клуб, где было много чего дозволено. А все оттого, что средний испанец очень впечатлителен и ленив мыслью, а потому готов идти, куда ветер подует.
Полученных указаний было явно недостаточно, и Плинио вернулся на площадь и спросил у регулировщика, где вилла «Надежда». Тот указал дорогу, и Плинио быстро нашел. Вилла оказалась типичной для Карабанчеля постройкой начала века. Огромный, из обожженного кирпича, домище в один этаж и с подвалом. Вокруг – небольшой запущенный сад, окруженный выбеленной известью в незапамятные времена оградой с высокими решетчатыми воротами, выкрашенными тусклой зеленой краской. Прежде всего Плинио прошелся вдоль ограды. Хотелось найти место, откуда можно было бы спокойно наблюдать за домом, но такого места не нашлось. Напротив дома была полуразрушенная кирпичная стена. За стеной и по обе стороны ее – заросший травой строительный мусор, горы старых бумаг. Ничего не оставалось, как войти. Он нажал кнопку звонка у ворот. Через некоторое время дверь в доме отворилась, и показалась старая женщина, резкая в движениях и, судя по всему, дурно настроенная. Наверное, мать Марии де лос Ремедиос.
– Вы звонили? – крикнула она.
– Я.
– Чего вам?
– Я к вам. Я из Томельосо.
Женщина остановилась в нерешительности, и тут же за ее спиной показалась донья Ремедиос. Она, прищурившись, поглядела в сторону ворот и, узнав Плинио, улыбнулась. Донья Ремедиос пошла к воротам, на лице у нее было написано удовольствие.
– Мануэль, каким это вас ветром занесло? – сказала она, подходя.
Старуха вошла в дом. Донья Мария де лос Ремедиос открыла ключом замок.
– Входите, входите… Мы собираемся уезжать, но еще есть время.
– Я просто зашел навестить вас.
– Входите… входите.
– Вы в Томельосо?
– Нет, на воды. У матери тяжелая форма артрита, и мы всегда в это время года ездим на курорт.
И в самом деле, сеньора приоделась. Лицо у нее было ясное, безмятежное – и следа не осталось от того волнения, которое заметил Плинио в дороге. Белокожая, с черными как смоль волосами и не сходящей с лица улыбкой, чуть, может, полноватая, но вовсе не толстая. «Сеньора, – подумалось Плинио, – необыкновенно хороша, несмотря на свои полные пятьдесят лет».
В прихожей стояло несколько чемоданов.
– Присядьте хоть ненадолго, – предложила она, указывая настоявший в прихожей плетеный стул тех времен, когда Плинио был еще рекрутом.
Плинио отметил, что принимают они его явно на ходу. Обе женщины стояли рядом и глядели на него каждая на свой манер. На лице дочери – приветливая улыбка, а мать словно уксусу глотнула.
– Чего хотите – пива, кока-колы или еще чего-нибудь?
– Вполне достаточно простой воды.
– Только этого не хватало! Я принесу кока-колу.
И обе женщины поспешно пошли за кока-колой. В прихожей не было иного освещения, кроме света, падавшего из окна над дверью, которая выходила в сад. Справа портьеры закрывали вход в столовую или гостиную. Шесть стоявших в ряд чемоданов были такими сверкающими и новенькими, по последней моде, что никак не вязались с обстановкой и духом всего дома, которые вполне соответствовали началу тридцатых годов. Еще тут были две растрескавшиеся фаянсовые подставки для цветочных горшков. Глухую, как в деревне, тишину нарушал лишь стук провисших проводов, которые от ветра время от времени ударяли в стекло над дверью.
Наконец появилась Мария де лос Ремедиос с крошечным подносом, а на нем – бутылка и стакан. Следом за нею вошла и мать.
– Пожалуйста, Мануэль… Что это вы, томельосцы, зачастили ко мне? Вчера тут были дон Лотарио и этот, виноторговец, не по мню, как его зовут. Я очень обрадовалась. А вот сегодня – вы.
– Ну да, это они мне рассказали, что у вас дом очень красивый, – сказал Плинио с намеком, глядя на двери, ведущие внутрь дома.
– Ах, какая жалость! Действительно, он был красивый, когда его свекор построил… Теперь уж он немодный и для двоих слишком велик.
Плинио сделал два-три глотка и закурил папиросу. Наступило молчание. Донья Ремедиос призадумалась, однако улыбка не сошла с ее лица; наконец она сказала:
– Проходите, Мануэль, проходите, – и, отдав бутылку и стакан матери, раздвинула портьеры. – Вот это мы называем салоном, хотя вид у него довольно запущенный.
И впрямь, на всем лежала печать запустения и не было единого стиля. Нельзя сказать, что было грязно, однако, судя по всему, вещи, приходившие в негодность, тут не чинили. В этом, так называемом, салоне стояла хромоногая тахта и несколько стульев, обитых кожей, как в конторе, пианино и этажерка с пожелтевшими нотами.
Мать шла за ними, но не входила в комнаты, а останавливалась в дверях, глядя мрачно и недоверчиво.
– Это столовая.
Ужасающий испанский стиль: медная и серебряная посуда словно из лавки старьевщика. Слабенькие лампочки в деревянной люстре делали столовую похожей на склеп – даже холодок по спине пробегал.
– В этой комнате был кабинет свекра, а потом – мужа.
С потолка свисала большая позолоченная клетка с чучелом попугая, хранившим в своих перьях пыль гражданской войны, а то и более давнюю. Снова, так называемый, испанский стиль. Мебельные гарнитуры, как набор катафалков, со множеством морд и лап, цепеняще торжественные, – ад в испанском представлении, выточенный ревностными священниками, со всеми внутренностями, лапами и потрохами, мрачный и инквизиторский.
– А здесь спальни, – указывала сеньора на двери, не обнаруживая, однако, намерения открыть их.
Плинио шествовал меж двух женщин. Впереди, проводником, донья Мария де лос Ремедиос, а сзади, как молчаливый конвоир, – старуха. Прошли длинную галерею, где не было ничего, кроме комнатных растений и – снова – плетеных кресел. Как видно, в этом доме имели пристрастие к плетеной мебели, которая теперь приобрела цвет леденцов, и к подушкам в кретоновых наволочках.
Раз уж так сложилось, ничего не поделаешь, пусть показывают дом, – подумал Плинио. – Главное – не спускать с них глаз. На том пустыре, что напротив, дождусь, пока они отъедут. И поеду за ними хоть до самого Синая. К чему это они показывают все внутренности… Если бы они не проделали того же с доном Лотарио и Фараоном, я бы подумал, что хотят отвязаться. Значит, считают, что мы приехали покупать дом или же… хотят показать, что в доме живут они одни».
– Мама, ступайте приготовьте чашечку кофе Мануэлю, – сказала донья Мария де лос Ремедиос матери, не поворачивая головы.
Плинио видел, как старуха остановилась и, постояв несколько секунд, ни слова не говоря, повернулась и пошла. Длинный, залитый солнцем коридор заканчивался тремя ступеньками и дверью, которую сеньора открыла со словами:
– А тут у нас погребок, сыры и окорока нам привозят из деревни. Поглядите. Посыльный привозит или друзья… А в этой бочке старое вино, не знаю даже, сколько ему лет.
Плинио пошел меж полок, уставленных оплетенными бутылками, бочонками и сырами. Был тут и глиняный чан с солеными помидорами и колбасы в оливковом масле. Под потолком висели окорока и пласты сала, гроздья винограда нового урожая и дыни. На дне бочонка со старым вином выбиты были теперь уже неразборчивые буквы.
Сеньора, заметив, что Мануэль наклонился прочитать надпись, зажгла верхний свет.
– Это подарок моему отцу, уж не помню, какое доброе дело сделал он одному очень известному в нашем городе семейству. Вот видите…
Плинио наклонился пониже, чиркнул спичкой и медленно прочел:
– «Тысяча девятьсот двадцать четвертый год в па…мять… о…» И тут он услышал, как хлопнула дверь и повернули ключ в замке. Он быстро обернулся.
Донья Мария де лос Ремедиос исчезла.
«Вот те раз! – воскликнул он про себя. – Попался, как новичок! Чтоб мне было пусто! Таким слыл всю жизнь умником – и полный привет! Ни вам спасибо, ни нам – до свидания. Все так чинно, все так пристойно, эта трясогузка впереди, старушка – сзади, посмотрите, что у нас тут, посмотрите, что у нас там, – ив мышеловке. А ведь я уже почти нащупал что-то, но вот сеньора велела матери приготовить кофе, и тут я расслабился…»
Он провел рукой по лицу, вдохнул глубоко и, чтобы помочь себе вернуться к нормальному состоянию, очень медленно набил папиросу. Закурил, снял очки, которые надевал, чтобы прочитать надпись на бочонке, и уже довольно спокойно огляделся вокруг.
«Подумать только, какой черт меня дернул смотреть, что там на бочке написано. Полюбопытствовал, называется… Нашел время и место…»
Рядом с только что захлопнувшейся дверью было окно, забранное ржавой решеткой, сквозь которое в подвал падали лучи заходящего солнца. А напротив – еще одна дверь, и в замке торчал ключ. Плинио подошел к двери, прислушался и попробовал открыть ее. Она была заперта. Он с усилием повернул ключ, и дверь легко отворилась. За дверью был темный коридор: отопительный котел, уголь, пучок лучины и стопка газет. Видно, заранее приготовились к первым холодам. Коридор был довольно длинный, выкрашен ядовитой зеленой краской, и в конце, где он немного расширялся, опять было окно с ржавой железной решеткой, через которую проникал свет. Котел был задвинут в нишу. Плинио дошел до окна, где коридор расширялся и заворачивал. Эта часть коридора была короткой и совершенно пустой. В конце виднелась еще одна дверь, как и все тут, – зеленая. Плинио осторожно нажал ручку и приоткрыл её. За ней была комната со скошенным потолком, в комнате – еще одно окно и две старинные железные кровати с очень простенькими одеялами, но очень тщательно заправленные. На железном умывальнике – кувшин, таз и огромное, затейливой расцветки полотенце. В глубине комнаты еще одна дверь – застекленная, но через закрашенное стекло проникало вполне достаточно света. Плинио показалось, будто он что-то услышал. Он затаил дыхание. Да, за той дверью кто-то был. Кто-то тихо разговаривал, а может, просто дверь плохо пропускала звук. Плинио бросил окурок, затоптал его и тихонечко подошел к самой двери. Без труда отыскал просвет в краске и надолго приник к стеклу. Когда же он выпрямился, то провел рукой по волосам и улыбнулся, как улыбался, когда дону Лотарио случалось отпустить остроумное замечание. Поправил ворот рубашки, который давил шею, и снова приник к стеклу.
В глубине той, другой, комнаты, очень просторной и тоже со скошенным потолком, стоял стол с жаровней, а за столом сидели две уже начавшие седеть рыжеволосые женщины, однако более рыжие, чем седые – рыжие всегда седеют позднее, – играли в карты с мужчиной, совершенно седым, в одной рубашке без пиджака. Женщинам было за шестьдесят, у обеих были чуть вздернутые носы, очень похожие, немного манерные жесты, обе „были одеты не по-домашнему. У мужчины – бледное лицо, сигарета в углу рта и вид немного озабоченный и немного скучающий. На переднем плане стояла старинная металлическая двуспальная кровать, пожалуй даже красивая, накрытая покрывалом гранатового цвета, блестящим и чистым. Рядом – телевизор, огромный радиоприемник старого образца, и стеллажи, доверху забитые журналами, газетами и книгами. Платяной шкаф. Разностильные, но удобные стулья и кресла, а в глубине, у стены, неподалеку от стола, – тахта и лампа в изголовье. На незанятых полками стенах – вырезанные из газет и журналов фотографии людей, которых Плинио не мог узнать. Однако внимание Плинио прежде всего привлек мужчина. В то время как рыжие сестры играли довольно безмятежно – во всяком случае, можно было сказать, что они все-таки заняты игрой, мужчина, так показалось Плинио, мужчина играл автоматически, а сам он витал где-то очень далеко. Мария, Плинио ни секунды не сомневался, что это она, сидела справа от мужчины. Ее сразу можно было Узнать по детской и доверчивой непосредственности, с какой она смотрела на мужчину. Тот время от времени отвечал ей довольным, но коротким взглядом. И тут же возвращался к игре и курил сигарету за сигаретой.
Алисия, напротив, несмотря на то, что была очень похожа на Марию, выглядела несколько настороженной и сдержанной. Она не глядела ни на мужчину, ни на сестру, а только в карты. Нагнув короткую шею, почти уткнувшись подбородком в вырез платья, она тоже была далеко отсюда, в другом мире, возможно гораздо более близком миру мужчины, чем тому, в котором находилась ее сестра. Мария – романтичная, непосредственная, словно созданная для материнства, для домашних забот. В Алисии же – правда, едва заметно – ощущалось критическое, мужское начало, и, должно быть, в мирные часы всплески ее иронии доставляли немало радости Марии. С близнецами всегда так: у одного сильнее голова, у другого – сердце. Плинио знал это издавна. Один – всегда плоть от плоти земли, другой – несколько истеричен и до крайности чувствителен. Один всегда зритель, другой – действующее лицо. У одного всем существом руководят железы, у другого – мозг… Плинио почему-то думал, что сестры моложе и не такие коротышки. Нет, они не были толстыми, ничуть, они были, что называется, крепко сбитые, но тонкокостные, а кожа винного цвета, покрытая симметричными и мелкими морщинками. Мария была, пожалуй, и немного плотнее, и пошире в груди. В манерах Алисии проскальзывала твердость и милая решительность. Взгляд у Марии был водянистый, у Алисии – холодный. Глаза у обеих совершенно одинакового цвета, разреза, с совершенно одинаковыми ресницами и бровями цвета виноградного уксуса, но неизвестно отчего – то ли морщинки не совпадали, то ли иначе преломлялся свет или моргали они по-разному, только взгляды и манера смотреть у них были разные. И руки тоже как будто были одинаковые… с виду. Но Мария держала карты небрежно и расслабленно, движения же вытянутых пальцев Алисии были точны и размеренны.
Пока Алисия точными и волевыми движениями тасовала и сдавала карты, мужчина встал из-за стола, притворно потянулся и закурил новую сигарету. Он был среднего роста, с наметившимся уже брюшком, а руки у него были короткие и худые. Лицо с правильными чертами было, пожалуй, симпатично. Должно быть, в юности он был порывистым, искренним и склонным к взволнованным излияниям. Он походил на заключенного, которого пепел времени, заточение и недостаток человеческого общения, словно колпаком из матового стекла, отгородили от него самого, скрыв все, возможно, таившиеся в нем способности. Плинио на своем веку повидал немало людей, отбывших заключение, и ему было понятно это состояние «ухода в себя», когда человек находится словно бы внутри себя самого, как в витрине, – это отчуждение, которое несет с собой изоляция, привычка не проживать жизнь, а мириться с бездействием стольких жизненных пружин и рычагов, мириться с тем, что ни к чему силы и нет никаких перспектив. У человека, долгое время находящегося в заключении, первой приходит к концу способность смотреть на вещи естественно. Все предстает ему как бы издали, кажется во много раз меньше. Разговаривая, он почти перестает шевелить губами и двигать мускулами лица, отчего лицо у него становится серьезным, как у того, кто думает больше, чем говорит и делает. Пока сестра сдавала карты, Мария глядела на мужчину и робко ему улыбалась. В ответ он поглядел на нее поверх зажженной спички и попытался улыбнуться, но улыбку испортила привычно усталая складка у губ.
Плинио решил войти. Надо было войти в святая святых. Не стоять же тут бог знает сколько! Однако Плинио не мог придумать, как это сделать, как нарушить эту игру, это общение. «Да, со смекалкой у меня сегодня туговато. Проклятое томельосское вино, такое крепкое, да еще этот куриный жир комом стоит в желудке. Полицейский, если ему предстоит трудная работа, должен есть мало, как монах-картезианец, а пить и того меньше, как протестанты, которые вовсе не пьют. Когда ешь и пьешь до отвала, то немногое, что в тебе светится, и вовсе затухает… Вот почему ты не знаешь, как войти в комнату…»
Наконец, почесав еще раз висок, он отошел назад, хлопнул тихонько дверью, выходящей в коридор, и, не стараясь ступать тихо, пошел к стеклянной двери. Подойдя, он не слишком осторожно открыл дверь.
Трое в комнате, привлеченные шумом, смотрели на дверь. Плинио застыл на пороге – будто от удивления.
Трое, застигнутые врасплох, не шевелились. На их лицах был написан не столько страх – первый испуг прошел, – сколько недоверие: кто этот человек, на вид такой простоватый, и что им все это сулит.
Обе женщины не поднялись с места; одна в руках держала карты, рука другой лежала на столе; они глядели на Плинио не мигая, полуоткрыв рот и раздувая ноздри. Мужчина стоял – им овладел откровенный страх. Страх застаревший, неизбывный, пронизывающий до мозга костей.
– Прошу вас, успокойтесь… – почти взмолился Плинио, и сам немного напуганный приемом. – Я Мануэль Гонсалес, еще меня называют Плинио, начальник Муниципальной гвардии Томельосо, мне поручили разыскать вас, сеньориты, хотя в настоящий момент я – такой же пленник, как и вы.
Похоже, какое-то далекое воспоминание мелькнуло в мозгу сестер Пелаес. Во всяком случае, они начали моргать, и на их лицах отразилось облегчение.
Мужчина же, напротив, еще больше замкнулся в своей подозрительности, в своем зоологическом страхе.
– Плинио, – проговорила наконец Алисия. – Да, мы слышали о вас от папы.
– От папы и из газет, – добавила Мария почти радостно. – Это ведь вы в прошлом году распутали историю с иностранкой, которую, нашли мертвой в «Ла Ормиге?»
– Я.
– И вас за это назначили кем-то важным?
– Вот именно.
– Мы, – пояснила Мария с детской радостью, – выписываем газету «Сьюдад реаль» и потому всегда знаем все, что там происходит… Мы же – ламанчки, вернее сказать – томельоски.
– Я знаю это. Потому-то мне и поручили вас разыскать.
– Садитесь же, Мануэль, садитесь, – предложила Алисия властно, но мило.
Плинио, всем своим видом располагавший к доверию, придвинул себе стул.
– Вы ведь нас помните, нашу семью? – ласково спросила Мария.
– Прекрасно помню. Дон Норберто был такой симпатичный… Я много раз видел, как вы с папашей прогуливались по аллее на Привокзальной площади.
– Какие были времена! – вздохнула Мария.
На мгновение воцарилась тишина – все погрузились в воспоминания.
– И как же вы напали на наш след?
– Благодаря терпению и ряду случайностей.
Плинио перевел взгляд на бледного мужчину, который, казалось, немного успокоился, хотя далеко не окончательно.
– А вы, сеньор, кто? – спросил его Плинио мягко.
Мужчина поглядел на сестер, словно советуясь, что ответить.
– Это наш старинный знакомый, – осторожно вмешалась Алисия.
– Сеньорита, ради бога, я пришел помочь вам, – попытался успокоить ее Плинио. – Расскажите мне, пожалуйста, все как есть.
– Я понимаю. Вы пришли, чтобы освободить нас… а вас тоже заперли. Таким образом, хотели освободить, а получилась полная чепуха, – стояла на своем Алисия, лишь бы не отвечать на вопрос Плинио.
– Не совсем так. Есть люди, которые знают, где я нахожусь, и, скорее всего, сегодня вечером нас всех отсюда вызволят… Я хочу сказать, вас двоих и меня. А что касается сеньора, я не знаю: пленник он или… тюремщик.
Тот, о ком шла речь, все более нервничая, опустил глаза.
– Посмотрим, так ли это, удастся ли нам выбраться из этой норы, – проговорила Алисия, тщательно стряхивая пылинки, которые она одна только видела, и явно не желая понимать намеков Плинио. – Хочу домой. Там уже, верно, все пылью заросло.
– Напрасно вы так, – заметил Плинио. – У Гертрудис все в полном порядке. За исключением пива, что стояло в холодильнике, и нескольких кусков ветчины – все, как вы оставили.
– Нет, если у Гертрудис не стоять над душой, она все делает кое-как.
Видя, что таким путем не узнаешь, кто этот бледный сеньор, Плинио изменил тактику и спросил строго, как и подобает полицейскому:
– Какие же причины привели вас в этот дом?
Сестры Пелаес снова переглянулись. У Марии во взгляде мелькнуло сомнение. Взгляд Алисии был решителен и приказывал молчать. Мужчина зашагал по комнате, виновато глядя в пол.
Плинио, не смягчая строгого, официального тона, который нашел в самый последний момент, поднялся и, опершись обеими руками о спинку стула, сказал наставительно:
– Можете упорствовать и молчать, мне все равно. Но. завтра, а то еще и сегодня ночью вам придется рассказать в комиссариате абсолютно все… Я, насколько это возможно, пытаюсь помочь и избавить вас от неприятных формальностей. Но вы имеете полное право ничего мне не рассказывать. Вам виднее.
– Мы пришли сюда, потому что он позвал, – сказала вдруг Мария в детском порыве раскаяния, глядя полными слез глазами на мужчину, а тот, явно огорченный ее словами, с пристыженным видом отошел к окну.
– Мария! – крикнула расстроенная Алисия.
– А он кто? – с напором продолжал Плинио.
– Манола Пучадес, мой жених.
Лицо Плинио не дрогнуло. Алисия сидела сраженная. Пучадес уперся лбом в железную решетку.
– Зачем он вас позвал?
– Чтобы мы вызволили его отсюда, вырвали из лап этих гарпий.
Плинио медленно подошел к Пучадесу и, стоя у него за спиною, спросил почти умоляющим тоном:
– А вы, Пучадес, почему в этом доме? Почему вас тут держат?
Сперва Мария отвечала на вопросы Плинио, а затем и Алисия, пришедшая ей на помощь, и наконец, Пучадес, стоя все так же, лицом к окну, коротко рассказал любопытную историю своих последних почти сорока лет.
В 1932 году он учился в ветеринарной школе и был членом Единой федерации студентов. Это мать настояла, чтобы он пошел туда учиться, потому что ее брат был всеми уважаемым ветеринаром в селении близ Толедо и обещал племяннику, если тот выучится на ветеринара, передать ему свое звание и практику. Маноло к тому времени проучился уже половину срока на медицинском факультете, но, под влиянием этих обещаний и не желая огорчать мать, перешел в ветеринарную школу. Среди учеников он был самым взрослым и меньше всех чувствовал призвание к этому делу. Медицина его тоже мало вдохновляла Подлинная склонность у него была к политике. Точнее, к политической журналистике, к пропаганде. По правде говоря, он сознавал некоторую свою наивность, понимал, что ему недостает умения лицемерить и изворотливости, чтобы быть у власти, занимать видный пост. Однако на медицинском факультете он был членом ЕФС и выделялся среди других. В ветеринарной школе он тоже с самого начала стал вожаком. Мать его происходила из семьи очень консервативной и религиозной. Отец же, хоть и военный, был, как тогда говорили, республиканцем отроду. Провозглашение республики у них в доме восприняли как великий праздник. Все были возбуждены и полны надежд, которые ничто не омрачало, кроме мрачных комментариев матери. Но и она мало-помалу примирилась с новым положением дел. Он вспомнил, как вступил в партию Асаньи, как произносил речи на собраниях Левой республиканской, вспомнил свои полные энтузиазма статьи, свою яркую и деятельную жизнь в те годы. Всякий раз, когда мог, он ходил на заседания конгресса… Как-то в воскресенье, в Эскуриале, ему привелось разговаривать с Мануэлем Асаньей, его супругой и Ривасом Черифом, которые оказались там в тот день. Это было как раз – он никогда не забудет – в здании института, напротив монастыря.
Как-то случилось ему сидеть в баре «Капитолий» после обеда. Там он познакомился с доном Пио Бароха и Хулианом Рамалесом ответственным работником из министерства финансов, уроженцем Таранкона, тоже республиканцем по духу, хотя он ни в какой партии не состоял. Он только что женился на богачке из Томельосо она была много его моложе и из очень знатной семьи. После февральских выборов 1936 года Рамалес стал гораздо сдержаннее и не всегда разделял энтузиазм Пучадеса, но по-прежнему был с ним очень дружен.
С семейством Пелаес он познакомился через отца. Однажды он пришел с ним в нотариальную контору дона Норберто, чтобы выправить кое-какие бумаги. К дону Норберто отец вошел один, а он остался в приемной. Пока он ждал, пришли Мария с Алисией. Дои Норберто запрещал им входить в кабинет, когда там находились посторонние, и поэтому они довольно долго пробыли с Маноло Пучадесом. Так началось их знакомство и дружба.
Ему почти одинаково нравились обе сестры. Такие обе аккуратные, живые и непосредственные. Более разговорчивой и остроумной была Алисия. Но скоро выяснилось, что у Марии такой нежный взгляд и такая ласковая улыбка, что это его зацепило Итак, с тех пор он слушал Алисию, а смотрел на Марию. С разрешения дона Норберто, разумеется, он несколько раз бывал у них и очень скоро стал по вечерам – когда не был занят – выходить с сестрами погулять или в театр. В кругу друзей он называл их «мои невесты». Алисию, казалось, вполне устраивало быть «третьей», и, когда требовалось, она делалась рассеянной. В театре или в кино, увидев краем глаза, что жених с невестой взялись за руки или застыли, глядя друг на друга, она проявляла повышенный интерес к тому, что происходило на сцене или на экране. Хотя об их помолвке было объявлено и все хорошо это восприняли, если не считать скептических замечаний по поводу республиканских перехлестов Маноло, жених и невеста никуда не выходили без Алисии. Побыть вдвоем они могли, лишь когда возвращались домой. Алисия прощалась с ними, и парочка на несколько минут задерживалась на улице у двери. Когда в первых числах июля стало известно, что семейство Пелаес уезжает на летний отдых в Сан-Себастьян и Пучадес должен приехать к ним в августе, их ласки свелись к двум поцелуям в щеку, тайком… Ах да! Мария еще провела рукой по его волосам. Тысячи раз потом Пучадес вспоминал эту наивную детскую ласку.
Учение он закончил в июне 1936 года, и свадьба официально была назначена на следующую весну. Он должен был несколько месяцев проходить практику у дяди, с тем чтобы потом возглавить его клинику.
На всю жизнь в памяти у него осталось прощание на Северном вокзале. Обе сестры Пелаес – в одном окошке. А в другом – родители.
«Ну, ты знаешь: комната ждет тебя с первого августа».
«Я приеду».
Когда перронный колокол возвестил отправление, он пожал всем руки. Руку Марии он задержал на несколько мгновений.
«До августа, Маноло».
«До августа. Напиши сразу же, как приедешь».
Поезд мягко тронулся, и семейство Пелаес плавно замахало руками.
«До августа!» Сколько раз потом, на протяжении этих тридцати трех лет, слышалось ему, как тронулся поезд на Сан-Себастьян и восемь рук дрожали в мглистом воздухе, сколько раз внезапно просыпался он, разбуженный словами: «До августа!..» До какого августа, боже мой, до какого же августа?!
Когда началась война, Пучадес вступил в социалистическую партию и стал настоящим активистом. Без устали писал он в партийных газетах, выступал по радио, разъезжал по фронту. Однажды, вернувшись из такой поездки, он узнал, что мать умерла, Его мобилизовали и присвоили звание лейтенанта ветеринарной службы, но на деле занимался он главным образом политической работой.
За годы заключения редко выдавался день, когда бы он не вспоминал своих товарищей или события военного времени. Это были последние впечатления от той жизни, в которой он действовал и жил – «был на поверхности», и эти впечатления приходили снова и снова, тысячи раз, не утрачивая в воспоминаниях своей патетики, окруженные ореолом ностальгии и юношеской приподнятости.
Отец получил назначение в Барселону, и Маноло остался в Мадриде один. Постепенно вместе с укладом жизни сменились и друзья. Хулиан Рамалес, которого тоже мобилизовали, писал ему время от времени. Раза два в год, через Красный Крест, он получал короткие послания от Марии Пелаес.
Однажды его вызвали в Валенсию, где находилось правительство. Но тут он заболел тифом. Лечили плохо, и он провалялся в госпитале три месяца. Погожим днем, в начале марта 1939 года, он, не выписываясь из госпиталя, пошел к себе домой. В пустой квартире было грязно; под дверью он нашел письмо от одного из своих друзей, в котором тот сообщал, что после взятия Барселоны отец его «исчез». Чуть ли не ползком вернулся он в госпиталь. Один молодой врач взялся за него, поместил в особую палату и недели через две поставил на ноги, так что он мог вернуться к прежним занятиям. Только к чему было возвращаться? Все пропало. Каждый день по дороге в Валенсию и Аликанте уходили его прежние товарищи по работе и те, кто был в руководстве. Пучадесу предоставили возможность выехать из Испании, но у него не было ни желания, ни сил. Самые скромные планы казались ему неосуществимыми. И он ограничился тем, что запасся продуктами и последние дни войны просидел дома, ни о чем не думая, – только читал газеты и слушал радио. Часами он лежал в постели. Кое-как съедал что-нибудь холодное и если к вечеру выходил на прогулку, то заканчивал ее в кино или в кафе. Он не сумел осмыслить ситуации в те решающие дни… да и в последующие тридцать лет. Тиф, который он перенес, и оборот, который приняла война, оказались для него равносильны кораблекрушению, и с тех пор он плыл по воле волн, по воле того, кто оказывался рядом. Его собственная воля умерла ровно тридцать весен назад. И возврата к прошлому не было. Его воля осталась под землей, похороненная вместе с революционными знаменами, вместе с телами его товарищей и друзей, погибших по всей Испании. Война принесла не просто миллион погибших. Миллион мертвых было зарыто, но кто знает, сколько миллионов мертвецов еще ходит по земле, по сей день умирая в муках, или сколько таких, в которых, как в нем, не осталось человека?… Кому ведомо, как долго зияют раны, нанесенные войной?… Не одно поколение еще будет чувствовать ее клыки и производить на свет, к собственному удивлению, мертвые сердца, затуманенные взгляды, смутный отблеск мстительных желаний. Война – это наследственное заболевание, постоянно чреватое обострением. Не бывает войны, которая бы не порождала войну.
В один из последних дней марта, когда нерешительность и слабость особенно угнетали его, он сидел за столом в кафе «Сарагоса» и пил нечто отдаленно напоминавшее кофе, как вдруг заметил, что кто-то у стойки смотрит на него в нерешительности. Это был Хулиан Рамалес. Он подошел к Маноло.
«Маноло! Я тебя не узнал. Что ты тут делаешь, да еще в военной форме?»
Рамалес сел за его столик. Разговор был долгий и грустный. Рамалес пришел с фронта. Его жена и теща уже почти два года жили в Томельосо. Они уехали, туда, чтобы не подвергаться опасностям в Мадриде. Он раза два ездил к ним. Хороший городок. И сейчас он опять собирается к ним, чтобы пробыть там несколько дней, а потом перевезти семью в Мадрид.
«Квартиру мою разбомбили. По-моему, в последнюю минуту они сговорились сбросить все бомбы на мой дом».
В этот поздний час в кафе обычно бывало полно народу. Мужчины, занятие которых трудно было определить, собирались в кружки и кружочки, разговаривали тихо, бросая недобрые взгляды на незнакомых. Очень многие были странно одеты – какая-то мешанина из военной формы и крестьянской одежды. Судя по всему, военные, плохо замаскированные под крестьян. Смутное было время, добра не сулило. На Пучадеса, одетого в полную военную форму, да еще со шпалой командира в петлице, бросали насмешливые взгляды.
«Слава богу, цела осталась вилла отца в Карабанчеле. Сегодня утром я ходил смотреть ее. Там мы пока и поселимся. А ты что собираешься делать»?
Пучадес уставился на него стеклянным взглядом, но не проронил ни слова.
Необычное поведение Маноло, всегда такого бодрого, оптимистичного, поразило Хулиана. Сколько он его знал, тот всегда мечтал, строил планы. Стеклянное оцепенение нарушило вырвавшееся из глубины груди рыдание, и Маноло Пучадес поник, закрыв лицо руками.
Множество любопытных молча смотрели на него. Некоторые лица исказила гримаса горечи.
Хулиан терпеливо ждал, пока Маноло успокоится.
Два часа спустя они вместе ужинали в квартире Пучадеса. Был тщательно разработан план. В течение какого-то времени, пока не станет ясным, какой оборот примет дело, Маноло будет жить с Рамалесами на их вилле в Карабанчеле. Его слишком хорошо знали по статьям и выступлениям – не следует попадаться на глаза, надо переждать первую волну, которая наверняка будет очень сильной. Другого выхода нет – надо прежде прощупать обстановку.
На следующий день рано утром Пучадес собрался с силами, преодолел свою слабость и добился того, что его друг, молодой врач, который поставил его на ноги, дал ему одну из немногих оставшихся в госпитале санитарных машин.
С помощью Хулиана он погрузил в машину остатки продуктов, одежду, бумаги, книги и другие самые необходимые вещи и уехал, не оставив адреса.
Так тридцать лет назад началась его «новая» жизнь. Они не разгружали машины до наступления ночи. Пучадес поселился в полуподвале, как раз там, где они сейчас находились. На следующий день Рамалес на той же санитарной машине отправился в Томельосо, посоветовав своему новому гостю не обнаруживать перед соседями признаков жизни до их возвращения. Это было 28 марта 1939 года. Шестого апреля Рамалес вернулся поездом вместе с тещей и женой доньей Марией де лос Ремедиос дель Барон. Он не захотел оставаться дольше в Томельосо, боясь потерять обещанное в министерстве место.
Пучадес навсегда запомнил, какой страх он пережил, когда вернулись друзья. Уже перевалило за полночь, и он крепко спал. Неожиданно зажегся свет в подвале, он услышал голоса и подумал: «Ну вот, пришли».
«Ты не представляешь себе, от чего ты спасся, – были первые слова Рамалеса. – С перепугу они хватают всех, кто попадает под руку. Пока я не скажу, не думай даже к окну подходить. Читай, пиши, слушай радио. Словом, делай что хочешь, только забудь о Мадриде и вообще об Испании. И боюсь – надолго».
Так началось для него «освобождение».
Вскоре, пройдя проверку, Рамалес занял прежнее место в министерстве, и на вилле «Надежда» началась обычная жизнь. Теща Рамалеса доставляла Пучадесу завтрак и обед, а после обеда к нему спускался Хулиан. Он приносил ему газеты, они вместе пили кофе и обсуждали положение в стране. Иногда вечером, после ужина, Пучадеса приглашали наверх – провести время в кругу семьи. Ради него они отказались от служанки, и только три раза в неделю приходила женщина помочь убраться «наверху». В эти дни ему велено было сидеть тише воды, ниже травы. Никому нельзя было доверять.
Вопреки его опасениям обе женщины не проявляли ни малейшего недовольства. Пожалуй даже, таинственный гость был для них своего рода жизненным стимулом. Несмотря на нелюдимый характер и не слишком дружелюбное выражение лица, теща, или донья Мария-старшая, как называл ее Рамалес, заботилась о нем больше всех. Она была немногословна, это верно, однако же очень точна и аккуратна во всем, что надо было для него сделать. Иногда, если бывала в настроении, она садилась подле него и рассказывала что-нибудь из жизни в Томельосо, о своем муже или семье. Донья Мария дель Барон никогда к нему не спускалась. Пучадес видел ее, только когда его приглашали наверх. Она, казалось, постоянно была поглощена мужем, и все, что не касалось непосредственно заботы о нем и его нужд, совершенно ее не интересовало. У Марии была навязчивая идея, рассказал Хулиан, – иметь детей. Но детей все не было. И это желание отгораживало ее от всего остального мира. У Пучадеса было такое ощущение, будто каждый раз, увидев его, она силилась припомнить, кто он такой. Эта женщина – такая красавица, молодая и добрая – словно совершенно не замечала ничего вокруг себя.
Несколько раз Пучадес заговаривал с Хулиганом, не пора ли сообщить Марии Пелаес, где он находится, но тот всякий раз отвечал, что еще рано И опасно. Надо выждать. Никогда не знаешь, как поведет себя человек – каким бы влюбленным он ни был – в подобных обстоятельствах. Сам Пучадес думал о Марии как о чем-то, что "было до войны», как о лете, которое не состоялось, как о мечте из совсем другой эпохи, у которой не было будущего, как, впрочем, не было будущего у его карьеры и у всей его жизни.
С каждым днем Пучадес испытывал все больший страх. Вести, которые доходили до него о друзьях и знакомых, были хуже некуда. Да и Рамалесу хватало с ним забот. Никто ничего не говорил, но и без того все было совершенно ясно, и Пучадес это чувствовал, однако положение его было таково, что другого выхода не было. И он делал единственное, что мог: был до крайности скромен и старался никого не беспокоить.
Дни и ночи проводил он за чтением и отгадыванием кроссвордов.
Случалось, Рамалес по нескольку дней не приходил к нему и не приглашал его наверх – несомненно, потому что боялся, как бы Пучадес не заметил его озабоченности. И тогда у Маноло не было иного собеседника, кроме доньи Марии-старшей, которая, как и дочь, но на свой лад, была далека от того, что происходило вокруг, и, казалось, не замечала напряженной ситуации.
На очень скоро все кончилось. В один из последних дней сорокового года его добрый друг Хулиан Рамалес не проснулся. Когда жена утром принялась будить его, он был уже совсем холодный. Донья Мария-старшая на удивление быстро спустилась сообщить об этом Пучадесу. Последний раз Пучадес увидел друга в постели, по подбородок закрытого одеялом. Виднелся только краешек пижамы. Голова его была немного повернута в сторону окна, и казалось, будто он спит, чуть нахмурив брови.
Глядя на него, Пучадес подумал тогда, что совершенно ничего не знает об этом человеке. Он считал его своим хорошим другом, знал, что он по натуре добрый человек, но абсолютно не знал внутреннего мира Рамалеса, да и его к себе в душу тоже не пускал. По сути, он был из тех друзей-статистов, которые не причиняют беспокойства и в компании занимают самое незаметное место. И однако же, именно он протянул Пучадесу руку в самый трагический момент его жизни. Руку чистую и совершенно бескорыстную. Верно ли ему показалось, что Хулиан в последнее время испытывал страх? Или это болезнь подточила его дух?
С величайшим уважением Пучадес поцеловал его в лоб. Когда он обернулся, то в дверях увидел Марию де лос Ремедиос. Все в этот день было очень странным. И то, что сам он подумал о Хулиане Рамалесе, как бы заново открывая его, и поведение его вдовы. У Пучадеса было такое ощущение, будто она впервые «увидела» его. Она застыла в дверях, очень серьезная, глаза ее были заплаканы, и она смотрела на Пучадеса непривычно пристально. Как будто удивилась, что он тут. На несколько долгих секунд труп Хулиана Рамалеса перестал существовать для его вдовы. Остался один он – Пучадес. Как был – в домашних туфлях, в потерявших форму брюках и черном свитере. Он остановился около Марии де лос Ремедиос. Хотел сказать ей что-нибудь в утешение, но не нашел слов. Он вопросительно заглянул в ее полные решимости глаза и, шлепая домашними туфлями, вернулся к себе в комнату.
Что теперь будет? Он не питал иллюзий. Чем он был для этих двух женщин? Почему они должны держать его у себя бог знает сколько времени?
Несколько дней затем через свое окно, хотя оно и выходило на задний двор огромной виллы из красного кирпича, он видел хлопотавших людей, слышал молитвы на латыни и неумолкавшие шаги в комнатах наверху.
Старуха по-прежнему в положенный час приносила ему еду и рассказывала о ходе погребальных дел, как обычно – коротко и отстранение Слушая ее, можно было подумать, что покойный приходился ей соседом или дальним родственником.
Когда все немного успокоилось, а именно в воскресенье утром, он сказал донье Марии-старшей, что хотел бы поговорить с обеими женщинами.
Его пригласили поужинать наверх. Со дня смерти Хулиана он не видел Марии де лос Ремедиос. И на этот раз снова заметил тот самый взгляд – будто его «обнаружили». И почувствовал к себе совершенно новое внимание. Иначе это и не назовешь. В ее взгляде не было ненависти, желания, симпатии или презрения, было только одно: внимание, удивление.
Было уже за полночь, а они все говорили о вещах незначительных. Потом Пучадес, испытывая при этом страх, сказал, что он понимает: смерть Хулиана меняет дело, и что он готов поступить так, как они рассудят. Он просил только небольшой отсрочки, чтобы разузнать, что и как. Само собой, он упоминал свою невесту, Марию, связи дона Норберто и даже дона Хасинто, священника.
Женщины ничуть не удивились его словам, выслушали все, как само собою разумеющееся, и, когда он кончил, Мария де лос Ремедиос сказала так, словно все это давно меж ними было решено:
«Не стоит об этом думать, Маноло. Ты можешь оставаться здесь до тех пор, пока сам не решишь, что тебе делать. Такова была воля Хулиана, а нам твое общество нравится».
Теперь – точно так же, как прежде это делал Рамалес, – женщины приносили ему книги, которые он просил, и жизнь его стала немного более приятной и менее одинокой. Теперь, если не было опасности, он обычно находился наверху и ел вместе с матерью и дочерью.
Со временем он заметил, что стал своим человеком в этой семье. Единственным мужчиной в этом доме. Без всяких усилий, не выходя за рамки своего положения незваного гостя и ни на что не претендуя, он превратился в человека, которого обслуживали и с которым обо всем советовались.
И однажды ночью – это случилось совершенно естественно и до той поры было единственной недостающей деталью, единственным, в чем он еще не заменил Хулиана, – однажды ночью Пучадес заснул наверху, в той самой постели, где прежде спал Рамалес.
Ни разу донья Мария-старшая не подала виду, что все знает. Пучадес часто думал об этом. Какие убеждения, какие доводы разума приводила мать в оправдание такого положения вещей? Когда он спрашивал об этом свою любовницу, она неизменно отвечала: «Мама хочет одного – моего счастья».
Долгие годы эта любовь заполняла жизнь Пучадеса. «Впервые встретил я женщину точь-в-точь по мне», – с удовлетворением думал он… А Мария была сама плоть, и жила она только для любви. Постель была центром и в ее доме, и в ее сознании. На всем белом свете она видела только мужчину, с которым спала. И потому «увидела» Пучадеса лишь в момент, когда умер ее мужчина. Бедный Хулиан, окоченевший и вытянувшийся в постели, больше ей не годился. Вероятно, она и сама не знала, что это была за глубинная, нутряная сила, которая вдруг «открыла», что в доме есть другой мужчина. Другой садовник для ее вечно жаждущего сада… Пучадесу не раз приходило в голову, что Марии де лос Ремедиос безразлично, что за мужчина: ею двигала такая примитивная биологическая страсть, что она вслепую, не глядя, искала тело мужчины – не лицо и не человека, а тело. Несомненно, мать, донья Мария-старшая, догадывалась об этой доходившей до умопомрачения страсти дочери. Нет, виною тому не были несбывшиеся мечты о материнстве, в котором Марии де лос Ремедиос «было отказано», как сказал однажды Хулиан. Пучадес никогда не слышал, чтобы она говорила о детях. Для нормальных женщин, матерей, желание – всего лишь путь к цели. Для Марии де лос Ремедиос оно было и путем, и конечной целью.
К началу шестидесятых годов у Пучадеса наступил кризис. Тяжелый и неминуемый. Он вдруг ощутил всю тяжесть и безнадежность двадцати минувших лет. Он интуитивно чувствовал, что расплатился за свою «вину» с лихвой… Он видел в газетах и журналах работают люди, с которыми он вместе воевал и которые значили тогда «меньше, чем он». К тому же не знающая устали и передышки механическая, исступленная страсть Марии де лос Ремедиос наскучила ему до отвращения. А когда потеряла силу эта единственная приманка, которая помогла ему вынести двадцать лет заточения, все стало для него мрачным и никчемным.
Женщины тотчас заметили его состояние и попытались надавить на него, стали следить за каждым его шагом. «Боятся, наверное, – думал Пучадес, – что стоит мне оказаться на свободе, выйти из этого дома, как чары рухнут». С той минуты все планы Пучадеса относительно того, чтобы жениться и легализовать своё положение, были заморожены.
В последнее время отношения стали такими напряженными, что Маноло по нескольку дней не поднимался «наверх», сидел безвылазно в своей могиле, стены которой теперь давили на него, как никогда.
Развязка наступила, когда он заметил, что ему подтасовывают информацию. Во всех газетах и журналах, которые до него доходили, не хватало страниц. В ответ на его возражения женщины слабо оправдывались. Как в прежние времена – вспомнились тревожные дни после окончания мировой войны в 1945 году, – он начал ловить по радио зарубежные станции. И тут же обнаружил причину «цензуры». Оказывается, законом снималась вся ответственность за участие в войне. Он ничего не сказал. Но всю ночь не сомкнул глаз. Наконец решил: надо что-то делать, позвонить кому-нибудь, попросить помощи. Но кому? Разумеется, единственным друзьям «той» поры, чей адрес он знал. В последние годы он несколько раз звонил Пелаесам, но не говорил ни слова, только желал убедиться, что они живы. Однажды к телефону подошла служанка, и он узнал, что Мария не замужем. Главное: она свободна. Итак, лучше всего – убежать… Но, разумеется, это было невозможно. Ему и шагу не давали ступить. Теперь он был самым настоящим заключенным. Оставалось ждать оплошности с их стороны и тогда позвонить по телефону. Так и случилось. В тот день во время сиесты, когда он знал, что обе его тюремщицы спали наверху в гостиной, он тайком тихонько поднялся наверх и набрал номер Пелаесов. Подошла к телефону Алисия. «Это Маноло, Маноло Пучадес. Пожалуйста, вызволите меня отсюда. Я заперт, приезжайте сейчас же… Мария, это ты, Мария? Это Маноло, твой Маноло, приходи, скорее приходи…» Он едва успел сказать им адрес. В дверях появились встревоженные Мария де лос Ремедиос с матерью. Они не проронили ни слова, только стояли как стража и ждали, а когда он спустился в подвал, впервые за тридцать лет заперли его на ключ. Полчаса спустя дверь отворилась, и в нее втолкнули двух старушек, перепуганных, но державшихся с комической отвагой. Узнав их, он пережил самое странное ощущение в жизни. Он не воспринял их как тех самых сестер Пелаес, которых в последний раз он видел в июле 1936 года, но только на тридцать четыре года старше. Нет, это было иное: ему показалось, что он видит тридцать четыре года истории во плоти, и во плоти конкретной; истории, принявшей облик мумий, которые сбежали из Эскуриала или другого подобного места. Он видел невозможное: историю воскресшую, вылезшую из гробниц, из музеев, сошедшую с картин, историю морщинистую, мрачную, без ореола. Одряхлевшее время, волшебным образом вернувшее себе облик, но облик самый жалкий – облик мертвечины. Глядя на них, как в зеркале видел он, что и сам так же разрушен и мертв, видел свою безвозвратно пропавшую жизнь. И Испанию, которая жила без него, без него постарела и увяла. Они были символом всего того, чего не смог прожить он. Останками того, что прошло и никогда уже не вернется…
Пучадес спустился на землю, услыхав, что говорила Мария, и это ему показалось трагической правдой.
– Конечно, если бы он любил, – выдохнула Мария, – за тридцать лет можно было найти случай… У нас через папу были знакомства с людьми, которые находились у власти… За тридцать лет…
Пучадес все стоял у окна. Алисия разглядывала свои руки. Мария сидела, надувшись, как ребенок. А Плинио вспоминалась комната духов и кукла в форме республиканской армии с фотографией на шее и матерчатым сердцем с надписью.
Эти тридцать лет для Пучадеса были тридцатью годами молчания. А для Марии де лос Ремедиос – тридцатью годами владычества. При этой мысли Плинио почувствовал озноб, «озноб истории», подумал он про себя.
У Марии вырвалось рыдание – сухое рыдание, без слез, как удушье.
На мгновение Пучадес обернулся, поглядел украдкой и снова вернулся в прежнее положение.
– Мария, ради бога, – не очень убедительно попросила Алисия.
– За тридцать-то лет… тридцать лет!.. тридцать лет! – повторяла Мария с детским упрямством. – Не нашел времени известить меня… Вы верите этому, Плинио? А теперь к чему это? Посмотрите, Мануэль: мое лицо все в морщинах… Теперь – что? – закричала она вдруг с надрывом. – Я так мечтала о детях! – И, упав грудью на стол, она хрипло зарыдала, выплакивая черную, глубокую, тридцатилетнюю тоску.
Плинио вопросительно посмотрел на Алисию. Та лишь пожала плечами, словно говоря: «Бедняжка, это естественно… Она – другая, не то что я». Потом погладила Марию по голове:
– Успокойся, Мари, успокойся. Никогда не бывает слишком поздно…
Мария выпрямилась, полные слез глаза смотрели жестко, рот перекосился от ярости; срывающимся, визгливым, нелепым голосом она заговорила, глядя в спину Пучадеса:
– Маноло, поклянись, поклянись мне твоими покойными родителями, что ты никогда ее не любил. Это все она. Она, она тебя заставила! Поклянись мне…
Мужчина не ответил и не обернулся, только в глухом отчаянии положил обе руки на оконные стекла, как, наверное, делал тысячи раз за эти тридцать лет, выражая свое бессилие.
– Пожалуйста, Мария, перестань! – крикнула Алисия, вставая и пытаясь усадить сестру. – Заклинаю тебя памятью наших родителей, перестань!
Но в Марии, такой опрятной, такой рыженькой, словно проснулась и била ключом необоримая энергия.
– Поклянись мне!
Пучадес стоял, не двигаясь.
Алисия обняла сестру и, плача, тоже в отчаянии, гладила ее и целовала в лоб:
– Мари, ну прошу тебя, памятью мамы. Ну перестань, Мари… Мари… сестренка. – И целовала ее с такой нежностью, и плакала так горько, что Плинио почувствовал, как во рту у него пересохло, а глаза намокли.
– Мари… Мари… памятью мамы прошу. Зачем тебе это? Главное, что мы с тобою вместе… У нас есть наш дом, наша жизнь, наши мертвые…
И наступил момент, когда напряжение Марии спало, она обняла сестру. Они застыли так на несколько мгновений – в слезах, рыжие пряди волос смешались, соединились в одно, их одинакового цвета платья, их похожие лица и всхлипывания слились в унисон. Алисии наконец удалось усадить сестру, а сама она осталась стоять рядом и гладила ее, поправляла, приглаживала ей волосы.
Маноло упорно не двигался с места. Плинио машинально достал табак. Последние солнечные лучи копьями падали в окно, кровавым нимбом ложились вокруг фигуры Пучадеса.
В этот момент дверь, через которую вошел Плинио, рывком открылась.
Вошли донья Ремедиос дель Барон и ее мать. Мать сжимала в руках двустволку. Впервые на лице ее было удовольствие, а в глазах – что-то вроде радости. Быть может, сама ситуация, а может, ружье в руках принесли ей облегчение, и оно проступило на ее угловатом и злобном лице. Плинио, как бы глядя на все со стороны, рассмеялся в душе, увидев этих двух женщин, одетых для выхода, нарядных, с охотничьим ружьем в руках. Мария де лос Ремедиос была спокойна и, как всегда, прилична до приторности, хотя и не улыбалась. Старуха целилась именно в Плинио.
– Спокойно. Вы к этому делу отношения не имеете, – сказала мать хрипло, но в этой хрипотце сквозило, как уже говорилось, удовольствие.
Плинио, который при их появлении поднялся с места, продолжал стоять, положив обе руки на спинку стула.
Теперь заговорила донья Мария де лос Ремедиос; она убеждала, глядя на Пучадеса, который так и не отошел от окна, но с того момента, как вошли женщины, повернулся в четверть оборота в сторону двери:
– Ну, пора. Если хочешь ехать, то пора. Выбирай сам. Они свидетели – я тебя не неволю. Настала пора выбирать, по какой дороге в жизни ты пойдешь. Либо ты едешь, либо остаешься с этими. – И при словах «с этими» на ее всегда учтивом лице мелькнуло презрение.
Пучадес слушал ее с волнением, но без боязни. Казалось, он был почти тверд.
– Ты прожил со мной тридцать лет, и притом с большим удовольствием, правда, жил немного в необычных условиях, но им ты обязан своими распрекрасными идеями. И вдруг ни с того ни с сего позвал их. Вот они. Ну так прошу – выбирай.
Должно быть, в мозгу Пучадеса в эту минуту происходила страшная борьба – бились сравнения и воспоминания, желания и стремления, которые на протяжении их совместного заточения мучили и терзали его, хотя, наверное, и не с такой силой, как теперь. Он стоял не двигаясь, и лицо его ничего не выражало, но внутренний взор его был прикован к фильму, который разворачивался в нем самом.
– А вы, Мануэль, спросите его как представитель власти, – продолжала Мария де лос Ремедиос, глядя на Плинио, – едет он с нами или нет… Если он решит остаться, мы с мамой уедем прямо сейчас.
Видно было, как под белоснежной кожей женщины, в ее бурной груди, в каждом светлом волоске над губой, в потемках ее глаз билось и дрожало мучительное беспокойство, страх.
Плинио, казалось, сомневался. Не хотелось ему быть судьей в этой странной и печальной тяжбе. До смерти жаль сестер Пелаес, маленьких, сухоньких, то ли рыжих, то ли седых, таких ласковых, так свято хранящих память, но если бы коснулось его, если бы он, разумеется, был на месте Пучадеса и прислушался к биению собственной крови, то он, пожалуй, нет, совершенно точно, – он бы ушел с полнокровной Марией де лос Ремедиос… А уж там бы решил, что делать с этой жердью, сжимавшей сейчас в руках ружье. Но ушел бы – как пить дать. И заметил – разумеется, в том повинны были его мысли, а не драматическая ситуация, – заметил, что улыбается или, вернее, вот-вот улыбнется, и потому, глядя на Пучадеса, пробормотал:
– Сами смотрите, приятель… Я тут не властен.
Но еще до того, как Плинио окончил фразу, бедняга решился. Очень медленно, стараясь не глядеть в глаза сестрам Пелаес, он наклонился, поднял с пола толстый портфель, который, видимо, заранее был приготовлен и лежал под тахтой, и, не говоря ни слова, шаркая ногами, словно ничего не замечая вокруг, ни на кого не глядя – даже на тех, кто стоял перед ним, – пошел к двери. Те посторонились. Он вышел. Мария де лос Ремедиос мгновение колебалась. Потом немного смущенно, но с глубоким удовлетворением проговорила:
– Прошу простить меня за все. Убедительно прошу. Сожалею, что приходится вас запирать, но ничего не поделаешь. Если надо, я готова отвечать перед законом. Прощайте, Мануэль.
И поспешно вышла. Мать, не переставая целиться, задом попятилась к двери, отступила на шаг за дверь и с силой захлопнула ее. И тут же они услышали, как повернулся ключ в замке дальней двери.
На протяжении всей этой сцены Плинио не смотрел на рыжих сестер. Только знал, что они молчали, все время молчали. Наверное, в эти минуты сердце Марии готово было разорваться, выскочить из груди. А может быть, нет, может быть, после той яростной вспышки она будто омертвела, и теперь все вокруг казалось ей не более чем спектаклем в театре теней.
Но едва затихли шаги и шум, как она опять запричитала:
– Я так и знала… так и знала… так и знала… так и знала… – Она говорила, а сама прижимала руки к животу и раскачивалась взад-вперед, будто ей было больно, или же она собиралась с силами, чтобы броситься на другой край стола, или же дрожала в ознобе.
– Я так и знала… так и знала… так и знала… – говорила она, не отрывая взгляда от разбросанных по столу карт. – Я так и знала… так и знала… так и знала.
Солнце уже зашло, и в комнате почти стемнело. Алисия сидела, сжав голову руками, сумерки стерли черты ее лица.
И, словно продолжая прерванный надолго монолог, Алисия, воспользовавшись тем, что сестра на минуту затихла, заговорила:
– Ясно, что после его звонка мы должны были сообщить в полицию… А мы пришли одни. Спешили, не подумали как следует… Открыла старуха, и мы спросили, здесь ли он. «Эти сеньоры спрашивают Маноло, – сказала старуха его любовнице. – Это им он звонил по телефону». – «А, очень приятно, проходите, проходите». Меня очень удивила такая любезность, но Мария ужасно волновалась… «Проходите, проходите, будьте так любезны, идите за мною, я провожу вас к нему… проходите, проходите…» Мы дошли до помещения, где у них сыры и бочонки с вином, и там она нас заперла… Какие мы несчастливые, какие неосмотрительные. Мы всегда были неосмотрительны, Мануэль.
– А он? Что было, когда он увидел вас?
– Все было. Сперва он удивился. Потом страшно обрадовался. Мы все говорили и говорили. До позднего вечера, когда старуха принесла ужин и оставила нас одних. На следующий день повторилось то же самое. Его немного удивило, что ничего не происходит. Мы сказали ему, что нам надо домой и чтобы он поговорил с этими сеньорами и нас бы отпустили всех троих, а мы никому ничего не скажем. Когда на следующий вечер старуха снова принесла нам ужин, он сказал ей, что хочет поговорить с Марией де лос Ремедиос… Он ушел с нею и не возвращался до рассвета. С тех пор все стало очень странно. Он стал ходить туда. Он, как прежде, слушал нас… улыбался. Но это был уже другой человек. Все следующие ночи – когда он считал, что мы заснули, – он на цыпочках выходил из комнаты. Все, кроме одной, когда Мария де лос Ремедиос уезжала в Томельосо. Наверное, когда он звонил нам по телефону, то не подумал, что время шло для нас точно так же, как и для него.
– Они все приготовили, – вступила вдруг в разговор Мария. – Я догадывалась, но чтобы так… если бы я знала! – На лице ее появилось выражение смирения. Она продолжала: – Верила, как ребенок.
– Мы обе такие.
– Теперь они, наверное, поженятся.
– Всю жизнь мы, как дети, верили, мечтали…
– Конечно, каждому хочется верить. О, господи!
– Прошлого не вернешь… – заговорил Плинио убежденно, что вполне подходило к этой обстановке откровенности в почти полной темноте. – Все, что произошло, – просто печальный случай, который следует забыть. Вернетесь к себе домой и станете жить по-прежнему, в мире, и к черту выбросьте из головы эту историю тридцатилетней давности. Хватит нам мучиться прошлым. У нас нет в запасе еще тридцати лет, и нельзя жить так, изо дня в день давая себя грызть одному и тому же тарантулу.
– Что вы сказали, Мануэль, насчет тарантула? – спросила Мария, которая в это время отвлеклась.
– Я говорю, что для вас, в сущности, ничего особенно не изменилось. Вы считали его умершим, так поймите же, что он и на самом деле мертв. Испания полна ходячих мертвецов вроде него.
– Мертвецов, которые вроде бы живут, как мы, – повторила Мария.
– Нет, к вам это не относится. Для вас жизнь, со всеми ее самыми страшными трагедиями, что-то вроде истории, рассказанной по радио.
– Я всю жизнь прожила с этой памятью, Мануэль.
– И можете продолжать жить дальше. Ваш прежний жених не имеет ничего общего с человеком, который только что ушел отсюда. Тот был человеком, а этот – обносок истории, осадок от трагедии, который никогда уже не сможет вернуться к своему естеству.
– Не понимаю вас, Мануэль, – сказала вдруг Алисия.
– Я все о том же, сеньорита. Ничего страшного не произошло.
Зажгли свет. Мария еще долго оставалась так – ничком на столе. Алисия несколько раз принималась за пасьянс. Плинио без устали ходил по комнате, куря сигарету за сигаретой.
Часов около одиннадцати Плинио принес из подвальчика половину окорока, сыр, несколько кистей винограда и вино. Алисия разложила все на тарелках, которые оказались под рукой. Ели без хлеба, молча. Мария не выходила из оцепенения.
– Вы думаете, сегодня же ночью за нами придут и выпустят? – несколько раз спрашивала Алисия.
– Уверен. Не знаю, почему задерживаются, но уверен, что придут.
Когда поели, Алисия заставила Марию лечь в постель. Потом они с Плинио сидели, вспоминали селение. Перевалило за полночь, и она снова взялась за пасьянс. Плинио вспомнил, что в кармане у него письмо, которое ему дали, когда он уходил из гостиницы. Он вскрыл письмо, надел очки и стал читать про себя:
«Дорогой папа! Что же это Вы? Столько дней в Мадриде – и ни одного письма! Правильно мама говорит, не охотник Вы письма писать, разве только крайняя нужда. На днях мы чуть было не собрались к Вам. А когда подо шло время ехать, раздумали. На кого оставить хозяйство?
Я встретила дочку Антонио Фараона, и она рассказала, что отец звони, и сказал, что у Вас там все в порядке. Мама говорит, чтоб Вы с ним не очень то, а то он сорит деньгами и вообще греховодник.
Вчера обрызгивали ртутью и подвязывали лозы. Вычистили все как следует, а то уже на некоторых кустах вредитель завелся, а потом покрыли все пластиковой пленкой, как Вы сказали. Посмотрим, что получите к Пасхе.
Мама говорит, чтобы Вы обязательно купили костюм, а то Вас теперь будут вызывать то и дело, и не годится ходить все время в одном и том же.
Вечера теперь холодные, и мы не выходим из дома, сидим смотрим телевизор. Иногда приходит дочка Ортенсии и смешит нас ужасно – рассказывает, как ее дядька с теткой ссорятся. Чудом друг дружке фонарей ставят.
А еще вот что: Адольфо, сын Игнасии, купил машину, так себе – маленькую, наверное, на выручку от урожая. И глаза бы Ваши на это не глядели. Весь божий день он с женой и двумя детьми катается в своей жестянке по селу. А когда накатаются, то, хоть ночью, все семейство вылезает на середину улицы и принимается мыть и тереть ее до блеска, как будто это не машина, а бог знает что.
Мама чувствует себя неважно. Хоть она и не говорит, я знаю: как всегда, к перемене погоды у нее ноют суставы. Я-то вижу. Но это дело обычное, ничего страшного.
На днях кум Браулио принес мне попугайчика. Я посадила его в клетку канарейки Кануто, которая умерла. Поет он мало и плохо, но очень веселый, особенно по утрам. Я никогда не видела попугая близко, он такой смешной, клюв у него кривой и приплюснутый.
Вот и все. Больше писать нечего. Предупредите, когда Вы приедете, мы приготовим на обед или на ужин то, что Вам нравится, да приезжайте поскорее, мы уже соскучились по Вас до смерти. Привет дону Лотарио, от мамы большой привет, целую Вас, Ваша дочь А.».
Письмо растрогало Плинио, он вспомнил своих женщин, вспомнил свой двор и просторную кухню, где проходила их жизнь, и покойное сельское житье-бытье, когда жизнь течет себе помаленьку, и ничего не случается, и дни бегут за днями, как хоровод огней, бесшумных и невесомых. Изо дня в день все та же башня на площади, тот же закат и та же песенка приветствий на каждом углу. Все так спокойно, так неизменно ясно. Плоть только подводит – меняется. На фоне неменяющегося пейзажа тела людские обветриваются и сохнут, пока не примут смерть. Все тут сплетено из круговорота и повторения похожих теней, слов, лиц, фасадов домов и рассказов. Площадь, казино, муниципалитет – ось этой карусели ровных огней, одинаковых приветствий, улыбок, колокольного звона, собачьего лая и автомобильных выхлопов. Около двенадцати дон Исидоро выходит на балкон. Маноло Перона идет в казино. Сменяется караул, люди идут в магазины. Каждый день ходят в магазин. Дон Сатурнино, проезжая по площади, обязательно высовывается в окошко машины посмотреть который сейчас час. Священники прогуливаются по площади, полы их сутан развеваются. Если кто-нибудь из них умрет или уедет отсюда, на его место явится другой, но всегда под вечер, на закате, по площади будут прогуливаться священники в развевающихся сутанах. Каждый год наполняются вином бочки и каждый год опоражниваются. Наступает ночь, площадь пустеет, все расходятся по домам, на боковую. Сейчас «его женщины» спят. Грегория вздыхает во сне. А дочка Альфонса? Интересно, когда пропадает тот узкий лучик света, что пробивается в окно ее комнаты?
Он спрятал письмо. Еще раз посмотрел в окно. Окно выходило на задний двор, и потому ничего не было видно, да их и не увидят если только не обойдут дом вокруг. За домом несколько старых сосен, нестриженая трава и неухоженная живая изгородь.
Он оглядел книжные полки Пучадеса. Книги, книги. Книги, накопившиеся тут за тридцать лет, книги, купленные на деньги Марии де лос Ремедиос. Большинство – иностранных авторов, имена которых Плинио ни о чем не говорили. Кипы журналов – испанских и иностранных. Тахта. Сколько часов провел Пучадес на этой тахте, читая, думая, сходя с ума, за эти бесконечные, до невозможности бесконечные тридцать лет, в обществе этой потрясающей женщины – Марии де лос Ремедиос, такой бело-розовой, плотской вдовицы, одинокой со своими грудями, точно гроздья лозы, и садом своего лона. Сколько ночей, сколько вечеров, сколько утренних часов за эти тридцать лет провел он, думая о том, что было раньше и что могло быть, не замечая того, что на самом деле происходило вокруг: слушал по радио веселую, ничего не говорящую музыку, так, словно ничего не случилось, словно все было в полном порядке, а сам он сидел и пил пиво на террасе где-нибудь на Гран-Виа… Тридцать лет, тридцать лет, на протяжении которых рождались и умирали люди, а он все тридцать лет – в этой комнате над журналами в ожидании молочно-белого ненасытного тела Марии де лос Ремедиос дель Барон, полногрудой и полнокровной в ее поре женского заката, ни с того ни с сего красневшей так, что бисеринки пота выступали на светлых волосах над верхней губой, и с этими ее глазами, точно два мрачных тупика, длиною в тридцать долгих лет…
Была полночь, Мария спала в постели. Алисия, уткнувшись головою в стол, спала или делала вид, что спит. Плинио расхаживал по комнате; потом подошел к постели Марии. Она лежала, до пояса укрытая одеялом. Рыжие волосы с седыми прядями разметались по подушке. Она лежала лицом кверху. Маленькие глаза закрыты. Рот полуоткрыт, так что видны частые зубы. Морщинистая, красноватая кожа. Время от времени веко нервно подергивалось. Дыхание мерное. Иногда с хрипотцой. Все, что было в ней привлекательного в молодости, унесли парки. Осталась высохшая гримаса былого. Все сморщилось; уменьшилось в размерах, потеряло жизненные соки, стало смахивать на карикатуру, как затрепанная кукла. Плинио почувствовал прилив нежности. Ему захотелось поцеловать ее в лоб. Он представил самого себя, двадцатилетнего, рядом с тем, каким он был сейчас. «Время, которое прошло для нее, свежесть и жизненные соки, которые ушли, точно так же ушли и у него. Они вместе и по одной дороге приближались к смерти. А Мария де лос Ремедиос принадлежала к другому времени, ей еще жить да жить, пока она вот так же высохнет и придвинется к смерти. Лет четырнадцать пройдет, пока она начнет высыхать, как Мария. Может быть, Пучадесу больше нравился образ жизни рыжих сестер, быть может, ему и хотелось бы жить их жизнью, но разница в годах – конечно, она все и решила. И потом, как знать, какие силы, диковинные привычки выковала, как духовно и биологически привязала его к себе навсегда эта женщина, которая так щедро наделена страстью и так четко знает, как идти к намеченной цели. С рыжими сестрами, с Марией его связывало лишь зыбкое воспоминание, словно кадры давнего прекрасного фильма тридцатых годов. Сестры были существа пассивные, раз и навсегда приникшие к поверхности вещей, к своим крохотным воспоминаниям и привязанностям, и сами они так и не двинулись вглубь с поверхности, не познали вулканов смерти и судорог страсти. Обычные люди, незначительные, с крохотными запросами. Без ада внутри. А Пучадес всю жизнь не мог отделаться от страданий, пережитых в тридцатые годы, заключение его сломило. Он уже не смог бы господствовать, не смог бы проводить нескончаемые вечера на улице Аугусто Фигероа в обществе двух морщинистых женщин без ада внутри. Ему необходимо было остаться в тюрьме, которая началась в 1939 году. Для свободной жизни он больше не годен».
Около часа ночи Плинио, опершись щекою на руку, задремал. Он как раз видел во сне еду и какую-то рыжую зайчиху, когда ему послышался шум. Он встрепенулся, протер глаза и открыл окошко. Где-то далеко, словно в соседнем квартале, слышались голоса, стучали в дверь. Он зажег лампы в спальне над железными кроватями, включил свет в погребке, открыл окна. Только таким образом мог он дать знать, что в доме кто-то есть. Время от времени доносились голоса, шаги, шум. Иногда вдруг все смолкало, а потом слышалось снова. «Должно быть, ветер относит», – подумал Плинио. Алисия протерла глаза и спросила без всякого выражения:
– Уже?
– Как будто.
Плинио продолжал вслушиваться. Теперь казалось, будто где-то далеко стучали во что-то металлическое.
Алисия поправляла волосы перед зеркальцем, которое стояло на книжной полке рядом с фотографией родителей Пучадеса. Потом подошла к сестре. На лбу у Марии выступил пот. Сестра погладила ее нежно и жалостливо. Мария открыла глаза и отсутствующим взглядом посмотрела на Алисию. Веки у нее покраснели, губы пересохли. Некоторое время она лежала так, не понимая, в чем дело, и ни слова не говоря. Плинио наблюдал за ними со своего места.
– Вставай, Мария, поднимайся, дорогая, кажется, они уже тут. Мария машинально поднялась, села на край постели и энергично провела рукой по лицу.
Плинио, стараясь совладать с жалостью, силился вспомнить их молоденькими на сельской площади, с родителями у фонтана, такими, какими они выглядели на фотографии в их доме на улице Аугусто Фигероа… «Родители должны умирать молодыми, чтобы не видеть, как дети, самая большая их любовь, страдают, терпят те же разочарования, испытывают такую же тоску и те же горести. Детей надо оставлять, пока они во цвете лет. Пока они еще верят, что жизнь такая, какой они ее себе представляют. И пока сами мы думаем, что для них она может быть иной. Когда человеку не удается в жизни то, о чем он мечтал, он втайне надеется, что это удастся его детям, но чудеса случаются редко. Жизнь наша в обществе, в том обществе, где мы живем и мучаемся, что кусок железа на наковальне, всех нас бьет и колотит, сгибает в бараний рог, и к концу мы приходим потрепанные, смирившиеся и печальные».
Ясно было, что никто не догадался обойти дом вокруг. Освободители находились справа, у парадного входа, если судить по тому, откуда доносился стук Воспользовавшись минутным затишьем, Плинио вложил в рот два пальца и свистнул так, как случалось ему свистеть, когда он, находясь в дверях казино «Сан-Фернандо», хотел позвать муниципальную стражу. Получилось очень здорово, пронзительно. Он свистнул еще несколько раз. Наконец в саду послышались шаги. Плинио свистнул еще раз.
– Мануэль… Мануэль… Мануэль!
Он не мог ошибиться. Это был дон Лотарио.
Плинио припал лицом к решетке.
И действительно, показался луч света, а за ним семенил дон Лотарио. Рядом, вприпрыжку, Луис Торрес.
Плинио просунул руку сквозь решетку.
– Мануэль, Мануэль. Вот так черт! У тебя все в порядке?
– Устал ждать.
– Ты правда в порядке, Мануэль? – не унимался Луис.
– В порядке, в порядке, давайте же входите наконец.
– Мы приехали сюда в половине двенадцатого. Стучали, стучали – никто не открыл. Пришлось ехать обратно в Управление за людьми и за инструментом.
– Сестры Пелаес тут, Мануэль?
– Тут. Значит, так: пройдете почти весь дом, там будет застекленная галерея, а в конце – несколько ступенек, они и ведут в этот полуподвал.
– К вам уже пошли.
– А донья Мария де лос Ремедиос где? – поинтересовался Луис.
– Она уехала. Я потом все расскажу. Ну, давайте скорее, сил нет, хочу выйти из этой тюрьмы.
Сестры Пелаес, насколько это было возможно, уже привели себя в порядок. Теперь они сидели, прямые и серьезные, сжимая в руках сумочки. Алисия вдруг открыла свою и осторожно вынула пистолет.
– Возьмите, Мануэль. Отец говорил, что это хороший пистолет. На нем какая-то инкрустация. Если это не противозаконно, я дарю его вам в память о недобрых днях, которые мы заставили вас пережить.
Плинио осторожно осмотрел оружие и спрятал его во внутренний карман пиджака.
– Хорошая вещица. Не знаю вот только, что на это скажут в Управлении. Как бы то ни было – большое спасибо.
Шум, удары и звуки шагов раздавались уже совсем близко. Наконец добрались до дверей погребка. Плинио выглянул в окно. Пробовали отмычки. Сестры Пелаес тоже подошли к нему и с детским любопытством наблюдали. Через несколько секунд замок щелкнул.
Первым вошел худющий полицейский с отмычками. За ним – толстый Хименес. За ними ввалились дон Лотарио, Луис Торрес, Хасинто и Веласко – тот, у которого глаза с поволокой… Последним, сжимая в зубах кусок сыра, – Фараон.
– Ловил, ловил – и доловился, – сказал он, не переставая жевать. – Вот и надейся на закон… Если бы не мы – сидеть бы тебе здесь до победы левых.
Все с любопытством разглядывали Плинио и сестер Пелаес, – все, кроме Фараона, который продолжал есть и острить.
– Ладно, толстяк, пошли, угостишь лас всех горячим шоколадом в «Сан-Хинесе». Пока я тут сидел, горячего во рту ни крошки не было, – сказал Плинио.
– Замётано. Мы ведь тоже – сперва ждали, а потом вызволяли и тоже без ужина остались.
– Ну, тронулись, – скомандовал Хименес с сонным выражением лица.
Сестры Пелаес шли под руку, прижавшись друг к другу, и наверняка чувствовали себя неловко от того, что они одни в окружении сразу стольких мужчин, да еще в ночную пору.
Дом доньи Марии де лос Ремедиос тонул в потемках. Огоньки соседних домов светились далеко. Было свежо. Худой полицейский завязал цепочку, запер решетчатые садовые ворота виллы «Надежда».
Немного потеснившись, все расселись в полицейских машинах и тронулись в сторону Мадрида.
– Еще одно дело распутал, Мануэль, – сказал Фараон, дожевывая кусок сыра, который он на ходу успел ухватить в погребке.
– Да. Ты уже говорил.
– Кто может – побеждает, а кто не может – пусть скребет затылок.
Въехали на площадь. Плинио окинул ее взглядом – быть может, последний раз в жизни. Опять ему припомнилась лавочница с пучком на затылке, праздник Святого Петра и сам он, солдат, сидящий на церковной ограде, которой давно уже нет и в помине… Он отвернулся, покорно закурил папиросу и стал смотреть вперед, чтобы отделаться от тоски по сгинувшей молодости… «Завтра надо будет заказать костюм в мастерской Симанкаса».
– Я бы не хотела ни в чем обвинять этих людей, – сказала Мария. – Можно так устроить, Мануэль?
– Посмотрим, что можно сделать. Не беспокойтесь.
Он откинулся на спинку сиденья и в первый раз с того момента, как вышел из «Мадридского казино», почувствовал, что доволен жизнью.