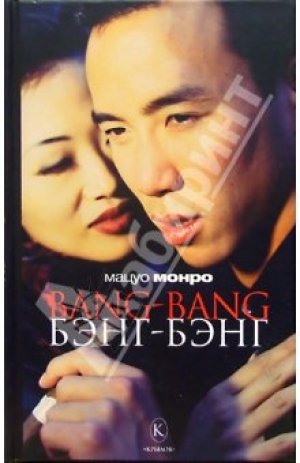
Говорят, за мгновение до смерти человек вспоминает всю свою жизнь. Байки. Мне в лоб упирается прохладный, пахнущий оружейной смазкой ствол Sigma 40 P. А я смотрю на палец, лежащий на спусковом крючке. Мне приходится скосить глаза. Палец слишком близко. Сине-зелено-красный ноготь. Маникюр в стиле nail-art. Я смотрю на этот ноготь и думаю, что с лаком она промахнулась.
Железо давит на точку, где у просветленных парней обычно рисуют третий глаз. Через секунду мои мозги окажутся на стене. А мне не дает покоя ее лак для ногтей.
Может быть, воспоминания придут позже. Когда ее палец приведет в действие ударно-спусковой механизм пистолета.
Боек бьет по капсюлю, порох воспламеняется, выталкивает из гильзы пулю со стальным сердечником, та проходит по каналу ствола, крутнувшись вокруг своей оси, и, как буравчик, вкручивается в череп.
Возможно, в этот миг я и вспомню свою жизнь…
— Бэнг-бэнг, — говорит она.
При выстреле в упор на коже остаются следы пороха. Во лбу у меня будет аккуратная дырка, а по краям — обожженная пороховыми газами кожа. На стене — красно-серая клякса с белыми осколками… Тоже своеобразный nail-art.
— Как тебе это понравится? — спрашивает она.
Это мой коан.
Те, у кого открылся третий глаз, сидят на цветке лотоса… Почему бы нет? Не исключено, что все мы в момент смерти становимся просветленными. Нет никого, кто бы это опроверг.
— Меня ждет цветок лотоса, — говорю я.
Бэнг-бэнг…
Глава 1
Девушка по имени Кобаяси Юрико вертит в пальцах серебристую коробочку сотового телефона NEC. Телефон отключен. Там, где мы находимся, принято отключать телефоны, чтобы не мешать своим друзьям. Мы все здесь друзья. Да что там! Почти братья… Так принято говорить, так принято считать, в это принято верить, когда приходишь сюда. На самом деле, на каждого присутствующего мне откровенно наплевать. Разве что кроме Юрико… Впрочем, они относятся ко мне точно так же, поэтому вполне можно говорить о какой-то справедливости.
Когда мы выйдем отсюда, — когда вылезем из уютных эргономичных кресел с обивкой флок, трогательно попрощаемся друг с другом, выйдем из душной комнаты, спустимся по лестнице и окажемся на улице, пройдя через крошечный холл, пахнущий апельсиновым освежителем воздуха, — тогда мы вмиг перестанем быть друзьями. Помощниками, наставниками, последними надеждами, единственными отдушинами, судьями и палачами друг друга. Ими мы перестанем быть. И превратимся в тех, кем на самом деле являемся — в людей, вынужденных обратиться в группу психологической поддержки из-за того, что жизнь кажется им немного дерьмовее, чем всем остальным.
Нас нужно психологически поддержать. То есть внушить, что наша картина мира ошибочна, что те мысли, которые приходят каждому из нас по ночам — всего лишь результат небольшого сбоя в программе, написанной неизвестно кем.
Попробуйте посмотреть на ситуацию с другой стороны…
Напишите все утверждения, которые приходят в голову, когда вы думаете о своей жизни…
Нарисуйте все, что вы чувствуете, когда на вас повышает голос начальник…
Примерно так это выглядит. Избавление от вопросов, на которые нет и не может быть ответа. Ведь именно эти вопросы и делают нас больными.
Психологический тест предлагает исключить из трех предметов один, не вписывающийся в общий ряд. Предметы: ботинок, карандаш и линейка. Здоровые люди исключают ботинок, остается карандаш и линейка. Объяснение — это чертежный набор. Люди с проблемами ставят в один ряд карандаш и ботинок, потому что тот и другой оставляют след. Это так, по поводу ошибочной картины мира…
Есть, правда, еще один вариант — ботинок и линейка, потому что и то, и другое связано с понятием «размер».
Этот ответ придумал я. Неудивительно, что теперь приходится проводить один вечер в неделю здесь, в комнате, специально оборудованной для проведения сеансов групповой психотерапии, в одной из муниципальных клиник Токио. Впрочем, даже если бы я дал правильный ответ на этот вопрос, ничего бы не изменилось. Больше чем в половине остальных случаев я все равно облажался.
Юрико Кобаяси вертит в пальцах телефон. Это — невербальный способ передачи информации. Попытка донести до нас что-то очень важное, какую-то потрясающе сложную идею, не доступную сознанию. Пока тонкие пальцы с коротко обрезанными ногтями посылают сигналы бедствия, их владелица Юрико говорит:
— Не то чтобы я не вижу будущего… Вижу, конечно, но оно устраивает меня гораздо меньше, чем настоящее. Нет желания двигаться вперед, понимаете? Я мечтаю о машине времени. Чтобы каждое утро, когда просыпаюсь, сразу перемещаться во вчерашний день. Только не подумайте, что будущее меня пугает. Я просто его не вижу таким, каким хотела бы видеть… Понятно, о чем я говорю?
Портрет Кобаяси Юрико. Ей девятнадцать. Но мини-юбка и обтягивающий топ смотрятся на ней, как школьная форма. Я думаю, что и в тридцать она сможет приклеивать к ногам гольфы, как школьница. И никто не заподозрит подвоха. Она работает продавщицей в аптеке своего отца, господина Кобаяси Дзиро, старого зануды с торчащими из носа седыми волосами. В свободное от работы время Юрико ест фисташковое мороженое, шляется по всем клубным вечеринкам или часами просиживает на берегу моря. В эти моменты у нее лицо чем-то озабоченного будды.
Убеждение, которое и привело в итоге Юрико в группу, сводится к тому, что… Впрочем, тут надо для начала дать небольшое пояснение. Простейшие организмы, вроде инфузории-туфельки, размножаются делением. Когда-то ошибка в ДНК привела к тому, что клетка простейшего однажды не разделилась, и образовалась колония таких неразделившихся клеток. Из поколения в поколение клетки колонии образовывали различные ткани и органы. Постепенно дело дошло и до человека.
Так вот, Юрико не устраивает факт, что она, по сути, является ошибкой ДНК простейшего микроорганизма. «Как-то глупо считать себя венцом творения и всем таким, если на самом деле являешься результатом элементарной ошибки, потомком дефективной бактерии, — считает она. — Никакие мы не божьи дети. А если не божьи, то и заморачиваться из-за своей ошибочной жизни не стоит».
Кто-то скажет, что такие рассуждения — полный бред. И я спрошу: а что вы хотели услышать от человека, который посещает сеансы групповой психотерапии?
Юрико нервно нажимает мертвые кнопки на телефоне:
— Мне, конечно, рано об этом задумываться, но все же… Какой смысл заботиться о будущем, если это будущее ходячей и говорящей ошибки? Не противно, поймите правильно… Просто неинтересно. Бывает, перед сном я закрываю глаза и пытаюсь припомнить хоть что-то, о чем было бы приятно подумать или помечтать. У меня ничего не получается. Абсолютно ничего. Полный мрак… Тогда я начинаю вспоминать, что удалось продать за день, чтобы заснуть.
Все сочувствующе молчат. На самом деле каждый просто ждет своей очереди высказаться. За возможность излить кому-то душу приходится платить выслушиванием чужих откровений. Каждый из нас моральный эксгибиционист, который ждет не дождется возможности скинуть всю одежду и предстать перед другими в своей отталкивающей душевной наготе. Обычные люди, живущие там, в большом мире, не выслушают и пары слов от такого парня. Потому что он ничего не сможет предложить взамен. Здесь — другое дело. Здесь действует железный закон: ты мне засрешь все уши, а я тебе. А потом мы, довольные друг другом, разойдемся по домам.
Юрико берет телефон за антеннку начинает крутить его между пальцами.
— Отец часто спрашивает меня, кем я хочу быть, чем хочу заниматься… Я знаю, он хочет мне помочь… Последний раз после этого вопроса я два месяца не жила дома. Как ему все объяснишь?… Что меня тошнит от его магазина и от него самого…
Тошнит, ага. Очень верное слово. Все, собравшиеся здесь могут подписаться под этим заявлением. Дистимия, дисфория, реактивная депрессия, невротическая депрессия, анестетическая депрессия, депрессия с нигилистическим бредом, психастеническая депрессия, ипохондрическая депрессия — это все мы, сидящие полукругом в уютных креслах, и не знающие, зачем проживать завтрашний день. И всех нас от чего-нибудь да тошнит.
Завтра здесь соберутся люди с зависимостями. Послезавтра — мужчины и женщины с различными фобиями. Еще через два дня — с синдромом суицида. Потом — люди с заниженной самооценкой, с болезнью Брике, неврастеники, психастеники, истерики. Комната пропитана ядовитыми испарениями признаний в таких фантазиях, мечтах, желаниях и поступках, что удивительно, как стены еще не разъело… Наши слова — отравляющие вещества высокой активности, наши мысли — концентрированная кислота, разъедающая мозг.
Мы молчим, а Юрико продолжает уверять нас в бессмысленности всего происходящего, будто мы в этом сомневаемся. Она говорит монотонно, словно повторяет сотни раз произнесенный текст:
— Вот так и получается, что мечтать мне не о чем, хотеть нечего, стремиться не к чему. Будущее меня не привлекает, а на настоящее наплевать. Я знаю, что это вроде как неправильно, потому и хожу сюда… С другой стороны, иногда мне кажется, что именно так и должно быть, а все мечты, желания и цели, которые есть у других — просто самообман.
Я думаю, что никакой не самообман. Это роскошь, которую себе могут позволить лишь те счастливчики, которые еще не получили свою порцию больших пинков. Которые еще верят в то, что им отвалится дармовщины. Не самообман, просто наивность, рожденная недостатком информации. Никакой дармовщины не будет, рано или поздно каждый получит свою порцию. И всерьез думать о том, в какой цвет ты выкрасишь стены будущего дома, все равно что, разгуливая по минному полю, перепрыгивать лужи, чтобы не замочить ноги.
Короче, насчет самообмана я с Юрико не согласен. Впрочем, ее это вряд ли огорчит. Ее волнуют совсем другие вещи, она делится с нами своими сокровенными фантазиями:
— Я думаю, что на самом деле было бы здорово выжить одной после какой-нибудь глобальной катастрофы. Чего-нибудь вроде мутирующего вируса гриппа, утечки ядовитого газа или бактериологической войны.
Тогда я бы вышла из дома и отправилась бы кататься по мертвым городам. Только там, как мне кажется, можно увериться в том, что человечеству пришел конец. Пустые дома, выбитые стекла, брошенные машины, мусор на тротуарах… Короче, вся эта ерунда, которую показывают в фильмах про апокалипсис. Вокруг тихо… Только ветер и шелест газет полугодовой давности по асфальту. Если закрыть глаза, даже не поймешь, что ты в городе. Лет через сто от него останутся покрытые лесом холмы. Пойди догадайся, что это был Токио…
Она закрывает глаза, уносясь в мечтах к тому моменту, когда человечеству придет конец. Я вижу на лицах сидящих рядом со мной такое же мечтательное выражение. Наверное, они уже не один раз думали об этом. Как и Юрико. Как и я. Как и сотни тысяч других людей по всей планете.
Юрико продолжает:
— А потом хорошо бы встретить случайно выжившего мужчину. И начать историю человечества сначала…
Ага, думаю я, чтобы через несколько десятков тысяч лет кто-нибудь, сидя в кабинете психолога на сеансе групповой терапии, мечтал о глобальной катастрофе…
Тут я не выдерживаю и делаю то, что делать, в общем-то, не положено. Я перебиваю ее:
— Можно еще остаться единственным живым существом на планете. Чтобы даже амеб не было… Одни пески вокруг. И стать истоком новой жизни, умерев в какой-нибудь с трудом найденной луже.
Странно, никто не смотрит на меня осуждающе. Все согласны со мной. Это тоже неплохой вариант.
Когда сеанс заканчивается, и мы выходим в теплый, пахнущий ирисами и выхлопными газами вечер, Юрико останавливается у ограды клиники, закуривает Hi-Light и говорит мне:
— Я встретила Акихико.
Акихико — это ее приятель, худой как щепка парнишка, недавно закончивший какой-то частный университет. Акихико ходит в нашу группу. Вернее, ходил. Он пропустил уже три сеанса, считая сегодняшний. Сам я с ним не очень близко сошелся, не то что Юрико. Они-то почти ровесники и с одинаковыми сдвигами. Неудивительно, что быстро подружились. Психам как никому другому нужны единомышленники.
— Как он? — вежливо спрашиваю я, хотя такое понятие, как «вежливость», мы уже давно снесли на помойку. — Почему не приходит больше?
— Не знаю. Он так и не сказал. Намекнул только, что нашел другую группу.
Мимо нас, застегивая на ходу ветровку, проходит психолог, который проводит наши встречи. Глядя на него, можно подумать, что он-то и есть самый безнадежный клиент в группе психологической поддержки.
— Ты расстроена? — спрашиваю.
Юрико пожимает плечами:
— Ушел и ушел, чего мне расстраиваться… Вид у него был странный. Глаза бегают… Сам будто травы накурился… Только он траву не курит, я знаю.
— Может, начал.
Я говорю просто для того, чтобы что-нибудь сказать. На самом деле жизнь Акихико меня не волнует. Если вдуматься, то меня вообще ничто больше не волнует. Я хочу остаться последним человеком на Земле. Но такой радости мне не будет, так что и по этому поводу я сильно не переживаю.
Юрико стряхивает столбик пепла на еще теплый асфальт. Ветер тут же слизывает серый цилиндрик с земли.
— Да нет, тут что-то другое… Не понимаю, почему он мне ничего рассказал. Мы вроде договорились друг другу помогать. Что за секреты?…
— Ты тоже хочешь уйти из группы?
— Не знаю… Если найду что-нибудь получше, то, наверное, уйду. Здесь ловить нечего. Если, конечно, ты на самом деле не желаешь стать нормальным.
— Ты не желаешь стать нормальной?
— Конечно, нет, — фыркает она. — Для чего? Чтобы до самой смерти за прилавком стоять? «Что ты делала всю жизнь, Юри? — Продавала таблетки от кашля». Круто!
— Тогда зачем ходишь сюда?
— А где еще меня будут слушать?
За низкой оградой ходят люди. Огромное количество людей, сплошной поток. Я думаю о том, что максимум через сто лет все те, кто сейчас прошел мимо нас, будут мертвы. Такие мысли часто приходят в голову, когда я, например, еду в метро или в автобусе. Стою, смотрю на битком набитый вагон и понимаю, что через определенный промежуток времени ни одного из тех, кто сейчас дремлет, нажимает на кнопки телефона, читает комикс или просто уставился в черноту за окном, не будет в живых. Через сотню лет содержимое этого вагона полностью обновится. Как протухшая вода в чашке. Вылил, налил снова и порядок… В такие минуты мне кажется, что я еду в вагоне, набитом скелетами.
— А ты зачем сюда ходишь, Котаро?
— Чтобы было, куда ходить.
Больше мы не разговариваем. Молча доходим до станции Юракутё и прощаемся до следующей среды.
Меньше всего мне хочется возвращаться домой. Но это единственное, что мне остается.
Я живу в небольшой квартирке на четвертом этаже сюкуся. За два года я так и не привык к тесноте и голосам соседей за стеной. Не привык к тому, что, глядя по утрам в окно, видишь не свой ухоженный сад, а окна такого же многоквартирного дома напротив. Не привык к шуму и суете Токио. В Немуро, где мы жили с женой, куда тише… Разве что отдаленный рокот моря создавал навязчивый звуковой фон. Но это совсем другой шум. Приятный, успокаивающий.
Там, в Немуро, остались родители жены, уютный домик с садом, пруд с карпами кои и я, верящий в то, что можно прожить счастливую жизнь, если не делать никому ничего плохого и регулярно чистить зубы. Такая вот была удобная жизненная философия. Компактная и приятная на ощупь, гладенькая и пушистая… К тому же приятной расцветки. Загляденье, а не философия. Самое смешное, что я по-настоящему верил в эту чушь: не делай ничего плохого и проживешь долгую счастливую жизнь.
Больше я не верю в это. Когда тебе приходится продавать свой дом, где ты прожил четыре счастливых года, и переезжать в большой неблагоустроенный муравейник, как-то иначе начинаешь смотреть на вещи… Само собой, виноват не сам переезд, а причина, по которой пришлось его осуществить. Думаю, на моем месте так сделал бы любой. Скажу честно, не самое приятное дело — приходить после работы в дом, где все напоминает о жене, с которой ты расстался совсем недавно. Плюс к этому она была на восьмом месяце беременности и вы уже выбрали имя для будущей дочери. Плюс к этому расплющенную в лепешку BMW 740i спасателям пришлось резать автогеном, чтобы извлечь то, что было молодой беременной женщиной. Моей женой.
Думаю, теперь понятно, почему переезд в Токио так повлиял на меня, что я нахожу много общего между линейкой и ботинком.
Поначалу я как-то пытался справиться. Есть много способов. Выпивка, работа, наркотики, друзья… Но у всех у них один недостаток — они помогают только в том случае, если ты действительно хочешь, чтобы они помогли. У меня такой серьезной мотивации не было. Лечить болезнь имеет смысл, если хочешь жить дальше, ведь так? Мне же было все равно… Как мне сказали позже — это реактивная депрессия. А главный признак любой депрессии — нежелание с ней бороться.
Я не заметил, что мой мир начал уменьшаться. Как шарик, из которого выпустили воздух. Выдернули затычку — чпок! — и готово дело. Я находился в центре того шарика. Очень скоро у меня остался лишь маленький домик, бутылка виски и пруд, в котором плавали мраморным брюхом вверх дохлые карпы.
И еще страх. Страха было очень много. Он заполнял меня, дом и даже немного выпирал наружу. Если бы его можно было продавать, я заработал бы неплохие деньги.
— Это пройдет, — говорил мой брат через месяц после гибели моей жены. — Нужно просто немного потерпеть. Отдохнуть и не забивать этим голову.
Портрет моего младшего брата: он любит яркие галстуки и водку с апельсиновым соком. Женат второй раз. Плохо начищенные туфли и крошки на лацканах пиджака. Когда думает, что его никто не видит, ковыряет мизинцем в ухе, тщательно потом исследуя ноготь. Его зовут Ито Ясукадзу. Он занимается тем, что устраивает секс-туры по всей Азии желающим, продает недвижимость и изрекает банальности. А начинал он свою карьеру журналистом в заштатной газетенке. С тех пор у него остались привычка всюду совать нос и куча знакомых в самых разных областях. Причем таких знакомых, которые ему обязаны. Стоит ему сказать слово, как едва ли не половина Токио готова обделаться, но достать то, что нужно Ясукадзу.
При этом разъезжает он на стареньком «субару» и имеет крошечный домик в пригороде, а одеваться предпочитает на распродажах. Я думаю, все, что он делает, продиктовано исключительно желанием быть хорошим парнем. Есть люди, которые последнее отдадут, лишь бы чувствовать, что они кому-то нужны. Психологи говорят, что они недополучили в детстве родительской любви. И, став взрослыми, пытаются компенсироваться подобным манером. Может быть, и так. Во всяком случае, с Ясукадзу психологи, похоже, попали в точку. Родители, действительно, больше любили меня. Только это мне не помогло…
— Стоит ли так переживать, приятель? — дышал мой брат в телефонную трубку через три месяца после похорон. — Просто расслабься. Съезди куда-нибудь, напейся, найди девочку… Если хочешь, могу организовать за полцены хорошую поездку.
А я в то время думал, что мне не помешал бы хороший дробовик. Просто сунуть ствол в рот и нажать пальцем ноги на спуск. И все из-за твари, которая стала приходить по ночам под окна моего дома. Эта дрянь как-то была связана с гибелью моей жены и не родившейся дочери. Во всяком случае, мне так казалось.
Тварь можно назвать по-разному. За полгода я придумал ему кучу имен. Кролик-мясоед, Плотоядный Кролик, Кролик — Любитель Человеческого Мяса… Я для него был чем-то вроде аппетитной мясной морковки.
Я видел его не раз. Он приходил в сумерках и садился неподалеку. Так, чтобы я мог видеть серую спину, возвышающуюся над крышей дома напротив. Черные кончики ушей шевелились, как локаторы, улавливая малейшее движение. Иногда, если я забывал опустить жалюзи, он подходил вплотную к моему дому и заглядывал в окно второго этажа. Темно-коричневый глаз с красными прожилками сосудов не мигая смотрел на меня, оцепеневшего от ужаса. Когда глаз приближался к окну, в комнате становилось совсем темно. Зрачок размером с колесо микроавтобуса. Каждая ресница толще большого пальца руки…
Кто-то скажет, что я законченный псих, если у меня такие глюки. Собственно, к этому я и веду. Я псих. Кроликофоб. Но осознание того, что я свихнулся, ничего не меняет. Изменить ситуацию может только надежный дробовик. Mossberg 59 °Compact Cruiser вполне подойдет для того, чтобы не стать мясной морковкой. Заряд крупной дроби в широко распахнутую розовую пасть чудовища, из которой несет гнилью. Если не поможет — ствол себе в рот и почти неуловимое движение пальца. Спуск у пятьсот девяностого мягкий.
Эти мысли приходили вместе с паникой. В такие минуты я зажимал уши ладонями и напевал мантру собственного сочинения. «Хватит-с-меня-этого-дерьма-ом-м…» — твердил я и ждал, когда страх ослабит хватку.
Когда запах кроличьей шерсти исчезал, я оставался один в тишине. Час, проведенный в тишине и одиночестве, стоит десятка сеансов у психоаналитика. А месяц сделает из тебя психа или бодхисатву.
У меня была альтернатива. Но не было выбора.
Когда я начинал всерьез задумываться об этом, на меня наваливалась бессонница. Тогда грань между теми реальностями, в которых я жил, стиралась окончательно. Мне оставалось только сидеть у окна, смотреть на луну и пить. Любая попытка о чем-то думать была смертельно опасна для рассудка. Бессонные ночи — это время чистого ожидания.
А следом за бессонницей приходила паника. И все начиналось по новой.
Через полгода такой жизни я продал дом и уехал в Токио. Даже не попрощавшись с родителями жены.
Если вы решили, что в Токио Кролик-мясоед оставил меня в покое, вы здорово ошиблись. Наоборот, он только подрос. Теперь он время от времени таращится в окно четвертого этажа. Чего он ждет, я не знаю. И не хочу знать…
Глава 2
Если сидишь в четырех стенах, пытаясь сохранить остатки рассудка, чтение становится единственным занятием, способным удержать на плаву. Я читаю целыми днями. Все подряд. От романов Мисимы до истории Новой Англии. Читаю лежа, сидя, стоя и даже на ходу. Читаю днем, на рассвете и поздней ночью. Книги — еще одна реальность, в которой я существую.
Я ходячая энциклопедия, из которой какой-то шутник вырвал все страницы, а потом подшил заново, перемешав их.
Сигналы в нервной системе человека достигают скорости двести восемьдесят восемь километров в час. Первый географический атлас создал Птолемей в сто пятидесятом году нашей эры. Ван Гог продал при жизни лишь одно свое произведение — Red Vineyard at Arles. Если протянуть паутину до ближайшей к нам звезды в созвездии Центавра, то она будет весить пятьсот тысяч тонн…
Факты, цифры, имена, географические названия бурлят у меня в голове, как сябу-сябу. Они служат щитом, той пробкой, которой я затыкаю кувшин с джинном подсознания.
Я читаю книги, хожу в группу психологической поддержки, время от времени напиваюсь и периодически подряжаюсь на какую-нибудь разовую работу. Грузчик, уборщик, продавец сладостей, сторож, ходячий сотовый телефон или большая таблетка с рекламными листовками в пухлых гофрированных руках — все это я, когда нужны деньги. Кто-то подумает, не слишком интересная жизнь. И я с ним соглашусь. Но у меня нет других вариантов. Я просто отбываю срок в одиночке. Заключенному не приходится выбирать, как убить время. Вполне достаточно того, что время убивает его.
На самом деле, мне хочется вычеркнуть некоторые пункты из моей жизни. Но перестань я работать — не будет денег на выпивку. Перестань я читать — ни о чем, кроме жены, думать не смогу. Перестань я пить — чертов кролик разрастется до размеров Токио-но То. Уйди я из группы — не будет Юрико…
То, что нас с ней связывает, нельзя назвать ни дружбой, ни, тем более, любовью. Это что-то вроде единения приговоренных к смерти сокамерников. Она не видит будущего, я тоже. Мы с ней в одной команде. Остальные люди, с которыми мне так или иначе приходится общаться, еще не вычеркнули из своего лексикона слово «завтра». Поэтому мы не можем понять друг друга, как ни стараемся. Все равно что разговор слепого с глухонемым.
С Юрико все иначе. Иногда мы встречаемся и просто сидим в парке. Ходим в кино. Гуляем по городу. Пьем пиво в какой-нибудь забегаловке. И все молча… Нам незачем разговаривать. Обычно люди говорят о прошлом или о будущем. О настоящем — редко. Что о нем говорить? Мое прошлое — не самая веселая тема для беседы. У Юрико прошлого вообще еще нет. В будущее мы не верим… Так что лучше помолчать. Единственное исключение — наши встречи в группе. Но там мы просто выплескиваем помои своего подсознания на других таких же. Остальное время просто сидим рядом на скамейке в парке, в креслах кинотеатра, на стульях в баре, на траве, на парапетах, на каменных ступеньках. Только в такие минуты мне иногда удается почувствовать что-то вроде умиротворения. Только в такие минуты я бываю в ладах с самим собой. Поэтому очень не хочу терять девушку по имени Кобаяси Юрико, с которой на самом деле все и началось.
Вернее, началось все с ее звонка.
За окном нервно мигает неоновая реклама джинсов Edwin, превращая мою комнату в некое подобие танцпола. Усиливая сходство, за стеной гремит проигрыватель соседа-меломана. Басы заставляют вибрировать пустые чашки на столике и мои внутренности.
Так бывает каждый вечер. Каждый вечер я прихожу домой, наливаю себе виски, сажусь в продавленное кресло и чувствую, как внизу живота дергаются мои кишки. Бумс-бумс… Это — мои ежевечерние сеансы медитации. Я мычу мантру «хватит-с-меня-этого-дерьма-ом-м-м» и жду, когда меня начнет тащить от этой «кислоты» за стеной.
Дело в том, что во время медитации мозг находится практически в состоянии клинической смерти. Кора головного мозга отключается. И мозг начинает защищаться, то есть выбрасывает эндогенные опиаты — наркотические вещества, которые оказывают на организм такое же сильное действие, как героин или ЛСД. Эндорфины и энкефалины обладают морфиноподобным эффектом. Эти вещества и включают в мозгу так называемый «центр удовольствия». Если вспомнить еще и о принципах выработки условного рефлекса, можно ожидать, что в скором будущем эти «бумсы» будут включать в моей башке все нужные центры напрямую.
Музыка гремит, вывеска мигает, а я постигаю смысл учения дзен со стаканом в руке. Я пытаюсь слушать тишину внутри себя и жду выброса эндорфинов, как наркоман ждет новой дозы.
И в момент, когда я приближаюсь к очередной клинической смерти, пищит телефон. Из-за музыки, сотрясающей тонкую перегородку между мной и этим придурком-меломаном, я не сразу соображаю, что мне звонят.
— Акихико повесился, — говорит Юрико, и я слышу, что там, где она находится, очень тихо. Гораздо тише, чем у меня.
— Что? — я переспрашиваю не потому, что плохо расслышал, просто мне нужно придумать, что ей ответить.
— Акихико умер. Повесился. Сегодня днем, в три часа, — повторяет она и ждет, что я скажу.
Сегодня днем я относил старые книги букинисту. Как раз когда я торговался со стариком из-за каждой иены, парень по имени Акихико просовывал голову в петлю. Сегодня каждому нашлось занятие…
— Я зашла к нему узнать, почему он не отвечает на звонки. Дверь в квартиру была открыта. Он повесился на дверной ручке… На столе записка… Я вызвала полицию…
Каждая сказанная ею фраза падает, как булыжник в колодец. Бульк! Не оставляя после себя ничего. Никаких чувств, никаких ассоциаций, никаких мыслей. Может быть, потому, что никаких эмоций в ее голосе я не слышу.
— Что ты молчишь? — спрашивает она.
Бумс-бумс по голове. Мне приходится закрыть одно ухо, чтобы слышать голос Юрико.
— Мне жаль.
— Ага.
— Да нет, правда… Он был неплохим парнем.
— Ага.
— Я серьезно. Не скажу, что я сильно скорблю, но мне действительно жаль, что так получилось…
— Ладно, — смягчается она. — Слушай, мне не хочется сегодня сидеть одной. Давай встретимся?
— Что?
Парень за стенкой прибавляет громкость. Чашки на столе начинают подпрыгивать в такт музыке. У них сегодня тоже вечеринка. По случаю смерти Акихико.
— Сделай музыку потише! — кричит в трубку Юрико.
— Это не у меня. Это у соседа. Так что ты там говорила?
— Давай встретимся сейчас. Я бы чего-нибудь выпила.
— Давай, — что-что, а выпить я всегда готов. — Где?
— Жди, я за тобой зайду… Я тут недалеко, — она вешает трубку.
Последние слова тонут в мощном гитарном соло, доносящемся из-за стены.
Я тоже кладу трубку и сажусь обратно в кресло. Мне представляется, как Акихико с выпученными глазами и распухшим языком сидит, привалившись спиной к двери… Тонкая веревка глубоко врезалась в зеленоватую, с багровыми подтеками, шею…
Не знаю, как на самом деле выглядят повесившиеся на ручке двери после нескольких часов в душной квартире. Может, я что-то и упустил. Но и без того картина получилась такой, что захотелось налить еще один стаканчик виски.
Я превращаюсь в алкоголика. Знаю наверняка. Ну, и что? Глупо переживать из-за этого, пока есть деньги на выпивку.
Два года назад, вынужденно отказавшись от прежней жизни счастливого потребителя, я обрел свободу. Но свобода оказалась не сказочной страной, где счастливчики беззаботно сидят в цветках лотоса и напевают незатейливые мантры. Свобода — крошечная квартирка, в которой по вечерам дрожат стены. Свобода — гигантский плотоядный кролик, караулящий меня за дверью. Свобода — полупустая бутылка виски в руке. Свобода — немой вопрос: «Когда же все это закончится?», в опухших от бессонницы глазах. Свобода — мертвая жена и не рожденная дочь.
Мой цветок лотоса — продавленное кресло в темной комнате.
Каждую секунду один процент населения Земли пьян в стельку Статистика. Я хочу присоединиться к этим ребятам. Эй, пьяные в стельку, примите меня в свой клуб! Я хочу стать частью этого счастливого процента.
Я далек от мыслей о самоубийстве. Пустое существование алкоголика лучше, чем небытие. Там я уже был, и у меня не осталось приятных воспоминаний. Но каждый раз я беру бутылку, как пистолет с последним патроном. Кто-то надевает себе на шею петлю, кто-то подносит к губам стакан, а кто-то медленно умирает от рака. Дармовщины не будет, парни. Вся наша жизнь — это одно длинное самоубийство.
Да, я превращаюсь в алкоголика. И знаю это наверняка. Ну и что?… Что это меняет?
Бумс-бумс, бумс-бумс, бумс-бумс…
Когда мы с Юрико выходим из моей квартиры, я говорю:
— Подожди секунду.
Она облокачивается на перила балкона и закуривает, а я барабаню в дверь соседа. Долго никто не открывает, но я проявляю настойчивость. Я уже порядочно пьян. И почти по-настоящему сочувствую Акихико. Он ведь действительно был неплохим парнем. Во всяком случае, не любил дурацкую музыку. Он любил тишину и, как и я, не верил в будущее. Эта потеря чем-то сродни гибели однополчанина на поле боя. Ты плохо его знал, но он был с тобой в одном батальоне, и этого достаточно, чтобы хоть мимоходом поскорбеть о нем.
Наконец, дверь распахивается. На пороге — раздраженный хозяин квартиры. Оторванный от прослушивания музыки недомерок с длинными сальными волосами, крашенными в ярко-синий цвет.
— Чего? — недовольно спрашивает он.
Из квартиры несет травой. Я вижу, что в комнате на диване развалились два парня и полуголая девица. Еще кто-то расхаживает по кухне. Отсюда не видно, кто — мужчина или женщина и есть ли на этом «ком-то» одежда. Но детали меня не интересуют. Сейчас меня не интересует ничего, кроме укуренного недомерка, уже месяц не дающего мне спать.
— Ничего, — говорю я и впечатываю кулак в близоруко щурящийся глаз соседа-меломана.
Он пролетает крошечный коридор и с грохотом, на мгновение заглушающим музыку, врезается в стеллаж, прилепившийся к противоположной стене. Оттуда обрушиваются компакт-диски, комиксы, какие-то статуэтки и прочий мусор.
Желания разобраться, что случилось с хозяином квартиры, ни у кого из гостей не возникает. Может быть, просто не слышат, а может, им наплевать на этого засранца. Второе кажется мне более вероятным. Он непонимающе таращится на меня. Видно, не каждый день к нему приходят соседи и бьют по лицу. А жаль… Ему бы не помешало.
— Слушай свою долбанную музыку в наушниках! — кричу я. — И скажи своим приятелям, что дискотеки закончились, иначе будешь проводить их в больнице! Понял?!
По его глазам я вижу, что он разобрал не все слова. Но то, как он кивает, колотясь затылком о стену, убеждает меня в том, что основную идею он усвоил.
— Теперь пошли, — говорю я Юрико.
И мы спускаемся по лестнице. Кулак побаливает, но я знаю, что это скоро пройдет. Виски заглушает и не такую боль. За нашими спинами музыка обрывается на полуноте.
Пьяная в стельку Юрико глотает сливовое вино прямо из горлышка. Даже в таком состоянии она на редкость красива. Это единственное, что меня в ней злит. После гибели жены, которую любил, отношение к красивым женщинам меняется не в лучшую сторону. Психолог сказал мне, что это чувство вины, которое возникает из-за того, что ты хочешь эту женщину и в то же время воспринимаешь свое желание как предательство по отношению к своей мертвой жене. Может быть, оно и так…
— Я уверена, самоубийство как-то связано с тем, что он нашел другую группу… Помнишь, я тебе говорила, как встретила его? Тогда он сказал мне, что нашел кое-что получше наших собраний. Вот я и думаю — причина именно в этом.
Язык у нее заплетается, но взгляд ясный.
— Я хорошо знала его… Он никогда не говорил всерьез о самоубийстве… Ему было все по хрену, это да. Но убивать себя он не собирался. Это не так-то просто, я думаю… Ни с того ни с сего вешаться не станешь.
— Всякое бывает.
— Это не тот случай.
Она делает неудачный глоток и розовое вино течет по подбородку. Она вытирает влажный блестящий подбородок ладонью и вынимает сигарету из пачки.
— На самом деле мне плевать, — говорит она. — Честно. Он был классным парнем, но со своими бзиками. Иногда я его боялась.
— Мне казалось, что вы…
Она смеется, запрокинув голову. Я вижу ее нёбо, белоснежные зубы, ярко-красные губы и пульсирующую жилку на шее.
— Ему хотелось, наверное. Но не мне… Для меня он был просто хорошим приятелем. Как и ты.
Абсурдно, но я чувствую легкий укол разочарования. Совсем крошечный, но от этого не менее неприятный. Я хочу, чтобы меня любили… Хоть кто-нибудь. Любили, не требуя взаимности. Возможно, это было бы моим спасением.
— Теперь он умер, — мрачно говорит Юрико, пытаясь не уронить голову на скрещенные руки. Бутылка вина почти пуста. — Он умер, а я осталась одна.
— Я не в счет?
— Ты — другое дело. У тебя есть веская причина быть таким, какой ты есть. Не погибни твоя жена, ты сейчас был бы счастливым придурком. У нас с Акихико все не так. У нас причина внутри.
— О, ну конечно. Вы-то просто психи, которые с жиру бесятся.
Это моя маленькая месть.
— Ага. Так и есть. Но мне не лучше оттого, что я просто бешусь с жиру. Да и никому не лучше… Посмотреть хоть на Акихико. Хотела бы я знать, что же он такое нашел. Похоже, что-то интересное.
— Куда уж интереснее… Тебе не пора домой?
Она близка к тому, чтобы заснуть прямо здесь, в баре, за столом из какого-то хитроумного пластика, очень похожего на настоящее дерево.
— Как думаешь, — не слушает она меня, — может, и мне стоит сходить туда?
— Куда? Ты же ничего не знаешь о том, где он пропадал все это время.
— Нетрудно узнать.
— Как?
Стараясь выглядеть трезво и не упасть со стула, она лезет в свою сумочку из джинсы и долго там что-то ищет. Через минуту, отчаявшись, высыпает все содержимое на стол. Вырастает горка хлама, который может носить в сумочке девица, убежденная в том, что этот мир не стоит ее внимания. Гигиеническая помада, салфетки, ключи с брелоком в виде крошечного живого кактуса, одноразовые зажигалки, пустая смятая пачка сигарет, запечатанная пачка и еще целая куча предметов, которые идентифицировать сложно. Она непослушными пальцами разгребает этот мусор, сосредоточенно прищурив глаз. Наконец, говорит:
— Вот!
И показывает мне сотовый телефон.
— И что? — спрашиваю я.
— Тупой. Это телефон Акихико. Я взяла его сегодня со стола, пока ждала полицию. Последний звонок он сделал за пятнадцать минут до того, как написал прощальную записку.
— Откуда знаешь, когда он написал записку?
Она старательно сгребает все со стола обратно в сумочку.
— Он был очень аккуратным… Педантичным. На записке стоит точное время. Так вот, звонок сделан пятнадцатью минутами раньше. И это не родители, не какой-нибудь приятель и не девчонка.
— С чего ты взяла?
— Девчонки у него не было. Родителей он ненавидел. А друзей у него было двое — я и один тип, который утопился полгода назад. В телефонной записной книжке всего четыре номера. Вот, сам посмотри.
Она пытается нажать на нужные кнопки, но у нее ни черта не выходит. Тонкие пальцы с коротко обрезанными ногтями не справляются со сложными командами, посылаемыми мозгом.
— Черт, — бормочет она. — Черт, черт, черт…
— Не надо, я тебе верю… Только даже если этот звонок действительно как-то связан с самоубийством, тебе лучше держаться подальше от всего этого. Ты рассказала полицейским?
— Тупой! Если бы я им сказала, они забрали бы телефон.
— Позвони завтра и расскажи, что ты нашла телефон. Пусть они разбираются с этим делом.
— Ага, — она пытается прикурить.
— Я серьезно. Не стоит тебе связываться…
— Ага, — она вхолостую чиркает зажигалкой.
Я понимаю, что сейчас разговаривать с ней бесполезно. Вытаскиваю ее, слабо упирающуюся, из-за стола и вывожу на улицу. Мы едем ко мне. И полночи ее выворачивает наизнанку в моем туалете.
Глава 3
Я просыпаюсь в холодном поту. Во сне я бежал по темным улицам незнакомого города. За мной гнался Кролик-мясоед. Я не видел его, лишь слышал мягкое «топ-топ-топ» кроличьих лап. Земля под ногами подрагивала от этого «топ-топ-топ». Когда я оглянулся в очередной раз и понял, что из-за угла вот-вот покажется его отвратная морда, под ноги подвернулся булыжник. Со всего маху я рухнул на мостовую и… проснулся.
Проснулся лишь для того, чтобы услышать, как за Юрико захлопнулась входная дверь. Это ее манера — уходить не прощаясь.
Из окна льется серый свет. Скомканная простыня в ногах, влажная подушка. «Доброе утро, Токио!» Во рту отвратительный привкус. Будто я жевал кроличье дерьмо. В ушах до сих пор стоит это «топ-топ-топ». Чтобы отвлечься, я начинаю создавать мысленные помехи.
Гроза в Египте бывает раз в двести лет. Магнитное поле Земли ежегодно ослабевает на пять сотых процента. Если так будет продолжаться, то через две тысячи лет компасы можно будет выбросить на помойку. В среднем, на территории Японии происходит три землетрясения в сутки. Площадь солнечной поверхности размером с почтовую марку светит с такой же энергией, как и один миллион пятьсот тысяч свечей.
Сегодня у меня выходной. Я сам себе директор, бухгалтер, менеджер по персоналу и производственный психолог. Все четверо решают, что парень по имени Котаро Ито заслужил небольшой отдых. Похмелье — чертовски уважительная причина в моей компании. Самой человеколюбивой и справедливой компании в мире. В ней во главу угла поставлена не прибыль, а душевный и физический комфорт рядового сотрудника. Что может быть лучше?
Нам вбили в голову, что все мы рано или поздно станем звездами. Поп-музыка, рок-музыка, телевидение, крупные корпорации, модельный бизнес — возможностей не счесть. Один из миллиона действительно попадает в десятку. Но остальные девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять простаков до конца своих дней просидят в дерьме, продолжая надеяться.
Нам вбили в голову, что, если упорно работать и хорошо учиться, со временем можно стать главой крупной фирмы, известным музыкантом или писателем, теле- или кинозвездой. На худой конец — добропорядочным отцом большого счастливого семейства или что-нибудь в этом духе. Но главный приз, который мы получим за наши труды, — отложение солей в суставах, старческий маразм, недержание мочи, атеросклероз, ведущий к инфаркту или инсульту. А в лучшем случае — передозировка или удар ножом на темной улице. В конце концов, и это не имеет значения. Костры на праздник Бон уравняют всех… И правда, есть из-за чего исходить на дерьмо. Вперед, парни, но учтите — ничто не отзовется в вечности. Никакой дармовщины не будет.
Так считает руководство моей фирмы. И я с ним совершенно согласен. Стоит ли горбатиться всю жизнь ради возможности время от времени менять машину или дом на лучшие? Если подумать, не такая уж выгодная сделка — кусок жизни в обмен на дорогой костюм или крутой музыкальный центр.
Все это у меня было, и я думал, что сумел-таки отхватить большущий кусок. Я был в этом уверен, пока не увидел в холодной белой комнате, во что превратились мои жена и дочь в результате лобового столкновения с десятитонным грузовиком. Это зрелище мигом вылечило меня от болезни под названием «тупость».
Я кладу в стакан истекающие потом параллелепипеды льда. Наливаю светло-коричневую жидкость и легонько взбалтываю. Лед стеклянно побрякивает. Первый же глоток заставляет немного примириться с действительностью.
В тот момент, когда колесо вдруг обогнало машину, и BMW с моей женой внутри, лежа на крыше, нырнул под тупую морду грузовика, летящего на скорости девяносто пять километров в час, я потел в душном автобусе по дороге на вокзал, чтобы встретить брата, который ни с того ни с сего решил навестить меня. Я бы очень хотел сказать, что почувствовал в тот миг какое-то смутное беспокойство или что меня посетило какое-то мрачное предчувствие… Но ничего подобного не было. Я висел на поручне и разглядывал ножки молодой женщины, стоявшей в двух шагах от меня. И никакого ощущения, что произошло нечто страшное и непоправимое. Обычный день и очень симпатичные стройные ножки.
Я беру бутылку, стакан, пакетик жареного миндаля и отправляюсь в комнату. Там мне предстоит провести долгий выходной день.
Брат тогда так и не приехал. Позвонил на сотовый и сказал, что задерживается, будет поздно вечером. Я зашел в пару магазинов, накупил каких-то мелочей для будущей дочери и отправился домой. Помню, жара тогда стояла такая, что подошвы сандалий прилипали к раскаленному асфальту. Это меня угнетало больше всего. Такая вот была проблема, такая вот была беда — слишком жарко… Ага. Пока не добрался до дома и не снял трубку пиликающего на все лады телефона.
Спустя час я по-прежнему лежу на неубранной постели, хранящей запах Юрико. Бутылка виски стоит на прикроватной тумбочке. Лед в стакане почти растаял. У меня шумит в голове, в зубах миндальные крошки. Часы показывают десять.
Самое смешное, что если бы жене, тойота которой была в ремонте из-за сломавшегося стеклоподъемника, вдруг не захотелось бы навестить родителей, то в BMW с разболтавшимися болтами на правом переднем колесе, сидел бы я.
Так всегда и бывает: пара идиотских совпадений — и кто-то отправляется к предкам, а кто-то не знает, что делать со своей сраной спасенной жизнью. Это так, к вопросу о свободе выбора. К тому, что свою судьбу мы выбираем сами и несем ответственность за свои поступки. Каким только дерьмом не забиты наши головы…
Брат звонит часа в три дня, когда я пребываю в вязком, как зыбучие пески, состоянии пьяной жалости к себе. Мне стоит большого труда оторвать голову от подушки и снять трубку.
— Как дела? — спрашивает он.
Он задает этот вопрос раз в неделю в течение года. С докучливой регулярностью. Меняться могут день и время звонка, меняться может тон, которым произносится вопрос, меняться может все, что угодно. Кроме этого вопроса и ответа на него:
— Нормально.
Это как смена времен года. Зима может быть холодной или не очень, но она обязательно придет, и ничего ты поделать с этим не можешь.
— Почему-то так и думал, что ты дома.
— Выходной.
— Понятно… Какие новости?
— Никаких.
После того, как я уехал из родительского дома, мы с ним почти перестали общаться. Встретились только на похоронах отца и еще через год, когда хоронили мать. А так — только открытки на Новый год и день рождения. Не слишком много для родных братьев… Но стоило погибнуть моей жене, он вдруг воспылал ко мне братской любовью. Если, конечно, так можно назвать его звонки.
— Я тут разговаривал со стариком.
— Как его здоровье?
— Опять что-то неважно, — брат изо всех сил пытается изобразить озабоченность.
Старик — наш родной дядя по отцовской линии. Единственный родственник, который остался у нас после того, как умерли родители. Кроме нас с Ясукадзу, у него тоже никого нет. Всю жизнь сколачивал свою империю — строительную корпорацию — не отвлекаясь на такую мелочь, как семья. Сейчас он богатый сукин сын. Когда я говорю «богатый», имею в виду, что подсчитать количество нулей после единицы на его банковском счете задача не из легких. Это не какой-нибудь владелец лавки со сладостями.
Его состояние является главным предметом мечтаний Ясукадзу. Да что там! Настоящей навязчивой идеей. Он почему-то уверен, что дядя оставит свои нули и корпорацию нам в наследство. Хотя никаких разговоров на этот счет не было и вряд ли будет. Дядя — законченный мизантроп. Но для таких ребят, как мой брат, подобные мечты чуть ли единственный стимул в жизни. Не будь у него надежды на такой приз, неизвестно, стал бы он тем, кем является сейчас — прожженным дельцом, который не очень-то стесняется в средствах, когда речь заходит о возможной прибыли. Он самозабвенно готовится к жизни миллионера. Нарабатывает необходимый опыт, так сказать.
— Подумываю, не навестить ли его, — говорит мой брат.
Навести, думаю я. Только на хрен ты ему нужен.
По мнению Ясукадзу, старик зажился на этом свете. Иногда мне кажется, что если бы у него был хоть один шанс поторопить дядю с отходом в мир иной, он воспользовался бы им. Хотя, возможно, торопить особенно и не придется. У дяди диабет. И, в среднем, раз в год его личный врач, управляющие и куча акционеров начинают паниковать… Последняя паника была незадолго до гибели моей жены. Я даже купил себе на всякий случай костюм, чтобы достойно выглядеть на похоронах… Что ж, это мне удалось.
— Я читал, их акции опять поднялись, — говорит брат.
Трудно, наверное, жить одним ожиданием богатого наследства. Тем более, что никаких гарантий его получения нет. Но мой брат не из тех, кто пасует перед такими сложностями. Он внимательно отслеживает новости на бирже и на рынке недвижимости. Он беспокоится о благосостоянии дяди, как о своем собственном. Малейшая неудача фирмы лишает его сна, а каждую удачную сделку он отмечает в каком-нибудь дешевом ресторанчике. Я же говорю — навязчивая идея. Ему бы не мешало тоже походить на сеансы групповой терапии.
— Ты-то как? Еще не бросил пить?
По его тону я понимаю, что ему вовсе не хочется, чтобы я бросал это занятие. Для Ясукадзу все конкуренты. Не представляю, как он пережил эдипов комплекс…
— Нет, — успокаиваю я моего родного брата. — Еще не бросил. И не собираюсь.
— Зря.
— Да, конечно.
— Ну ладно, — после долгой паузы говорит он. — Мне пора делами заниматься. Может, встретимся как-нибудь? Давай посидим, выпьем, поговорим спокойно…
Это уже сорок восьмое за год предложение встретиться. И в сорок восьмой раз я отвечаю:
— Да, само собой. Звони.
Я швыряю трубку и закрываю глаза.
Человек употребляет нецензурные выражения в среднем 230 105 раз в течение жизни. Галилео Галилей был первым человеком, предложившим использовать маятник для измерения времени. Длина орбиты, по которой Земля движется вокруг Солнца, в двадцать три тысячи раз больше длины экватора Земли. Кенгуру делает вдох при каждом прыжке, независимо от скорости движения…
У меня нет ненависти к брату, вообще никаких отрицательных чувств по отношению к нему. Положительных, правда, тоже. Но ведь это обычное дело. Почему же каждый его звонок выбивает меня из колеи? Неужели потому, что подсознательно я виню его в смерти моей жены? Глупо. Действительно глупо… Хотя, если бы он не собрался тогда приехать, сейчас все было бы по-другому. От этой мысли не так-то легко отделаться, даже понимая, что она бредовая.
Честно говоря, я искренне желаю, чтобы дядя помер и оставил Ясукадзу хорошее наследство. Может быть, тогда он перестанет изображать из себя заботливого любящего брата…
Голова трещит. От противного кислого привкуса во рту не спасает даже мятная жевательная резинка. Больше всего хочется оказаться сейчас в своей постели и чтобы под рукой был аспирин или бутылка холодного пива. Но вместо этого я слушаю бормотание мужчины в строгом деловом костюме, который сидит напротив меня, зажав ладони между колен. Он новенький в группе и суть его признаний сводится к тому, что он устал пахать на благо своей семьи. Жадная жена и неблагодарные дети — с одной стороны и желание хоть день пожить для себя — с другой. Такая вот у него проблема.
«Посади их в машину, у которой болты на колесе закручены на пол-оборота» — хочу сказать я ему. Хочу посоветовать что-нибудь надежное и радикальное. Что-нибудь такое, что навсегда избавит его от необходимости горбатиться с утра до ночи в обставленном ореховой мебелью офисе. Что-нибудь по-настоящему конструктивное, способное полностью изменить его жизнь. «Посади их в машину, которую ты не проверял черт знает сколько времени, потому что была куча куда более важных дел — сверхурочная работа, приобретение нового холодильника, посещение парикмахера или вечеринка по случаю повышения зарплаты, — посади их в такую машину и отправь покататься за город. А сам иди пить пиво и жди телефонного звонка из полиции»…
Юрико поглядывает на меня, ожидая комментария. Ей хочется, чтобы я выступил со своей историей. Стал оппонентом этого забитого жизнью парня. Она обожает, когда у кого-нибудь в группе срывает крышу. Сама она говорит, что в такие моменты человек показывает свое настоящее лицо. Зачем ей нужно его видеть, Юрико объяснить так и не смогла.
Мужчина в костюме все не унимается. Он пока еще не понял главного правила игры — твои сложности никого не интересуют, всех интересует только возможность выговориться. Он верит, что ему здесь помогут, бубнит и бубнит о том, как хреново ему приходится. И я уже на самом деле собираюсь сказать что-нибудь такое, что заставит его заткнуться, но меня опережает психолог:
— Извините, Мицуо-сан, но для первого раза, я думаю, вы рассказали достаточно. Теперь мы послушаем Юрико.
И она брякает:
— Акихико повесился. Вчера днем.
Все сидят, как пришпиленные. Жуки на булавках в коллекции энтомолога. Больше всех напоминает жука руководитель группы. Еще бы! Акихико был его клиентом, а когда твой клиент вешается — это недочет в работе. Производственный брак.
В общем, остаток вечера получается скомканным. Не то чтобы все так сильно расстроились из-за Акихико. Просто рассказывать о том, что у тебя заболела любимая кошка, на фоне подобной новости как-то неловко.
Все расходятся, а психолог сидит в своем кожаном кресле с лицом человека, у которого обострился геморрой. Сделав над собой усилие, он возвращается в реальность и просит Юрико задержаться — ему нужны детали. Я остаюсь тоже. Мне интересно, что там наговорит ему Юрико.
Мы пьем чай в кабинете психолога, смежном с комнатой, в которой проходят наши сборища. За окном уже темно, и на дорогом письменном столе из палисандра горит настольная лампа, освещая небольшой пятачок вокруг стола. Мы сидим в этом залитом желтым светом круге и пьем чай. Если бы не тема разговора, вечер можно назвать очень милым.
— Ничего не понимаю, — растерянно говорит психолог, поправляя очки в изящной стальной оправе. — В этом плане за Акихико я был спокоен. Собственно, то состояние, в котором он пребывал, и депрессией-то назвать сложно… Скорее, личностный кризис, характерный для его возраста. Подавляющее большинство справляется с этим без особого труда. Само собой все решается, если хотите… Ничего не понимаю.
Мы с Юрико знаем, что он не должен нам всего этого говорить. Он и сам это знает. Мы клиенты и не должны быть в курсе его проблем. Вопрос профессиональной этики. Но у каждого даже самого профессионального профессионала бывают минуты, когда хочется послать все правила к чертям.
Собственно, он давно к этому шел. А два последних месяца я удивлялся каждый раз, когда видел его на рабочем месте. Мне казалось, что он вот-вот сядет в наш тесный круг и начнет изливать душу. У него тоже кризис.
Психолог маленькими глотками пьет чай, уставившись пустыми глазами на пластмассовый стаканчик с карандашами. Этот дешевый стаканчик кажется неуместным на старом палисандровом столе. Здесь хорошо смотрелась бы массивная серебряная чернильница или хрустальное пресс-папье. Но никак не пластиковая дешевка. Хотя, может быть, это хитрый психологический ход — таким образом разрушать стереотипы. Не знаю… Судя по отсутствующему виду психолога, ему нет дела до дурацкого стаканчика. А вот мне есть. Мне вообще до всего есть дело, кроме других людей и себя.
Лицо у психолога не меняется, когда он произносит:
— Значит, вы говорите, что Акихико нашел другого специалиста?
— Возможно, — поправляет его Юрико. — Точно я ничего сказать не могу. Мне так показалось…
— Если все именно так, то это немного меняет дело…
У него сейчас одно желание — услышать, что в смерти Акихико он не виноват. Услышать, что он хороший психолог и что все будет здорово, просто ему нужно немного отдохнуть. Он, как и все остальные, желает получить свою порцию вранья и зряшной надежды. Проблема в том, что мы с Юрико не те люди, которые могут дать ему это.
— А почему вы думаете, что он обратился к другому специалисту?
Юрико молча протягивает ему телефон, который когда-то принадлежал Акихико. Психолог таращится на NEC. И Юрико повторяет то, что говорила мне в баре. Про последний звонок и прочее.
— Интересно, интересно, — он разглядывает сотовый телефон, будто впервые в жизни видит подобную штуку. — А вы не пробовали звонить по этому номеру?
— Пока нет, — отвечает Юрико.
Это «пока» мне очень не нравится. Я не верю, что Акихико нашел что-то экстраординарное. Не верю, что причиной его смерти послужил разговор по телефону с каким-нибудь хитрожопым парнем. Совпадение, так я думаю. Но это не то предположение, в справедливости которого я хочу убедиться любой ценой. На Акихико мне плевать. Пусть даже он был весь из себя замечательный. Псих он и есть псих, чего о нем жалеть… Пусть спокойно лежит в могиле и хранит свои тайны. Живые не должны вмешиваться в эту историю. «Живые» можно читать как «Юрико».
— Правильно, правильно, — глаза психолога по-совиному моргают за дымчатыми стеклами.
Непонятно, то ли он заботится о жизни Юрико, то ли о своей репутации и о своем кошельке. Но как бы то ни было, я с ним абсолютно согласен. Нечего туда звонить.
Он нажимает на кнопки телефона. Те пищат при каждом прикосновении. Не знаю, почему, но мне становится не по себе от этих попискиваний. В тишине полутемного кабинета они звучат маленькими набатами, слабыми отголосками тревожных сирен. Мы с Юрико, затаив дыхание, слушаем электронные «пи-ип, пи-ип» и не сводим взгляда с тонких холеных пальцев, вызывающих эти звуки.
— О-ох… — выдыхает психолог, пялясь на зеленоватый дисплей.
И я понимаю, что сирены звучали не зря.
— Что там? — вытягивает шею Юрико.
Прежде чем ответить, психолог делает глоток чая. Прежде чем ответить, он кладет телефон на стол, снимает очки и протирает стекла мягкой замшевой тряпочкой из нагрудного кармана. Прежде чем ответить, он проводит рукой по покрытому испариной лбу и поднимает на нас растерянный взгляд.
— Что там?
— Я, кажется, знаю, кому он звонил перед смертью, — наконец произносит психолог.
— И кому же?
— Вам это имя ничего не скажет. Это телефон моего бывшего клиента. Вернее, клиентки… Я работал с ней полгода назад. Сложный случай… Мне так и не удалось ей помочь, хотя я очень старался.
— Она что, тоже повесилась? — спрашиваю я. Это «тоже» вырывается случайно, выдавая мою потаенную уверенность, что смерть Акихико в какой-то степени на совести психолога.
— Нет, нет, — поспешно отвечает он. И уже медленнее: — Вернее, я не знаю… Она просто позвонила и сказала, что не видит смысла в дальнейших встречах. После этого я ее не видел. Пробовал звонить, но она никогда не брала трубку…
В его голосе чуть больше горечи, чем должно быть у психолога, сожалеющего о потере клиента. Похоже, это как раз тот случай, когда профессиональная этика была послана к черту.
— Вы спали с ней? — спрашиваю.
— Не ваше дело.
Грубость дается ему с трудом. Он из тех людей, которым можно наступить в транспорте на ногу, а они будут делать вид, что ничего не случилось, лишь бы не поставить вас в неловкое положение.
— Значит, спали, — говорю.
— Не ваше дело.
— Как сказать… Если Акихико действительно перед смертью звонил этой женщине и после разговора с ней сунул голову в петлю, вы ничего не должны скрывать…
— Вот если в полиции меня спросят, я расскажу все.
— А что у нее была за проблема? — спрашивает Юрико, отодвигая пустую чашку.
— Это врачебная тайна…
— Да бросьте вы! Я же не спрашиваю ее имени…
— Зачем вам это?
— Затем, что Акихико был моим хорошим другом. Вам и ему, — она кивает в мою сторону, — на него наплевать. А вот мне — нет. Я хочу понять, из-за чего вдруг у него так поехала крыша, что он повесился на ручке двери. Между прочим, знатоки утверждают, что такой способ самоубийства требует железной решимости. Смерть наступает от удушья, и человек мучается минут десять, оставаясь в сознании, но тело уже не слушается, наступает паралич… Можете быть уверены, Акихико знал, на что идет. Он был основательным парнем… В его духе было сначала детально изучить все возможные способы, а уже потом принять решение. Так что это не случайность и не минутная слабость. И я хочу разобраться, что к чему. Не каждый день вешается твой друг. Поэтому ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Иначе я обращусь в полицию и расскажу все, что знаю. Выбирайте, с кем вам лучше разговаривать — со мной или с полицейскими.
Характерная черта Юрико — она всегда идет напролом. И чаще всего такая стратегия себя оправдывает. Люди не привыкли к такой прямолинейности и теряются, когда им в лоб говорят то, что думают. Психолог — не исключение. Он испуганно хлопает глазами:
— Зачем полиция? То есть скрывать мне от них, конечно, нечего, но… Есть ведь правила…
— О правилах вы им расскажете, — сухо говорит Юрико. — И вообще что вы так трясетесь? Можно подумать, эта женщина — какой-то исключительный случай. Мы уже такого наслушались в вашей группе, что нас вряд ли удивишь. Верно, Котаро?
— Угу.
Честно говоря, меня больше занимает вопрос, спал он с ней или нет, и как ее звали.
— Ну, хорошо, только пообещайте, что вы никому…
— Ага. Обещаем, — Юрико поудобнее устраивается на стуле, готовясь к откровениям психолога.
— В общем-то, вы правы… Ничего такого исключительного в ее случае не было. Ее и клиенткой-то назвать можно с натяжкой. Она не обращалась ко мне за помощью. Мы познакомились случайно на выставке картин. Она была художницей, ну а я просто люблю современную живопись…
Он говорит путано и сбивчиво минут десять. Юрико успевает выкурить сигарету, не обращая внимания на недовольное лицо хозяина кабинета, а я выпиваю еще одну чашку уже остывшего чая.
Суть рассказа свелась к тому, что у этой художницы была навязчивая идея — смерть нужно изображать максимально реалистично, не допуская ни малейшего отступления от правды. К чему она и стремилась, уничтожая картины, которые, по ее мнению, не соответствовали такому стандарту. То есть практически все работы современных художников, в которых так или иначе затрагивалась тема смерти. Она заливала картины кислотой, краской, резала бритвой, сжигала, предварительно облив бензином… Из-за этого в общей сложности год провела в тюрьме и выплатила целую кучу штрафов и компенсаций. Но это не все. Бороться за свою теорию только путем разрушения она считала недостаточным. Нужно было и создавать… Писать «правильные» картины с натуры.
Тут психолог делает паузу. Снова неторопливо протирает очки и, понизив голос, произносит:
— Я видел несколько ее картин… Действительно жутко. Не знаю, как ей удавалось заполучить эту самую «натуру». Но картины были больше похожи на фотографии криминалиста. Я пытался работать с ней… Но когда она поняла, что наша связь постепенно превращается в отношения психолога и клиента, просто бросила меня. Исчезла… Тот номер, по которому звонил Акихико… Это ее телефон. Я звонил ей после того, как она пропала, но безрезультатно. Телефон либо был отключен, либо никто не брал трубку. Последний раз я пытался дозвониться четыре месяца назад.
— Как ее звали? — спрашивает Юрико.
— Вот этого я вам точно не скажу, — твердо говорит он.
И я ему верю.
Больше вопросов у нас нет.
Мы с Юрико собираемся уходить, а психолог сидит, уставившись в окно. Жалюзи закрыты неплотно, и сквозь щели видна заоконная чернота.
По кабинету ползет запах кроличьей шерсти.
Обонятельные или слуховые галлюцинации — верный признак опухоли в мозгу. Потом начинаются головные боли. Но для меня запах кроличьей шерсти — предвестник паники. Я храбрюсь изо всех сил, но страх медленно выползает из темных углов комнаты, протягивая щупальца к моему горлу. Я знаю, что сейчас громадный Кролик-мясоед, подкравшись к окну, пытается разглядеть меня в глубине комнаты. Но видит только мужчину с потухшим взглядом, сидящего в четко очерченном круге света от настольной лампы. Мужчину в очках, обвисшего на своем скелете, как старое пальто на вешалке.
Запах кролика усиливается. Мерзкий, удушливый, тяжелый, влажный… Я вываливаюсь из комнаты, оттолкнув Юрико, скатываюсь вниз по лестнице и, оказавшись на улице, едва не падаю на колени, вдохнув чистый вечерний воздух.
А ровно через неделю, придя на собрание группы, мы узнаем, что наш психолог больше не будет проводить сеансы групповой терапии. Вообще больше ни хрена не будет делать в этой жизни. Потому что накануне вскрыл себе вены кухонным ножом.
Глава 4
— Что теперь скажешь? — спрашивает Юрико, сидя на моем кухонном столе и болтая ногами. — По-прежнему считаешь, что эти звонки никак не связаны с резким желанием наложить на себя руки?
— Ничего я не считаю.
После неудавшегося собрания мы отправились ко мне. Всю дорогу в метро Юрико вела себя так, будто узнала, как можно остановить расширение Вселенной всего за пару минут. Вертелась, пихала меня локтем в бок, что-то шептала, но из-за шума я не мог разобрать, что именно… И не успели мы подняться из метро, она начала нести чушь насчет загадочного телефонного номера.
— Да ты что? — она пихает меня в бедро пяткой. — За две недели два человека отправились на тот свет, предварительно позвонив по одному и тому же номеру. Типа совпадение, да?
— Откуда ты знаешь, что психолог звонил?
— Тупой. Мне было ясно, что он позвонит туда, еще когда мы сидели и пили с ним чай.
Я подношу ко рту полупустую бутылку Suntory*. Нельзя определить, пессимист человек или оптимист по тому, как он судит о наполненности стакана. Наполовину пустой стакан или наполовину полный — зависит не от твоего взгляда на жизнь. Это всего лишь тенденция. Если в стакан что-то наливают — он будет наполовину полным. Если из него пьют — полупустым. Все просто.
* Японское виски.
— Смешай мне тоже что-нибудь, — говорит Юрико.
— Что?
— «Маргариту».
К коктейлям приучил ее я. Может быть, когда-нибудь понесу за это ответственность.
— Если только «фроузен». Шейкера у меня нет.
— Ну, давай «фроузен»…
Она достает уже седьмую сигарету из пачки. Рак легких ее не волнует. Она права. Мы мертвы уже давно. Небытие позади, небытие впереди. Стоит ли относиться всерьез к случайно свалившемуся на тебя мигу бытия?
Я высыпаю в миксер лед, наливаю текилу, куантро, выжимаю лимон и давлю на кнопку. Миксер рычит, перемалывая кубики льда.
Эта неделя выдалась удачной. Я заработал кучу денег, днем изображая покемона при входе в игрушечный магазин на Гинзе, а вечерами разгружая ящики со спиртным в соседнем с ним ресторане. Текила и ликер как раз оттуда. Просторная куртка и мешковатые штаны — то, что нужно, если не гнушаешься взять кое-какие продукты взаймы у людей, которым жратва достается легче, чем тебе. То, что я беру это в долг, знаю только я. Вряд ли они пошли бы мне навстречу, попроси я у них в открытую пару бутылок.
У одного русского я научился выкладывать рюкзак изнутри фольгой, чтобы спокойно выносить кое-какие мелочи из магазинов, оборудованных электромагнитной системой предотвращения краж. Некоторые обманывают детекторы, бросая что-нибудь небольшое и ценное в металлическую банку с краской, которую берут тут же в магазине. Но рюкзак с фольгой гораздо вместительнее и не надо платить за ненужную краску.
Если установлены радиочастотные системы, фокус с фольгой не пройдет. Здесь расчет на слабую помехоустойчивость таких систем. Часто такие ворота в торговых центрах ставят друг напротив друга, при этом сбои в работе обеспечены. Тут все зависит от везения и актерского таланта. Если сможешь сделать вид, что сигнал тревоги тебя не касается никак, есть шанс, что охранник махнет рукой. Кроме того, и радиочастотные, и электромагнитные ворота имеют «мертвые зоны». Остается только вычислить их.
В крупных универмагах неплохо срабатывает старый трюк с чеком. Нужно просто найти оброненный кем-нибудь чек. Затем зайти в магазин, где он был выдан, и найти вещь, указанную в чеке. Походить с ней немного, чтобы охрана перестала на тебя глазеть, а потом вернуть «покупку» и получить за нее деньги. Номер проходит, только в больших магазинах. Номер проходит, только если цена в чеке не слишком большая. Номер проходит, только если ты ведешь себя правильно на кассе. Шансы примерно пятьдесят на пятьдесят.
Кто-то скажет, что это обычное воровство. Я называю это борьбой за выживание. Это — моя теперешняя жизнь.
Подумать только, а ведь еще год назад я был удачливым страховым агентом…
Миксер, купленный на распродаже, замолкает. В наступившей тишине слышно наше дыхание. Я выливаю льдистую зеленовато-желтую кашицу из украденных напитков в стакан, украденный в кафе. Не вынимая сигареты изо рта, Юрико отпивает из него. Как у нее это получается, я не знаю.
— Тебе не кажется, что надо бы позвонить по тому номеру? — спрашивает она.
Я снимаю грязный стакан с миксера и ставлю его в раковину. Там уже целая гора тарелок.
— Давай позвоним?
Я думаю, что надо будет в следующий раз позаимствовать в магазине средство для мытья посуды. Тратить на это живые деньги — безумное расточительство. Пока же просто пускаю воду и смотрю, как тугая мутная струя борется с засохшим на тарелке майонезом.
— Эй! Я с тобой разговариваю. Давай позвоним. Вдруг там какой-нибудь псих, который доводит людей до самоубийства? Давай выясним…
— Зачем? — Мне и правда непонятно, зачем куда-то звонить. Не думаю, что это как-то поможет Акихико. — Допустим, правда — они позвонили по этому номеру и после разговора покончили с собой… Ты что, тоже хочешь наложить на себя руки? Предположим, что все это действительно так… Звонок — петля. Звонок — вскрытые вены… Тебе это надо?
Она тушит сигарету в пепельнице из консервной банки и тут же достает следующую. Я делаю большой глоток из бутылки. Потом заглядываю в раковину, чтобы понаблюдать за борьбой холодной воды с засохшим майонезом. Последний отчаянно сопротивляется… Настоящий самурайский майонез.
— Не знаю, — говорит Юрико. — В самоубийстве я не вижу смысла… Как и в том, чтобы его не совершать. Если кто-то поможет мне найти смысл либо в том, либо в другом, я смогу сделать выбор. А пока мне все равно…
— Тогда зачем звонить? Если тебе все равно…
— Интересно ведь.
— Мне — нет.
Мы молчим. Дышать на кухне уже невозможно. Я открываю окно, и сизые клубы дыма, лениво переваливаясь через подоконник, выползают из кухни на улицу. Только сейчас я замечаю, как тихо стало по вечерам. Никакого «бумс-бумса». Оказывается, я неплохо умею убеждать людей.
— Ты мог бы просто помочь мне, — говорит Юрико у меня за спиной.
Я отвечаю:
— Кеплер каждое свое вычисление проверял ровно семьдесят раз, чтобы избежать случайной ошибки. А ты из двух случаев выводы делаешь. Ну, псих и псих. Подумаешь, эка невидаль… В этом городе каждый второй должен в психушке лечиться.
— Кто такой Кеплер?
— Немецкий ученый. Занимался математикой, астрономией, оптикой, физикой. Телескоп он придумал. И еще додумался до того, что на приливы и отливы влияет Луна.
— А-а-а… Значит, не хочешь звонить?
— Нет, не хочу. И тебе не советую.
— Ага, — говорит она, и я понимаю, что все мои советы могу засунуть себе в задницу.
Мне становится тревожно. Но как помешать ей сделать то, что она задумала, я не знаю. Единственный выход — быть рядом с ней все время. Вместе позвонить по этому номеру и послушать, что там скажут. И потом вместе наглотаться таблеток или еще что-нибудь в этом духе. Да. Отличный план…
— Послушай, — я подхожу вплотную к ней. — Очень тебя прошу, не делай этого…
— Значит, ты все-таки веришь, что звонки как-то связаны с…
— Нет, не верю. Но проверять ничего не хочу. И не хочу, чтобы ты этим занималась. Еще не хватало тебя из петли вынимать. Понимаю, звучит по-идиотски, но я боюсь тебя потерять. Кроме тебя, у меня никого не осталось… Если ты… Если с тобой что-нибудь случится, я окажусь по уши в дерьме…
— А сейчас ты не в дерьме? — тактично спрашивает она.
— То дерьмо будет куда дерьмовее, чем это, понимаешь?
— Ну и? Теперь я должна заботиться о тебе до конца своих дней? Вытирать тебе сопли только потому, что твоя женушка, как ее там, расхреначилась в лепешку?
Пощечина получается неожиданно сильной. Голова Юрико, мотнувшись, ударяется о висящий на стене шкафчик, внутри которого что-то падает. Что-то украденное или купленное на заработанные сомнительным способом деньги…
Несколько секунд мы удивленно смотрим друг на друга. Никто не ожидал такого поворота событий. Юрико приходит в себя быстрее:
— Долбаный псих!
Я молчу.
— Урод тупой!
Я молчу.
Она швыряет стакан с остатками «маргариты» на пол, отпихивает меня ладонями и спрыгивает с разделочного столика. По подбородку стекает струйка крови из разбитой нижней губы, а на лбу, ближе к правому виску, вспухает шишка. Все это — моя работа.
Входная дверь захлопывается с такой силой, что в настенном шкафчике снова падает что-то украденное. Может быть, коробка печенья, может быть, пластиковая бутылочка с соусом, может быть, упаковка пищевой пленки… Я стою посреди кухни и разглядываю осколки стакана и растекшуюся по линолеуму зеленовато-желтую лужицу «маргариты». Битое стекло и льдистая кашица весело поблескивают в свете флуоресцентной лампы. Им-то все по хрену…
Я наступаю босой ногой на бритвенно-острые осколки, которые с тихим хрустом ломаются и впиваются в кожу. Это — агрессия, направленная на самого себя. Я хочу почувствовать физическую боль, наказать себя за то, что, возможно, две минуты назад подписал смертный приговор Юрико. Я хочу наказать себя за то, что отпустил тогда беременную жену к ее родителям, даже не потрудившись проверить машину. За то, что не оказался под тем грузовиком вместо нее. За то, что продолжаю цепляться за жизнь, хотя мне не для чего жить. За то, что в глубине души я до сих пор верю в идиотское правило — не делай ничего плохого и будешь счастлив.
Я топчу осколки, словно хочу превратить их голой пяткой в стеклянную пыль. Я топчу свой страх за Юрико, свой стыд перед ней, свою злость на нее. Я топчу весь этот чертов год, наполненный пьянством, мелким воровством, унизительной работой, одиночеством, тупой болью в сердце, ненавистью и завистью к тем, кто еще не получил свое… Год, под завязку наполненный отборным дерьмом.
К тому моменту, когда я выдыхаюсь, на полу месиво из крошечных осколков стекла, растаявшего льда, коктейля и крови. Ступни жжет.
Я беру бутылку виски и ковыляю в комнату, оставляя за собой две кровавые дорожки.
Если кто-то подумал, что после этого припадка мне стало легче — он не угадал. Пусть попробует еще раз…
Три дня я валяюсь на кровати, безрезультатно пытаюсь дозвониться до Юрико, пью виски с аспирином, читаю книги и отстраненно наблюдаю за тем, как гниют мои ноги. Попытки вытащить осколки стекла, сидя в некоем подобии позы лотоса, не спасают — их слишком много, и они сидят слишком глубоко. Маленькие злобные зубастые невидимки. Я обрабатываю ноги дезинфицирующими средствами, кое-как накладываю повязки, но несмотря на все усилия, куда бы я ни хромал, за мной повсюду остаются красные отпечатки. На утро третьего дня к крови примешивается гной. Чтобы не расстраиваться, я стараюсь поменьше вставать с кровати.
И все равно, на третью ночь я не могу заснуть. Кажется, что мои ступни глодает целый выводок хищных зверьков. Не помогают ни виски, ни болеутоляющие «колеса». Я лежу в темноте и смотрю туда, где днем находится потолок.
Я думаю о том, что могу запросто подохнуть в своей вонючей квартирке от заражения крови. И о том, что найдут меня только тогда, когда запах гниющего тела начнет доставать соседей. Вздувшегося, позеленевшего меня отвезут в морг, установят личность и свяжутся с моим братом. Тот подтвердит, что лежащая на металлическом столе полуразложившаяся масса является его братом, Ито Котаро, и отправится домой, ожидать наследства, делить которое уже ни с кем не придется. Может, пропустит вечером на радостях стаканчик виски. А Юрико тем временем влипнет в историю, и не будет никого, кто смог бы ей помочь.
Отличный план на ближайшую неделю. Просто отличный…
Не знаю, что меня больше расстраивает — возможность собственной смерти или возможность смерти Юрико. Мне бы очень хотелось сказать, что беспокоюсь я только за нее. Но когда лежишь один в темной квартире со ступнями, походящими на несвежий фарш, и чувствуешь, как поднимается температура, можешь позволить себе такую роскошь, как честность с самим собой. И после недолгих размышлений я прихожу к выводу, что умирать вот так не хочу. Да, Юрико… Да, конечно, Юрико… Но все же больше огорчает перспектива собственной смерти. Остальное потом…
Боль и страх хорошо прочищают мозги. И на какое-то время я становлюсь нормальным человеком. Нормальным, трясущимся за собственную шкуру сукиным сыном.
Медсестра отдирает присохшие бинты, а я лишь хрюкаю под суровым взглядом молодого врача.
— Вы что, на битых бутылках танцевали? — спрашивает он, ковыряясь пинцетом в сочащихся гноем нарывах.
Я смотрю на белые кафельные стены процедурного кабинета, на тележку с угрожающего вида приспособлениями, предназначенными, как принято думать, для облегчения страданий больного, на ноги медсестры, обутые в белые мягкие туфли без каблуков, на ее халат, испачканный моей кровью и гноем. Я смотрю на все это, пытаясь фокусировать взгляд на деталях. Но с каждым прикосновением пинцета к моим вздувшимся ступням делать это все сложнее. Я заставляю себя думать о чем-нибудь отвлеченном.
Бетховен всегда варил кофе из шестидесяти четырех зерен. Практически все вороны умеют считать до пяти. Гепард — единственная кошка, которая не может прятать когти. Из-за особенностей строения глаз, воробьи видят мир в розовом свете.
— Почему сразу не обратились к врачу? — спрашивает он, поливая мои ноги горящим напалмом.
Розовое масло состоит из 275 ароматических соединений. Средняя женщина за свою жизнь использует около двух с половиной килограммов губной помады. Таракан без головы живет шесть часов. Сердце жирафа весит одиннадцать килограммов.
Я хриплю, шиплю, отдуваюсь, комкаю простыню, но не произношу ни слова. Потому что знаю — первое же слово превратится в крик. А врач невозмутимо продолжает сдирать с моих ног кожу…
Спустя три часа я подписываю какие-то бумаги, получаю от врача баночку с мазью цвета болотной тины и совет быть впредь поосторожнее со стеклом. Дельное замечание.
Мне предлагают взять напрокат инвалидную коляску или хотя бы костыли, но я отказываюсь. Просто нечем за это заплатить.
Понимание того, что теперь моя жизнь вне опасности, придает достаточно сил, чтобы доковылять до метро.
Дома я наконец делаю то, что хотел сделать весь день, — теряю сознание.
Четыре дня я не могу дозвониться до Юрико. Все, что мне удается, — поговорить в ее отцом, который сообщает, что девушка не появляется дома уже неделю. Судя по голосу, он не очень-то переживает. Он говорит, что иногда она исчезает и на месяц. Так что причин для волнений нет.
— Придет, куда она денется? — астматически дышит он в трубку. — Деньги закончатся, и придет. Она всегда так делает. Передать, что вы ей звонили?
— Да, пожалуйста, — вежливо отвечаю я.
Может быть, он и прав. Может быть, она действительно захотела немного развлечься на папины денежки. Может быть, ее привлекла жизнь огяру*. Может быть, она нашла парня и теперь живет у него… Если задаться целью, таких «может быть» можно придумать не один десяток.
* Когяру (kogyaru — от kogirl) — «тусовщицы». Девушки-старшеклассницы, проводящие все свое свободное время, тусуясь с друзьями в модных и дорогих кварталах больших городов — прежде всего в токийском квартале Сибуя. Огяру (ogyaru — от ogirl) — наиболее радикальная разновидность когяру. Бродяги, месяцами не бывающие дома и живущие на тусовочных квартирах или просто на улице.
Но есть и другие «может быть». Например: может быть, Юрико уже сидит в горячей в ванне, и вода медленно окрашивается в красный цвет от крови, вытекающей из разрезанных вен. Может быть, Юрико бродит по городу, выбирая здание повыше, чтобы использовать его крышу как трамплин. Может быть, заходит в аптеку, чтобы купить несколько упаковок мепробамата или фенобарбитала… Ну, и все такое.
Какое-то время я колеблюсь. Брожу между этими «может быть» с завязанными глазами в надежде нащупать правильный ответ. Но все бесполезно. Интуиция хорошо работает только тогда, когда ты располагаешь достаточной информацией. А так от нее нет никого проку.
Потеряв еще два дня, в течение которых я смазываю подошвы наг мазью, глотаю антибиотики, доедаю последнюю банку украденных неделю назад консервов и через каждые два часа набираю номер Юрико, я, наконец, принимаю решение.
Я звоню в полицию. Девушка на том конце провода говорит, чтобы я не волновался, все будет в порядке. Она говорит, что причин для беспокойства нет, прошло не так много времени; что это не маленький ребенок, следовательно, вполне может не приходить вечером домой; что принять официальное заявление может только от родственников. Она говорит много всякой чуши. Суть сводится к одному — никто не собирается ни черта делать. По крайней мере до тех пор, пока через месяц не придет отец Юрико и не подпишет кучу бумажек. На всякий случай она делает вид, что записывает приметы Юрико, а потом отключается.
Ну да. Стоило два дня ломать голову, чтобы услышать такой ответ.
Потом я начинаю обзванивать всех знакомых по группе. Тех психов, которые раз в неделю делали сочувствующие лица, когда я рассказывал им о своих проблемах. С большой натяжкой можно предположить, что кому-нибудь из них Юрико сообщила, где ее можно найти. Остаток дня я трачу на болтовню с психами. Всех волнует только одно — как бы найти хорошего психолога взамен выбывшего из игры. Они озабочены только тем, как бы снова оказаться в команде таких же психов. Привычка делиться всяким дерьмом, забившим под завязку голову, заставляет их обзванивать одну клинику за другой, один психологический центр за другим, просматривать десятки рекламных газет и сотни тематических сайтов, чтобы как можно быстрее получить новую дозу наркотика под названием «чужое внимание». Самая настоящая зависимость, которую тоже нужно лечить. А для этого необходима групповая терапия, где все будут внимательно слушать о твоей зависимости от желания, чтобы тебя внимательно слушали. Замкнутый круг.
Последний звонок я делаю в десять вечера и окончательно убеждаюсь, что чудес на свете не бывает.
Никто ничего не знает о Юрико. Никто вообще ни хрена не знает, кроме того, что найти хорошего психолога — целая проблема. О, был бы у меня номер, по которому звонил Акихико, я смог бы вам здорово помочь в ваших поисках, ребята.
День заканчивается, а я по-прежнему не имею понятия, где Юрико. Если бы у меня хватило тогда ума записать номер телефона! Теперь я позвонил бы по нему, не сомневаясь ни секунды. Но я был слишком туп, чтобы поверить в такую ерунду, как доведение до самоубийства по телефону. Я и сейчас-то по-настоящему в это не верю. Просто нужна ведь какая-то гипотеза… Иначе как решишь, в каком направлении искать.
Намазывая подошвы ног мерзко пахнущей мазью, которая, по уверениям врача, обладает фантастической способностью почти мгновенно заживлять резаные, колотые и рваные раны, нанесенные осколками разбитого стакана, я заставляю себя забыть о сомнениях. Пытаюсь убедить себя, что убить по телефону можно так же легко, как и при личной встрече. Ну, или почти также…
Ступни покрываются толстым слоем жирной мази, а у меня остается все меньше доводов против теории Юрико. Любое поползновение здравого смысла привести контраргумент я встречаю в штыки. Мне ни к чему здравый смысл. Мне ни к чему логика и критический взгляд на вещи. Мне ни к чему реализм.
К тому моменту, когда ноги перебинтованы, я уже верю в теорию Юрико. Я грызу на кухне найденные галеты, которые стащил из магазина месяца три назад и забыл про них. Я запиваю галеты водой из-под крана и собираю воедино все, что знаю относительно смерти Акихико и психолога. Собирать приходится недолго.
Оба позвонили по одному и тому же номеру, а потом покончили с собой. Во всяком случае, Акихико проделал именно этот трюк. Юрико считает, что психолог тоже звонил. Да, конечно. Именно так все было, и мне плевать, если кто-то думает иначе. Номер принадлежал свихнувшейся художнице, которая каким-то образом заполучала свежих покойников в качестве натурщиков. Самого номера у меня нет, имени художницы я не знаю, где искать Юрико — не представляю. Вот, собственно, и все…
Я смахиваю со стола абразивно твердые крошки.
Мне нужно найти ту художницу. Если, конечно, она еще жива. Если она еще не в психушке. Она должна иметь какое-то отношение к этому делу. С нее-то я и начну операцию «Поиск и спасение».
Глава 5
Американский психолог Стенли Милграм выбрал из телефонных справочников разных городов несколько адресов и написал каждому адресату письмо о другом, тоже случайно выбранном человеке, указав его фамилию, внешность и краткую биографию. Он просил корреспондента вернуть письмо в случае, если тот знает парня, о котором говорилось в письме. В противном случае была просьба переслать письмо тому, кто, по мнению получившего письмо, мог бы знать. Со следующим подопытным кроликом та же история. Знаешь — сообщи, не знаешь — перешли тому, кто может знать. Такой вот эксперимент.
Цепочки связи были на удивление короткими. Большинство — в интервале от двух до десяти передач. В среднем, каждый пятый оказывался тем, кем нужно.
У меня блокнот, в который я аккуратно записываю рассказы этих людей. Художников, дизайнеров, фотографов, мастеров хентай… Я разговариваю с людьми, изображавшими на своих полотнах утопленниц. Разговариваю с теми, кто писал людей, распятых на деревянной стене, на металлической сетке, на кресте, просто на полу.
Мотивы сожжения любят ребята с комплексом вины. Признак комплекса неполноценности — связанные и исполосованные до смерти кнутом девчонки. Проблемы с матерью в раннем детстве — мертвые девушки с большой грудью. Если при этом сложности с мамой носили сексуальный характер, в картине присутствует намек на изнасилование. Я могу поставить диагноз автору, мельком глянув на его картину или комикс.
Я разговариваю с нанюхавшимися кокаина парнями, которые раз и навсегда бросили писать. Психи с ниточкой слюны, свисающей изо рта, мечтают создать новый шедевр. Извращенцы с липкими руками делятся со мной творческими планами.
И каждый из них называет мне пару новых имен. Чистых страниц в моем блокноте с каждым днем становится все меньше. Но ни один из встреченных мной людей не может сказать ничего толкового про женщину, которая уничтожала картины. Я не отчаиваюсь. Я знаю, что, в конце концов, обязательно найду того, кто знаком с ней или что-нибудь знает про нее.
Поговорить удается не со всеми. Некоторые из этих одаренных ребят уже в психушке. Некоторые — в клиниках для наркоманов. Некоторые, самые способные, чьи картины действительно представляли ценность, уже поставили точку. Кто-то живет слишком далеко от Токио. Этих я оставляю на потом.
Вечерами я прихожу в квартиру и первым делом прослушиваю автоответчик. На случай, если вдруг Юрико объявилась. Надежда уменьшается прямо пропорционально тому, как распухает мой блокнот. Потом я снимаю носки, пропитавшиеся за день кровью и сукровицей. Из-за этой беготни начавшие было заживать порезы опять кровоточат и гноятся. Уже привычными движениями я втираю в пылающие огнем ступни мазь и заглатываю пару обезболивающих «колес».
Ужин состоит из того, что мне удалось стянуть в попавшемся на пути магазине. Конфеты, чипсы, печенье. Если очень повезет — банка консервов. Я стараюсь не думать о том, что подходит время платы за квартиру. Я стараюсь не думать о том, что заканчиваются лекарства, без которых я, наверное, не смогу ступить и шагу. Я стараюсь не думать о том, что та, из-за кого заварилась вся эта каша, возможно, уже мертва…
Я ложусь спать далеко за полночь, и долго ворочаюсь, ожидая, когда подействуют таблетки.
А наутро меня ожидают новые впечатления и новые кусочки мозаики, которые я аккуратно прикладываю друг к дружке.
Как всегда кстати звонит мой брат:
— Как дела?
Я молчу, прикидывая, стоит ли выкладывать ему эту историю. С его связями он может сделать многое. Если, конечно, захочет. И если захочу я рассказывать ему о своих проблемах… Не так-то просто объяснить человеку, который считает тебя законченным неудачником, что ищешь неуравновешенную девчонку, склонную к суициду, или хотя бы чокнутую художницу, обожающую рисовать покойников. И все это потому, что еще пара психов покончили с собой после того, как позвонили ненормальной художнице. С такими рассказами сам рискуешь быть причисленным к этой веселой компании.
Сомневаюсь я недолго.
— Позвонили и наложили на себя руки? — переспрашивает он.
— Ну, типа того… То есть позвонили и наложили, но я не уверен, что здесь есть прямая связь. Так сказать, рабочая гипотеза.
— Как, говоришь, звали девушку?
— Зовут. Ее зовут Кобаяси Юрико.
— А художницу?
— Если бы знал, уже давно бы ее нашел.
— Ладно… Попробую что-нибудь узнать.
— Буду ждать.
— Старик-то не поправляется, — говорит он. — Уже подумывают, не положить ли его в больницу.
— Поздравляю тебя, — отвечаю.
И кладу трубку. Он уже произносил похожие слова год назад. Недели за две до гибели моей жены… В приметы я не верю, но как-то невесело думать, что, быть может, теперь на очереди Юрико.
— Эй, приятель, — говорю я отражению в зеркале, — только не сходи с ума. Ты просто немного устал. Потому и лезет всякая чушь в голову.
Звучит настолько фальшиво и жалко, что на месте отражения я плюнул бы себе в лицо.
Проходит еще два дня, и я окончательно убеждаюсь, что зашел в тупик. Да, тронутая художница действительно существует или существовала. И есть люди, пострадавшие от ее просветительской деятельности. Вот и все, что удается выяснить. По словам самых осведомленных, она никогда и нигде не выставляла свои картины. Никто ни разу ее не видел. Этакий человек-невидимка… Призрак с бритвой в одной руке и кистями в другой. Все это здорово напоминает мне байки, которыми пугают детей. Что-то вроде: будешь плохо рисовать покойников — придет ужасная художница и зальет кислотой твои картины… бу!
Мне не остается ничего другого, как зайти с другой стороны. Попробовать найти зацепку в мире психов, раз уж мир художников показал мне кукиш.
Я размазываю остатки мази по измочаленным ногам, посещаю ближайший магазин со своим волшебным экранирующим рюкзаком, набиваю холодильник тем, что удалось позаимствовать, покупаю на последние деньги анальгетики и принимаюсь за дело.
Я по-прежнему ищу Юрико. Но вместо нее нахожу людей с параноидальным расстройством личности, шизоидным расстройством, диссоциальным расстройством, ананкастным расстройством. Разговариваю с фетишистами, эксгибиционистами, вуайеристами, педофилами, садомазохистами. Отличная компания. Больше всего меня радует то, что все они живут среди нас. В соседней квартире, в доме напротив. Они делают суси этими самыми руками, они моют машины, они метут улицы по утрам, они охраняют универмаги, дают сдачу в магазине… Они везде. И каждый, с кем я разговариваю о его нелегкой жизни, дает мне адрес или телефон еще одного шизофреника или параноика.
Но больше всего меня интересуют те, кто склонен к самоубийству. Или знакомые тех, кто покончил с собой. Или знакомые знакомых… Я, делая сочувствующее лицо, слушаю, как люди прыгают с крыш, мостов, вышек, строительных лесов; режут себе вены и артерии, режут в холодной и теплой воде, вдоль и попрек, на руках и на горле. Одних только способов повеситься я насчитываю не меньше пятнадцати.
Вечером восьмого дня я приползаю домой. Ступни стерты до костей, а я чувствую себя наикрутейшим сыщиком, стоящим в одном шаге от раскрытия преступления века. В один день мне везет дважды. Два человека, покончивших с собой, по уверениям их знакомых, незадолго до своей смерти намекали, что «нашли кое-что действительно стоящее» и назвали себя «добровольцами». Сами по себе эти слова ничего для меня не значат. Значит то, что их произносили люди, незнакомые друг с другом. Здравый смысл подсказывает, что это может быть простым совпадением. Мол, не такие уж редкие эти слова. Но я затыкаю ему рот, а себе уши. Мне нужно найти Юрико, если она еще жива. И если для этого мне придется поговорить с каждым психом в городе — я поговорю с каждым психом. Если для этого мне придется свихнуться окончательно самому, я свихнусь.
Потому что, возможно, недостаточно просто не делать ничего плохого. Быть может, нужно хоть раз сделать что-то хорошее, даже в ущерб себе. Счастья наверняка не принесет. Но зато даст покой…
Так думаю я, лежа в своей постели. Желудок урчит от голода. Ноги болят так, словно я весь день бегал по колючей проволоке. Но мне впервые за много дней засыпается легко. Впервые за много дней я не мечтаю, чтобы утром наступила ядерная зима или чтобы вырвался на свободу вирус сибирской язвы.
Я снова слушаю, как люди глотают снотворное и железные опилки, пьют растворенный в уксусной кислоте свинец и экстракт табака, дышат газом, вкалывают бешеные дозы инсулина и героина.
И в рассказах все чаще мелькает слово «доброволец». Все больше людей, считающих, что их мертвым друзьям, родственникам или знакомым кто-то помог приобрести по дешевке билет в страну счастливой охоты. Несколько раз в разговорах упоминают и о художнице, рисующей трупы.
Я все больше убеждаюсь, что Юрико была права. Теперь даже у здравого смысла хватает ума не вступать в спор по пустякам. Правда, как обычно, есть одно существенное «но» — у меня по-прежнему ни одной зацепки. Ни конкретных имен, ни адресов, ни телефонов. Только слухи, догадки, предположения, версии. В общем, они дают неплохую картину происходящего, но толку от этого — zero. Все, кто мог сказать что-нибудь конкретное, мертвы.
Девушка бросилась с небоскреба, парень вскрыл себе вены, женщина повесилась на потолочной балке своего загородного дома. Кто обратит на это внимание? Рядовое самоубийство, вот и весь разговор. Таких только в Токио набирается по паре десятков в день. Никому и в голову не приходит как-то связать эти случаи, копнуть поглубже и обнаружить, что некоторые из этих людей незадолго до смерти вступали в контакт с человеком или целой организацией, которая остро нуждалась в «добровольцах». Ни о каком серийном убийце и речи быть не может. Вообще об убийствах никто не думает… Что может быть очевиднее предсмертной записки с добрыми пожеланиями тем, кто остается?
Неудивительно, что до сих пор никто не забил тревогу. Пока связать все воедино могу только я. Только я представляю себе масштаб происходящего. Только я могу что-то изменить. И каждый день я старательно записываю в блокнот имена, адреса, подробности, краткие описания того, как именно очередной «клиент» отправился на тот свет. Я с головой ныряю в это дерьмо, чтобы положить ему конец.
И все из-за Юрико. Она все-таки сумела втянуть меня в это. Я надеюсь, что не ценой своей жизни. Но чем больше исписанных страниц в блокноте, тем меньше надежды.
Непонятно, кому все это нужно? Для чего подталкивать к самоубийству несчастных забитых психов? Только для того, чтобы написать очередную картину типа: «То, что осталось от девушки после прыжка с двадцать второго этажа на рассвете»? Это единственное объяснение, которое я могу придумать, исходя из имеющихся у меня сведений. Хотя абсолютно нелепое… Чтобы нарисовать такое количество трупов, нужно работать по сорок пять часов в сутки без выходных.
Чем дальше я продвигаюсь в своих поисках, тем больше появляется вопросов. И тем сильнее я убеждаюсь в том, что ничего не понимаю. Есть, вернее, должна быть, одна маленькая деталь, которая связывает все воедино, превращая хаотичное нагромождение бессмысленных фактов в четкую и логически правильно построенную систему. Вот до этой детали мне никак и не добраться. Это чем-то похоже на психологический тест. Мне нужно определить принцип, по которому сгруппированы предметы, не имеющие на первый взгляд ничего общего.
Брат звонит, кода я лежу на не разобранной постели и смотрю, как мигает реклама, установленная на крыше дома напротив. Без «бумсов» из-за стены комната напоминает теперь дискотеку для глухих. Дергайся в такт мерцанию неонового света и будь счастлив…
— Ну, как у тебя дела? — спрашивает брат, и я представляю, как он сейчас ковыряет в ухе.
— Ты нашел что-нибудь?
— Я тут подумал на досуге… Мне кажется, что твоя идея несколько бредовая. Не обижайся. Человек, по телефону заставляющий совершить самоубийство, — что-то из тех сказочек о зомбировании и промывании мозгов. Двадцать пятый кадр и все такое… Любимая тема желтой прессы. Скорее всего, твоя девчонка развлекается сейчас с каким-нибудь парнем, пока ты с ума сходишь.
— Очень умно. Но должен тебя разочаровать. Кое-что я разузнал. Некоторые самоубийства действительно как-то связаны. Есть что-то общее… Не знаю подробностей, но общие черты есть, как минимум, у двенадцати случаев внезапного суицида. Это только за последние полгода… Так что никакой желтой прессы.
Ясукадзу молчит, и я представляю, как он изучает кончик мизинца, испачканный серой из уха. Да, его сложно назвать приятным парнем.
— Ты уверен? — наконец спрашивает он.
— Абсолютно.
— Это, конечно, меняет дело… Хотя мне по-прежнему трудно в это поверить.
— Мне тоже было трудно. Если хочешь убедиться, могу продиктовать несколько имен. Поговори сам с этими людьми. Может, тебе удастся выяснить больше, чем мне.
— И ты думаешь, что это как-то связано с той сумасшедшей художницей?
— Не знаю. Теперь уже не знаю… То есть она имеет какое-то отношение к делу, но я не могу понять, какое именно. Знаю одно: среди покончивших с собой были ребята, картины которых она уничтожила. Двое из них называли себя добровольцами.
— Какими еще добровольцами?
Мне приходится коротко рассказать ему о том, что удалось узнать за эти дни. Когда он начинает говорить, в его голосе слышится неподдельная заинтересованность проснувшегося вдруг журналиста:
— Слушай, если ты не ошибся, это может быть сенсацией.
— Эй, никаких сенсаций! Во всяком случае до тех пор, пока я не найду Юрико… Мы же ничего толком не знаем. Если речь идет о каком-нибудь психе, я не хочу, чтобы он наложил в штаны и от страха начал делать глупости. Знаешь, как это бывает — ненужные свидетели и все такое.
— Ты начитался детективов…
— Очень тебя прошу — пока я не нашел Юрико, никаких газет.
— Ладно, — неохотно соглашается он.
— Обещаешь?
— Да.
— Обещаешь?
— Обещаю, обещаю… Что ты собираешься делать дальше?
— Не знаю. Есть еще несколько имен… Поговорю с этими людьми, может быть, что-то и всплывет.
— Держи меня в курсе.
— Да, конечно. Правда, я рассчитывал, что ты поможешь.
— Помогу, что за вопрос. Поговорю с ребятами из газет…
— Ты обещал.
— Да нет, подробностей рассказывать не буду. Узнаю, может, есть какие-нибудь материалы о той художнице… Если она занималась тем, чем занималась, наверняка хоть пару строк об этом написали. Может, удастся выяснить, как ее звали. В общем, поинтересуюсь, что и как. Полиция опять же… Есть у меня там несколько знакомых… Знаешь, это очень интересное дело. Даже не представляешь, насколько интересное — задумчиво говорит он. — Только держи меня в курсе. Звони, как только что-нибудь узнаешь. Не хочу, чтобы ты тоже исчез.
И вешает трубку, забыв сообщить мне о состоянии здоровья нашего дорогого родственника. Такого с ним не было давно. Последний раз — когда он высказывал свои соболезнования по поводу гибели моей жены.
Завтра меня ожидает встреча с парнем по имени Куроки Тецуо. Мне рекомендуют его как большого специалиста по суициду. Восемь попыток — это о чем-нибудь да говорит. Настоящий эксперт. Во всяком случае, так мне сказала девчонка с перебинтованными запястьями, которая в больнице-то и познакомилась с ним. Он там что-то вроде местной легенды. Кумир малолетних психов, шантажирующих родителей и друзей посредством липовых суицидов. Можно сказать, гуру, показывающий личным примером, что убивать себя можно дважды в год, добиваясь главного приза, о котором мечтает каждый уважающий себя придурок — чужого внимания к своей персоне. Еще она рассказала, что гуру отсидел три года в Футю за наркотики и пристрастие к опустошению чужих банковских счетов через Интернет. Разносторонний паренек.
Ноги решили, что рассчитывать на мое сострадание бесполезно, и начали заживать. Покрытые коростой подошвы теперь только зудят, словно под коркой омертвевшей кожи сходят с ума сотни муравьев. Запасы наворованных продуктов подходят к концу, деньги тоже. Поэтому весь день я провожу в заботе о миске риса, и только к концу дня добираюсь до дома на северной окраине Токио, в котором живет Куроки Тецуо. Обычный многоквартирный дом, где квартиры по размерам ненамного превосходят встроенный шкаф. Дешевое общежитие, последнее убежище проигравших в войне с обществом развитого потребительства.
Я поднимаюсь по металлической лестнице на пятый этаж. Стены на втором разрисованы граффити. На третьем — окурочный Клондайк, выше — два шприца, зафутболенные в угол. И повсюду запах дешевой жареной рыбы и прогорклого масла, запах тяжелый, липкий, грязный. Если слово «грязный» можно применить по отношению к запаху. Впрочем, ничего другого я не ожидал.
Мне открывает полуголая девица с заспанными глазами и синяком на плече. На левой груди маленькая татуировка в виде ящерицы. Ящерица упорно ползет к темно-коричневому соску.
— Тебе чего? — спрашивает девица.
— Тецуо дома?
Она молча разворачивается и исчезает в комнате. На ляжке у нее тоже синяк, уже пожелтевший. Я захожу в квартиру, воняющую застарелым потом, грязным бельем и травой.
У Тецуо отвислый живот, одутловатое лицо и заплывшие глазки, а над всем этим — короткий ежик волос. Похоже, будто к голове щетиной вверх приклеена обувная щетка. Судя по тому, как горели глаза у той девчонки с бинтами на руках, гуру должен бы выглядеть посмазливее. А так он больше похож на хомяка, страдающего хроническим похмельем, чем на кумира суицидально настроенной молодежи. Единственное, что указывает на его склонность к суициду, — тонкие белые шрамы на запястьях. Их много, наверное, с десяток. Упорный парень.
Мы сидим на крошечной кухоньке. Везде немытая посуда с засохшими остатками еды. Везде грязные одноразовые стаканчики. Везде мусор, окурки и какие-то детали от компьютера.
— Хочешь джойнт, братан? — спрашивает Тецуо, сворачивая косяк.
— Нет, спасибо.
— Выпить?
— Есть виски?
Он достает из шкафчика бутылку Nikka, на дне которой что-то плещется. Долго ищет чистый стакан, но потом машет рукой:
— Пей так.
Он глубоко затягивается, задерживает дыхание, так что хомячье лицо медленно багровеет, и с шумом выпускает из себя дым. По кухне разносится сладковатый запах марихуаны. Я делаю глоток виски прямо из горлышка.
— Зачем пришел, братан? — спрашивает Тецуо.
Я повторяю слова, которые говорил уже раз тридцать, автоматически выдерживая нужные паузы, делая необходимые ударения и подчеркивая интонационно наиболее важные моменты в своем рассказе.
Не успеваю я закончить, как на пороге кухни возникает девица. Она уже успела натянуть на себя мятую футболку. Под ней ящерица все еще ползет к соску. Со временем расстояние от ящерицы до соска будет только увеличиваться.
— Тецуо, сволочь, почему куришь один?
— Отвали, — вяло произносит Тецуо.
— Не будь дерьмом, оставь мне.
— Пошла вон, сука. Не видишь, у меня важный разговор.
— Кто это такой? У него есть что-нибудь?
— У меня ничего нет, — говорю я.
— Совсем? — она недоверчиво прищуривается.
— Совсем.
— Пошла вон!
Тецуо неторопливо встает и отвешивает девице ленивую пощечину. Та так же невыразительно обзывает его чертовым наркоманом, говорит, что с нее хватит, и уходит в комнату. За тонкой стенкой начинает бубнить телевизор. А кухня заполняется дымом. Я чувствую, что еще немного, и меня самого потащит. Встаю, открываю окно и делаю несколько глубоких вздохов.
— Так что ты от меня хочешь, братан? — спрашивает Тецуо.
— Сможешь мне помочь?
— Чем?
— Ну, может быть, ты что-то знаешь обо всем этом. Может, встречал этих добровольцев… Или слышал что-то. Мне нужна любая информация.
Выражение лица у него не меняется. Все такое же равнодушно-одуревшее. Я начинаю сомневаться, что он в состоянии сделать хоть что-нибудь, кроме того, как выкурить косяк.
— Ты понимаешь, что просишь, брат? — он выпускает к потолку струйку дыма.
— Понимаю. Всего лишь информацию, которой ты, возможно, располагаешь.
— Вот именно, информацию… Что самое дорогое в нашем мире, как болтают всякие уроды в белых воротничках? Информация. Информация стоит до хрена бабок, брат. А судя по виду, дела у тебя идут неважно.
Он затягивается. Я слышу, как потрескивают сушеные стебли и сухие семенные коробочки. Трава у него дерьмовая.
— Так что извини, ничем не могу помочь, — говорит хомяк-Тецуо.
— Но ты что-то знаешь об этом? — Я стараюсь быть очень вежливым и миролюбивым.
— Какая тебе разница?
— Большая. Если тебе что-то известно, деньги не проблема. — Я стараюсь помнить о том, что к людям нужно относиться с пониманием.
Он хмыкает и трет грязный живот, по которому стекает тонкая струйка пота, оставляя на бледной коже относительно чистую дорожку.
— Сколько?
— Для начала я должен знать, что ты можешь мне предложить.
— Допустим, я скажу, как найти ту художницу. Сколько ты заплатишь за такую информацию?
— Эй! — В кухне снова появляется девица. — Не вписывайся в это! Ты слышишь, Тецуо? Пошли его в задницу.
— Уйди, дура. Не лезь не в свое дело. Иначе опять получишь, шлюха. Чертова шлюха! — Он ударяет кулаком по столу. — Пошла вон отсюда!
— Хоть денег побольше попроси, придурок!
Он, не вставая, пинает ее ногой и попадает в голень. Девица, шипя от боли, ковыляет в комнату. Вскоре там снова начинает бормотать телевизор.
— Знаешь, братан, я хочу свалить на фиг отсюда…
— Далеко?
— В Штаты. Достало меня все это дерьмо. — Он обводит взглядом убогую кухню. — Я не хочу, чтобы моя жена работала в пип-шоу. Понимаешь, ей приходится дрочить всяким ублюдкам… А потом она этими же руками дрочит мне. Ты понимаешь, как это погано?
Я качаю головой. Я на самом деле не понимаю, как это погано. Но я знаю, что есть вещи и похуже.
— Ладно, проехали… Короче, мне нужны бабки. Тебе — информация. Пятьсот тысяч могут решить наши проблемы.
— Проси больше! — слышится из комнаты. — Проси больше, придурок! На эти деньги в Америку мы не уедем.
— Заткнись!.. Так вот, пятьсот тысяч и ни иеной меньше. Если не согласен, ищи сам кого тебе нужно. И без обид, брат.
Пятьсот тысяч, в общем-то, небольшие деньги. Можно сказать, мелочь, месячная зарплата начинающего инженера. И именно в эту плевую сумму оценены сведения, которые должны помочь мне спасти девушку по имени Кобаяси Юрико. Загвоздка в том, что таких денег я не держал в руках почти год. И вряд ли подержу в ближайшие лет двадцать. Я не начинающий инженер, я медленно спивающийся бездельник.
— Дороговато, — говорю я. — Пятьсот тысяч за несколько цифр — дороговато.
— Как хочешь, — пожимает плечами Тецуо и бросает обмусоленный окурок в раковину.
— Может, сойдемся на двадцати тысячах?
— Не вздумай соглашаться! — вопит девица из комнаты.
— Нет, брат, извини. Пятьсот штук — и я рассказываю все, что знаю. За меньшее могу предложить только джойнт и пинок под зад.
Его маленькие хомячьи глазки, утопающие в бугорочках жира, холодно смотрят на меня. Мерзавец прекрасно понимает, что мне позарез нужно узнать имя человека, которому звонила Юрико. Наверняка звонила. И вляпалась в то же дерьмо, что и Акихико с психологом.
— Я и так прошу немного, хотя сильно рискую. Ты даже не представляешь, насколько сильно…
— Вот и пошли его в задницу, — кричит девица.
— Хорошо, скажи хотя бы…
— Пятьсот штук, брат. И ты узнаешь все, что тебя интересует.
— Да нет у меня таких денег!
— Тогда извини.
Он начинает неторопливо забивать следующий косяк.
— Кейко! Хочешь покурить?
— Оставь мне, — доносится из комнаты.
— Ладно, — говорю я, глядя на толстые пальцы с грязными ногтями, которые ловко управляются с папиросной бумагой. — Ладно, будут тебе деньги.
— Пятьсот штук? — Пальцы на секунду замирают.
— Пятьсот штук. Завтра или, скорее всего, послезавтра. Где тебя найти?
— Здесь. У меня выходные.
Ага, посреди недели. Так же, как у меня.
Уже когда я стою на пороге его гнусной квартирки и вдыхаю запах жареной рыбы, Тецуо спрашивает:
— Слушай, братан, а правда, что в казино Лас-Вегаса нет ни одних часов?
— Не знаю. Говорят.
— Вот бы посмотреть на этот Лас-Вегас… Наверное, охренительный городишко. И живут там сплошь лохи, которым часы на фиг не нужны. Вот туда хочу свалить. Может, дашь немного бабок сейчас?…
Я выхожу на улицу. Вечерний воздух кажется особенно свежим после запахов квартиры Тецуо и его жены Кейко. Я вспоминаю о ящерице, ползущей к ее соску.
Даже когда я засыпаю, перед глазами у меня стоит этот коричневый сосок. Мне хочется превратиться в ящерицу-татуировку на гладкой лоснящейся от пота коже. И чтобы единственной моей целью в жизни был этот чертов сосок.
Наутро первым делом я звоню своему брату. Кроме него, занять денег не у кого.
— Пятьсот тысяч? — переспрашивает он таким тоном, будто я попросил напрокат его жену. — Ты уверен, что этот… как его?
— Тецуо. Куроки Тецуо.
— Ты уверен, что с этим Тецуо можно иметь дело? У него действительно есть нужная информация?
— Надеюсь. Других зацепок все равно нет. Так что нужно попробовать. Ты не волнуйся, я все отдам… Месяца через два-три.
— Да ладно… Можешь не торопиться. Хоть четыре месяца.
— Ага, спасибо. Так ты дашь денег?
— Дать-то дам… Но как думаешь, стоит ему доверять? Не хотелось бы выбросить деньги на ветер… Как ты вообще на него вышел?
И я рассказываю ему о Куроки Тецуо все, что услышал от девчонки, резавшей себе вены, следуя учению гуру Куроки, считающего, что нет лучше способа завоевать любовь. И внимание. И сострадание. И жалость. Я рассказываю ему о хомячьих глазках Тецуо, о его желании посетить Лас-Вегас и прочей ерунде. Болтаю без умолку, чтобы избавиться от мерзкого чувства, которое неизбежно возникает, когда просишь об услуге человека, считающего тебя неудачником.
— Ну, понятно, — говорит мой брат. — В какой-то степени доверять можно… Хорошо, давай встретимся, я передам тебе деньги. Только сегодня я не могу. Завтра утром подошлю к тебе человека, тебя устроит?
Как ему объяснишь, что речь идет о жизни Юрико, и на счету каждый день, если не час…
— Устроит.
— Вот и отлично. Ты, главное, не переживай… Кстати, дядя в больнице. Врачи говорят, что ничего серьезного, но я не верю. Похоже, старик скоро загнется. У меня там есть знакомый парнишка из персонала, так вот он уверяет, что старик протянет максимум три месяца.
Хорошие новости, думаю я, вешая трубку. Хорошие новости…
А на следующий вечер с пятью сотнями тысяч в кармане куртки я еду к дому Тецуо. Хочу проверить, насколько искренен был со мной мой приятель. Не знаю, как все повернется. Он запросто может попытаться обмануть меня, всучив первый попавшийся номер телефона и первое пришедшее на ум имя, может огреть чем-нибудь тяжелым по голове и забрать деньги, может сказать то, что мне нужно, но не то, что я хочу услышать. У меня нет никакого плана ни для одного из этих вариантов. Все, что я когда-либо планировал, оказалось лажей. У мира свои игры, и нечего воображать, будто ты знаешь правила.
Ветер доносит до меня слабый, едва уловимый запах кроличьей шерсти. На секунду мои внутренности превращаются в ледяной комок. Кролик-мясоед идет по моему следу! Я уже успел забыть о существовании этой твари, почти забыл его запах и налитый кровью глаз, таращащийся на меня из-за окна. И вот припадок кроликофобии… Как же не вовремя, как же не вовремя… Только не сейчас, вопит сознание, и я оглядываюсь, ожидая увидеть серого ушастого монстра, несущегося за мной по вечерней улице. Но когда я поворачиваю за угол, вижу парня, предлагающего туристам сфотографироваться с кроликом-альбиносом. На кролике шелковое кимоно с ветками сакуры. Пушистый ублюдок смотрит прямо на меня. Мне кажется, что он улыбается. Улыбается, будто знает что-то такое, чего не знаю я. Что-то очень гнусное…
Нездоровые подозрения подтверждаются у двери загаженной квартирки Тецуо. Я поднимаюсь по лестнице на четвертый этаж и вижу, что убогая, разрисованная всякой хренью дверь опечатана полицией. Длинная ядовито-зеленая лента, перечеркивающая приоткрытую дверь крест накрест. На ленте напечатано, что ее навесила полиция Токио.
Конечно, обычное дело. Дом любого придурка, который уезжает в Америку вместе с женой, напропалую удовлетворяющей всех, кто ни пожелает, сразу же опечатывает полиция. Особенно, если придурок — обыкновенный наркоман-самоубийца, решивший подзаработать немного деньжат. Особенно, если этот наркоман имел несчастье лично встретиться с парнем, у которого напрочь сорвана крыша.
Обычное дело, думаю я, чувствуя, как внутренности сжимаются в скользкий холодный комок. Я оглядываюсь, прислушиваюсь, превращаю свои пять чувств в один универсальный локатор. Никаких тревожных отметок на его экране нет. Горизонт чист. Одновременно я не перестаю решать проблему выбора. Да, можно развернуться и уйти. Можно сорвать ленту и проникнуть в квартиру. Можно позвонить в полицию и узнать о том, что случилось с Тецуо и Кейко. У всех трех вариантов столько же минусов, сколько плюсов.
Но горизонт чист.
Я думаю, что на самом деле решение вообще принимается один раз в жизни. Быть говнюком, сующим везде свой нос или добропорядочным гражданином. Быть тем, кто рисует повешенных девочек, тем, кто заставляет их вешаться, или тем, кто осуждающе качает головой, наблюдая за обоими. Один раз в жизни решаешь, насколько дорога тебе твоя личная шкура. Один раз решаешь, кого ты больше любишь — добродетельного себя или себя — тупого урода, опровергающего всех и вся. Один раз решаешь, готов ли ты плюнуть в лицо каждому, кто скажет, что этот мир прекрасен. От такого однажды сделанного выбора ты и танцуешь всю оставшуюся жизнь. Ты можешь быть камикадзе, погибшим в первом боевом вылете, а можешь стать камикадзе, вернувшимся с войны. Только не надо уверять самого себя, что все решишь, сидя за штурвалом самолета.
Возможно, ты сделал единственный выбор, впервые заорав на большой мир. Так я думаю. Кто-то скажет, что я не прав. И я спрошу: а ты хочешь вернуться живым с войны?
Я срываю ленту и вхожу в квартиру. Было бы глупо залезть по уши в дерьмо и стараться не испортить прическу. Жизнь — вовсе не постоянная проблема выбора. Жизнь — проблема постоянного следования однажды сделанному выбору.
Мне приходится зажать нос и рот подолом рубахи. Не столько чтобы приглушить отвратительную вонь, сколько чтобы не сблевать от увиденного — обведенных мелом контуров двух тел с огромными полузатертыми пятнами крови на тех местах, где должны быть животы. Для полноты ощущений — тяжелый запах крови, запах грязного белья, гниющей пищи, травки, скисшего пива и дешевых женских духов. В комнате все перевернуто вверх дном. На полу материки одежды — носков, футболок, юбок, колготок, женских трусиков, джинсов; островки — лекарств, шприцев, цилиндриков губной помады, тампонов; высыхающие озерца — свернувшейся крови.
Вот тебе и Лас-Вегас, Тецуо… Вот тебе и город, в котором никому на фиг не нужны часы. С приездом, братан…
Судя по всему, это случилось не так давно. Я, конечно, не специалист, но вряд ли с момента смерти парочки прошло больше пяти часов. А то и меньше… Кто-то побывал здесь, опередив меня совсем ненамного; кто-то ловко поорудовал ножом и сделал наконец то, что никак не удавалось самому Тецуо; кто-то перевернул вверх дном комнату. Кто этот «кто-то», что он искал и зачем убил веселую семью Куроки? Количество версий стремится к бесконечности.
У человека в складках тканей, выстилающих пищевод, желудок, кишечник, имеется комплекс нервных клеток. Этот центр, который называют «вторым мозгом», управляет деятельностью внутренних органов. Причем действует автономно, независимо от башки. Как и головной, этот мозг имеет те же клетки, ответственные за иммунитет, такую же защиту, те же серотонин, допамин, глютамат, те же белки-нейропептиды. Короче, самый настоящий, пусть и примитивный мозг болтается у нас в кишках. Лично я называю его жабой.
Так вот эта жаба пихает меня холодной лапой в поджелудочную железу, дергает за слепую кишку, лупит по моей селезенке. «Эй, — квакает она, — раскрой глаза, кретин! Не спи! Мы с тобой оказались по уши в дерьме. Давай думай, как ты вытащишь нас оттуда!» Она считает, что это убийство непосредственно связано с моим недавним визитом к Тецуо и с его обещанием за деньги рассказать мне то, чего рассказывать он был не должен. Что и говорить, серотонин, допамин и глютамат пошли жабе на пользу. Очень сообразительная жаба. И у меня нет особых причин ей не верить.
С трудом сдерживая бешеные приступы тошноты, я начинаю рыться в разбросанных по полу вещах. Я хочу найти хоть какой-нибудь намек на то, что знал Тецуо и не успел мне рассказать. Наверняка убийца уже нашел и забрал с собой или уничтожил все намеки — так говорит здравый смысл. Но жаба пихает меня ледяной лапой и говорит: ищи! В данной ситуации я считаю ее мнение приоритетным. Стараясь не вляпаться в пятна крови, я ворошу кучки несвежего белья, компакт-дисков, коробочек с таблетками; разбрасываю в стороны мягкие игрушки и упаковки презервативов, пинаю ногами комиксы и кассеты с порнофильмами, фотоальбомы и флакончики туалетной воды, роюсь в мятых бумажках и использованных одноразовых стаканчиках, пивных банках, коробках из-под пиццы и бенто, салфетках… Словом, произвожу раскопки.
Я думаю, что если собрать весь мусор, который остается после человека, а рядом сложить все, что он сотворил — первая куча окажется несоизмеримо больше второй. Вопрос: не в этом ли наше предназначение — создавать мусор? На что мы еще годимся? Ведь и все сотворенное со временем превратится в мусор. В чем тогда подвох? Не правы ли те тупоголовые потребители, которые мусорят без всяких рефлексий? И не самые ли большие лицемеры или дураки те, кто рассуждают о созидательном начале человека?
Глядя на результаты жизни Куроки Тецуо и его супруги Кейко, я вновь начинаю мечтать о глобальной катастрофе. После нее на Земле будет гораздо чище.
Мысли обрываются внезапно, я замираю, не отрывая взгляда от маленькой потрепанной записной книжечки на пружинке. Краешек нежно-голубой обложки немного испачкан кровью, крошечные пятнышки расположились так, что очень напоминают острова Рюкю. Новое слово в картографии… Но главное в этой книжечке не темно-красные островки. На обложке зеленой ручкой нарисован жирный знак бесконечности, восьмерка в горизонтальной плоскости. Знак позволяет мне безошибочно определить владельца записной книжки. Только один человек из всех, кого я знаю, обожает рисовать эту ерунду везде, где только можно что-нибудь нарисовать. На картонных подставках в барах, на проездных билетах, в тетрадках, на запотевшем стекле, на покрытой пылью столешнице. В свое время психологу так и не удалось выяснить, что же хочет сказать Юрико, с маниакальным упорством рисуя знак бесконечности, когда задумывается о чем-нибудь. Предположений было много, но все они казались идиотскими даже мне.
И вот теперь я смотрю на зеленую перевернутую восьмерку и думаю, что даже некоторые проблемы с головой могут принести пользу. Тошнота накатывает с новой силой, когда я нагибаюсь и поднимаю книжку с кровавыми островками Рюкю.
Я выхожу на улицу. Колени дрожат так, что мне приходится прислониться к стене. Я стою и тупо разглядываю трещину на асфальте. Широкую, забитую пылью, окурками, мелкими камешками и обрывками цветных бумажек трещину.
Человеческий мозг способен хранить от одного до семи миллионов мегабайт информации. Большинство губных помад содержат рыбью чешую. Электрический стул был изобретен дантистом. Состояние атмосферы на Юпитере не изменяется веками.
Я пытаюсь проглотить слюну, но она настолько вязкая, что с трудом пропихивается по пищеводу. Будто глотаешь клей. Люди проходят мимо, косо поглядывая на меня. Один пожилой мужчина останавливается и участливо спрашивает, не нужен ли мне врач.
«Еще как нужен!» — думаю я.
В мою сторону неторопливо направляется полицейский. Да, именно в этой встрече я так нуждаюсь… Приходится взять себя в руки, поблагодарить заботливого прохожего и убраться оттуда.
Я бреду по улицам в каком-то забытьи. Будто мне вкатили хорошую дозу наркотика. Как ни пытаюсь внушить себе, что для паники нет никаких причин, ощущение нереальности всего происходящего не исчезает. Выброс адреналина оказался настолько мощным, что у меня вылетели предохранители. В итоге я просто отключился.
Я вспоминаю слова Тецуо: «Я и так прошу немного, хотя сильно рискую. Ты даже не представляешь, насколько сильно…» Теперь представляю. Теперь я очень хорошо представляю, насколько сильно он рисковал, торгуясь со мной. Каждая выторгованная тысяча иен обошлась ему куда дороже, чем мне.
Зато у меня есть записная книжка Юрико и, возможно, в ней я найду то, что ищу две с лишним недели. Кроме того, в кармане лежат и те пятьсот тысяч, которые так желал заполучить бедняга Тецуо. Соблазн оставить их себе велик, но я все же заставляю себя свернуть к телефону-автомату и набрать номер брата. Ни к чему быть лишний раз обязанным кому-то. Так утешаю я себя, нажимая на металлические кнопки телефона. И потом, нужно ведь рассказать ему о том, что я нашел в квартире Тецуо. Мне нужна страховка, мне нужен человек, который будет знать, где меня искать, если я вдруг исчезну, мне нужен тот, кто прикроет мой тыл, когда я начну разведку боем.
И когда жена брата сообщает, что он был вынужден срочно вылететь на пару недель в Саппоро, я испытываю радость и разочарование одновременно.
Глава 6
Дом художницы я вижу издалека. Он стоит в самом конце небольшой улочки, такой же убогой, как и дом Судзуки Муцуми. Впрочем, остальные дома немногим лучше. Улица Несбывшихся Надежд, квартал Спущенной в Дренаж Жизни, район Лучше бы Пустивших Себе Пулю в Лоб.
Дверь Судзуки Муцуми открывает не сразу. Я успеваю придумать еще десяток названий улицы, стоя на крыльце, прежде чем на пороге появляется она. И тут я не выдерживаю. Тут я говорю:
— Ох…
Портрет сумасшедшей художницы Судзуки Муцуми: она красива настолько, что при одном взгляде на нее хочется умереть от тоски. Смотреть на нее — все равно что, сидя в пахнущей смолой и свежими водорослями лодке посреди предрассветного моря, наблюдать за тем, как из-за мглистого горизонта выплывает янтарный диск солнца. Или взойдя на вершину горы, увидеть вдруг маленькое горное озерцо с прозрачной бирюзовой водой, обрамленное камнями, покрытыми ослепительно-белым снегом… И знать, что больше никогда ты этого не увидишь.
На ней белые хлопчатобумажные бриджи до середины икры и светло-голубая завязанная на животе блузка. Белые с синими кончиками ногти, маникюр в стиле арт-френч, отлично гармонируют с ее бело-голубым нарядом. Единственное, что выбивается из гаммы, — золотое колечко на втором пальце левой ноги. И еще крохотная родинка на мочке правого уха. Я разглядываю ее, пока мы молча сидим друг напротив друга в гостиной.
Между нами журнальный столик из криптомерии с инструктированным карпом — интарсия мореным дубом и палисандром. Верхний плавник карпа немного испачкан зеленой краской. Я смотрю на это изумрудное пятно и никак не могу собраться с мыслями. Хотя собираться особенно не с чем. В голове пусто, я с трудом вспоминаю, зачем вообще пришел сюда.
— Не хотите чаю или кофе? — спрашивает она.
Она видит, что я в ауте. Это понятно по ее взгляду. Но в глазах нет обычного для красивых женщин чертовой самодовольной усталости. Похоже, ей действительно наплевать на то, что я сижу, как дурак, и пялюсь на испачканного краской карпа. Точно так же ей было бы наплевать, признайся я сейчас в любви. И скажи, что она шлюха — ей и на это было бы плевать. Чары тают. Мне становится немного легче дышать. И я выдыхаю:
— Кофе.
Она уходит на кухню, а я пытаюсь отколупнуть краску с карпа. Краска совсем старая, шелушится и забивается под ногти. Я откидываюсь на спинку дивана и сижу неподвижно до тех пор, пока Муцуми не появляется в комнате с черным лакированным подносом в руках, на котором стоят мельхиоровый кофейник, две чашки и сахарница.
Кофе у нее дрянной.
— Скажу вам честно, я понятия не имею, где сейчас может быть Юрико, — говорит она. — Мы с ней встречались, но это было почти две недели назад. Она показалась мне очень милой девушкой.
— Да, она очень милая.
— Очень… Вы знаете, ей понравились мои картины.
Вот чему-чему, а этому я не удивляюсь.
— Она сказала, что тоже хотела бы стать художницей. Так мило, правда?
— Да, — говорю я, — конечно. Только меня интересует другое. Где Юрико? Что вы с ней сделали? Она жива? Или стала натурщицей для одной из ваших картин?
Я смотрю на безмятежное прекрасное лицо Судзуки Муцуми и стараюсь поверить, что эта женщина способна на убийство.
Она молча встает и выходит из комнаты. Я быстро выливаю кофе из своей чашки в стоящий в углу горшок с кактусом. У кактуса чудовищные иглы. Я думаю, что Кролик Мясоед — не самая страшная фобия. Вот гигантский плотоядный кактус, ощетинившийся иглами-копьями, вот это да. Муцуми возвращается в тот момент, когда я с невинным видом кручу в пальцах пустую чашечку.
— Еще кофе? — спрашивает она.
— Нет.
Кофе у нее дрянной.
Она выходила за сигаретами. Теперь она вынимает из пачки длинную тонкую сигарету и прикуривает от изящной позолоченной Ronson.
— Моя младшая сестра повесилась, когда ей было пятнадцать. Из-за плохих оценок на экзамене… Она сделала петлю с одним захлестом. Свободный конец держала в руке. Хотела оставить себе путь к отступлению. Не знала, что при повешении конечности сразу парализуются и петлю уже не распустить… Знаете, как выглядит висельник? Выпученные глаза, торчащий из открытого рта язык и полные штаны дерьма. Так выглядела и моя сестренка…
— Вы так ее и нарисовали? С полными штанами дерьма?
Я жду, что она швырнет в меня пепельницей. Или заплачет. Или обложит меня последними словами. В общем, отреагирует. Зачем мне это нужно, я и сам не знаю. Наверное, все из-за ее красоты, которая доводит меня до исступления.
Но она лишь прикуривает очередную сигарету и говорит:
— В том-то и дело, что нет. Я написала, как ее вынимают из петли… Чистую, безмятежную, умиротворенную… А потом один человек прислал мне фотографию, на которой вынимали из петли мертвую девушку. Она была одета, как моя сестра. Она даже внешне была на нее похожа… Только выглядела не как моя сестра на картине, а как моя сестра, когда ее вынимали из петли.
Я разглядываю чешую на боку карпа. Я пересчитываю чешуйки. Когда дохожу до девяносто седьмой, Муцуми говорит:
— Это случилось полтора года назад… Тогда-то я и поняла, что эстетизация смерти в искусстве порождает множество иллюзий, а те, в свою очередь, приводят к тому, что у человека никак не складываются отношения со смертью.
На боку карпа сто семьдесят четыре чешуйки. Не очень-то много. На первый взгляд кажется, что их там несколько сотен. Полированный палисандр почти черен.
— Мы боимся того, чего не знаем. Неизвестность, монстры, рожденные нашей фантазией, пугают куда больше, чем самая жуткая реальность. Вы согласны? Смерть страшит не потому, что она действительно страшная. А всего лишь потому, что мы не успеваем привыкнуть к ней, не успеваем как следует разглядеть ее, понять, простить, полюбить… Как можно полюбить то, чего никогда не видел? Как можно простить свою иллюзию? Как можно понять то, о чем не имеешь представления?
У людей, которые вынуждены постоянно смотреть на покойников, отношение к смерти очень отличается от отношения к ней тех, кто никогда не смотрел на труп. Потому что они видят настоящее лицо смерти, а не ту маску, которую надевают на нее художники. У них нет иллюзий. Они общаются со смертью напрямую, а не через посредника, называемого «фантазией».
Я начинаю разглядывать пятно. Пытаюсь определить, на что оно похоже. Это бабочка с оторванным крылом. Это женщина, стоящая на четвереньках. Это кролик-монстр, подкарауливающий мясную морковку. Это пятно краски на плавнике инкрустированного карпа.
— Люди, которые занимаются творчеством, неважно каким, воспринимают мир не так, как остальные люди. Между нами и миром стоит фильтр… Никто из нас не чувствует и не переживает по-настоящему. Свои эмоции и впечатления мы привыкли фильтровать, чтобы отбросить все ненужное и оставить только то, что соответствует нашему представлению о хорошей картине или книге… За мной однажды гнался какой-то человек. Не знаю, что он хотел, ограбить меня, убить, изнасиловать или все вместе… Было поздно, и на пустынной улице раздавались только наши шаги. Мои и его… Он не бежал, нет. Просто шел очень быстро. Но я знала, что идет он именно за мной, а не просто торопится домой к жене. Мне было очень страшно… Настолько, что одна часть меня хотела остановиться и подпустить его, чтобы только все поскорее закончилось. Невыносимый страх… Проще было умереть, чем терпеть его. И вот я, не выдержав, оглянулась. Он как раз только-только вышел из светлого пятна фонаря. Я увидела темный силуэт, желтый свет за спиной и отблески на мокром асфальте. Не поверите, но это было очень красиво. И у меня мелькнула мысль, что, если я уцелею, обязательно напишу это… Ноги несли меня вперед, а я думала о том, как это будет лучше написать, в каком стиле и каких тонах, чтобы убедительно передать ужас жертвы. Вот так.
Я продолжаю молчать. Я продолжаю разглядывать карпа. И обнаруживаю трещинку на нижнем плавнике. Потом взгляд переползает на хвост. Следующим будет брюхо. Потом спина. Что-нибудь интересное я найду и на голове.
— Мы смотрим на мир, как на экран телевизора, пытаясь выхватить наиболее интересные моменты. Чтобы это получалось, мы вынуждены отказываться от полного переживания ситуации. От тебя уходит любимый человек, а ты прикидываешь, как ты опишешь это в романе и пытаешься получше запомнить свое поведение и мысли. Твою сестру вынимают из петли, а ты какой-то частью сознания радуешься удачному освещению… Не живешь, а рассматриваешь жизнь через цветное стеклышко. И самое плохое то, что такое же видение мира мы, художники, писатели, музыканты, навязываем и другим людям. Постепенно и они начинают смотреть на реальность нашими глазами.
Я решила покончить с этим. Сейчас я вижу мир таким, каков он есть… И знаете, у меня больше не осталось страхов. Теперь хочу избавить от страха и других людей. Поэтому пишу смерть без всяких прикрас.
Я изучил карпа до мельчайших деталей. Сосчитал все трещинки и сколы, царапины и вмятинки. Больше ничего интересного я там не найду. Поднимаю голову и смотрю на Муцуми. Вижу ее четкий профиль, идеальной формы нос, аккуратный подбородок, восхитительную форму губ. Она кажется мне ненастоящей.
И все-таки, она действительно ненормальная. Даже без этих бредовых рассуждений можно понять, что голова у нее не в порядке.
— Знаете что, — хихикает вдруг она, — а давайте его поймаем?
— Кого?
— Ну, человека, про которого вы рассказывали мне по телефону. Это наверняка какой-то псих…
— Так вы знаете его?
— Нет, не знаю… Вернее, слышала о нем кое-что, но где его можно найти сейчас, понятия не имею.
Я молчу, пытаясь оправиться от того, что с некоторой натяжкой можно назвать — шок. Все это время она водила меня за нос. Заговаривала зубы. Я почти поверил, что она ничего не знает. Почти поверил, что мне придется начинать все сначала. Поверил, что зашел в тупик, свернув не в том месте.
— Странно, между прочим, — говорит она, глядя в окно на запущенный сад. — Несколько человек знают то, что знаю я. И никто даже не попытался что-то с этим сделать. Почему так? Что нам мешает поднять на ноги полицию или собраться вместе и найти убийцу?
— Он похож на призрака, — отвечаю я.
— Да, очень правильно, хотя и немного напыщенно.
— Извините.
— Ничего. Скажу вам честно, мне кажется, моя младшая сестра тоже не сама решилась на самоубийство. Подозреваю, что он помог ей. Мне тогда показалось странным, что уравновешенная жизнерадостная девушка буквально за несколько дней превратилась в особу с суицидальными наклонностями. Но тогда я подумала, что мои подозрения беспочвенны… Мало ли чего я не замечала. Мы с ней не были особенно близки, хотя, конечно, по-своему любили друг друга. А потом я несколько раз услышала слово «доброволец» и после этого людей, произносивших его, не стало. Точь-в-точь, все как вы рассказывали. Я хотела разобраться, но понимала, что одной мне не справиться. Теперь нас двое. Можно попробовать. Есть, правда, одна сложность… Я почти не выхожу на улицу последнее время. Так что поиски — на вас, я же могу дать кое-какую информацию. Например, адреса людей, которые, как я знаю, встречались с тем человеком… И остались в живых.
Что-то не нравится мне в ее словах и в тоне, которым они произнесены. Но понять, что именно меня настораживает, не могу.
— Впрочем, это ваше дело, — она тушит сигарету в керамической пепельнице. Пепельница в виде открытого женского рта с ярко накрашенными губами-бортиками. — Можете не соглашаться. Вы знаете, что ему требуется в среднем три недели, чтобы довести человека до точки?
Она произносит это так, как я бы сказал: «Вы знаете, что первый презерватив был изготовлен древними ацтеками в четырнадцатом веке до нашей эры из рыбьего пузыря?» или: «Вы знаете, что каждую секунду в мозге человека происходит не менее ста тысяч химических реакций?» Именно таким тоном она это и говорит.
А потом глядя в окно, спрашивает:
— Почему вы все время молчите?
Она оборачивается ко мне, и я снова не могу найти ни одного изъяна в этом лице. Чтобы избавиться от унылой тоски, навалившейся на меня, я отвечаю:
— Потому что не знаю, что сказать.
— Но вы хотите найти Юрико?
— Да, хочу.
— Тогда нам нужно взяться за дело вдвоем и найти этого человека. Найдем его, найдем и Юрико. Согласны?
Что же мне не нравится в ее словах? В этом чересчур резком переходе от полного отрицания к абсолютному согласию? Она чокнутая, это точно. Но только ли в этом проблема?…
Или все дело в том, что она на несколько минут заставила меня забыть о мертвой жене?
Трудно доверять человеку, который лишает тебя единственного оправдания собственного бессилия. Вообще трудно доверять тому, кто чего-то тебя лишает. Пусть даже иллюзий…
— Опять молчите?
А я думаю о Кобаяси Юрико. И понимаю, что россказни о свободе выбора — лишь фантазия ребят, страдающих манией величия.
Каждый твой поступок и каждое решение, которые ты принимаешь, жестко детерминированы. Темперамент, группа крови, воспитание, жизненный опыт, особенности протекания биохимических реакций в организме и еще десяток других факторов определяют в конечном счете, куда ты повернешь на этом перекрестке. Эта гигантская часть твоего «Я», о которой твое слабоумное сознание и понятия не имеет, принимает решение. Выбирает единственно верный лично для тебя вариант действия из миллиона возможных вариантов. Когда ты стоишь на краю пропасти и думаешь, прыгать или нет, ты находишься в плену иллюзии. Решение уже давным-давно принято. Просто нужно время, чтобы сознание смирилось с ним.
У тебя всегда есть альтернатива, но нет выбора.
Да кто бы спорил…
— А вам-то зачем это нужно? — спрашиваю я.
— Хочу поквитаться за мою сестренку, — отвечает она и тем же тоном добавляет: — Может, еще кофе?
Когда я стою на пороге, зажав между пальцев исписанный листок в розовую клетку, она говорит:
— Позвоните мне, если что-нибудь выяснится. Да и вообще… Если будет желание — звоните.
Я киваю и нагибаюсь, чтобы надеть туфли.
— Если я вдруг что-то вспомню, как вас найти?
— Думаю, что никак, — отвечаю я, завязывая шнурки.
Она непонимающе смотрит на меня. Когда долго живешь один, начинаешь чувствовать взгляды людей всей кожей. Я чувствую ее озадаченный взгляд. Не понимает, так не понимает, ее проблема. Не собираюсь ничего объяснять. Если все, что ты создаешь, рано или поздно превратится в мусор, то и всех, кого ты любишь, ожидает та же участь. Стоит ли плодить мусорные кучи?
Уже спускаясь с крыльца, я оборачиваюсь и спрашиваю:
— Почему вы не выходите на улицу? Агорафобия?
— Что-то вроде этого…
— Случайно не гигантского кролика боитесь?
Теперь она смотрит на меня, как на идиота. Несколько долгих секунд мы пялимся друг на друга. Наконец, она молча закрывает дверь.
Поздним вечером я звоню Судзуки Муцуми. Сам не знаю, зачем. Просто хочу ее услышать. Она долго не подходит к телефону. Но когда я уже собираюсь положить трубку, раздается щелчок и ее голос, от которого у меня по спине бегут мурашки:
— Моси-моси.
Я неожиданно теряюсь, не представляю, что говорить. Я открываю рот, набираю в грудь воздух, но голосовые связки остаются неподвижными.
— Кто это? — говорит она. — Почему вы молчите?
Потому что ты слишком красива, думаю я. Потому что, думая о тебе, я начинаю ненавидеть свою жизнь. Потому что ты горное озеро, мимо которого я должен пройти и ни разу не оглянуться. Черт, да у меня куча причин для того, чтобы без толку разевать рот, держа у уха телефонную трубку.
— Вы будете говорить?
Пока еще не поздно что-то произнести. Но все варианты, приходящие в голову, из области: «не-правда-ли-сегодня-очень-жарко-скорее-бы-пошел-дождь». Я по-прежнему сижу, вытаращившись на стену и бестолково раззявив рот.
— Эй, может, все-таки скажете что-нибудь?
Я делаю последнее усилие над собой. Но все бесполезно. Стоит мне вспомнить ее глаза, кадык начинает спазматически скакать вверх-вниз, не давая словам выбраться наружу. Я кладу трубку. И еще долго сижу с горящими щеками и колотящимся сердцем. Как четырнадцатилетний сопляк, одолеваемый комплексами и гормональными цунами.
Во сне я вижу, как маленькая ящерица ползет к нежно-розовому соску Судзуки Муцуми.
Все четыре адреса, которые Муцуми старательно записала для меня, — липа. Мне приходится потратить целый день, мотаясь из конца в конец города, чтобы убедиться в этом. Я посетил два небольших магазина самообслуживания, библиотеку и частную стоматологическую клинику. Контрольные точки специально подобраны так, чтобы дорога от одной до другой занимала не меньше двух с половиной часов. Точный расчет. Ни в одной из точек людей с написанным на розовом листочке именами не было. Никогда.
До дома я добираюсь поздним вечером настолько уставшим, что не хватает сил даже на злость. Я забираюсь в душ и там под горячими струями воды решаю для себя вопрос: что это — выходка женщины с неадекватным поведением или намеренная попытка сбить меня со следа?
И то и другое — путь в никуда.
И то и другое — тупик.
И то и другое означает: мы не в одной команде. Это почему-то причиняет мне боль…
Я выхожу из душа. Иду на кухню и наливаю себе виски. Это моя награда за прошедший день. Моя награда за то, что целый день я занимался спортивным ориентированием в городских условиях. Прохожу в комнату, и в тот момент, когда взгляд останавливается на журнальном столике, стакан выпадает из руки и разлетается в мелкие брызги.
Оказывается, есть штуки покруче откровений всяких психов, покруче шуток ненормальных художниц, даже покруче Кролика-мясоеда. И дело не в самой этой штуке. А в том, как она появляется в твоей жизни. Вот, например, сотовый телефон — вещь сама по себе не страшная. Но когда он оказывается в квартире, которая целый день была заперта на ключ, и ключ лежал в твоем кармане; когда телефон лежит на журнальном столике, на котором раньше валялась лишь картонная подставка под бокал и больше ничего — вот тогда эта вещица перестает быть простым сотовым телефоном Sanyo, а превращается в нечто вроде бомбы с часовым механизмом.
Я смотрю на него и слушаю глухие удары сердца. Я боюсь даже дышать. Мне кажется, что малейшее движение, колебание воздуха от этого движения запустит самоликвидатор. А может быть, произойдет что-то еще… Само время останавливается. Исчезают звуки и запахи, исчезают все тактильные ощущения. Из всего многообразия объектов в этом мире остаются только два — я и небольшая плоская стального цвета коробочка с маленьким экраном на передней крышке. Впрочем, сам я тоже едва ли существую. Есть крохотный кусочек сознания, которого хватает лишь на то, чтобы правильно идентифицировать предмет, лежащий передо мной. Остальная часть сознания — в отключке.
Это шок.
Который вскоре превратится в страх, который потом превратится в ужас, который затем превратится в панику…
…Потому, что я знаю.
Я знаю, кто принес этот телефон.
Мысль еще не оформилась, она скользит по краю сознания. Однако понимание того, что произошло, уже сидит внутри.
Через несколько секунд я выхожу из оцепенения. Наверное, сегодня я слишком устал, чтобы испытывать сильные эмоции. А может, подсознательно ждал этого. Ждал, что о моих поисках очень скоро станет известно тому, кого я ищу. Было бы глупо полагать, что такой парень подставит спину…
Возвращаюсь на кухню и беру новый стакан. Порцию виски приходится увеличить. У меня чертовски уважительная причина.
Со стаканом я обхожу всю квартиру в поисках каких-нибудь следов. Но тот, кто принес телефон, был аккуратным взломщиком. Если бы не Sanyo, я даже не заметил бы, что в квартире кто-то побывал. Копперфильдовские штучки…
Облазив всю квартиру несколько раз, я сажусь в кресло рядом со столиком. Телефон по-прежнему лежит там. Жидкие кристаллы показывают время: 21.08. Я моргаю, и восьмерка сменяется на девятку. Мне остается только ждать. Вряд ли тот, кто приволок сюда сотовый, просто хотел сделать мне приятное. Несколько минут проходят в тишине. В комнате настолько тихо, что мне кажется, я слышу, как шуршат кристаллы, когда одна цифра меняется на другую.
Я терпеливо жду. Сижу, как прилежный ученик, положив руки на колени, и не свожу взгляда с серой коробочки Sanyo. Когда долго живешь в одиночестве, ожидание становится единственным делом, с которым справляешься по-настоящему хорошо. Лед в стакане медленно тает, виски постепенно светлеет.
21.23. Откидываюсь на спинку кресла.
21.25. Беру стакан и делаю глоток, не чувствуя вкуса.
21.28. Осторожно ставлю опустевший стакан на столик.
21.30…
Нестерпимая тишина взрывается сигналом SOS, и телефон, вибрируя, ползет к краю стола.
Я подпрыгиваю в кресле.
Три точки, три тире, три точки. У того, кто подбросил телефон, есть чувство юмора. Сам собой включается мой эксклюзивный механизм защиты.
Сигнал SOS окончательно стал международным сигналом бедствия только после гибели «Титаника». Ежегодно в морях и реках земного шара вылавливается около тридцати миллионов тонн рыбы. Одна капля нефти делает непригодными для питья двадцать пять литров воды.
Я протягиваю руку к телефону. Беру его осторожно, как гранату с выдернутой чекой. Открываю пикающую коробочку и подношу к уху.
— Привет, — говорю я, стараясь, чтобы голос не дрожал.
Глава 7
— Привет.
Голос в трубке абсолютно бесцветный. Так мог бы говорить робот, желающий подчеркнуть, что ему на все плевать..
— Слышу, ты не очень удивлен? В общем, я предполагал, что ты догадаешься, когда увидишь телефон.
Голос в трубке ни высокий, ни низкий; ни грубый, ни мягкий. Никаких эмоций. Хотя говорить по-японски без интонаций практически невозможно, ему это удается. Правда, сложно уловить смысл произнесенных слов. Когда он замолкает, приходится напрячь память, чтобы вспомнить, что он говорил секунду назад.
— Я догадался.
— Ну, нужно быть полным идиотом на твоем месте, чтобы не догадаться.
Он замолкает, будто сказал все.
— Чего ты хочешь?
— Поговорить.
— О чем?
— О тебе. Обо мне. О нас с тобой. Ты ведь меня ищешь, верно?
— Ага, — говорю я.
Смешок в трубке. Безжизненный, тусклый. Просто набор характерных звуков. От него по спине пробегает холодок.
— Где Юрико? — спрашиваю я.
Когда тебе страшно, можно либо идти на поводу у своего страха, либо попытаться превратить его в злость. Опять же иллюзия свободы выбора. По телефону быть храбрецом очень просто. Главное, не думать, что на том конце провода сидит человек, который был психом еще до рождения. Если воспринимать его просто как бестелесный голос в трубке, можно проявлять чудеса героизма.
— Давай договоримся сразу — ты не задаешь мне вопросов. Я разговариваю с тобой не для того, чтобы облегчить тебе жизнь. Свои проблемы ты решаешь сам.
— Хорошо. А для чего ты со мной разговариваешь?
— Просто так. Считай, что ты мне интересен как человек. Тебе разве никогда не хотелось поболтать ни о чем с незнакомцем? Разговоры с близкими людьми — это не то… Там ты вынужден говорить то, что от тебя ждут. Общаясь с первым встречным, ты, наконец, можешь побыть собой.
— Ты хочешь убить меня, потому что я кое-что знаю о тебе? Знаю, чем ты занимаешься?
— Ну-ну, стоит ли все так упрощать? Твое знание не может причинить вреда никому, кроме тебя. Ты насмотрелся детективов и мыслишь шаблонно. Трудно поверить, что я хочу просто побеседовать с тобой?
— Еще как, — говорю я.
— Считай наш разговор просто моей попыткой завязать новое знакомство. Это ведь не преступление?
— Где Юрико?
— Мы же договорились — ты не задаешь вопросов. Все равно ни на один из них я не отвечу. Не теряй понапрасну время.
— Если с ней что-нибудь случится, я доберусь до тебя.
На этот раз в его смехе появляются эмоции. Почти человеческий смех.
— Ты меня напугал, — отсмеявшись, говорит он. — Даже не знаю, как мне теперь быть… Знаешь, у тебя неплохое чувство юмора.
— А у тебя с ним плоховато.
— Нет, ты заблуждаешься. Я умею веселиться и понимаю толк в шутках. Но тебе плевать на это… Ты ведь думаешь, что я сумасшедший, так? И только это тебя волнует. Но на самом деле я вполне адекватен…
— Ты адекватен? Ты, придурок, который доводит людей до самоубийства?
— Ты ведь не знаешь всей правды. Зачем спешить с выводами? Вот я, например, знаю, что ты стал мелким воришкой после смерти жены. Но я понятия не имею, о чем ты думаешь… И потому не тороплюсь называть тебя ненормальным. Хотя, согласись, бросить хорошую работу и стать вором — тоже не образец адекватного поведения. Нужно быть терпимее к людям…
— Откуда ты знаешь про…
— Опять вопросы? — шелестящий вздох. — Вопросы, вопросы, вопросы… Как будто ответы могут что-то изменить. Еще одно глупое заблуждение. Ответы лишь порождают новые вопросы, но ничего не проясняют. Если я расскажу тебе все, что ты хотел бы знать, ты окажешься в еще большем тупике. Не загоняй себя в угол.
— Хорошо, чего ты от меня хочешь?
— Я тебе уже сказал. Поговорить, познакомиться, узнать что-то новое друг о друге и, возможно, о самих себе.
— Сегодня я слишком устал для знакомств.
— А что так?
— Искал тебя.
— Успешно?
— Как видишь. Кстати, Судзуки Муцуми из твоей шайки?
— Это вопрос, — в трубке слышится легкий вздох.
— Я знаю. Вот и ответь на него.
— По правилам я не отвечаю на вопросы. Ты забыл?
— Где Юрико?
— Я же тебе сказал — перестань расспрашивать меня.
— Хорошо. Нет ничего проще… Перестану. Но только когда увижу Юрико.
— Больше всего не люблю, когда мне ставят условия. Это меня по-настоящему бесит, — говорит он.
— Ничем не могу помочь.
— Знаешь, прежде чем ставить условия, надо разобраться, к тому ли человеку ты обращаешься.
— Я сказал все, что хотел.
— Девушка — это твоя головная боль, не моя.
— Ошибаешься.
Он замолкает.
Я слушаю дыхание в трубке и думаю о том, что за его спокойным ровным тоном, если постараться, можно расслышать ледяную ярость одержимого какой-то чудовищной идеей психа.
Я слушаю ровное дыхание. Не какие-нибудь зловещие хрипы. Не какое-нибудь чокнутое бормотание. Нет нервного постукивания острым ножом по коллекционному черепу. Нет полязгивания любимых наручников. Нет дебильного сопения и звука всасываемых обратно слюней. Всего лишь спокойное дыхание человека, решающего какой-то серьезный вопрос.
Он, а не я размышляет о том, как дальше будут развиваться события.
И тут до меня доходит, что точка возврата пройдена. Я в игре. Что бы я теперь ни сделал, это будет очередным ходом в партии. Я играю с того момента, как ударил Юрико. Все сомнения и колебания — самообман.
Словно прочитав мои мысли и поняв, что слова больше не нужны, он все так же молча дает отбой.
Тишина в трубке звучит для меня как смертный приговор.
Я медленно закрываю телефон и подхожу к распахнутому настежь окну. Там, тремя этажами ниже, на узкой улочке идет обычная жизнь. Разбивающийся об асфальт Sanyo на мгновение останавливает ее. Радиус поражения осколками составляет где-то три метра. Несколько человек задирают головы вверх, пытаясь увидеть, откуда их бомбардируют сотовыми телефонами. Я прикрываю окно, возвращаюсь на середину комнаты и сажусь кресло.
Странно, я абсолютно ничего не чувствую. Будто поговорил о погоде со старым приятелем. А ведь, наверное, должен с ума сходить от страха и попыток найти выход. Ничего подобного. Даже выпить не тянет…
Ситуация выходит из-под контроля. Если, конечно, вообще можно говорить о каком-нибудь контроле. Случайное совпадение твоих планов с тем, что происходит на самом деле, — вот что такое контроль.
Я звоню Муцуми. Она снимает трубку после пятого звонка и говорит, что просто перепутала имена и адреса.
— Это случайность. Мне так неловко, что из-за меня вы потеряли целый день. Простите, пожалуйста, меня.
Я все равно простил бы ее. Ей не нужно извиняться. Она могла бы произнести тем же голосом что-нибудь вроде: «обычно зимой выпадает снег», и я простил бы ее. Она могла бы нести любую чепуху, и мне в голову не пришло бы обижаться на нее. Как только я ее услышал, как только представил ее губы, почти касающиеся телефонной трубки, когда она мягко говорит «это случайность», я простил.
— Кажется, нужно сместить имена на одну строчку вниз, понимаете? Первое имя — второй адрес, второе — третий… Понимаете?
— Но это адреса учреждений, — возражаю я, хотя мне не хочется возражать ей.
— Да, конечно. Я не могла дать вам домашние адреса этих людей. Они неправильно бы поняли…
Ну, разумеется. Почему я сам об этом не подумал?
— У вас странный голос. Что-то случилось? Вы как будто напуганы…
Я мечтаю о том, чтобы после падения на Землю гигантского метеорита произошла глобальная подвижка материковых плит, и все человечество повторило судьбу Атлантиды. Я мечтаю о том, чтобы мы с Муцуми положили начало новой жизни на случайно уцелевшем островке, среди бесконечного океана…
Сейчас я не боюсь ее красоты. Сейчас я не хочу уничтожать то, что никогда не будет принадлежать мне вечно.
— Не то чтобы напуган, — отвечаю я. — Он мне звонил.
— Кто?
— Он.
Она замолкает на несколько секунд.
— Что же теперь будет?
— Не знаю.
— Я могу вам чем-то помочь? Вы сообщили в полицию?
— Что я им скажу? Что со мной разговаривал тот самый парень, который вроде бы заставляет людей убивать себя?
— А почему бы и нет? Хотя, конечно, глупо. С другой стороны, они могут установить подслушивающее устройство или как там это у них называется… Могут устроить засаду у вас в квартире на случай, если этот человек надумает прийти к вам.
— Я думаю, все эти возможности он просчитал. И вряд ли предпримет что-то такое, чего от него ожидают. Судя по разговору, он не дурак. Сумасшедший — да. Но не дурак… И потом… Я еще надеюсь, что Юрико жива. Если в дело вмешается полиция, девушка может пострадать.
— Он вам угрожал?
— Не знаю. Его трудно понять.
— Послушайте, приезжайте ко мне. И мы все обсудим. К тому же вам опасно оставаться в своей квартире. Если он знает номер телефона…
— Он звонил не на городской. Когда я вернулся домой, на журнальном столике меня ждал подброшенный им сотовый.
— Тем более, — тревога в ее голосе звучит для меня как чарующая музыка. — Приезжайте немедленно.
— Не могу.
— Почему?
— Тогда вы тоже окажетесь в опасности. Вряд ли ему нужны лишние свидетели.
— Я вам говорила, что чувствую ответственность за смерть сестры. Может, настало время сделать что-то для нее…
— Еще нет, — говорю я. — Еще рано.
— Приезжайте.
— Нет.
Только если в Землю врежется гигантский метеорит, думаю я. Только тогда…
Страх потерять то, чем по определению не можешь владеть. Это не совсем точная формулировка. Но это единственное, что приходит в голову…
— Нет, — повторяю я и вешаю трубку.
Когда знаешь, что не один смотришь в темноту ночи, становится немного легче. Кто-то скажет: мелкий эгоизм. И я с ним соглашусь.
Глава 8
Теперь я вынужден скрываться. Уверенности в том, что это совершенно необходимо, у меня нет. Здесь тоже масса различных «может быть». Может быть, человек, звонивший мне, — безобидный псих, которому не дают покоя лавры славы более удачливого коллеги. Может быть, мой маньяк уже забыл обо мне. Психи — они такие. Могут помнить, как в три года кто-то дал им пинка, чтобы заткнуть их вой, но забывают, что надо расстегивать ширинку перед тем как помочиться.
На самом деле, уехать из квартиры очень сложно. Труднее всего преодолеть инертность мышления. Каждый из живущих обычной мирной жизнью людей уверен, что уж с ним-то точно ничего ужасного произойти не может. Потому-то они так просто становятся добычей убийц, насильников и грабителей. Сложно поверить, что смерть может подстерегать тебя на улице, по которой ты ходишь чуть ли не с детства. Еще сложнее представить, что кто-то способен залезть в твою квартиру и перерезать тебе глотку. Даже после того, как тебе это пообещали. В обычной жизни нет места маньякам. Нудная работа, очереди в якиториях, надоевшая жена, головная боль утром в субботу — вот реальная жизнь. Сюда же можно вписать и далекую, почти мифическую смерть от какого-нибудь инфаркта. Это да. В это мы верим.
Угрозы, тусклый бесцветный голос, самоубийцы — все это находится в другой плоскости. В каком-то перпендикулярном мире. Верить в то, что эти миры пересекаются в той точке, где сейчас находишься ты, почти невозможно. Все равно что всерьез верить в визиты инопланетян. Теоретически допустимо, но практически… «Бывают ли у вас видения? Наблюдались ли случаи психических расстройств у ваших родственников?» — что-то в этом роде.
И все же я заставляю себя собрать все необходимое и уйти из квартиры. Я беру номер с видом на заросший бурьяном пустырь в гостинице, больше похожей на ночлежку для бомжей. Я ложусь на дно и свожу к минимуму контакты с окружающим миром. Я перехожу на военное положение, хотя и не верю в военные положения.
Я делаю все это, потому что знаю: во что бы ты ни верил — в деньги, в любовь, в справедливость, в собственную безопасность, в правовое общество — парню с ножом или пистолетом в руке на твою веру чихать. У него есть своя вера…
На следующий день я нахожу другой отель. Еще хуже. Еще грязнее. Еще дальше от приличных районов города. В таких местах можно чувствовать себя в относительной безопасности. Каждый, кто станет задавать здесь вопросы, будет принят, как полицейский. Каждый, кто попытается присмотреться к постояльцам, или устроить наружное наблюдение, или заглянуть в регистрационную книгу, рискует очутиться в придорожной канаве с переломанными руками и ногами.
Днем я не выхожу из номера. Просто лежу на узкой кровати и пью пиво. Или виски. Или минеральную воду. Или просто лежу, глядя в потолок. Словом, жду. Дверь заперта на ключ, как во времена войны с Кроликом-мясоедом. Плотные шторы на окнах задернуты. В комнатушке полумрак.
Перемещение имен на один пункт вниз ни к чему не привело. На два — тоже. Когда меня увидели в цветочном магазине третий раз, пригрозили вызвать полицию.
Муцуми. Бедняжка. А ведь она так хотела мне помочь…
На всякий случай, я звоню брату. Он по-прежнему на Хоккайдо, но его жена диктует номер сотового. Я тут же перезваниваю и рассказываю о событиях последних дней.
— Тебе нужно связаться с полицией, — говорит брат. — У меня есть на примете один толковый парень. Запиши телефон и, на всякий случай, домашний адрес. Может, пригодится. На твоем месте я был бы поосторожнее. По поводу наркомана… Никто не поручится, что это убийство не повесят на тебя. Ты был там в неподходящее время и не имеешь алиби. Знаешь ведь, как работают эти ребята… Так что если решишь связаться с полицией — лучше делай это через моего приятеля.
Я и сам думал о том же. Разговор с психом — не единственная причина, по которой я решил на какое-то время исчезнуть.
Полицейского, телефон которого продиктовал мой брат, зовут Мураками Дзиро. И он говорит:
— Извините, но мне трудно поверить, что вы на самом деле говорили с серийным убийцей. Как бы вам объяснить… Серийный убийца, да еще с таким ощутимым отклонением, если верить вашим словам, почти наверняка действовал бы по очень жесткой схеме. Эти люди, как правило, скрупулезно следуют однажды выбранной линии. У каждого из них действительно есть свой, неповторимый почерк. Стиль, метод… гм… работы. И совершенно четкая логика. Извращенная, но вполне заметная и объяснимая. Мы действительно сейчас ведем розыск нескольких серийных убийц. О каждом из них у нас столько информации, что не снилось даже их родителям. Психологический портрет, заключение психиатра, подробная биография, составленная аналитиками… Смею вас уверить, вашего знакомого среди них нет. Не волнуйтесь из-за пустяков. В конце концов, вы в свое время правильно сказали — это дело полиции.
Из психиатра я переквалифицируюсь в криминалисты. Я становлюсь специалистом по убийствам, самоубийствам, убийствам, замаскированным под самоубийство, и самоубийствам, замаскированным под несчастный случай.
Тупоголовый господин Мураками указал еще одно направление, в котором я могу двигаться, пока остается хотя бы крохотная надежда на то, что Юрико можно спасти. Это — путь из тупика, ведущий в другой тупик. Но на пути мне может повстречаться и что-нибудь интересное.
Я становлюсь завсегдатаем библиотек, меня узнают в киосках, торгующих газетами, я вступаю в конфликты с бомжами, копаясь в их помойках и выуживая оттуда пожелтевшие газетные листки. Я попадаю в зависимость от периодических изданий. А если конкретнее — от разделов криминальной хроники.
Я узнаю, как можно убить человека простой авторучкой. Читаю, как можно убить простым толчком в спину, что нужно сделать, чтобы почки оторвались, как разорвать дыхательное горло голыми руками или короткой, с ладонь, палочкой.
Я читаю про убийства с использованием колюще-режущих, рубящих и тупых предметов; убийства, совершаемые с применением огнестрельного оружия; с применением холодного оружия; с применением различных бытовых предметов; путем отравления; удушения; утопления.
За века эволюции люди придумали сотни, если не тысячи, способов лишить жизни человека. И ни одного — дать новую жизнь. Правда, природа тоже весьма изобретательна насчет умерщвления, а вариантов появления на свет придумала немного.
Я прихожу к заключению, что чаще убивают мужчин. В тех случаях, когда жертвой является женщина, наиболее частыми мотивами являются секс или ревность. Я делаю вывод, что при убийствах всегда остаются следы: труп, следы его расчленения или уничтожения, орудия убийства, следы биологического происхождения, следы зубов и ногтей на теле преступника. Я убеждаюсь, что свидетели находятся гораздо чаще, чем можно было бы подумать.
Я читаю про убийства путем бездействия. Это когда мать убивает грудного ребенка, оставив его одного в запертой квартире на пару недель туго завернутого в пеленки. Или когда любящий сын забирает из больницы больного отца, а когда тот начинает заходиться в приступе астмы, просто не дает ему ингалятор. Уходит в другую комнату, чтобы не слышать хрипов и ждет, когда отек легких сделает свое дело. «Ах, что вы, я просто очень крепко спал»…
Страх перед законом делает убийцу изобретательным. Простые убийства маскируются под несчастные случаи, самоубийства, убийства при обороне и в состоянии аффекта. Трупы закапываются в парках, прячутся в подвалах, развалинах зданий, расчленяются и развозятся по разным концам города.
Я ищу связи, ищу ту самую жесткую схему, по которой должен работать всякий уважающий себя маньяк.
Если кто-то подумает, что я сыт по горло всем этим дерьмом, он будет совершенно прав.
Я снова меняю отель. И когда вхожу в пропахший дешевой дезинфекцией номер, первое, что вижу на прикроватной тумбочке — сотовый телефон. На этот раз NEC N900iG. Он начинает выдавать SOS, едва я успеваю закрыть дверь.
— Привет, — произносит голос. — Ты и правда думал, что все будет так легко?
Прежде чем ответить, я бросаю на пол сумку, прямо в туфлях ложусь на кровать и считаю про себя до четырнадцати с половиной. Когда сердце перестает выбивать дробь, а пересохший рот снова наполняется слюной, я отвечаю:
— Честно говоря, да. Именно так я и думал.
Он тихо смеется. Какое-то алюминиевое «ха-ха-ха». Я терпеливо жду, пока закончится это веселье.
— Что там за глупости с газетами? Тебе не кажется, что ты ведешь себя, как дурак? Нет, конечно, идея с поиском подозрительных случаев самоубийств и связей между ними не плоха. Только на результат можешь и не надеяться. В Японии каждый год регистрируется около двадцати пяти тысяч самоубийств. Представляешь, сколько тебе придется копаться во всем этом? И девяти жизней не хватит…
— Ты знаешь и об этом? — мне становится трудно дышать.
— Опять вопросы. Ты делал в жизни что-нибудь другое, кроме как задавал вопросы? Наверное, вся твоя жизнь и есть вопрос. Никогда не думал, что она должна быть ответом?
— Я не хочу вести с тобой философские разговоры. Скажи мне, где Юрико?
— У нас с тобой получится диалог, только если ты перестанешь меня расспрашивать о всякой ерунде.
— Плевал я на диалог. Где Юрико?
— Ну, а я плевал на Юрико.
— Ты убил ее?
Он смеется.
— Я достану тебя.
Он смеется.
— Что ты сделал с Юрико?
Он смеется.
Я замолкаю. Слышу, как храпит мужчина в соседнем номере слева. Слышу, как на улице орет кошка. Кто-то ходит у меня над головой, кто-то смотрит телевизор ниже этажом, кто-то идет с проституткой по коридору. А он все молчит.
Наконец в трубке раздается его обычный вздох:
— Ну что, все вопросы задал? Хочешь я угадаю, о чем ты думал, когда твоя жена погибла? Ты думал: «ох, и за что же мне это?»… Ты без конца задавал этот вопрос и хотел получить на него ответ. Но тебе даже в голову не пришло, что, возможно, гибель жены — это вопрос к тебе. И все, что требуется — ответить на него. И может быть, сейчас ситуация повторяется… Может быть, наш разговор — это еще один вопрос к тебе. Самый главный вопрос, ответ на который изменит всю твою жизнь. Подумай об этом.
И дает отбой. А я думаю, не вышвырнуть ли в окно и NEC?
На этот раз радиус разлета осколков равняется приблизительно двум метрам. От взрыва мини-гранаты шарахается сморщенная старушка. Больше никого на улице нет.
Глава 9
Я заказываю в номер какую-то еду, съедаю все подчистую, не ощущая вкуса. Если кто-то спросит меня, спал я все это время или нет, я не отвечу. Наверное, спал. Но разница между сном и явью была очень зыбкой, едва уловимой. И там, и там — кошмар. Непрекращающийся, затягивающий, мутный ужас.
Те ребята, про которых я читаю днем, во сне приходят ко мне. Со своими ублюдочными исповедями. Странное дело, большинство из них вовсе не считают, что поступили плохо. Отцы семейств, отравившие угарным газом всю семью — жену и трех детей, а потом повесившиеся на люстре. Матери, аккуратно положившие грудных детей в картонную коробку, а коробку — в мусорный контейнер. Наркоманы, убивавшие ради денег на очередную дозу. Психи, пускавшие в ход нож просто потому, что им хотелось посмотреть на труп. Малолетние проблемные засранцы, которые убивали для того, чтобы проверить, хватит ли у них духу на убийство.
Все они заходят по очереди в мою комнату, присаживаются на краешек постели и заводят одни и те же разговоры. В темноте выделяются только их бледные лица. Словно тел не существует вовсе. У всех — приглушенные голоса, будто говорят они с мешком на голове. Потухшие глаза глядят в одну точку — прямо в середину моего лба. Их взгляды напоминают нацеленный в лоб ствол пистолета.
Они говорят и говорят, а я не в силах их остановить.
Пока ничего не знаешь, живешь, как живешь. Стоит вникнуть в проблему, и ты вокруг видишь только ее. Мне кажется, что все люди делятся на три категории — убийц, их жертв, самоубийц. Если ты не принадлежишь ни к одной из них — просто еще не успел. Так думаю я, просыпаясь в холодном поту. Интересно, в какую категорию попаду я?
У меня есть альтернатива, но нет выбора.
Каждый раз, когда я возвращаюсь в отель с новым ворохом газет, я ожидаю увидеть номер, перевернутый вверх дном. Так всегда бывает в книгах и фильмах. Герой возвращается после вылазки в город, а его квартира или номер в гостинице напоминает поле битвы. Там обязательно успевает побывать либо смертельный враг героя, либо полиция. И устроить жуткий беспорядок, так ничего толкового и не найдя. Я ожидаю увидеть нечто подобное.
Это просто расшатанные нервы.
Это просто стереотип мышления, привитый современным искусством.
Это просто фантазии ребенка, начитавшегося страшных сказок.
На самом деле, номер всегда оказывается в полном порядке. Все разложено по полочкам, отмыто, вычищено, опрыскано средствами дезинфекции. Запах химии и освежителя воздуха. Как будто здесь никто никогда не жил. Я думаю, что так оно и будет после моей смерти. Все следы моего пребывания будут старательно уничтожены, чтобы не портили жизнь тем, кто придет после меня. Им захочется стерильности и химической свежести, а я — что-то вроде подозрительного пятна на простыне. И все мои творения — не больше чем полная окурков и осклизлой серой мерзости пепельница в чистом номере. Дрянь, которую не удосужились вовремя убрать перед въездом новых гостей. После меня кому-то придется обработать кусочек мира средствами для мытья стекол, растворителями ржавчины, средствами для удаления жирных пятен, растворителями краски, универсальными средствами для мытья полов, для очистки и полировки мебели, хорошим стиральным порошком… Добро пожаловать в мир, очищенный специально для вас, ребята! Только помните — когда-нибудь и по вашим делам пройдутся тряпкой, смоченной в щелочном растворе.
Один раз, когда на меня накатывает тоска по своей милой квартирке, где никто не уничтожает следы моего существования, эту наскальную живопись гомо сапиенс, и я оказываюсь рядом с многоквартирным домом, в котором жил совсем недавно, я замечаю машину, стоящую под моими окнами и двух крепких ребят в ней. Один из них курит, другой пьет чай из жестяной банки, и оба время от времени зорко поглядывают по сторонам. Я едва успеваю нырнуть за угол и думаю, что вряд ли когда-нибудь посижу в своем продавленном кресле, притащенном со свалки, и посмотрю на мигающую рекламу джинсов Edwin. Я почти скучаю по соседу-меломану и почти раскаиваюсь в том, что сделал с ним.
Новый телефон я нахожу у порога своего нового номера, похожего на предыдущий, как один день моей жизни похож на другой. Кто-то положил его, постучал и сбежал. Детские игры. Инфантилизм, застревание на анальной стадии развития. Это — он, с моей точки зрения.
— Ну, как твои успехи? — говорит мой знакомый убийца. — Раскопал что-нибудь интересное?
— Нет, — устало говорю я. Всматриваясь целый день в крошечный шрифт газетных колонок, устаешь так, что даже подброшенный маньяком телефон не может поколебать твоего буддистского спокойствия.
— Наверное, опять голову ломаешь, что теперь делать?
— Угадал.
— Стоит ли? Знаешь, мне кажется, ты сам толком не знаешь, к чему стремишься. Не имея конкретной цели трудно добиться положительного результата. Ты просто не сможешь определить, положительный это результат или отрицательный, и вообще, результат ли это…
— Я-то прекрасно знаю, чего хочу.
— Вот как? И что же это?
— Верни Юрико, — засыпая, бормочу я.
— Ты все это затеял из-за нее?
— Тебе-то какая разница?
— И все-таки?
— Я смотрю, ты тоже любитель задавать вопросы. Не боишься тупика?
Он смеется. От его ритмичного тихого «ха-ха-ха» у меня сводит мышцы живота. В этом смехе есть что-то гипнотическое.
— Я от ответов не завишу, — наконец произносит он. — Не то что ты.
— Ага, — говорю я.
— Нет, серьезно…
— Ну-ну.
Он вздыхает. А я вдруг ощущаю себя подростком, хамящим взрослому в ответ на замечание. Все из-за его поганого вздоха. Так вздыхал мой отец, когда я приходил из школы, выпив с приятелями пива по дороге.
— Где Юрико? — говорю я и злюсь на себя еще больше.
— Там, где она хочет быть, — сухо произносит он. — Самому-то не надоело строить из себя обиженного ребенка?
Сукин сын, думаю я. Самый настоящий сукин сын. Я пытаюсь разозлиться на него, но испытываю лишь неловкость за свое плохое поведение. Это все из-за усталости. Так я себя успокаиваю и говорю:
— Пошел ты!
— Да-да-да, очень сильный ход. Эй, надеюсь, ты не собираешься разбить и этот телефон? У тебя это входит в привычку. Так же, как и грубить.
— Слушай, давай закончим разговор, а? Я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Ты не собираешься отвечать на мои вопросы. Зачем тратить время? Я хочу выспаться…
Он выдерживает полную драматизма паузу, чтобы потом поразить меня:
— Знаешь что, а может, нам с тобой встретиться? Может, при личной встрече ты не будешь вести себя, как кретин?
— Если рассчитываешь, что я тебя испугаюсь, ошибаешься.
— Я не сомневался, что ты настоящий храбрец. Только вот что я тебе скажу — ввязываться в эту историю стоит только в том случае, если ты твердо решил умереть. Хеппи-энда не будет. Ты готов? Действительно готов к тому, что та пара туфель, которая сейчас стоит рядом с дверью твоего номера, — последняя в твоей жизни?
— Ты говоришь так, будто у меня есть выбор.
— А ты умнее, чем я думал… Конечно, для того чтобы быть фаталистом много ума не надо. Но здесь ты попал в точку. Выбора у тебя нет. Правда, не уверен, что ты четко себе представляешь, почему. Совсем не представляешь, — он смеется.
— Рассказать не хочешь? Может, еще не поздно что-то изменить?
— Поздно, приятель, поздно. Но тебя это не должно огорчать. Тебе ведь нечего терять, верно?… Ты хорошо спишь? — вдруг спрашивает он.
— Нормально.
Я не понимаю, к чему он клонит, и не хочу понимать. Все, чего я хочу, — прекратить разговор. Но повесить трубку первому почему-то не хватает решимости.
— Никогда не думал, почему люди спят? Зачем вообще организмам с развитой нервной системой необходим сон? Ученые до сих пор не могут понять… Во время сна корковые нейроны многих областей мозга продолжают сохранять ритмическую активность. То есть мозг не прекращает работу, не отдыхает. Для чего же нужен этот механизм? Тело может отдохнуть и без всякого сна… А сколько случаев, когда люди после какой-нибудь встряски переставали спать и прекрасно себя чувствовали. Что ты скажешь, а?
— Да ничего я не скажу! Я как раз хочу спать, и мне плевать, зачем я хочу спать. Просто хочу и все…
— Ладно, ложись спать. Хотя на твоем месте я потратил бы оставшееся время с большей пользой. Поразмысли над тем, что я сказал. Вот тебе загадка на ближайший день. Пока!
Я не успеваю сказать ни слова. Он дает отбой.
Я слишком хочу спать, чтобы думать о чем-то. Даже если ко мне в номер вломится целая толпа маньяков с бензопилами, им придется подождать, пока я высплюсь.
Глава 10
На этот раз она в светло-голубых джинсах и черной рубашке навыпуск. Ногти на руках — цвет «ночная волна», на ногах — цвет «вишневая иллюзия». Когда живешь один, не заглядывая в будущее, начинаешь читать и про лак для ногтей.
Она спрашивает:
— Кофе?
Все помнят? Кофе у нее дрянной. Но я говорю:
— Да, пожалуй. Хотя… У вас нет чего-нибудь покрепче?
— Я не пью.
— Тогда кофе.
Передо мной тот же карп с пятном на плавнике. И то же чувство человека, забравшегося в чистую постель в грязных ботинках. И неловкость, и чувство вины и удовлетворение оттого, что наплевал и на то, и на другое.
— Вы плохо выглядите, — говорит она, входя в комнату со своим дурацким подносом. Все, что ее окружает, — полнейшая безвкусица. Когда ее нет в комнате, хочется стереть этот пошлейший интерьер, как написанное на классной доске неприличное слово. Оставить только стены и пол. Но стоит хозяйке войти, все обретает гармонию. Не знаю, как такое может быть. Но уверен — если бы комната была сделана с большим вкусом, в ней невозможно было бы находиться одновременно с хозяйкой. Об этом я думаю, глядя на карпа. На карпа я пялюсь, чтобы не смотреть на нее.
— Вы плохо выглядите, — повторяет она, ставя передо мной дымящуюся чашку.
Кофе стал еще хуже.
— Мало спал последнее время. Охота за маньяками — хлопотная штука.
Она делает вид, что слишком поглощена своими мыслями. Сидит, поджав под себя одну ногу, и задумчиво смотрит в окно. В застывшей руке — мельхиоровая чашка, от которой поднимается белое облачко пара.
Она настолько красива, что я прикусываю внутреннюю сторону щеки, чтобы не заговорить об этом. Я жую щеку, ощущая во рту привкус крови, и тонкие волоконца искусанной плоти щекочут мне язык.
Чтобы отвлечься, я начинаю свою молитву.
С тех пор, как на Земле появились люди, родилось более 78 миллиардов человек. Человеческий мозг на 85 % состоит из воды. Джек-Потрошитель совершал преступления исключительно по выходным. У Мэрилин Монро было шесть пальцев на ноге.
— Вам никогда не приходило в голову, что, может быть, многое из того, что нам кажется неправильным, на самом деле есть просто что-то принципиально новое? То, до чего наша логика еще не доросла? — говорит она и отпивает из чашки. — Не только логика, конечно, но и мораль… Мораль ведь тоже эволюционирует. Прогрессирует. Не так быстро, как техническое развитие, но все же. И еще — может быть, наше развитие в плане науки настолько обогнало развитие нравственности, что без хирургического вмешательства уже не обойтись. Не приходило вам в голову, что все наши «хорошо» и «плохо», «добродетельно» и «недобродетельно» надо удалить, как, скажем, аппендицит?
— Это он вам наговорил? — я пытаюсь отгрызать одно волоконце за другим. Не так-то просто. Они, как резиновые.
— Ну или, к примеру, отрезать, как недоразвитую конечность, чтобы потом привить новую, полноценную, которая сможет нормально функционировать, принося пользу всему организму. Не находите, что в этой идее что-то есть?
Она по-прежнему смотрит в окно, и я незаметно сплевываю окровавленный комочек своей слизистой.
— Да много с чем можно сравнить… Нет, правда… Ценности и нормы этики, которыми руководствовались крестьяне, не умевшие даже читать, определяют наше поведение до сих пор, спустя сотни лет бешеного прогресса. Тебе не кажется это неправильным?
Еще один комочек слизистой отправляется на натертый до блеска пол.
— Конечно, некоторые установки меняются. Но гораздо медленнее, чем меняется общество. Может быть, поэтому раньше люди были счастливее. Они жили в гармонии…
Она смотрит, как я пытаюсь откусить очередную ниточку собственной плоти. Лицо у меня перекошено.
— На самом деле, я понятия не имею, что правильно, а что нет. Просто привожу еще одну точку зрения. А ты можешь мне сказать, что действительно не подлежит сомнению? Что-нибудь такое, в чем ты уверен полностью? За что мог бы отдать жизнь? Есть у тебя хоть что-нибудь, во что ты по-настоящему веришь?
Я пожимаю плечами. Моя щека измочалена изнутри. Я провожу по ней языком, она похожа на пористую губку. Спрашиваю:
— К чему ты мне все это говоришь?
И тут в кармане начинает вибрировать и подавать SOS телефон. Я едва не прикусываю язык. Разрывая подкладку, пытаюсь вытащить телефон. Антеннка цепляется за край кармана, телефон бьется у меня в руке, как маленький электрический скат. Муцуми снова отворачивается к окну. Наконец, я раскрываю коробочку и подношу к уху.
— Как дела? — спрашивает мой приятель-маньяк.
— Не то чтобы очень, — говорю я, чувствуя, как мышцы спины превращаются в камень.
— Подумал над моей загадкой? У тебя есть ответ?
— Нет, — говорю я.
— Странно… Она ведь совсем простая. Ну да ладно, может быть, я тебе помогу.
— Да чего ты хочешь от меня?! Чего ты добиваешься своими звонками, чертов псих?!
Краем глаза замечаю, как вздрагивают плечи Муцуми.
— Не кричи, я прекрасно тебя слышу.
— Чего ты добиваешься своими звонками, чертов псих?!
— Я не был бы так категоричен. В смысле определения моего душевного здоровья. — Голос в трубке холоден, как кусок сухого льда. — Впрочем, это мы обсудим позже… Дождись меня, хорошо? Не уходи. Попроси сестренку, чтобы сварила тебе еще кофе. Не скучайте там без меня, я скоро буду.
— Что?
— Эй, я полон сюрпризов. Я вообще один охренительный сюрприз, если ты еще не понял.
Он дает отбой. Наверное, выгляжу я сейчас здорово. Выпученные глаза и трясущиеся руки. Настоящий крутой сукин сын.
Мы молчим. И в тягучей тишине я слышу, как молекулы воды в мельхиоровых чашках сталкиваются между собой. И те, что приобретают кинетическую энергию, достаточную для преодоления молекулярного притяжения, с тихим «чпок!» отрываются от поверхности и взлетают вверх, образуя над чашками с кофе перистые облачка.
— Прости, — тихо говорит Муцуми.
Молекулы пара, вдоволь налетавшись на высоте пять сантиметров над уровнем чашки, входят в крутое пике, ударяются о поверхность жидкости и с негромким бульканьем ныряют обратно в горячий кофе.
— Не бойся. Тебе ничего не угрожает. Во всяком случае, пока…
На место покинувших боевой строй молекул-камикадзе приходят другие, мечтающие в молекулярном посмертии стать частицей настоящего облака.
— Я серьезно. Может быть, к лучшему, что он придет сюда. В смысле, я буду рядом.
— Он серьезно твой брат?
— Еще кофе? — спрашивает Муцуми.
Я вытираю влажные ладони о велюровую обивку кресла. Я повторяю это движение снова и снова, словно хочу снять верхний слой кожи с рук. Меня бьет нервная дрожь. Язык будто обклеили наждачной бумагой.
Симпатическая нервная система заставляет чаще биться сердце. Повышается давление, усиливается секреция надпочечников, в результате чего выделяются в кровь гормоны адреналин и норадреналин, увеличивается количество глюкозы в крови. Это первая стадия стресса. Организм готовится к схватке не на жизнь, а на смерть. Тупое тело живет, подчиняясь инстинктам, нужда в которых отпала лет пятьсот назад.
У меня расширяются зрачки, учащается дыхание и пульс, происходит перераспределение кровотока и увеличение мышечной активности. Усиливаются обменные процессы, подавляются иммунные и воспалительные реакции, происходят другие перестройки в организме.
Вопрос в том, на хрена мне все это?
Что ты собираешься сделать при встрече с ним? Убить? Перевоспитать? На самом деле, трудно придумать что-нибудь адекватное, когда предстоит встреча с маньяком.
Выход один — позвонить в полицию. Попросить приехать как можно быстрее и взять этого ненормального в оборот. Да, почти наверняка он выкрутится. Если до сих пор никто даже не заподозрил, что в городе происходит нечто странное, можно быть уверенным: у этого паренька голова на месте. Больная башка, конечно, но способная сообразить, как спасти зависящую от нее задницу. И все же есть десять шансов из сотни, что его все-таки раскрутят… В полицейском управлении сидят ребята, знающие свое дело. Десять шансов — не очень много. Но в десять раз больше, чем ничего.
Единственное, что меня заставляет сомневаться — Юрико. Этот сообразительный псих, скорее всего, подстраховался от всяких неприятностей в виде наручников и моих попыток спасти мир. Юрико вполне может быть гарантией его безопасности. Видал я такое в фильмах. Маньяк отправляется на встречу с полицейским, а у самого дома лежит связанная девчонка, а рядом с ней — его напарник с пистолетом в руке или бомба с часовым механизмом. Типа, если маньяк вовремя не позвонит своему приятелю — девчонке конец.
И все-таки полиция — это шанс.
Я сижу, как придурок, сжимая в потной руке телефон. Можно позвонить в полицию и тем самым убить Юрико. Можно не позвонить и убить Юрико и себя заодно. Или позвонить и все равно убить обоих. Или не позвонить и никого не убить.
Это — ступор. Это — зависание системы. Это — иллюзия свободы выбора.
С щелчком откидывается крышка телефона. Сама собой. Я в этом никакого участия не принимаю. Я сижу и слушаю звуки, доносящиеся с кухни. Там Судзуки Муцуми готовит дрянной кофе. Мои пальцы бестолково нажимают на кнопки. Они набирают тридцатичетырехзначный номер. Потом — двадцатидвухзначный. За ним — сорокашестизначный… Тихие «пи-пип», которые издает телефон каждый раз, когда мой палец давит на овальную кнопочку с цифрой, вгоняют меня в транс. Эти кнопки — что-то вроде четок буддийского монаха. Я медитирую.
Я сижу и гоню все мысли, которые нарушают зеркальную гладь озера моего духа. Я визуализирую цветок лотоса в точке тандэн. Я ощущаю поток ци, омывающий серебристым ручейком мои потроха. Я веду счет вдохам и выдохам, дохожу до десяти; начинаю считать только выдохи, дохожу до десяти; считаю только вдохи. Проделав весь цикл, начинаю сначала. Не забывая нажимать на светящиеся кнопочки, чтобы слышать медитативное «пи-пип».
— Надеюсь, ты не в полицию звонишь? — раздается над ухом голос Муцуми.
Я вздрагиваю и быстро захлопываю телефон. У меня ощущение, будто меня поймали за сеансом онанизма.
Она ставит свой идиотский поднос на столик.
— Не нужно этого делать. В смысле, звонить, — она говорит тихо и как-то печально. — Он такую возможность предусмотрел.
— Да? — говорю, пытаясь чтобы это прозвучало как можно более недоверчиво.
Она садится на диван и снова поджимает одну ногу под себя. Берет с подноса чашку и, подержав с минуту, ставит обратно. Я к своей даже не притрагиваюсь.
— Ты разве не знаешь? — она старается не смотреть на меня.
Желание избежать визуального контакта говорит об одном — я в дерьме. И в том, чтобы меня туда запихнуть, она принимала непосредственное участие.
— Нет, я ничего не знаю. Как оказалось, даже меньше, чем ничего…
— Тебя ищет полиция. За убийство. Вернее, за двойное убийство. Какая-то супружеская пара. Имен я не знаю… Иногда по телевизору объявляют, мол, разыскивается такой-то такой-то. Про эту семейную пару говорили тоже… Сначала рассказали про них, а потом уже про того, кто разыскивается за их убийство, то есть про тебя. Кстати, у парня, которого убили, знакомое лицо…
— Но я никого не убивал!
— Ну, конечно, — кивает она и мягко улыбается. — Я и не думала, что это ты. Так думает полиция. Потому я и сказала тебе, чтобы ты не очень-то туда названивал.
Мне становится трудно дышать. Это не приступ бронхиальной астмы. Это не попавший в дыхательное горло инородный предмет. Дышать тяжело из-за густого запаха кроличьей шерсти. Пахнет так, будто в комнате находится несколько сотен отчаянно воняющих кроликов.
Солнечный свет меркнет. В наступившем полумраке кожа Муцуми светится, будто намазанная фосфором. Я медленно поворачиваю голову к окну.
На меня в упор смотрит огромный глаз Кролика-мясоеда, перечеркнутый крест-накрест оконной рамой.
Глава 11
Лицу почему-то холодно. Холодно и мокро. Похоже, что я нырнул на большую глубину, куда не проникают лучи солнца. Откуда-то сверху, с поверхности, до меня доносится голос:
— Давай-давай, открывай глаза. Что ты там увидел? Что заставило тебя отключиться? Говори первое, что приходит на ум. Не думай, не анализируй. Просто скажи, что ты увидел в окне?
Голос настойчивый. Он тянет меня вверх. Преодолевая сопротивление чудовищной толщи воды, я медленно всплываю. Далеко наверху уже видно светлое пятно… Голос не унимается:
— Не молчи. Скажи, что ты увидел? Не пытайся продумать ответ. Говори любую чушь, которая лезет в голову.
Свет все ближе и ближе. С каждым мгновением скорость всплытия увеличивается. Конечно, так и должно быть, ведь уменьшается давление на меня.
Наконец, с судорожным всхлипом я выныриваю на поверхность. Хватаю ртом воздух. Молочу руками по воде, которая вдруг превращается в мягкую обивку кресла. Еще ничего толком не соображая, провожу ладонью по лицу. Оно мокрое.
Голос совсем рядом:
— Ну так что же ты увидел за окном?
Я открываю глаза. Первое, что вижу — склонившегося надо мной человека. Лицо слегка расплывается, будто я смотрю на него сквозь тонкий слой подернутой рябью воды. Но я вижу, что его губы шевелятся, глаза сверлят меня.
— Что это было? Ты можешь ответить?
— Может, еще воды? — раздается другой голос. Женский.
— Нет, он уже пришел в себя. Сейчас все будет хорошо. Он ничего не сказал, прежде чем вырубиться?
— Нет. Просто посмотрел в окно.
— Ты уверена, что он чего-то испугался?
— Ты бы видел его лицо в этот момент. Я и сама-то занервничала…
Я резко сажусь. Человек, склонившийся надо мной, едва успевает выпрямиться. Тут же накатывает тошнота, а сердце выделывает головокружительный кульбит.
— Эй, — говорит мужчина, — осторожнее. Давление…
В голове проясняется.
Да, конечно, этот человек в застиранной до белизны рубашке американских морских пехотинцев и линялых джинсах, этот человек с коротким ежиком осветленных волос и лицом положительного героя из мыльной оперы, этот человек, озабоченно хмурящий брови и смотрящий на меня с таким сочувствием, что хочется расплакаться от жалости к себе… Этот человек и есть мой знакомый любитель суицидов. Тот самый чокнутый засранец, который, по идее, должен бы сейчас кровожадно вертеть в руке нож, примериваясь, что мне отрезать для начала.
Вместо ножа у него пустой стакан, из которого, судя по всему, меня и поливали. Вместо ожерелья из человеческих ушей — солнцезащитные очки Ray-Ban, засунутые дужкой в верхнюю петельку на рубашке. Вместо сумасшедшего оскала и ниточки слюны изо рта — приветливая улыбка, которую любая дура в возрасте от десяти до девяноста назовут очень милой.
— Как ты себя чувствуешь? — спрашивает меня маньяк-очаровашка. И хлопает своими длиннющими ресницами, при виде которых любая дура в возрасте от десяти до девяноста потеряла бы голову.
Ну и я, понятное дело, отвечаю в своей обычной манере:
— Пошел ты!
Я ведь не какая-нибудь слабоумная девица, падающая в обморок при виде смазливой мордашки. Я крутой парень, отключающийся только при виде Кролика-мясоеда. Ко всему остальному я равнодушен. В том числе, и к таким вот ребятам, которые, наверное, даже сидя на горшке не утрачивают харизмы.
— Ну все, теперь он точно пришел в себя, — смеется этот псих, оборачиваясь.
Я слежу за его взглядом. На диване за его спиной сидит Муцуми, уставившись на испачканного краской карпа. Рядом с ее плечом я вижу чей-то локоть. Владельца локтя закрывает маньяк. Заметив, что я пытаюсь разглядеть еще одного гостя, этот харизматичный ублюдок ухмыляется и делает шаг в сторону.
— Hi, — говорит Юрико из-за дивана и машет мне рукой. — How are you?
— Что ты здесь делаешь? — спрашиваю я.
Мне кажется, что все это сон. Маньяк, Муцуми, Юрико, безвкусно обставленная, аляповатая комната, капли воды на лице… Все это сон, вызванный переживаниями последних дней.
— Пришла повидать тебя, — говорит фрагмент сновидения, который я идентифицирую как Кобаяси Юрико, знакомую продавщицу из аптеки. — Это опять твоя агорафобия?
— Да нет, — качает головой серийный убийца. — Не похоже на агорафобию. Это боязнь чего-то другого. Или просто паническое расстройство. Хотя… Не знаю, тут нужно поработать. На шизофреника, во всяком случае, он не похож. Так что все его страхи — скорее всего невротическая реакция.
— Что это значит? — спрашивает Юрико.
— Я полагаю, невроз навязчивых состояний… Но пока судить сложно.
— Что это значит?
— Ну это получше, чем шизофрения. В смысле, он сам понимает, что все его страхи — липа. В отличие от шизофреника… Это, в какой-то степени, упрощает дело.
— А-а-а… — тянет Юрико.
По ее тону можно догадаться, что она все равно ничего не поняла. То же самое можно сказать и про меня. Я абсолютно ничего не понимаю. Здорово смахивает на сон или бред.
Муцуми встает с дивана:
— Давайте я сварю всем кофе.
Кофе у нее дрянной. Эта мысль переключает какой-то рубильник в голове. Ощущение нереальности происходящего исчезает. Черт, все это на самом деле! Юрико и этот парень… И я в кресле, с мокрой физиономией, только что вынырнувший из глубокого обморока.
— Конечно, сестренка, — ласково говорит маньяк.
Муцуми направляется в кухню. Когда она проходит мимо меня, наши глаза на секунду встречаются. Взгляд у нее виноватый. Но на мгновение я различаю в нем холодный трезвый расчет и голод… Глаза паучихи, изучающей попавшего в паутину жучка. Впрочем, длится это тысячную долю секунды. Когда она отворачивается, я не могу сказать точно самому себе, было это на самом деле, или та же история, что и с кроликом.
Она выходит из комнаты, и мы остаемся втроем. Юрико, по-прежнему опираясь на спинку дивана, изучает ногти на руках. Я замечаю, что они накрашены. Впервые за все то время, что мы знакомы… Неброский французский маникюр. Цвет — «жемчужная россыпь».
Она и сама изменилась. Теперь она похожа на школьницу, которая очень хочет, чтобы ее принимали за взрослую женщину. Этакая вывернутая шиворот-навыворот акселерация. Обтягивающие джинсы, рубашка, завязанная узлом на животе… Я понимаю, что уже видел это. Ну да, Муцуми. Именно так была одета сестренка убийцы, когда мы встретились первый раз. Похоже, я много упустил.
— Не пора ли нам познакомиться? — говорит маньяк, усаживаясь на то место, где минуту назад сидела Муцуми.
Я молчу. Ничего лучше, чем «пошел ты» в голову не приходит. Речевой ступор.
— Меня зовут Такэо*, - улыбается он. — Не слишком мне идет, да? Впрочем, родители всегда слишком тщеславны. Они видят в нас себя, такими, какими мечтали быть. Глупость, не находишь?
* Боец.
Я пожимаю плечами. Вот проблемы его родителей меня сейчас волнуют больше всего. Юрико смотрит то на меня, то на него, то на свои ногти. Кажется, они интересуют ее куда больше.
— Молчишь? Что ж, я тебя понимаю… Опять вопросы, да? Дай-ка попробую угадать… Ты хочешь узнать, зачем я устроил эту встречу. Так? Или, иными словами, что мне от тебя нужно. Верно? Ладно, можешь не говорить. Сам знаю, что угадал. Твоя беда в том, что ты слишком предсказуем. Рано или поздно это сыграет с тобой плохую шутку…
— Ага, — говорю я. И думаю, не пора ли мне поизучать карпа. Не исключено, что в прошлый раз я кое-что упустил.
С кухни доносится запах пережаренных кофейных зерен, перемалываемых в пыль. А Такэо говорит:
— Мне бы не хотелось, чтобы ты считал меня своим врагом.
На одной из чешуек я замечаю совсем свежий скол. Видно, Муцуми не слишком бережно относится к столику.
— На самом деле, мы могли бы стать хорошими друзьями. Правда, ненадолго, но все же… Настоящий друг — это так много значит для нас, социофобов в третьем поколении. Верно, Юри?
Юрико кивает. Только сейчас я замечаю в мочке ее уха золотое колечко. Раньше она не носила сережек.
И еще один немаловажный момент. Значит, она для него Юри, а не Юрико. Ее бесило, если я так ее называл, хотя не очень любит полное имя. Но еще меньше любит, когда посторонние говорят ей: «Юри». Значит, я посторонний, а он нет.
Юрико обходит диван и садится на подлокотник. Я замечаю тщательно припудренные пигментные пятна на лице. Еще одно новшество — она отбеливает кожу. Видно, не очень удачно подобрала средство.
Я слишком много упустил, гоняясь за этим психом.
И похоже, главное упущение — Юрико Кобаяси.
— Почему ты так напряжен? — спрашивает серийный убийца по имени Такэо. — Почему все время молчишь? Может, попытаемся решить все наши проблемы сейчас, раз представилась такая возможность? Я с удовольствием выслушаю твои претензии…
Возвращается Муцуми с подносом. От одного вида этого расписного чудовища меня начинает тошнить. Теперь на нем четыре чашки с матово поблескивающими пузатыми боками. Она расставляет чашки перед нами.
— Тебе со сливками? — спрашивает она у брата-маньяка.
— Как всегда, сестренка, — улыбается он. Весь этакая сплошная братская любовь.
— А тебе, Юри-тян?
— Нет, спасибо.
— Черный кофе вреден для цвета кожи.
— Хорошо, добавьте, пожалуйста немного сливок…
Мы сидим вчетвером и пьем дрянной кофе Муцуми. Они втроем на длинном, как посадочная полоса, диване. Я напротив, в кресле. Между нами естественное препятствие в виде дурацкого столика. Диспозиция ясна. Расстановка сил не в мою пользу, у них явное численное превосходство. К тому же, моя позиция не является особенно выгодной. Это не укрепленная возвышенность со сложной системой траншей, долговременных огневых точек и бетонных капониров, опоясанная минными полями и рядами колючей проволоки. Всего-навсего старенькое кресло. Долго мне здесь не продержаться.
Они молча пьют кофе и смотрят на меня. Точнее, смотрят только брат с сестрой. Их глаза кажутся мне стволами береговой батареи. Проблема в том, что я не крейсер и не линкор. Я просто уставший и запутавшийся неудачник, возомнивший себя спасителем чуть ли не всего человечества. Ага.
Юрико достает из заднего кармана джинсов металлическую пилку для ногтей и начинает с сосредоточенным видом поправлять маникюр.
— Ну, так что, — говорит Такэо, — может, поговорим, как взрослые люди? Или будешь и дальше строить из себя обиженного ребенка? Кстати, не совсем понимаю, чего ты так разобиделся? Неужто только из-за Юрико? Как видишь, она жива-здорова, так что поводов для конфликта вроде больше нет.
Интересно, он на самом деле считает, что не сделал ничего особенного? Очень даже возможно. Только наши точки зрения на этот счет не совпадают.
— Не думаешь, что вся проблема в тебе?
О, да, конечно. У меня очень отсталые взгляды на жизнь. Я уверен, что доводить до самоубийства людей нехорошо.
— В том, что ты даже не пытаешься разглядеть, что окружает тебя. Живешь в рамках своих представлений о мире и не хочешь знать ничего другого.
Я думаю о том, что психи обожают создавать новые ценности. Если у тебя конфликт с окружающим миром, можно изменить себя, а можно сказать, что все вокруг — неправильно устроено. Второй выход для таких вот ненормальных.
— Если ты будешь молчать, у нас не получится конструктивного разговора. Поверь, я очень хочу разрешить все недоразумения. Ты мне нравишься. Правда… А тебе, Муцуми?
Она кивает, не глядя на меня.
— Вот поэтому я и не хочу, чтобы между нами были нерешенные вопросы. Я же тебе говорил — я не псих. Не свихнувшийся маньяк… И я не убиваю людей просто так, для развлечения. Если захочешь, мы обсудим эту тему. Может быть, тебе откроется нечто новое… Но для этого ты должен перестать закрываться от меня.
Донельзя абсурдная ситуация. Я чувствую себя, как школьник-хулиган перед собранием учителей. Меня упрашивает исправиться добрый и заботливый директор, а такие же добрые и заботливые учителя с мягким укором смотрят на меня и покачивают головами. Остается только шмыгнуть носом и с поклоном извиниться перед ними за свое упрямство. Полнейший бред. Никогда бы не подумал, что общение с маньяком может вызывать подобные чувства.
Чтобы избавиться от этого дерьма, я разваливаюсь в кресле. Заставляю себя посмотреть прямо в эти так и лучащиеся доброжелательством глаза. Я откашливаюсь, я смотрю на испачканный краской плавник карпа, я незаметно вытираю влажные ладони о кресло, и говорю:
— Давай поговорим, если ты так хочешь… Что тебе от меня нужно?
— Мне? Ничего. Не я ведь разыскивал тебя, а наоборот. Так что это я хочу послушать, зачем тебе понадобился.
Ну, вот так примерно. И что ему ответить? Я вдруг понимаю, что оказался в тупике. Больше всего я хотел найти Юрико. Спасти ее. Вот она, здесь, передо мной. Жива, здорова, неплохо выглядит и, судя по всему, не очень-то нуждается в спасении. По идее, я могу встать, поблагодарить всех присутствующих и спокойно отправляться в отель. Зная, что этот обаятельный психопат-маньяк-убийца, продолжает вести привычный образ жизни. Оказывается, чувство ответственности не пустые выдумки.
— Ты, похоже, и сам толком не знаешь, — мягко говорит Такэо. — Я тебе помогу. На самом деле у тебя не так много вариантов, из которых можешь выбирать. Сдать меня полиции — отпадает сразу.
— Почему?
— Во-первых, у тебя нет никаких доказательств. Во-вторых, для них ты сам убийца. Кто будет слушать твои рассказы обо мне? Согласись, это будет похоже на попытку отвлечь внимание.
Я молчу. Муцуми молчит. Юрико молчит. Говорит только псих. Эти две дуры смотрят на него с восхищением.
— Ты можешь просто уехать и забыть обо мне. Это был бы идеальный вариант. Но, насколько я понимаю, он вряд ли тебя устроит. Ты ведь из «общества помощи всем на свете», верно? Еще ты можешь убить меня, — он улыбается. — Чтобы ты не думал, что это пустые слова, держи…
Он задирает рубашку и я вижу кусочек его голого живота, дорожку черных курчавых волос, поднимающуюся к пупку и рифленую рукоятку пистолета, заткнутого за пояс. Он вытаскивает новенький австрийский Glock 26, щелкает предохранителем и передергивает затвор. У меня мигом пересыхает во рту. Оружие в чужих руках действует завораживающе. Больше тебя ничего на свете не интересует. Все кажется бесконечно далеким, плоским, ненастоящим, смазанным… Неважная ксерокопия плохой фотографии. Вот таким кажется мир, когда перед тобой сидит человек с взведенным пистолетом в руке.
Такэо ухмыляется и кладет ствол на столик, рукоятью ко мне.
— Это тебе. Можешь пристрелить меня прямо сейчас, — он откидывается на спинку дивана и равнодушно смотрит мне в глаза.
Муцуми с Юрико поглядывают то на меня, то на него, то на пистолет. Особого волнения на их лицах я не наблюдаю. Конечно, все это просто спектакль. Идиотский спектакль, вполне в духе таких вот психов.
Я нагибаюсь и беру со стола Glock. Тяжелый, еще хранящий тепло человеческого тела. Ставлю на предохранитель и вынимаю обойму, ожидая увидеть хлопушки холостых или газовых патронов.
— Не угадал, — говорит Такэо.
Действительно, не угадал. В обойме стандартные патроны «люгера», с гладкими конусообразными пулями FMJ. Тут уж будет дырка так дырка… Механически я возвращаю обойму на место.
— Можешь им воспользоваться, — говорит маньяк.
Женщины по-прежнему молчат. Хотя уж от них-то можно было ожидать реакции поживее. Неужели все настолько уверены, что я не выстрелю? Вот такое впечатление я произвожу, да?
Меня бесит их спокойствие.
Меня бесят их равнодушные глаза.
Меня бесит то, что они считают меня ни на что не способным придурком. И не стесняются показать это.
Медленно, как во сне, я опускаю флажок предохранителя и поднимаю Glock. Ствол смотрит в грудь Такэо. Прямо туда, где над нагрудным карманом виден прямоугольный след от споротой нашивки U.S.ARMY. Мушка выписывает различные геометрические фигуры, но это неважно. С такого расстояния промахнуться невозможно.
В комнате становится очень тихо. Настолько тихо, что я слышу тиканье дешевых кварцевых Casio на запястье у Такэо. Он выжидающе смотрит на меня. Так смотрят на дрессированную обезьяну — что, интересно, она еще выкинет? В глазах нет страха, нет ничего сумасшедшего, только спокойное любопытство и ожидание. Мир перестает существовать. Эти глаза втянули, всосали его, как маленькие черные дыры.
Я чувствую, как по виску скатывается капелька пота. Я облизываю пересохшие губы. Я почти перестаю дышать. Рука, держащая пистолет, медленно наливается свинцом, отчего срез ствола увеличивает амплитуду.
Палец прилепился намертво к спусковому крючку. Примерз к нему, сросся с ним. Если я случайно дернусь, если вдруг хоть одна мышца непроизвольно сократится, прогремит выстрел. Центральная нервная система посылает возбуждающий сигнал к мотонейронам, мембрана мотонейрона поляризуется, и он генерирует серию импульсов, направляемых по аксону к мышечным волокнам. Так это дерьмо описал бы физиолог или врач. Так происходит это дерьмо внутри меня. Но снаружи все будет выглядеть гораздо проще. Неуловимое движение пальца — и готов труп. Все равно, что равновесие аптекарских весов — если на одну чашу упадет почти невесомая пылинка, оно нарушится. Скажи что-нибудь сейчас Муцуми, и ей придется отмывать свой диван.
Я это понимаю.
И он это понимает.
Но делает вид, что ему наплевать. Или на самом деле наплевать. Я не знаю. Вряд ли это знает даже он сам.
Понятия не имею, сколько это длится. Мне кажется, что всего лишь пару-тройку вечностей. Нелепая немая сцена. Пародия на драму. Если у парня, сидящего напротив, есть хоть немного мозгов, то для него этот промежуток времени раз в десять больше.
И тут окаменевшую, оцепенелую тишину нарушает какой-то нелепый звук. Даже не звук, а так, намек на него. Я, все так же находясь под гипнозом, перевожу взгляд на Юрико. Она подпиливает ногти.
Из меня выдергивают стальной штырь, и я обмякаю. Рука с пистолетом безвольно опускается.
А этот придурок берет чашечку и прихлебывает кофе. Он говорит:
— Значит, этот вариант тебя тоже не устраивает… Итак, сдать меня полиции ты не можешь, уехать ты не можешь, убить меня не можешь. Теперь вопрос: так чего же ты, собственно говоря, можешь?
Мне настолько погано, что я почти не слышу его. Так, отдельные слова. Все остальное сливается в ровный гул, на манер пчелиного роя. Мне по-настоящему хреново… Если бы я мог, поднес бы ствол к собственному виску и нажал спуск. Проблема в том, что даже этого я сделать не в силах. Даже такой пустяк для меня — невыполнимая задача.
И я спрашиваю себя: когда ты все растерял, дружище? Все, что было в тебе стоящего…
— У тебя есть виски? — спрашиваю я у Муцуми.
Она кивает и уходит на кухню. Видимо, виски у нее появляется только с приходом брата. Ну-ну… Пока ее нет, мы сидим молча. Юрико все пилит ногти, а Такэо рассеянно гоняет пальцем по столу пустую чашку. Я же ставлю Glock на предохранитель и кладу его перед собой на голову карпа. Движение чашки не прекращается.
Муцуми возвращается с бутылкой Suntory и стаканом, в котором побрякивают в такт ее шагам кубики льда. Я сворачиваю крышку, наливаю почти целый стакан и салютую им моему сегодняшнему победителю.
Стакан виски в руке — мой белый флаг. Грядущее опьянение — безоговорочная капитуляция.
Все так, как не должно было быть.
Глава 12
— Я не вижу смысла в том, чтобы продолжать жить, — говорит девушка под номером 8. - абсолютно никакого смысла. Пока был жив отец, мне нужно было за ним ухаживать. Сейчас он мертв, и я никому не нужна. Да и мне никто не нужен… От людей меня тошнит. А людей тошнит от меня. Я такая уродина… Лучше уж умереть, чем видеть, что на тебя смотрят, как на уродину…
Она действительно уродина. Тут уж ничего не скажешь. Даже если бы сильно хотелось с ней поспорить, с аргументами возникли бы громадные сложности. Одни передние зубы, вылезающие из ее рта чуть ли не на целый сантиметр, чего стоят. Кожа вся в пятнах, сальные волосы, вечно слезящиеся глаза. Это все девушка номер восемь в нелепой коричневой юбке, доходящей до лодыжек, и красно-синем джемпере с закрытым воротом, который моль не съела из брезгливости.
У людей, присутствующих здесь, нет имен. Все пронумерованы. Номер восемь, номер двенадцать, номер тридцать четыре.
— И вообще такая скукотища эта жизнь. Каждый день одно и то же… — продолжает Номер Восемь. — Все, что хотелось попробовать, я уже попробовала. Остальное пробовать не хочу… Лучше уж умереть.
— Хорошо, — подает голос Такэо, — спасибо, Номер Восемь. Мы все тебя понимаем. Кто-нибудь еще хочет высказаться?
Все молчат, опустив глаза.
Сеанс групповой психотерапии. Люди, сидящие на составленных в круг дешевых пластмассовых стульях, потенциальные самоубийцы. Я встречаю здесь почти то же самое, что радовало меня на протяжении года в другой группе — реактивная депрессия, эндогенная депрессия, шизоидная астения, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз в депрессивной стадии. Я убеждаюсь, что с течением времени в жизни мало что меняется. Все одно и то же. Одно и то же, одно и то же, одно и то же.
Такэо в своей армейской рубашке и ботинках с тупыми носами сидит в центре круга, закинув ногу на ногу, и поигрывает очками. Он здесь босс. Человек, который должен помочь этим ребятам выбраться из дерьма, в котором они оказались. Собственно, за этим они и пришли. Чтобы добрый умный дядя утер их сопли и сказал, что жизнь стоит того, чтобы жить.
Но у Такэо свой подход. Он говорит:
— Давайте разберемся с Номером Восьмым. Как по-вашему, что удерживает ее от этого шага?
Юноша под номером десять робко поднимает руку. Он здесь новенький, всего второй раз. Все уже знают, из-за чего он хочет покончить с собой, — импотенция. Не слишком обнадеживающий диагноз в восемнадцать лет. А вся проблема в перенесенной им в детстве свинке. У Номера Десять гнусавый голос и впалая, словно вдавленная гигантским кулаком грудь. С Номером Восьмым они были бы неплохой парой.
— Надежда? — говорит Десятый.
— На что? — теребит дужку очков Такэо.
— Ну… На то, что все изменится к лучшему, — краснеет Десятый.
— Ты думаешь, что у нее может что-нибудь измениться? Не знаю, не знаю… Номер Восемь, скажи, почему ты до сих пор не покончила с собой? Что тебя останавливает?
Девушка пожимает плечами.
— Неужели ты веришь, что когда-нибудь встретишь человека, которому будешь нужна? Тебе не кажется, что это невозможно? Разве хоть один из нас по-настоящему кому-нибудь нужен? Разве хоть один из нас может похвастаться тем, что если его не станет, кто-то заметит это? — Такэо повышает голос, обводя взглядом сидящих людей. — Кому, кроме нас самих, нужна эта мерзость, которую мы называем нашей жизнью?
Я незаметно делаю глоток из фляжки. Впрочем, мог бы особенно и не таиться — на меня все равно никто не смотрит. Я сижу в дальнем полутемном углу комнаты, которая утром становится учебным классом, и не принимаю никакого участия в работе группы. Я всего лишь сторонний наблюдатель. У меня нет идентификационного номера. Впрочем, имени тоже нет…
— Выбросите всю эту чушь из головы! — тем временем продолжает Такэо. — Будете вы жить вечно или умрете сейчас, безразлично всем. Ваша жизнь — это ваша проблема, так же как и ваша смерть. Хватит коситься на всех тех бедняг, которые еще не понимают этой простой истины. Вы впереди них, к чему оглядываться назад? Скажи мне, Номер Восемь, ты понимаешь, что никогда не встретишь человека, которому будешь нужна?
Со своего места я вижу только затылок девушки. Она коротко кивает.
— Тогда что же тебя удерживает здесь? Зачем ты пришла в мою группу?
— Я боюсь.
Она говорит настолько тихо, что я с трудом различаю слова, хотя акустика в классе просто отличная.
— Чего? Чего ты боишься? — Такэо подается вперед.
— Ну, как все это будет, — девчонка почти плачет.
— Понятно, — откидывается он на спинку. — Еще кто-нибудь боится того, что придется пережить, почувствовать в последние секунды?
Раздается нестройное многоголосое «да».
— Хорошо. Давайте каждый из вас поразмыслит над своим страхом, и на следующей встрече мы обсудим эту проблему. А на сегодня все. Спасибо, вы все отлично поработали.
— Спасибо, сенсей, — хором отвечают эти придурки.
Когда мы выходим в душный летний вечер, я спрашиваю у Такэо:
— Зачем ты это вытворяешь?
Он засовывает очки в верхнюю петельку, достает пачку «Mild Seven», вынимает сигарету, разминает между пальцев, прикуривает. Огонек зажигалки освещает его задумчивое лицо. Затянувшись несколько раз он, наконец, отвечает:
— Мне нужны добровольцы.
До самого дома мне не удается больше вытянуть из него ни слова.
Уже вторую неделю я живу в доме Муцуми. Точнее, мы живем там вчетвером. Муцуми, Юрико, Такэо и я. Словно одна счастливая семья… Скажи мне кто-нибудь раньше, что я буду жить под одной крышей с маньяком, я расхохотался бы этому человеку в лицо. Сейчас мне это почти не кажется ненормальным. Само собой, у меня есть веская причина на то, чтобы каждое утро сталкиваться с ним нос к носу. У меня есть даже две такие причины.
Первая — полицейские, которые с присущим им упорством пытаются найти меня, чтобы отправить за решетку. По подозрению в убийстве Тецуо и его жены Кейко. И с этим все понятно.
Вторая причина — Юрико. Не знаю, влюбилась она в этого чертова придурка Такэо, или еще что, но она не отходит от него ни на шаг. Хотя на любовь не слишком похоже. Во всяком случае, не на любовь женщины к мужчине. Тут что-то другое. Возможно, намного хуже, чем банальная влюбленность в обаятельного мерзавца. Зачем-то она нужна ему, зачем-то он нужен ей. Я не знаю, зачем. Но должен узнать… Беда в том, что она всячески избегает разговоров со мной. Стоит мне войти в комнату, Юрико тут же вспоминает о куче важных дел. Правда, по-моему, ничем, кроме своего маникюра, она не занимается. По дому хлопочет Муцуми. Юрико целыми днями либо болтается где-то с Такэо, либо сидит, забравшись с ногами на диван в гостиной и смотрит телевизор, а то и просто пялится в стену. И без конца пилит свои ногти. Вжик-вжик, вжик-вжик… Ну, в магазин иногда выйдет, если Муцуми попросит. Остальное время — «вжик-вжик».
Такие вот у меня причины занимать маленькую, в четыре татами, комнату на втором этаже дома Судзуки. В спорте это называется тайм-аут. Я просто решил устроить себе передышку, чтобы собраться с мыслями. Во всяком случае, такова моя официальная версия. А может, действительно так оно и есть… Не знаю. Когда столько всего понамешано, трудно понять, где правда, а где самоуспокоение. Как бы то ни было, мне необходимо как следует обдумать ситуацию, в которой я оказался. Серьезно.
Постепенно я узнаю правду о Такэо. В общем-то, от меня никто ничего и не скрывает. Для них все, что делает этот парень, в порядке вещей. Совершенно безобидное хобби. Вроде коллекционирования почтовых марок. Станет кто-нибудь делать тайну из коллекционирования марок? Вряд ли.
В наших разговорах с Муцуми то и дело всплывает эта тема. Сам Такэо тоже общается охотно. Только Юрико молчит. Это меня пугает. Впечатление такое, будто она знает нечто такое, что я знать не должен. Не потому, что это великий секрет. А как молчит ребенок, разбивший чашку. Он просто хочет избежать наказания за проступок. Так же молчит и Юрико, словно натворила что-то такое, за что я могу ее наказать. Впрочем, все это лишь мои догадки.
Каждый вечер Такэо проводит сеансы групповой терапии в учебном центре неподалеку от нашего дома. По образованию он психолог. В университете специализировался на танатофобии и проблемах суицида. Не знаю, какой он специалист, но недостатка в клиентах у него нет. Каждый вечер человек десять приходят в класс, чтобы поведать миру о желании умереть. Или о своем страхе смерти. Или о желании кого-нибудь убить. Последние долго не задерживаются. Монополия на убийства принадлежит Такэо. Конкуренты ему не нужны. И от этих ребят он избавляется в первую очередь. Те, кто боятся смерти, тоже его особенно не интересуют. Разве что у человека амбивалентное отношение к этой проблеме. Вот с ними он работает:
— Стоит ли страшиться того, о чем вы не имеете ни малейшего понятия? — мягко говорит он. — Стоит ли пугаться самого волнующего, самого яркого и значительного события в вашей никчемной жизни? Для таких, как вы, закомплексованных, забитых, потерявших всякие ориентиры, смерть — это награда, избавление, успокоение…
И они его слушают. Я бы даже сказал — внимают ему.
Для них он — учитель. Для них он — друг. Для них он — спаситель.
У него часто звонит телефон. Тоже клиенты. Те, которые находятся в данный момент в кризисном состоянии. Может быть, они звонят ему, стоя на крыше небоскреба. Может — лежа в теплой ванне с лезвием в одной руке и телефоном в другой. Может — говорят с ним, а сами проверяют надежность крепления веревки к потолочной балке. На самом деле, они хотят услышать одно: «брось это дело, приятель, ты должен жить, ведь все не так уж и плохо». Но он говорит, прижав телефон плечом к уху и копаясь в каких-то бумагах, или разбирая пистолет, или помешивая кофе:
— Не тяни. Каждая минута, проведенная здесь, украдена у вечности блаженства. Ты сам себя делаешь беднее. Подумай, есть ли у тебя что-то такое, расстаться с чем жаль? Твоя убогая квартирка? Твоя работа, которую ты ненавидишь? Телевизор? Холодильник? Собака? Вот с этим дерьмом ты не можешь расстаться? — уже кричит он в трубку. — Вот потому-то ты и неудачник, что не можешь послать все это к черту!
Потом он складывает телефон и продолжает заниматься своим делом.
— Зачем ты это делаешь? — спрашиваю я каждый раз.
И он всегда отвечает одно и то же:
— Мне нужны добровольцы. Я не убийца.
— Это, по-твоему, не убийство? Между прочим, если ты не знаешь, доведение до самоубийства — это преступление.
— Может быть, — пожимает он плечами. — Только доказать его куда сложнее, чем обычное убийство. Есть только один свидетель, который готов дать показания. Но его самого ищет полиция. Так что и он будет молчать.
Он смеется, снимая затвор.
— И потом, ты очень однобоко судишь обо всем. Попробуй посмотреть на проблему шире. Все мы когда-нибудь умрем. Я просто помогаю людям следовать естественному ходу вещей. Что-то вроде катализатора… С той разницей, что без катализатора химическая реакция невозможна, а без меня все равно итог будет тем же. Ну, немного оттянется по времени. Я не палач и не судья. Палач и судья — природа. А я лишь топор. Да и то, если не вдаваться в детали…
— А если вдаваться?
— Для этого тебе нужно снять розовые очки. Помнишь, я говорил тебе о твоих иллюзиях? Они здорово мешают тебе. И другим, кстати, тоже. Я хочу помочь вам всем избавиться от них. Увидеть мир таким, какой он есть. Для этого мне и нужны добровольцы. Это часть плана…
— У тебя есть целый план?
— Конечно, — он с щелчком вставляет вычищенный и смазанный затвор на место.
Шутя прицеливается мне в лоб и говорит:
— Бэнг-бэнг…
А вечером он снова занимается тем, что помогает всяким там Итоси, Дзётаро, Кацухико, Норико, Рейко, Юкико, Синтаро и Риэ, которые приходя в группу лишаются своих имен и становятся Номером Один, Номером Два, Номером Сорок Шесть, решиться на попытку суицида. Надо сказать, в его группах большая текучесть. Старожилов мало, очень мало. В среднем, по моим подсчетам, человеку хватает пяти-шести сеансов. Тем, у кого тяжелая реактивная депрессия, достаточно прийти к Такэо один раз. И все проблемы решаются сами собой.
— Я врач, — говорит он мне. — Я избавляю людей от боли. Почему ты не хочешь признать их право на избавление?
— Убийство остается убийством, как его ни назови.
— Мы можем спорить до бесконечности. Ты слишком туп, чтобы понять меня.
— Ну, да, конечно…
— Скажи лучше, что ты видел тогда в окне? У тебя галлюцинации?
— Не твое дело.
— Я могу тебе помочь…
— Так же, как помогаешь тем ребятам в группе?
— Нет, серьезно. Разве ты не хочешь избавиться от своих страхов?
— Не твое дело, — повторяю я.
— То, что ты видел… Твой страх… Это часть тебя. Какая-то жестоко подавленная сознанием часть. Подумай об этом. Если хочешь от страха избавиться, ты должен приблизиться к нему. Чем дольше бегаешь от него, тем он больше. Если бы ты сказал мне, что именно пугает тебя, я смог бы точнее указать направление поиска…
Я молча встаю и выхожу из гостиной. Поднимаюсь на второй этаж в свою комнатушку и ложусь на узкую кровать. Кто-то скажет, что я в тупике. И я с ним соглашусь.
Так проходит неделя. За ней еще одна. Каждый новый день — точная копия предыдущего. Время в этом доме остановилось. Где-то там, в другом мире, жизнь идет своим чередом. Люди ходят на работу, радуются успехам детей в школе, напиваются, получают повышение по службе, ходят в кинотеатры, экономят деньги, к чему-то стремятся, чего-то ждут, от чего-то убегают. Здесь, словно на огромной глубине, вязкая тишина, мрак и полное отсутствие движения.
Я все реже выхожу из комнаты. Исключение — вечера, когда мы с Такэо отправляемся на очередное собрание группы. Зачем я хожу туда — не знаю. Мне все кажется, что вот-вот смогу что-то сделать. Смогу как-то его остановить. У меня нет никакого плана, нет никакой идеи. Но просто сидеть в своей комнате, когда он отправляет очередного парня вскрывать себе вены, я не могу. Я хожу с ним на эти чертовы собрания и жду, не подвернется ли шанс все исправить. В общем, то же бездействие но с другим, более приемлемым для совести названием — ожидание. Но кто знает, вдруг действительно у меня будет шанс?…
Иногда с нами ходит Юрико. Она сидит вместе со мной за пределами освещенного круга, в полутемном углу и просто слушает откровения потенциальных самоубийц. Лицо у нее при этом отсутствующее. Лишь когда в разговор вступает Такэо, она немного оживает. Ровно настолько, чтобы достать из кармана пилку для ногтей и начать полировать ногти.
Что-то с ней не так, понятно. Но вот что именно? На этот вопрос я ответить не могу. Зомбирование — вот первое, что приходит на ум. Улучив момент, когда мы остаемся в гостиной дома одни, я спрашиваю у нее:
— Отец хоть знает, что ты жива и здорова?
— Да, — неохотно отвечает она. — Я ему звонила. Все в порядке.
— Почему ты не сообщила мне, что встретилась с Такэо? Я поднял на ноги полицию, сам чуть с ума не сошел… Неужели было так трудно позвонить или написать?
— Нет, не трудно.
— Тогда почему?
— Такэо просил этого не делать.
В ее голосе не больше жизни, чем в рыбе, вытащенной из кипятка.
— Какого черта, Юрико? Я думал, что мы с тобой друзья. Ты сама говорила. Друзья так не поступают.
— Я знала, что мы скоро встретимся, — она смотрит в сторону.
— Зачем ты вообще с ним связалась?
— С Такэо?
— Да, да!
— Тебе не понять… Во всяком случае, пока. Может, придет время, и ты присоединишься к нам.
— К кому это, к вам?
— Такэо сам тебе все расскажет, когда сочтет нужным…
— Пошел он в задницу! Я хочу услышать от тебя. Почему ты с ним? Что происходит? Кто — вы? Ты и он? Или есть еще кто-то?
Она отворачивается.
— Он что, и тебе промыл мозги?
Она смотрит под ноги.
— Не молчи, Юрико, прошу тебя! Ответь мне. Объясни, почему ты не обратилась в полицию? Почему ничего не сказала мне? Что тебя связывает с этим психом?
Она резко вскидывает голову:
— Он не псих, не смей так о нем говорить!
— Да очнись же! Он самый психованный псих из всех психов! Он убийца, неужели ты не понимаешь?!
— Не смей! — кричит она.
Я хватаю ее за плечи и как следует встряхиваю. Я ору ей в лицо:
— Он убийца! Как ты не понимаешь?! Самый настоящий убийца!
Она вырывается. Я не успеваю ничего сообразить, как ее кулак врезается мне в лицо. Верхняя губа лопается, как переспелая вишня. Во рту солоноватый привкус крови.
— Заткнись, идиот! — визжит Юрико. — Заткнись!
На пороге гостиной появляется Муцуми. В одной руке она держит стакан, на ладони другой лежат две ярко-красные капсулы. Она глотает их одну за другой и запивает, после чего протягивает стакан Юрико и строго говорит:
— Юри-тян, отнеси, пожалуйста стакан на кухню. Я сама с ним поговорю…
Мы остаемся с ней вдвоем. Ее красота уже не трогает меня. Удивительно, как меняется мнение о человеке, когда получше узнаешь его родственников. Удивительно, как много нового находишь в лице человека, подставившего тебя…
Я устало сажусь в свое любимое кресло и вытираю кровь с подбородка. Щупаю языком губу. Она здорово распухла, будто укусила оса.
— Больно? — участливо спрашивает сестрица маньяка и протягивает белоснежный носовой платочек.
— А как ты думаешь?
— Бывает и похуже…
— Наверное, — я прикладываю платок к губе. На нем расплывается красное пятнышко.
— Что ты хотел узнать у нее? Ты ведь что-то выспрашивал, верно? Спроси у меня. Может быть, я смогу ответить, — ее голос напоминает кусочек льда в стакане виски.
— Я хочу узнать, какого черта вытворяет твой чокнутый братец.
Она качает головой и безмятежно улыбается, прикрыв глаза. Я думаю, что интересно бы узнать, какие таблетки она глотает.
— Он не чокнутый.
— Ну да, эту версию я уже слышал.
— На самом деле. Он абсолютно нормальный человек. Добрый и заботливый… Знаешь, он на два года старше меня. Когда умерли родители, именно он заботился обо мне. Устроился на работу, постоянно покупал мне подарки… Ему было тяжело, приходилось учиться и работать. Не подрабатывать, как остальные студенты, а трудиться всерьез. Продавцом, грузчиком в порту… всего не перечислишь. Он очень хотел, чтобы я стала знаменитой художницей…
— Ага, и подарил тебе фотографию той девочки в петле.
— Нет… Я обманула тебя тогда. Никакой фотографии не было. Вернее, была но я сделала ее сама…
Она замолкает, совсем по-детски прикрыв рот ладонью, будто сказала лишнее.
Ну что ж, это действительно лишнее. Я бы предпочел остаться в неведении насчет фотографии. К чему мне дополнительные вопросы? К чему мне еще одно доказательство того, что я имею дело с ненормальной?
— А какой он устроил мне праздник, когда я продала первую свою картину… — она мечтательно закрывает глаза. — Он купил мне роскошное платье и повел в шикарный французский ресторан… Сейчас я уже не помню названия. Но там было потрясающе… Знаешь, ни один мужчина не сделал для меня столько, сколько Такэо.
— Эй! Он убийца. Самый настоящий…
— Он мой брат, — перебивает она. — Брат… И он никого не убивал.
— А то, что он вытворяет со своими клиентами? Им нужна психологическая помощь, а не советы психа.
— Они все равно рано или поздно покончили бы с собой.
— Вовсе нет. И ты сама прекрасно это знаешь. Почти всем им можно было бы помочь. Но даже если не брать их, остается еще Тецуо и его жена. Они не были похожи на самоубийц. Они хотели заработать денег и уехать в Америку. А твой братец их убил. Хотя они ему ничем не мешали… Зачем он это сделал? Что, тоже часть какого-то замечательного плана?
— Тецуо — это кто? Что-то знакомое… — она хмурит брови.
— Ты разве не знаешь Тецуо? Этот тот парень, за убийство которого разыскивают меня. Хотя, как я думаю, должны разыскивать твоего братца.
Она все хмурится. Кусает губу, щурится, постукивает себя задумчиво по кончику носа. Короче, делает вид, что пытается вспомнить что-то очень важное.
Дешевка, думаю я. Для нее все это не больше чем занимательная игра, в которую играет ее братик.
Тут ее лицо светлеет:
— Ну, конечно! Вспомнила…
Да неужели?
— Он как-то заходил к нам пару раз. Мне он сразу не понравился… Мерзкий тип. К тому же, наркоман. Это я приказала Такэо убить их. Он меня во всем слушается. Пошел и убил. Так что здесь нет его вины. Это моя идея…
Ну да, маленькое семейное дело. Кто-то открывает табачные лавки, кто-то убивает людей. Дело вкуса, безусловно.
Но если быть совсем честным — я растерян. Еще один неожиданный поворот. Если, конечно, она не лжет, чтобы выгородить братца. Хотя зачем ей это нужно, я ведь не судья… Мне можно спокойно говорить правду. Скорее всего, мое пребывание в этом доме и на этом свете вообще очень долго не продлится. Во всяком случае, Такэо ведет себя со мной так, словно в этом уверен. То есть слишком дружелюбно и слишком откровенно.
Теперь выходит, что не он один решает, кого отправлять к праотцам.
Мда… два психа — это круто. Тут шансы выжить практически сводятся к нулю.
— Ты серьезно? — спрашиваю я, чтобы хоть что-то спросить.
— Конечно, — кивает она. — Разве Такэо не говорил тебе? Впрочем, на него это похоже… Он всегда защищал меня. Даже когда мы были совсем маленькими, стоило мне напроказничать, он брал вину на себя. И всегда его наказывали…
— Как трогательно, — бормочу я.
Какие трогательные родственные чувства у двух убийц…
— А твои шуточки с якобы случайно перепутанными адресами? К чему был этот дурацкий спектакль с предложениями поймать маньяка и прочим? Тоже твоя идея?
— Разве тебе не было весело? — спрашивает она, подняв бровь.
Честно говоря, я не могу понять, издевается она или говорит серьезно. Понятно, что у всех разное чувство юмора. Но это, кажется, перебор. Даже для чокнутой художницы, сестры чокнутого психолога.
— Мне не было весело, — говорю я. — Не поверишь, я даже сейчас не вижу ничего смешного в этом. Зачем ты играла со мной в жертву маньяка?
— Не знаю… Мне казалось это неплохой шуткой, — она смущенно опускает глаза. — Жалко, что я дала тебе всего четыре адреса. Ты так быстро все понял… Но больше я не смогла придумать.
— То есть все это из-за желания посмеяться?
— Я думала, ты поймешь и тебе тоже будет весело. И потом, Такэо меня попросил немного поиграть с тобой, прежде чем сам с тобой встретится. У него так много дел… Иногда приходится ему помогать. Но это ведь правильно, да? Родные люди должны помогать друг другу, верно?
Я молчу. То, с чем я столкнулся в этом доме, лежит вне пределов моего понимания. А я-то думал, что уж чего-чего, а психов я повидал…
— Не держи на Такэо зла, — мягко говорит Муцуми. — Он очень хороший.
— Твой хороший братишка стал причиной смерти не одного десятка людей. Про них наверняка кто-то тоже говорил, что они хорошие…
— Хватит! Ты ничего не понимаешь.
— Ага. Может быть, я ничего не понимаю в ваших сумасшедших планах. Но знаю одно — при первой возможности я засажу Такэо за решетку. Даже если самому придется сесть в соседнюю камеру.
— Ну, это будет не так-то просто, — она выпячивает нижнюю губу. — Пока что для полицейских убийца — ты.
— Плевать.
Это я храбрюсь. На самом деле мне вовсе не хочется угодить лет на тридцать в тюрьму. В тот момент, когда мне наденут наручники, можно будет смело сказать, что моя жизнь закончилась. Не то чтобы я ею уж очень дорожу. Но провести остаток дней в камере и там подохнуть — не самый лучший вариант. Очень даже дерьмовый вариант, если уж говорить прямо.
Стоят ли все эти Номер Восемь, Номер Десять и Номер Восемьдесят Четыре того, чтобы я вторую половину жизни проторчал в тюрьме? В конце концов, мы даже не знакомы толком… В конце концов, не я тащил их в группы психологической поддержки Судзуки Такэо. В конце концов, в том, что у них вообще возникли мысли о самоубийстве, виноват не я.
Не я, не я, не я…
Меня могут убить, меня могут сдать полиции, если я хоть раз сделаю что-нибудь неправильное. Например, выведу из себя Муцуми своими дурацкими детскими угрозами. Я это прекрасно понимаю, и отчаянно боюсь. Я не готов принести себя в жертву. Но отморозок, сидящий внутри, дергает меня за язык, и я послушно говорю:
— Да мне плевать!
Вот она — свобода выбора. Вот она — альтернатива.
— Посмотрим, — пожимает плечами Муцуми, отчего ее родинка на шее делает резкий скачок. — Только ты учти, если мы поймем, что ты представляешь угрозу нашему делу, придется тебя убить. Вынужденная мера.
Она произносит это, как школьница — старательно вызубренный урок.
— Да что же это за дело? Вы все с загадочным видом болтаете о каком-то деле и никто не может толком ничего объяснить. Что, борьба за свободу всех психов мира?
— Революция сознания, — коротко отвечает Муцуми.
— Какая еще революция?
Но она ничего не отвечает. Просто смотрит на меня с минуту, а потом встает и выходит из комнаты. Когда я вижу ее затылок, воздушные завитки волос на тонкой белоснежной шее, во мне просыпается чудовищное желание схватить эту шею руками и сжимать, пока не хрустнут позвонки.
Похоже, им и из меня удастся сделать чокнутого.
Революция сознания! Подумать только…
Глава 13
Моя первая попытка действовать. Первый акт гражданского неповиновения.
Это происходит на очередном сеансе групповой терапии. Такэо обрабатывает новичка. Номер Двенадцать. У Двенадцатого проблемы с лишним весом, заниженная самооценка и слишком развитое супер-эго. Не попади он сюда, у него были бы все шансы как-то справиться со своей депрессией. Но Такэо говорит:
— А зачем вообще жить такому жирному уроду? Это что, приносит кому-то радость? Кто-то счастлив видеть твою заплывшую жиром физиономию? Кто-то благодарен тебе за то, что ты трясешь перед ним своим пузом? Ты эгоист, дружок. Ты думаешь только о себе и плевать хотел на окружающих.
Парень, похожий на разъевшегося бегемота, сопит, опустив голову. Со своего места я вижу, как его зад свисает по бокам пластмассового сидения, вижу его коротко стриженый затылок с толстенными складками кожи, блестящий от пота. Но с каждый вопросом Такэо, эта жирная туша съеживается, будто втягиваясь внутрь себя.
Остальные сидят, погруженные в свои мысли. Их не волнует ничто, кроме собственных проблем. Какое им дело до еще одного неудачника?
Зато Такэо сегодня в ударе. Он говорит и говорит. Глаза светятся любовью и лаской, мягкая отеческая улыбка не сходит с губ. Если выключить звук, можно подумать, что он рассказывает, как прекрасно будет жить в мире, в котором безраздельно царит доброта. Но звук не выключается и я слышу:
— Сам подумай, если твоя жизнь не приносит никому счастья, может, осчастливит твоя смерть? Может, когда ты умрешь, кто-то вздохнет с облегчением?
Вот тут-то я прячу пустую фляжку в карман, встаю и, слегка пошатываясь, выхожу на середину круга. Такэо замолкает и удивленно смотрит на меня. Наконец-то мне удалось его удивить. Хоть немного…
Я обвожу взглядом людей, сидящих передо мной. Они тоже ничего не понимают. Я для них лишь странный молчаливый алкоголик, планомерно напивающийся в углу комнаты. Тихий, незаметный, Никто-сан. Они не слышали моего голоса, не видели толком моего лица.
Теперь они смотрят на меня, как на человека, неожиданно снявшего шапку-невидимку. Только что было пустое место и вдруг из ниоткуда возникает пьяный парень. Чудеса.
Прежде чем Такэо и остальные сообразили, что к чему, я откашливаюсь и говорю:
— Что вы слушаете этого ненормального? Уходите отсюда и никогда не возвращайтесь. Найдите хороших психологов, если уж они вам так нужны…
Я жду, что Такэо сейчас закричит на меня, ударит, вытолкает из комнаты, как-нибудь отреагирует. Но он сидит, поигрывая своими очками и внимательно слушает. Остальные по-прежнему в ступоре. Я продолжаю свою зажигательную речь:
— Расходитесь! Не будьте дураками. Он же вас убивает! Как вы не понимаете? Он никакой не психотерапевт, он самый настоящий псих, еще похуже вас! Вы должны жить.
Мои слова падают в тишину, как булыжники в воду. Все снова начинают рассматривать пол. Такэо покусывает дужку очков и рассеянно глядит по сторонам, будто происходящее не имеет к нему никакого отношения.
— Да что с вами? — не унимаюсь я. — Встаньте и идите отсюда! Идиоты, вы платите деньги за то, чтобы вас убили! Он убийца!
Мне хочется влепить каждому из них пощечину, мне хочется увидеть в их тупых глазах хотя бы искру интереса и понимания, мне хочется орать, брызжа слюной, в каждую сонную морду: спасайся, придурок!
И Такэо начинает хлопать. Очки, зажатые между пальцами качаются, как маятник. Следом за ним, один за другим присоединяются к аплодисментам и остальные. А я стою в центре круга — смешной, беспомощный, пьяный и вдыхаю густой запах кроличьей шерсти.
Медленно, очень медленно я оборачиваюсь к окну. Немигающий глаз Кролика-мясоеда смотрит на меня. Тупо, равнодушно, точно так, как на меня смотрели эти придурки несколько секунд назад. Глаз гипнотизирует, приковывает к полу. Я почти физически ощущаю, как на меня давит огромная тяжесть… Сквозь вату я слышу:
— Сенсей, а кто это?
— Тоже мой клиент. Правда, у него совсем другие проблемы. Ито-сан, сядьте, пожалуйста на место, если вы закончили выступление…
Я делаю над собой нечеловеческое усилие и отворачиваюсь от окна. Кое-как добираюсь до стула и падаю на него. Рубашку можно выжимать, вся мокрая от пота. Сердце колотится так, словно захотело попасть в книгу рекордов Гиннеса. В правый висок вкручивают огромный тупой шуруп.
Вряд ли сейчас меня можно назвать победителем. Кто-то скажет, что я здорово облажался. И я с ним соглашусь.
Мы выходим из унылого серого здания учебного центра. На улице уже темно. На нас наваливается теплый влажный вечер, одуряющий запах ирисов и стрекот цикад.
— Ну, и что это было? — спрашивает Такэо. — Чего ты полез в круг? Думал, все сразу все поймут и побегут за тобой?
Ответить мне нечего. Разве что: «Да, именно так я и думал». Но это будет еще одним подтверждением моей глупости. Стоит ли? По-моему, мне и так уже удалось убедить в своей глупости всех. Только этим я и занимаюсь последнее время. Тоже хобби, наверное. Кто-то делает из бумаги журавликов, кто-то убивает людей, а я выставляю себя дураком.
— Ладно, неважно… Главное, что ты понял — это тоже пустая затея. Но твое упорство мне нравится. Жаль только, не на то оно направлено… Лучше скажи мне, что ты опять увидел в окне?
— Отстань.
— Попробуй проанализировать, в каких случаях ты видишь то, что тебя так пугает. Что их объединяет? События, ощущения, звуки… Найди какое-то сходство, повторяющуюся деталь. Ключ может быть в этом. Поверь мне как профессионалу, такие вещи лучше не запускать. Это тебе не простуда, которая пройдет сама собой. Если проблему не решить, твой сдвиг будет прогрессировать. У тебя в роду не было никого с проблемами в этом плане?
— А у тебя? — сарказм единственное оружие, которое у меня осталось.
— Не переводи разговор на меня. Так ты ничего не добьешься… Я тебе говорю серьезно, с твоими страхами нужно разбираться. Не будешь этого делать — настанет день, когда они тебя убьют. Может быть, не физически, но неизвестно, что хуже.
— Глядя на тебя, действительно думаешь — неизвестно, что хуже.
— Ты грубиян, — спокойно закуривает он. — Подумай, что ты прячешь за своей грубостью?
— Пошел ты.
— А сейчас? Что скрывается за твоим «пошел ты»? Страх? Неуверенность? Чувство вины? Может, эти слова ты мечтал когда-то сказать своему отцу, и теперь посылаешь всех, кто напоминает тебе его? Проанализируй…
— Скажи лучше, о какой революции говорила Муцуми?
— Задавай вопросы себе, а не другим, узнаешь намного больше.
Больше до самого дома он опять не говорит ни слова. Идет и многозначительно молчит. Похоже, ему очень нравится маска гуру.
Ночью, когда я лежу без сна в кромешной тишине, ко мне снова приходит мой Кролик. Я не вижу его, только чувствую запах. Белый диск луны за окном вдруг исчезает, и я понимаю, что его закрывает кроличий глаз. Он всматривается в темноту моей комнаты. Я не вижу его, он не видит меня. Но мы оба чуем присутствие друг друга.
Страх холодной липкой рукой сжимает кишки. Вернее, даже не страх. Отчаяние. Полная безнадега. Внизу спит маньяк, за окном торчит Кролик-мясоед, где-то в городе расхаживают полицейские патрули с ориентировкой на меня в нагрудных карманах форменных рубашек. Мне некуда деваться. Абсолютно. Тупик. Ловушка. Кто меня в нее загнал? Я сам. Бешено улюлюкая и барабаня сучковатой палкой по пустому ведру.
Я лежу в темноте, каждой клеткой ощущая безысходность, и жалею, что не остался тогда в горящем доме. В комнате так тихо, что я слышу, как слеза, скатясь по щеке, падает на подушку. Это глухое «кап» — каким же оно получается тоскливым…
Я постигаю смысл слова «безнадежность».
Я постигаю смысл слова «одиночество».
Я постигаю смысл слова «пустота».
Всхлипывая, как ребенок, я встаю с постели и подхожу к окну. Мои движения замедленны, словно я передвигаюсь под водой. Я не иду, а плыву к черному прямоугольнику окна, за которым меня поджидает Кролик-мясоед.
Я плыву прямо к нему в пасть.
Но страха больше нет. То, что остается за моей спиной, не стоит сожаления. Мне даже не хочется с ним прощаться. Мое прошлое не стоит того, чтобы я боялся будущего. Мое будущее — несколько секунд, которые нужны, чтобы дойти до окна и открыть его. И сейчас даже этого мне кажется много. Наверное, я слишком долго ждал.
Закономерный итог. Предопределенный конец. У меня всегда была альтернатива. Но никогда не было выбора.
Я открываю окно с таким чувством, с каким, наверное, люди нажимают на спусковой крючок пистолета у собственного виска. Или делают шаг в пропасть. Это — миг освобождения.
Вместе с ночным ветром в комнату врывается запах кроличьей шерсти. Глаз никуда не исчезает. Он в пятидесяти сантиметрах от меня. Протяни руку и коснешься гладкой, как стекло, влажной роговицы. Тяжелое веко опускается вниз, и до меня долетают крошечные теплые брызги. Это слезная жидкость. Веко снова ползет наверх. Роговица, смоченная слезой, теперь блестит ярче. Кролик моргнул, думаю я. И жду, когда же он начнет отгрызать мне голову.
Он поворачивается. Передо мной его нос — покрытая шерстью влажная пещера. Она с шумом втягивает в себя воздух. Поток воздуха заставляет меня покачнуться, и я упираюсь рукой в подоконник, чтобы не выпасть из окна.
Ну вот, пробегает по краешку сознания мысль, он тебя унюхал.
Я постигаю смысл слова «обреченность».
Я постигаю смысл слова «ничто».
Я постигаю смысл слова «смерть».
Тварь разевает пасть… и произносит голоском мультяшного кролика:
— Глюк…
Потом эта гора медленно разворачивается и исчезает в темноте. Один гигантский мягкий прыжок — и его нет. Снова привычный вид из окна. Обычная ночная улица.
Я закрываю окно и ложусь в постель. На этот раз сон приходит мгновенно, едва я успеваю уронить голову на подушку.
Наутро у меня готов план, как зацепить Такэо. Я не уверен, что план сработает. Но иного выхода у меня нет. Если все пойдет хуже некуда, я сяду на всю оставшуюся жизнь в тюрьму. При успешном исходе там окажется Такэо. Но наиболее вероятный вариант — я сыграю в ноль. И все же попытаться стоит.
Да, все это не моя ответственность. Все это — не моя проблема. Так скажет любой. Но этот любой не видел глаз ребят, приходящих каждый вечер на эти собрания. В конце концов, не делать в этой жизни ничего плохого — да, здорово. Тебя будут называть хорошим парнем и даже ставить в пример. Но если хочешь быть чем-то стоящим, не делать плохого — мало. Нужно еще сделать и что-то хорошее. Избегать десятка ежедневных маленьких зол — путь в никуда. Если хочешь спастись, откажись от политики невмешательства.
Вопрос об ответственности меня больше не заботит. Я готов спасать заляпанных нефтью пингвинов Фолклендских островов, бороться за запрет выработки лесов Амазонки, защищать права сексуальных меньшинств и работать санитаром в хосписе. Я желаю спасать, чтобы спастись самому. Чем бы ни оказалось в итоге мое спасение.
Все это — проделки кролика. Мне кажется, я понял, что это такое. Вернее, кто он такой… Возможно, я заблуждаюсь. Возможно, не понимаю до конца. Но вся проблема в том, что однозначные и окончательные ответы получить невозможно. Мы обречены идти на ощупь. И единственный способ сделать хоть шаг вперед — выбрать направление наобум и убедить себя, что оно правильное. В мире, где никто ни хрена не понимает и никогда не поймет, не может быть неверных решений. Кто докажет мне, что я не прав? Кто скажет, что правильнее было бы поступить иначе? Любой ответ — лишь одна версия из дециллиона возможных истин.
И во всем виноват кролик. А может, и сам Такэо.
Целый день я занимаюсь тем, что размышляю над своим планом. Пытаюсь сделать его безупречным. Раз за разом прокручиваю его в мозгу, чтобы найти и залатать все дыры, предусмотреть все неожиданности, не забыть о самых мелких деталях. Шлифую его, проверяю, снова шлифую.
После полудня меня прерывает Такэо, который без стука входит в мою комнату:
— Муцуми сказала, что ты еще не выходил. Что-то случилось? Опять твои страхи?
— Нет, — говорю, не вставая с кровати, — все в порядке. Просто хочется выспаться.
— А-а-а, — он подходит к окну и садится на пол.
Движения у него легкие и гибкие. Я бы даже сказал — грациозные. Он голый по пояс, в одних джинсах. Я смотрю на него и понимаю, что если придется с ним драться, шансов у меня немного. Все эти трицепсы, бицепсы, дельтовидные мышцы, косые мышцы — по нему можно изучать анатомию. Каждый бугорок вырисовывается так четко, словно его специально вылепили. При каждом движении все это тренированное мясо приходит в движение. Как будто под кожей у него залита ртуть. А ведь в одежде он кажется совершенно обычным парнем. Не хлюпиком, конечно, но чем-то подобным. Представляю, какая у него хватка.
— Ты, случайно, ничего не задумал? — спрашивает он после минутного молчания. — Вид у тебя какой-то странный…
— Не понимаю, о чем ты.
— Ну, так… Вчера ты уже сделал одну глупость. Я подумал, может, захочешь повторить.
— Не беспокойся, мне не очень нравится выглядеть дураком.
— Ну, смотри. Не хотелось бы принимать какие-то меры по отношению к тебе. Во всяком случае, сейчас.
— Что же такого особенного сейчас происходит?
— Пока ничего. Но вскоре должно. И чтобы все получилось так, как я хочу, ты не должен мне мешать. Даже пытаться не должен. То, что было вчера, конечно, не в счет. Глупость она и есть глупость, на такие вещи я внимания стараюсь не обращать. Но сама тенденция, если, конечно, можно говорить о тенденции, мне не нравится. Успокой меня, скажи, что это досадное недоразумение. Ты просто был пьян и перестал себя контролировать. И больше ничего подобного не будет. Скажи мне это…
— Я был пьян, — отвечаю. — И можешь быть спокоен, такого точно больше не будет.
— Ну, ладно, — кивает он. — Поверю, хотя говоришь ты очень неубедительно.
— Почему же тогда веришь?
— А что мне еще остается? Пытать тебя? Или сразу убить? В этом нет нужды… Пока. Ты нужен мне живым и относительно здоровым. К тому же, за тобой присматривают. Вряд ли у тебя получится выкинуть что-нибудь. Так что лучше я поверю. Или сделаю вид, что поверил. Кстати, как продвигается работа со своим страхом? Надумал что-нибудь интересное? Не хочешь поделиться?
— Ты сказал, что я тебе нужен. Зачем?
— В свое время узнаешь и это. Как насчет сна? Не придумал, зачем он нам нужен?
— Нет. И не собираюсь.
— Зря. Ну, да ладно, время еще есть… И на самом деле, перестань вести себя, как проблемный подросток. Будет лучше для всех.
— Для кого — для всех? Для тебя и твоей чокнутой сестрички?
— Не надо так говорить о ней, — он морщится, как от зубной боли. — Она не чокнутая. Так, небольшие проблемы… Но я надеюсь это исправить. Хотя не зря психологи не работают с близкими людьми. Крайне сложно анализировать собственную сестру. Даже не представляешь, насколько. Сложно и очень больно. Одно дело лечить абсолютно чужих, и совсем другое — осознавать, что твоя родная сестра — шизофреничка. У меня нет никого ближе нее… Знаешь, это похуже, чем заходить в палату к родственнику, больному раком. Иногда ей становится хуже… Она говорит и говорит, говорит и говорит… Такой бред, что становится страшно — а вдруг ей уже ничем не помочь. Попробуй оставаться лишь психологом, когда любимый человек перестает узнавать тебя. Правда, пока это случается редко. Я пытаюсь остановить ржавчину, которая разъедает ее мозг. Порой мне кажется, что я на верном пути… Но когда случается обострение, я начинаю думать, что болезнь прогрессирует. Ночами не сплю…
Он опускает голову. Я смотрю на его макушку и ловлю себя на том, что в данную секунду не чувствую ничего, кроме совершенно нелепого сострадания. Мне приходится вспомнить о тех, кого он довел до самоубийства, вспомнить о Тецуо, вспомнить о Юрико. Я заставляю себя думать обо всем этом, чтобы избавиться от жалости.
Он манипулирует тобой, говорю я себе, просто играет. Так же, как играет с теми, кто приходит к нему за помощью. Не забывай, он враг.
Конечно, он враг.
Но кто сказал, что нельзя жалеть врага?
— Ты опять ушел от ответа, — говорю я как можно холоднее.
— Что? Ах, это… Лучше для многих людей. Если ты думаешь, что я стараюсь только для себя — ты ошибаешься. Можешь смеяться, но я хочу спасти этот никчемный мир. Или, по крайней мере, попытаться это сделать.
— Спасти от чего?
— От гибели, — он встает с пола и подходит к двери.
— Ты точно придурок, — говорю я ему в спину.
Он оборачивается на пороге:
— А как же! Ты можешь вспомнить хоть одного на сто процентов нормального спасителя?
— Ты придурок! — кричу я в закрывающуюся за ним дверь.
Разговор окончен. Вряд ли можно сказать, что я был на высоте.
Глава 14
Моя вторая попытка действовать. Вторая операция по спасению человечества. Еще один рейд в тыл врага. Объект воздействия, он же последняя надежда — полицейский Мураками Дзиро. Иногда, если хочешь одолеть охотника, нужно начать охоту на него самого. Такая блестящая мысль пришла ко мне утром, незадолго до появления в моей комнате революционера Такэо. Да, Мураками Дзиро — это и есть мой потрясающий воображение план. Смелый тактический ход.
Действовать я начинаю, едва Такэо с Юрико скрываются в неизвестном направлении. Муцуми возится в саду, что-то там подстригая, разравнивая, собирая, выдергивая и подметая. В своей ярко-желтой футболке и розовом платке, прикрывающем голову, она сама похожа на прямоходящий цветок-мутант. Я подмигиваю ее спине и выхожу на улицу, осторожно прикрыв за собой калитку.
Все настолько уверены, что я безопасен. Все считают, будто сумели обставить меня ловушками. Конечно, это мне на руку. Но, честно говоря, немного обидно.
Я спускаюсь в метро, перехожу на линию Гиндза-сэн и сажусь в поезд. Очень может быть, это моя последняя поезда в токийском метро. Все когда-нибудь будет в последний раз, успокаиваю я себя. Жаль только, что узнаешь об этом слишком поздно. Например, покупая себе пару ботинок ты не можешь быть уверен, что когда-нибудь еще сядешь на пуфик и с ложечкой в руках будешь ждать, когда тебе принесут выбранную пару новеньких, пахнущих кожей и специальным дезодорантом туфлей. На это мне и намекал Такэо. Та же история с сексом. Неприятно думать, что, может быть, сейчас ты кончил последний раз в жизни. Или там, посещение стоматолога… Да много чего можно придумать. Каждое действие может быть совершено в последний раз. В последний раз помочился, в последний раз почистил зубы, выпил пива, сыграл в патинко — отметьте галочкой нужный вариант. Понятно, что это не мое открытие. Но разве от этого легче? Особенно когда едешь на встречу с полицейским, который жаждет тебя посадить.
На станции Асакуса я выхожу. Теперь придется поплутать. Я опять успел отвыкнуть от людей, от уличной суеты, от машин. Веду себя, как провинциал, впервые попавший в столицу. Налетаю на прохожих, шарахаюсь от гудков автомобилей, раззявив рот, изучаю указатели, испуганно озираюсь по сторонам. Умора. В таком состоянии мне только и отлавливать полицейских. Я вдруг понимаю, что все мои планы — не более чем фантазии маленького мальчика, воображающего себя суперменом.
Но все-таки дом Дзиро я нахожу без приключений. Аккуратненький ухоженный домик с очень красивым садом. Просто, скромно и с отменным вкусом. Примерно в таком доме я когда-то жил и сам. И в пруду плавали карпы кои, а в саду подстригала кусты роз жена в комбинезоне, подчеркивающем округлившийся живот…
Я смотрю на часы. До окончания рабочего дня еще целый час. Плюс дорога домой. Плюс я представления не имею, когда рабочий день заканчивается у полицейских. В итоге, когда появится Дзиро так же неясно, как и то, что я сделаю, когда он появится. Да, у меня просто превосходный план.
Полчаса я трачу на то, чтобы выбрать наблюдательный пункт. На улице, где ничего, кроме жилых домов нет, это сделать непросто. Но в конце концов, я забиваюсь в какую-то грязную щель между заборами, откуда мне виден кусочек дороги и ворота, к которым по идее должна подъехать машина Мураками. В голову приходит мысль, что приехать он может и не один.
— И что ты будешь делать тогда? — бормочу я себе под нос.
Вопрос остается без ответа.
Улица упирается в небольшой пустырь. То ли ожидается строительство нового дома, то ли не так давно снесли старый. А скорее всего, и то, и это. Но пока там ничего, кроме торчащих во все стороны арматуры и покрытого пылью бурьяна, нет. Разговаривать с Дзиро лучше всего там. По крайней мере, я смогу быть уверен, что в случае чего мне будет куда бежать.
Я снова смотрю на часы. Такэо и его сестричка уже наверняка хватились меня. Если я вернусь, встреча будет очень теплой. Но не вернуться я не могу. По двум причинам. Юрико — это первая. Вторая — единственный способ остановить Такэо — быть рядом и выжидать удобный момент. Рано или поздно он совершит ошибку. Рано или поздно я смогу прижать его. Но только в том случае, если буду его тенью. Так что волей-неволей придется как-то подготовить себя к неприятностям и вернуться.
Затея с полицейским все больше кажется мне бестолковой. В общем-то, пока еще не поздно уйти. Вылезти из этой вонючей щели, отряхнуть брюки вымазанные чем-то пахучим и липким, отправиться домой. Я ничего не выиграю, но ничего и не проиграю. Пока еще не поздно оставить все, как есть, и подождать более подходящего момента.
Но ты можешь ждать его всю оставшуюся жизнь, пока этот псих делает свое дело, говорит ответственный парень внутри меня.
И еще он говорит: Если ты уйдешь сейчас, ты будешь уходить и потом. Ты будешь уходить всегда, находя тысячу причин, чтобы сделать это.
И еще: Смотреть на то, как убивают и ничего не делать, это все равно, что убивать самому. Каждая минута твоего бездействия означает очередного повесившегося, вскрывшего вены, отравившегося, выбросившегося из окна. Ты так и будешь наблюдателем?
Заткнись, говорю я этому моралисту. Просто заткнись, а?
Но из щели не вылезаю. Сижу и чувствую, как на меня неотвратимо надвигается какая-то ужасная хрень.
И когда в темноте слышится шорох подъезжающей к дому Мураками машины, когда свет фар на секунду ослепляет меня, забившегося в щель, как таракана, я понимаю, что эта хрень уже накрыла меня с головой.
Я выбегаю из своего убежища и в несколько прыжков оказываюсь перед ниссаном, уже собирающимся въезжать в ворота. Еще сидя в щели я представлял, как подскакиваю к машине, резко рву на себя водительскую дверь и вытаскиваю Дзиро из автомобиля, не давая ему опомниться. Я представлял, как тащу его на пустырь, зажав ему рот. Как по пути объясняю ситуацию, потом обыскиваю, отбираю пистолет и телефон, а потом приступаю к разговору. Так вот я себе все представлял. Но вместо всего этого я стою в свете фар и смотрю, как выпучиваются глаза Дзиро. Он меня не ожидал, да.
Руками я делаю знак. Мол, успокойтесь, я не причиню никакого вреда, мне просто нужно с вами поговорить. Жестам помогаю мимикой. Увидев, что Мураками блокирует двери, я начинаю кривляться еще отчаяннее.
Я подбегаю к закрытому окну со стороны водителя и лепечу:
— Мураками-сан, пожалуйста, не звоните никуда. Мне очень нужно с вами поговорить…
Бездарность. Единственное слово, которое приходит мне на ум, когда я вижу свое отражение в тонированном стекле. Бездарный план и еще более бездарное исполнение.
Я вижу, как он нажимает на кнопки телефона.
«Сделай же что-нибудь!» — вопит кто-то у меня в голове. Проснувшаяся жаба проверят мои кишки на разрыв.
Я бессмысленно дергаю ручку дверцы. Я стучу по стеклу. Я ору:
— Да послушайте же вы меня! Я не убийца! Я хочу помочь вам!
Полицейский, которого я не могу толком разглядеть, не сводя с меня глаз, что-то быстро говорит в маленькую черную трубку. Я вижу, как шевелятся его губы.
— Не будьте вы идиотом! Я ни в чем не виноват!
Дверь дома Дзиро открывается и на пороге появляется женщина в юката. Судя по всему, жена. Она тревожно смотрит в нашу сторону. Из-за нее выныривает девчушка лет пяти в джинсовом комбинезончике и с криком «Папа приехал!» бросается к машине. Мать пытается ее схватить за лямку комбинезона, но не успевает. В этот момент я слышу вой полицейской сирены, а Дзиро, приоткрыв окно кричит дочке:
— Акико, не ходи сюда! Акико беги в дом!
— Акико, стой! — вторит ему женщина, пускаясь вдогонку за девочкой.
— Дзиро, идиот, мне просто нужно с тобой поговорить! — ору я, пытаясь просунуть руку в щель окна.
Вой сирен все ближе. Девочка все ближе. Крики все тревожнее и громче.
Небольшое светопреставление на отдельно взятой улице. Соседям надолго хватит разговоров.
Я вдруг испытываю непреодолимое желание схватить эту девчонку и использовать ее в качестве живого щита. Да, в голову может прийти и такое. Когда тебе светит несколько десятков лет отсидки. Когда ты в панике. Когда все твои замечательные планы по спасению мира терпят крах. Когда ты оказываешься по уши в дерьме. В такие моменты в голову лезет всякое. В том числе и планы захвата заложников.
Кто-то скажет, что подумать об этом мог только подонок. Ну да, пожалуй… Не буду спорить. Возможно, я вовсе не так хорош, как думал о себе. Возможно, мы все не так хороши. Просто не у каждого случается возможность убедиться в этом.
Девочка почти у машины, залитая светом фар. Ее сандалии шлепают по розовым плитам дорожки, ведущей к дому. Следом за ней семенит визжащая жена Дзиро. Сирены надрываются уже в паре кварталов. Дзиро, не переставая орать, распахивает дверцу. Дверца бьет меня по ногам и животу, но я успеваю схватить полицейского за воротник рубашки. И выдергиваю его из машины, как морковку с грядки. Он на удивление легкий, весь какой-то высушенный.
— Папочка! — вопит Акико.
— Дзиро! Акико! — верещит женщина.
— Акико! — кричит Дзиро.
— Успокойтесь! — пытаюсь переорать их я. — Спокойно!
И — поприветствуем нового участника нашего шоу — на улицу с визгом покрышек выворачивает полицейская машина.
О, да! Вот что можно назвать по-настоящему большой удачей. Вот он — момент триумфа, если вас привлекает антисоциальное поведение. Если вы считаете, что закон — это насилие над истинной сущностью человека. Если вам нравится думать, что истинная свобода не терпит никаких ограничений. Ну, или если вы сторонник этологических теорий.
Так вот, если это все ваше, вы назовете моим торжеством момент, когда я стою залитый светом фар, держа за воротник полицейского инспектора, который стоит на четвереньках и протягивает руку к плачущей дочке. По мне пробегают сине-бело-красные огоньки тревожных мигалок, меня слепят фонари в руках полицейских и дальний свет фар их машины. Мне что-то кричат двое парней в синей форме. Мне что-то кричит женщина в юката. Мне что-то кричит Мураками. А я стою, вцепившись в воротник его рубашки и слышу только плач девочки по имени Акико.
— Папочка! — произносит она сквозь слезы. — Папочка…
Через минуту мои запястья холодят наручники. Через две минуты остренький кулак Дзиро врезается мне в правое подребье. Ему плевать на то, что я брат его приятеля. Для него я просто парень, которого разыскивают за двойное убийство. И он просто делает свою работу.
Меня впихивают в прокуренный салон полицейской машины, приложив, якобы случайно, лбом о верхний срез дверцы.
Я думаю лишь о том, что девочка Акико сегодня наверняка будет плохо спать. И папе придется долго рассказывать о том, как он ловит нехороших дядей вроде меня, и как вообще все здорово в этом мире — добро всегда побеждает зло. Ну, или какую-нибудь чушь в этом роде. Что там обычно рассказывают на ночь полицейские своим перепуганным детишкам…
Я сижу в машине рядом с одним из полицейских. От него жутко воняет потом. Второй служитель закона разговаривает о чем-то с Дзиро. Я выглядываю в окно. Акико уже увели в дом. Жаль, что мне не дали извиниться перед ней. Почему-то только этого мне и жаль…
Я постигаю смысл слова «шок».
Я постигаю смысл слова «поражение».
Дзиро нагибается и делает знак, чтобы полицейский опустил окно с моей стороны. Мураками просовывает нос в салон и говорит:
— Ито-сан, приношу извинения за то, что ударил вас. Мне очень жаль, что так вышло. Я должен был сдержаться. До встречи завтра в моем кабинете. Надеюсь, вы ответите на все мои вопросы… А пока отдыхайте. Сами понимаете, эту ночь вам придется провести в камере.
— Я просто хотел поговорить с вами…
— Теперь у вас великолепная возможность сделать это. До завтра, Ито-сан. И еще раз простите мне мою несдержанность.
Стекло ползет вверх, отрезая меня от внешнего мира. Похоже, навсегда. Машина плавно трогается с места и я закрываю глаза.
Я постигаю смысл слова «бесконечность».
Глава 15
Если человека пустить на мыло, из него получится всего семь кусков. Ни в одном языке мира нет слова для обозначения обратной стороны коленки. Арахис используется при изготовлении динамита. Пингвин прыгает на три метра в высоту. Комаров привлекает запах людей, которые недавно ели бананы.
— Неужели ты думал, что полицейский тебе поможет? Это ведь все равно, что совать голову в пасть тигра… Вроде неглупый человек, а ведешь себя, как полный кретин. Знать, что его разыскивают за убийство и самому добровольно пойти на контакт с полицейским. Насмотрелся дешевых детективов, да?
Это говорит Такэо. Я сижу на стуле со скованными за спиной руками, а он прохаживается передо мной с видом недовольного учителя. Картинно хмуря брови и покачивая головой.
Слоны — единственные животные, которые не умеют прыгать. Мозг неандертальца был больше, чем у современного человека. У осьминога прямоугольный зрачок Общая длина кровеносных сосудов в организме человека составляет примерно сто тысяч километров.
Мы находимся в доме Муцуми. Сама она спит в своей комнате. Юрико тоже спит. Во всяком случае, ни той, ни другой я не видел. Бодрствуем только мы с Такэо. Мы с ним одни. Полицейские, которые привезли меня сюда, уехали полчаса назад. Их отпустил Такэо. Когда они втащили меня в комнату и усадили на стул, он сказал им:
— Спасибо, ребята. А теперь идите, и поменьше вам происшествий этой ночью.
И вот мы с ним наедине, и он говорит:
— Ты снова видишь мир не таким, какой он есть на самом деле. Сними свои дурацкие розовые очки. Откажись от глупых представлений о мире, которые вбила тебе в голову наша сраная культура. Выброси весь этот бред в помойное ведро.
В космосе люди не храпят. Независимо от температуры окружающего воздуха в бутоне лотоса поддерживается постоянная температура — тридцать пять градусов по Цельсию. Первый в истории одеколон появился как средство профилактики чумы.
В доме очень тихо. Я слышу шелест листьев за окном, слышу, как постукивает в такт шагам Такэо дужка очков, болтающихся у него на груди, о пуговицу на рубашке.
— Вот скажи мне, — останавливается он, — неужели тебе так дорого твое шаблонное мышление? Почему ты цепляешься за него? Подумай о том, что ты не знаешь и сотой доли правды о том, что происходит каждую секунду вокруг тебя. Ты знаешь только то, что должен знать, по мнению кучки хитроумных ублюдков. Или просто таких же дураков, как ты, желающих свести жизнь к сотне формул и законов. Не пора ли вернуться в прошлое? Не настало ли время посмотреть на мир глазами первобытного человека? Свежий, незамутненный взгляд — вот, что спасет человечество… И тебя в том числе.
Когда я открыл глаза там, в машине, и увидел, что мы остановились около дома Муцуми, мне захотелось проснуться. Слишком уж похоже на плохой сон. Совершенно нереальная ситуация. Будто брожу по лабиринту, все выходы из которого ведут к Такэо. Искривление пространства. Куда не иди, где ни сворачивай, как ни торопись, все придешь в этот чертов дом, где ничто не меняется. Он словно представляет собой какую-то особую реальность, фрагмент иного мира, живущего по своим законам. А может, он и есть целый мир. Кто сказал, что мир должен быть огромен? Он вполне может уместиться в небольшой старый дом — два этажа, шесть комнат, — притягивающий к себе все, что представляет интерес для его хозяев. Может быть, Юрико точно так же снова и снова возвращалась сюда, пока не смирилась и не отказалась от попыток бежать.
— А как твои страхи? — спрашивает Такэо. — Еще были приступы? Ты не забываешь их анализировать? Есть какие-нибудь соображения, предположения?… Быть может, просто страх смерти? Слышал когда-нибудь про танатофобию? Редко, но случается, что человек визуализирует свой страх смерти, вернее, саму смерть, в его представлении. Порой образы получаются такими причудливыми, что… Конечно, только версия. Но ты мог бы подумать в этом направлении, если уж не хочешь, чтобы я тебе помогал.
Единственное, что я сейчас чувствую — убийственную усталость.
— Опять молчишь, — хмыкает Такэо. — С каждым разом ты становишься все менее общительным. Уж не депрессия ли у тебя? Чувствуешь себя подавленным? Чувствуешь себя несчастным? Постоянная усталость? Нежелание бороться с плохим настроением?
— Отстань. Если хочешь меня убить — убивай. Только перестань тарахтеть над ухом. И без тебя тошно…
— Ну, если бы я хотел тебя убить — убил бы уже давно. Ты не самый приятный тип, между прочим. Уж извини за прямоту. Все время либо молчишь, либо грубишь. А главное, никак не хочешь понять, что твоя картина мира — полнейшая чушь…
— А может, стоить все-таки убить его? — раздается голос Муцуми.
Я сижу спиной к двери и не вижу ее. Только слышу, как она подходит ко мне сзади и останавливается совсем рядом. Ее дыхание колышет мне волосы на макушке, я чувствую тепло ее тела.
— Тебе не кажется, что с ним слишком много проблем? Того и гляди, опять затеет какую-нибудь пакость. Стоит ли отвлекать людей от важных дел, чтобы постоянно следить за ним?
Я, как могу, выворачиваю голову, чтобы увидеть ее. Но с руками, заведенными за спинку стула и скованными наручниками, это сделать непросто. Краем глаза вижу ее обнаженное плечо, руку и бок. Похоже, одежды на ней мало.
Ну, конечно, это же все глупые условности.
— Юрико расстроится, — мягко отвечает Такэо. Он снова любящий братец.
— Она все поймет.
— Может, поймет, а может, это оттолкнет ее от нас. Рисковать я бы не хотел… С ней все и так слишком сложно. Одно неверное слово — и она сорвется. Я еще не до конца обработал ее. Вот через пару недель она никуда не денется. А пока необходимо быть ее лучшим другом. Он тоже пока ее друг. Сама понимаешь, друзья не должны убивать друг друга. Я понятно объясняю?
— Ну да, — говорит Муцуми. По ее голосу я догадываюсь, что ей все это не по душе. Она предпочла бы прикончить меня, а потом пойти подправить маникюр. Или подрезать цветы в саду.
Самое удивительное, что весь этот разговор оставляет меня равнодушным. Не потому, что я так храбр. Все дело в его неправдоподобности. Я бы даже сказал — нелепости. Почти невозможно поверить, что они говорят всерьез. От Муцуми я вообще ничего подобного не ожидал. Да и Такэо не похож на кровожадного убийцу. Милые люди. Красивые, воспитанные. Спокойные голоса, совершенно будничный тон, будто идет обсуждение меню или погоды. Из-за всего этого смысл слов доходит не сразу, а когда доходит, то кажется невозможным. Что-то я не так расслышал, что-то недопонял, не уловил. Такие вот ощущения.
— И все же… — начинает Муцуми.
— Нет. Он пока не представляет для нас опасности. Он сам в этом убедился. Кроме того, я подумал, что нужно будет взять его с собой.
— Зачем? — теперь в ее голосе искреннее недоумение.
Она выходит у меня из-за спины, огибает журнальный столик и садится в мое любимое кресло, закинув ногу на ногу. Из одежды на ней — только тонкое колечко на пальце ноги. Челюсть у меня отвисает.
Да, да. Она чокнутая девица, которая хочет меня убить. А может быть, она меня и убьет чуть позже. Она сестра психа, который отправил к предкам не один десяток человек. Она наглая лгунья, заманившая меня в ловушку… Все это — Судзуки Муцуми.
Но я пялюсь на нее, забыв обо всем. Сейчас передо мной просто ослепительно красивая обнаженная женщина. К тому же, с безупречной фигурой. Она нервно покачивает ногой и я вижу, как под бархатистой белой кожей бедра играют мускулы.
Муцуми берет со стола пачку сигарет, закуривает и выпускает дым в мою сторону. Даже после этого она остается фантастически красивой.
— Я думаю, он не совсем безнадежен, — говорит Такэо, сразу отошедший на второй план. Теперь это просто тень, имеющая голос. Впрочем, это все равно больше, чем я. Я — тень безголосая.
— С ним будет много возни.
— Ты ведь присмотришь за ним, правда? А Юри-тян тебе поможет. У него просто не будет возможности что-то натворить, мы все время будем вместе. Так что не волнуйся.
— Делай, как знаешь. Только не говори потом, что я тебя не предупреждала, — она раздраженно гасит недокуренную сигарету.
А я таращусь на ее грудь.
— Ты бы оделась, сестренка, а то у него сейчас глаза вывалятся.
Муцуми с улыбкой смотрит на меня и поводит плечами, так что темно-коричневые аккуратные соски по очереди выписывают знак бесконечности. У меня мгновенно пересыхает во рту.
— Ты особенно-то не напрягайся, — усмехается Такэо, хлопая меня по плечу. — Она предпочитает девушек.
У него в кармане звонит телефон. Сигнал SOS. Кому-то снова нужна помощь. Такэо вынимает телефон и подносит к уху. Послушав немного, говорит:
— Есть ли смысл удерживать камень, катящийся с горы?
Потом снова слушает и произносит:
— Нет, нет, милая, ты не понимаешь. Добровольный отказ от жизни — это высшее проявление свободы выбора. Квинтэссенция, можно сказать… Это твоя вершина. Если не уйдешь сейчас, вся твоя оставшаяся жизнь будет нисхождением.
Муцуми встает с кресла, подходит к брату и нежно целует его в щеку. Когда она проходит мимо меня, я чувствую ее запах, от которого начинает кружиться голова. Не помогает ни знание того, что она чокнутая, ни знание того, что она лесбиянка.
Когда она выходит из комнаты, в комнате становится темно, будто погасили свет.
— Не бойся ничего, — говорит Такэо в трубку. — Ты не одна. В смерти мы навсегда избавляемся от одиночества. Это и есть награда…
Он делает мне знак, что скоро закончит разговор. Мол, потерпи немного, сейчас я сниму наручники. Подожди совсем чуть-чуть. Посиди спокойно, пока я провоцирую на самоубийство очередную несчастную дурочку.
— Не слушай его! — кричу я. — Повесь трубку!
— Подожди, пожалуйста, у меня еще один звонок. Не отключайся, — говорит Такэо и наотмашь бьет меня по лицу свободной рукой. Перед глазами у меня вспыхивают неоновые круги, рот заполняется кровью. А он спокойно произносит: — Нет, на твоем месте я не стал бы ничего откладывать. Если все готово, нужно идти до конца. Там тебя ждет покой. Тебе больше никто не будет надоедать. Вечное одиночество — это и есть награда. Подожди, у меня еще один звонок…
Я постигаю смысл слова «ненависть».
Но следующий удар отправляет меня в нирвану.
Утром я просыпаюсь в своей постели. Все тело болит. Кожа на запястьях содрана. Нижняя губа размером со сливу. Подушка в бурых пятнах крови. Я не помню, добрался я до комнаты сам или меня притащил Такэо.
Дверь открывается, и на пороге появляется Юрико с кувшином и чистой тряпкой в руках. На ней розовый топ и короткая кожаная юбка. На ногах — босоножки на высоченном каблуке. Косметики на лице нет, никаких украшений нет, но все равно впечатление такое, что она собралась в ночной клуб. Или только что оттуда.
Ну да, конечно. Просто здесь так принято одеваться к завтраку.
Она садится на краешек постели. Кладет ладонь мне на лоб и говорит:
— Ну, как ты?
— Отлично. Неужели незаметно?
— Очень болит? — она осторожно касается пальцем разбитой губы.
— А сама как думаешь?… Этот псих Такэо — настоящий садист.
— Не говори так, пожалуйста, — она нежно улыбается и проводит влажной тряпкой по моему лицу. Белая ткань окрашивается в розовый цвет. — Ты ведь сам виноват. Не нужно его злить. Не нужно ему мешать… Он великий человек, ты просто пока не понимаешь.
Она говорит со мной, как с непонятливым ребенком. Похоже, научилась этому тону у Такэо. Она всегда все схватывала на лету. Как плохое, так и хорошее.
— Чем же он велик?
— Ты еще не понял?
— Нет.
— Он хочет освободить нас.
— Кого — нас? И от чего?
— Нас — людей. От чего? От иллюзий. Он же тебе это не раз говорил. Но лучше тебе спросить у него самого. Я не смогу тебе хорошо ответить. Еще больше запутаю… Честно говоря, некоторые вещи от меня пока ускользают. Но он сказал, что это ненадолго… Скоро я тоже стану свободной. Я так устала быть результатом ошибки в какой-то там ДНК.
Особой радости по этому поводу в ее голосе я не слышу. Еще бы, за стремлением к вещам типа «свободы» обычно скрывается самое обычное дерьмо, вроде проблем с психикой или банальной импотенции. Тем, у кого все в порядке и сверху и снизу, некогда болтать о свободе. У них и без нее хватает дел. Вот всякие проблемные мерзавцы обожают играть в эти игры. И сбивают с толку просто запутавшихся. Безумная парочка, чокнутые братец с сестричкой забили своей патологической хренью голову Юрико.
Я говорю:
— А для чего тебе нужна свобода от иллюзий? Что ты будешь с ней делать?
Она молчит. Смачивает тряпку и снова прикладывает к моему лицу.
— Он тебе не объяснил, да? Наплел что-то невразумительное про всеобщее счастье и все, так? А он рассказал тебе, почему доводит до самоубийства людей, нуждающихся в помощи? Тоже стремление к свободе?
— Нет, просто ему нужны добровольцы.
— Это я уже слышал. Только вот никто не смог мне сказать, что за добровольцы и для чего они нужны. Ты-то знаешь?
— Конечно, — улыбается она и откидывает со лба прядь волос. — Я сама стану таким добровольцем.
— Что?!
Я приподнимаюсь на локте, забыв о том, что на моих ребрах всю ночь плясал гиппопотам.
— Полежи спокойно, — говорит Юрико и мягко толкает меня в плечо ладонью. — Тебе нужно как следует отдохнуть. Вечером мы выезжаем…
Я хватаю ее за руку. Я сжимаю ее запястье так, что она морщится от боли. Я почти кричу:
— Каким добровольцем? Ты что, собираешься убить себя?!
Это дежа вю.
Это возврат в прошлое.
Это временная петля, где снова и снова возвращаешься в одну и ту же точку, что бы ты ни делал.
Как бы ни крутился, все равно в твоей жизни будет появляться женщина, которая умрет раньше времени.
В психоанализе это называется «синдром навязчивых повторений». Это когда человек с завидным постоянством выбирает себе партнеров, которые обязательно будут ему изменять. Или когда женщина снова и снова выходит замуж за мужчин, у которых рак в начальной стадии, и даже они сами еще этого не знают. Или когда сам не зная почему, на каждой новой работе первое, что ты делаешь, посылаешь в задницу шефа, даже если веских причин нет. Словом, подсознательное стремление создавать себе одни и те же проблемы. Разнообразие в этом случае не приветствуется.
Еще это можно назвать кармой. Кто-то скажет — судьба. Как вариант — неумение разбираться в людях. Альтернативное мнение — просто совпадение.
— Юри-тян, скажи, что это шутка. Скажи, что ты выбросишь эту идею из головы…
Она гладит меня по щеке, она прикладывает палец к моим губам:
— Успокойся, Котаро-сан, ты не должен волноваться.
— Я убью этого чокнутого придурка!
— Нет. Если ты попытаешься это сделать, я сама убью тебя, — говорит она и, нагнувшись, нежно целует меня в лоб.
Спасибо, Юрико! Я знал, что мы с тобой хорошие друзья…
Поздно ночью, когда все уже спят, я звоню брату. Он еще не вернулся в Токио, а спит в данный момент в одном из самых дешевых отелей Саппоро. Его сон нарушает пиликание сотового телефона. Больше чем уверен, если бы высветился мой номер, он и не подумал бы отвечать. Но на дисплее загораются незнакомые цифры…
— Это ты? — наконец окончательно доходит до него. — Лучшего времени не нашел?
Это — мой родной младший брат, с которым мы прожили пятнадцать лет под одной крышей. Это — мой братец, который каждый вечер просил меня, чтобы я рассказал историю про Миака Юкки или полицейскую Дэнан Ньют*. Он любил, когда я рассказывал ему собственные придуманные истории, потому что комиксы казались ему скучными. У меня, по его мнению, получалось куда интереснее. И вот тот самый паренек, который когда-то жутко гордился тем, что его старший брат — лучший питчер в школьной команде, говорит:
* Герои популярных комиксов — манга.
— Не думаешь, что нормальные люди спят в это время?
— Извини. Днем могут подслушать, а это вредно для моего здоровья.
В нескольких словах я рассказываю Ясукадзу, в какое дерьмо влип. И про Юрико, и про Муцуми, и про Такэо, и про то, что теперь мы одна большая гребаная счастливая семья. И еще прошу передать мою благодарность господину Мураками Дзиро, тупоголовому полицейскому, который едва не упрятал меня на долгие годы в камеру.
— Да, — изрекает брат и запускает мизинец в ухо. — Непростое дельце. Ладно, ты, главное, не паникуй. Девчонка ведь жива? Это же тебя больше всего волновало? Ну, а остальное поправимо, я думаю. Дай мне несколько дней, я попробую что-нибудь сделать. Веди себя потише, не нарывайся на неприятности… И держись поближе к этому психу — мне уже звонил Дзиро, тебя вовсю ищут. С твоим психом-то мы как-нибудь справимся, а вот если попадешь к полицейским, я уже вряд ли смогу помочь. Так что не валяй сейчас дурака. И жди. Жди, я тебя как-нибудь вытащу.
— Тебе легко говорить — жди, — яростно шепчу я, скорчившись под одеялом. — И меня, и Юрико в любой момент могут убить. Они оба — Такэо и его сестричка — совершенно без головы, понимаешь?
— Я не просил тебя лезть в это дело. Если подумать, это вообще твои проблемы. И я не обязан тебе помогать выпутываться. Так что перестань орать на меня.
— Извини, — шепчу я уже не яростно, а виновато. — Извини. Просто я очень нервничаю, понимаешь?
— Ладно. Все, пока! Дай мне поспать. И больше не звони, я сам тебе позвоню, когда что-нибудь придумаю, понял?
А ведь когда-то я покрывал все его выходки, а он называл меня «братанчик».
Глава 16
Наш джип, черный здоровенный монстр, пожиратель автострад по имени Nissan Patrol несется на запад по шоссе №***. Куда именно мы направляемся, я не знаю.
Введите код доступа. Ошибка. Информация недоступна.
Примерно так обстоит дело.
Я полулежу на заднем сидении. За тонированными стеклами проплывают мутные огоньки. Больше ничего разглядеть не удается. Рядом со мной Муцуми, включив свет в салоне, с озабоченным видом копается в своей сумочке.
— Где же этот новерил? — бормочет она. — Такэо, ты не помнишь, я брала таблетки?
— Они лежали в твоей комнате на тумбочке. Там я их видел в последний раз, сестренка.
— Это я и без тебя знаю. Взяла я их оттуда?
— Юри-тян, посмотри, пожалуйста, в ящике для перчаток, нет ли там лекарств, — устало говорит Такэо.
Юрико долго копается, потом к нам на сидение плюхается целая горсть упаковок. Мелипрамин, анафранил, пиразидол. Все это — антидепрессанты. Такими кормят при классической депрессии. Ну, или в депрессивной фазе маниакально-депрессивного психоза. В маниакальной фазе в ход пойдут хлорпротиксен, аминазин, тизерцин. Теоретически, если внимательно следить за тем, что принимает Муцуми, можно предположить, что происходит у нее в голове в данный момент.
Посмотреть бы еще, что принимает Такэо… Ну, да он, скорее всего, обходится какой-нибудь психологической ерундой вроде ведения личного дневника. Где записывает свои бредовые мысли. Еще интересно, пичкает он какой-нибудь дрянью Юрико? Я не удивлюсь, если пичкает. Судя по ее поведению… Сам я не сильно отличаюсь от них. Кроликофобия, да к тому же с галлюцинациями — повод серьезно задуматься.
Да у нас тут просто маленький дурдом на колесах. Дурдом, стремительно летящий по ночному шоссе № *** куда-то на запад. Мне становится смешно.
Четыре психа в одной машине. Это должно закончиться чем-нибудь интересным. Таким, что запомнится на всю оставшуюся жизнь, если этот остаток хоть у одного из нас будет достаточно большим, чтобы была надобность в памяти.
Мне начинает казаться, что развязка уже близка. Мы выехали на финишную прямую. Если что и случится, то именно сейчас, пока мы в пути. Здесь то хрупкое равновесие, которое установилось в доме, может нарушиться в любой момент. Кроме того, я вижу, что Такэо спешит. Может, он тоже понимает, что история подходит к концу. А может, просто торопится осуществить свой план. Но это неважно. Он спешит, а значит — нервничает. Этого вполне достаточно, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Ну, то есть если кто-то захочет ее из-под контроля вывести.
А такой человек среди нас есть. Избитый мужчина, валяющийся на заднем сидении ниссана. И в нем растет уверенность, что в Токио он больше не вернется.
Кто-то назовет это интуицией. Можно назвать это работой второго мозга. Или даром ясновидения. А может быть, просто умением просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Мне все равно. Главное, я чувствую, что они напрасно взяли меня с собой.
Три психа — еще не проблема. А вот четвертый превращает тихий дурдом в пороховую бочку.
Я до сих пор так и не понял, что к чему. Все это время я был всего лишь наблюдателем. Вся история скрыта от меня. Как айсберг. Большая часть находится под холодной зеленоватой водой. Я же вижу лишь небольшую ледяную глыбу.
Чего добивается Такэо, зачем ему нужно все это, почему он убивает людей, кто такие добровольцы — вопросов ровно столько, сколько было в начале. Я так и не получил ни одного ответа. И может быть, именно поэтому я еще не в тупике. Может, благодаря своему неведению, у меня еще сохранилось желание бороться. Хотя, на самом деле, я даже слабо представляю себе, с чем я борюсь…
У этой истории не было ни начала, ни середины. Но вот близость развязки чувствуется во всем. В напряженном лице Муцуми, в задумчивом молчании Юрико, в усталом голосе Такэо, даже в шорохе колес, рвущих асфальт и в мелькающих за окнами огоньках. Это — кода.
Такэо, не оборачиваясь, говорит:
— Вы никогда не задумывались над тем, что двигателем современного искусства является плагиат? Любое современное произведение — копия другого произведения, а то, в свою очередь, — копия более раннего. И так далее. Все, что выдается за откровение в той или иной области, всего лишь повторение созданного раньше. С незначительными переработками. Правило Парето в чистом виде — восемьдесят процентов заимствования и двадцать процентов чистого творчества. Если мы не изменим саму систему мышления, искусство сожрет самоё себя… Мы опять вернемся к наскальной живописи, чтобы пройти заново весь пусть. Уже сейчас все идет по пути упрощения. Регресс. В попытках найти новое мы вынуждены откатываться все дальше назад. Парадокс, правда? Скоро кто-нибудь начнет лепить глиняные кувшины и царапать на них ногтем линии, подражая охотникам архаичного Дзёмона только для того, чтобы о нем написали несколько строчек в паре модных журналов. За ним пойдут другие… Знаешь, почему так происходит, Котаро?
Муцуми дремлет, Юрико играет в какую-то игру на сотовом телефоне. Всем начхать, что там говорит революционер Судзуки Такэо. Честно говоря, меня самого от этого бреда тянет в сон. И я молчу.
— Всегда сначала воруешь у ближнего. И лишь когда поблизости все разворовано, приходится поднимать свою задницу и тащится куда-то. В искусстве то же самое. Мы вынуждены каждый раз откатываться все дальше назад, чтобы найти хоть какую-то уцелевшую, незахватанную идею. Дзёмон — наше последнее убежище.
— Ага. Тебя это не устраивает, и потому ты убиваешь людей, а твоя сестренка уничтожает картины. Так? — не выдерживаю я.
Вообще-то вступать в диалог с такими типами бессмысленно. Идея, засевшая у них в башке, не просто убеждение. Это элемент, скрепляющий расползающуюся по швам психику. Потому-то они и держатся за него изо всех сил. Для них лишиться такой идеи — все равно что умереть. Пересмотр своей точки зрения — путь к распаду личности.
Синдром сверхценных идей — вот, что это такое. Психопатия, шизофрения, аффективная фаза маниакально-депрессивного психоза, инволюционная меланхолия — Такэо можно поставить любой из диагнозов — сверхценные идеи для этих заболеваний обычное дело. Только что это изменит? Я не собираюсь его лечить. Даже если бы мог…
— Мы стоим перед парадоксом — без техники невозможна культура, но окончательная победа техники в культуре, вступление в техническую эпоху ведет культуру к гибели, — продолжает он, словно не слыша моих слов. — В культуре есть элемент технический и элемент природно-органический. Победа элемента технического над природно-органическим означает перерождение культуры во что-то иное, на культуру вовсе не похожее. Именно к этому мы и идем. Человек уже сейчас сделался орудием производства продуктов. Тебе не кажется, что его нужно спасать?
Муцуми что-то бормочет во сне. После того, как я видел ее голой, для меня больше не имеет значения, как она одета. Все равно представляю ее обнаженной. Она сидит совсем рядом, голова откинута на подголовник, спутавшаяся челка закрыла один глаз. Сейчас она красивее, чем когда бы то ни было. Наверное, потому, что в салоне темно и только слабый свет приборной панели падает на ее лицо, придавая ему какую-то невыразимую мягкость и беззащитность.
Чтобы не раскиснуть, я напоминаю себе: эта женщина хотела тебя убить.
Но в данную минуту я готов простить ей и это.
У Такэо звонит телефон. Он, наплевав на всякие правила, снимает его с подставки и говорит:
— Мы здесь всего лишь гости. Хороший гость всегда сам решает, когда ему пора возвращаться домой, а не ждет, пока его выставят за дверь.
Он просит Юрико:
— Прикури мне, пожалуйста, сигарету.
Выдыхая дым, обращается ко мне:
— Ночью больше всего работы.
В его голосе все та же усталость. Честное слово, я почти тронут.
— А знаешь, что ведет нас к краху? — продолжает он.
— Сейчас это волнует меня больше всего, — сарказм, от которого запотевают окна.
— Что превращает человека в простой механизм потребления? На самом деле человек не может быть творцом или создателем. Человек всего лишь пользуется тем, что уже существует, перераспределяет то, что уже создано. Понимаешь? Мы не создавали атомы или молекулы, из которых состоит эта машина, — Такэо хлопает по рулевому колесу. — Мы не придумывали законы природы, которые позволили нам соединить отдельные ее части так, чтобы она могла ездить… Термиты строят термитники, птицы вьют гнезда, а люди возводят дома. Между этими постройками нет принципиальной разницы. Разница только в уровне технологий. Как и термиты, мы берем ту материю, которая уже существует и перераспределяем ее таким образом, чтобы получилась какая-нибудь газонокосилка или баллистическая ракета. Мы обыкновенные потребители по своей сути. Стадо изобретательных и жадных обезьян, считающих себя чем-то исключительным, особенными, неповторимыми искорками светлого разума в мрачной Вселенной. Гордыня, помноженная на жадность, и глупость привела нас к тому, что мы стали рабами перераспределенной особым образом материи. Обезьяна, даже очень умная, не может стать властелином мира. Рано или поздно, она огреет себя по башке собственной дубиной, сбивая банан с дерева. В этом плане, дубина стоит на ступень выше обезьяны. Она, по крайней мере, не строит иллюзий относительно своего предназначения и возможностей.
— Ну и бред, — говорю я, когда он, наконец, замолкает.
— Ты невыносимый тип.
— Зато ты прекрасный парень.
Через три часа Такэо останавливает машину. Они меняются с Муцуми местами. Несмотря на пустую ровную дорогу, она ведет очень нервно. Такэо спит рядом со мной. Я смотрю на его запрокинутую голову и открытое горло и думаю, что сейчас у меня прекрасный шанс все закончить. Не то чтобы я мастер убивать голыми руками, но в теории освоил пару трюков. Осознавать, что он в моей власти, и никто не сможет мне помешать оборвать его жизнь, приятно. Но не более.
Я прекрасно знаю, у меня не хватит решимости нанести нужный удар. У меня уже был шанс, но я так и не смог нажать на спусковой крючок. Убить человека руками намного сложнее, даже для профессионала. Так что пороха не хватит. Это точно… А даже если и хватит, обязательно что-нибудь сделаю неправильно. И ничего, кроме проблем, не поимею. Скорее всего, они с сестричкой просто выведут меня из машины и пустят пулю в затылок. Glock лежит в ящике для перчаток. Так что никаких сложностей. Юрико при этом будет сидеть на своем месте и полировать ногти. Вот, чем кончится моя затея. Меня найдут наутро в придорожной канаве со здоровенным выходным отверстием во лбу. Этакий рукотворный третий глаз. И никаких медитаций…
И все-таки не страх или нерешительность удерживают меня. Если бы я был полностью уверен в своей правоте, наверное, рискнул бы. Плюнул бы на все, вспомнил бы, что с этой жизнью меня связывает не так уж много, и рискнул. Но уверенности как раз нет. Обычный вопрос морали — может ли хороший парень убить плохого, когда тот спокойно спит рядом и не может защититься? Не сделает ли это хорошего парня плохим? Почему бы всем хорошим парням не собраться как-нибудь ночью и не вырезать всех плохих? Полная безоговорочная победа добра над злом за одну кровавую ночь. Может, это было бы решением всех проблем?
Я сомневаюсь до тех пор, пока дорога не усыпляет меня. Последняя мысль, мелькнувшая перед тем, как я проваливаюсь в темноту, не внушает оптимизма: а может ли плохой парень убить хорошего, пока тот спит? Злодеи из фильмов поступают так очень часто.
На указателях я читаю названия городов, которые мы проезжаем, по пути на запад. Уцуномия, Иваки, Корияма, Фукусима, Сендай, Исиномаки. Слева тянутся снежные шапки и темно-зеленые леса хребта Оу. Справа наводит тоску однообразием пейзажа Тихий океан. Между ними километр за километром подминают под себя колеса нашего ниссана.
Какие-то города мы проскакиваем без остановки. Где-то Такэо выходит на несколько минут из машины, ныряет в какой-нибудь домишко и выныривает обратно со свертком в руках. Иногда это — кинотеатр. Иногда — библиотека. Чаще всего — жилые дома. Все это время мы втроем ждем его в джипе. Женщины стараются со мной не разговаривать. На все мои вопросы следуют односложные ответы, а то и просто молчание.
Ночуем мы в мотелях, где дела приходится иметь с автоматами, а не с живыми людьми за стойкой. В основном это дешевые лав-отели. Номера, где даже дезинфицирующие средства не смогли перебить запах чужой спермы или смазки. Еще вариант — гостиницы-пеналы. Это меня устраивает больше.
— Я не хочу, чтобы наши лица видели лишний раз люди, в которых я вовсе не уверен, — говорит Такэо, сворачивая на подъездную дорожку очередной ночлежки.
Один раз мы останавливаемся в рёкане. Правда, всего на три часа. У Такэо какие-то дела с хозяином, который ведет себя так, будто не он, а Такэо владелец гостиницы. Лично приносит роскошный ужин в номер, к которому никто, кроме Муцуми, не притрагивается. Лично я засыпаю мгновенно и сплю эти три часа, как убитый, хотя мне безумно интересно, о чем болтают хозяин с Такэо в подсобке. Когда Юрико будит меня, я готов убить ее… Мы выходим из гостиницы еще затемно. Денег с нас, разумеется, не берут.
Такэо снова садится за руль. Мне кажется, это парень сделан из стали. Он спит по часу в сутки. Остальное время либо ведет машину, либо клацает по клавишам ноутбука, либо говорит по телефону. Большинство разговоров сводится к его любимому «убей себя». Один раз он произносит в трубку:
— Да, конечно. Диктуйте, я записываю. Как это срочно? Хорошо, через неделю ждите звонка. Но, думаю, окончательно смогу приступить не раньше чем через десять дней…
Такэо убирает телефон и делает пометку на карте.
— Когда мы закончим мотаться? — спрашиваю я.
— Не знаю, — не отрываясь от экрана компьютера, бурчит он. — Сейчас это зависит не только от меня. Надеюсь, что не больше недели…
Мы в пути уже четыре дня и четыре ночи. Все это время Юрико почти не говорит. А Муцуми съела уже, наверное, месячную дозу своих таблеток. Побочные действия антидепрессантов-стимуляторов — это: жажда, запоры, задержка мочеиспускания, тремор, нарушение аккомодации, бессонница. Не знаю, как насчет запоров, но воду она пьет постоянно. Чем сводит на нет проблему с мочеиспусканием. Глядя на ее трясущиеся руки и воспаленные глаза, я начинаю опасаться, что она выкинет какую-нибудь глупость. Попади ей в руки пистолет, она может перестрелять нас всех. Но Такэо, похоже, это не волнует. Его занимает другое.
— Как твой страх? — спрашивает он.
Я сижу на пассажирском сиденье. Юрико спит сзади, положив голову на плечо Муцуми. Я поражаюсь, насколько они похожи. Одинаковый макияж, почти одинаковая одежда… Две сестры. Только одна чуть помладше, а другая чуть больше сошла с ума.
— Ты нашел какую-нибудь зацепку? — говорит Такэо.
— Нет.
— Совсем ничего? А не пробовал проанализировать, какие чувства у тебя возникают помимо страха в эти моменты? Или хотя бы намеки на них… Вина? Злость? Удивление? Отвращение? Не чувствуешь себя униженным? Обманутым?
— Нет. Ничего такого. Просто страшно и все.
— И все-таки, что ты при этом видишь?
— Как же ты достал меня со своими вопросами!
— Я хочу тебе помочь.
— Зачем?
— Я хочу помочь всем. Ты не какое-то счастливое исключение. Понимаю, тебе трудно поверить, что человек хочет бескорыстно помогать всем, кто встречается у него на пути. Но это так… Просто пока еще ты не осознаешь, что все мы на самом деле братья. Дети, брошенные своими родителями на произвол судьбы. Никому не нужные беспризорники.
— Ты говоришь, как разуверившийся христианин.
— Честно говоря, не очень хорошо представляю себе христианство. Может, именно так они и считают… Но я говорю тебе то, что есть на самом деле. Все мы — когда-то брошенные на пороге приюта младенцы. Мы даже не знаем, кто наши родители. Мы понятия не имеем, зачем здесь оказались, что нам делать, куда идти… Нас принесли спящих, завернутых в старые одеяла, с сосками в беззубых ртах к приюту и положили на ступеньках, не удосужившись даже написать в записке фамилию нашей матери. Чувство одиночества, знакомое каждому из нас, всего лишь тоска по родственникам, о которых мы забыли. И которые забыли о нас…
Он говорит с такой печалью в голосе, что я готов поверить ему. Мне кажется, что в его глазах блестят слезы. Хотя, может быть, это просто отблески уличных фонарей. Он вынимает одной рукой сигарету из полупустой пачки, лежащей на приборной доске, и утапливает цилиндрик прикуривателя.
— Я знаю об этом, — продолжает он, выдыхая дым. В лобовом стекле отражается красный огонек сигареты. — Чувствую это… Разве ты стал бы смотреть, как пропадает твой родной брат, ближе которого у тебя никого нет? Я так не могу. Поэтому хочу помочь Муцуми, Юрико, тебе, всем остальным…
— Убив всех? Отличная помощь!
— Разве ты не убил бы родного брата, чтобы прекратить его мучения? Просто акт милосердия.
— Не верю, что все те люди, которые приходили к тебе на собрания, так уж мучались.
— Люди не верили, что Земля круглая. Как их вера повлияла на ситуацию? Насколько они были правы в своей вере? Думай своей головой, Котаро. Именно думай, а не вытаскивай из памяти, как фокусник карты из шляпы, все те шаблоны, которые вбили в тебя другие. Все шаблоны рано или поздно разрушатся. Что будет с тобой, если вдруг это произойдет сейчас? Как ты будешь жить без своих любимых представлений о мире? Сможешь ты увидеть и принять его таким, какой он есть, или у тебя не хватит сил вынести прозрение? Как думаешь?
— Пошел ты, — говорю.
Замкнутые в капсулу из стекла и металла мы в полном молчании продолжаем путь на запад. Над нами неподвижное звездное небо. Лучи фар выхватывают из темноты кусок асфальта. Полоса разметки жирной змеей заползает под тупой капот ниссана. Мне кажется, что на самом деле мы стоим на месте. Просто колеса машины вращают землю, подминая ее под себя…
Я постигаю смысл слова «сомнение».
Глава 17
На рассвете мы проезжаем указатель с надписью: Мидзусава. Там написано что-то еще, какое-то приветствие, но я не успеваю его прочесть. За рулем опять Муцуми, нога которой приклеилась к педали газа. Глядя на ее остекленевшие глаза и приоткрытый рот, я думаю, а не принимает ли она еще что-нибудь, кроме антидепрессантов. Что-нибудь пободрее. Такэо рядом со мной изучает карту на экране ноутбука. Почему-то это карта Окинавы.
— Такэо, — зовет Муцуми, оборачиваясь. На скорости девяносто километров в час это забавный трюк.
— Что, сестренка?
— Мидзусава. Мы только что въехали.
— Хорошо, сестренка. Сбавь немного скорость.
— Ты помнишь? Здесь живет господин Рэй.
— Конечно, помню. Езжай помедленнее, — глядя в монитор бубнит Такэо.
— И что ты скажешь по этому поводу? — Муцуми снова разворачивается к нам. Машину резко бросает в сторону.
— Сестренка, смотри на дорогу… Что я должен сказать?
— Когда мы навестим его?
Такэо закрывает ноутбук и устало трет глаза:
— Не мы, а я, сестренка. Я навещу его сегодня ночью. А ты побудешь с Юри и Котаро…
— Ну, Такэо!.. — она капризно выпячивает нижнюю губу. — Ну, пожалуйста! Ты же знаешь, как давно я хотела этого!
— Сестренка, давай в другой раз.
— Ну, пожалуйста! Ведь все равно это надо сделать…
— Слышала слово «приоритет»?
— Слышала… Но какая разница? Ты будешь заниматься своим делом, а я своим… Я тебе не помешаю, ты же знаешь… Будь хорошим братиком, пожалуйста, — она канючит как ребенок выпрашивающий дорогую игрушку. — Это ведь недолго. Больше я ни о чем тебя просить не буду.
— Муцуми-тян, милая, давай в другой раз.
— Не-ет, — ноет она, дергаясь на сидении совсем как капризная малолетка. — Сколько можно ждать? Ну, я тебя очень прошу!
Такэо смотрит в окно, на рисовое поле. Вода весело поблескивает на солнце.
— Неужели ты не можешь выполнить просьбу своей больной сестрички?
Такэо вздыхает, достает сигарету и пожимает плечами:
— Хорошо. Я возьму тебя с собой. Только прошу тебя на будущее — не надо спекулировать на моей любви к тебе.
— Не буду, — послушно говорит Муцуми. Точь-в-точь ребенок, добившийся своего и теперь готовый пообещать все, что угодно, лишь бы папа не передумал.
— Не волнуйся, братик, все пройдет отлично. Доверься мне…
— Что за господин Рэй? — спрашивает Юрико.
За все утро это ее первые слова. Я почти забыл, как звучит ее голос.
— Коллекционер, — отвечает Муцуми.
— Что он собирает?
— Картины.
— А зачем ты хочешь встретиться с ним?
— Хочу взглянуть на его коллекцию.
Мы завтракаем в небольшом семейном ресторанчике. Посетителей мало. Все порядочные люди в это время уже работают в поте лица. Интересно, как бы отреагировал хозяин заведения, если бы узнал, что за компания сидит за дальним столиком? Вряд ли пригласил бы зайти еще раз.
Муцуми отправляет порцию риса в рот и мычит:
— Баоныи. Нуо уи баоныи.
— Что, сестренка? — рассеянно переспрашивает Такэо, прихлебывая мисо.
— Нужно купить баллончики с краской. Или лучше кислота? Как ты думаешь?
— Мне все равно. Как хочешь.
— Надо придумать что-нибудь пооригинальнее… — она задумчиво ковыряет палочками рис.
Мы с Юрико едим молча. Я слишком голоден, чтобы поддерживать разговор. Юрико, похоже, просто на все плевать. В общем-то, я с ней согласен. Картины господина Рэя, которого я никогда не видел, мало заботят меня.
— Давай расстреляем картину из твоего пистолета? — оживляется Муцуми.
— Слишком шумно. И легко отреставрировать. Не пойдет. Подумай еще.
Она хмурит брови. Да, серьезная проблема — как испоганить произведение искусства. И сделать это оригинально, а главное — окончательно. Есть над чем подумать. Тоже своего рода творчество. Кто сказал, что только в созидании может проявиться творческое начало? Красиво уничтожить прекрасное не менее сложно.
— Промазать оба полотна хорошим клеем и соединить их!
— Скучновато, сестренка. Подумай еще.
Это — эстетизация смерти. Это — сотворение разрушения.
— Можно превратить картину в ковер из цветов.
— Как?
— Проделать дырочки и вставить в них цветы.
— Ты будешь возиться с этим не один день.
— Тогда посадить искусственные цветы на клей.
— Реставрация.
Муцуми откладывает палочки и залпом выпивает стакан минеральной воды. Ее глаза лихорадочно блестят. Это — возбуждение. Акт разрушения и половой акт — по сути одно и тоже. И там, и там, ты убиваешь то, чем восхищаешься. Убиваешь, потому что не можешь этого восхищения вынести…
— Как все сложно, — вздыхает Муцуми и лезет в свою сумочку.
У нее в ладони две розовые капсулы. Она аккуратно кладет их по очереди в рот и запивает еще одним стаканом минералки.
Конечно, сложно, думаю я. Еще как сложно! Мне тоже было непросто, когда я смотрел на тебя в первый раз, еще не зная, что ты чокнутая сестра другого чокнутого. Тогда ты была олицетворением того, что я ненавидел. Красота, которой никогда не сможешь обладать и никогда не сможешь уничтожить — что может быть хуже? Когда я узнал тебя лучше, мне стало намного легче смотреть тебе в глаза…
Заканчиваем завтрак в тишине. Муцуми скользит по нам мутным расфокусированным взглядом. Рот приоткрыт, пальцы рук мелко подрагивают. У нее больше нет идей. Зато у нее есть покой.
Когда мы встаем из-за стола, в зале появляется хозяин ресторана. Он провожает нас до двери и говорит:
— Для меня большая честь принимать вас у себя, Судзуки-сеней. Прошу вас, приходите еще, мы всегда рады вам и вашим друзьям.
Ага. Очень гостеприимный парень. Такэо лишь кивает в ответ.
Вечер накатывается стремительно и неотвратимо, как тяжелый грузовик. Весь день мы мотаемся по городу. Такэо встречается с разными людьми, отдает какие-то распоряжения, без конца говорит по телефону. Называет он это — обеспечить тылы. То есть обеспечить себе относительно безопасное проникновение в дом господина Рэя.
Я с каждым днем все больше убеждаюсь в том, что здорово ошибался, когда думал, будто у Такэо есть помощники. Как же! У этого парня, похоже, наготове целая армия. Вспомнить хотя бы тех полицейских, которые взяли меня тогда, у дома Мураками Дзиро. Вряд ли для них это разовая работенка. При всех недостатках токийской полиции, коррумпированных полицейских найти там очень сложно. Нет, эти парни работают на Такэо из идейных соображений. Только какие же должны быть идеи, чтобы два неплохо устроившихся в жизни человека ставили под угрозу свою репутацию и плевали на долг?
Единственно возможный вариант ответа: не знаю. Универсальный ответ…
— Сдаюсь, — говорю я, когда мы сидим на лужайке центрального парка города Мидзусава. Золотистое солнце зависло над самыми верхушками парковых каштанов. Перед нами раскрытые коробочки бенто, заботливо собранные нам хозяином ресторанчика. Ни дать ни взять дружеский пикник. Наш верный Patrol брошен в квартале от парка. Я говорю Такэо, лежащему на спине с сигаретой в зубах: — Сдаюсь. Расскажи мне о том, что делаешь. Я на самом деле хочу понять.
Муцуми подстригает ногти на ногах. Глядя на ее трясущиеся руки, я думаю, что скоро ей понадобится пластырь. Она что-то бормочет себе под нос.
— Расскажи мне, что происходит, — твержу я.
Юрико, закрыв глаза, слушает плеер. Голова ее дергается в такт неслышной музыки. Время от времени она открывает глаза, нажимает на пару кнопок и выключается снова. Я знаю, что она будет делать, когда музыка надоест. Либо играть на телефоне в какую-нибудь дурацкую игру, либо полировать ногти. И то и другое она делает с полным погружением в процесс. Медитация на экран мобильного телефона. Медитация на пилку, снимающую слой ногтевой пластины. Или на снимаемый слой. Или на саму пластину. Это — дзен.
— В самом деле, мне кажется, что я много упустил. Что это за важное дело? Кто все эти люди, с которыми встречаешься? Тоже твои клиенты? — не унимаюсь я.
Такэо кладет окурок в карманную пепельницу и потягивается.
— У меня идея! — почти кричит Муцуми, вскидывая голову. — Это просто здорово! Такого мы еще не делали.
— Рассказывай, сестренка.
— Мозги, — произносит она с таким видом, будто открыла новый закон физики.
— Что?
— Мы испачкаем картину мозгами ее хозяина. Когда все как следует засохнет, можно будет продать ее на аукционе. Представляешь, как это будет? Да всякие придурки с ума сойдут, когда увидят такое! Дырка там, где вошла пуля и засохшие мозги… Это know-how в уничтожении произведений искусства.
По ее лицу видно, что она гордится собой.
— Неплохо, — говорит Такэо, приподнимаясь на локте. — Очень неплохо, сестренка… Хотя, было бы совсем хорошо, если бы на картине оказались мозги самого художника. Творец написал картину и полностью раскрыл себя, вывернул наизнанку… Это уже не назвать деструктивным подходом. Самое настоящее созидание, краеугольным камнем которого становится разрушение. Вернее, саморазрушение…
— Вы что, серьезно? — спрашиваю я.
Вопрос можно считать риторическим.
— Ты только подумай, какие возможности открываются! — захлебываясь говорит Муцуми. Ножницы летят в сторону, очертив блестящую дугу. — Творец сливается со своим творением! Это же новая идеология!
— Подожди, подожди… Не спеши. Тут надо все как следует обдумать…
— Да что тут думать?! — Муцуми тянется за своей волшебной сумочкой. За хлорпротиксеном, аминазином, тизерцином. За маленькими кругляшками, дарующими почти дзенский покой. Это — медитация на хлорпротиксен. Медитация на аминазин. Медитация на тизерцин. Это — маниакальная фаза маниакально-депрессивного синдрома.
— Эй! — говорю я. — Вы серьезно?
Вопрос риторический.
— Тут есть над чем подумать, сестренка.
Такэо вытряхивает из пачки новую сигарету.
— Все и так ясно. Подводим его к картине, ставим спиной к ней и стреляем в лоб. Или можно наоборот — лицом к картине, а выстрелить в затылок… Разница невелика.
Она задумчиво потирает кончик носа.
— Да нет, вопрос не в технической стороне дела. Главное, до конца осмыслить мотивацию, понимаешь? Если бы дело касалось непосредственно художника, все было бы ясно. Возведенное в абсолют самопожертвование ради созидания. Что-то в этом роде… А вот с коллекционером не так-то просто.
— Эй, вы, придурки! — ору я так, что Юрико вздрагивает, вынимает из ушей наушники и непонимающе смотрит на меня. — Вы этого не сделаете! Вот уж этого я вам точно не дам сделать! Хватит! Плевать мне на все, я прямо сейчас иду в полицию. Чертовы психи!
Наверное, я кричу очень убедительно. Они наконец-то обращают на меня внимание. Так же обращают внимание на таракана, выползшего среди белого дня на обеденный стол. Я вскакиваю, и из опрокинутой коробки на траву вываливается все ее содержимое — исобэяки, крокеты, кусочки маринованного баклажана, суси с макрелью и тунцом и прочие дары семейного ресторанчика. На сочной изумрудной траве все это выглядит еще аппетитнее. Если, конечно, в этот момент вообще уместно вспоминать об аппетите.
Муцуми с Юрико смотрят на меня, открыв рты. Вид у них донельзя глупый. Мне даже немного смешно. Впрочем, веселье быстро проходит. Достаточно мне взглянуть на Такэо, и я понимаю, что смеяться пока еще рано. Даже слишком рано. Он смотрит на меня снизу вверх, по-прежнему полулежа на своей куртке. Смотрит прямо в глаза. И во взгляде нет ничего, кроме безграничной, почти божественной любви. Так может смотреть будда.
— Сядь, — говорит мне Такэо вполголоса. — Сядь и успокойся. Ты привлекаешь внимание.
— Я собираюсь привлечь еще больше внимания! Я собираюсь привлечь охренительно много внимания к тебе и твоей психованной сестричке!
Я больше не могу смотреть в эти лучащиеся добротой и состраданием глаза. Я разворачиваюсь, чтобы уйти отсюда. Даже больше — я делаю два шага прочь от этой компании. Но, услышав слова Такэо, застываю на месте.
Этот подонок, желающий на свой манер спасти все человечество. Этот псих с альтруистическими наклонностями вывернутыми наизнанку. Этот убийца с глазами просветленного. Он ласково говорит:
— Юри-тян, ты готова умереть прямо сейчас?
Я оборачиваюсь. Он гладит Юрико по голове, как свою дочь. Глаза у нее полуприкрыты, на мягких губах грустно-мечтательная улыбка.
— Юри-тян, — еще нежнее говорит Такэо, глядя на девушку с невыразимой любовью, — ты готова уйти красиво? В этом прекрасном парке, под сенью старых каштанов за три часа до захода солнца?
Юрико вздыхает, как вздыхает человек, который после долгих лет скитаний, в конце трудного пути, увидел вдалеке родную деревню, прилепившуюся к подножию горы, и свой дом, целый и немного обветшавший. В ее вздохе нет ничего, кроме облегчения и тихой робкой радости.
— Да, — шепчет она. — Я готова…
Только сейчас я замечаю, что вторая рука Такэо сжимает пистолет, ствол которого упирается в бок девушки. Как раз рядом с сердцем.
Такэо вопросительно смотрит на меня:
— Ну, что? Почему ты не спешишь в полицию? Почему ты больше не орешь на весь парк? Что-то случилось?
— Отпусти ее, ублюдок.
Такэо цокает языком. В сочетании с покачиваниями головы, это означает: «неверный ответ».
— Сядь и успокойся. Ты ничего не добьешься, если будешь вести себя, как дурак. Пора бы понять, в этой партии ты — проигравший. И всегда был им… У тебя нет иного выхода, кроме как смириться с тем, что происходит. Чем быстрее ты это сделаешь, тем будет лучше для всех. Давай сосчитай до десяти, сделай пару глубоких вдохов и садись. Господин Рэй — это не твоя война, как говорят в глупых американских фильмах, по которым ты судишь о жизни.
Пистолет по-прежнему тычется в ребра Юрико.
Все смотрят на меня. На меня — побежденного, но не желающего смириться с этим. На меня — обреченного, но не верящего в это. На меня — растерянного, испуганного и жалкого в своих попытках казаться вовсе не таким.
А я стою и вдыхаю запах кроличьей шерсти. Но теперь страха нет. Потому что я знаю…
…Знаю, что невидимый Кролик-мясоед стоит сейчас за спиной Юрико, раззявив розовую вонючую пасть с длинными и острыми резцами. И желтые, блестящие от покрывающей их слюны зубы вот-вот вонзятся в горло девушки по имени Кобаяси Юрико, отделяя ее голову от туловища.
Вот он — момент прозрения. Миг слияния с абсолютом. Секунда, равная вечности, и вечность, равная секунде, в течение которой ко мне приходит откровение.
Разноцветные кусочки стекла складываются в мозаичный рисунок. Расплывчатое изображение вдруг становится четким и ясным. Нужное слово, которое никак не мог вспомнить, хотя его тень скользила весь день по краю сознания, внезапно всплывает в памяти. Все эти варианты — бледная копия того, что происходит в моей голове в данную секунду. Осознание — вот слово, которое первым приходит на ум, когда я хочу дать определение этому.
Осознание, понимание, прорыв, сатори. Все эти понятия становятся актуальными из-за одной-единственной мысли, которая приходит мне в голову, когда я смотрю на Юрико, на пистолет, уткнувшийся в ее ребра и чувствую запах кролика. Мысль проста и остра, как лезвие меча.
Кролик-мясоед — это Смерть.
Вот так все просто.
Это мой оживший страх смерти. Это сама смерть, визуализированная мной как гигантский плотоядный кролик.
Такое я делаю открытие за три часа до заката, стоя на лужайке центрального парка в городе Мидзусава.
Я начинаю смеяться. Слезы градом текут по щекам, мой смех больше напоминает рыдание. Но на самом деле я смеюсь. Захлебываясь, трясясь как паралитик, кусая губы, размазывая слезы по лицу. Я хохочу. Я рыдаю. Я без сил падаю на землю и утыкаюсь лицом в траву. Травинки забиваются в ноздри и рот. Я отплевываюсь, обгрызаю их, не переставая плакать, смеяться, реветь, рычать, стонать. Я катаюсь по мягкой траве, по остаткам валяющегося на ней ужина, размазывая баклажаны и рис по лицу, по рубашке и брюкам…
И все равно этого мне кажется мало. Меня вот-вот разорвет на части от переполняющих эмоций. Мелькает мысль, что сердце на самом деле может не выдержать такой нагрузки. Это и пугает и веселит одновременно.
Я сажусь на задницу, поднимаю голову вверх и начинаю выть, как брошенный пес, срывая непослушными от переполняющей их энергии руками пучки травы и разбрасывая их в стороны. Вой переходит в утробный рев.
Это какой-то новый способ выражения эмоций. Это эмоции, не поддающиеся определению и объяснению. Это — эмоциональная эклектика.
Оказывается, я очень аутентичный парень. Мечта психотерапевта.
Пощечина, которую дает мне Муцуми, приводит меня в себя. Глаза у Муцуми испуганные. Конечно, наверное, она была уверена, что самая психованная здесь. Теперь пальма первенства принадлежит мне.
Я снова начинаю хихикать. Новая пощечина заставляет меня заткнуться.
— Выпей воды, — говорит Такэо. — А лучше — возьми у Муцуми пару таблеток. Тебе не помешает.
Он уже спрятал пистолет. Но Юрико сидит все так же неподвижно. Правда, уже не улыбается.
— Это называется катарсис. То, что сейчас с тобой произошло. Поздравляю.
Я беру бутылку с водой и выливаю себе на лицо. Вода приятно холодит кожу. Мне все равно, что там говорит Такэо. Я в прострации, в нирване… Я делаю несколько больших долгих глотков и чувствую, как прохладный ручеек бежит по пищеводу и обрушивается в желудок маленьким водопадом. Это ощущение окончательно приводит меня в чувство.
Я постигаю смысл слова «покой».
Глава 18
Дом пожилого богатого гомосексуалиста Рэя — роскошный каменный особняк в самой респектабельной части города. Когда-то предки Рэя приняли видное участие в реставрации Мэйдзи. С тех пор у них была куча разных текстильных фабрик, которые приносили солидный доход. Как обычно бывает в таких семьях, однажды родился очередной маленький Рэй, который спустя сорок лет пустил почти все богатство, нажитое предками, на ветер. После смерти этого урода, без которого немыслима ни одна семья, восстановить былое положение клана его потомки не смогли. Впрочем, осталось все равно достаточно, чтобы собрать хорошую коллекцию картин и оружия. Господин, которого мы собираемся посетить сегодня, последний из рода. Его подвели гены, который, как считают ученые, определяют половую ориентацию человека. Остался, правда, дальний родственник. То ли троюродный племянник, то ли еще кто-то в этом роде. После смерти господина Рэя, дом и картины достанутся ему.
Об этом мне рассказывает Такэо, когда мы сидим в джипе с выключенными фарами, приткнувшись к обочине, и ждем сигнала. Звонка по телефону — от добровольцев Такэо. История старая и скучная, но от нечего делать я слушаю ее внимательно. Сейчас мне необходимо чем-то занять голову. Забить извилины любым дерьмом, чтобы не думать о предстоящем визите.
Синоним — взломе. Синоним — незаконном проникновении в чужую собственность. Синоним — вандализме и доведении до самоубийства.
Я предпочитаю эвфемизмы. Называю все это просто визитом. Потому что другого выхода у меня нет. Руки опять скованы наручниками и лежат на коленях, накрытые курткой Такэо, чтобы прохожие случайно не заметили стальной блеск на моих запястьях. Позади сидит Юрико, которая успокоилась только час назад. До этого она безудержно рыдала и просила разрешить ей умереть прямо сейчас. Теперь она сидит и слушает свой дурацкий плеер, будто ничего и не случилось.
Муцуми спит, наглотавшись своих таблеток. Мне кажется, что она похудела килограммов на пять, минимум. Она уже не кажется такой молодой и красивой. На шее морщины, на виске просвечивает голубая жилка, нос заострился, щеки ввалились. Еще немного и череп начнет выпирать наружу. Впрочем, ей на все это наплевать. У нее есть таблетки. А когда они кончатся, заботливый брат достанет еще.
Только Такэо выглядит и ведет себя так, словно не было этих дней бесконечной дороги. Разве что глаза усталые.
— А вот теперь подумай, не лучше ли старому педику умереть этой ночью, в полнолуние? Что его ждет лет через десять? Жалкая одинокая смерть в доме престарелых… Болезнь Альцгеймера превратит его в слюнявого идиота, забывающего снять штаны перед тем, как сесть на горшок. А потом, когда его мозг превратится в некое подобие несвежего тофу, прикончит его в узкой кровати на казенном, испачканном блевотиной и дерьмом белье. И что в этом хорошего для господина Рэя? Он уже сейчас никому не нужный старик с дряблым членом. Его нынешняя жизнь вовсе не похожа на праздник, можешь быть уверен. Унылое серое существование. Доживание, а не жизнь… На самом деле, мы его спасители.
Он закуривает сигарету. Огонек зажигалки освещает его бесстрастное лицо. В наступившей тишине я слышу музыку в наушниках Юрико.
— О, да, если бы он был бессмертен, мы стали бы убийцами. Но кто из нас бессмертен? Все мы когда-нибудь умрем, Котаро. Он, я, ты. Зачем устраивать из-за этого истерику? Смерть — всего лишь вопрос времени. По сути, мы мертвы еще до рождения… Твое умирание начинается в тот миг, когда самый шустрый сперматозоид добирается до яйцеклетки. В момент оплодотворения яйцеклетки твоя смерть открывает глаза. Когда ты вылезаешь из своей матери, она уже стоит рядом, вместе с акушеркой. Смерть принимает твои роды… И потом она не оставляет тебя ни на секунду. Она самая преданная тебе женщина, самый верный сподвижник. Она не предаст, не обманет и не сбежит с другим. И чем мы платим ей за преданность? Либо страхом, либо презрением, либо равнодушием. Мы неблагодарные твари, Котаро. Иногда мне бывает стыдно за людей. Конечно, наши предки вели себя по отношению к смерти намного приличнее. Да и то лишь лучшие из них… Мы же предали все ценности, обменяли их на гамбургеры, джинсы и Бритни Спирс. Выгодная сделка, ничего не скажешь… Ну да сейчас не об этом.
Звонит телефон. Такэо говорит в трубку:
— Хорошо.
Вот и весь разговор. Я понимаю, что пришло время действовать. Время визита, взлома, убийства.
— Я тебе так скажу, — продолжает Такэо, — не забивай голову сомнениями. Сомнения — самая бесполезная вещь на свете. Думай о том, что мы просто восстанавливаем справедливость — делаем так, чтобы господин Рэй наконец повернулся к своей смерти лицом, а не морщинистой задницей. Она его и так заждалась…
— Кто? Задница?
— Да нет, — качает головой Такэо. — Смерть.
Мы выходим из машины. Впереди идет Такэо, за ним Юрико, следом я. В спину упирается пистолет, удерживаемый холеной ручкой Муцуми. На мне по-прежнему наручники. Я иду, как на собственную казнь. Очень похоже.
То место, куда упирается ствол — немного выше почек, ближе к левой лопатке — зудит. Мне остается только молиться, чтобы всякие побочные эффекты таблеток, которые глотает Муцуми, вдруг не сработали одновременно. Нарушение аккомодации сама по себе неприятная штука, особенно когда человек с таким нарушением держит заряженный пистолет. А если прибавить бессонницу и дисфункции нервной системы, к которым она приводит, то можно с уверенностью сказать, что мои шансы получить пулю в спину достаточно высоки.
— Муцуми, — тихо говорю я и чувствую, как усиливается давление ствола, — Ты как?
— Все хорошо, Котаро, спасибо.
— Ты главное не волнуйся, ладно? Я не собираюсь убегать, честное слово.
— Да-да.
— Пистолет на предохранителе?
— А что это такое?
Струйка пота стекает между лопаток. Я считаю до семнадцати… До восемнадцати… До девятнадцати. При счете двадцать делаю долгий бесшумный выдох. Если я сейчас споткнусь, если нога вдруг провалится в какую-нибудь яму, если даже меня просто передернет от ночной прохлады — эта дура выстрелит. Точно. Психанет и выстрелит. Или даже не психанет, а просто вздрогнет.
Я стараюсь идти как можно ровнее, дышать как можно тише, говорить как можно мягче. Вспоминается момент, когда я целился из этого самого пистолета в лоб Такэо. Интересно, он чувствовал нечто похожее?
Капля пота стекает по виску.
В тюрьме я разговаривал с парнями, у которых были шрамы от огнестрельных ранений. Все они рассказывали о своих ощущениях в момент ранения примерно одинаково. Когда пуля попадает в тело, впечатление такое, будто тебя со всего маху ударили здоровенной дубиной. Чем крупнее калибр, тем толще и тяжелее дубина. Удар — и ты уже на земле.
Я представляю, как в мою спину врезается огромная дубина и бросает на идущую впереди Юрико. Та по принципу домино падает на Такэо, сбивает его с ног, и вот мы все лежим на асфальте, а над нами стоит Муцуми с испуганными глазами и пистолетом, от которого идет легкий дымок. А потом все начинают кричать. Все, кроме меня…
Еще я думаю, что старый коллекционер спокойно спит в своей кровати и даже не подозревает, что очень скоро ему дадут огромной дубиной по голове. И в эту же секунду его мозги украсят принадлежащую ему картину.
Из всех людей, живущих сейчас на земле, меньше всего я завидую двоим. Господину Рэю и себе. Похоже, для нас эта ночь складывается крайне неудачно.
Такэо толкает тяжелые ворота, и они бесшумно ползут в сторону, открывая нам проход в сад, окружающий дом. В темноте не рассмотреть, действительно ли он такой роскошный, как рассказывал Такэо. Просто черная громадина — впечатление не очень сильное.
На улице пустынно. Лишь в стороне, метрах в двадцати от нас, я различаю темный силуэт человека. Он почти сливается со стеной дома, но свет фонаря очерчивает темный контур плеча. Если не всматриваться, то ничего и не заметишь. Но я всматриваюсь. Когда тебе в спину упирается ствол пистолета, который вот-вот может выстрелить, все чувства обостряются до предела. Мне кажется, что я смогу услышать, как хрустнет сустав указательного пальца Муцуми, когда она нажмет на спусковой крючок.
Такэо тоже видит того человека. Он делает знак рукой, и силуэт исчезает. Ну, конечно, надо было догадаться, что это парень из команды Такэо. Еще один будущий самоубийца. Еще один доброволец.
Мы идем по дорожке к дому. Все в том же порядке. Дорожка не очень ровная, то и дело я ощущаю под ногой какой-нибудь вылезший кирпич. Вот тут споткнуться можно запросто. К тому же фонарей в саду господина Рэя нет, а луна скрылась за облаками. Темень такая, что я с трудом различаю Юрико, идущую в двух шагах впереди.
— Муцуми, — шепчу я. — Убери пистолет.
— Что?
— Убери пистолет.
— Еще чего!
— Ты можешь случайно выстрелить.
— Ну, и что?
Ох, как я хочу задушить ее сейчас!
— Перебудишь весь квартал, идиотка, — яростно хриплю я.
Юрико оборачивается:
— Что ты говоришь?
Этого еще не хватало. Сейчас она споткнется, я налечу на нее, Муцуми на меня — и все. Господин Рэй будет спасен. Такая цена его жизни меня не устраивает.
— Смотри под ноги, Юрико!
Муцуми сзади спрашивает:
— Что ты говоришь?
Число «пи» вычислено с точностью до 1,24 триллиона знаков после запятой. Науке известно около 4000 видов вирусов, а общее их количество, по оценкам, порядка 400 000. Клещ кусает всё, что имеет температуру тридцать семь градусов Цельсия и при этом пахнет масляной кислотой. В настоящее время существует более трехсот теорий старения.
— Ничего, — выдыхаю я. — Ничего не говорю.
Мы стоим у массивной входной двери.
Такэо шепчет:
— Его спальня на втором этаже. Коллекция там же, в соседней комнате. Сначала заходим к нему, берем и направляемся к картинам. Муцуми, отдай мне пистолет.
Я облегченно вздыхаю, когда ствол перестает давить в спину.
— Котаро, надеюсь, ты не будешь вести себя как дурак?
— В каком смысле?
— Юрико, ты готова умереть этой ночью в любую минуту?
— Да.
— Хорошо, я не буду вести себя, как дурак, — отвечаю я.
Будь у меня свободными руки, я, вполне возможно, прямо сейчас повел бы себя, как дурак. В такой темноте очень легко устроить неразбериху и отобрать у одного психа пистолет. Но никто не торопится снимать с меня наручники.
Вместо этого я чувствую, как ствол, еще не успевший остыть от тепла моего тела, снова упирается мне в спину. На этот раз точно между шестым и седьмым позвонками.
— Больно, — говорю я.
— Может быть и хуже, — обнадеживает меня Такэо и подталкивает вперед, к двери.
— Эй, я не знаю куда идти!
Я постигаю смысл слова «паника».
— Прямо и налево. Там лестница. Дальше подскажу, — дышит мне в ухо Такэо. От него пахнет мятной жевательной резинкой и совсем чуть-чуть туалетной водой Kenzo. — Юрико, держись рядом. Муцуми, заходи последней и закрой за собой дверь. Смотри не потеряйся. Все, пошли…
Я толкаю дверь и делаю шаг в темноту холла, которая куда темнее той темноты, что остается за спиной. В доме пахнет какими-то благовониями. Что-то вроде сандала, но к нему примешивается еще один запах, определить который я никак не могу.
Как обычно в таких ситуациях, в голову лезут самые неожиданные мысли. Я вспоминаю, что общая площадь рецепторов, реагирующих на запахи, у человека составляет пять квадратных сантиметров, а у собаки и акулы, соответственно шестьдесят пять и сто пятьдесят пять квадратных сантиметров. Дав нам развитый мозг, природа обделила во всем остальном. Скупость и расчетливость торгаша.
На лестнице я цепляюсь ногой за ступеньку и чуть не растягиваюсь во весь рост. Если бы пистолет держала Муцуми, господин Рэй был бы спасен. Такэо успевает схватить меня за шиворот и шепчет:
— Осторожнее, Котаро, я тебя чуть не пристрелил.
— Убери ты чертов пистолет! Никуда я не денусь.
— Не болтай, иди вперед. И смотри под ноги…
— Да тут ни черта не видно!
Как я хочу заорать на него сейчас! Схватить за рубашку, притянуть к себе, встряхнуть как следует и заорать в его смазливую, харизматичную рожу что-нибудь вроде: «Да пошел ты, кретин!». Не слишком оригинально, но в этот момент мне не до сочинения оригинальных текстов.
Ничего подобного я, разумеется, не делаю. У него есть пистолет, а у меня нет. Странным образом десяток металлических деталей, собранных в определенной последовательности оказывается самым весомым аргументом из всех, с которыми я когда-либо сталкивался. Поэтому я просто ставлю ногу на очередную ступеньку, ставлю ногу на очередную ступеньку, ставлю ногу на очередную ступеньку.
Наверху мы снова останавливаемся. Такэо проводит экстренное совещание психов, забравшихся в чужой дом.
— Нужно, чтобы он не заорал… — говорит Такэо.
— Ты о ком? — волнуясь, спрашиваю я. Конечно, почти наверняка речь идет о хозяине дома. Но кто знает, что может прийти в голову этому психу? Лучше уточнить.
— Не переживай. Ты прекрасно знаешь, что если сделаешь что-нибудь не так, Юрико умрет через минуту.
— Юри-тян, неужели ты не понимаешь, что он использует тебя? — шепчу я.
Юрико молчит. В темноте я не могу видеть ее лица, но чувствую, что ей на мои слова начихать. Что же этот подонок сделал? Как можно запрограммировать абсолютно нормального человека на самоубийство за какой-то месяц?
Вместо Юрико мне отвечает Такэо:
— Ты успокоишься или нет? Чего ты хочешь? Чтобы Юри умерла, ты сел в тюрьму лет на двадцать, мы с Муцуми — на пару месяцев, а этот старый педик жил и радовался? Ты на самом деле так понимаешь справедливость? Это для тебя идеальный вариант развития событий? Ну, и кто из нас псих?
Честно говоря, ответить мне нечего. Сказывается влияние лидера в коллективе. Простая мысль, что идеальный вариант развития событий — просто уйти всем вместе отсюда, оставив старика в покое, даже в голову не приходит. Никакой альтернативы перспективе, нарисованной Такэо, я не вижу. Еще меньше в ней возможности выбора.
— Значит, так, — говорит Такэо. — Муцуми, сейчас мы подойдем к двери, ведущей в его спальню. Напротив — дверь, ведущая в комнату с картинами. Вам туда. Я пойду подготовлю господина Рэя. Пистолет останется у Юрико. Юри-тян, умеешь им пользоваться?
— Нет.
— Все просто. Патрон в патроннике. С предохранителя я пистолет сниму. От тебя требуется только приставить ствол к виску и нажать на спусковой крючок. Как в кино. Видела в фильмах?
— Да.
— Справишься?
— Да, Судзуки-сенсей.
— Если наш друг Котаро вдруг вздумает выкинуть какую-нибудь глупость, смело действуй.
— Да, Судзуки-сенсей.
— Какая же ты сволочь, Такэо! — дрожащим от ярости голосом говорю я.
— Муцуми, заходите в комнату, задергиваете шторы и ждете меня с Рэем, понятно? Свет не включайте. Никакого шума, никакой болтовни и еще чего-нибудь в этом роде. Дайте мне спокойно закончить с ним работу. Если, конечно, ты не хочешь чтобы я банально пристрелил его в спальне.
— Я все поняла.
— Котаро, прошу тебя, не усложняй ситуацию. Продолжительность жизни Юри-тян зависит от тебя.
— Пошел ты!
— Когда мы зайдем и включим свет, сидите спокойно, ясно? Не нужно нервировать старика, ему и так будет несладко. Котаро, прежде всего это касается тебя. Муцуми, не вздумай курить при нем. Это неуважение к чужой смерти. Юрико, пистолет держи наготове. Все, пошли. И ни звука.
Муцуми задергивает шторы, а мы с Юрико стоим в дальнем углу комнаты рядом с какой-то ширмой. Скорее всего, антиквариат. Даже без света понятно, что в комнате нет ни одной вещи моложе пары сотен лет. Но это меня сейчас занимает меньше всего. Будь здесь хоть золота по щиколотку, это ничего не изменило бы.
Лишний раз я убеждаюсь, насколько относительны все ценности.
Юрико тихо дышит рядом. Я не вижу ее лица, не вижу, где пистолет. Поэтому не рискую. Вполне может быть, что ствол она держит у своего виска. С нее станется. Девчонка совершенно потеряла голову.
— Юрико, — я стараюсь говорить так, чтобы Муцуми нас не услышала, то есть просто шевелю губами, — Юрико, все, что тебе наговорил Такэо, это бред, понимаешь? Он тобой манипулирует.
— Перестань, — угадываю я ответ.
— Не перестану. Отдай мне пистолет.
— Нет.
— Хорошо, давай просто уйдем отсюда.
— Если хочешь, иди. Я останусь…
— Почему?
— Я ему нужна.
Дура! Дура! Дура!
Я сжимаю кулаки так, что хрустят суставы.
— Подумай, если мы сейчас не уйдем, то оба станем соучастниками убийства. Ты этого хочешь? — мне все труднее шептать. Еще немного и все-таки сделаю то, что уже очень давно хочу сделать. Заору на весь дом.
— Это не убийство.
— А что же это, по-твоему? Как называется действие, непосредственно ведущее к смерти другого человека?
— Тебе не понять.
Идиотка! Идиотка! Идиотка!
Муцуми задергивает последнюю штору. Через несколько секунд она подойдет к нам, и тогда уже ничего не поделаешь. Тогда уже придется смотреть на то, как несколько психов убивают ни в чем не повинного старика.
— Отдай мне пистолет. Отдай, пожалуйста! Мы же с тобой были друзьями…
— Ты слюнтяй и всегда был слюнтяем. Если бы не я ты до сих пор сидел бы в своей сраной квартирке и медленно спивался.
— Что значит, если бы не ты?
— То и значит.
— Отдай пистолет, — в отчаянии шиплю я, слушая, как приближаются шаги Муцуми. — Это надо остановить, дура!
— О чем вы тут шепчетесь? — спрашивает Муцуми. Она говорит нормальным голосом, не слишком громко, но и не шепчет.
— Чокнутая малолетка! Дура! Втянула нас в дерьмо, а теперь не даешь мне вытащить нас оттуда!
Я говорю еще долго. Не выбирая выражений и не слишком заботясь о том, слышно ли меня в спальне господина Рэя. Меня никто не перебивает, но и одобрительных поддакиваний тоже нет.
Пошли все к чертям! Все вместе, одной веселой командой. Сборище придурков. Мне уже плевать и на господина Рэя, и на себя, и на Юрико. Если эта дура хочет подохнуть по приказу какого-то психа — пожалуйста, не буду мешать. Подумать только, ради нее я прожил почти месяц бок о бок с двумя чокнутыми убийцами, выслушивая их бредовые идеи! Все это время моя жизнь зависела от того, какое дерьмо творилось в их головах. Меня разыскивает полиция за тройное убийство. Я сам чуть не свихнулся из-за ублюдочного кролика и проповедей долбанутого спасителя человечества… И все ради того, чтобы тупая малолетка назвала меня слюнтяем, а потом пустила себе пулю в лоб.
Отлично! Просто отлично!
И самое поганое, что я ничего не могу сделать. Такэо все рассчитал правильно. Дай он пистолет Муцуми и прикажи пристрелить меня в случае чего, я бы даже не думал. Бросился бы на эту психопатку, а там уж как повезет. Даже если бы она меня пристрелила — плевать. По крайней мере, все это дерьмо закончилось бы.
Но Юрико… Все равно не могу отделаться от мысли, что я отвечаю за эту соплячку. И до тех пор, пока есть хоть один шанс спасти ей жизнь, я буду делать все, что скажут Такэо и его сестричка. Я буду очень послушным парнем.
Ничего не меняется в глобальном плане. Это только кажется, что жизнь очень изменчива. На самом деле, нет ничего более статичного. За это время случилось до черта всякой ерунды.
Но по-прежнему у меня есть альтернатива, но нет выбора. В этом смысле ничего в моей жизни не изменилось.
В книгах герои скачут по страницам, как акробаты, изменяя любую ситуацию под себя. А в жизни ты стоишь в темноте, в незнакомом доме и ждешь, когда в комнату приведут человека, чтобы убить у тебя на глазах. Вот так вот просто стоишь и ждешь, будто автобуса. А все потому, что связан по рукам и ногам чувством ответственности за одну дурочку. В реальной жизни всегда находится что-то такое, что связывает тебя.
Может быть, в данный момент я постигаю смысл слова «любовь».
Может быть…
— Юрико, ты круглая дура, — говорю я.
— Еще одно слово, и я выстрелю себе в висок, — ледяным тоном говорит она.
— В самом деле, Котаро-сан, хватит ругаться. Я уже устала от твоих грубостей. Все-таки надо уговорить Такэо убить тебя.
Эта душка Муцуми! Она устала от моих грубостей.
Я затыкаюсь. У Юрико хватит упрямства и глупости выполнить свою угрозу. Чтобы чем-то занять себя, начинаю придумывать, как разделаюсь с Такэо, когда у меня будет возможность.
Если бы кто-нибудь смог забраться мне в голову и посмотреть мои фантазии на ширкоформатном экране, с хорошим насыщенным цветом и четким звуком — о, я думаю, Такэо показался бы ему беззащитным ягненком.
Я постигаю смысл слова «кровожадность».
И это уже без всяких дурацких «может быть».
— Свет! — говорит Такэо…
…И светильники, расставленные по углам залы вспыхивают. Мы зажмуриваем глаза, поэтому торжественное появление Такэо с хозяином дома ни на кого особенного впечатления не производит.
Когда я открываю глаза, они уже почти на середине залы и направляются к нам. Против моего ожидания, господин Рэй держится молодцом. Я ожидал, что Такэо просто втащит его в комнату, как куль с рисом. Но тот идет сам, почти не опираясь на заботливо предложенную психом руку. На нем лиловое домашнее кимоно. Судя по виду, из натурального шелка. И совершенно неуместные тапочки с помпонами в виде заячьих голов. Эти тапочки приковывают взгляды Юрико и Муцуми. А если уж совсем честно, то и мой тоже. Не то чтобы тапки особенные, просто лично я не хотел бы умереть в таких. Кимоно отличное, ничего не скажешь. А вот тапки…
Впрочем, когда тебя поднимают среди ночи с постели для того, чтобы испачкать твоими мозгами картину, вряд ли будешь очень придирчиво подбирать наряд. Такэо прав — мы здорово проигрываем своим предкам. Умираем в придурочных тапочках, трясясь от страха. Совсем как господин Рэй.
У Такэо скорбное торжественное лицо. Он подводит старика к нам, представляет нас друг другу, следуя всем формальностям, и снова отводит его в сторонку, что-то втолковывая на ухо.
Муцуми нетерпеливо смотрит на часы. Видно, что ей не терпится поскорее увидеть мозги на картине.
Кстати, коллекция не очень-то впечатляющая. Я имею в виду картины. В основном, работы начала прошлого века. Когда японская молодежь вовсю училась в западных университетах и проникалась идеями импрессионизма, неоимпрессионизма, кубизма и символизма и тому подобных течений. Ни одного западного художника, все сплошь соотечественники. Конечно, и такая коллекция будет стоить немало, но ничего потрясающего воображение. Вот оружие — другое дело. Я не силен в этом, но вижу пару мечей эпохи Камакура. Доспехи, стоящие в углу, рядом с дверью, изготовлены гораздо позже, но все равно впечатление производят сильное.
Можно сказать, что дальнему родственнику очень повезло. Неплохая прибавка к зарплате. Скорее всего, все будет распродано на каком-нибудь аукционе, денежки вложены в акции, а дом переоборудован по последнему слову техники.
От господина Рэя останется только грязное пятно на одной из картин. Пятно, что было когда-то мозговой жидкостью.
Лишнее подтверждение моей теории. Все, что создано нами, рано или поздно обращается в прах. Грязное пятно на полотне — еще неплохой памятник. Большинство не оставляет после себя и этого.
Муцуми обходит комнату, внимательно рассматривая висящие на стенах картины. А я чуть не забыл, что она художница. Такэо бросает на нее неодобрительные взгляды из-за сгорбленной спины Рэя, но она их не замечает. Или делает вид, что не замечает.
В данный момент я согласен с Такэо. Она могла бы быть потактичнее.
Юрико с не меньшим любопытством разглядывает оружие. Взведенный пистолет в правой руке. Она рассеянно похлопывает им себя по бедру. Похоже, вообще забыла и обо мне, и о том, для чего мы сюда пришли. Понять ее можно — эта пара мечей действительно великолепна. Можно сказать, безупречна.
Но я думаю не о мечах. Мысль моя вертится вокруг потерявшей бдительность Юрико с пистолетом в расслабленной руке. Нас разделяют три шага, не больше. Если я окажусь достаточно проворным… Если Юрико не заметит начала моего движения… Если инстинктивное нажатие на спусковой крючок произойдет в момент, когда ствол пистолета будет еще опущен…
Тогда у меня может получиться.
Вопрос: «А что ты будешь делать дальше?» — я старательно игнорирую.
Чтобы свести к минимуму возможность неудачи, я начинаю медленно, боком, подбираться к Юрико. Та, ничего не замечая, таращится на самую настоящую нагинату, привинченную к стене, чуть повыше мечей.
Нас разделяют уже два шага.
Я почти не дышу.
Полтора шага.
Юрико начинает поворачиваться ко мне, будто почуяв что-то неладное.
Вот сейчас нужно броситься на нее…
Вот сейчас…
— Котаро-сан!
Я позорно, как нашкодивший кот, втягиваю голову в плечи и оборачиваюсь на голос Такэо. Оказывается, он стоит неподалеку и внимательно наблюдает за моими партизанскими действиями. Такэо неодобрительно качает головой и обращается к Юрико:
— Дай мне пистолет.
Потом делает то, чего я вовсе не ожидал. Вынимает обойму, прячет в карман, немного оттягивает затвор, чтобы проверить, есть ли патрон в патроннике, тщательно вытирает пистолет платком и с поклоном протягивает его старине Рэю. Раньше так протягивали меч для сэппуку кандидату на тот свет.
— Муцуми-тян, что?
Муцуми едва уловимым жестом показывает на одну из картин. Разумеется, она могла выбрать только эту. Тема все та же — насильственная смерть. Просто парень с петлей в руке, присматривается, куда бы привязать веревку. Написано в стиле Мунка. Правда, тот предпочитал изображать убийц. На мой взгляд, не слишком удачная работа со светом, но в общем очень даже хорошо.
— Котаро, помоги, — говорит Такэо.
Мы снимаем картину со стены и ставим ее на пол. Потом раскатываем перед ней принесенную заранее циновку. Все это быстро, четко и по-деловому, однако не забывая делать скорбное и задумчивое лицо.
Господин Рэй смотрит на приготовления так же, как пятьсот лет назад смотрели крестьяне на сколачиваемый для них крест.
Белые трясущиеся губы, пустые навыкате глаза, заострившиеся черты и без того костлявого лица. Теперь из-под желтой с большими пигментными пятнами кожи явственно выступает череп. Пистолет у него в руках выглядит совершенно нелепо. Так же, как и тапки.
Мне кажется, что господин Рэй сейчас обмочится. Я отворачиваюсь.
— Котаро, Муцуми, Юри-тян, пойдемте. Не будем мешать господину Рэю. Господин Рэй, помните, что я вам сказал, и будьте мужественны, — говорит Такэо.
Вряд ли Рэй его слышит.
Мы стоим за дверью комнаты, где остался старый коллекционер, приговоренный к самоубийству. Такэо закуривает и протягивает пачку Юрико. Та отрицательно качает головой. Муцуми же занята своими таблетками. Она ест их, как конфеты, тщательно разжевывая и не запивая водой.
— Сложно было? — спрашивает она, морщась от горечи.
— Да не очень. Он был, в общем-то, готов. Просто мы свалились неожиданно. Сама понимаешь, так вот, спросонок сложно решиться на такое.
Он глубоко затягивается.
Я стою со скованными руками и подумываю о том, что мне сейчас тоже не помешал бы пистолет с одним патроном. Черт с ним, с Такэо, пусть дальше занимается своими делами, плевать… Но вот мне жить больше не хочется.
Слюнтяй, сказала Юрико. Еще какой!
Я вспоминаю свои ощущения, когда окрик Такэо заставил меня поджать хвост, и мне хочется блевать от отвращения к самому себе.
Из-под двери студенистой медузой выползает тяжелый запах кроличьей шерсти. Мое сердце начинает стучать мелко и дробно. Маленький мясной комочек, бешено сокращающийся из-за избытка адреналина в крови. Кролик уже там, уже готовится отведать очередной мясной морковки.
А эти идиоты, мои ненормальные спутники, ничего не чувствуют. Для них существует только запах дыма от сигареты Такэо, да приторный аромат Shisheido Yamamoto его сестрички. Им невдомек, что Кролик-мясоед в нескольких шагах от них, довольно скоро он доберется и до них.
Хрум-хрум, Такэо. Хрум-хрум, Муцуми. Хрум-хрум, все остальные… Эта тварь никогда не бывает голодной. Но никогда не бывает и сытой. Наверное, потому, что нас много, но мы слишком маленькие для него. Так, на один укус. Приходится жрать постоянно.
— Что-то он долго, — недовольно говорит Муцуми.
И в этот миг раздается выстрел, а секунду спустя — стук падающего тела.
— Бэнг-бэнг, — удовлетворенно кивает Муцуми.
В машине меня начинает трясти так, что зубы того и гляди начнут крошиться.
— Выпей, — протягивает бутылку Такэо. — Это с непривычки.
— Пошел ты, — отвечаю, но бутылку беру и делаю несколько глотков.
Дрожь не унимается. Я потираю онемевшие от наручников запястья. Я обхватываю плечи руками. Я пытаюсь припомнить хоть какой-нибудь дерьмовый факт из биологии, геологии, астрономии или ботаники, но ничего не приходит на ум. Перед глазами стоит то, что я увидел, когда зашел в эту чертову комнату.
— Знаешь, когда-нибудь я тебя убью… — говорю. — Не знаю, скоро или нет, но убью обязательно.
Такэо хмыкает, достает из кармана телефон и набирает номер. Ждет какое-то время, потом нажимает на сброс.
— Ну что, поехали? Все готовы? — спрашивает он.
Никто не отвечает. Наглотавшаяся таблеток Муцуми сидит в отключке, Юрико задумчиво смотрит в окно. Она даже не слушает свой плеер. Просто сидит и смотрит в темноту.
Такэо выжимает сцепление, и мы продолжаем свое движение на запад по шоссе №***. К какой-то неизвестной мне цели.
Глава 19
— Ты знаешь, что люди научились убивать себя задолго до того, как покорили огонь? — спрашивает Такэо.
Снова дежа вю. Однажды виденное. Ничего не меняется, все идет по кругу. Та же машина, тот же сизый дым от короткой толстой сигареты Camel в зубах Такэо, те же разговоры. Муцуми с Юрико дремлют на заднем сидении. Я им завидую, они не слышат разглагольствования этого парня.
— На самом деле. Поначалу самоубийство не одобрялось — этот поступок наносил ущерб общине. Потом стало проще. Самураи вспарывали себе животы, поспорив о том, у кого красивее меч… После того, как мы стали оглядываться на Европу и принялись вкалывать, как одержимые, на благо страны, количество самоубийств свелось к минимуму. Сейчас мы снова переживаем эру суицидов. По статистике, самоубийство почти во всех развитых странах стоит на третьем месте после смерти от старости и смерти от несчастного случая. Как тебе такое? Войны, эпидемии — все то, что в прошлом, являлось основными причинами гибели людей теперь не попадают даже на призовое место.
Он открывает окно и выбрасывает окурок. В салон врывается свежий ночной воздух, пахнущий морем. Мы огибаем справа город Хатинохе. Океан совсем близко, если остановиться и заглушить двигатель, можно будет услышать его рокот…
— Каждый год двадцать пять тысяч японцев убивают себя. Количество попыток — в семь раз больше. Кроме того, как правило, статистика самоубийств сильно занижена. Считаются только явные случаи…
— Вроде Рэя? — спрашиваю я.
— Да, — кивает Такэо. Лицо у него абсолютно серьезное. — Так что можно смело умножить двадцать пять тысяч на два. Это эпидемия. Даже больше — тенденция… Знаешь, почему так происходит?
Вопрос риторический. Я демонстративно зеваю.
— Мир стал слишком большим для человека. Нам кажется, что мы его контролируем благодаря атомной энергии, электричеству, беспроводным сетям и прочей чепухе. Но, на самом деле, все наоборот. Мы всего лишь винтики гигантской машины… Несмотря на крики борцов за права человека, человеческая жизнь обесценивается с каждым днем. Нас слишком много, мы все почти одинаковы… Исчезновение одного винтика никого не волнует, потому что на его место тут же встанет десять. И каждый винтик постепенно начинает по-настоящему в это верить и переосмысливать ценность собственного существования.
Все это я слышал уже не раз. И был с этим согласен. Не будь Такэо таким мерзавцем, мы могли бы славно поболтать на эту тему. Но оправдывать обыкновенное убийство такими вот объяснениями — занятие бесполезное. Грязная правда лезет изо всех щелей…
А он продолжает:
— Мы живем слишком легко. Раньше при родах выживала в лучшем случае половина младенцев. А до возраста, когда парню завязывали самурайский узел, добиралось процентов тридцать… За жизнь приходилось постоянно бороться, потому она казалась более ценной. Тем, что дается тебе даром, ты вряд ли будешь дорожить. Так и получается с нами. Жизнь обесценилась и в этом смысле. Или, если сказать иначе, спокойная безопасная жизнь привела к тому, что у современных людей подавлен инстинкт выживания…
— Тебе еще не надоело? — спрашиваю я.
— Просто хочу, чтобы ты понял одну важную вещь, которая позволит тебе иначе взглянуть на то, что происходит между мной и теми, кого ты называешь моими клиентами.
— Ты их просто убиваешь, вот и все. Как видишь, ничего сложного нет.
— Слушай дальше, — невозмутимо говорит этот сукин сын. — Но и девальвация жизни — еще не все. Средства массовой информации — самый главный враг современного человека — навязывают нам некий стандарт жизненного успеха, и несоответствие такому стандарту воспринимается каждым придурком как трагедия. Теперь вспомни про дешевизну отдельной человеческой жизни как в обществе, так и в сознании конкретного человека. И ты получишь девчонку, которая вешается из-за плохих оценок в школе.
— Девчонка вешается не из-за плохих оценок, а из-за того, что рядом вертятся такие сволочи, как ты…
— Ну-ну… Между прочим, я такой же продукт нашего общества, как и ты. Винтик, который выполняет свою функцию. Если принять идею, что в нашем прекрасно устроенном мире не бывает ничего лишнего, я — необходимая деталь.
— Это называется избегать ответственности.
— Называй как хочешь, — он пожимает плечами. — Вряд ли твои ярлыки что-то изменят в сути вещи. Если назовешь чашку цветком лотоса, из нее все равно можно будет пить чай. Вернемся к самоубийствам. Все, что я тебе рассказал, — это мнение психологов и социологов. Хочешь знать мое?
— Нет.
— Мы просто таким образом пытаемся избежать перенаселения и последующего вымирания всего вида. Развитие медицины, пацифизм, права человека — все это путь в бездну. Человек убивает себя, чтобы спасти вид, Котаро… Хотя сам думает, что это из-за несчастной любви. Просто работает механизм регуляции численности. Сознательно мы подавляем его работу. Новые вакцины, антивоенные демонстрации, армии психологов, законодательство, в котором уже плохо разбираются даже профессионалы… Все это существует для того, чтобы приостановить работу механизма регуляции численности особей в стае. Но этот механизм не такая штука, которую можно включать и выключать, когда вздумается. Он все равно действует… Не надо забывать, что мы обыкновенные животные, хотя и летаем в космос. Не надо думать, что если мы научились лечить грипп, инстинкты перестают руководить нами. Да, с точки зрения отдельного индивида, я, возможно, поступаю не очень хорошо. Но если говорить о человеке как виде, я вношу свой скромный вклад в спасение человечества от демографической и экологической катастрофы.
Я оборачиваюсь и вижу, что Юрико уже не спит. Она невидящим взглядом смотрит куда-то вперед. Не знаю, слышит она философствования Такэо или нет, но лицо у нее такое, будто она увидела Кролика.
Мы летим вдоль берега. Ночной океан равнодушно плещется в километре от нас. Какое ему дело до четырех высокоразвитых обезьян, засунутых в металлическую коробку, сделанную другими высокоразвитыми обезьянами.
Я постигаю смысл слова «разочарование».
Города мелькают один за другим. Аомори, Госёгавара, Хиросаки, Носиро. Мы огибаем Хонсю и возвращаемся на восток. Но направление движения не меняет ничего. Разве что теперь хребет Оу — слева, а справа — Японское море. Большим разнообразием я бы это не назвал.
Я снова начинаю пить. В каждом городе покупаю большую бутылку виски, даже не обращая внимания на марку, и молча напиваюсь во время очередного перегона. Такэо ругается, что у него запотевают стекла. Он предлагает мне перейти на таблетки, которые глотает Муцуми. Один раз в знак протеста я заблевываю пол в машине. Запросто мог бы сдержаться, но мне хочется хоть как-то выразить свое несогласие с ним. Заканчивается все тем, что он моет машину, остановившись около речушки, а я сплю в стельку пьяный прямо на траве, положив под голову пустую бутылку.
После этого случая никто не хочет сидеть вместе со мной. Я предлагаю высадить меня из машины, а самим отправляться ко всем чертям.
— Так и будет, — холодно отвечает Такэо. — Но не сейчас. Потерпи немного.
Я для чего-то им нужен, это ясно. И они мне нужны. Во всяком случае до тех пор, пока я не придумал, как быть с Юрико и с полицией. Мысль о господине Мураками удерживает меня рядом с этой компанией. Мысль о Юрико заставляет меня спокойно пить виски, пока Такэо уговаривает какого-нибудь парня покончить с собой. Надежда, на то, что мой брат, наконец, позвонит и скажет, что кавалерия спешит на помощь, придает мне сил смириться с моим положением.
После господина Рэя следуют Ватанабэ Масафуми, Куроки Сатору и Кудо Тецунори. Все они — преуспевающие бизнесмены. Более чем… Каждый из них далеко не последний человек в своем городе. Понятия не имею, что заставило их связаться с таким человеком, как Такэо. Когда я их видел, у меня не создавалось впечатления, что они люди с проблемами. Иногда я думаю, что Такэо вовсе необязательно, чтобы к нему обращались за психологической помощью. Он может прийти и сам. А после пары разговоров с ним, ни у кого не возникнет желания попробовать обратиться к другому психологу. Все будет кончено. Осталось выяснить, по какому принципу он сам выбирает себе клиентов.
Однажды, когда мы выезжаем на рассвете из города, в котором только что стало одним бизнесменом меньше, я сворачиваю пробку и говорю:
— Расскажи, как ты это делаешь?
— Что?
— Заставляешь людей убивать себя.
— Я никого не заставляю. Это было бы убийством.
— Хорошо. Как ты добиваешься того, что у человека возникает желание убить себя?
— Вера в свою исключительность — вот в чем штука. Краеугольный камень человеческой личности. Ощущение, что ты особенный и уникальный — основа нашего самосознания. Часть инстинкта выживания, если хочешь. Очередная иллюзия… Если убедить человека в том, что он ничем не примечательная биологическая масса, инстинкт к жизни мигом слабеет. Зато стремление к смерти, заложенное в каждом из нас набирает обороты. Потом достаточно небольшого толчка. Главное, заставить человека поверить, что он никакой не особенный и не единственный в своем роде. Это сложнее всего. Знал бы ты, как люди цепляются за эту идею…
Я подумываю, не заблевать ли ему еще раз машину?
— Как твой страх? Ты продолжаешь анализировать себя? Тогда, в парке, ты ведь кое-что понял, да? Не хочешь рассказать мне об этом?
— Веди лучше машину, — говорю я и отворачиваюсь. Блевать мне не хочется.
— Такэо, останови, — подает голос Муцуми. — У меня начались месячные.
Это — моя жизнь в настоящий момент.
Если верить философам, которые утверждают, что мы существуем лишь в данный конкретный отрезок времени, который называется настоящим, а все остальное — либо воспоминания, либо перспектива, если поверить им, то…
…Это и есть вся моя жизнь. И если кто-то скажет, что она похожа на дерьмо, я с ним соглашусь.
В городе Акита мы планируем задержаться на два дня. Останавливаемся в доме одного из многочисленных поклонников теории Такэо. На глаз я определяю, что жить этому добровольцу осталось совсем недолго. Он уже не верит в свою исключительность. Он уже постиг, что своей смертью поможет будущим поколениям. Он знает, что просто следует естественному ходу вещей и зову природы, засовывая голову в петлю.
Когда он кланяется мне, приглашая войти в дом, я просто делаю глоток прямо из бутылки и протискиваюсь в дверь, толкнув его плечом. Если считаешь себя никчемным куском мяса, приятель, я так и буду к тебе относиться. Такэо сокрушенно качает головой. Да, я трудновоспитуемый тип. И мне это начинает нравиться. Раньше я думал, что настоящая свобода — это возможность жить, сообразуясь исключительно со своими принципами, желаниями и потребностями. Но общение с Такэо позволило мне сделать открытие. Свобода — это полное отсутствие принципов, желаний и потребностей. Если ничего этого у тебя нет — ты можешь плевать на все, в том числе и на самого себя.
Все-таки что-то есть в теории этого психа. Предложи мне кто-нибудь сейчас сыграть в русскую рулетку, рука у меня не дрогнет. Особенно если в другой будет бутылка виски.
Я подхожу к зеркалу в ванной, смотрю на ставшее совершенно чужим лицо и говорю ему:
— Посылай ты все к черту, парень! Никто не стоит того, чтобы быть спасенным. Даже ты…
Я постигаю смысл слова «отрицание».
А вечером Такэо проводит собрание группы суицидоголиков города Акита. Мы с Юрико присутствуем на нем. Муцуми сейчас ловит кайф от своих «колес», сидя в горячей ванне в трех кварталах от того места, где мы сидим на пластмассовых стульчиках и слушаем откровения парня с обожженным лицом. Номер Девяносто Семь. Впрочем, лицом эту маску ужаса назвать сложно. Что-то розово-коричнево-белое с узкой щелью рта и крошечным бугорком носа.
Еще месяц назад я бы посочувствовал ему. Он из тех ребят, которых меньше всего хочется встретить в ночном парке, возвращаясь из кинотеатра с последнего вечернего сеанса. Да, месяц назад я бы с горечью думал о его поломанной в результате идиотского случая судьбе, о грызущем чувстве одиночества, на которое он обречен до конца жизни, о том, что вряд ли можно привыкнуть к тому, что каждый встречный опускает глаза, увидев этот кошмар. Месяц назад я бы рассвирепел, услышав обычное для Такэо:
— Знаешь, все мы, сидящие здесь, органическая масса, стремящаяся к разложению. Почему ты думаешь, что твое уродство делает тебя каким-то особенным? Такое страшилище тоже никому не нужно. Как и мы все. Не строй иллюзий.
Но я не свирепею. Я не проникаюсь сочувствием, не сострадаю, не жалею неудачника. Мне все равно, что с ним будет завтра. Мне все равно, что будет завтра со всеми нами. Я просто подношу бутылку к губам и делаю огромный глоток, а потом громко рыгаю, подводя итог под словами Такэо. Он удивленно смотрит в мою сторону.
Ты ведь тоже не особенный, думаю я. Ты такой же как все, только немного психованнее, чем остальные. Потому-то эти обезьяны внимают тебе. Ты сам попал в ловушку чувства собственной исключительности.
Так думаю я, сидя на стуле в спортивном зале какой-то старшей школы и слушая выступления ребят, отрекшихся от себя.
Потом мы возвращаемся домой, где нас встречает Муцуми со стеклянными глазами. Я поражаюсь, сколько в нее влезает этой химии. У нее уже давно должны были отказать почки.
— Ужин готов, — говорит она, встает на цыпочки и целует Такэо в щеку. Коротенький халатик задирается так, что у меня захватывает дух.
— Жалко, что ты лесбиянка, Муцуми, — говорю я, разглядывая ее ноги.
— А мне жалко, что ты такой мудак, — равнодушно отвечает она и уходит на кухню.
Юрико смотрит на меня так, будто я изнасиловал ее мертвую мать, и скрывается в гостиной. В прихожей остаемся мы с Такэо. Он берет меня за воротник и прижимает к стене.
— Даже не думай о том, чтобы трахнуть мою сестру.
То, что я изображаю, в книгах называется презрительной усмешкой. Я отпиваю из бутылки, хотя рука Такэо давит на горло, и глотать трудно. Этим глотком я подчеркиваю презрительность своей усмешки. Во всяком случае, так мною задумано.
Нет, я вовсе не крутой парень. Я парень, которому чихать на все и всех.
— Слишком много пьешь, — отпуская меня, говорит Такэо.
— Тебе-то что? Следи за своей сестренкой. У нее мозги уже в бульон превратились, наверное…
— Не твое дело.
— Ну, конечно… Скажи-ка мне, зачем твоя сестричка режет картины? Не то чтобы я сильно расстраиваюсь… Просто интересно. Что, тоже какая-то глобальная теория спасения человечества? А, псих?
На грохот падающего тела в холл выходит Муцуми.
— Что случилось?
Упавшее тело, понятно, принадлежит мне. Это я создаю столько шума, ударяясь головой о тумбочку в прихожей.
— Ничего, сестренка. Иди, накрывай на стол, — говорит Такэо, потирая кулак. — Мы сейчас подойдем.
Если я еще не сказал — Такэо служил в силах самообороны. В каком-то спецподразделении. Я прикладываю бутылку к горящей скуле и думаю, что готовили их там неплохо. Конечно, не ниндзя из комиксов, но тоже прилично.
— Вставай, — он протягивает мне руку. И кричит: — Муцуми, достань лед, если он есть!
Ужин проходит в молчании, которое трудно назвать дружеским. Или, к примеру, комфортным. Не скажу, что мы раньше болтали без умолку, делясь впечатлениями за день. Но сейчас атмосфера совсем никуда. Каждый из нас странным образом изменился за эти дни.
Юрико после самоубийства, если его можно так назвать, господина Рэя перестала разговаривать. В общем-то, она и до поездки вела себя тихо. Но молчание молчанию рознь. Тогда было молчание человека, который уже все сказал и добавить к сказанному нечего. Оно и понятно, наверняка Такэо хорошенько промыл ей мозги. Для его идей трудно найти более благодатную почву, чем голова девчонки, едва закончившей школу и мечтающей стать художницей. Что у нее есть? Магазинчик отца, в котором она будет работать, пока не выйдет замуж. А тут сплошная романтика… Такэо умеет преподнести свой бред так, что у людей крышу сносит. Даже солидные люди не смогли противостоять. Что говорить о провинциальной соплячке!
Но сейчас она все меньше напоминает обманутую романтической чепухой дурочку. Сейчас ее молчание — это зреющее внутри решение. Затишье перед очень большим взрывом. Граната с выдернутой чекой. От той тоже ничего хорошего ожидать не приходится, хотя лежит она на земле вполне мирно. Вот так и Юрико. У нее чеку выдернули, похоже, в тот день, когда мы убивали старину Рэя.
Ага, я не оговорился. Именно мы и именно убивали. По-другому это назвать может только отморозок вроде Такэо. Мне плевать на все, и я могу называть вещи своими именами.
Словом, после той замечательной ночи в роскошном особняке Юрико уже вовсе не та Юрико, которую я знал, и даже не та, которую понимал в какой-то степени. Одно обнадеживает — обожания в ее глазах, когда она видит Такэо я больше не замечаю. Правда, точно так же она смотрит и на меня. Но тут все ясно. Я сам не в восторге от парня, которого вижу в зеркале.
Про Муцуми даже не хочется говорить. И антидепрессанты, и нейролептики с седативным действием глотаются ею без всякой системы. Иногда она принимает их одновременно. Одну таблетку, чтобы успокоиться, и тут же другую, чтобы взбодриться. Эффект далек от того и от другого. Она просто впадает в какой-то ступор. Может час просидеть, глядя в одну точку оловянными глазами, никак не реагируя на окружающее. А может трещать без умолку, подскакивая от возбуждения и размахивая руками. Причем делать все это, сидя за рулем. Или в ресторане. Или в каком-нибудь магазине. Она тоже граната. Только не такая тихая, как Юрико. Но рвануть может не хуже… Похудевшая, постаревшая, с бледными поджатыми губами и подрагивающим веком она сидит напротив меня, уставившись в свою чашку с рисом. Ничего хорошего от нее ждать не приходится. Когда придет время убить меня, а оно придет, я в этом не сомневаюсь, она первая схватит пистолет. Не потому, что ненавидит меня. Просто ей хочется хоть один раз вышибить мозги человеку самостоятельно. А не ограничиваться уродованием картин или наблюдением за самоубийцами. Тут я ее раскусил.
Даже Такэо неуловимо изменился. Его проповеди, когда ночью он ведет машину, а я сижу рядом, становятся все длиннее и все путанее. Иногда мне кажется, что он говорит все это только для того, чтобы чем-то занять себя, отвлечься от настоящих, всерьез занимающих его, мыслей. Он говорит и говорит, путаясь, сбиваясь, замолкая в самых неожиданных местах… Это все нервы. Что-то должно скоро произойти. Он это знает и волнуется. Нервы. Еще две недели назад он бы не стал распускать руки из-за пустяка. А сегодня — пожалуйста, я сижу, прикладывая к опухшей скуле полотенце, в которое завернуты кубики льда. Он — еще одна граната.
Такая вот компания сидит за столом, в полном молчании поглощая рис и маринованные овощи. Только один человек не представляет большой опасности — это я. Если уж довести до конца аналогию с гранатами — то я граната, из которой выкрутили запал. Мною можно играть в футбол. Меня можно использовать в качестве грузика для чего-нибудь там, требующего грузика. Единственное, чего нельзя делать — взрывать рядом со мной другую гранату. Таким образом, из нашей милой компании я выбиваюсь несильно. В общем-то, свой человек.
Если взорвется один из нас, сдетонируют остальные. И я взорвусь ничуть не хуже.
Я делаю глоток виски и думаю, что в этот момент всем посторонним лучше находится подальше.
Я постигаю смысл слова «ожидание».
От резкого SOS все подпрыгивают. Похоже, дурные предчувствия не только у меня. Я ожидаю услышать еще одно выступление на тему: «Ты и так зажился на этом свете». Но Такэо после минутного молчания говорит в трубку:
— Спасибо.
И смотрит на нас. В его глазах я впервые вижу легкий намек на беспокойство.
— Собирайтесь, нам нужно сматываться.
— А что случилось? — Муцуми отсчитывает таблетки из упаковки. — Я хотела выспаться…
— Полиция разыскивает черный джип Nissan Patrol с двумя мужчинами и двумя женщинами.
Он произносит это спокойно. Уже успел взять себя в руки. Зато Муцуми реагирует достаточно активно. Бросает в рот горсть «колес», одним махом проглатывает, запивает одним глотком минералки и швыряет стакан в стену.
— Дерьмо! Я хочу наконец выспаться!
— Не шуми, сестренка. Иди одевайся и собирай вещи. Юри, Котаро, вы тоже поторопитесь. Я пока решу вопрос с машиной. Нам действительно нужно поскорее убираться отсюда.
— А к чему такая спешка? — спрашиваю я. — У тебя ведь полно дружков в полиции…
— Котаро, не будь идиотом, очень тебя прошу. Ты так говоришь, будто все полицейские Японии работают на меня. Все гораздо хуже… Те люди, на которых я могу рассчитывать, ничем нам не помогут. Это всего лишь патрульные. А нас разыскивают по подозрению в убийстве господина Рэя…
— Чертов старикашка! — это снова Муцуми. Муцуми, швыряющая посуду с остатками ужина о стены.
Чашка с рисом, взятая у меня из-под носа, с пушечной силой врезается в шкаф и разлетается вдребезги. За ней следует чайник. Блюдо с баклажанами. Соевый соус в фарфоровой плошке… Хозяину предстоит большая уборка, когда он вернется утром с работы.
Настроение у Муцуми испортилось окончательно. Оно и понятно. Быть подозреваемым в соучастии убийства — это не картины резать.
— Успокойся, сестренка. Все будет хорошо.
Я протягиваю пустую бутылку Муцуми, которая бессмысленно шарит по столу в поисках боеприпасов. Бутылка разбивается об угол тумбочки, стоящей в углу. Икебана, стоящая на ней, превращается в посеченный стеклянными осколками бесформенный куст.
— Так лучше? — спрашиваю я.
Знаю, что нужно бы помолчать. Но поделать с собой ничего не могу. Слова сами слетают с языка. Муцуми смотрит куда-то мимо меня. И вдруг начинает плакать. Антидепрессанты не справляются. Так же, как и нейролептики.
— Хватит! — резко говорит Такэо. — Собирайтесь.
Юрико сидит, ссутулившись, никак не реагируя на происходящее. Она даже не вздрогнула, когда за ее спиной разбилась бутылка. Только сейчас я замечаю, что на лице у нее кровь. Один осколок порезал щеку. Но она не замечает тонкой струйки крови, стекающей со щеки на подбородок и оттуда на стол.
Я встаю, подхожу к ней и обнимаю за плечи.
— Пойдем, Юрико, — как можно мягче говорю я. — Тебе нужно умыться.
В ванной Юрико опускает крышку унитаза и садится, запрокинув голову. Я промываю порез. Он довольно глубокий, кровь долго не останавливается. Юрико сидит спокойно, хотя должно здорово щипать. Но она даже не морщится.
— Это из-за меня, — говорит вдруг она.
— Что?
— Полиция. Они ищут нас из-за меня.
— С чего ты взяла?
— Знаю.
— Что ты сделала?
— Неважно.
— А все-таки?
— Неважно.
— И как давно они нас ищут?
Она пожимает плечами. Разговор не клеится. Хотя и столько мы с ней не разговаривали почти месяц. Так что прогресс чувствуется. Я решаю не давить на нее. Мне нужен союзник… На брата, кажется, особенно надеяться не стоит. У него есть дела поважнее — ожидание наследства, судя по всему, отнимает все свободное время.
В ванную входит Такэо. Он уже одет.
— Давайте быстрее, я жду в машине.
Я торопливо заканчиваю оказание первой медицинской помощи. Заклеиваю щеку Юрико пластырем и бросаю окровавленную ватную подушечку прямо на пол. После того, что Муцуми натворила в комнате, это выглядит слишком безобидно. Даже как-то скучно… Я сгребаю все флакончики, пузырьки, коробочки, бутылочки с полки над раковиной и тоже швыряю на светло-голубую напольную плитку. Часть пузырьков разбивается. Но и этого мне кажется мало. Я беру тюбик зубной пасты и выдавливаю на зеркале надпись: «Никто не заслуживает спасения». Иероглифы получаются неуклюжими.
Напоследок я успеваю прихватить с кухни початую бутылку виски и выбегаю на улицу, когда серебристая тойота хозяина дома, за рулем которой теперь сидит Такэо, уже выворачивает на подъездную дорожку.
Я едва успеваю плюхнуться на заднее сидение, и мой знакомый псих вдавливает педаль газа в пол. Голова Муцуми, сидящей рядом, откидывается назад, как у тряпичной куклы. Присмотревшись, я понимаю, что она крепко спит. Можно только позавидовать. Тогда я принимаюсь за свой собственный антидепрессант крепостью сорок два градуса. Мне необходимо отвлечься от мысли, что очень скоро нас ожидают события, по сравнению с которыми весь прошедший месяц — просто хороший веселый отдых.
Глава 20
И все это дерьмо случается, когда мы приезжаем в Цуруока. Серебристая тойота брошена на участке между Акита и Саката. Неизвестный информатор Такэо сообщает, что тойоту тоже разыскивают. Нам приходится поменять ее на старенький субару, принадлежащий еще одному добровольцу. Теперь уже можно смело сказать, что мы в бегах. Скрываемся от полиции. Уходим от погони.
Все это понимают и нервничают сильнее обычного. Практически психуют. Хотя «все» относится, скорее, к славной семейке. Я веду себя поспокойнее. Помогает виски и осознание того, что любой конец этой истории мне не понравится. Тот распространенный случай, когда хеппи-энд невозможен. Меня либо убьют, либо посадят. Если повезет очень сильно, я проведу всю оставшуюся жизнь в подполье, шарахаясь от каждого человека в форме полицейского. Для меня все кончено, и я смирился. Так что особенно не дергаюсь. Это — плюсы свободы от самого себя.
На самом деле, я уже умер. То, что происходит сейчас, — просто мои воспоминания о последних днях. Или сон… Или цветные картинки на экране. Фильм, где в главной роли парень, очень похожий на меня. Сам я давно мертв и думаю о себе, как о мертвом. Уже привык так думать… Мне не верится, что всего пять или шесть недель назад я сидел в запертом на все засовы доме, а Юрико приносила мне еду из магазина напротив. Если это и было, то в прошлой жизни. Неважно, как долго тебя пинают. Важно, как сильно. Иногда достаточно одного серьезного нажима, чтобы человек изменился до неузнаваемости.
Такэо очень хорошо доказывает эту идею. У него потрясающий запатентованный метод ускоренного изменения самосознания индивида. К нему приходит паренек, считающий, что у него есть какие-то личностные проблемы. А уходит без всяких личностных проблем. Если нет личности, откуда взяться проблемам? Психологическая хирургия. Мы не избавляем от проблем. Мы просто аккуратно вырезаем твое замечательное «Я».
По Юрико тоже не скажешь, что она сильно переживает из-за полиции. По ней вообще не скажешь, что она может из-за чего-то переживать. Как моллюск, она захлопнула створки и легла на дно. Иногда я даже забываю о ее существовании, настолько она незаметна. Может быть, это просто способ защиты, не знаю. Разговорить мне ее больше не удается. Я так и не узнал, почему она считает себя виноватой в том, что полиция ищет нас.
Да это и неважно.
Теперь уже ничто не важно.
В Цуруока мы останавливаемся в каком-то доме на самой окраине города. Снаружи дом выглядит так, будто в нем никто не жил лет десять. Изнутри я вижу то, что и ожидал увидеть, глядя на фасад. Пустые комнаты, толстый слой пыли, кое-где паутину и прочие прелести необитаемого жилища. Из всей мебели — рассохшаяся кровать, стол и несколько скрипучих стульев.
— Чей это дом? — спрашиваю я.
— Мой, — говорит Такэо.
Мы бросаем вещи прямо на пол. Муцуми падает на кровать, выбивая из матраса облачко пыли.
— Как же я устала, — стонет она.
— Потерпи сестренка, осталось недолго.
При слове «недолго» в кишках просыпается моя жаба. Она стала еще холоднее и больше…
— Сколько нам здесь торчать?
— Пару дней, сестренка. Может быть, три. Потом все кончится.
Я бросаю взгляд на Юрико. Она стоит перед окном, глядя на сад, который напоминает кусочек сельвы амазонки. Плечи у нее напряжены. Она тоже слышала это «потом все кончится».
— Котаро, — говорит Такэо, разбирая сумку, — хватит пить. Скоро у нас будет гость.
— Что за гость? Опять твой клиент-доброволец?
— Нет.
— А кто?
— Тебе незачем знать. Просто один важный человек.
— Да мне плевать на одного важного человека, — отвечаю я и сажусь на стул, поставив перед собой бутылку. — Я хочу надраться как следует и уснуть.
Это я не из-за желания его позлить. Просто на самом деле жутко хочется напиться.
Такэо достает что-то, завернутое в розовую тряпку и перехваченное тонкой веревкой, и кладет сверток на стол. Сам садится напротив меня и принимается развязывать узелки. Узелки крепкие, ему приходится пустить в ход зубы.
Это «что-то» оказывается сводным братом его любимого Glock’а — самозарядный пистолет S amp;W Sigma 40 P с пластиковой рамкой. Рядом с пистолетом две обоймы и коробочка патронов. А еще — коробка со всякими ершиками, щеточками, пузырек с оружейной смазкой и ветошь. В общем, полный набор для тех, кто любит пострелять по живым мишеням.
Ну да, вспоминаю я, верный Glock остался в костлявой синей руке господина Рэя. А как может бравый парень Такэо обходится без оружия? Что он будет вкладывать в руку трясущимся от ужаса и отчаяния бедолагам?
Такэо разглаживает тряпку, достает из коробки принадлежности для чистки и начинает разбирать пистолет. Между масляными щелчками, сопровождающими отделение одной детали от другой, он говорит:
— На заре человечества за убийство члена общины существовало только одно наказание — смерть. Если ты убил своего сородича, тебя убьют точно так же. И мотив убийства при этом неважен. Сейчас убийцу на какое-то время просто лишают свободы. Как думаешь, почему?… Ладно, можешь не отвечать. Я знаю твой ответ — гуманизм и прочая дребедень.
Клац! Двухрядная никелированная обойма ложится на стол.
— Но это не так. Гуманизм тут ни при чем. В древности жизнь человека представляла собой подлинную ценность. Не только для него, но и для всей общины. Гибель одного из членов племени уменьшала шансы на выживание всего племени. Древний охотник знал, что родичи зависят от него, что его гибель поставит под угрозу жизни еще десятка людей… А что изменится для живущих, если умрешь ты или я? Подумай об этом.
Клац! Такэо передергивает затвор и нажимает на спусковой крючок.
— Сейчас смерть миллиона человек не нарушит даже привычный образ жизни и уровень комфорта остальных членов племени. Нас слишком много, и все мы взаимозаменяемы. То, что преподносится как гуманизм, на самом деле — естественный результат обесценивания жизни отдельного человека.
Клац! Затвор из нержавеющей стали, обработанный мелонитом, отделяется от рамки.
— Раньше убийца карался смертью вовсе не из-за кровожадности судей. Страх перед суровым наказанием должен был остановить человека от нанесения непоправимого ущерба своему роду. Сейчас закон защищает не жертву, а убийцу. Закон говорит: да, парень выпустил кому-то кишки, и, чтобы он больше этим не занимался, мы изолируем его на десять лет от общества. Наказание несоизмеримо с тяжестью преступления. Не находишь это странным? Не думаешь, что здесь есть подвох?
Клац! Звук издает вынимаемый из затвора направляющий стержень с надетой на него возвратной пружиной.
— Страх перед наказанием ослабевает. Значит, решиться на убийство гораздо проще. Таким образом, наш гуманизм идет на пользу убийце, а не жертве. Я охотнее пойду убивать, если знаю, что меня всего лишь посадят. А все потому, что жизнь отдельного человека не представляет больше реальной ценности. Все разговоры о правах человека — пустая болтовня. Ценность жизни сейчас — это соображения философского или морально-этического плана. Пустая теория. Практически, она стоит меньше, чем этот пистолет, с помощью которого я могу ее отнять у кого-то.
Клац! Ствол вынимается из затвора и ложится рядом с остальными деталями на розовую тряпку.
— Пройдет несколько сотен лет и убийство будет поощряться. Конечно, оно будет упорядоченным. Убивать будут не всех подряд, а представителей определенных социальных групп, или национальностей, или вероисповеданий, или половой ориентации. То есть какой-то принцип отбора жертв, безусловно, будет… У нас же правовое, гуманное общество. Никто не позволит пустить дело на самотек. Но факт останется фактом — убийство перестанет быть преступлением. Возможно, заниматься этим будут специалисты-профессионалы, возможно, убийца — станет выборной должностью, а может быть, это будет доступное простым людям развлечение — получил лицензию и вперед. Все идет именно к этому.
Такэо принимается протирать детали ветошью, пропитанной оружейной смазкой. Неторопливо, плавно, бережно… Я бы сказал — любя. Чем-то все это напоминает мне половой акт.
— Перенаселение, окончательная замена человеческого труда машинами, истощение природных ресурсов, дальнейшая гуманизация общества — все это приведет к тому, что жизнь обесценится совсем. Представь себе мир, где правительство вынуждено проводить регулярные зачистки в городских трущобах. Мир, где любимая забава элиты — сафари в районах для бедных. Мир насильственных абортов и умерщвления младенцев с ДНК, не соответствующим стандартам.
Клац! Чистый смазанный ствол четко встает на свое место…
— Ты бы хотел, чтобы твои дети жили так?
Он кладет собранный пистолет перед собой, достает Camel и закуривает. За окном уже темнеет и тени, которые отбрасываем мы, медленно тают, сливаются с той, большой темнотой.
— Ты часто спрашивал, чего я добиваюсь, чего хочу… Так вот я хочу, чтобы мир, о котором я тебе рассказал, остался лишь страшной фантазией. Убивая кого-то, я борюсь за возвращение человеческой жизни ее первоначальной ценности. Я не спасаю человечество, я спасаю человека.
Он замолкает, и в наступившей тишине слышно, как посапывает во сне Муцуми.
Юрико отрывается от окна и направляется к двери. Она ступает почти неслышно. Этакое ссутулившееся привидение.
— Ты куда? — спрашивает Такэо.
— Хочу покурить. Сигареты остались в куртке, — не останавливаясь, отвечает она.
От ее голоса у меня по спине бегут мурашки. Это тихий шелест сухих листьев на осеннем ветру. Это далекое многократно повторенное эхо. Это голос призрака.
Я постигаю смысл слова «предчувствие».
Гость, о котором говорил Такэо, — упакованный в строгий деловой костюм мужчина лет сорока. По виду — типичный юрист или чиновник. Собранный, прямой, серьезный, как диагноз «рак пищевода». На ослепительно-белый воротничок сорочки больно смотреть. Он садится за стол, брезгливо протерев его синим шелковым платком, и кладет перед собой черную кожаную папку. Ее простота тянет тысяч на триста.
— Итак, Ито Котаро это вы? — сухо говорит он, глядя на меня. Взгляд настолько тяжелый, что мне трудно даже поднести ко рту бутылку.
— Ну да, — отвечаю.
— У вас есть какие-нибудь документы, подтверждающие вашу личность?
— Ну да.
— Вы не могли бы показать мне их?
Я чувствую себя, как на допросе. Даже хуже. Там хоть ты понимаешь, в чем дело и чего от тебя в конечном счете хотят.
— Зачем?
— Котаро, покажи господину Ямаде свои документы, — подает голос Такэо, который стоит, прислонившись к дверному косяку, и не сводит с меня глаз.
— Не покажу, пока мне не объяснят, зачем.
Господин Ямада вопросительно и немного раздраженно смотрит на Такэо. Ну да, судя по виду и манере держаться, каждая минута его времени стоит столько же, сколько субару, стоящая во дворе.
— Ты являешься наследником одного очень богатого человека, Котаро. Вернее, станешь им, если сможешь подтвердить свою личность здесь и сейчас. Господин Ямада прибыл сюда специально для того, чтобы убедиться, что ты — это ты.
— Какое наследство, что ты несешь?!
— Считай это приятным сюрпризом…
Господин Ямада уже не скрывая раздражения смотрит на золотые часы от Tissot.
— Я не…
— Слушай, Котаро… Не усложняй и без того непростую ситуацию. От тебя требуется только показать свои документы. Права, там, или еще что-нибудь… Это ведь не такая большая проблема, верно? Ты показываешь документы, господин Ямада смотрит на них и уходит, а мы остаемся и я отвечаю тебе на все вопросы. Идет? Ты ведь сам хотел, чтобы все это закончилось. Вот оно и заканчивается… Теперь задерживаешь всех ты.
По его глазам я вижу, что мне лучше согласиться. Не в том смысле, что он меня напугал. Взгляд у него совершенно открытый и искренний. Вполне возможно, что он действительно расскажет мне кое-что интересное. Кто знает? Психи ведь тоже иногда способны на хорошие поступки. К тому же, показать кому-то свои документы — не самая трудная вещь в мире. Пустяк, который не может иметь плохих последствий.
Конечно, был бы я чуть трезвее, такая чушь вряд ли пришла бы мне в голову. Но бутылка наполовину пуста, а я лезу в нагрудный карман своей рубашки, чтобы дать им то, чего они так хотят. О, да! В надежде на то, что все закончится хорошо. Просто приятный сюрприз от доброго паренька по имени Такэо. Небольшая формальность перед тем, как стать счастливым. Крошечная уступка из-за желания удовлетворить свое любопытство.
Все это — очередная лажа, на которую я купился.
Но понимаю я это не сразу. Понимаю я это только когда господин Ямада, подписав с десяток каких-то бумажек уходит, оставляя меня наедине с тремя взведенными гранатами.
— Ну, и что это значит? — спрашиваю я.
— То, что ты слышал. На тебя составлено завещание… Твой дядя умер, прими мои соболезнования. Милый старик, не самый бедный человек в Японии, завещал тебе кое-что из своего добра. Вернее, тебе и твоему младшему брату Ито Ясукадзу.
Такэо вынимает пистолет из-за пояса джинсов, садится напротив меня и кладет ствол перед собой. Отличное начало разговора. Хотя, может быть, пистолет просто натер ему поясницу.
Муцуми поднимается с кровати и присаживается к нам. Все в сборе. За столом не хватает только Юрико, которая стоит у двери, прислонившись к стене. В одном шаге правее от того места, где стоял Такэо, пока у нас был гость Ямада. Надо бы ей тоже присесть. Кажется, настало время кое-что прояснить окончательно.
Хотя часть этого «кое-что» мне понятна и так. Элементарные вещи, вроде того, что дядя умер, и мне, возможно, не придется воровать в магазинах банки с консервированной фасолью. Представляю, как сейчас радуется мой брат! Наверное, отправился отмечать событие в Макдоналдс…
Все это очевидно и очень просто. Но не может дать мне ответа на один очень важный вопрос: при чем здесь Такэо и его сестричка?
Одно я знаю точно — устраивать вечеринку, чтобы спрыснуть внезапно отвалившуюся халяву, еще рановато.
— Наверное, я чего-то не понимаю, да? — спрашиваю я.
— Конечно, нет, Котаро, — ухмыляется он. — Нет и никогда ничего не понимал. Скажу даже больше — скорее всего, никогда и не поймешь. Я же говорил тебе — задавай поменьше вопросов. От них не бывает толку…
— Теперь нам хватит денег, чтобы отойти от дел, — мечтательно говорит Муцуми, полируя ноготь указательного пальца.
— Муцуми!
Этот резкий окрик отчасти проясняет дело.
Да, я помню его деловые разговоры по телефону. Помню короткие звонки после посещения очередного бизнесмена-добровольца. В памяти всплывает то, как он профессионально обыскивал кабинеты этих людей, пока их тела остывали в соседней комнате. Какие-то бумаги, взятые из их столов. Те же бумаги, исчезающие из машины во время очередной остановки около какого-нибудь отеля. Я вспоминаю еще кучу мелочей, на которые раньше просто не обращал внимания. Для меня он был обыкновенным свихнувшимся парнем с синдромом сверхценных идей…
— А что, я что-то не так сказала? — она поднимает на него свои глаза с расширенными зрачками.
— Ты дура, Муцуми.
— Не смей так со мной разговаривать! — визгливо отвечает она и швыряет пилку для ногтей на пол.
Хорошо, что на столе нет посуды.
И очень плохо, что на столе лежит заряженный пистолет. Ссора двух психов — не та ситуация, при которой наличие огнестрельного оружия является желательным.
Такэо тяжело вздыхает и встает из-за стола. Мне кажется, что он сейчас ударит ее. Но он просто начинает расхаживать по комнате, скрестив на груди руки. Пистолет он сует в карман джинсов, и я чувствую облегчение.
— Сколько тебе отстегнули за самоубийство господина Рэя? — говорю я. — Сколько тебе заплатили за Ватанабэ, Куроки, Кудо? Все россказни про ценность человеческой жизни — это для того, чтобы запудрить мне мозги, да? А на самом деле — просто бизнес…
— Ты опять мыслишь по шаблону, Котаро. Я так и не сумел тебя ничему научить. Жаль… Так и умрешь идиотом. Тебе не обидно?
— Умереть идиотом или вообще умереть?
— И то, и другое.
— Нет, не обидно. Если хочешь знать, мне плевать.
Играю я? Или это правда?
Не знаю. Я прислушиваюсь к себе и не слышу ответа. Все слишком нереально, слишком гротескно, чтобы воспринимать это всерьез. И я, на самом деле, ничего не чувствую. Полная внутренняя тишина.
Возможно, это и есть дзен. Возможно, это — просветление.
— Плевать? Что ж, тем лучше… Тогда у нас не возникнет проблем. Подпиши одну бумагу, и мы расстанемся друзьями.
— Что за бумага?
— Отказ от наследства в пользу твоего младшего брата Ясукадзу.
— Вот оно что… Подожди, вы знакомы?
— Не будь таким тупоголовым, Котаро… Ты и сам все знаешь, нечего спрашивать.
О, да… Похоже, знаю. Но мне понадобится машина времени, чтобы сделать несколько визитов в прошлое и под другим углом посмотреть на то, что происходило там.
Пожалуйста, не курите и пристегните ремни…
Я переношусь в тот день, когда мой любимый младший братишка Ясукадзу впервые заводит разговор о наследстве. Когда я, одуревший от счастья будущий папаша и любящий муж, слушаю своего братца в летнем кафе, и его мечты кажутся мне чем-то вроде сказок про Тануки*. Забавно и наивно. И так же глупо.
* Енотовидные собаки. Популярные герои детских песенок, сказок и легенд, не особенно умные непоседливые создания, безуспешно пытающиеся подшутить над людьми.
Я переношусь назад по времени, в тот день, когда моя беременная жена садится в BMW, а я на автобусе отправляюсь встречать брата, который так и не приехал. Который и не должен был приехать. Который обеспечивал себе железное алиби в Токио, пока какой-то подонок откручивал болты на переднем правом колесе. Все пять штук. Один за другим. Наверняка, надев перед этим рабочие рукавицы.
Я делаю скачок на целый год и переношусь в тот момент, когда рассказываю брату об исчезновении Юрико. И, что гораздо интереснее для него, — о неизвестном специалисте, который отправляет людей на тот свет весьма оригинальным способом. Оригинальным и гарантирующим отсутствие проблем с полицией впоследствии.
И вот я уже достаточно близко к той точке во времени, которое можно обозначить как настоящее. Близко, совсем близко… В этом недавнем прошлом я рассказываю моему брату о Тецуо. О парне, который знает, где можно найти того самого специалиста.
Теперь мне понятно, почему брат попросил подождать с деньгами. Для Ясукадзу пятьсот тысяч — не та сумма, которую нужно собирать в течение двух дней. А поняв это, я понимаю, и кто убил счастливую семью Куроки. И кто пустил полицию по моему следу.
Путешествие заканчивается. Остается лишь одна коротенькая остановка. Момент, когда я разговариваю с братом, скорчившись под одеялом на втором этаже дома Судзуки Муцуми. «Веди себя потише, не нарывайся сам на неприятности… И держись поближе к этому психу» — говорит мне сукин сын. И я ему верю. Я надеюсь на помощь человека, который, желая убить меня, убил мою беременную жену, а поняв, что промахнулся, нанял киллера, чтобы сделать вторую попытку.
Единственное темное пятно — записная книжка Юрико и то, как она попала в квартиру мертвого Тецуо.
Но если хорошенько подумать, можно ответить и на этот вопрос.
Дамы и господа, наше путешествие подошло к концу. Не забывайте, пожалуйста, свои вещи. Температура за бортом тысяча градусов по Цельсию, влажность сто процентов, обстановка накалена до предела. Спасибо, что воспользовались услугами компании «Разбитое сердце». Приятного пребывания в настоящем, придурки!
Да, в свете последних событий мое прошлое меняется кардинальным образом. В свете последних событий мое прошлое намного хуже, чем я думал.
— И что теперь? — спрашиваю я, сидя за старым столом в пыльной комнате, окруженный психами и убийцами.
— Теперь все просто. Подписывай отказ в пользу своего брата.
— Сколько он заплатил тебе? И… Неужели Юрико с тобой заодно? Та записная книжка… Ее ведь ты подбросил, да? Ты или он? Или сама Юрико?
— Я тебя понимаю. Во всех книгах, которые ты прочитал, во всех дрянных фильмах, которые ты посмотрел, главный злодей всегда рассказывает в конце, как было дело. В самых бездарных концовках у героя в кармане при этом лежит диктофон. Иллюзии… Мы подгоняем свою жизнь под стандарты, увиденные в кино. Мы всерьез верим, что именно там и показана настоящая жизнь… И всегда ждем до последнего момента, что вот-вот появится полиция или добрый супермен и всех спасет. Выброси из головы. Подписывай бумагу и ставь свою печать…
Вот здесь он прав. Впервые за все время нашего знакомства я готов с ним полностью согласиться. Я надеюсь, что он мне все объяснит, а потом я услышу вой полицейских сирен. Правда, диктофона у меня нет, но это допустимое изменение сюжета.
И в то же время холодный голос Такэо убеждает меня в том, что ничего подобного не произойдет. Я подпишу бумагу, а потом мне пустят пулю в лоб. И я умру, так ничего до конца и не поняв. Умру с кучей вопросов.
Наверное, так и бывает в жизни. Наверное, это и есть жизнь.
Ты появляешься на свет в результате случайного стечения обстоятельств. Никто не спрашивает твоего желания. Никто не интересуется, нужен ли тебе этот мир. Просто получаешь хорошего пинка и выползаешь в неизвестность. Потом череда необъяснимых событий, встреч, разговоров, расставаний, новых встреч и новых разговоров ведет тебя куда-то. И остается лишь следовать естественному ходу событий, убеждая себя, что ты хоть как-то контролируешь ситуацию. Ты знаешь, что так или иначе все кончится. Это единственное подлинное знание, которое тебе дается в жизни. Но ты понятия не имеешь, ради чего все начиналось. А потом умираешь, так и не поняв, был ли какой-то смысл в этом. Под сомнением сам факт существования какого-либо смысла.
Ответ на все вопросы в конце истории — очередная иллюзия, созданная теми, кто на самом деле так же как и ты не в состоянии ответить ни на один из вопросов. Законы детективного жанра не действуют в реальности. Все гораздо проще — тебя убивают и все. Никаких разговоров, никаких суперменов. Только законы физики, по которым пуля покидает канал ствола. Только законы механики, по которым срабатывает ударно-спусковой механизм. И в заключение — голая биология с такими же неумолимыми законами.
В конце истории тебя ожидает не разгадка, а короткая вспышка в мозгу, за которой следует агония, трупное окоченение, трупное высыхание, перераспределение крови, трупные пятна и трупное разложение. Это твоя единственная перспектива, когда человек с пистолетом в руке решает, что пора ставить в истории точку.
У меня нет даже альтернативы.
— Пиши отказ, Котаро. Давай закончим с этим сегодня. Я уже хочу спать. Муцуми тоже… Да и ты, наверное, устал.
Я смотрю на Юрико, стоящую за спиной Такэо ко мне лицом. Я надеюсь увидеть в ее глазах сочувствие. Я хочу увидеть там сожаление. Я хочу найти там поддержку и сострадание.
Но она полирует ногти кусочком мягкой замши. Полирует ногти кусочком замши. Полирует ногти кусочком замши…
Вместе с Муцуми они делают величайшее дело своей жизни — приводят в порядок свои ногти. Может быть, они по-своему правы. Если никто не заслуживает того, чтобы быть спасенным, абсолютно все равно, что ты делаешь в данный конкретный момент своей жизни и чужой смерти.
При гарантированном отсутствии ответа на вопрос: «Зачем?» — все действия одинаково бессмысленны. И одинаково наполнены смыслом до краев.
— Подписывай, Котаро. Не думай, что ты особенный… Все умирают, ломая голову, почему так вышло.
И снова он прав. Я не особенный. Мои исключительные идеи, мои эксклюзивные желания, мои индивидуальные мечты, мои единственные и неповторимые надежды — ничто не отзовется эхом в вечности. Так же, как миллиарды чужих идей, желаний, мечтаний и надежд. Мои мозги вмиг лишатся своей индивидуальности и эксклюзивности, когда окажутся размазанными по стене.
Я постигаю смысл слова «никто».
Я чувствую запах Кролика. На этот раз он пришел за мной. Хрум-хрум! Эй, Кролик, я твоя мясная морковка…
— Ну? — Такэо подходит к столу и подталкивает ко мне стволом пистолета лист, испещренный иероглифами, и одноразовую ручку. — Давай не тяни.
— Правда, Котаро, — капризно выпячивает нижнюю губу Муцуми, — мы все устали. Подписывай быстрее…
Перед ней флакончики с лаком для ногтей. Синий, зеленый и красный. Высунув от усердия нежно-розовый кончик языка, она проводит кисточкой по ногтю большого пальца. Кисточка оставляет четкую красную полоску.
— Ты могла бы оторваться от своих поганых ногтей, когда говоришь мне это? — спрашиваю я.
— Какая разница, как я тебе это говорю? — она все-таки смотрит на меня.
— Ты сука, — говорю я. — Чокнутая сука-наркоманка.
— Что еще?
— Ты, — поворачиваюсь я к Такэо, — тоже псих. Чокнутый наемный убийца, пытающийся подвести мораль под свое дерьмовое занятие. Не очень изобретательно, кстати.
— Все сказал?
— Нет.
— Подписывай и ставь печать. Хватит болтать.
Я беру ручку и придвигаю бумагу.
В кино парень порвал бы к чертям бумажку и бросил клочки в лицо Такэо. Несколько секунд я борюсь с соблазном именно так и сделать.
Кто-то скажет, что так и надо сделать, что это сможет изменить ситуацию. Я отвечу: при отсутствии перспективы бессмертия изменяй свой хрен, парень. Истинный смысл отрицания не в возможности говорить «нет». А в отрицании самой возможности отрицания. Таким образом, абсолютное отрицание — полное отсутствие свободы. Или смерть. Смерть как отрицание бытия…
Если уж ты решил опротестовать решение Такэо, просто умри. Это и будет подлинным отрицанием того дерьма, которое он вытворяет. Так думаю я, машинально щелкая кнопкой шариковой ручки.
И все-таки инстинкт самосохранения, от которого невозможно избавиться путем экзистенциальных размышлений, заставляет меня сказать:
— А если я пошлю тебя в задницу с этой бумагой? Как тебе перспектива пролететь с выполнением заказа? Как тебе понравится крах твоих надежд на скорое завершение карьеры наемного убийцы?
Он молча подходит к Юрико и приставляет пистолет к ее виску. Та продолжает полировать ногти кусочком замши.
— А как тебе перспектива увидеть ее мозги у себя на брюках? — спрашивает Такэо.
— Ты для этого и таскал ее с собой? Просто нужен был заложник?
— Думай, как хочешь. Только недолго. Считать до трех я тоже не буду. Еще одна глупость из фильмов… Подписывай и ставь печать.
— Почему ты не хочешь отпустить нас с Юрико после того, как я подпишу эти чертовы бумаги? Зачем тебе меня убивать?
— Ничего личного, Ито-сан. Просто контракт есть контракт. Это бизнес, и все… У меня, знаешь ли, принцип — выполнять то, за что получил деньги. И послушай, — морщится он, — не порти впечатление о себе попытками выторговать несколько лет жизни. Ты казался мне хорошим парнем, так не превращайся в подобие своего братца.
— Тогда какого черта ты тянул время? Почему сразу не пристрелил меня? — это вопрос, ответ на который я знаю. Но сейчас каждое сказанное слово — не информация, а отвоеванная у вечности секунда.
— Во-первых, бумаги не были готовы. А во-вторых, я говорил тебе уже сотню раз — я не убиваю людей. Еще один принцип. Все мои клиенты уходят из жизни добровольно.
— Ага, — говорю.
— Ты и сам видел. Я ни в кого не стрелял, ни в кого не втыкал нож. Они добровольцы, Котаро, и нечего хмыкать.
— Я тоже должен буду пустить себе пулю в лоб? Ты этого от меня ждешь?
— Нет, конечно. С тобой вышла промашка. Форс-мажорные обстоятельства, если можно так выразиться. У меня, к сожалению, не осталось времени… Так что правило придется нарушить. Впервые, кстати… Ты вообще особенный случай. Я буду о тебе вспоминать. И Муцуми будет… Правда, Муцуми?
Она кивает, полируя ноготь.
— Ох, как это лестно…
Все мы когда-нибудь умрем. Нет смысла вести себя так, будто собрался жить вечно. Если пришло время — умри, вот и все, что ты можешь сделать. Умереть можно хорошим парнем и плохим парнем. Но в конечном счете, эти понятия перестают существовать вместе с тобой. Когда прекращается мозговая деятельность проблема выбора теряет актуальность.
Если он убьет сейчас Юрико, несколько минут я побуду плохим парнем. Если подпишу бумагу, несколько минут побуду хорошим парнем. В конце концов, я буду мертвым парнем. Не хорошим, не плохим, а просто мертвым. Вне категорий добра и зла. Вне каких бы то ни было категорий.
Любое мое действие будет верным. И любое мое действие будет ошибочным. Но только до тех пор, пока я жив. В смерти мы все становимся непогрешимыми. Есть к чему стремиться…
Кончик стержня, испачканный синими чернилами, зависает в двух сантиметрах от листа бумаги. И тут Такэо, присаживаясь на край стола, говорит:
— Не знаю, утешит ли это тебя… Но я все-таки скажу. Ты мне понравился, поэтому открою тебе одну маленькую тайну. Быть может, она как-то скрасит твои последние минуты. Я решил отойти от дел, закончить свою карьеру… Мы с Муцуми устали от такой жизни. Постоянные разъезды, постоянная нервотрепка… Пора подумать об уютном домике где-нибудь на берегу океана. Но для этого, как ты сам понимаешь, нужны деньги. Большие деньги… Вроде тех, которые получит твой брат после того, как ты подпишешь бумаги. Так вот, плохая новость — ты скоро умрешь. Но есть хорошая новость — после такого печального для тебя события я отправлюсь в Токио и навещу твоего брата. Он, кстати, сволочь. Мне даже немного жаль, что не ты заказал его, а он тебя. Если бы ты слышал, как он торговался…
Да. Для меня это, действительно, хорошая новость. Если, конечно, в подобной ситуации вообще можно говорить о хороших новостях.
Очень жаль, что я не увижу лицо Ясукадзу, когда к его башке приставят пистолет.
Сейчас это единственное, чего мне по-настоящему жаль.
И я вывожу на листе бумаги иероглифы, подтверждающие, что я ознакомлен и согласен со всем, что говорится в документе, что я подтверждаю все, что там сказано и не имею никаких возражений. Я подписываю смертный приговор себе и человеку, которого ненавижу больше, чем кого бы то ни было.
Муцуми с кисточкой в руке следит за тем, как стержень скользит по бумаге. Краем глаза я замечаю, что с кисточки срывает капля и падает на стол. Там, где она упала, вырастает крошечный зеленый холмик. Такэо сопит у меня за плечом, вчитываясь в то, что я пишу. Странно, что Юрико не подошла поглядеть, что и как. Ну да, понятно, маникюр важнее…
Перед тем, как поставить свою печать, я обвожу глазами комнату. Я знаю, что после того, как оттиск с фамилией появится на бумаге, счет моей жизни пойдет на секунды. Осознавать это очень странно. Как-то до конца не верится, если честно. Раз и все… Никаких тебе утренних новостей по радио.
Когда мой взгляд падает на окно, я подпрыгиваю на стуле. Оттуда на меня смотрит Кролик. Но вздрагиваю я не от этого. Как-то уже успел привыкнуть к нему… Шокирует то, что он здорово изменился в размерах. Теперь виден не один огромный глаз, а весь кролик целиком. Он размером с собаку. Стоит на задних лапах, совсем как пес, положив передние на подоконник с наружной стороны и заглядывает в комнату. Уши с черными кончиками прижаты к спине, а розовый нос уткнулся в стекло. Выглядит довольно забавно. Если бы не Такэо с пистолетом, стоящий рядом, я бы от души посмеялся…
Я думаю, что отгрызть голову для него теперь будет не так-то просто. Мясная морковка великовата для такой пасти. Одним «хрум!» дело не ограничится. Придется повозиться… А может, он стал вегетарианцем? Я подмигиваю ему, наплевав на то, что подумают мои знакомые психи. В ответ он подмигивает мне. Подмигивает так весело и дружелюбно, что мне вдруг становится легко и спокойно.
Махнув на прощание лапой, мой кролик отлепляется от окна и исчезает в темноте. А я одним коротким движением руки, вооруженной лишь печатью с моей фамилией, ставлю точку в этой нелепой истории.
— Молодец! — говорит Такэо и выхватывает у меня из-под носа бумагу. Пробегает ее глазами и, удовлетворенно кивнув, прячет в задний карман.
— Все в порядке? — спрашивает Муцуми, малюя синюю полоску на ногте.
— Да, сестренка, все в порядке.
— У меня один вопрос, — говорю я, пытаясь сделать невозможное — украсть несколько секунд у вечности. — Помнишь, ты спрашивал меня про то, зачем нам нужен сон? Объясни. Я так и не понял.
— Эволюция, которая сделала нам такой экстраординарный подарок, как физическая смерть, позаботилась о том, чтобы мы получили представление о ней еще при жизни. Она дала нам сон как своеобразную модель того состояния, к которому мы стремимся от рождения. Если ты сталкиваешься со смертью каждую ночь, должен перестать бояться этого состояния, привыкнуть к нему. Это даст тебе возможность сосредоточиться на более важных делах, чем бестолковый страх перед неизбежным концом. Эволюция дала нам смерть, но дала и лекарство против страха перед смертью. Такое вот вывернутое наизнанку милосердие.
— Ага, — чувствую, что те сотни часов, которые я, по теории Такэо, готовился к смерти, прошли впустую. — Очень умно.
Такэо достает пистолет, передергивает затвор и приставляет ствол к моему лбу.
— Счастливо, Котаро, — говорит он. — Если хочешь, можешь сделать это сам. Только без дураков…
— Ой! — вскакивает Муцуми. — Подожди, подожди! А можно я? Я хочу попробовать!
— Ты не против? — спрашивает меня Такэо.
Он большой любитель риторических вопросов. Но я все же отвечаю, хотя мой ответ уже ничто не сможет изменить. Я говорю:
— Валяйте. Дай своей чокнутой сестренке пристрелить меня… А то она уже, наверное, заскучала. Резать чужие картины не так интересно, правда, Муцуми?
— Ты к ней несправедлив… Он начала со своей картины, когда поняла, что настоящая смерть выглядит гораздо величественнее, чем ее малюют всякие бездари. — Он протягивает пистолет Муцуми: — Держи, сестренка. Приставь ко лбу и нажми вот сюда…
— Не делай из меня дуру, Такэо. Я сама прекрасно все знаю.
Говорят, за мгновение до смерти человек вспоминает свою жизнь. Байки. Мне в лоб упирается прохладный, пахнущий оружейной смазкой ствол Sigma 40 P. А я смотрю на палец, лежащий на спусковом крючке. Мне приходится скосить глаза. Палец слишком близко. Сине-зелено-красный ноготь. Маникюр в стиле nail-art. Я смотрю на ноготь и думаю, что такие цвета могла выбрать только полная дура.
Железо давит на ту точку, где у просветленных парней обычно рисуют третий глаз. Через секунду мои мозги окажутся на стене. А мне не дает покоя ее лак для ногтей.
Может быть, воспоминания придут позже. Когда ее палец приведет в действие ударно-спусковой механизм пистолета.
Боек бьет по капсюлю, порох воспламеняется, выталкивает из гильзы пулю со стальным сердечником, та проходит по каналу ствола, крутнувшись вокруг своей оси, и, как буравчик, вкручивается в череп.
Возможно, в этот миг я и вспомню свою жизнь…
— Бэнг-бэнг — говорит она.
При выстреле в упор на коже остаются следы пороха. Во лбу у меня будет аккуратная дырка, а по краям — обожженная пороховыми газами кожа. На стене — красно-серая клякса с белыми осколками кости… Тоже своеобразный nail-art.
— Как тебе это понравится? — спрашивает она.
Это мой коан.
Те, у кого открылся третий глаз, сидят на цветке лотоса… Почему бы нет? Не исключено, что все мы в момент смерти становимся просветленными. Нет никого, кто бы это опроверг.
— Меня ждет цветок лотоса, — говорю я.
Бэнг-бэнг…
Красивое, почти безупречное лицо Муцуми, которое я ненавидел с момента нашего знакомства, вдруг превращается в огромный ярко-красный цветок. Так распускается бутон на ускоренной съемке.
По моим щекам стекает что-то теплое. А Судзуки Муцуми с пурпурным цветком-мутантом вместо головы оседает на пол. В звенящей тишине раздается тяжелый глухой звук падающего тела.
В проеме двери стоит девушка по имени Кобаяси Юрико, сжимая в руке пистолет Glock 26, тот самый, из которого господин Рэй пустил себе пулю в лоб. Ствол пистолета, смотрящий в мою сторону, немного подрагивает.
Краем глаза я замечаю слева какое-то движение, и ствол пистолет мгновенно перемещается в ту сторону. Такэо замирает растопырив руки, как футбольный вратарь. Лицо у него донельзя растерянное. Ну да, одно дело — бить человека и совсем другое — бросаться с голыми руками на пистолет, из которого только что разнесли голову твоей сестре. Даже ветеран спецподразделения на какое-то время растеряется.
Вот чувство, которое я испытываю в первый миг своей новой жизни, — злорадство. Можно сказать, мстительная радость. Можно сказать, злобное пьянящее торжество. Посмотрим, как ты выкрутишься, мой дорогой псих.
— Юри-тян, что ты наделала? — говорит он.
Я хочу крикнуть ей, чтобы она не слушала его, чтобы просто выстрелила ему в башку… И черт с ними, с ответами на мои вопросы. Пусть я умру, так ничего и не поняв, но умру не в этой убогой комнатушке от руки какого-то свихнувшегося придурка.
Я хочу крикнуть, чтобы она стреляла немедленно, иначе он прикончит и ее тоже. И плевать на то, что у этой истории получится такой скомканный конец… Я хочу крикнуть, но не могу даже вздохнуть.
Просто сижу с открытым ртом и таращу глаза на пистолет в руке Юрико, который почему-то не стреляет.
— Зачем? Юрико, ответь мне, зачем?
Пока Такэо не двигается с места. Но я уже вижу, что он приходит в себя. Еще минута — и он начнет действовать. И тогда у нас не будет никаких шансов.
«Смит и Вессон», из которого меня должна была убить Муцуми, по-прежнему зажат в ее руке. В бледной, ставшей вдруг полупрозрачной руке, будто вылепленной из воска. И даже тщательно сделанный маникюр уже не в состоянии сделать руку более привлекательной. Наоборот, создается впечатление, что какой-то шутник прилепил на кукольные пальцы непомерно большие и яркие кусочки пластмассы, пытаясь придать им большее сходство с человеческими, но добился противоположного эффекта. Именно из-за этих ногтей рука кажется еще более неестественной. Она не похожа даже на руку трупа.
Эй, говорю я себе, очнись! При чем здесь ногти Муцуми? Тебе нужен ее пистолет. Просто нагнись и вытащи его из этих жутких пальцев. И тогда, возможно, ваши шансы с Такэо уравняются.
Дельный совет. Но как и любой другой совет, он хорош для того, кто его дал. То есть для крошечной части моего сознания, которая может только отстраненно наблюдать за ситуацией и истерично вопить. Часть мозга, способная отдать команду телу, все еще в отключке.
— Юри-тян, успокойся и отдай мне пистолет, — говорит Такэо.
Так в фильмах полицейские разговаривают с неуравновешенными подростками или женщинами, находящимися в шоке, когда у них в руках оружие, готовое выстрелить. Таким же тоном говорят со стоящими на краю крыши отчаявшимися девчонками, типа: «Постой, тебе есть для чего жить».
— Юрико, все будет хорошо, только опусти пистолет, — повторяет Такэо.
«Да сделай же ты что-нибудь!» — вопит кусочек моего сознания. Такэо делает небольшой шажок к Юрико.
— Вспомни все, о чем мы говорили, Юри-тян, — бубнит он, — просто вспомни. Я не сержусь на тебя из-за Муцуми, честное слово. Просто отдай мне пистолет, и мы уедем отсюда… Вместе. Ты и я. Мы скоро станем богатыми и сможем продолжить наше дело…
Еще полшага. Между ними остается не больше двух метров. Вот-вот он бросится вперед, и все будет кончено. Я подаюсь вперед, я открываю рот, я заставляю разжаться пальцы, вцепившиеся мертвой хваткой в стул… Но все это происходит настолько медленно, что Такэо успевает сократить расстояние еще на двадцать сантиметров.
Вот сейчас…
— Такэо, — вдруг говорит Юрико с совершенно неуместной иронией. — Такэо, почему ты думаешь, что с тобой будет все, как в кино?
И ее голос, напоминающий позвякивание льдинок в бокале, наполненном очень дорогим виски, окончательно приводит меня в кондицию. Я вырываю пистолет из скрюченных пальцев мертвой женщины по имени Судзуки Муцуми и встаю, держа его так, чтобы ствол смотрел прямо в затылок Такэо.
— Эй, — сиплю я. — Обернись, Такэо. Как ты там говорил? Хеппи-энда не будет? Ты был абсолютно прав…
Первый выстрел отбрасывает Такэо обратно к стене. Второй — заставляет подпрыгнуть и судорожно взмахнуть руками. Третий — прижать руки к животу и сползти по стене на пол, оставляя за собой на обоях широкую красную полосу.
Из-за стола, разделяющего нас, я вижу только его ноги, обутые в черные с синими полосками кроссовки Nike. Ноги совершают замысловатые движения, будто Такэо лежа танцует джигу. Танец продолжается недолго — минуту или чуть больше. Мы с Юрико не отрываем глаз от этих ног. Одна из них задевает стоящий рядом стул и тот с грохотом опрокидывается.
Губы Юрико мелко подрагивают, будто она собирается расплакаться. А я стою, сжимая рифленую рукоять пистолета и чувствую, что сейчас самое время сказать ей что-нибудь ободряющее. Только вот что? Что я могу сказать сейчас, стоя в комнате, пропахшей пороховыми газами, кроличьей шерстью, свежей кровью, мозгами и, кажется, дерьмом? Что я могу сказать девушке с пистолетом в руке, девушке с испачканным чужой кровью лицом, девушке, равнодушно следящей за агонией человека, которого она называла учителем и которого я только что убил…
Но я все-таки нахожу слова. Стараясь говорить твердо, я задаю вопрос, который принято задавать в американских фильмах. Я спрашиваю:
— Ты в порядке?
Она молча достает свободной рукой сигарету из кармана куртки и закуривает.
— Я-то в порядке, — говорит она, выдыхая дым. — А ты как?
— На тебе кровь…
Она проводит по лицу тыльной стороной кисти, в которой зажат Glock.
— Это не моя.
Я смотрю на Муцуми, лежащую у моих ног. Под тем, что раньше было ее головой, — лужа темно-красной крови с серыми, влажно поблескивающими в свете электрической лампочки, сгустками. Машинально я отодвигаюсь от этой лужи. Вот так должен был выглядеть я. По задумке этих психов.
— Вот сволочь, — говорит Юрико, глядя на замершего Такэо. — Скотина.
Я не нахожу ничего лучше, чем спросить:
— Почему?
— Когда ты понял, что он киллер?
— Минут двадцать назад.
— Тогда все понятно… Мне казалось, что ты догадался, еще когда мы были у Рэя.
— Да как-то не до того было…
— Ладно. Я сама тоже не сразу поняла. Думала, все, что он говорит, — всерьез. Мне нравились его идеи… Было в них что-то подлинное. Настоящее, а не та чушь, которую слышишь отовсюду — любите друг друга, уважайте друг друга… Может быть, идеи Такэо и были тем мутировавшим вирусом, который, в конце концов, уничтожил бы человечество? Не о том ли мы с тобой мечтали? Если бы все пошло так и дальше, настал бы момент, когда последний из людей пустил бы себе пулю в лоб… И тогда мы смогли бы посмотреть на мертвые города… А потом, когда нам надоело бы слушать завывание ветра в выбитых стеклах домов, мы начали бы все сначала. Исправили все ошибки…
Я пытаюсь убедить себя, что глаза Юрико блестят не из-за слез.
— Но все кончилось…
Мне хочется заткнуть уши, чтобы не слышать боль и тоску в ее голосе.
— Он предал собственную идею. Наверное, всегда и был предателем, просто я не замечала. Не хотела замечать. За то время, что я его знала, он выполнил шесть контрактов.
— Доводил до самоубийства?
— Ага.
— Отличный способ.
— Ну, да. Кем-кем, а дураком он не был… Предатель! — она зло пинает тряпичную ногу Такэо.
Потом тушит окурок о стену и бросает его в угол:
— Ладно. Надо убираться отсюда.
— Куда?
— Не знаю… Куда-нибудь. Ты ведь почти богач…
— Вряд ли. Меня разыскивает полиция.
Она пожимает плечами. Конечно. Мои проблемы.
— На самом деле, рано или поздно это произошло бы, — задумчиво говорит она. — У Муцуми совсем крыша съехала от «колес». Сука! Все время домогалась меня… В туалет спокойно сходить не давала. Сука… Самое смешное, что ей я тоже верила… Я, как дура, верила всем. Тебе, Такэо, Муцуми… Считала вас своей семьей. Вы мне казались такими значительными, такими умными и сильными. Дура, что и говорить. Сумасшедшая, слюнтяй и наемный убийца — хороши учителя!
Слюнтяй — это я.
Сердце Юрико тоже разбито. Я понимаю, что она чувствует, и на «слюнтяя» не обижаюсь.
— Что ты будешь делать теперь? — спрашиваю, чтобы хоть что-то спросить.
Она, поигрывая пистолетом, прохаживается по комнате, старясь не ступить в кровавые лужи. Крови натекло порядочно.
— Не знаю. Домой не вернусь, точно. Придумаю что-нибудь… Дом Муцуми сейчас пустует, поживу пока там. Если хочешь, можем жить там вместе. Когда ты окончательно сопьешься и умрешь, я тебя похороню.
— Спасибо.
— Да ладно, шутка… Давай-ка выбираться отсюда. Поговорим в машине.
Она нагибается над Такэо, и какой-то предмет перекочевывает из его кармана в ее. Потом еще один. Потом еще…
— Иди, заводи машину, — она бросает мне ключи.
— А ты что будешь делать?
Я двумя пальцами вытаскиваю связку ключей из мешанины крови и мозгов.
— У тебя осталось виски?
— Есть в машине бутылка. А что?
— Неси… Хотя… Сначала посмотри, есть ли там канистра с бензином. Если есть, лучше неси ее. — говорит она.
То, что собирается сделать Юрико, называется поджог. Бензина я не нахожу, приношу бутылку виски. Она объясняет, что на самом деле крепкие алкогольные напитки горят вовсе не так весело, как показывают в фильмах. Поэтому в первую очередь нужно как следует полить какую-нибудь мягкую мебель, но ни в коем случае не пол или шторы. Пол и шторы годятся только в том случае, если у тебя много бензина. Или керосина. Или какой-нибудь другой горючей жидкости. А так это напрасная трата времени, сил и виски.
— А лучше всего, — говорит она, поливая матрас и какие-то брошенные в кучу тряпки в шкафу, — самодельный напалм. Если есть такая штука, можно спалить все, что угодно. Или коктейль Молотова…
— Ты специалистка в этом деле.
— У всех свои достижения, — она пожимает плечами.
И я понимаю, что она дважды перешла тонкую линию, за которой человек становится либо психом, либо бодхисатвой. Вернее, перешла две разные линии. Первую — когда собиралась убить себя. Вторую — когда убила Муцуми.
Теперь альтернатива есть и у нее. О возможности выбора не хочется даже вспоминать.
Остатки виски достаются Такэо.
— Интересно, а зачем ему нужны были группы? Ну, те люди, которые ему не платили… Акихико, например, и другие, которых ты знала?
— Не знаю, — она достает зажигалку, — Мне кажется, что кое в чем Такэо был прав. Ответы порождают только новые вопросы. И, в конце концов, заводят в тупик… Тебе так хочется оказаться в тупике? Главное ты знаешь — плохой парень мертв. Почему он так поступал, что именно он делал — мы с тобой никогда не узнаем. Раз нет объяснения нашей судьбе, пусть не будет объяснения и для него. Он ведь не особенный, верно?
— В общем, да.
С минуту мы молчим, думая каждый о своем. Это — минута молчания. Это — прощание с тем, что навсегда останется тайной.
— Прощайте, придурки, — наконец произносит Юрико и чиркает зажигалкой.
Я выхожу на улицу, сажусь в субару и поворачиваю ключ в замке зажигания. Мне вовсе не хочется видеть, как кремируют покойников. Хватит с меня убийств, мозгов, крови, пожаров. От таких вещей быстро устаешь. Если ты не псих и не бодхисатва.
Из дома выходит Юрико. В крови и копоти, с пистолетом в руке, на фоне языков пламени. Очень живописно…
— Тебе надо умыться, — говорю я, когда она садится рядом, распространяя по салону запах гари.
— Поехали.
Пока я рулю по городу, она молча смотрит в окно и курит одну сигарету за другой.
— Чем ты думаешь заняться? — спрашивает Юрико, глядя на дорогу.
А действительно — чем? Будущее — это иллюзия. Так же, как и прошлое… А если вдуматься, то и так же, как настоящее. Но одно я теперь знаю точно: для того, чтобы быть счастливым, мало не делать всякой мелкой дряни. Чтобы быть спасенным, отрицания недостаточно.
Дорога убегает все дальше, к сереющему горизонту, откуда скоро покажется солнце, а я думаю, что секрет перемирия с самим собой состоит в том, чтобы делать что-то хорошее вместо того, чтобы просто не делать плохого. Хотя бы немного. Одно крошечное хорошее дело вместо десяти неделаний какой-нибудь маленькой гадости.
Невзирая на то, что это никак не отзовется в вечности.
И еще я думаю о том, что мы имеем власть над своим прошлым. И что оно не должно определять наше будущее. А для этого нужно просто закрыть все счета.
— Навещу своего брата, — говорю я. — Просто заеду в гости к говнюку.
Я вношу поправку в свои выводы: иногда для того чтобы быть заключить перемирие с собой, нужно сделать и какое-нибудь дерьмо.
«Справедливость» — не совсем подходящее слово. Но «возмездие» нравится мне еще меньше.
— А что будешь делать ты, Юрико?
— Называй меня Юри, — отвечает она и надолго замолкает.
После всего того, что случилось с нами, мне сложно представить ее счастливой матерью и женой. Я не телепат, но догадываюсь, о чем она сейчас думает. И понятия не имею, какой ответ будет правильным. Если вспомнить мое недавнее прозрение — все, что она сделает, будет равноценным перед лицом бесконечности. Поэтому ничего ей не говорю. Просто веду машину на восток.
Ответ приходит сам собой.
У нее в кармане пищит телефон. Тот самый сигнал SOS, от которого я буду вздрагивать до конца своих дней. Юрико подносит черную коробочку NEC к уху и долго, невыносимо долго слушает чей-то призыв о помощи.
Наконец глубоко вздыхает и говорит:
— Наша жизнь трагична… Эта история не может закончиться хорошо. Просто прими это. Ты не особенный, и нечего распускать сопли. Мы все потерпевшие. Так что за сочувствием тебе придется встать в очень длинную очередь. Если хочешь, убей себя. Но подумай о том, что, потеряв надежду, ты обрел нечто большее.
Так говорит Юри и выбрасывает телефон в открытое окно.
— Поехали к твоему брату, — говорит она.
И я постигаю смысл слова «начало».