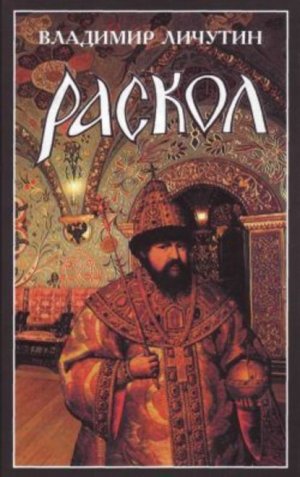
Юрий Архипов
Толкование истории – изъяснение души
«Раскол» – это не просто книга. Не просто очередной исторический роман-хронограф, к коему мы за два века привыкли: лубочно изукрашенные или блестким бисером исшитые «словеса царей и дней», разбавленные «сыромятным каляканьем» (Сенковский).
«Раскол» – это наша, русских, оглядка на тысячелетний путь, пройденный с Православием. На весь путь целиком и сразу. Этот исторический роман повествует не столько о событиях, хотя они и изложены в точном согласии с преданием, сколько о судьбах. О судьбах страны и народа – прошедших, настоящих, будущих. Вы погружаетесь в бунташный и бурный семнадцатый век, а перед глазами у вас то и дело пробегают иных времен тени – то азартные прапорщики на декабрьской площади у сената, то отчаянные бомбисты, обложившие государя, аки зайца, то «совиные крыла» обер-прокурора синода, то талмудом траченные комиссары (пыль им на шлемы), то кривые лукавые рожицы «младореформаторов» (Чикаго им в бок). И все это – без всяких прямых, немудрящих аллюзий. Просто все тысячелетие предстает как один миг, как в один миг спрессованный знак бытия. Словно бы остановленное время, превращенное в плотное от предметов пространство. Фокус, на который способно только подлинное искусство.
Было бы несправедливо и жаль, если бы у русской литературы – с ее-то разбегом – не нашлось теперь такой книги и ей было бы нечем отметить «миллениум» , то бишь тысячелетний рубеж.
«Раскол», таким образом, – это юбилейный подарок всем нам, немотствующим в своей тоске и мольбе о России, – подарок от писателя, справляющего и собственный юбилей. Недаром древние говорили, что 60 лет – это пора акме, высшей зрелости, к которой идут трудом и годами.
Владимир Личутин, и правда, давно и мощно работает в русском слове. И давно снискал себе славу тайновидца русской души. Его пронзительные, как древнерусские плачи, очерки о России, постепенно, ветка к ветке, вырастающие в книгу-древо под общим названием «Душа неизъяснимая», несомненно, останутся среди немногих перлов русской художественной публицистики нашего времени.
А еще были – «повести о любви», как они в одном из изданий были названы на обложке, – «Иона и Александра», «Вдова Нюра», «Крылатая Серафима», «Домашний философ», «Фармазон».
Были два великолепно выношенных, продуманных и прописанных романа – об извечной русской душевной маяте, о мельтешне темных бесов в сонме светлеющих лиц. Хотя для одного из этих романов – «Скитальцы» – автор черпал материал в старине, а в другом – «Любостай» – острыми штрихами живописал современность. Все эти, столь разные по материалу работы отмечены особой, неподражаемой «русскостью» взгляда и тона, скреплены единством стиля.
Стиль Личутина легко узнаваем. Ведь писательский словарь ныне заметно скудеет, обезличивается, усредняется, скатываясь к наивно форсистому журнализму или мнимо правдивому «каляканью», приперченному матерщинкой. Одинокий призыв Солженицына спасти былую полноту и красоту русского языка повис, кажется, в воздухе, как и многие другие его призывы. А Личутину, будто любимцу и баловню муз, и дела нет до этих забот. Ведь он-то богач по праву наследования. Давно известно, что сокровища русского слова хранит наш, недоступный разорам нашествий Север. Недаром именно туда мостили словесные гати из своего Замоскворечья и Подмосковья такие кудесники изысканной русской речи, как Леонов и Пришвин, – чтобы выбиться на столбовую, «осудареву» дорогу русской прозы. А Личутин, теперешний хранитель тех древних сокровищ, получил ключи от них из рук в руки от своих земляков и предшественников, дивных сказителей Севера – Бориса Шергина и Степана Писахова.
Его, Личутина, проза и прежде поражала глаз причудливым богатством убора. А ныне, в «Расколе», у писателя точно и впрямь раззудилось плечо и он в каком-то неистовом кураже настежь распахнул свои заветные короба, туеса, сундуки. Чего тут только нет! И ситец, и парча, как у бывалого коробейника. Яхонты, жемчуга, изумруды, смарагды, сапфиры... и еще много такого, чему мы, по бедности своей, и названья-то позабыли. Так ведь на то и существуют Даль, Срезневский, Ожегов и другие-многие словари. Они же пылятся на полке почти в любой русской семье. Для чего мы их покупали? Может, раскроем наконец, покопаемся в поисках ключей к тем ларцам, что нам с такой щедростью дарит писатель?
Проза Личутина музыкальна – сразу узнаваемым русским ладом, живой интонацией, мелодичностью подслушанных у народа, с сердцем сказанных выражений («Выражается сильно русский народ», – изумлялся Гоголь). Простонародный язык, прежде всего, поэтичен: меткие словечки-клейма, ядреные пословицы и прибаутки, поразительные до смелости стяжения метафоры – все это так и слетает у простого люда с губ и льется легко, весело, словно песня. В этом отношении век выбран писателем благодатный – ведь до раскола, по сути дела, все были простолюдины, даже бояре с дьяками, даже и царь с патриархом, а уж про стрельцов и калик перехожих и говорить нечего.
Историки, знатоки мелоса, утверждают, что какой-нибудь обычный рынок в какой-нибудь новгородско-вологодско-архангельской земле в старину звучал как опера – люди не говорили, а пели. Рудименты этого сохранились по сию пору. Стоит только побывать в гостях у писателя, послушать его разговоры с братом, женой, тещей, детьми, чтобы сразу окунуться в эту – певучую – волну. Так же певуча и проза Личутина.
Но она не менее того живописна. Глаз писателя по-охотничьему зорок. Описания северной природы или родной матушки-Москвы в «Расколе» такой переливчатой гаммы и пластической силы, что просятся в хрестоматию. Ими, как правило, начинаются главы – в силу традиции и канона. «Давно ли, кажется, повыгарывала Москва, еще не изветрился дух головней...». Или: «Сначала под сугробами заточились ручьи, хлопотливо завозились, как цыплаки под наседкою». Природа и история у Личутина – одно нерасторжимое целое, спаянное единой космической силой – духом, «гением» единого пространства и времени: «Русь легла, раскорячась, на две стороны света, и в брюшине у нее запоходили дурные ветры». О чем это – об истории или географии? Обо всем сразу. О Руси.
Чувство природы, отлитое в небывалые и в то же время единственные слова, достигает местами такой колдовской прелести (не то что доправославной, но даже доязыческой), что просто не верится, что это все написал человек, а не сама природа явила вдруг свой словесный портрет. Думается, это и есть один из признаков подлинного искусства – когда нам кажется, что написанного просто не могло не быть, что оно было всегда, таилось в глубинах природы или духа (что, конечно же, едино), а писатель лишь удачливый, счастливый искатель.
Саврасов и Куинджи приходят на ум, Серов и Рылов. А всех прежде, может быть, Суриков, крупнейший среди наших живописцев историк и «филозоф». Признаюсь, «Боярыня Морозова» Сурикова постоянно довлела, представлялась моим внутренним очесам, пока глаза мои скользили по строкам «Раскола» – ей, неистовой Прокопиевне посвященным. И дело тут не только в совпадении персонажа. Совпал эффект воздействия двух столь разнородных произведений искусства. И – словно вольтова дуга соединила годы. Чтобы пояснить: когда я девятилетним мальчиком впервые попал в Третьяковку, то во всем ее роскошном, ошеломительном изобилии (к знакомству с которым послевоенных мальчиков готовили пузатые тома синей Советской энциклопедии) меня больше всего поразило именно это полотно Сурикова. Помню, я долго стоял перед ним, ошалев от небывалого чуда: вроде все только нарисовано, но я явственно слышу скрип полозьев по снегу, растревоженный гомон озябших ворон, людские крики; явственно вижу, как сани, разрезая толпу, едут. Позже, начиная со студенческих лет, я не раз бывал в галерее, но чудо, увы, не повторилось ни разу.
И вот теперь, в «Расколе» – сани вновь поехали! Стереоскопический эффект подобных мест в прозе Личутина таков, что им мог бы позавидовать и сам чемпион всевозможных эффектов словесной изобразительности, двойной тезка Личутина Владимир Владимирович Набоков.
Вообще-то, если судить по одежке, по словесной фактуре, в русской прозе последних двух веков (то есть поры ее несомненного лидерства в мировой литературе) явственно прослеживаются две основные линии, восходящие к отцам-прародителям – Пушкину и Гоголю. Первая, пушкинская, с виду неброская, скромная, благородно сдержанная, незаметная настолько, что тут как бы и не одежда даже, а словно стекло, приставленное к предмету, – а уж насколько чистое, это зависит от дарования. По крайней мере, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Чехов, Бунин, приставляя это стекло к разным предметам, ничем его не замутнили. На сегодня эту цепочку замыкает, скорее всего, Валентин Распутин.
Гоголевская традиция явно иная – нарядная, в буйном ярении красок, броских, как платки малявинских баб, сияющая всеми цветами радуги, играющая диковинными словами-самоцветами. Тут в затылок Гоголю тоже выстроилась очередь, и немалая: Лесков, Мельников, Шмелев, Ремизов, Андрей Белый «со питомцы» – орнаменталистами 20-х годов. Неподалеку, хоть и наособицу, притулился великий Платонов. А последним пока стоит Владимир Личутин.
Да ведь по одежке в России только встречают, а провожают, как всем ведомо, – по уму.
В чем же та главная мысль «Раскола», что делает роман столь незаурядным явлением нашей отнюдь не бедной талантами словесности?
А в том, как представляется, что Владимир Личутин первым – во всяком случае в художественной литературе – во всем объеме постиг размах русской беды – той неизбывной, неизжитой, поныне свербящей боли, что скрывается за этим острым, но давно обкатанным словом «раскол».
Тайновидец души и огранщик слова заглянул в бездну истории и ахнул – прежде всего оттого, что обнаружил ее не только в прошлом, но и в нашей с вами живой современности, которая вместе с прошлым и будущим и составляет словно бы застывшее русское время.
Увы, такое понимание значения раскола вовсе не стало фактом общественного сознания. Многие из наших мудрецов (говорю без иронии), осмыслявших путь России, раскола попросту не заметили. Ну, хотя бы Л. Тихомиров или М.Меньшиков, а последний красноречивый пример – Д.Галковский. Его «Бесконечный тупик» – бесспорно, «сумма сумм» отечественной историософии, но раскол там даже не упомянут. Нашлось немало и таких, кто не узрел в расколе ничего, кроме русской дури, хотя куда как неглупые были люди – Владимир Соловьев или Розанов. Соловьев полагал, что у человека просвещенного по отношению к расколу «возможна только улыбка». И Розанов, вечный его оппонент, на сей раз с ним соглашался, находя, что «судьбоносные» споры XVII века на самом деле были пустые , ибо вели их «допетровский боярин и его мужик, оба равно безграмотные, равно милые, но равно не видевшие голландских верфей.» Бедная, темная Русь!
Одно утешение: все это мнения людей, хоть и многомудрых, но не вполне православных. Один, Соловьев, все мечтал соединить Православие с католицизмом; другой, Розанов – и вовсе с неоязычеством.
Люди ума не меньшего, но глубоко церковные, всем сердцем чувствовавшие нерасторжимость России и Православия, судили все же иначе.
«Отделение старообрядцев от Греко-Российско-Православной Церкви было бедствием; самое упорство и ожесточенность борьбы со старообрядчеством свидетельствуют о сознании той боли, какую церковное тело ощущало от этой операции», – писал отец Павел Флоренский.
«Раскол родился и вернуть его в небытие, остановить ни у кого не нашлось силы и искусства. А какое зло было порождено им!» – вторит ему авторитетнейший церковный историк А.В.Карташев.
«В старообрядчестве с его скорбной историей, полной религиозного вдохновения, но порой и истерики, мучительного ощущения „тайны беззакония“ (Антихриста) – во всем этом роковом и трагическом распылении церковных сил русское церковное сознание дорого платило за свою мечту, за утопическое понимание теократической идеи христианства», – резюмировал отец Василий Зеньковский.
Важно только понять, что раскол вовсе не был делом только «ведомственным», внутрицерковным – и не мог пребывать в узости в такой идеократической стране, как Россия («У нас не правят, а водительствуют – те, у кого находится сплачивающая всех идея», – замечает современный мыслитель Ф.Гиренок). Раскол расколол не церковь, а всю страну. Расколол не как колун, а как молния – то есть стал ветвиться, дробя и последующие поколения, так что к концу XIX-го века у нас уже были многие десятки сект с оттенками разных «толков». Без раскола, надо полагать, не было бы и последующего ожесточения в сословном размежевании, острой борьбы одной части «мира»с другой (интеллигенция с царем – против народа при Петре, царь с народом – против интеллигенции при Николае I, интеллигенция с народом – против царя при Николае II; все более отчуждавшаяся от народа и отсортировывшая интеллигенцию власть в XX веке с ее «аппаратом», неудержимо разбухающим на народной кровушке и время от времени отравляющимся «гнилой интеллигенцией»).
Разумеется, и прежняя, до раскола, русская жизнь не была идиллией – как не бывает идиллией никакая жизнь на земле. И русские князья и даже монаси ярились друг на друга, гнобили и подличали греховных страстей ради. Но все это были противоречия и борения внутри единой системы ценностей, перед лицом единого нравственного идеала и если уж не самим преступником, то в глубинах совести народной эти вывихи всегда верно оценивались как грех. После раскола единая система оценок стала рассыпаться, уступая место пресловутому плюрализму, когда одно и то же деяние – хоть бы и покушение на жизнь государя – стало одним являться как святотатство, а другим как духовный подвиг.
Да что государь, даже военные успехи собственного отечества иным «индивидуумам» встают поперек горла – и они не стесняются трезвонить об этом на весь честной мир.
Конечно, ни одно явление в истории не возникает внезапно и беспричинно; даже для такой внешней беды, как ордынское нашествие нужна была своя внутренняя причина – нараставшая разрозненность беспечных и самовитых русских князей. Так и здесь раскол готовился еще в смуту, за полвека до него, и даже раньше – в ораторско-писательских битвах «нестяжателей» с иосифлянами. Нельзя забыть и о том, какой чумой прошлась по Руси «ересь жидовствующих», едва не сглотнувшая своим смрадным зевом и самих правителей ея. (Ждать бацилле пришлось еще шесть веков.)
Но самый болезненный разрыв единой – мистически единой – плоти русской жизни осуществился именно тогда, в роковой исполинской сшибке Никона и Аввакума с одной стороны, Никона и «Тишайшего» царя Алексея Михайловича с другой, Алексея Михайловича и Аввакума с третьей.
Автор «Раскола», складывается впечатление, соболезнует всем троим – потому что соболезнует России. Иногда почти физически ощущаешь его печалование и боль за Россию, но и, не менее того, его гордость и любование. Вряд ли найдется лучший художественный путеводитель по эпохе, столь же бережный и обстоятельный. У Владимира Личутина на редкость теплое перо – при всей его виртуозной изощренности. Тут все дышит любовью – к своему, родному, свычаям и обычаям русского быта. Порывам и срывам русской души.
Казалось бы, чему же тут удивляться? А удивляться почти приходится, ибо у нас едва ли не в моду вошло проклинать несчастную русскую жизнь да жестоковыйную русскую историю. Одни де бессмысленные страдания и реки бессмысленно пролитой крови. Забывают близорукие о том, что эти реки полились лишь в XX веке – когда в русской истории перестали определяюще действовать одни русские силы, когда Россия очутилась в плену чужебесия. А прежние-то века? Ведь даже опричнина Грозного бледнеет перед инквизицией, как и петровские казни – перед якобинской резней. Не говоря уже о том, что скучный шкурный интерес редко пробивался в России, в отличие от Европы, в двигатели событий, зато какое кипение идейных страстей! (Что и представляется рыцарям кошелька «русской дурью»). Какие трогательные Жития князей – Владимира Святого и Ярослава, Андрея Боголюбского и Александра Невского. Какие необъятные, весь горизонт застилающие фигуры царей – Иоанна Грозного или Петра. А Александр I, победитель гордеца Наполеона, смиренно растворившийся в народной молве под видом Федора Кузьмича? А Александр III, один могучей дланью своей удерживавший распад целого мира, как – вот сцена-символ – обрушившийся однажды на его плечи железнодорожный вагон...
То-то был заворожен нашей историей умница Пушкин. Как, впрочем, и наиболее чуткие духовно интеллектуалы на том же Западе. «Россия – единственная страна, которая соседствует с самим Богом», – писал крупнейший европейский поэт XX века Райнер Мария Рильке.
И он, безусловно, прав: богоискательство и есть скрытая пружина нашей истории. В неуемных поисках Бога (чего-то иного, чем проза текущей жизни, лучшего, совершенного, прекрасного, нездешнего) и распласталась Россия по обе стороны света. И созидали ее в первую голову те, кого томила духовная жажда.
Поэтому Никон и Аввакум значат в нашей истории не меньше, чем Иван Грозный и Петр, Ленин и Сталин. Митрополит Антоний (Храповицкий) полагал даже, что Никон выше всех стоит в списке деятелей, определивших ход русской истории.
Эта мысль прочитавшим «Раскол» станет более внятной. Никон словно выступает из тени (даже из скрещенья теней: тень, которую отбрасывает впереди себя Грозный, и тень, стелющаяся за Петром).
В споре Аввакума с Никоном Личутин-мыслитель скорее на стороне Аввакума. Но в самом-то романе, в его живой плоти все выглядит сложнее, «диалогичнее». «Полифоничность» в той или иной степени – общее свойство реализма. Разве что в лубочно-сатирических жанрах наивного классицизма возможна черно-белая «монологичность». В полнокровном реализме никакой персонаж не станет убедительным, если не понять и его логику-правду, то есть, если его хотя бы частично не оправдать.
А Никон в романе во всех его взлетах и падениях куда как полнокровен. И нагляден так, что можно залюбоваться. И трагичен, конечно, – в контрастах дара и блажи, благодати и упрямства, рачения и «возгоржения». Великую душу подстерегают великие же опасности, и автор, не спеша и не комкая повествование, умеет нам их показать.
Внешняя карьера Никона удивительна: вот уж поистине – из грязи да в князи. Но он и в своем вселенском замахе не метеор, а скорее могучий дуб, выросший на хорошо подготовленной почве. Притязания Никона (сесть и поперед самого батьки-царя) вроде бы естественно вырастали из самого хода истории. Ведь после падения Византийской империи в XV-м веке единственной надежной опорой Православия, хранительницей истинной веры в Христа сделалась Русь. «Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать» – эта чеканная формула псковского игумена Филофея впечаталась в сознание как священный догмат. Ведь Православие – не какое-нибудь худосочное сектантское измышление, а Истина, торжество коей не возможно без Царствия. Стало быть судьбы мира отныне будут решаться в Москве. И ответственен за них, по мысли Никона, наместник Христа на земле – патриарх. А земной царь должен быть чем-то вроде его инструмента. Такая вот симфония веры и власти.
И как вроде бы все удачно сошлось – для осуществления этого вселенского призвания России. Могучего ума и темперамента патриарх, – и юный «тишайший» царь с благородной и богорадной душой, который не просто годится ему в сыновья, но и ведет себя, если не по-сыновьему, то по-братски: прилюдно ласкает, называя «собинным другом», просит наставлений и почтительно им внимает, оставляет даже за себя «на хозяйстве», то бишь на царстве, когда уходит в военный поход. Как было Никону упустить такой, как ему казалось, счастливо выпавший исторический миг и не попытаться излить на мир всю скрытую мощь Православной Церкви. Сделать ее поистине Вселенской – не в мечтах, не на словах, а реально. Превратить русскую идеократию во вселенскую теократию (так вот и прокрадывался в душу святейшего самый что ни на есть западный цезаропапизм). А препятствия? Вроде бы пустяковые: все жесты да буковки, в коих русские обособились, вроде как отложились от первородной церкви, на что то и дело указуют заезжие греки (их же, ободранных, что ни день пригнетает в Белокаменную за щедрой русской подачкой). Устранить, стало быть, кое-какие разночтения в книгах, да перейти на троеперстие. Сами-то греки давно уж на него перешли, а с ними и весь прочий православный мир, кроме Руси: и болгары, и сербы, и украинцы. Вот-вот, украинцы, что особенно важно. Ведь только что – двух лет не прошло – воссоединилися, наконец, с Украиной, прародиной нашей, какое ликование! («Да ведь не все ликовали-то: вот пригласил Никон на радостях малороссов-монахов на поселение в свой Иверский монастырь, а обитавшие там великороссы, подозревая собратьев в „латинской порче“ от ляхов, покинули монастырь все до единого). А на Украине – троеперстие, не допускать же розни, как не порадеть младшим (или старшим?) братьям от всего широкого сердца. Вот, кстати, одна из непостижимых тайн нашей истории: возвращаясь к потомкам своим, праматерь-Киевская Русь учинила, получается, среди них раскол, – чтобы через триста тридцать семь лет (цифра то какая – 337), отвалив с довеском в виде Крыма, развалить и империю...
Размечтавшемуся Никону взяться бы за дело не торопясь и с оглядкой, да вести его плавно, без окриков, зуботычин, обид. Но куда там! Русский человек и без того горяч и размашист, а уж Никон, вознесенный «собинным другом» и сам вознесясь, и вовсе счел, что море ему по колено, что не Бог весть какой для него труд ломать через колено пасомых им и таких податливых с виду людишек.
«Тень Грозного его усыновила» – поистине! Неприютная самодержцев тень. Как Иван Грозный картинно отпихивал власть, удалившись в Александровскую слободу, а потом, покуражась, давал себя уговорить вернуться на царство; как вслед за ним ломался для приличия Борис Годунов, запершись в Новодевичьем монастыре, так и Никон, войдя в царственную роль, попробовал отложить в сторону патриарший посох, ожидая в душе все тех же, входящих вроде бы в ритуал, уговоров.
Да вышла осечка. Забыл грешный святитель евангельское: «Богу – Богово, а кесарю – кесарево». На многое может пойти власть, но только не на отрицание самой себя.
История получилась с виду странная, но по сути логичная. Непомерная гордыня всегда наказуется. Побочное дело Никона (корректировка книг и обряда) восторжествовало, но сам он пострадал. Еще больше пострадала его великая идея, его мечта о вселенском могуществе Православной русской Церкви. Всегда ревнивая власть наскок Никона запомнила, и уже сын Тишайшего яростный Петр урезал Церковь на столько, насколько хотел вознести ее Никон, который напугал Петра, видимо, так, что тот вовсе отменил сан патриарха, низведя Церковь до положения одного из департаментов государства.
Пострадал Никон, но вместе с ним пострадали и противники нововведений, миллионы тех, кого он отпихнул – в раскол.
Отчего же они так противились «пустяковым», если издалека смотреть, нововведениям, что даже шли из-за них на костер? Чтобы это понять – чтобы понять устройство русской души, – и нужно прочесть «Раскол». Положить бы его на стол каждому нашему горе-реформатору, привыкшему «издалека смотреть» на страну, кою взялся, вооружась абстрактными аналогиями, перекореживать. Ведь который век спотыкаемся об одни и те же грабли.
Россия, какой она встает со страниц романа Личутина, – страна особая. Хотя бы в силу особого, небывало протяженного пространства своего. Которого так много , что в нем много умещается и времени – и прошедшего, и настоящего, и будущего. Не как в тесной Европе, где настоящее, опираясь на накопления прошедшего, силится протиснуться в обнадеживающее новыми приобретениями будущее. В России прошедшее не проходит совсем, но остается жить тут же в ее бесконечных пространствах. Именно жить, а не пугать или дразнить своей тенью. Двуглавый российский орел раскинул свои крылья не только между Востоком и Западом, между созерцательностью и деятельностью, но и между прошлым и будущим, между воспоминанием и мечтой. Поэтому Россия первой устремляется в космос и в то же время живет как будто с постоянной оглядкой назад – иной и нередкий раз даже в таких же избушках, как и тысячу лет назад. В чем-то обгоняя, прямо по Гоголю, всех, она, похоже, скачет, подобно раку, спиной вперед, с постоянной оглядкой на предков. Опыт предков не просто помогает освоить холодные немеряные пространства, но делает их теплее, живее. Что-то природное, органическое – с чем так ладно срослось христианство с его соборностью как доминантой православного чувства. И по сей день в наших церквах записок о поминовении подается куда больше, чем записок о здравии. Здравие, что ж, вещь телесная. Куда важнее – спасение души. А в деле спасения души нашим предкам обойтись без нас так же трудно, как нам без них. Соборность.
И посейчас миллионы русских живут этим чувством, а тогда, триста лет назад, им жили практически все. Ведь золотой век русской святости был еще так близок и внятен. И этот золотой век – не выдумка. Тому, кто тужится припечатать его «стебным» словечком «миф», нужно просто показать «Троицу» Андрея Рублева и икону Владимирской Божией Матери. Покров на Нерли и Спас на Нередице, Георгиевские соборы в Юрьеве Польском и Старой Ладоге. И пусть из всех богатств мира пересмешник назовет хоть что-нибудь сопоставимое.
По поводу «национальных образов мира» за рубежом в ходу шутка: «Немцы маршируют, англичане осваивают моря, итальянцы едят макароны, а русские целуют землю».
Не укрылась, стало быть, от чужеземцев наша особенность, выросшая из наших безмерных пространств. Ведь пройти русскую землю из конца в конец – что переплыть все океаны вместе взятые. Дух земли, стихия земли, мать-сыра земля... Потому и приняла Русь в свое лоно с такой радостью Православие, что родное воссоединилось с родным – мать-сыра земля облеклась в покров Богоматери. И Христос стал исхаживать русскую землю – благословляя («Всю тебя , земля родная...» – по Тютчеву). И земля окропилась, освятилась – им. Он будто сошел с неба в земную, земляную крестьянскую русскую жизнь – со всем Своим сонмом. Святой Егорий стал помогать коней пасти, святой Никола – рыбу ловить, Илья Пророк – урожай убирать. Сам же Христос стал всякому душевному делу потатчик. И Русь стала святой – не потому, что люди стали как ангелы, а потому, что удостоились, хоть и грешные, жить на освященной земле. В Новом Иерусалиме. Как же не целовать такую землю, ведь это все одно, что целовать икону. Так все в конкретном крестьянском мышлении срослось – Русь и Рай. Современную тоску по этому исконному цельному мироощущению с гениальной убедительной простотой выдохнул Сергей Есенин:
Раньше-то не сомневались, что возьмет, – уже взял. А свидетели и поручители этой сросшести Руси и Рая – целая рать великих русских святых, богорадных русских икон и церквей. То есть, русская старина.
И вот является некто и заявляет, что вся эта старина пребывала в слепом заблуждении, жила «ветром головы своея», предавалась «сонным мечтаниям». И молилась не так, и книги читала не те, и персты слагала не по канону. И пробирается этот некто на патриарший престол и требует круто все поменять – во угождение умникам чужебесия. Ну, как было не заподозрить в этом некоего антихриста? Это что же, Феодосии Печерский и Сергий Радонежский, Нил Сорский и Стефан Пермский, Андрей Рублев и Дионисий были неправы, а полутатарин Минька, пришлец, их правее? Антихрист и есть. Тем более, что и ввели-то новые правила не когда-нибудь, а в 1666 году. Смекайте сами. Тысяча – число сатаны, 666 – апокалиптическое число Зверя. Пришли, пришли последние времена. Господь ожидает от верных Ему жертвы – во искупление безобразий, во спасение души. Уж лучше сжечь себя, чем оскверниться. Лучше сейчас спалить дух родной земли огненным духом, чем потом – вечно гореть.
Такова была логика русской трагедии, расколовшей и русскую историю, и русскую душу.
Россия, к счастью, неистребима. На боль насилия она ответила новым напряжением духовных сил. «На вызов Петра Россия ответила Пушкиным». Великой русской литературой. И не только ею, но и Серафимом Саровским, Тихоном Задонским, Феофаном Затворником, Амвросием Оптинским, Иоанном Кронштадтским – новым подъемом святости. Но тоска по золотому веку русской цельности и «всеединства» осталась. Откуда же иначе вся эта бесконечная галерея «лишних», полых людей, заполонивших русскую литературу от Пушкина до Чехова, откуда духовные корни героев Достоевского, Толстого, Горького, Платонова?
Да поможет нам «Раскол» Владимира Личутина не утратить живую связь с русским Преданием. Не утратить себя.
Зачин
Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое.
Господи, как бессилен ум мой; темною слепою водою залиты глаза мои; и душа без дорожного посоха, без ключки подпиральной робеет и трех верст отшагнуть от порога суетных наших лет; и нет одесную близ меня пастыря надежного и несуесловного, а ошуюю неотступно пасут сомнения; нашептано в ночах – выше воли может стать лишь вера, она укрепит рамена, но где напитаться ею, ибо крошечный огарок сердечного родства едва теплит средь покинутых весей России. Так, может, от отчаянья и только из отчаянья выткется та сила, что удивительно укрепит мои персты, наполнит жилы, и токи те понудят скорбеющую душу исторгнуть слово, к коему давно готовилось сердце. Может, из отчаянья прорастет слово, а из слова проклюнется смысл, как душа из омертвелой плоти, и осенит, и обнадежит меня в затейном труде. Куда и с чьим напутствием пустился я во все тяжкие в не лучшие для России дни, полные смуты; кто, позабытый и не обласканный мною, настряпал подорожных хлебов, чтобы я вовсе не потерялся в одиноком пути? Один я, как перст: но коли взмолиться истово, то вдруг истечет утешный глас?
Два крыла моих, как утиные перепонки, будто решето, насквозь протыканы гвоздьем долгих сомнений; два неподъемных крыла, лишь груз суставов и хрящей; отлетели невидимые ангелы, и все чаще седой ворон сторожит и сурово «крыкает» на засохшей ветле, и что-то вещее чудится мне в его сатанинском, надменно скошенном на меня глазе... Где вы, обавники и кудесники, прорицатели и ведуны, волхвы и бывалые люди, чернокнижники и цыгане, коновалы и колдуны, травницы и ведьмы с Лысой горы, толкователи снов и прорицатели, неистовой стаей окружившие православный крест, и не в силах отпасть от него; цветник, возросший на Черной книге, осыпанный шипами и перхотью неизжитой мести; где вы, читальщики и исповедатели Рафли и Шестокрыла, Воронограя и Остромита, Зодия и Альманаха, Звездочетьи и Аристотелевых Врат, говорят, вы провидите время, как небесные своды и толщи вод...
Но смутой и холодом лукавого обавного ума пронизывает меня, как сквозняком, и я пугаюсь и вас, торопливо пряча уже протянутую к Черной книге влажную руку. Из заповеданных рассказов бывалых людей известно, что Черная книга хранилась на дне морском под горячим камнем Алатырем. Какой-то чернокнижник получил завет от старой ведьмы отыскать Черную книгу. Что он и сделал. С тех пор гуляет она по белому свету: было время, когда Черную книгу заклали в стены Сухаревой башни. Но вот и башня та осыпалась, а книга та заповеданная, связанная страшным проклятием на десять тысяч лет, стала как бысть невидима. В ком Бог, в том и сила: но что за искус поманывает, что за наваждение в том обавном, неискреннем, что хоронят в себе всякие чары: знать, не меньшая власть и в наваждении. Есть лазурное небо, но живет и Потьма, не избежать нам Золотого кольца.
Есть поверие, что умершие чернокнижники в белых саванах своих навещают родные дома и шарят по избам, ища свою заветную книгу, стучат в окна и двери, сводят домашний скот и с родичами творят проказы. Когда терпению приходит конец, чернокнижника выкапывают, кладут во гробе ничком, подрезывают пятки и снова засыпают землею. Дока, местный кудесник, шепчет заговоры, а домашние покойника вбивают осиновый кол между плечами.
Всякий темный дух как бы пригвожден к земле, нет ему полета; мать – сыра земля дает слову густого замеса и лишает крылатости; речи, опершиеся на Черную книгу, лежат на страницах, как исторгнутые из пашни каменья. Значит, и на обавников нет мне надеи? Но случается, что камни летят с небес, сверкающие, как смарагды, от них сыплется голубая алмазная пыль. Они спешат к земле, откинув пылающий хвост, и сулят людям несчастья.
Все суета сует, все однажды источится в лед и пламень: слово, прорастающее из земли, и слово, летящее с небес. Так к чему мои страды? что тщусь я прочитать в потемках иссякших лет? какие поучения и уроки, какие заповеди и заветы? Может, давно уже заплесневели они, обветшали и в их скорлупе давно нет сердца, как протрухла болонь у изжитого палого дерева.
Но для чего пели молодицы на игрищах (нынешние прабабки мои): «Коза, коза бя, где ты была? Коней стерегла. И где кони? Они в лес ушли. И где тот лес? Черви выточили. И где черви? Они в гору ушли. И где гора? Быки выкопали. И где быки? В воду ушли. И где вода? Гуси выпили. И где гуси? В тростник ушли. И где тростник? Девки выломали. И где девки? Замуж вышли. И где мужья? Они померли. И где гроба? Они погнили».
И не хороводная вроде бы песня-то, но пели на игрищах. Это песня бессмертия.
Не дивны ли дела Провидения, и по какому невидимому списку исполняются они?! Где отгадка тому, что судьба России зачастую зависела от затейного норова пашенного смерда, или от попишки с затерянного погоста, иль монастырского служки, от юродивого иль скитского затворника с вещим, проницательным взором?..
Иван Сусанин спас Михаила Федоровича, будущего царя. Светятся имена Сергия Радонежского, Осляби и Пересвета, Ильи Муромца и Даниила Заточника, келаря Троицкого монастыря Авраамия Палицына и Козьмы Минина – нижегородского гражданина. Иван Грозный был вымолен у Господа Пафнутием Боровским. Вот и у Михаила Федоровича родятся лишь дочери, а наследника Бог не дает. Царь христолюбив и благочестив; молятся о ниспослании чада у Троицы Сергиевой, молятся у Саввы Звенигородского, молятся в Чудове и Боровске, молятся в далеком Соловецком монастыре и в домашней Крестовой палате в Верху, но все нет желанного исполнения. Но где-то же на Руси должен обитать тот великий подвижник, тот всесильный молитвенник, тот проницательный и вещий взором, благочестивый и неистовый в поклонах, воздержный постник, чьи смиренные тайные зовы дойдут до Сладчайшего и будут услышаны. Однажды в глубокой печали беседовал о сыновстве великий государь с царским кумом троицким келарем Александром Булатниковым. И тот назвал имя прозорливца Елеазара Анзерского, что в миру был родом из Козельска, купеческий сын Севрюков. Отличался он по Беломорскому Северу необыкновенной святостью и кротостью, заложив на пустынном острову особножитскую обитель для схимонашествующей братии. И в Москву «с отока морского» был доставлен смиренный инок. Скитник Анзерский предрек царю, де, «силен бо есть Бог дати вам плод по мере вашей». Год молился Елеазар в Чудовом монастыре, и появился у царя Михаила сын Алексей, позднее прозванный Тишайшим, и от коего с такою болью и так внезапно преломилась русская жизнь. Чадо молитв анзерского пустынника – таковым почитал себя Алексей Михайлович до гроба.
И не странно ли, что в дни молений Елеазара о чуде чадородия проживал в столице поп Никита Минич со своей несчастной женою: троих деток дал им Бог, но те не зажились и в раннем возрасте сошли в землю. Нося в себе неясную, неизбывную вину за незамолимый грех, решили супруги разойтись и постричься. Никита, много наслышавший о чудотворце, отправился из Москвы на скалистый Анзер, «в оток морской», где Елеазар и постриг его под именем Никона. Надо было случиться тому в 1635 году. Но вот из Москвы известили, что бывшая жена его, «эта немощнейшая чадь в доме», угодила в сети лукавого, от монашества – наотрез, захотелось ей в новое супружество. Вот уж воистину: «Мудрость женская, аки оплот неокопан – до одного ветру стоит. Ветер повеет, и оплот порушится». А куда Никону-иеромонаху деваться? Ему и служб не служить, и налой заказан, ибо по древнему соборному правилу: «Аще поп пострижется, а жена уйдет замуж, тогда несть поп». И стал Никон домогаться письмами до московских сродственников, чтобы наставили лукавую грешницу уму, и до того часу не успокоился, пока не постригли бабу.
По древнему скитскому уставу, коего держался строго Елеазар, всякий инок обители обязался жить с открытою, исповедальною душою, как с распахнутой книгою, что читал неустанно медоточивый Учитель. Страсть монаху – первейшая пагуба, страстью улавливает лукавый инока в свои тенета и мучает его, и прогибает долу, и лишает ума; а страсть отягчает сердце Никона. Это чуял анзерский чудотворец, сам досадовал, лишенный покоя, скорбел и плакал по Никоне, как о больном чаде, домогаясь его откровений. И долгими постами вроде бы изнурен иеромонах, и боголюбив, но слишком гордо посажена голова, и нет-нет да застит бешениною глубокие глаза, и уросливо вскинутся плечи от кроткого наставления чудотворца. И однажды привиделось Елеазару во время службы, будто змея черная и зело великая оплела выю Никона, испуская пастию дым и огонь. И поведал Елеазар ученикам своим: «О, какове смутителя и мятежника Россия в себе питает! Сей убо смутит тоя пределы и многих трясении и бед наполнит».
Не аскеза мучила Никона, но послушание и страсть. Через три года, когда Елеазар сидел в Соловецкой темнице, иеромонах Никон, двенадцатый его ученик, тайно бежал с Анзеров на карбасе мезенского кречатьего помытчика Созонтки Ванюкова. Неведомо для себя, поддавшись страсти водительства, Никон поменял путь святости на дорогу святительства...
Росстань
— Сынок, слышь-ка... Нето опять заблажил? Сплюнь отраву-то, слышь, сыне? – донеслось с угора. – Кабыть захмелел с ладанного духа, с братней отравы. Не в панафидный приказ метишь?
Отрок не отозвался; он зачарованно смотрел на восток, откуда всплывал золотой слиток; вокруг него неясно маревило, там вставали сполохи; словно бы ярило окружали неясные тени крылатых гонцов. Парнишонко стоял о край приглубистой песчаной релки, едва забредши бахильцами, холщовая рубашонка просторно обвисла на острых плечах: струистый волос, на затылке выгоревший добела, сбегал по тонкой, почти девичьей шее, огибая глубокую ложбинку. Морская вода парила, отдавая последнее тепло. С вечера грозило грозою, как бывает в рябиновые ночи начала августа, всю ночь вспыхивали с полуденной стороны сполохи, беззвучно вспарывали небо, разваливали аспидную темь Божественным мечом. Страшно было выглядывать из-под буйна, раскинутого по карбасу, будто демоны осаждали, шли ратью на малых тварей земных, покинутых творцом у каменного острова... И вот золотой слиток вспухает, и вокруг него роятся ангелы, и темь позорно отступила, прощально затаившись за бортовинами карбаса. По нашивам легко накатывало прибрежною волной, и на ее покатостях вольно вспухали зубатки, не страшась людей. Ярило выпросталось из пелен, косые пряди тумана робко отступили прочь, сгустились в полуночной стороне, а по глади залива заструилась легкая стружка. Будто кто неведомый властною рукою сгорстал на праздничном застолье браную скатерть, сморщил ее и повлек натягивать на анзерские сизые лбы, будто ножом-клепиком принялись состругивать с распяленной звериной шкуры слоистое тюленье сало, и сейчас оно легкою пеной оседало на песчаной длинной косе. Отрок зябко перебрал лопатками и, загребая бахильцами это утреннее морское сало, выбрел на берег. Взгляд отрока был мрелый, почти неживой. Также отупело парнишка покрылся сермягою, перепоясался вязаным кушаком, но гордовато поправил на низко спущенной опояске нож, заправленный в берестяные ножны.
Созонтко Ванюков, по прозвищу Медвежья Смерть, виновато глянул на сына и отвел в сторону белесоватые глаза; заторопясь, он снял с мытаря кашный котел, пристукнул в середку поддона, вынесенного из карбаса, и, досадуя, поплевал на обожженные пальцы. Ночь прошла – и слава Богу, опять же возблагодарим Господа, что живы и готовы с открытым сердцем встретить благословенный день, а брюхо, что котел, оно пустоты не любит.
...Пока же рассаживаются поклонники, пока заправляются вытью, готовясь в путь недолгий, но рисковый, мы на каждого взглянем исподтишка, навечно запоминая: ибо всякий человек, пускай и случайно родившись, уже достоин приметливого взгляда.
...Созонтко прижал к груди ковригу и, отчаянно сопя, отвалил три однорушных ломтя. «Пожалуйста, с нами хлеба-соли есть», – пригласил он добродушного случайного спопутчика: тот в это время усердно копался в дорожной укладке. «Незваный гость хуже татарина. Вам, поди, не одне сутки дорогу ломать», – заотказывался тот, не подымая от поклажи глаз. «Дак и не обеднеем. Свое едим, свое потчуем». – «Уж и не знаю, право. Братия монастырская удоволила, не даст пропасть с голоду». – «Экий ты ломоватый. На ломоватых черти воду возят».
Попутчик лишь для прилику поотказывался и, перекрестившись, с охотою подсел к братской трапезе, вытянув ноги в сафьянных красных сапогах. «Знать, не простой человек. Коли есть гроши, то и мужик хороший», – насмешливо решил хозяин трапезы. «За молитв святых отец наших...» – Созонтко скоро отчитал молитву, обратившись к солнцу, сын же его встал на колена, низко склонив голову, и пшеничные волосы его осыпались на камешник. Потом всяк занял приличествующее место; Созонтко первым запустил ложку в кулеш, потянул мяса; ел он трудно, долго перетирая волоти худыми зубами, отворотясь от трапезы, вроде бы стыдясь народу. У Созонтки лицо было притягательное своею страшностью: левая щека словно бы выедена до самой кости; туго натянутая, с былыми язвами, кожа казалась прозрачно-глянцевой, просвечивала насквозь; левый же глаз, вывернутый изнанкою, окаймлен кроваво-красной бахромою, правый белесый глаз насмешлив постоянно; левое ухо порвано, без мочки, и даже длинный, подбитый сединою волос не скрывал корноухости. Созонтко среди двинских помытчиков славился за известного поединщика, девять раз брал медведя из берлоги на рогатину из одной лишь удали и бахвальства, трижды назывался в царские медвежьи бои с вилами. Один раз был пожалован государем Михаилом Федоровичем кафтанцем, другой раз двумя портищами сукна-настрофиля, третий же раз сыграла судьба с Созонткой злую шутку. Подвело ратовище, хрупнуло под «мамкиными» лапами, и угодил Созонтко зверю на именины, в недобрые объятья. Сломал он медведице шею, чем немало потешил царя, но и мужика убил зверь чуть не до смерти. За удальство свое был жалован двинский помытчик пищалью польского дела с замком колесным, резным, серебро с чернью, а станок яблоневый, на нем сечены травы. Вот она, винтованная пищаль польского дела (всем на зависть), лежит подле ноги, а в торбочке из нерпичьей кожи, расшитой женской рукою и притороченной к поясу, – весь огневой заряд, да подле в чехольце из рыбьего зуба трутонаша, кремень и кресало, с другого боку кинжал двуострый с наборным череном. Самосшитые бахилы, пропитанные ворванью, ступнею в медвежью лапу, раскатаны до рассох и перехвачены под коленами тканой цветной тесьмою. Сермяга из домашнего грубого сукна на груди широко разверста, там видна холщовая крашеная рубаха с косым воротом и набором мелких костяных пуговиц-леденцов; шея у Созонтки вырастает из ворота, как бурый березовый окомелок, исчеркана ранними морщинами. И ладонь, кою подставляет Созонтко под ложку с кулешом, вся в белесых шрамах и отметинах от охотничьих забот.
Созонтко родом из Мезени, оттуда отец с маткой и все колена Ванюковых, кречатьих помытчиков. Хоромина его на угоре, на задах съезжей избы, окнами на реку. У Созонтки жена Улита и три сына. Старший – Афонасий сызмалу, в чернецах же Феоктист, ныне в Соловецкой обители будильщиком. Как отметил отец, Феоктист – слух и око настоятеля, он все знает, все ведает, всем повелевает, для рядовой ратии гроза, посмей-ка ослушаться. Увы и ах! С утра будильщик на ногах, с колокольчиком обходит монастырь, призывает к молитве, братии дает труды посильные для послушания, иных по церковному чину спосылает волею настоятеля служить иль всенощное бдение, иль литургию, молебны, панафиды. Феоктист – недремное око старцев, он круглые сутки на ногах и службою своей горд.
Младший сын – Любим, еще в берестяной зыбке на очепе колыбается, чукает мамкину титьку: последнее дитя, Любимко, отрада семьи, вылитый тятя. Будет кому передать ловчее знание.
Средний – Минейко, вот он, подле, едва волочит ложку, словно отраву в рот берет. Взгляд небесной сини со страдальческой поволокою. Кто-то недобрый из Мезени положил на мальца худой глаз, сглазил, оприкосил, и вот завладела Минькою стень, изнурительная сухотка. Он было выгорел весь изнутри, насквозь светился (вот тебе и стень), его уж и не почитали за жильца, не надеялись отвадить; по совету знахаря носили в лес и там, растелешенного, клали в развилок ели на трое ден. И вот не помер, не застыл, не заколел, и Созонтко носил свое чадо, прижавши к груди и плачучи, не тая слез, трижды девять раз вкруг дерева, как повелел знахарь: после дома купали в воде, собранной из девяти родников-студенцов, обсыпали золою, вынутой из семи печей, да томили на горячей лежанке. Минька еще сутки вопил лихоматом, уж на другое утро уснул, замаянный, как умер. Призвали попа, да и соборовали. А он вот и ожил вдруг, ныне вытянулся ивовой хворостиной, но лицом, как ярый воск, ни мазка на щеках алой краски.
У Минейки есть свое налучие из тонко выделанной кожи морского зайца: из саадака выглядывает рог детского лука и дюжина березовых стрел с кречатьим пером. Отец с мальства приучал сына к ловчей затее, но что толку, посудите сами? Лишь Созонтко оставил отрока без пригляду, тот ложку прочь, сместился на камень-голыш о край воды и принялся резать крестик из можжевела.
– Слышь, Минька, зря ты порты носишь, – поддразнил Созонтко сына, чтобы отвлечь того от внутренней скорби. Ведь вот и соловецкие старцы-читальники не помогли, но внесли в его грудь какой-то иной дух, может, ту самую маету, от которой ушел в монастырь старший сын. В мать пошли дети, в Улиту, задумчивостью своею. – Тебя бы в сарафан-костыч обрядить, вот и бабка Кычка столетня.
Сын обернулся, кротко сказал, не заметивши отцовской ехидны:
– Тять, я было нынче во сне-то помер. Меня во домике несут, а Феоктистушко, братец, впереди с Псалтырью. Ты, тятя, с маменькой Улитой позади причитываете. Я помер будто, а все слышу. Заулком-то несете, белугой воете. И так жалко вас стало, я и заплакал. Тут на улку выходить, а заворы худо раздернули, поленились. Ящичек-то и кувырк. Меня в грязи и выкупали. Кой-как грязь отряхнули, да и опять во гроб. А я все слышу, не диво ли? Вот, думаю, сейчас в ямку положат, земелькой присыплют мои глазыньки, в горлышко песочек набьется, и я дышать не замогу...
– Какое дыханье с землей-то, не лягушка, бат. Какой только страх не наснится. Ты, сынок, на левом боку заспал, вот и наснилось, – пробовал отвлечь Созонт.
– В горло земелька набьется, – повторил сын, напирая на последние слова, знать, явственно видел, как насыпается в него струйкою песок, забивает всякую пору. – Я так забоялся, так забоялся и задумал кричать. Тятя, я-де живой, слышь-ка? А тут гроб вдруг в реке оказался, плыву я. И села на край домика моего большая белая птица и склюнула со лба моего венчик. Вот, думаю, не примет меня Господь, нехристя. – Тут Миня споткнулся и замолчал, смахнул из глаз невидимую соринку.
– А что дальше-то? – подал голос попутчик.
– Тут я и проснулся. Вижу, большая белая птица прочь от меня. Навроде лебедя.
– Баклан, поди...
– Может, и баклан, – согласился сын, поднялся с камня и сгорбленно зашаркал бахильцами по заплескам прочь, спинывая в воду почерневшие змеистые плети водорослей.
– К погоде наснилось, – уверенно пояснил Созонт, но отчего же с такою жалобной надеждою взглянул на сидельца? – Как тебя, сынок, величают?
– По житью, дак Александр Голубовский, а по родителям... – Он замялся. – В подьячих я у вологодского святителя Варлаама.
– Вижу, что не холопьего вида, – сгруба подольстил Созонт, но тут же вернулся в свои заботы. – Вот кабы мне сыскать того лешака, я б в него осиновый кол забил, ей-ей. За что он на меня-то напустился? Господи всесилый, где анделы твои, куда милостивая рать подевалась? Убылой, поди, кто напроказил. Ищи ныне. Иль залетный ненавистник мой. Был онамедни дохтур воеводы Сокровнина. Навестил, а я после полы мыть повелел. Да худо, знать, помыли. Что нехристь с парнишонкой содеял. Места себе не найдет. Вроде телом справился, так опять лихо душу есть...
– Глядел я на него. Прощайся, батя, с сыном...
– Окстись, охальник. Да я за него, знаешь ли ты? – Созонт потянул пищаль, но спутник не смутился и не устрашился.
– Ты яр, мужик, а сын вял. – Нижняя губа брезгливо опала. – Но его очами сам Господь зрит. Иль не чуешь, Медвежья Смерть? Я ныне в Москву подаюсь в Новую Четь к дьяку Ивану Патрикееву, он большой мой друг. Хошь сына спасти, поручи мне. – Голубовский потуже запахнул кафтан из темно-синего киндяка на русачьем меху, оправил кривую саблю турского дела, из дорожного кошеля добыл костяной гребень. – Вот ты на меня рычишь, холоп, но сам архиепископ называл меня княжеским рождением и царевой палатою. – Голубовский прибирал темно-русые волосы, волною сбегающие на плечи, и Созонт уже по-иному глядел на спутника. Глаза у подьячего навыкате, смородиновой спелости, хребтина носа тонкая, с белесым шрамом на горбинке, усы вислые, с темной рыжеватиной, и редкая шерсть на скульях и подбородке. – Так что молчишь? Иль языка лишился?
– Бранчливый ты больно, – миролюбиво отозвался Созонт. – Ты вот меня страшишь, а меня сам отец-государь привечал. Вот еще поглядим, какого полета ты птица, – ворчал охотник, снашивая в карбас подорожную кладь. – Эй, сынок, отчаливать пора, – закричал на гору. – Я ведь как рыкну, так лес на колени падет. А ты предо мною, как голубь под соколом, – бормотал охотник больше себе в утешение, ясно не понимая, отчего вспылил вдруг. Но показалось вдруг, что тот обавник, положивший сглаз на Миньку, вдруг явился из просторов и возжелал вовсе отнять сына. Откуль, однако, он и прозвище вдруг прознал... «Медвежья Смерть»: так мне написано на роду. А ты вот решись, дак кишка тонка». Но Голубовский навряд ли что и слышал, он примащивал на голову с некой значительностью колпак с бархатным верхом и с тульей из беличьей хребтины. Он и Созонта, наверное, позабыл сейчас, занятый своей наружностью. Но кто бы подсмотрел сейчас в его глаза, то испугался бы черной блистающей их глубины и отвращенья ко всему. Воистину люди собою становятся лишь наедине, когда никто не подглядывает.
И Созонт, занятый отправкою, скоро успокоился, хотя и томила обида за сына на неведомого отравителя. Он вынес на берег к рыбацкому становью трехпудовый бочонок масла (гостинец анзерским монахам), ладом проглядел походный снаряд, сколь надежно увязан тот, убедился верности уключин, гребей и мачты. С помощью сына столкнул карбас с отмели, на загорбке, будто пушинку, перенес подьячего в посудину, помолился ясному солнцу: «Боже, милостив буди мне грешному», встал на колени, поцеловал мать – сыру землю, пряно пахнущую гниющей травою.
Сын уже стоял с лекальным шестом у кормы, когда из-за рыбацкого становья вдруг выскочил монах, за спиною у него был берестяный пестерь, сапоги висели на плече. «Слава Тебе, Боже наш, – воскликнул чернец и, высоко задравши рясу, смело побрел в море. – Дай Бог здоровья и доброго пути, миряне. Не примете ли в попутчики?» – «Отчего не принять, ежели смиренный. Вода несет». Созонт не спросил, откуда чернец и куда путь правит, не в его натуре лезть к чужому человеку за спросом.
Монах перекинул ногу через борт, и карбас накренился, едва не зачерпнув рассолу. «Экий же ты, брат, мощной, – ухмыльнулся Созонт Ванюков. – Как только земля носит. Иль монастырские каравашки нажористы?» – «Я хлебца-то выклюю со щепотку, а мне все в добро. Я птичка Божья, на мне крыла невидимы бысть», – рассмеялся монах дружественно и прозорливо оглядел сидельцев. Подьячий подвинулся, уступая места, и чернец, успокоенный, умостился подле, обулся в натоптанные сапожишки и затих, нахохлившись, с какой-то неубывающей радостью вглядываясь в утекающий берег. Парус захлопал, наполнился тягой, и поморец ловко направил посудину в голомень. Задул ровный полуночник, море завилось стружкою, побежала по волне мыльная пена. С севера встала, уплотнилась сизая стена, там скопился морок: худая примета мореходу. Но Созонт ничем не выказал дурного знака.
Созонт, как кочет на нашесте, горбился на корме за правилом, уверенно держа черемховую рукоять и скаля в улыбке съеденные цингою зубы: расхристанная, голая грудь подставлена вольному ветру. «Экий ты, мужчина, окомелок», – с доброй завистью подумал монах, меж тем часто оглядываясь на отрока, сидящего в носу. Тот рукодельничал, резал из можжевела нательный крестик: такое памятное и вечное занятье для всякого чернеца, коротающего в келье свободный час. Отрок нет-нет да и глазел на свежего человека, украдчиво и стесненно прятал лицо. А и было чем увлечься. Монах был корпусный, мосластый, но обличьем странно смахивал на подьячего: те же темно-русые волосы густою волною до плеч, черные навыкате глаза в глубоких обочьях, хрящеватый тонкий нос с широко взрезанными ноздрями, выказывающими натуру необычную; лишь щеки выпиты долгим постом да борода толстая, витая, по самую грудь.
А Созонт чаще заоглядывался, выудил с груди ладонку с травою нечуй-ветер, защитою мореходца, поцеловал ее. Волна запоходила, экий взводень, заповскидывала карбас; и посудина, до той поры обжитая, такая домашняя, надежный плавучий ковчег для поморца, вдруг превратилась в скорлупку сибирского ореха-гнидки, беззащитную и жалкую. Почернела по-над головами небесная хлябь, поволоклась следом за мачтою, готовая разродиться, и как-то сразу выказала себя под днищем бездонная прорва.
«Молитеся, братцы. Да пусть поможет нам Животворящий и Пречестный крест Господень». Не выпуская из руки правила, Созонт ловко распотрошил дорожную кису, достал себе и сыну чистое исподнее; отрок безропотно подчинился, прополз по карбасу, мимоходом неловко обнявши монаха, тот благословил его и поцеловал в мраморный лоб. Отрок споро переоделся, перехватил у отца руль. Подьячий, стоя на коленях, не замечал, как вода уже подтапливает его кафтанец с заячьим подбоем, молился перед медным складеньком. Монаси же, не выказывая робости, плицею вычерпывал прибылую воду; при этом он торжествующе, уросливо вскидывал в небо голову, будто грозил кому.
«Шел бы ты, монаси, к нам в артель. Нам такие атаманы нужны», – закричал Созонт. Монах, не расслышавши слов, однако приветно белозубо оскалился, не переставая черпать плицею.
«Татушка, ты прости, коли в чем нагрешил я. Коли неслушен был, супротивен, егозлив. Коли в чем проказил и не знал уряда. Ежели в чем прогневил матушку и братцев моих. Сыми с меня, батюшка, грехи до скончания века, да и попрощаемся с тобою. Жалость одна, что с маменькой родимой не простился». Миня обнял отца, прижавшись к мокрому его зипуну, чуя такое родное тепло; мальчик не сдержался и заплакал было, всхлипнул, но тут же проглотил слезу, не выдал минутной слабости.
«И ты меня, сынок, прости, отпусти все грехи, – ответно попросил Созонт, блюдя стародавний обычай. – Бог не выдаст – свинья не съест. Крепко я на Господа полагаюсь. Не из эдаких передряг на карачках выползали. На то мы и поморы, чтобы огузье мокро... но коли суждено разминуться нынче, то и на том свете не держи зла на меня. Хоть и строжил тебя частенько, суровил для науки, редко баловал, но откроюсь как на духу, любил я тебя, болезного страдальца, и жалко мне без призору оставлять на сем свете. А на Божьем-то суде, сынок, как призовут святые угодники, то заступись за меня, чтобы не разлучали надолго. А сейчас не страшись ничего, смотри в оба за поклажею, проверь, ладом ли прихвачена бечевками. Да помни, сынок: я Медвежья Смерть, так меня обозвали люди, а ты – мой сын».
Созонт поцеловал Миню в лоб и легонько отпихнул от себя. Он спустил парус, крикнул всем садиться за греби; но огрузнувший от воды карбас худо слушался весел. «Тата, прощай!» – вдруг завопил Миня. Зловеще, молча на них надвигалась свинцовая живая гора, экая варака, по отрогам которой ослепительно белые гребни сплелись в венчальную корону. Созонт напружился, как на бою с медведем, чувствуя, как рвутся закаменевшие от натуги жилы; он всею грудью навалился на правило, пытаясь вывести карбас на долгий, змеисто шипящий водяной склон. Но девятка накрыла посудинку, как ветхую гнилую щепину, и кинула в преисподнюю.
«Сынка-то не потерять бы. Не ко времени разминулись», – неотступно думал Созонт, продираясь сквозь толщу вод на последнем издыхании. Бахилы тянули, перевязанные под коленами, да зипунишко отяжелел, как вериги, оковал тело. Вынырнул он по зверовой сноровке рядом с бортом, сын уже змейкой всползал по днищу, цепляясь за нашвы, за смоляной вар. Подьячий Голубовский, отплевываясь от рассолу, впился в корму, в рулевую скобу; он едва раздвинул туго стянутые посиневшие губы, выказывая кормщику свое отвращение. «Дак и то, надо себя винить, кого боле, ежли руки пришиты плохо, – сокрушался Созонт. – Вот и чернец Богу душу отдал. С меня же и спросится».
Эй, Созонтко, Ванюков, царский кречатий помытчик; тебе ли кручиниться да вины считать средь моря студеного; что же ты душу-то травишь, неустрашимый человек, изъеденный язвами от долгих артельных походов. Оплошка ли тому виною, иль чужой обавный зрак, иль судьбы осекшаяся нить под ножницами злыдни Невеи. Тут тебе не кабак, и ты не государев целовальник, чтобы чужим чаркам счет весть; но самое время выказать натуру, завязать ее в узел, чтобы не растеклась безвольная плоть от морского тоскливого рассола. Жив? дышишь? Значит, ангелы не покинули, не списали под черту, зрит за тобою Всемилостивый, суд ведет и грехи личит, как ты себя поведешь во спасение чужих душ. Что же ты разжидился, как дижинь на мучной шаньге, артельная голова?
«Господи! – вдруг вскричал Минейко, впившись взглядом в бессонно дозорящую небесную высь. – Господи Спасе! Коли спасуся, юродивым стану!»
И сразу море окротело, вздох прошел по нему от края и до края. Лучше бы не слышать Созонту обетных сыновьих слов: будто двуострым мечом рассекли сердце. Второй сын завещан Богу. Но, может, милость это и за нее не пристало скорбеть?
Тут на пологом склоне последней умирающей волны показалась белая скрюченная рука и пропала. Черные волосья, словно водорослей пук, растеклись по масляно-черной воде, обреченно погружаясь на дно. Голубовский вдруг погибельно откинулся от спасительной кормы и на третьем гребке поймал ускользающую монашью гриву, отчаянно поволок к карбасу. У монаха было зеленое мрелое лицо. Миня ящеркой скользнул по днищу, цепляясь босыми ступнями: он уже успел распрощаться с бахильцами. Воззвавши к Спасителю, он как бы получил укрепы и подмоги и сейчас спешил разделить благословенный дар во услужение. Плача неведомо отчего, уже не боясь погибели, отрок потянул страдальца за волосье, за ворот монашьей однорядки, выволакивая его, как уловистый бредень; Голубовский подсаживал снизу, выбиваясь из сил. Монах скоро расчухался, отрыгнул воду, замлело и тупо приложился щекою к набою: сейчас никакая сила не смогла бы отодрать его скрюченных дланей от последнего прислона. Да и то сказать: не чудно ли это спасение? Ведь уже обреченно распрощался с жизнию, затих, отдавшись воле Божьей и слыша ликовствующий праздничный псалом; и тут вдруг вытянули из небытия, как полудохлого леща из мотни. Господи, прости и помилуй, ты не оставил великого грешника. Веком не плавал, сызмальства стерегся воды и нынче должен бы, как шкворень железный, пойти ко дну; но ведь что-то держало его грузные кости, волокло по бархатистому, упругому боку волны, похожей на китовый живот.
Созонт, погружаясь в студеный рассол, стянул с ног бахилы, по-лешачьи рыкая, выпихался на киль, не прощаясь с обувкою, пособил выбраться беднягам. Наступала скорая темь, и зверовщик понимал, что ночи всем не осилить.
«Ну, братцы, чего молвить. Оплошал я, мне и справу рядить. Коли карбаса не опружим, к утру загнемся, в мать ее кочерыжку. Давайте-ка мне опояски, слушайтесь меня да держите пуще».
Созонт Ванюков связал кушаки, один конец ужища петлею накинул на кисть левой руки, перекрестился и нырнул под карбас. Воистину жить захочешь, и в игольное ушко пролезешь. Лишь на третий раз он распластал ножом лихтачьи ремни и выдернул мачту из гнезда. Долго ли, коротко ли, но карбас сообща удалось повернуть на место, отчерпали сапогами воду, пожиток кой-какой, надежно завьюченный хозяйской рукою, слава Богу, сохранился, но скарбишко подьячего пропал. Голубовский не особо и кручинился иль виду не выказал, да и не время горевать об утрате. Пожевали ржаного каравашки из горсти, обильно приправленного морским рассолом, помолились о спасении, возблагодарили Исуса да с тем, томясь от немочи и холода, сгрудились в одно место, прижались иззябшими телами и намаянно уснули. Лишь Созонтко Ванюков не сомкнул глаз, сидючи на правиле, а из ума все не шел сыновий вопль ко Господу о милости.
Все так же тянул легкий полуночник, спутный ветер; вот и луна всплыла из-за моря, багрово-ярый зрак ее раскатал по Гандвику шевелящийся половик и сотворил путь невидимый видимым. По этому путику, указанному самим провидением, ковчежец и достиг Кий-острова, мест, знакомых помытчику по кречатьим промыслам. Выползли страдальцы на каменистый островок на негнущихся остамелых ногах, пали ничком, радостно целуя нищую северную землю, и истово воспели псалом благодарения Спасу и мати Его Богородице, и Николе Поморскому, и соловецким чудотворцам Зосиме и Савватию, и всем небесным архистратигам. В рыбацком становье решились коротать до утра; обсушились над каменицей, наварили ухи из сушья – вековечных поморских припасов для страждущих путников, натолкли туда сухарей да этим хлебовом и напитались. Монах топоришком свалил на мысу креневую сосну, растесал ее на плахи, связал саженный крест и на древесном теле ножом выбрал памятку: «Никон иеромонах анзерский поставил сей крест Христов во чудесное спасение августа месяца 13 дни в лето 7147».
Александр Голубовский зазирал издали, вроде бы не решался приблизиться, но тут подошел, вызвался помочь. Сообща воздвигли крест, обложили валунами, долго стояли молча, каждый думал о своем. Монах то и дело наклонялся, поправлял гурий, добавлял для укрепы каменьев. Неужель Никон провидец и ведал, что судьба обетному кресту долго стоять на юру безнадзорну; но минет двадцать лет, и волею опального святителя будет заложен на Кий-острове Крестовый монастырь. Да нет же, разве сыщется на миру человек, что способен прочитать на невидимой небесной книге свое будущее? Вот они мерзнут под сиверком на берегу Гандвика, как два брата единоутробные, лишь один посуше, подбористей телом и редкоус.
«Я до скончания живота моего не позабуду твоей услуги. И, коли сыщется возможность, отплачу по высокой плате жертвенность твою, – с ласкающей добротою молвил чернец, но темные глаза не зажглись любовию, не выдали мгновенной слабости, глядели строго и внимательно. Высокий белый лоб, крутые надбровья, крупная сановная голова, приоткинутая назад тяжелой копной давно не стриженных волос. Господи, да что в этом монахе от смиренного мордовского попишки? Подьячий исподлобья, несколько теряясь, мимолетно взглядывал на спутника и дивовался: не чудо ли? как бы самого себя вижу в веницейском зеркальце чистой воды. Голубовский подивился подобного сходства и устрашился. Воистину пречудны дела Твои, Господи... И вместе с тем мужицкие корявые руки с обкусанными слоистыми ногтями, сбитые опорки, шитые в анзерской келье самолично из нерпичьей кожи, обтерханная по полу ряска, явно тесноватая в груди и покатых плечах. – Я уж и не чаял бела света видеть, – с простотою доверялся Никон. – И намерился помереть. Так сладко стало, как во сне. Стою у врат, архангеловы трубы трубят, зовут, значит. Так что есть смерть и есть ли она?» Близкая слеза пресекла талый голос чернеца. Голубовский участливо кивал, но что-то потаенное пригнетало его, не давало покоя. Торопливо он отказался от благодаренья.
«И никаких услуг не надо мне. Нет-нет. За доброе дело не ждут ответной дачи. Это отрок отвадил смерть от нас. Это его слабый голос услышал Господь и восхитил. Я сразу приметил на нем сокровенную печать. И на тебе печать. Я не знаю, чей ты сын, да и закоим знать? – Голубовский заторопился. – Но я откроюсь тебе, ибо время поджимает. Настает последнее время, и гонцы ждут ответа. Ты дай мне крестное целованье, слышь, монах? Чтоб я утвердился». – «За благой поступок не ждут милостей, а ты с меня клятву требуешь, – напомнил монах. – Твое сугубое дело, и тут твоя воля». – «Ну ладно, ладно, экий же ты, право. Однако себе на уме... Я не запираюсь, что был в подьячих у Ивана Патрикеева: на ком худоба не живет. Вон, в московское разоренье, все князья разбрелись, что овцы, и попробуй собрать. Только называют меня подьячим, а я вовсе и не подьячий, а истинный князь Иван Васильевич Шуйский». – «Окстись, холоп, чего такое молвишь?» – «Вот те крест. – Голубовский осенил себя знамением. – Я-то бы и не ведал про то, но в девятнадцать лет я был посажен в пищики на Вологде в съезжей избе и тут нашел о родителях моих государеву грамоту, кто были мои родители. Я не самого царя Василия сын, а дочери его сын. Дочь его в разоренье взяли казаки, а после казаков за отцом моим была». – «Все это неправда. У царя Василия детей не было. Ты эти напрасные речи оставь, поезжай-ка лучше к великому государю и вины свои принеси, а царь вину твою велит отдать», – пробовал усовестить Никон. «Нет-нет, я уже решился, за тем и в Соловки на богомолье ходил. Я собираюсь нынче же переметнуться за рубеж, в польские иль свейские земли. За тем и ищу себе верного сотоварища». – «Грех на воровское дело идти, и в этом предприятии я тебе не сподручник. Со мною, брат, тебе сошло, а другой, кому откроешься случаем, разом поволокет тебя в Разбойный приказ иль шкуру сымет, не спросясь государя, и мешок тот набьет коровьим назьмом». – «И это твое последнее слово?» – грубо оборвал подьячий, ухватился за крыж сабли, с протягом, лениво вызволяя ее из ножен. – Вот, гляди, коли выдашь меня с умыслом иль по глупости. Этой турской сабелькой разложу тебя по мясным костям. Стосковалась моя сабелька по крови. Запомни меня, монах». – «Э-э... зря грозишь. Не родился пока человек на свете, от коего бы я затрусил. Я, Никон, Божьей милостью иеромонах! Ты почуял меня! – Грозный высверк лишь метнулся в набухших кровью глазах, но тут же и потух. – Ты исповедался мне, спутний друг и спаситель. Так как же я могу нарушить тайну исповеди? Какой грех приму на душу? Я пробовал ублажить тебя, припадал к твоей совести, видит Бог. Но она молчит. Так помни, мы все у подножья Сион-горы и обособицу тщимся вверх, к престолу Спасителя, что ждет нас. И как бы не сорваться в Потьму к сарданапалам и сатанаиловой свите. Вот уж тамотки припекут за хвост».
И они молчаливо разошлись по миру, каждый своей тропою...
Созонт Ванюков перевез новых знакомцев в Устьонежскую слободку. Оттуда Никон по Онеге поднялся за сто верст в глухой Кожеозерский монастырь. Он отдал вкладом в обитель последнее, что имел из житья, самое дорогое, две заветных книги, что сохранил за пазухой в подшитом кармане: Полуустав и Каноник. Незадолго до прихода Никона преставился пустынник Никодим, почитавшийся святым в Заонежье; в его уединенной келье в Заозерье и поселился новый старец, истомляя плоть свою и страсти веригами, постом и одиночеством. Подьячий Голубовский с попутьем на купеческом насаде уплыл в Москву, а весною 1640 года тайно переметнулся к свейским немцам.
Созонт Ванюков с сыном благополучно достигли Окладниковой слободки. Той же осенью Минейко подался в Антониево-Сийский монастырь, где через лето и принял монашеский постриг под именем Феодора.
Глава первая
Еще в отрочестве, воспитываясь в Желтоводском монастыре, Никита Минич задался странною мыслью: если Бог воплотился в человеке однажды, то он может воплотиться и вновь? И что, если этим божественным сосудом окажусь я?
Никон старался страданиями повторить Христа, но в нем было слишком много плоти, чтобы самому пригнести ее токи, и с молодости не нашлось более сильного волею человека, способного утишить сердечные бури. Помните, Никон сказал: «Я птичка Божия, на мне крыла невидимы бысть». Так птичкою этой, пуховинкой тополиной, был Елеазар Анзерский, большеголовый, с сильно сдавленными висками, отчего прозрачные уши казались морскими розовыми раковинами. Этими раковинами и впитывал Елеазар дух небесный, он жил под архангеловы трубы, смиренно дожидаясь их зова на Судный день.
Еще в детстве, когда в Смуту отступали от поляков, Елеазар упал под тележное колесо, с того сильно припадал на левую ногу и рано застыдился своей «увековеченности». На послушание же он попал в Нилову пустынь к старцу сурового житья. В поучение анзерским инокам Елеазар не раз вспоминал со слезою крутое то житье: «До смерти мне надобно помнить, какова милость Божия надо мною, грешным, была в пустыне и что мы кушали вместо хлеба сие брашно траву папорт и кислицу, ужевник и дягиль, дубовые желуди и с древес сосновых кору отыскали и сушили и, с рыбою смешав, вместе толкли, то нам брашно было, а гладом не уморил нас Бог. И како терпел от начальника с первых дней моих, два года по дважды на всякий день был бит в два времени. Но и в Светлое Воскресенье Христово дважды был бит. И того сочтено у меня в два года по два времени на всякий день боев тысяча четыреста и тридесять. Сколько ран и ударов на всякий день было от рук его честных, тех не щитано.
Бог весть – и не помню: от ран великих едва дыхание во мне бысть. Пастырь мой плоть мою сокрушал, а душу мою спасал. Что ему в руках прилучилось, тем и жаловал меня, свою сиротку и малого птенца. Учил клюкою и осном прободал, и поленом, коим в жернове мелют муку, и пестом, что в ступе толкут, и кочергою, что в печи уголье гребут, и поварнями, что ествы варят, и рогатками, что раствор на хлебы и просфоры и на пироги в сосудах бьют, чтобы хлебы или просфоры и пироги стали белы, – чтоб душа моя темная светла была, а не темна; и ноги моея икра была выбита коромыслом, чтобы ноги мои на послушание Христа ради готовы были. И не токмо древом всяким, но и железом, и камением, и за власы дранием, и кирпичом, и что прилучилося в руках его, чем раны дать, и что тогда глаза его узрят, тем душу мою спасал, а тело мое смирял. И в то время персты мои из суставов выбиты и ребра мои и кости переломаны».
Никон постригся будучи в зрелых летах, по земле тяжело ходил, и тело его было словно бы сбито кузнечными молотами: не птенцу Елеазару смирять великана осном, клюкою иль поленом, а такой нужен был звериной силы человек, как Созонт Ванюков, что матерущему медведю шею сломал. И приходилось самому с собой Никону люто бороться, на самого себя ходить с рогатиною и пищалью, морить и смирять.
У Елеазара уши были, что морские солнечные раковины, а глазки, близко посаженные, как шильцы, буровили насквозь.
Никон возмечтал пасти стадо, Елеазар спасал лишь себя, он жил грядущим Судным днем, к нему приуготовлял себя, и всякий добрый поступок мысленно складывался на чашу спасения. Он и Анзерскую пустынную церковь, свой прижизненный подвиг, посвятил Христу, всякую копейку, что добывал в поте лица своего иль кою жертвовали в обитель, он вмещал в строение. И когда Никон принялся давать старцу советы, как распорядиться деньгами, то Елеазар усмотрел в этом вмешательстве покусительство на его личное богостроительное дело, на венец всей жизни. Елеазар строил Христов дом, чтобы войти в него по смерти и ввести за собою всех смиренных иноков. Смирение возвышает инока, строит из него вместилище духа, а смирение зреет лишь в тишине. Елеазар был человеком тишины, ибо все прозрения встают из безмолвия, как невиданные рыбы со дна моря. У Никона же даже молчание было шумным. Вот он постился сорок дней, особенным, дивным образом изнуряя себя, и этим он также вырастал над братией, заявляя о себе, поражал ее тихое бытование.
А Елеазар просто жил: он пришел на пустынный островок, срубил себе келейку из сосновых деревьев, из конопли связал сетчонки и поймал рыбы; у нерпы, выброшенной штормом, он снял шкуру и сшил себе сапожишки. Рыбаки-миряне оставляли ему милостыню, и он с молитвою благодарною уносил к себе. И узнавши о пустынническом житье Елеазара, стал притекать к нему столь же богомольный кроткий народ, готовый к послушанию. Так Елеазар сам собою стал Учителем; слабые духом порою покидали старца, уходили в Россию и там несли славу об анзерском иноке. Елеазару надо было настолько мало, как мало надо чистому духу, чтобы пребывать во здоровье. Вот умер человек, и из его души, унесенной ангелами в райские обители, вызревает, как из яйца, новый образ. Елеазар еще на земле был таким «образом». Он выплакал государю Михаилу «дитя вымоленное», и слезы его целый год текли из источника радости. Никон же омылся в этом источнике и с пригоршнею Елеазаровых слез постучался к вымоленному дитяти Алексею и окропил его благодарную душу.
Глава вторая
ИЗ ХРОНИК. «... Вор Алексашка Голубовский подал визирю грамоту, в грамоте написано, будто он сын царя Василья, и когда отца его в Литву отдали, он остался полугоду, и отец приказал его беречь тем людям, которые ему впрямь служили, и они его вскормили, и когда сделался царем Михаил Федорович, то велел ему видеть свои царские очи и дал ему удел Пермь Великую с пригородами. Там ему в Перми жить соскучилось, он приехал в Москву, и государь велел посадить его за пристава; но те люди, которых царь Василий жаловал, освободили его и выпроводили из Москвы. Воевода молдавский его ограбил, снял с него отцовский крест многоценный с яхонтами и изумрудами и много другого добра и хотел его убить, как убил прежде брата его большего, и, убив, голову и кожу отослал в Москву, а Московский государь велел эту кожу накласть золотыми и дорогими камнями и отослать к молдавскому воеводе в благодарность.
Алексашке Голубовскому велели жить позади визирева двора, а есть присылать от визиря. Ему соскучилось в Константинополе, и он побежал в Молдавию, но в дороге его схватили, вернули в Константинополь и хотели учинить жестокое наказание; он, вор, обещал обасурманиться, обрезание же упросил отложить. Его освободили и чалму надели, но Голубовский, нарядясь в греческое платье, побежал в другой раз с русским пленником на Афон. Из Турции через Венецию он пробрался в Малороссию и был принят там гетманом Хмельницким. Он объявился наместником Пермским и грамоту показывал гетману; он говорил потом, что в Перми его взяли на бою в плен татары, что многие государи звали его к себе, но он не хочет отстать от православной веры и хочет служить царю Алексею Михайловичу...»
«... О том же Алексашка писал из Чигирина и к Путивльскому воеводе, боярину князю Семену Васильевичу Прозоровскому: «Князь Семен Васильевич государь! Не тайно тебе о разореньи московском, о побоищах междоусобных, о искорененьи царей и царского их рода и о всякой злобе лет прошлых, в которых воистину плач Иеремии в Иерусалиме исполнился над царством Московским, и великородные тогда княжата скитались по разным городам, как заблудшие козлята, между которыми и родители мои незнатны и незнаемы в разоренье московское, от страха недругов своих, невольниками были и со мною невинно страдали и терпели, а сущим своим прозвищем, Шуйскими, не везде называться смели. Об этом житье-бытье нашем многословить не могу, только несчастью своему и бедам настоящее время послухом ставлю, которое время привело меня к тому, что я теперь в чужой земле в незнаемое окован сиротством и без желез чуть дышу и жалостную плачевную грамотку к тебе, государю своему, пишу: прими милосердно и знай про меня, что я, обходивши неволею и окруживши турские, римские, италианские, германские, немецкие и иные многие царства, наконец, и Польское королевство, не желал никому на свете поклониться и покоряюсь только ясносияющему царю Алексею Михайловичу, государю вашему и моему, и к которому я хочу идти с правдою и верою без боязни, потому что праведные царские свидетельства и грамоты, что при себе ношу, а природа моя княжеская неволею и нищетою везде светится, чести и имени гласовитого моего рода не умаляет, но и в далеких землях звенит и как вода размножается.
Все это делается на счастье и прибыль отечеству моему и народу христоименитому, на убытки и бесчестье государевым недругам, на славу великую великого государя, которого есть за мною великое царственнейшее слово и дело и тайна; для этого я в Чигирине никому не сказываюся, кто я, во всем от чужих людей сердечную клеть свою замыкаю, я ключ в руки тебе отдаю. Пожалуй, не погордись, пришли ко мне скрытного верного человека, кто бы умел со мною говорить и то царственное слово и дело тайно тебе сказать подлинно, чтобы ты сам меня познал.
Какой я человек, добр или зол; а покушавши мои овощи и познавши царственное великое тайное слово, будешь писать к государю в Москву, если захочешь, а ключи сердца моего к себе в руки возьмешь, с чем я тебе, приятелю своему, добровольно отдаюсь. Знаю я московский обычай, станешь писать в Москву об указе теперь прежде дела, и пойдет на протяжку в долгий ящик; я ждать не буду, потому что делаю это ни для богатства, ни для убожества, но пока плачевного живота станет, орел летать не перестанет, все над гнездом будет убиваться».
...По этому письму князь Прозоровский прислал с подьячим Мосолитиновым грамоту Голубовскому: «Тебе бы ехать ко мне в Путивль тотчас безо всякого спасенья: а великий государь тебя пожаловал, велел принять и в Москву отпустить».
Голубовский, прочтя письмо, сказал: «Рад я к великому государю в Москву ехать» и велел подьячему побыть у себя три дня. Тридцать первого августа он исповедовался и приобщился и, призвавши к себе гонца, стал говорить ему. «Приехал ты по государеву указу? Не с замыслом ли каким? Нет ли у тебя подводных людей, не будет ли мне от тебя какого убийства?» Подьячий клялся, что дурна ему не учинится. «В прошлых годах, – продолжал Голубовский, – посылали мы в Волошскую землю в монастырь построения царя Ивана Васильевича для своего дела человека, но когда он велел ему назваться царем Димитрием, короновал его и послал к турскому султану в Царь-город. Был в это время в Волошской земле государев посол Богдан Дубровский, доведался он про этого самозванца и написал государю в Москву. Государь прислал указ принять его честно; и тот наш человек, обрадовавшись, что его называют честным человеком, поехал с Дубровским в Москву. Но Дубровский, въехавши в степь, велел его зарезать, ободрал с него кожу, отсек голову и привез в Москву: и ты не с тем ли ко мне приехал?»
В тот же день Голубовский позвал подьячего с провожатым к себе обедать; за обедом за государское здоровье чашу пил и говорил такое слово: «С мудрыми я мудрый, с князьями – я князь, с простыми – простой, а с изменниками государевыми и моими недругами рассудит меня сабля... Я готов ехать к государю в Москву, хотя и на вольную страсть, ничего не опасаясь по правде моей и невинности, готов показать ясно, что хотя и в подьячих был, однако благородия княжат Шуйских не лишен».
Наутро же Голубовский ехать отказался, ссылаясь на обиду: «Присылают ко мне, будто к простому человеку; добро бы прислали ко мне московского человека, да с Вологды пять человек, да из Перми пять же; те меня знают, кто я и каков. Если государь меня пожаловал, то прислал бы ко мне свою государеву грамоту имянно, а то меня обманывают. Не считайте меня за подьячего: я истинный князь Иван Шуйский».
Заручившись подорожным листом гетмана Хмельницкого, самозванец ушел в Московское государство.
В это время в Новом-городе вспыхнул мятеж. Посадский человек Костка Иванов со товарищи вытолкал взашей воеводу Хилкова из съезжей избы, грозясь убить того до смерти, и напуганный бедный князь едва уцелел в подклети за амбарным замком. Гилевщики и к Никону подступались, ухватили владыку со всяким бесчинием, ослопом в грудь зашибли и дубьем да каменьем ребра пересчитали и уже намерились волокчи митрополита в земскую избу, чтобы там поставить перед разбойной ватагою к ответу.
Но Никон натуры не терял, головы не гнул, всячески увещевал мятежников по-худому и по-хорошему, сулил им Божьей кары, и костил-то их татями и ворами, позабывшими Христа, и к совести взывал, и молил вины свои принесть царю-батюшке, и свет-государь вины их отпустит.
На полдороге накидавши тумаков, гилевщики владыку бросили и рассыпались по городу, грозясь стоять насмерть за царя и за веру и тем разжигая себя; де, государь-милостивец не кинет в беде, не отдаст на прожор сутягам и мздоимцам, продавшим Русь святую за медную деньгу. Так захотелось вдруг мужикам воли, прежних новгородских потерянных свобод, гулебщины, такой задор вдруг охватил посадских, что, забывшись и возмечтав о прежних временах, полезли они на соборную колокольню и воззвали в большой колокол во все концы ко всякой живой душе. И тут городские ворота закрыли и воротника поставили, а к пушкам затинщиков, а к амбарам с огневым зельем выборного старосту, десятских и сотских отправили с наказом по избам, чтоб непременно зазывать народишко на вече. А народишко тот за малым числом уже искипел душою и одумался втайне и помышлял, как бы голов не лишиться за свару.
...С нужою и обидою едва добрался Никон до архиерейского дома, в келье своей пал на лавицу на рогозную постелю; всякий уд стонал и призывал пособить.
– Ах, господине, господине, в хорошей бане раскатали они тебя да всякий мосолик пересчитали, – причитал служка Шушера, меж тем ловко растелешив владыку; тот лежал на рогоже, распластанный, как морской зверь; кой-где в подреберьи сочилась жидь и сукровица: то ли от вериг, то ли от нечаянного ослопа. Кожаные оплечья осклизли, почернели от пота, чепи же на груди спутались черной кудрявой шерстью и как бы вросли в кожу, и лишь крест десятифунтовый слегка сполз от вздошного места. Шушера смазал опрелости и битые места льняным маслом, накинул на владыку свежую рубаху, гребнем разобрал темные волосы и собольи густые брови, что в старости отрастут, как у вепря, и поседеют, нависнув над глазами. «Ах, бачка, бачка, какая неволя звала вас? Заединщиков и заплутаев разве смиришь чем? Они на то и поставлены, чтобы плутать и грешить, а мы – плакать о заблудших. Хороший березовый веник сыскался для господина. Ну, да и то: без язв шкуры не износишь, а, бачка? Бог-то терпел...»
– Хватит шарпаться. Ноешь и ноешь. – Никон недовольно вспыхнул. – Придут! Паки и паки! Скажут: прости, владыка!
– Но отверста дверь для покаяния...
– Нет покаяния для тех, которые торгуют покаянием. – Никон приподнялся на локте, взгляд его был суров. – Сарданапалы, они горше саранчи. Они, как клещи подкожные, вгрызаются и точат, точат немилосердно... Ты, чернец, не румянами ли обзавелся иль тайком говядой брюхо растишь? Ты посмотри-ка на себя. Как баба, чисто баба. Дьявол, сатана, тьфу на тебя. – Никон со странной улыбкою подозвал к себе Шушеру. Тот наклонился, и митрополит шепнул: – На совращение подослан? А я не боюся...
– Ой, бачка, бачка! Я-то вас люблю, как апостолы Сладчайшего. А если рожа у меня мерзейшая, так меня в кузне в огне ковали и пламя из меня нейдет. Вот порой бы и сам, схватя, да и разодрал бы предательское свое обличье. Как харю ношу, личину какую, верите-нет! – Шушера внезапно всхлипнул, тугие, брусничной спелости щеки налились красниною еще пуще, побагровели.
– Ну, ступай, ступай, – Никон протянул руку, и Шушера благодарно припал к перстам. – Видом ты раздевулье, а душою ангел. Зачтется тебе.
Дверь за служкою плотно закрылась, и Никон с облегчением раскинулся на лавке, скинув на пол сголовьице, набитое туго овечьей шерстью.
Он скосил глаза и увидел внимательный лик Христа: Спас был хмур и тревожен. «Господи, – устыдился Никон, – мне ли плакаться. Что значат мои страдания? Вот коли придется сойти в матицу огня да пройти сквозь трубы тартар... Прости, коли можешь. Соблазн окружает нас. Я не держу сердца на них; раздвинь мои ребра, и Ты увидишь любовь. Они придут, забойцы и душегубцы, и я дам им надежды. И Ты, Боже милостивый, не покидай меня. Я скверный, да-да-да. Я вместилище греха! Черви свили во мне гнездовье, скорпион поселился в моем сердце. Помоги, дай известь гадов и исцелиться... Помнишь, Милостивый, как мачеха гноила меня, морила голодом и холодом, и я, решившись, пробовал залезть воровски в погреб, и мачеха столкнула меня в яму, и едва тамо не лишился духа жизни. А помнишь, Исусе, как, спасаясь от холода, я залез в русскую печь и уснул там. А мачеха напихала дров и запалила. Хорошо, бабушка родненькая, моя надея, услыхала мои крики и спасла. Но я не держу на мачеху зла. А помнишь, как она чуть не отравила меня, и только чудо спасло мою ничтожную жизнь И я давно простил заблудшую женщину и за это. Я помню, все помню. И это грех мой. Но я излечуся. Ты суров со мной, Сладчайший, огнь Твоего сердца прожигает меня, и я сгораю в этом чистилище Я скверный, я нечистый, я полон соблазнов, бесы томят меня, бесы».
Причудилось ли архиерею, поблазнило иль тонкий сон от пережитого навестил Никона, но вот необъяснимая сила обвернула его на лавке, и вдруг перед очию встал Спасов образ ногами в пол, а главою выше столетней березы, и над челом Его вспыхнул золотой венец и мало-помалу, сначала зависнув в воздухе, стал приближаться к Никону, и волосы митрополита зашуршали, вспыхнули от жара. Тут воздух зазвенел от множества невидимых ангельских крыл, потолок над келейкой воспарил, и в занебесье протянулся дрожащий рудо-желтый столб света. Лети, приказал Спас, и на спине Никона, где затвердели язвы от кожаного затыльника вериг, что-то засвербело, и вдруг отросли перьевые папарты, крыла журавлиного окраса, и владыка решился взмахнуть ими, опереться на воздуха.
Но тут в келью вкрадчиво заскреблись, и Никон очнулся, с трудом расставаясь с видением. Ровно горела свеча в стоянце, к слюдяному оконцу, шурша, припадала под ветром черемуховая ветвь. Обрезать бы надо, подумал в который раз Никон, только свет застит, будто прошак тянет руку Христа ради. Соборный колокол замолк, и шум с посада уже не доносился в архиерейский дом.
– К вам царев вестник, – доложил Шушера в притвор двери, сверкнув зеленым кротким глазом. – Принесть ли платно?
Никон замахал рукою, еще худо понимая себя Служка скоро обернулся, принес кафтан из кизылбашского атласа; по зеленой земле вытканы цветные гвоздики и гиацинты. Никон скоро оделся, сунул ноги в простые ступни из лосиной кожи и перешел в кресло, подарок государя, больше смахивающего на трон: боковины орехового дерева искусно резаны травою с птицами, сиденье и поручни обтянуты золотым бархатом. Никон погрузился в кресло, перебирая четки и призакрыв глаза. Сон не шел из памяти и сулил перемены. Над высокою спинкой виднелась лишь скуфейка митрополита из черного байбарека.
«Всполошились в Москве и несут мне укоризны, что недоглядел. Мне пасти души, а вам телесное, – указал Никон невидимому и слегка возгордился собою. – Велико царствие, ан нет... священство выше».
Тут что-то встревожило его, предчувствие смуты указало на дверь. Он взял у ободверины дорожный посох с осном и, придержав дыхание, присдвинул миткалевую опону над дверью, в отдушину. Никон увидел гостя в походном кафтане, путвицы из дутого серебра, сукно – кармазин, английское, тонкое, на голове шапка с опушкой из соболя, сапоги юфтевые, вышиты золотыми травами. Гость стоял полуотвернувшись, занятый собою, опустело уставясь в угол, вислый ус нервно вздрагивал, и что-то заносчивое, презрительное было в костлявом, усталом лице, свалявшиеся в колтун волосы неряшливо спадали на серый от пыли воротник. Видно было, что странник сломал большую дорогу и сейчас как бы забылся, потерялся от усталости «Брыластый гордоус, спаситель мой, лютер и гиль, откуда он здесь? – невольно всполошился Никон, тихо сошел с рундука. – Самозванец и вор, как насмелился только. В колодки, в чепи, в ухорон, да с грамоткой к государю». Никон встряхнул колоколец и, торопливо перебирая лествицу, устало попросил Шушеру: «Сыне достойный, скажись на мою хворь, отведи в гостевую избу да приставь трех стрельцов архиерейских, чтобы гостю нашему было не тревожно. Дай брашна всякого с моего стола да сыты медовой и глаз не спускай. Да так отведи, чтобы любопытная челядь не наследила».
Иоанн Шушера потупился и тенью исчез за низкой дверью. Вот он, согбенный, жидкие волосы в косичку, мелькнул за слюдяным оконцем, за ним, осторожно осматриваясь, ухватившись за крыж неразлучной турской сабельки, проследовал Голубовский, едва поспевая за келейником.
В конце второй седмицы гиль, затеянная по оплошке посадскими, так же внезапно потухла, свейского немца с государевыми деньгами на выкуп полоняников отпустили прочь, и мятежники, позабыв о пьянящей воле, чередою потянулись к Никону, понесли свои вины: и кто горячих лещей натолкал митрополиту, и кто обносил поносным словом, и кто батогом просчитал ребра владыке, – все шли, потупивши очи и лия слезы. Владыка прощал всех, зла не таил, анафемою не грозил, в колодки варнаков не ковал, в губную избу на встряхивание не спроваживал. Да и новый воевода князь Хованский, сменивший Хилкова, горячки не порол, архиерея во всем слушался и почитал. Но пришлец Голубовский так и жил в потае, в схороне, то ли затворник, иль пленник, иль неледбый гость, а Никон все еще не положил окончательной мысли, как урядить случай.
...Воистину: отверста дверь для покаяния, и к Богу ближе всего отпетый и проклятый человек, ибо он, позабывший о Христе, больше всего и нуждается в нем. Но тут, вор и ярыжка, этот разбойник и бродяга, покусился на цареву честь, решившись примерить скипетр. Спровадить бы его в пытошную: там ему самая честь, да жупелом залить афедрон... Но как с памятью-то быть, куда подевать ее? Кто на добро содеянное учинит злобою, тому вековечно на огненной скамье корчиться. Он же меня из моря-окияна выдернул, от смерти спас. Он как бы святые письмена небесные прочитал и меня подтолкнул. Это как бы покрестовались мы, пуще родных стали. Господи, Господи, блядословлю я недостойно, и за то отметится мне и на том, и на сем свете... А может, и нет в гордоусе непрощаемой вины? Начитался зодейщиков да альманашников, набродился по басурманским и лютерским землям, вот и возомнил, гордей. Но вот сказывал клирик, де, при нем и грамотка проезжая от гетмана. Чем-то обавил, окрутил Хмельницкого? Не словом же чернокнижным отуманил христовенького, небось и памятки выказал? Ты-то, Никон, коли вправду слуга государев, так объяви «слово и дело», пока не снесли царю извет, да и вези под вахтою варнака в Разбойный приказ. Самое ему там место, в пытошной-то. Чего медлишь? Иль мнишь, что он воистину Шуйского Василия внук? Уж больно дебел и раж, и уряд боярский...
Никон послал клирика Шушеру за самозванцем, а сам вновь сел за письмо к государю, кое во всю смуту не мог закончить. Поверх подрясника набросил на плечи мантию черного сукна с источниками, креслице подвинул поближе к зарешеченному оконцу, притулившись ко краю резного стола: «... Однажды смотрел я в келье на Спасов образ со слезами и неизъяснимой любовию. И вот внезапно я увидел венец царский золотой на воздухе над Спасовой главою; и мало-помалу венец этот стал приближаться ко мне. Я от великого страха точно обеспамятовал, глазами на венец смотрю и свечу перед Спасовым образом, как горит, вижу, а венец пришел и стал на моей голове грешной. Я обеими руками его на своей голове осязал, и вдруг венец стал невидим...»
В пепелесых разводах слюды увидел двоих. Никон встал и помолился. В дверь постучали коротко, требовательно. Спас Грозное Око надзирал из угла: в глазах Сладчайшего стояла укоризна. Никон помолился, медля, взял в руку оси, пристукнул по лещадному полу, выбивая из камня искру. В прихожей просились к Никону, но в голосе гостя не было кротости: «Молитвами святых, отец наш, Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Владыка ответил: «Аминь» и отрезал все пути к бегству. Когда-то он вызвался платить долги, и вот время негаданно пришло. Никон почувствовал злость к пришельцу, хотящему въяви примерить царский золотой венец. Вот явился ниоткуда, из самих сатанаиловых пещер, и допирает, приступает приступом с непонятными умыслами.
Голубовский выглядел отдохнувшим, омолодился, больная чернота сошла со щек, брыластое лицо казалось надменным от чудно, по-иноземному бритой бороды. Гость смахнул с плеч епанчу на лавку, вроде бы покорно склонил голову, но вернее всего – набычился. «Благослови, владыко», – буркнул, уставившись на пол. Никон увидел в льющихся волосах обильную седину. Он невольно обернулся, глянул в шлифованное зеркало ганзейской работы и увидал в келье двойника своего. Он втайне подивился необычайной схожести и затосковал. Никон поцеловал Голубовского в темя, в седой клок, как отец целует, прощаючи, блудного сына, и, сердитуя, хотел спросить: «Чего кичишься, злодей? Пади в ноги, да и повинись!» Но вдруг признался в тайном, что тлело в дальних мыслях:
– Спаси тя, Боже, сироту, наскитался? Что храм создать, что сироту воспитать, одинаково спасение души от Бога получишь.
Голубовский удивленно воззрился на Никона и усмехнулся. Никон смешался лишь на мгновение, побагровел, нагнулся, шаря что-то под лавкою.
– Я не сирота, владыко, я...
Отчего споткнулся Голубовский, а язык его освинцовел. Как неводное глиняное грузило, провалился язык его в гортань. Никон напряженно смотрел на гостя искоса, странно изогнувшись, машинально наискивал что-то рукою, потом, громоздкий, выпятив гузно, обтянутое шелковым подрясником, опустился на колени, заглянул в глубину рундука, забывши о пришельце.
– Ну-ну? – поощрил насмешливо, выкатил на середину кельи оловянный таз. Подымаясь с колен, вытер скуфейкой байбарековой лицо: у владыки были такие же темно-каштановые, непролазной тесноты волосы, запорошенные первым снегом. Никон налил в мису воды, попросил гостя скинуть обутку.
– Не сирота я, – упрямо повторил Голубовский, и брови его гневно сомкнулись. – Меня Бог пасет неустанно. Он и Родитель мой. Прими сие в дар, владыка, не погордись. Спаси меня, и многие источники благодати прольются на тебя. – Он просунул руку за пазуху, где была тайная зепь, и из сумы, пришитой исподу кафтана, добыл священную книгу в ладонь величиною, поднес архиерею. Сам же опустился на лавку, стягивая юфтевые наморщенные сапожонки. – Сквозь все земли пронес, а веры не сронил. Прими, не поопасаясь.
Евангелие было московской печати с серебряно-вызолоченными досками, с изображениями святых евангелистов из чеканного серебра с драгоценными камнями. Никон подивился тяжести книги и снова невольно смутился, не зная, как повести себя с пришлецом. Тайный вызов шел от Голубовского, и Никон едва смирял себя. Митрополит опустился на колени и вехтем омыл гостю ноги. Стопы его были узкие, почти женские, с тонкими прозрачными ногтями; нет, снова решил Никон, это не плесны смерда, растоптанные и ороговевшие от ходьбы за сохою. На левой ноге обнаружилось шесть пальцев.
Глядя на темя архиерея, Голубовский поддразнил:
– Мы с тобою два оба, как пальцы эти, срослися. Ты вот ноги омыл нищеброду, а с умыслом. Падаешь, чтоб взняться, а, Никон? Смирением лечишься, а язвы-то бередят. – Гость рассмеялся, расстегнул путвицы на кафтане: исподняя рубаха была из агарянского шелку, с кружевным воротом. – Вервь непроторжена меж нами. Я, как бежать из Москвы к басурманам, бабу свою до смерти убил. Так ты меня тепере прости. Ты тепере за меня вечно молися, как бы за самого себя... Ой, Никон, батько! – по-голубиному простонал Голубовский, откинулся к стене, лупастые глаза его загорелись вызовом. Он словно бы забылся, что вернулся на Русь, и не турский визирь напротив, а новугородский митрополит. – Не захотел поделить со мною царствие, так забери все! Лишь не сгуби меня. Себя во мне не позабудь. Как на яблоне два яблока, так мы с тобою уродились. Ты свеча яра, но я – воск. Ты из меня слеплен, ты истечешь в меня...
– Может, и два пальца, но только я пятый, а ты шостый. Ты урод. Шестому пальцу с пятым не братися. – Никон овладел собою и с прищуром оглядел гостя. – А ведь воистину мы с тобой, как сметана с одной кринки. – Он поправил байбарековую скуфейку, в тонком черном шелке отразилось мерцание лампад; сквозь пальцы пропустил тяжелые волосы, спроваживая их ладонью до самых плеч. Он как бы красовался собою и уже вполне отдалился от пришлеца.
Митрополит звонком позвал Шушеру и велел принесть брашны. Келейник подал в глубоком блюде тюрю и в отдельной тарели вареных овощей.
– Прими здоровой пищи, сын мой, и отвлечись от прелестей мирских. Бродя туда-сюда по басурманам, поди, совсем расстроил чрево свое чужою едою, а? – Никон сановно опустился в креслице, возложил руки на бархатные подлокотники, любуясь лалом на перстне. В призрачной глубине камня мерцала чужая жизнь, и Никон всмотрелся в нее, как сквозь родник-студенец. – Ты таибник, убийца, так что ж. Ты ж и мой брат, спаситель неизбывный. Вот примемся мы вкушать тюрю. Выть небогатая: хлеба накрошить в глубокое блюдо, порезать луку, посыпать солью, покропить постным маслицем, долить освященной воды. Вот ты заморских яств напитался, усладил утробу, а приполз-то к тюре, как пес смердящий. – Никон забылся и неожиданно возвысил голос: – Приполз! К ногам пал, спаси-де. Родная тюря, выходит, слаще агарянских каплунов? – Вспылив, Никон тут же утишился, запустил серебряную с чернью ложку в хлебово, с осторожностью пропустил сквозь седеющую кущу бороды.
У него были неистраченные сочные губы и белая зернь зубов. – Я как учу-то: вы, священники, рассмотряйте детей своих духовных и, аще кто беззаконник, и непокорлив, и нечестив, и грешник, неправеден и скверен, хульник, отца и матери досадитель, мужеубийца, блудник, мужеложник, клятвопреступник, – с таковыми грешниками не поведено ни пити, ни ясти. А я вот с тобой богомерзкое дело творю и сам на себя епитимью суровую наложу, чтобы неповадно было впредь. – Никон отвлекся, позабыв о выти; взор его остекленел, застыл на слюдяном оконце, считывая в зыбком аере благие истины.
Он выпил из достакана воды сыченой и глубоко, с неведомой тоскою вздохнул, перекрестился, возвратившись душою в келью. – Ну, бродня, доложись, куда ты сошел и далеко ли бегал, чтобы знать мне, какой грех я приму за тебя, супостата. Голубовский вдруг сомлел, потускнел, что-то дерзкое сломалось в нем, и прежде хищно навостренные усы обмякли по-татарски вдоль рта, толстая нижняя губа отвисла. Лишь сейчас открылось ему, что хождения его, слава Богу, прикончились и навсегда пристал он к прибегищу, откуда один лишь шаг до палаческой колоды. Поманило его любостайство, кинуло, как щуку, в ез, погнало за славою; а все оказалось прах, тлен, зыбь и сон. Был прежде аманат у визиря, заложник, пленник, сладко ел-пил, а ныне затворник в Новугороде у края жизни и хлебная тюря ему в радость. Скрипуче отозвался Голубовский, исподлобья взглядывая на владыку, готовый целовать ему руку и плакать. Спас сторожил за гостем, и в правом глазу все так же мерцала багровая искра, похожая на кровавую слезу.
– Много бегал, владыка. Трои сапожишки истоптал, поди, ноги насквозь износил. Забегал я и в Польшу, в Риме был, в Австрии, из Молдавии едва голову унес, в Цареграде обрезать басурмане восхотели, так я в Грецию подался, а оттуда к свейским немцам, после ушел в Венецию и, не остановясь, убрел в Чигирин до гетмана, и вот с прохожим листом к тебе, государь. Давно бы с повинной прибег, да боюся казни. Вот царевича-то Димитрия как... Ножиками. – Вдруг снова бесовское, с вызовом в голосе; но тут же Голубовский устыдился, сдернул с груди подоткнутый по иноземному обычаю убрус.
– Дак то царевича... А тебя четвертуют, – жестко утвердил Никон, и суровая поперечная морщина разрезала высокий блестящий лоб, словно бы намасленный, с крутыми надбровными шишками.
– А может, простится, владыко? – жалобно попросил Голубовский, серея лицом, и уже смертным пепелом осыпало в глубоких обочьях.
– Грех твой несносим. Настрадаешься – очистишься...
– Подьячий я, стрельца Ивашки сын, – с тоскою ответил Голубовский, взглядывая через плечо митрополита в зарешеченное оконце. Ах, кабы стать вольной птицей-кречетом, так грудью бы пробил слюдяной лист и... в занебесье. Там-то ищите, помытчики, небесную птаху; не видать вам царевой милости. – Стрелецкий я выродок, да Васильев внук.
Никон последние слова оставил без вниманья.
– Бегал ты много, несчастный. С чужих вер пенку снимал, к нехристям прислонялся, с нечестивыми агарянами пил-ел и хвалился Русь под них приклонить. Ты Русь норовил продать, а нынче смерти боишься. Да ты возопи: Боже, Боже милостивый, есть ли на миру такая казнь, что очистит грехи мои. Возопи, ну!
– Возоплю, владыко! Ради веры православной и решился лишь... Где ни сладко, ни опойно, а все будто отрава, – повинно признался гость, поднялся от стола и земно поклонился владыке. Он намерился было и на колени пасть, но Никон остановил, не принял метанья.
– Пред свет-государем падешь. Что для слабого туга, невсильное горе, то для сильного духом – в радость. Пусть измозгнут тебя вовсе, но не внити тебе в рай небесный, пока тлю нечестия и греха не отряхнешь со всякого уда. Неуж неведомо было, что латины да лютеры уклонили цареградского патриарха в унию и, скупив греческие книги, сожгли их, и досель печатают жидове в Венеции всякое непотребство, и много в тех книгах еретической отравы. Ты вот начитался звездочетьи и остроломеи и нынь из всякой щели из тебя течет чужебесная жидь и возгри. Тихим обычаем живи остатнее время, пока не призвал Господь, и моли вседневно прощения.
– Изверг я, изверг, – упавшим голосом простонал Голубовский. – Паче всех человек окаянен есмь, но покаяния нет во мне. Даждь ми, Господи, слезы, да плачуся о делах твоих горько. Сидит во мне суторщина, ест поедом, а сладить не могу...
– Вот-вот. Только бы ухапить да сожрать. На что решился, окаянный! Неуж неведомо тебе твое бесстудие и ушеса завешены покровцами? Ты ж Москву возмечтал предати, царственный град наш. Гречане уж когда потеряли веру, крепости и добрых нравов нет у них, ибо покой и честь их прельстили. Помни, холоп, и вздохом предсмертным воспой алилуйю: Москва – третий Рим, а четвертому не бывать. Пусть изженут тебя ангелы в тартары, но и там не дай женитвы с дьяволом. Понял? На Страшном суде зачтется твоя мука... А теперь прощай.
Никон встал, пристукнул посохом по лещадному полу, высекая искру, поворотился к образам и пропел: «Достойно есть». Голубовский опустился ничком, распростерся, раскинув крестом руки, прижался щекою к серому ноздреватому камню, пахнущему тленом; слабой волной прошла по телу жалость по себе, легкая слеза скатилась со щеки и заблестела на полу живым речным жемчугом.
– Кто ты? – грозно вопросил Никон, оборотясь.
– Тварь заблудшая и горький сирота, от коего отвернулась родина и Бог.
– Ступай же и в эту седмицу не принимай брашна. Я же, грешник, по тебе плакать буду.
У самых дверей настиг Голубовского зов Никона:
– Так пошто ты, бродня и еретник, вернулся? Кто зазвал тебя на мучения?
– Открылось мне, что хотят латинники и агаряне нас погубити и будут стремиться к тому до скончания века. Ежели они поедают солнце каждый день, упрятывают его в подвалы, то что им стоит пожрать Русь? Уж коли довелось помереть, так хоть в своей земле...
...Вечером Никон, обкусавши тростку из гусиного пера, докончил листы: «Милостивый государь Алексей Михайлович! Уподобись милостивому и человеколюбивому Богу! Как будет тебе о своих винах бить челом рабишко твой Алексашка Голубовский, прости его Бога ради; а я уговорил его принести вины и в милости твоей ручался. А если бы не так уговаривал, то он бы и вовсе отчаялся за свое плутовство и на большое бы худо вдался...»
«И какова чину ни буди, князь или боярин, или простой человек изыман будет на разбое, или в татьбе, или в злом деле, в смертном убийстве и в иных воровских статьях, и приведут его на Москве в Разбойный или в Земский приказ и таких злочинцев в праздники и в иные дни пытают и мучат без милосердия, для того что вор и сам, не избирая дней, воровства свои и убийства делает».
Са стрелецкою вахтой Голубовского доставили в Москву в Разбойный приказ. В дороге он выбросился с телеги, пытаясь под колесами закончить жизнь свою, но тщетно. После трех встрясок на дыбе и пятнадцати ударов кнутовьем самозванец заговорил: де, вину свою государю приношу, ибо и сам к нему стремился для вразумленья, лютеры и алгимеи замутили мою слабую голову. Человек я убогий, а отец мой и мать какие люди, того не упомню, потому что остался мал. Когда я с молодости жил у архиепископа вологодского Варлаама, то архиерей, видя мой ум, называл меня княжеским рождением и царевой палатой, и от того прозвания в глупую мысль мою вложилось, будто я и впрямь честного человека сын.
На вопрос: кто его научил называться Шуйским князем, Голубовский отвечал: «Отец мой Демка». Тут привели мать самозванца монахиню Степаниду. Взглянув на Алексашку, она сказала: «Это мой сын!» Голубовский долго молчал. Потом спросил монахиню: «Как тебя зовут?» «В миру, – сказала она, – звали меня Соломонидкою, а теперь в монахинях Стефанида». Голубовский сказал: «Эта старица мне не мати, а матери моей сестра и была до меня добрая, вместо матери». У монахини спросили, кто был ее муж. Она отвечала: «Муж мой был Демидка, его, Алексашкин, отец, торговал сперва холстами, а после жил у архиепископа Варлаама. Алексашка родился у меня на Вологде, и ему теперь тридцать шесть лет».
Голубовского приговорили к четвертованию. Уже с Болота, где поставили самозванца пред казнью на всеобщее посмотрение, памятуя о просьбе Никона, государь вернул злодея в Чудов монастырь; здесь и постригли его в монашество.
Так Никон вернул долг.
ИЗ ХРОНИК. В 1649 году по царскому указу тайно был послан из Москвы в Сийский монастырь старец Александр Голубовский. Путь из Москвы в Холмогорский уезд не близкий, и только через месяц, 21 сентября, опальный старец со своим провожатым прибыли в монастырь. В государевой грамоте на имя игумена кратко было указано: «Послан для того, что ума исступился и говорит нелепые слова». Голубовскому приказано было отвести особую келью и держать его под крепким началом, чтобы он не скрылся из монастыря. Для исправления исступленного старца игумену предписывалось выбрать из числа братии старца добра и духовна, который был бы воздержателен и учителей и во иночестве стар, чтобы он просвещал и наставлял узника, а вместе с тем и наблюдал за его жизнью. Остальным же монахам строго было запрещено входить в какие ни то отношения с Голубовским, слушать его враки и нелепые слова. У Голубовского было с собою имущества: несколько евангелий с драгоценными камнями, свыше десяти икон – все серебряно-вызолоченные, с камнями, одна резанная на раковине, серебряное кадило, поручи с серебряными кольцами, большие келейные часы с медными гирями, каменный сосуд с Синайской горы, оловянные блюда и тарелки, меховые полости... – все эти вещи не могли быть достоянием простого монаха. Старец был лицо образованное, любившее посвящать время умственным занятиям и делиться мыслями с другими людьми и писать письма. В грамоте было оговорено: «... чернил и бумаги ему не давать».
В пределах монастыря Голубовский пользовался почти полной свободой, к работе его не привлекали, кормили, как и остальную братию. Годы до побега прошли мирно – казалось, старец примирился со своей участью, привык к новому положению и спокойно переносил свое заточение. И вдруг в нем что-то прорвалось. Старец сделался буен, непокорен. Нынче, де, жалуется братия, тот старец Александр быть под началом не хочет, а хочет жить во всем по своей воле. Голубовский начал вмешиваться во внутренний распорядок монастырской жизни, приходил на работы, заводил ссоры с монахами. Когда его пытались останавливать, он внезапно раздражался, впадал в исступление, гонялся с топором за трудниками. Однажды даже поднял руку на своего духовного отца иеромонаха Михаила, старца Евфимия, который был приставлен к нему для наблюдения, схватил за горло и едва не задушил, а иеродиакона Феодосия спихнул с келейного крыльца. «И иных многих старцев и служек побивает», – добавляли в своей жалобе монахи. Старцы были страшно напуганы: не имея от государя никаких указаний, они не решались самовольно применить строгие меры к Голубовскому и оказались бессильны перед буйным старцем. Беспокойство их возросло, когда под келейным амбаром у Голубовского была найдена лодка, пропавшая недели за две перед тем. Монахи писали государю: «Ограды около монастыря нету, кельи задними дверьми и сенными стоят на озеро, а около озера лес, и беречь нам Голубовского невозможно». Указ от 31 декабря 1652 года резко изменил положение старца Александра. «Будет он так плутать, – гласила царская грамота, – вы бы его смирили гораздо и тем людям, ково он бил, оборон дали – поучили ево метлами и чепью, чтобы ему впредь так плутать было неповадно». Велено было лишить Голубовского прибавки и кормить пищей рядовою, возложить на него тяжелые черные работы и заковать в цепи, сделав нарочно широкие железа и кайдалы. А будет и железа его не уймут, царь повелел строптивого старца посадить на цепь, чтобы его утрудить и от дурна отвести и привести бы в чувство и в послушание.
ИЗ ХРОНИК. «В 1651 году инок Феодор на допросе объявил. Отправлен он в Чудов монастырь под начало черному попу Илье, да с ним же сидел под началом иноземец Краковский, и он испил у того иноземца квасу – и у него в брюхе начало шуметь, и чает, что в те поры он испорчен. И когда учал он говорить Псалтырь, и в те поры перед ним зашумело: как бы пролетел ангел или бес, и ангел велел ему Богородицын образ со стены снять, для того что непригоже образам кланяться, и он, сняв со стены образ да крест, положил на землю, и крест начал вспрядывать, и он на образ и крест вступал ногами, а то дело Божие учинил он по ангелову веленью, а не просто так. А начал он помышлять недель с десять тому, что иконам кланяться не подобает, потому что Бог на небеси, а то образ Божий. Когда ему сказали, что Бог невидим, то он отвечал: „Всякому человеку можно Бога умными очами видеть“. Тому недели три или четыре говорил ему казенного приказа дьяк Захар Онуфриев: „Худо у нас то учинено: где торгуют хлебами и калачами, тут торгуют и образами“, и ему, Феодору, с тех пор вместилось в мысль о иконах, что не подобает им поклоняться. Достойно ли им поклоняться, потому что иконы пишут мужики простые и пьяные небреженьем и продают в торгу. И вот пало в мысль, что надобно государю объявить, что Бог на небеси, а иконам достойно ли поклоняться? И чтоб государь велел свидетельство писать те иконы всем иконописцам справчиво и приставил бы к иконному делу честных людей. И как он был в Чудове монастыре под началом и приведен был в келью, и тут стоял образ Спасов Нерукотворенный; и он, Федька, начал на тот образ смотреть, и тот образ начал претворяться разными виды...
Еще на допросе чернец Феодор показал, что ни писем, ни поручений Голубовский ему не давал, подарил только образ Живоначальной Троицы, резанный на раковине в серебряно-вызолоченном окладе. Этим образом Голубовский благословил Феодора и просил поминать его в молитвах. Феодор не расставался с образом, носил его всегда при себе, объясняя тем, что старец Александр сказал ему, будто от того образа явление было.
Инока Феодора Мезенца вернули в Сийский монастырь на строгую епитимью, в тяжелые черные работы. Но не прошло и года, как осенью пятьдесят третьего «забежали безвестно куда старцы Александр и Феодор». Не удержали Голубовского и огибные железа, что кинжами были закованы на ногах. За утеклецами послали в догон. Монастырское начальство ведало, как пекутся в Москве о судьбе Голубовского, и своим нерадением боялось навлечь царский гнев. Но и долгими розысками, в которых учинились монастырю протори великие, убеглых не нашли...»
Глава третья
Дух незримый витает над бренной землею, и нет для него препонов. Спящий человек что мертвый, уже сошедший на судилище, над ним вьются сатанинские стаи с одной надеждой заполучить грешную душу его, и при виде кружащей безжалостной нежити, этих распахнутых черных крыл и жадно разверстой багровой гортани не раз вскрикнет в ночи беспомощная человечья душа, не в силах оградить себя крестом. И тут Дух вселенский встает в ногах, ограждая бессилого, распнутого православного бронею веры.
Чу!.. Вроде бы всхлопала ночная дверь на постельном крыльце, не колыхнувшись в петлях, и апрельским сыроватым воздухом протянуло по длинным переходам теремов, чуланов, сеней и жилых палат мимо стрельцов, опершися на бердыши, сомкнувших лишь на вздох налитые свинцом глаза, жильцов на лавках сеней и стряпчих, мимо окольничих и спальников, мимо ключника и постельничего. Скорее, скорее; ох, как тяжко вашему государю! И вот колыхнулись кисейные запоны с золотными травами, и облегченно вздохнул молодой царь, и усталый пот высыпал, оросил пространный белый лоб, едва взморщенный в переносье, и воскрылья тонкого носа, омочил темно-русые волосы, небрежно рассыпавшиеся на пуховом сголовье. И сквозь темные ночные обочья в едва открывшиеся миндалины бессмысленных глаз, и широко взрезанные ноздри, и припухлые от сна губы, обросшие собольей податливой бородою, скользнула и улеглась спасенная и успокоенная его душа, привычно обустраиваясь в обжитом тереме. Очнулся государь, и брусничным морсом вроде бы омыло крутые щеки его. Красив царь особенной русской добротою, что не изгладилась и в забытьи, когда все затаенное проступает наружу, и слава Богу, что заступился за него незримый Дух, отогнав прочь неистовую стаю. Царь беспамятно вскинул над головою руку, сбивая на сторону жаркое лебяжье одеяло, и ночная шелковая котыга, распластанная по вороту, почти скатилась с плеч, выказывая молодеческую шею и кипарисовый крест на золотой кованой цепи. Тут в потешном дворце вскричал петух, вторя ему, отсчитал колокол час боевой, и царь Алексей Михайлович очнулся как бы из смерти.
Правая ладонь болела; царь взглянул на нее и в свете многих лампад увидел, что от стиснутых, остамевших пальцев отпечатался на коже кровяно набухший след ногтей. «Господи, помилуй мя!» – мысленно воззвал царь, еще ловя памятью быстро тускнеющий, истекающий неведомый глас, только что помогший в поединке. Стараясь поймать Божью волю, царь скорее сомкнул очи, и сон редкостно повторился. Вот Алексей Михайлович бежит по солнечному лугу от настигающей беды, ему страшно оглянуться, но царь незнаемо кем уведомлен, что настал конец света, и он, государь московский, остался один на миру, и надобно ему спастись, и в том грядущем его бытовании весь смысл земного устроения. Но с каждым шагом позади как бы обламывался в бездну, искрашивался цветущий луг, укорачивался, исходил в пепел и сернистый пар, и царь чуял, как поджаривает пятки судным огнем, а подошвы сапожонок, подбитые мелким серебряным гвоздьем, истлевают на плеснах. И страшно было оглянуться, чтоб встретить глазами последний час мира, ибо кто оглянулся, тут же и испарились. Внезапно перед государем выросла каменная стена, уходящая в пустынное занебесье, по ней вилась тонкою паутиной черная шаткая лестница.
И только царь вознамерился ступить на перекладину, как вдруг оттолкнул его неведомо откуль взявшийся раб, иль смерд, иль холоп, иль чужеземец в долгом кафтане, с развевающимися по ветру засаленными волосами; наморщенный войлочный колпак едва прикрывал темя. Беглец мельком оглянулся, и презрение выказалось в черных влажных глазах. И тут же, не мешкая, человек полез лестницею вверх; перед глазами царя замелькали стоптанные, с истертыми гвоздями подошвы. Каменная пыль сыпалась в лицо государю, и он тщетно уворачивался, прятал глаза, чтобы не ослепнуть. Торопясь оба, они понимали, что там, со взглавия стены, откроется им иной, новый мир, где и наступит спасение. Неведомый челядник первым достиг верха, одною ногою ступил на площадку, а другою встал на плечо царя и, воздев руки в кроваво-мглистое небо, вскричал победно: «О, Ие-го-ва!..» И тут царь понял, что настал его последний час; едва цепляясь за поручни, он обреченно воспринял, как непослушно слабеют пальцы, наливается тяжестью тело, уже готовое к смерти. И взмолилась страждущая его душа: «Господи, спаси и помилуй!» И неведомо откуда донесся совет, слышимый лишь государю:
«Отклони плечо, государь, отклони. Вражина и сверзнется». Царь удернул плечо, и торжествующий враг сорвался в пылающую бездну, и развевающийся кафтан над пламенным прораном показался царю черным опадающим крылом. Где-то внизу сатанаил, однако, схватился за лестницу и вновь упрямо полез вверх, а государь лежал на стене и, не испытывая победного чувства, с каким-то ободрением ожидал настигающего неистового человека. Он даже различил усмешку на змеино растекшихся губах, и жадно вздрагивающие ноздри с истекающей ко рту сукровицей, и взблески огня в напряженных, бесстрашных глазах. Царь хотел было подняться на ноги иль взглянуть по другую сторону стены в иной, неведомый, радостный мир всеместного блага, куда так стремился, но, лишенный сил, распластанный на камне, не мог он ни покинуть врага, ни усладить прощального взгляда обетованного землею. И тут супротивная рука настигла и ухватилась за рукав царской шелковой ферязи, рука худая, жилистая, с крупными катышами козанков, обметанных рыжеватой шерстью, с россыпью ржавых веснушек.
«Ах, царь, русский государь, ну воспротивься же ты алгимею, – вдруг кто-то невидимый снова насоветовал жалостно. – Хочешь боротися, так смотри врагу прямо в очии. Бесстудный ворог боится упорного взгляда».
Послушался молодой царь и с упорством взглянул в злые встречные глаза, и скрюченные пальцы недруга сразу потеряли всякую силу, и рука, больше смахивающая на растопыренную лапу ворона, отступила. В глазах неведомого алгимея увидел государь растерянность и страх И жалостно вздохнул государь и тут проснулся.
Италиянские напольные часы показывали четыре пополуночи. Откинув кисейный запон, царь прошлепал к окну. Влажная от пота ночная сорочка прилипла к лопаткам. Царь тоскливо вздохнул, отбрасывая наваждение, и словно бы невидимые токи пронизали дворцовые службы. Чуть свет встает государь, и вместе с ним подымается ежедень вся православная земля. Захлопали во дворце двери, всяк побежал по своей нужде, кто в заход, а кто в службы, заблистали от фонарей и свеч, от топящихся печей стекла и белужьи паюсы, слюдяные оконницы и бычьи пузыри, запахло первым дымом, стряпнёю, далеко пока до благотворного солнца, где-то в Япанском море залежалось оно в своих постелях, не спеша радовать приветного, ждущего русского сердца. Засуетилась по двору скорая на ногу челядь, не дожидаясь окрика дворецкого, заспанная, вовсе отупелая от раннего часа, пока-то апрельский сквозняк пробьется сквозь котыги и исподнее к замрелому телу, в самые шулнятки и пробудит их для жизни. Вздрогнет тут русский человек, переберет плечами, растерянно поведет очами окрест, торопливо перекрестится и проснется. А на главу Ивана Великого уже пал желтый просверк близкой зари; монашествующая братия отошла в церкви, к соборному петью, продевая ноги в кожаную шлею, пристраивались звонари, дожидаясь сигнального колокольца. И к Годуновскому колоколу-батюшке, всеобщему будильщику и раноставу, сошлись все трапезники, числом тридцать, окружили Филаретову башню двумя дружинами, разобрали постромки по обе стороны очепного колокола на Соборной и Ивановской площадях, а иные поднялись на ярус да оттянули великаний голосовой язык. Вот-вот разобьют темь, погонят прочь дьяволовы орды, всю сатанинскую нечисть благовестники, завторят им колокола красные, заподыгрывают малые зазвонные. Запоет Кремль пробуждение во все голоса и, прослушав их зазывистую силу и уряд, испивши такового хмельного напитка и распрямивши стан свой, на весь Белый город, да что там, на всю престольную, считай что на безбрежную Россию уронит бас свой Годуновский колокол. Вот тогда-то, почитай, и восстанет из ночи, как из смерти, вся Божья земля.
Эй-эй, кто там замешкал? Елико до чьей-то немотствующей души не добудится, не дозовется трубный глас «Реута», тому и не едать райского винограда. Скоро-скоро подзадорит вас медное петье, подобьет пятки, да так, что и в пляс пустишься: «Жи-вей жи-ви, жи-вей живи». – «Жи-ву, жи-ву, гля-жу, гля-жу». – «Го-ли-ка-ми при-ты-ка-ли, го-ли-ка-ми при-ты-ка-ли». – «Голи-ком прит-кнем».
И вот кремлевские воротники у башен, поднявши решетки, распечатали улицы, в соседней с опочивальней комнате взбодрилась сторожа – шестеро преданных спальников, насуровились на спальном крыльце оружные истопники, приглядывая в оба глаза за шустрым народишком, как бы не проскользнул меж челяди смутьян, ярыжка, гилевщик иль надоедный проситель, и каждодневную справу погрузил на плечи весь дворцовый служивый люд из приказов казенного и сытенного, кормового и хлебенного, житного и конюшенного – вся эта челядь, близкая и дальняя, стремянные конюхи и сокольники, певчие дьяки и священницы, сытники и винокуры, пивовары и бочкари, пекари и дроворубы, мовницы и прислужницы.
А пока тихо в Кремле, кишение огней безмолвно и призрачно. Царь молиться пошел.
«Не так ли и при конце света? Тьма провальная, а на дне ее жупел, смрад, тля и черти смолу кипящую мешают, – печально подумал государь, вглядываясь через веницейское цветное стеколко в оживший двор. Он вдруг почувствовал себя старым, отяжелевшим, усталым, большое его тело налилось свинцом. – Дал Бог свидеться с антихристом, а я дурак! Экий же дурак, право дело. Бог меня на поединок содвинул, а я обличье у вражины забыл».
Алексей Михайлович встряхнулся, опомнился: стоял он у окна в одной ночной срачице до пят. Верх думает: де, государь в Крестовой палате поклоны бьет, а он ныне душою упал. Оглянулся царь, насуровился, содвинул широкие шелковистые брови, но из-под приспущенных век сочится грусть. Готовно, дожидаясь повеления, вскочил с лавки гордоватый боярин Зюзин, ухвативши серебряный крыж сабли; земно поклонился государю всегда учтивый и богомольный постельничий Ртищев, смолоду шадроватый, с каким-то бабьим рыхловатым добрым лицом; но всех опередил ключник Богдан Хитров. Часто заглядывая царю в глаза, облачил его в шелковую расшитую сорочку с жемчугами по вороту да однорядку темного английского сукна, натянул на ступни бархатные червчатые башмаки, унизанные дорогими аксамитами. Был Богдан с бритой бородою, усы тонко выстрижены над губою, на шее под ферязью, скрученный в жгут платок из турской фаты. Когда убирал Богдашка государя, не остерегся, дохнул опрометчиво табачиной. Еще смутный от сна, разгневался государь, белое лицо пошло пятнами.
– Ты что, сродит, Бога не боишься? Табаку за губу кладешь или в ноздри пьешь? – спросил вкрадчиво, боясь промахнуться, но досада на постельничего уже помутила разум.
– Прости, державный свет. – Пал на колени Хитров, поцеловал государя в бархатный башмак. Царь, не сдержавшись, пнул спальника, угодил тому в лоб. Хитров завалился на спину, осоловело взмаргивая, а в лице ни тени страха, а в простодушных голубых глазах дрожит далекий смех.
– Ну годи, холоп. Я тебя нынче же прошу калеными щипцами, видит Господь мое терпение. Вот напущу на вас указу: кто табаку пьет за губу, тому губу долой, а коли нюхает, нос резать. Иди да скажи первому боярину, что я тебя в тюрьму на казнь сослал. Поймешь, каково без носу-то жить. Ужель не ведаешь, выродок, что табак – чертов ладан? При чертове ладане Бога-то разве вспомянешь? Смердящая воня за версту, а он после Евангелие целовать, отступник. От твоей вони мне нынче и наснилось, заплутай и вор! – Государь кричал, с каждым словом вбивая кулак в кожаный подлокотник кресла. Хитров оставался на коленях, покорно склонивши голову, на темени меж рыжеватых кудрей уже пробивалась лысинка с голубиное яйцо. Царь, остывая, и в эту плешинку щелканул наотмашь. Боярин Иван Зюзин злорадно прыснул, особенно презирая выскочку. Царь метнул на спальника досадливый взгляд, и боярин поперхнулся.
– Прочь с глаз, шелудивый пес. Тебя бы не руганью, дубиной потчевать. Даже волос бежит прочь с твоей глупой башки. Вот велю нос резать да пушу в народ для острастки.
– Прости, милостивец, прости, царь-свет, прости, батюшка, дурака. – Богдан Хитров с каждым словом земно кланялся, с розмыслом отступая: опрометью вон из спальни постельничий не спешил, он вроде бы дожидался прощения, отходчивой минуты, чтоб запросить и получить милости. Втайне-то Хитров боялся государева гнева, остерегался попасть под горячую руку, оттого и нехотя, но пятился к двери, однако не позабывая метнуть исподлобья наивный обиженный взгляд. Ртищев со страхом подглядывал за ослушником, и ему казалось, что спальник играет с огнем.
По взмаху руки Ртищев отомкнул спальную палату, и Хитров выкатился прочь, вроде бы позабыв плотно притворить дверь.
– Ну и заплутай, ой, заплутай, – огорченно развел руками государь, как бы извиняясь за сердечную слабость: он чуял, как жалость уже прокралась в сердце, и Алексей Михайлович готов был простить неслуха. – В юзы его? Дак вконец порченый. Отцу возвернуть с виною, дак и сам тот байник, пустослов.
Зюзин кашлянул, готовый поддакнуть, но Ртищев осек боярина взглядом. Царь еще помедлил, погрузившись в себя, сказал раздумчиво: «А ведь, робятки, антихрист нас ловит. Видит то Господь и поопасает нас. А мы неслухи, право слово».
Царь прошел в соседнюю прихожую, где ночевала на-пересменку верная стража из окольничих и стольников. Царь шел мягко, неслышно, заметно косолапя. Он рано раздобрел, раздался в плечах. Спальники при виде государя вскочили, отбили поклон: на лавках лежали винтованные карабины и пистоли в ольстрах, кожаных чехлах, изукрашенных золотыми травами. Богдан Хитров был тут, так никуда и не делся из Верха, знать, не спешил, негодяй, с винами.
– Поди к матушке-государыне, холоп, да справься о здоровье, – повелел Алексей Михайлович, давая понять, что пока простил окольничего, любимца боярина Морозова. – А сосательную трубку вместе с табакою кинь в заход. Иначе не будет тебе моей милости.
...А отправился государь тайными дворцовыми переходами за ответом к духовнику своему Стефану Вонифатьеву, известному ученостью своею даже в Царьграде...
Хранил царя, следуя неотступною тенью, оружный молчаливый жилец. Царь замкнулся в себе, и посторонние сейчас мешали ему. Пора бы по времени в Крестовой быть да грехи замаливать, но сон ровно бы мешал жить. В каменных глубоких полицах и над каждой дверью на божницах стояли образа, горели под ними лампадки. Царь всякий раз перед иконою молился, подправлял фитиль, снимал нагар иль заживлял умерший огонек вновь. Дверь духовника была полуоткрыта, оттуда пробивался в сумерки коридора свет, в келейке о чем-то взволнованно спорили. Государь кашлянул виновато, уже досадуя, что у Стефана гости.
Аки пустынник жил Учитель, такое свидетельство оставят по нем его ученики. «При царском духовнике вся быша тихо и немятежно ради его слез и рыдания, и негордого учения». Богатою книжною жатвою безбедно и радостно жил Стефан Вонифатьевич, он не таил собранное в схоронах про запас, но обильно растрачивал, засеивал во всякое отзывчивое сердце, медоточивы были уста его, и увещевательные, велегласные, обмытые скорыми слезами словеса духовника падали в душу государя, как добрые всходчивые семена на утешенную пашню.
Иконы и книги – все богатство Учителя. Спал же он на сундуке, подстеливши рогожку, под голову сунув березовое поленце, обтянутое холщовой ширинкой. Да и что за сон у Стефана Вонифатьевича? Прикорнет на правом боку, как луговая сторожкая птица, скрутившись в узелок, в два часа пополуночи надо бы и на другой иссохший бок обернуться, чтобы докоротать до утра, и вроде бы повернется, ударяясь о кованые железные полосы безмясыми мосоликами, а уж и не замгнуть после, не забыться, раскроет духовные поучения Ефрема Сирина или сладчайшие проповеди Иоанна Златоуста да с тем умилительным чтением и незаметно дождется утра.
Иссохлый весь, даже при лампадах, в сутемках светящийся, с пенным ворохом волос и с льняною сквозною бороденкой, ручейком стекающей на пояс подрясника, он, как дозорный стерх на гнезде, брачный белый аист, пряменько сидел на сундуке, ровно поставивши на пол ноги, обутые в валеные калишки. Водянистые, жидкой голубизны глаза духовника обметаны красниною от частых слез – той благодати, что ниспосылается Господом как редкий возвышенный подарок особо любимым детям.
Видно, он только что плакал, ибо, когда государь подошел под благословение, слезы еще не просохли на тонкой, как пергамент, коже, скопились в синих обочьях. Стефан Вонифатьевич дунул в лицо государю, отгоняя нечистую силу. От Учителя даже пахло святостью, как пахнет свежее луговое сено. Он был вроде бы бесплотен, и все телесное давно отпало от духовника. «Что же ты горюешь, Стефан Вонифатьевич?» – участливо вопросил царь, целуя морщинистую птичью лапку духовника, пахнущую елеем. «Да как не печалиться, святая душа, коли нынче опять горе, – неопределенно развел руками духовник. – Вот бежал сынок мой, протопоп Аввакум из Юрьева, бежал, как борзой кобель. Церковь соборную спокинул во вдовстве, и вот я плачуся. Какое житье, милосердный государь, коли христолюбивое воинство наше смазывает пятки при виде ворога? Ну ты погляди, православный царь, достоин ли он нашей любви?» Стефан Вонифатьевич показал в дальний угол кельи, занавешенный жидкой темью, куда худо проникал свет стоянца там, за стопами древних рукописных хартий, стоял на коленях поп, повинно склонивши голову к каменному плитчатому полу.
«На что ты город-то спокинул, Аввакумище? Отдал на растерзание язычнику поганому, да и нас в печаль вверг», – Алексей Михайлович положил мягкую ладонь на плечо протопопу. Аввакум сжался поначалу, ровно бы ожидая удара, весь в черном платье, как ворон, он даже в келейке Стефана не снял старенькой скуфьи, связанной из домашнего овечьего прядена. Широкие костлявые плечи, бурая от вешнего солнца шея, туго скрученная косичка темно-русых волос, вызывающе бугристые лопатки; нет, даже на коленях был Аввакум не согбенным, а каким-то вызывающе непокорливым и несговорчивым.
«Ну встань, встань, много был наслышан о тебе от Вонифатьича», – велел царь. «Я было обозвал его, де, ты онагр. Так он пообиделся Говорит: на коленях помру, ежели не простишь, – мягко проговорил духовник, обращаясь к царю. – А ведь то и есть, что дикий осел. Не думайте, что поклончивый, а сам что точильный камень. Коснешься, искры летят», – Стефан Вонифатьевич жиденько засмеялся, и смех этот был неожиданен в келеице святого. Аввакум уросливо вскинул голову, взгляд его открылся теплый, почти мокрый от близкой слезы. Протопоп неожиданно цепко перехватил со своего плеча государеву длань и поцеловал ее, оцарапав жесткими усами.
«Светик мой богоданный, миленький царь – велегласно и вместе с тем требовательно воскликнул протопоп. – Скажи, голову на плаху – и сей миг складу, как репку! Так я люблю тебя, мой державный свет!»
Государь лишь на миг потерялся, ему вдруг помыслилось, что человек подобной наружности являлся ныне ему во сне. Нет-нет, только не это: то значит, что в келью к духовнику, в самое государево сердце уже прокрался Антихрист? Государь торопливо взял со стола свешник, поднес и близко посветил на Аввакума, по-прежнему стоящего на коленях. Он увидел какое-то резкое, смуглое, острое лицо с узко поставленными живыми глазами и сдавленным в висках лбом: обрезаться можно о скулы и лоб, и вислый покляповатый нос, и по виду лишь, если присмотреться придирчиво, можно сразу угадать душу священницы, чаящую страстей, несговорчивую и вызывающе неприступную.
...Гляди пуще, гляди, великий государь. Сбежались на росстани российской ваши путики по неисповедимой воле Господней, и уж до скончания века не разминуться им, скрепленным вервью непроторженной: глубоко отпечатается Аввакумов дерзкий взгляд, попритушенный слезою, в твоей богорадной душе, и до последнего часа не погрязнет он под пеплом так скоро отгоревших жизненных лет и переменчивых нескончаемых дел. Что же это за любовь такая, которую тебе постоянно предъявляют с требованием, как божественный дар?
«Светик мой, миленький царь...»
– Вставай и скажись, на что ты город кинул, Аввакумище? – повторил государь.
– Кобь кругом, колдовство и ересь, государь-царь! Костельники и латины, папежники и лутеры давно озобали нашу веру, как опреснок. – Вскочил на ноги и зашумел Аввакум. Он сразу занял собою всю келью, оттеснил Алексея Михайловича; государь поискал глазами и опустился в свое любимое креслице в красном углу под образами. Аввакум поперхнулся, приглушил крик, ибо гнев его как-то невольно обратился на иконы. – Попустили, царь, попустили, боимся ханжами показаться. В логофетство ударились. Вот и духовник ваш кичится ученостью! А я не боюся в ханжах ходить, я Бога нашего люблю. Сатана, вражина, в каждую щелку: пред ним дверь на запор, так он в окно. Он через игольное ушко, да! Пропала вера православная, государь, келейное правило забыли, молитву променяли на кабацкую песню да на игрища. Шпыни объюхатились табаки и с этим чертовым ладаном в святую мати церковь. Слыхать, и у вас в Тереме пьют баловни табаку? Ну как, государь, тут жить? И не молви поперек безумцам. Долго, де, поешь единогласно. Нам бы, де, покороче, инде дома, вишь, недосуг. А Бог им уже и не дело, во как! Я им говорю: пришел ты в церковь молиться, гони от себя всякую печаль житейскую, ищи небесных! Невозможно оком единым глядеть на землю, а другим на небо, такоже сластям и страстям работати. Так меня за те словеса в церкви бьют да за власы волочат, а ныне и в ризах не щадят. И осном, и ослопом, и дубьем, и чем ни попадя по спине. Чуть до смерти не убили. Так едва ноги унес. У воеводы в кладовке отлежался и к вам.
– Чем я-то тебе помогу? Пушки с войском наслать? На встряску волочить? На дыбу? Сами хороши, потатчики. Вином, слыхал, упиваетесь, Бога не чтите. Трудитесь Богу невсклонно, и Бог заметит. Тебе, Аввакумище, черт поблазнил, а ты и побежал, струсил. – Государь закрыл глаза, огруз в креслице, позабыл протопопа. Духовник подманил Аввакума к себе, шепнул: де, не перечь, царь того не любит.
– Шумишь больно. Христов воин, – упрекнул Стефан Вонифатьевич и, не вставая с сундука, протянул руку для благословения. Аввакум принагнулся, скоро затихая, и они сердечно обнялись. Духовник достал из стопы книгу поучений св. Ефрема Сирина в подарок, велел неустанно честь; от царя же в подмогу передал двадцать ефимков любских, велел отправляться в Юрьевец. Аввакум молча поклонился государю и, не смея тревожить его покой, вышел из кельи.
ИЗ ХРОНИК. В первый день Пасхи греческие купцы, проживавшие в Москве, вместе с вельможами явились к царю с поздравлениями. Государь оделил греков по два яйца и, подозвав их к себе поближе, говорил им. «Хотите ли и желаете ли, чтобы я освободил вас и избавил от неволи?» Они поклонились и сказали: «Как бы нам не хотелось этого?» – «Когда вернетесь в свою страну, просите своих архиереев, священников и монахов молиться за меня и просить Бога, ибо по их молитвам мой меч сможет рассечь всех моих врагов».
Потом, проливая обильные слезы, он сказал боярам:
«Мое сердце сокрушается о порабощении врагов веры. Бог – да будет прославлено имя Его! – взыщет с меня за них в день суда, ибо, имея возможность освободить их, я пренебрегаю этим. – И прибавил: – Не знаю, как долго будет продолжаться это дурное стояние дела, но со времени моих дедов и отцов к нам не перестают приходить патриархи, архиереи, монахи и бедняки, стеная от обид, злобы и притеснений своих поработителей, и все они являются к нам не иначе, как гонимые великой нуждой и жестокими утеснениями. Посему я боюсь, что Всевышний взыскует с меня за них, и я принял на себя обязательство, что если Богу будет угодно, я принесу в жертву свое войско, казну и даже кровь свою для их избавления».
Бояре отвечали ему: «Да даст тебе Господь по желанию сердца твоего».
...И царь Алексей поведал духовнику ночное видение, заметно с каждым излитым словом освобождаясь от тоски и наполняясь жизнью. Стефан Вонифатьевич понятливо кивал головою и ронял искренние слезы, жалея сына своего духовного. И долго так раздумчиво молчали они, пока в слюдяное решетчатое оконце не забрезжил утренний свинцовый свет. Огни лампад поблекли, но жарче загорелся золотом иконостас.
«Ты помнишь ли, батюшка Стефаний, как отец-то мой, государь Михаил Федорович, помер от кручины, – сказал царь, нарушая тишину. – От меланхолии, сиречь от кручины, даже кровь стала жидкая, так нашли иноземники лекаря. Велел призвать меня, чуя смерть, руку мою, значит, взял, благословляет на царство, а дядьке Борису Морозову приказывает меня стеречь и пекчись. И слышу я, как уходит он навсегда, страшно стало: ведь один остаюся на всем белом свете и держава на мне. Вот отец скроется за дверью – и все? И неужели там одиночество, а, Стефаний? И вот стою я на крестце, у кровати, а как на распутьи, один, как перст. Отец-то все понимает, меня взбодрить норовит, силится что-то сказать, а мочи и нет... Где прежняя сила, куда утекла? Невсклонно трудишься, нужу претерпеваешь, и неуж все тля? Нынче такой одинокий я был во сне, как у одра отца».
«Пошто один? Отец-государь, а лествица? Это Богородица явила себя, и то знак добрый. Ты препоясал чресла мечом самодержца, но пущею оградою тебе крест православный. – Стефан Вонифатьевич толковал вдохновенно. – Ты укрепился на стене веры, и тот иудей, уже торжествуя победу, вдруг устрашился силы, что пролилась из души твоей. Пресвятая Троица благословляет державное твое царствие, она на весь мир покажет тебя победителем и одолетелем врага видимого и невидимого. Кто знает, когда наступит Судный час, и надо быть наготове. Пресвятая Троица вещает тебе: крепче держи крест веры, чтоб не шатнулся. В туге, в несчастиях плачутся наши братья православные на Востоке, агаряне и папежники через своих ловыг и заплутаев вовсе наступили пятою на Царьград. Вот тебе и стена, на кою надобно подняться и отрясти со ступней своих тлю. Престол великого царя Константина ждет тебя... Да будешь, свет-государь, как новый Моисей, что освободил сынов израилевых от фараонских рук жезлом-знамением честного животворящего креста. Вон и Паисий Иерусалимский о том же хлопочет. Ты чуешь, царь, откуда пришел на Русь и донынь сияет свет истинной веры?»
«Чую, Стефаний, – эхом откликнулся Алексей Михайлович. – Свет нашей веры с Цареграда. За греков я готов отдать не только Русь, но и собственную жизнь».
«Мы закоснели в своей гордыне и немеем от жажды, когда вся Европа упивается из ручья старинных знаний. Красота премудрости истекает из Святой Софии, а мы в ней заколотили окна. Оле!.. Наши рабичищи позабыли крест истинный и канон, а крин веры – этот благоухающий, вечно зеленый цветок, требует глубины познаний. Что коротати, государь, к чему понапрасну сетовати? Брат наш меньший томится под Махмутом, и искренние священницы Востока с укором глядят на нас и плачутся, когда же наш патриарх будет служить в Святой Софии. Это та стена, которой нельзя отдати. И перестань печалиться, ибо уныние худший враг. Вот мой тебе сказ. Вон и гетман Хмельницкий с Днепра просится под крыло, пустить бы нать. А там и Великий Киев, матерь наша, встанет опорою. Невостегновенно, государь, святое слово. За него и помолимся пойдем».
...Полно, полно, свет-государь, опомнись, охолонись! Даже жизнью своею ты не волен распорядиться, ибо все в руце Божией: лишь по наущению бесовскому, милосердный, ты вдруг впал в гордыню, возомнил о себе, подобно ястребу-крагую, вьющемуся под облаками, и возжелал пожертвовать живот свой во спасение несчастному греку, впавшему в туту. Миленькой православный царь, миленькой царь! Вспомни-ка ты бабочку-крапивницу, что на прозрачных слюдяных, шелковистых, обманчиво-узорчатых папартах своих, что тоньше паутины, рвется, ошалелая, ввысь, под сожигающие солнечные лучи, но, увы, не взняться твари ничтожной выше едины, несмотря на всю красоту, ибо бездушно у ней в груди, да и пустынно там в небе, не на что опереться и некуда высеять жадное потомство. И удел ее вернуться в луга и, цепляясь жадно за травы, опыляя лепый цветущий крин, давать червя, чтобы он загрызал все, к чему коснулось крыло матери. Не так ли и сатана: он постоянно рвется выспрь, чтобы сразиться с Господом, и всякий раз падает, обавник, назад в тартары, и оттуда вновь пятится на свет небесный, как каркин, щелкая клешнями и волоча в горбе своем всю злость вселенскую.
Сатана притягивает к себе, чтобы после еще пуще возненавидеть его. Сатана – это тот хворост, от которого возгорается любовь к Христу...
Миленькой православный царь! Да коли наслал Господь Махмута окаянного на Цареград, на престол осиянной веры, так, знать, Он особенно возлюбил оплот православия, чтобы за долгую досаду, слезы и горести после возблагодарить?
А ты возжелал, миленькой, отдать Русь великую за греков? По чьему измышлению, наущению исторглось из груди твоей самодовольное чувство, иссушающее благодать? И неуж кроткий Стефаний, этот источник слез, помазавши малаксою твой лоб, сам обавно, не мешкая, уместился в сердце твоем, чтобы исподволь, тайком развращать его ко грядущей пагубе. Миленькой царь, ты хочешь управляти всеми православными народцами, отдавши на погубление свой? Ты вспомни нынешний сон, государь: ты спешил к неведомой стене, а позади тебя с грохотом обваливалась родимая цветущая земля, испаряясь в горящей сере, даже не долетев до дна провалища. Так разве впереди тебя вновь прорастала из ничего хоть одна хлебородящая кулижка? Говорят, хорошего ломтя откусишь, так после целый день жуешь. Но коли обманчивого яда выпьешь, то уснешь вовеки.
Миленькой государь! Мягкого человека вроде бы сожмешь в горсти, а он неслышно заполнит тебя всего. Когда поцелуешь благословляющую десницу духовника, вглядись попридирчивее, но без злобы и усталости, в его лицо, и ты увидишь на нем пыль чужой, неведомой земли и, поразившись непонятности, нездешности обличья, предложи Стефанию уйти в свою келью.
...Алексей Михайлович поцеловал тщедушную ручку духовника и, не глядя тому в глаза, сказал глухо: «Отче святый, оставь ныне меня одного». Он закрыл дверь Крестовой палаты, оставив духовника на пороге, и запер ее на крюк, чего с ним не бывало. Государь осмотрел Крестовую, как последний оплот, и пожалел о внезапно вырвавшихся в келье словах: он вдруг почувствовал себя брошенным, сколотышем, не родным среди святых образов, но байстрюком, оглашенным, коий стремится, жаждает вступить в лоно церкви, но и пугается ее тайн. Сергий Радонежский смотрел на него с укоризною, лампада под образом святого едва теплилась, походила на муравьиный глаз; Александр Невский, опершись на обоюдоострый меч и взведши очи горе, плакал. Царь видел, как покатилась алая, с жемчужным блеском слеза и, упавши в кольца кольчуги, просочилась в сердце князя.
«Это я хочу отдать Русь? Но без Руси какой же я государь на престоле Константина? Но откуда, вроде бы не из моего горла, вырвалось полоумное признание. Но отчего тогда жжет гортань и вроде бы огнь опаляющий подымается из самого чрева и точит язык? Что за напрасный зарок я дал? Царица Небесная, Дева Пречистая, подскажи рабичишке твоему, изнемогающему в гресех, не отлучай...»
«Нет Руси без Господа, и нет Господа без Руси!» – вырвалось внезапное, и свечи ярого воска под неведомым горестным вздохом умерли разом. Лишь Спас Грозное Око ровно глядел над теплящейся лампадой. Алексей Михайлович оглянулся, не ведая, кто сказал: но дверь-то Крестовой палаты на крюке... Устрашился царь предзнаменованию, поспешил к окну: уже рассвело на воле, меся жидкий апрельский снег, степенно, подобрав полы шуб и зипунов, пробирался народ в Успенский собор на заутреню, и всякий норовил поворотиться лицом на царский Терем и земно поклониться. Ударил, колыбая воздух и самую почву, царь-колокол на Филаретовой башне, народился первый час нового дня.
Алексей Михайлович запалил свечи, подлил масла в лампады, успокаиваясь, возжег фитили: он любил эту кроткую работу, это неслышное, какое-то ласковое заделье, когда душа, вседневно страдающая, находит покой и наполняется боголюбовным теплом, от коего надежно обогревается весь предстоящий день. Иконостас вспыхнул золотом, свет потоком пролился в палату, и лики все слились в единый образ Господа.
«... Богоневестная, – взмолился царь. – Ты скинула мне лествицу во спасение. А ворог тот, что спихивал меня в преисподнюю, – мои неизлечимые грехи. Я взобрался на стену веры, как кокош, курица-наседка, а встати не могу. Слаб я, оглагольник, и немощен, и по сю пору слышу, как дрожат мои колени. Владычица, молю Тя ум мой о благодати. Врача рождшая, уврачуй души моей многолетные страсти. Избави мя огня вечнующаго, и червия же злаго, и тартара. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба твоего. Струю давай мне слезам, души моей скверну очищающи.
Царица Небесная, донеси мой глас немощный, возрыдания мои и вопли до друга собинного, владыки Никона; пусть посреди дороги трудныя вольется в ушеса его мой скорбящий безутешный плач, а слезы мои искренние растопят снега и умостят блаты. Друг мой искренний, избранный и крепкостоятельный пастырь, и наставник душ и телес наших, милостивый, кроткий, благосердый, беззлобивый, любовник и наперсник Христовый! О, крепкий воин и страдалец Царя Небесного, и возлюбленный мой любимец и содружсбник, святой владыка! Моли за меня, грешного, да не покроет меня глубина грехов моих. По милости Божией и по вашему святительскому благословению как есть истинный царь нарицаюсь, а по своим злым, мерзким делам недостоин и во псы, не только в цари... Молись за меня, друг сердешный. Бог тебе в помочь, а я за тебя здесь молиться буду неустанно. Да пусть хранит тебя в пути Богородительница, да беззаветный заступник наш Николай Угодник...»
ДВОРЦОВЫЙ ПОРЯДОК. «... Стол накрывал дворецкий с ключником; они настилали скатерть и ставили судки, т. е. солоницу, перечницу, уксусницу, горчичник, хреноватик. В ближайшей комнате пред столового накрывался также стол для дворецкого, собственно буфет или кормовой поставец, на который кушанье ставилось прежде, нежели подавалось к столу государю. Обыкновенно каждое блюдо, как только оно выпускалось с поварни, всегда отведывал повар в присутствии дворецкого или стряпчего. Потом блюда принимали ключники и несли во дворец в предшествии стряпчего, который охранял кушанье. Ключники, подавая ествы на кормовой поставец дворецкому, также сначала отведывали со своего блюда. Затем кушанье отведывал дворецкий и сдавал стольникам нести пред государя. Стольники держали блюда на руках, ожидая, когда потребуют. От них кушанье принимал уже крайчий, точно так же отведывая с каждого блюда, и потом ставил на стол.
То же и с винами... (все это из страха порчи)».
Государь с государыней обедали нынче вдвоем: никого не звали. Они увиделись лишь на обедне в Верховной церкви Всех Скорбящих и оттуда сошли в Столовую палату. Государя позывало выйти на Красное крыльцо, глотнуть сырого апрельского воздуха, но он пересилил себя. Он как бы затворился на день, избегая служивого народу и государевых дел.
...Слава Богу, одни. Столько и времени прилучилось. От молитвы до ествы недолгий путь без догляда. Царева жизнь – вся на виду. Даже постеля окружена дозором.
Ой, Марьюшка, наливное яблочко. Даже сейчас, при свечах, вся в бурмитских жемчугах и золоте, как драгоценная картинка. Не удержался, приотогнул кисейную фату с алого бархатного сборника, нагнулся, поцеловал жену в висок, в светлое колечко волос, непокорно выбившихся из-под бабьего повойника. На сносях баба, любимая девочка, вот-вот родить должна. Двух девок уже приволокла, не тянула, ныне наследника ждем. Вот и медлит въезжать во Дворец, знать, погодья ждет. Он там привередничает, а мати – тоска, она в маете погибает. Она блажит, вовсе разблажилась. Через бояронь Верховых принесли весть: де, царица блажит, никого не чует, бранит да плачет.
Замедлил на крестце под иконою Николы Можайского. За углом ключники ждут, чтоб дверь распахнуть.
«Ты почто разблажилась, Марьюшка? – спросил ласково, едва касаясь губами ее губ, сладких, припухших слегка, пахнущих вишеньем. – Ой, люба ты мне, – шепнул. – Пуще жизни тебя люблю».
Вот говорят, де, случая нет. Господь пасет нас, лишь не пропусти минуты. Не зевай. Был три года тому в Успенском соборе и вдруг узрел немосковского дворянина Ильи Милославского дочь на молитве, и как поразило будто в самое сердце. Велел Богдану Хитрову отвесть девицу к себе в хоромы. Едва конца обедни дождался, пришел в Терем, ту девицу смотрел, сразу возлюбил и при всех ближних боярах нарек царицей. А до того сколько смотрин было, со всех московских земель свозили девок на выданье на царев погляд. Правда, была одна, из-под Рязани, да в сухотку нелепицами загнали, а после и в гроб. Вот вам и случай.
...Пальцем обвел наливную упругую щеку; сквозь бархатистую кожу пробивается неостывающий румянец. С упованием посмотрел в лицо. Заметил синие круги под очами, красный налет в глазах, обычно изумрудных, кротких. Понял: недавно ревела, в розовом слезнике не просохла влага.
Марьюшка вскидывала взгляд, норовила в чем-то признаться, но страшилась или стереглась ввергать государя в новую печаль: к чему Алешеньке новые заботы, коли и свои ежедень неотступно допекают. На царице сарафан бархатный, как колокол, едва проглядывают снизу подола алые черевички, низанные жемчугами. На плечах епанча с собольего опушкою, сквозь кисейные рукава проглядывает белая кожа, волнующая государя.
«Он-то, наш славненький, то сладкого хочет, то сразу горького. Такой сутырный».
Они верно знали, что будет сын. И верно, что родится царевич Димитрий и скоро заревется до смерти.
«А мы на него найдем справу. Мы его в ученье к Никону отдадим. Живо кислу шерсть выбьет. Верно, Марья Ильинишна?»
«Верно, как не верно, да одно худо, что Никон из него монаха сделает. Он, владыка, нас любит и сына нашего полюбит. Твоя сестреница за него кажинный день молит».
Государь с государыней вдруг спохватились, что оба думают о новгородском митрополите. Небось в тяжком пути ему нынче не раз икнулось.
«Ты себя храни, Алешенька, – жалобно, жалеючи, сказала царица, проведя ладонью по груди мужа, словно бы нынче же, не медля, провожала хозяина на брань. У бабы бабье не вытравить, на каком бы Верху она ни числилась. – Время темное, на миру сколько сарданапалов расплодилось. Не из зависти пусть, так из потехи незнамо какую кобь замыслят. Подумать страшно, нито».
«Ну полно, полно. Нас, поди, у стола заждались. Кушанья-то простыгли».
«Ой, Алексеюшко, я тебя нынче во снях видела, – вдруг призналась государыня, и сердце царя вздрогнуло. – Вот будто вылез из кустов придорожных тать, не наш обличьем. Нерусь, одним словом. И тебя рогатиною прободил. Я и спохватиться не успела, как приключилось. Ну... Хочу, значит, стражу кликнуть да тебя оградить. И никого вскричать не могу, голос пропал. Земля вкруг вся очервленилась, а на тебе ни кровинки. Пробудилась в худых душах полтретья, ни свет ни заря. Давай поклоны метать, о тебе Бога молить. Ой, Алешенька, поопасись...»
Вот как бы сон прочитала.
«Ну полно, полно... Кровь-то не на мне», – хотел утешить царь супружницу, но не успел. Из-за угла полыхнуло светом, раздались возбужденные голоса. Их искали. А государю так хотелось открыться госпоже в своих расстроенных чувствах. И вот не успел.
...Не ествян государь, не нажорист, а если и пухнет преизлиху, так не от сладострастия, не от преданности животу своему и не от дворцовой обильной кухни, но лишь по природе, склонной к тучности.
Царь строго постится восемь месяцев в году; лишь скитники, монастырские схимонахи готовы к таким борениям с плотью, к таким изнурениям страдающего тела своего. В Великий пост государь обедает лишь три раза в неделю: в четверток, субботу и воскресенье. Где те роскошества стола, европейские зажарные каплуны, копченные на вертелах золотистые барашки, от коих сок и жир текут по локти; где та ласкающая горячность взора, что вспыхивает от обильной ествы? Увы! Здесь холодная, заснеженная Московия, господа. И попавший к государю на прием в постный день пусть удовольствуется с внутренней тоскою тем, что принимает великий царь. А для Дворца готовятся ествы: капуста сырая и гретая, грузди, рыжики соленые, сырые и гретые, ягодные ествы без масла и квас. Та самая лешачья еда, что в изобилии произрастает на просторах Руси, про кою говорят в простонародье: «Гриб да огурец – в брюхе не жилец». Та самая ества, от которой смиренно клонится плоть и воспаряет дух. В остальные дни государь Алексей Михайлович кушает лишь кусок хлеба ржаного с солью, соленый же огурец или гриб и стакан пива легкого, с коричным маслом. Рыбу государь ест лишь дважды за Великий пост. Кроме постов, он не ест мясного по понедельникам, средам и пятницам, как монах и пуще того. В обычные же постные дни (понедельник, среду и пятницу) готовят ествы рыбные и пирожные с маслом деревянным, ореховым, льняным, конопляным.
Нынче, на двенадцатое апреля 1652 года, царица Мария Ильинишна сама смотрела порядок ествы. Первая статья: щука паровая живая, лещ паровой живой, стерлядь паровая живая, спина белой рыбины; вторая статья: оладья тельная живой рыбы, уха щучья живой рыбы, пироги с телом живой рыбы, каравай просыпной с телом живой рыбы; третья статья: щука голова живая, полголовы осетрей свежей, тешка белужья. Питья три кубка с отливом, ренское, да романея, да бастр. В золотом ковше подносить красный мед, а в серебряном – белый мед. Не для государя такой стол, но для царицы: она в интересном положении, на сносях дохаживает, ей нужна ества для укрепы, чтобы телом не спасть да новой жизни не потравить.
На царицын Верх для ближних бояронь, для дочерей, для нянек и мамок и для веселья вечернего велено подать: орехи простые, каленые, сибирские, грецкие, волошеские; жамки-груздики, кругляки угольнички, сердечки, горошки, прянички вяземские, белевские, тульские, папушники; яблоки моченые, сушеные, украинские, паренные с кваском; изюм крупный и мелкий, винные ягоды, чернослив заморский, груши моченые, сухие, дули калужские бергамоты, сушеные вишни владимирские, сливы моченые, костеника, моченная кисточками, брусника моченая, калина с медом упаренная, пастилы коломенские клюквенные...
Она даже ела молитвенно, сосредоточенно, погрузившись в трапезу, и всякое брашно воистину благоговейно вкушала.
Ласковость не то чтобы вспыхивала однажды по настроению иль по натуге изображалась на челе, чтобы не прогневить супруга, но она постоянно жила на лице. Ни разу государь не видел, чтобы хмурая тень залегала под ресницами Марьюшки; утром лишь размыкала изумрудные свои очи, а из них проливается кроткая радость. С этим чувством она и за молитвою стояла по пять часов сряду, не выказывая усталости. Боже, как он любил свою Марьюшку.
С серебряного блюда она приняла звено стерляди паровой живой, мимолетно и благосклонно улыбнулась крайчему; на миг как бы прикрывшись от чужого догляда жемчужным нарукавником (сама низала, еще будучи в невестах), поправила выбившуюся будто бы прядку волос под малиновый бархатный сборник, качнулся потревоженный золотой колт в крохотном, внезапно зарозовевшем ушке, и в какой-то миг из-под руки послала государю ласкающий тайный взгляд, чтобы не приметил стольник, стоящий невдали с огромным блюдом стерляди на вытянутых руках.
Алексей Михайлович отпил из кубка овсяной браги, ломоть ржаного монастырского хлеба, присланного чудовским архимандритом, густо присыпал из солонки.
«Отошли стерлядь эту на дом в подачу боярину нашему Богдану Матвеевичу Хитрову», – вдруг приказал стольнику. «Балуешь ты Богдана, балуешь, – с улыбкой укорила Марьюшка. – А он неслух и прокуда». «Он хоть и неслух, да предан, – отозвался царь. – Женила бы ты его, что ли? Он вот и табаку приучился пить, шалопай. Пришлось нынче изрядно поколотить своею рукою». Государь рассеянным взглядом окинул пустынную Столовую палату с длинными столами под браными скатертями и долгими скамьями, покрытыми камчатными налавошниками. На стенах, на божницах стояли образа, горели лампады. Не шелохнувшись, по всей трапезной застыли стольники и ключники, ждущие гласа дворецкого, и как-то странно, сиротливо, что ли, одиноко выглядели государь с государыней в этой зале с глубокими оконцами, откуда струил узорный апрельский свет, обещающий благодать. На воле было солнце. Скоро обещалась охота, царский выезд в дворцовые подмосковные села; распута, рыхлый водяной снег, первые проплешины на буграх, струистое марево над замглившимся приречным тальником. Боже, как хорошо-то!..
«Ты слышь, – встрепенулся царь, – что мне князь Хованский пишет, – будто он вовсе пропал с Никоном. Де, никогда такого бесчестья не было, чтобы государь отдал князя во власть митрополита, а тот заставляет ежедень у правила быть. Да и то верно, учить премудра, премудрее будет, а безумному – мозолие есть. Дак и то народом не зря обозван, что тараруй. Тараруй и есть». Государыня на эти слова укоризненно качнула головою, и царь спохватился, что, быть может, сказал лишнего. А что лишнего-то? Стольникам ли не знать, как государь не раз выговаривал князю Хованскому за спесь его: «Я тебя взыскал и выбрал на службу, а то тебя всяк называл дураком». Кажется, придирчив был царь и жаловал людей даровитых, высоко смотрящих, но Хованского, который и природою-то не мог похвастаться, ни умом, ни стараниями, ни особенными способностями похвалиться, неизвестно за что выделил и приблизил в спальники, ближние бояре.
Вот сейчас с Никоном за мощами святого митрополита Филиппа Колычева послан на Соловки, великая честь дураку указана, а он вот ломается, с пути всякие укоризны шлет. «Прости, Господи, за неявные, заглазные словеса мои. – Алексей Михайлович перекрестился. – А он, поди, Никон-то наш, люто прижимает синклит мой, подвигает к Богу. Ин забыли, как подобает лба перекрестить. Вот и Василий Отяев жалится друзьям своим: де, лучше бы нам на Новой Земле за Сибирью с княжем Иваном Ивановичем Лобановым пропасть, нежели с новгородским митрополитом в посылке быть, силою заставляет говеть».
«Они жалобятся, а того не поймут, что он святой, наш владыко Никон, – сказала царица, с грустью глядя на пустующий серебряный судок супруга, – опять, вот, не ест, сердито поствует, осеннего гриба соленого с маслом конопляным пожевал, и вроде сыт; дак что гриб этот, какой с него толк, зиму цельную в кадке, моченый, вылежал, нынче, что тряпка, ни пару в нем, ни жару – веком не жевал бы. Разве с такой ествы побежишь? Ой, государь мой, опять с соленого квасу надуришься, и будет утробушка непонятно с чего мерзнуть. Сказать бы, но остережись: не каждое лыко в строку – может и губу надуть, не поглядя, что холопы кругом на прислугах, осыплет бранью. Нет-нет, лишнее заганула: царь не то бранчливого слова, но даже сурового взгляда ни разу не сронил в ее сторону. Но крутоват, горяч порою, будто что вспыхнет внутри порохом, взор побелеет. Вон князю Хованскому какую малаксу только что на лоб припечатал, тараруем обозвал. Сейчас пойдет по Москве, не стереть печатки. Стольник Зюзин в крайчих, он молитвен, но с Хованским на ножах. Вот и взгляд спрятал. – Святой за святым отправился, вон в какой не ближний свет поднялся».
Умильно сказала царица, облила государя зеленым светом, неожиданно как бы подольстилась. Знала особую нежность царя к митрополиту.
Алексей Михайлович согласился: «Цареградский патриарх Неофит писал днями. Великий посланник Христов Никон явился на Русь на подвиг!»
Государь замолчал резко, потускнел. Заметила Марьюшка, как прорезалась поперек лба первая ранняя морщина. Замглилось лицо, туман пал на глубокие глаза государя. Невольно загляделась Марьюшка на мужа: приглядист, глаз не отвесть. Плотные русые волосы по плечи, с трудом костяной гребень продерется, борода кудрявая, крупными завитками, тень от ресниц на полщеки, в спокойные очи глядеться можно, как в зеркала, только нынче, вот, на самом дне чуть-чуть рябит, мельтешит тревога, досада ли иль беспричинная тоска... Может, блазнится государыне, казит? У самой-то какое нездоровье. Хоть бы скорее ослобониться да государя сынком обрадовать. Дай Бог, дай Бог. Эк ему там не лежится. Прислушалась невольно, как в животе пыщит, моркотно так встрепенулось, но поприжала алые губы снежной белизны зубами. Мелкие зубки, прихватистые, хоть орехи ими грызи. Бросила быстрый взгляд на государя, не заметил ли ее беспокойства.
«Али гнетет тебя што, государь? Не пристала ли на душу гнетея?» – жалостно спросила Мария Ильинишна и, оглянувшись, велела тут же крайнему с кубком романеи пойти прочь, не торчать за плечом, давая понять, что царю не до питья. Государь строго постится, а ее с рыбьей ествы и без вина тошнит: будущий наследник царицыны черева точит. Значит, и всему Терему нынче сидеть на крутом посту и сыто не кушивать.
«Да так, пустое. Не бери в ум, царица», – пожал плечами Алексей Михайлович. Но забота жены ласково легла на сердце.
«Не болит ли што, Алексеюшко? Вот больно сердит ты на поству. Иль дурное што наснилось?» – домогалась Марьюшка и вновь, другорядь за день, невольно дозналась о причине царской грусти. Верили во Дворце снам, чаяли в них истину и по ним тоже строили грядущую жизнь.
«Знаешь, какая беда. Конец света во сне привиделся. Из ума нейдет, – признался царь, и сразу полегчало на сердце. – Закрою глаза, и все воочию. Стоит и огнем пышется. Все как в Священном Писании. И земля огнем взялась, и пылающие птицы полетели, и град камением, и жупел кругом. И глас Божий. И антихрист было взошел на престол – и пал».
Пришлось сон поведать в тонкостях. Марьюшка, не встревая, слово за словом вытянула цареву печаль и докуку. «Это ли не гнетея? Такая забодает без рогов», – думала тайно царица, участливо, с любовию глядя царю в глаза. Ой, Марьюшка, святая душа, насквозь зрит... «Никона бы сюда. Он бы твое смотрение как в зеркальце прочитал. Святой сон, как бы послание от Господа нашего, – виновато улыбаясь, словно бы прося прощения, ответила царица. И пока говорила, более не подымала глаз. – Моего-то бабьего разумения стоит ли слушать?.. Коли ристать, бежат, пышкая во снях, значит, прочь стремиться от горя. Богородица тебе руку протянула, это ли не счастие? Лествицу скинула, помогла забратися на стену веры. А встати на ноги, вишь ли, ты не смог. Опоры нету. Больна твоя опора, не оперетися. Скоро помрет кир Иосиф, наш патриарх, и от сиротства возопит Русь. Готовься, Алексей. К тому и сон тебе, чтоб ты приуготовлялся. Вот и радуются нехристи, яко скимены, львы варварийские, готовы ухватить тебя за подолы и похитить в гнездилища змеиные, пока в скорби ты... Вот оно: крови нету, а горя не избыть. И мне тоже наснилося. И забойщик тут как тут с невидимым копием, прободил сквозь сердце: знал, басурманин, куда метить. Очервленилась земля, а на тебе руды ни с ягодку. Ой, не ко времени, на всеобщую кручину покидает нас патриарх... Послушайся, Алексей, меня: позови-ка в рассуждение печали своей нищего из потешных хором Венедихтушку Тимофеева. Он тебе рассудит лучше меня, видит Бог».
И снова подивился государь прозорливости жены и сразу уверовал в ее слова, не колебаясь. С этими чувствами он и спать повалился с обеда.
Под гусли Венедихтушки, под песни калик перехожих вроде бы и народился вымоленный Елеазарием Анзерским будущий государь; под песню о бедном Лазаре и вырос царевич. Венедикт всегда был древним, всегда слепым, так казалось Алексею Михайловичу: а нынче домрачей и вовсе закоренел и стареть перестал. Как говаривал Венедихтушко, он ослеп «от напряга» на бою в ополчении Минина, числил себя в родне с Иваном Сусаниным, спасшим боярина Михаила, будущего зачинателя новой царской семьи. Родичи Венедихта, все гнездо его пропало под ляхом, и бобыль, покинув сиротское житье свое, пристал к ватаге слепцов и отправился на Русь.
Однажды Тимофеев притащился с дружиною калик перехожих к царскому Терему, здесь был выслушан, обласкан и оприючен до смертного одра.
Первый царь любил потехи: на площади за соборами прямь перед Верхом устраивались качели на Пасху и ледяные покатушки на масленой; здесь на Троицу девки московские водили хороводы в столбовом наряде, о Петров день скакали на досках, на Иванов – плели венки и с визгом спешили на Москву-реку, чтобы угадать судьбу свою, тут водили потешного бахвала медведя и устраивали звериные бои; ватагою о Рождество навещали ряженые с харями, веселя государя и государыню самыми скромными выходками, тут колядовали со Звездою, ходили с мешками, прося царской милости. Вечерами на Верху постоянно играли в шахматы, шашки, тавлеи, саки, бирки, в карты. В потешных хоромах жили дураки и дурки в платьях, скроенных из цветных лоскутов и покромок; карлы и карлицы, калмычонки, арапы, домрачеи, бахари, гусельники, песельники, дудошники...
Но что приключилося с молодым царем Алексеем? Он напрочь на двадцать лет позабыл потешный свой Дворец и из всех потех оставил для услады охоты псовые и соколиные, медвежьи бои и волчьи осоки, походы на лосей и лесного и полевого зверя. Даже свадьбу свою с Марьюшкой играл по-новому: не плясали тут, не дудели, не играли варганы и цимбалы, не исхитрялись для пущей радости скоморохи и гусельники, домрачеи, скрыпотчики. А велел государь на свадьбе своей вместо труб и органов петь дьякам, переменяясь, строчные и деемственные большие стихи из праздников и из триодей со всем благочинием.
И был немедля разослан по Руси государев жесткий наказ: чтобы мирским людям жить по старческому началу, в домах и полях песен не петь, по вечерам на позорища не сходиться, не плясать, руками не плескать, в ладони не бить, хороводы не играть и игр не слушать; на свадьбах песен не петь и не играть глумотворцам, органникам, смехотворцам, гусельникам и песельникам; загадок не загадывать, сказки не сказывать, личины и платья скоморошья на себя не накладывать, олова и воску не лить; в карты и шахматы не играть, на досках не скакать, на качелях не качаться, с бубнами, сурнами, домрами, волынками, гудками не ходить, медведей не водить, с собаками не плясать, кулачных боев не делать, в лодыги не играть, не ворожить и не гадать. Ослушников на первый раз велено бить батогами, а после ссылать в украйные городы, а гусли, домры, сурны, гудки и все гудебные бесовские сосуды отбирать, ломать и жечь без остатка. Скоморохов же на первый раз бить батогами, а в другой раз – кнутом...
Государь Михаил Федорович, так любивший все русское, помирая, благословил сына на царство и сказал дядьке его Борису Ивановичу Морозову: «Тебе, боярину нашему, приказываю сына и со слезами говорю: как нам ты служил и работал с веселием и радостию, оставя дом, имение и покой, пекся о его здоровье и научении страху Божию и всякой премудрости, жил в нашем доме безотступно в терпении и беспокойстве тринадцать лет и соблюл его как зеницу ока, – так и теперь служи».
И Борис Иванович Морозов, любивший свея и немца, ездивший в карете с зеркальными окнами, привил государю Алексею то особенное благочестие по Стоглаву и Домострою, которое напрочь отстранило душу царя от русских обычаев, казавшихся ему отныне лишь бесовским наущением, косным, грубым и мерзким позорищем, отвращающим народ от Господа... И на двадцать лет позабыл царский Верх потешную игру, песельников, гудошников, гусляров и скоморохов. И прежние бахари и домрачеи, сказыватели старинных русских подвигов, былинщики и старинщики уступили наследственное место «нищим», убогим, юродивым и блаженным, горбатым и расслабленным, что из потешного дворца вместе с карликами и дураками переселились в Терем.
...Убирался прежде за Венедихтом, как и за другими нищими, потешный сторож, а нынче государь приставил за слепцом арапку Савелия для уходу и перевел домрачея в сам Верх, в подклет. Выдали калике новый кожаный тюфак, набитый оленьей шерстью, подушку, крытую кумачом, одеяло бумажное стеганое, и весь тот уряд житейский, без чего трудно человеку, пока он бродит по земле: белье постельное да исподнее, овчинный кошуль, кушак дорогильный цветной, бараньи сапоги и шапку суконную с собольим околом. Обиходили нищего, чтоб не тужил, не плакался на забытость свою, да в общем-то и грех было жаловаться Венедихту Тимофееву. Во Дворце его любили доброй памятью, как старца увечного и благочестивого, стоявшего еще у зыбки государя. Вот и жалованья получил слепец от Алексея Михайловича на год десять рублей с полтиною, это при полной-то дворцовой естве.
...Алексей Михайлович, хорошо отдохнувши, намерение свое, однако, не позабыл, но он не стал дожидаться домрачея в своей опочивальне, а сам спустился к нему в келейку, постучался в дверку и вопросил, как в монастыре, по уставу: «Молитвами святых отец наших...» – «Аминь», – донеслось старчески, дребезжаще.
Арапка Савелий, неожиданно увидев государя, вылупил от счастия блестящие карие глазенки и сразу пал на колени: царь погладил его по лоснящейся кудреватой голове, в который раз дивясь мелкой, жесткой, почти звериной шерсти, излучавшей голубые искры. Арапка поймал государеву руку, счастливо поцеловал и белозубо оскалился, запрокинувши черную рожицу.
В келеице было жарко натоплено: арапка постарался. Старик сидел позабыто, ссутулившись, потупив взор полу и склавши коченеющие руки на острые колени. Так позабыто сидят лишь старики, словно бы виноватые, что еще живут на белом свете и заедают чужой век.
Слепец поднял отсутствующий, в то же время и напряженный, ожидающий взор, перебрал ногами, обутыми в валяные калишки. Что-то зоркое, осмысленное на миг мелькнуло в блеклых глазах нищего. Несмотря на жару, он был в стеганой рясе на овчине, из-под скуфейки спадали белые пенные волосы.
– Дедушка, как здравствуешь? – протянул государь с порога.
– Да слава Господу. Твоими милостями, государь. Вот гликося, всю сознательную жизнь отходил в маменькиных сапогах, то бишь босиком, а нынче-то благодать: башмаки сафьянные да бараньи сапоги. Вот помню, дружиной-то ходили: идешь, пыль загребаешь, босу ногу наколешь, да и заплачешь. Эхма, всплакнешь, матерь-то вспомянешь: зачем родненька на свет спородила. Ты садись, садись, миленькой свет-царь, с край меня-то садись. Сказывай, зачем пришел. Издаля слышу, идешь, значит. Ну, думаю, дожил, дедко: сам царь жалует. За-жил-ся я-я, батюш-ко, ми-лости-вец мой. – Венедихт скоро сплакнул; влага прозрачная и, наверное, бессолая уже, скопилась в коричневых впадинах и тут же, незаметно куда, источилась. Лицо у него было смуглое, прожаренное какое-то, и тонкая кожа туго натянута на скулах и иссечена мелко и слоисто, как трескается старая доска. Царь, словно силясь что понять, вглядывался в это знакомое с детства, но почти чужое в старости лицо; он туго соображал, зачем вот тут он, в келейке, возле душно пахнущего древнего нищего, будто бы знающего вещий смысл земного быванья. И неуж такие изжитые люди что-то хранят в себе? И невольно царь тайно взмолился и вдруг дал обет так долго не жить. Он испугался старости, безвольности и ненужности.
– Ну-ко, дайкосе ручку поцелую, Богов защитничек. – Старик поискал ладонью возле себя, нашарил пальцы государя и, наклонившись, поцеловал.
– Ествою-то не обходят? – спросил царь.
– Не, милушко. Это Христа нашего морили ироды, водички и той пожалели.
Домрачей неожиданно прокашлялся и запел Сон Богородицы:
— Да как не видеть, – сам себя перебил слепец. – Иной раз ночесь то узришь, что и веком не надумать. Как вот дверку откроют и тебя, значит, в другую жизнь кто вдруг введет. Ты небось снам-то веришь? Верь, батюшка родимый, верь, кормилец. Это с небес нам печати явные, чтоб не оступиться по дурости нашей. Эхма...
И он снова тоненько, скрипуче, жалостливо завыл, и слов-то из беззубого рта, наглухо уконопаченного седой бородою, трудно было понять: а царю и разбирать не надо, с младых лет знакомы те духовные стихи. Старик пел, а государь, шевеля губами, повторял:
Государь дослушал духовный стих и попросил кротко, как велело сердце: «Дедушка Венедихт, рассуди. Вот нынче видел в полтретья ночи конец света. И ужаснулся. Такое наснилось. И с той поры прийти в себя не могу».
И Алексей Михайлович в третий раз на сегодня поведал сон.
– Ой, царь-государь, на дурную голову ты попал, – заотказывался поначалу слепец, но само собою вдруг приосанился, набрался характеру (ну как же, сам государь просит), медный складенек вытянул из-за рубахи и поцеловал: и, пока говорил с царем, не выпускал образ Богородицы из мелко трясущихся желтых пальцев с дряблой отставшею кожей. – Что может знать бобыль окромя живота своего? Что может поведать слепец, как только пожалиться на немочь свою? Как внити в душу чужую, сердешный, коли свету белого не вижу сколькой год. Аки конь стреноженный вокруг ларя своего крутюся, и что арапчонок спроворит, тем и живу. С чужих рук, государь, кормлюся. А ты совета просишь. Иль невмочь гнетет кручина?
– Гнетет, дедушко, – покорно согласился царь.
– Ишь ты, молодой молодец, а уже кручина. Вот и татушка твой, великий государь, благодетель мой и кормилец, от кручины помер. Боговы вы. Богом спасенные, мужиками вымолены, ах ты, прости дурака... Мужиками вымолены да спасены. Я-то уж стар, у меня кожа да кости отстала, во мне и гнить-то нечему, – вдруг мелко засмеялся старец и зачастил, воркуя, но меж тем взгляда блеклого не сводя с красного угла, с полицы, где тускло проступали образа да едва желтела лампадка-пиликалка. – Мне вот вас, молодяжку, жалко очень. Скоро грядет конец света, уже роженья березовые да кнутовья готовят для правежа. А вы еще и не пожили. Хочешь ли слушать меня, государь?
– Говори, Венедихт. Я твоего разумного хлеба сети хочу...
– Не осуди, как сон твой распечатаю не по сердцу... Прежде, милостивец, придет на нас антихрист и воссядет на стуле царском, государей попирая ногою. И станет судить не по добрым делам, а по козням, кто какое кому зло учинил, досадил чем, надсмеялся, кощуны какие устроил, дорогу перебег, злословил и срамотил: вот какие заслуги возьмет дьявол в расчет. И тогда многие, похваляясь, себя откроют, кто успел уже зело развратиться, стыд порастерял, и мрак свой, доселе скрытный, наруже выкажут, ожидая милостей антихристовых. И тогда всяк станет явен, как на солнушке, и невмочно будет таиться, и нельзя единому разделиться надвое. И тут-то внезапно нагрянет Сладчайший, Христосик наш, и примется судить по добрым деяниям. Ну-ка, скажет, разоболокайтесь нутром, притворщики и лицедеи! Небо и земля сотрясется, и падет с трона антихрист. Частые звезды на землю скотятся. Сойдет Михаил Архангел и затрубит в трубу живогласную: вставайте все, живые и мертвые, на суд к Богу! Бог сам зовет вас. По правой сторонушке идут души праведные, в лицах все светлеют, волосы яко ковыль-трава, ризы на них нетленные. Идут они на суд к Богу – радуются. Стречает их Владычица Мати Божия: «Подите мои христолюбивые избранные да покаянные, вот вам царство уготованное». Принимает их сам Господь Царь Небесный! По левой сторонушке идут души грешные, в лицах темные, одеяние страшное. Идут они на свою муку и слезно плачут. Господи, почто ты нас в царствие не впустишь? Мы все, де, люди христиане! И скажет им Христос: «Подите вы, грешные, проклятые, во три пропасти земные. Вы не мою веру веровали». Составит Господь все муки в одну муку, невзвидят грешные свету белого, не вслышат они гласу ангельского...
Царь-государь, да не устрашится того суда, есть еще времечко для тебя. Ты молод, ишо зелен: сладко разлижут, горькое расплюют. Дядьки своего Морозова поостерегися. Столкнет он тебя в ту пропасть. Уж больно народу нелюбый он да с фрыгой близко пасется, как с роднёю, и ближе. А немец до нас завистлив и досадлив. Вот и сон твой, как хошь понимай. Враки, так враки и есть. Что глупый старик набает тебе, кроме вранья, скажи на милость.
И понурился слепец, поняв, что молвил лишнего, со своим уставом, незваный, в чужой монастырь залез, снова сложил бессильные ладони на колена и весь погрузился во всегдашнюю одинокую темь. Он вроде бы и царя-то позабыл, так далеко отплывши. А государь, темнея ликом от последних намеков старца, так и не развеял кручины, недовольно покряхтел возле нищего и, не попрощавшись, покинул келью.
Глава четвертая
Богдан Матвеевич Хитров, разваляся в бархатном креслице, заучивал по Шестокрылу, изданному в Вильне в 1586 году, шабашную песню ведьм на Лысой горе, когда-то, говорят, подслушанную неведомым казаком. Книга была выменяна у немца-лекаря Давыда Берлова за полдюжины собольих хребтин в прошлом месяце и хранилась в страшной тайне. Залучив Черную книгу, Богдан Матвеевич смертно повязал себя с иноземным лекарем: за подобные забавы грозила царева опала и ссылка. Хитров не раз подступался к чародейскому письму, но с первой же страницы приходил в опаску: «Сия печаль премудрого царя Соломона притолковася от мудрого некоего ритора. Толк же ее сице расположился, яко зде ниже сего предложися. Зри опасно, увеждь известно».
Нынче же государь круто обидел Хитрова, толкнув ногою в лоб, и спальник отчего-то мстительно раскрыл Черную книгу. Лекарь Берлов был тут же в гостях, утешался чаркою романеи.
Читал обавную книгу карла Захарка; он притулился у ног хозяина на низенькой скамейке, покрытой тканым налавошником.
«... Вихара, ксара, гуятун, гуятун», – звонко печатал слова Захарка и вопрошающе подымал на царского спальника по-восточному печальные круглые глаза. Окольничий послушно повторял за карлой: «Вихара, ксара, гуятун, гуятун». И тут же бранился, де, сам черт ногу сломит в этой тарабарщине, оборачивался в красный угол и поспешно крестился на образа.
Лекарь Давыд Берлов встрепенулся, лицо его кисло скуксилось, будто съел жмень клюквы.
– О, майн Готт... Мой фатер и мой муттер не знали, что русиш такой пьянец и глупец. Они бы не пустил меня в Россию. Пропал бедный Давыдка, совсем пропал.
– Это не зазор, не-е, – оправдывался Хитров. – Наука из чужого ума. Ей в моей голове надо место сыскать.
– Хорошо, если найдется, – лекарь перестал ломать слова; он знал язык Московии, как свой, гамбургский. – Надо, чтоб отлетало от языка. Тогда дух будет от слова, испарение, туман. И польза... Гуту! Алегремос! Астарот! Бегемот! Аксафат, Сабабан! Тенемос! Гуту! Маяма, не, да, кагала! Сагана! – чеканул лекарь. – Вот как заучишь, Богдан Матвеевич, все ведьмы за тобою встанут и царь твой... – Лекарь Давыд Берлов засмеялся и пропустил пятую чарку романеи, с лихостью запьянцовского гуляки пристукнул серебряным донцем о стол. – Я тебе девку литовку подарю. Чародейка. Сквозь землю на сто сажен зрит, такая чертовка.
– А я чем отплачу?
– Дружбою... Докучать не буду, но и задремать не дам. – Берлов оправил кружевные манжеты на рукавах и выпрямился в кресле, будто проглотил мерный железный аршин. Был лекарь в пепелесом камзоле, в коротких штанах, перетянутых под коленями, в сиреневых чулках и башмаках рыжих с пряжками. Черный шелковый бант кустом расцвел на бритой кадыкастой шее, подпирая надменную квадратную голову. Густой волос подобран коротко, как кабанья щетина, и отливал сталью; глаза также сталистые, слегка навыкате, и жесткая щетка усов над тонкими язвительными губами, постоянно искривленными в ехидной усмешке. Статью своею, породой Давыд Берлов больше напоминал драгунского майора, чем лекаря. Богдан Матвеевич также разоделся за-ради гостя в красный камзол немецкого покроя, расшитый травами золотною ниткой, со стоячим узорным воротником, в шелковые белые чулки и башмаки из зеленого сафьяна, унизанные яхонтами. Этими дорогими каменьями и комнатными чувяками лишь и походил Хитров на русского боярина. Хитров нравился самому себе, часто поглядывая на высокое стоячее зеркало в черной резной раме, был сыт, слегка захмелен и потому миролюбив. Даже Шестокрыл на коленях карлы он принимал как за допущенную забаву и вольностью этой тоже гордился. Достакан, обвитый золотыми змеями с рубиновыми глазами (подарок Бориса Ивановича), был полон французского сладкого вина, и хозяин едва пригубил его. Хитрову льстило, что образованный лекарь из Немецкой слободы ищет с ним дружбы, и охотно принимал Берлова в своем не последнем на Москве дому. Хитров в левой руке, слегка жеманясь, держал фарфоровую ганзейскую трубочку с табаком и редко, но сладко потягивал ее, любуясь истекающим свивающимся в кольца дымом. Он скучающе обводил взглядом гостевую палату, обитую кизылбашскими дорогами, где по брусничной земле цветут золотные кусты. Эту восточную тафту Хитров сам подбирал для гостевой, чтобы особенно изысканно смотрелась мягкая и узорная, на птичьих лапах стоялая утварь, доставленная от дегов. По стенам висели четыре потешных немецких печатных листа из Библии Пискатора, купленные на Болоте в овощном ряду. Окна из веницейского стекла покрывали занавеси из астрадамской камки. Только образ Николы Можайского на полице да неугасимая лампада под ним подсказывали, что это хоромы православного человека...
– Мне Ордин-то, выскочка, каково... Ты, говорит, Бога не любишь. Это я не люблю? И Бога люблю, и все иные народы люблю, как завещал Господь наш, отвечаю. А он: что нам за дело до обычаев иноземных: их платье не по нас, а наше не по них. Это от зависти государю, чтоб сшибить меня...
– А что государь?
– Он ему отрезал: цени дерево не по цвету, но по кореню. Каково, а? Алексей Михайлович по мне без души, он меня всякому ханже не выдаст. – Богдан Матвеевич приосанился, взбил на лбу рыжий клок. – Я царю люб, он не даст мне измозгнуть понапрасну. Я заветное слово знаю. Верно, Захарка? – Хитров ловко поддел карлу со скамейки одной рукою и посадил к себе на колени, запустил пальцы в черный нарядный волос. Был карла в лазоревом немецком кафтане и зеленых сапогах.
– Батько добро помнит, – коротко сказал Захарка. Издали он вовсе походил на ребенка чистотою лица, какою-то прозрачной белизной кожи и брусничной яркостью губ, он был картинно, вызывающе красив, и лишь когда задумывался, погружаясь в себя, то в тускнеющих глазах сразу проступала тоска и возраст. Карла с хозяином были одного года.
– Тсс-с! – Хитров приложил палец к губам. – То страшная тайна.
– Я тайны твоей не решаюсь знать, – подольстился Берлов. – Ты человек верховный, не мне чета. Но знать бы хотелось.
Но Богдан Матвеевич оставил уловку без ответа: он рассеянно улыбался, покуривая трубку, и по-прежнему ворошил Захаркину голову. Да и то сказать: с тайною и сам человек иной, ему другая цена.
...А дело-то было из ряда вон. На медвежьей охоте в звенигородских лесах, когда царь брал зверя из берлоги на рогатину, подломилось вдруг ратовище, и Алексей Михайлович очутился под лесным хозяином. Подмял государя медведко и давай ворошить. И никого возле: ни ключников, ни стряпчих, ни окольничих, ни верных псарей, ни загонщиков, ни ближних бояр, ни думных дворян. Уже в памороке был государь, вовсе терял сознание, когда медведь, хрипя, вдруг отвалился на сторону. Это Богдан Матвеевич, бывший тогда в стольниках, оказался невдали, поспешил на помощь и кинжалом выпустил из медведя дух. Но странным было то, что царь на смертном поединке отчего-то остался один, без догляду и присмотру, словно бы вся челядь внезапно решилась проверить государеву судьбу. Происшествие затаили, грех свалили на случай, спасение на Господа и местночтимого святого Савву Сторожевского, но царь с тех пор баловал и тешил Хитрова, особенно приблизив к себе.
– Я тебе, Богдан Матвеевич, литовку дам во временницы. Она не только колдунья, но и целебница и утешница. Впрямь по-русски будет, ягодка красная. – Берлов поцеловал щепоть, но каменное выражение его лица не переменилось. – Аль струсишь, боярин?
– Никогда не трушивал и слово такое не ведомо, – веско упрекнул Хитров. – Трех агарян на пику брал и не пошатнулся. Ты, Берлов, дразнишься иль виды имеешь?
Давыд Берлов смутился, но тут же овладел собою.
– Ты, боярин, славный рыцарь. Этого не отнимешь. Хотя клянусь всеми чертями, что если бы десять татар поверстались в поле с тремя сотнями русских, то все ваши русские еле живы повалились бы на землю и дали бы развалить себя, как репу. – С этими словами Давыд Берлов приосанился и обвел гостиную палату таким победным взором, словно бы он-то и выиграл сражение. Вот вроде бы хозяев настрамотил, нагнал на честное русское имя напраслины, но ни капли сомнения иль смущения не мелькнуло в остром самоуверенном взгляде.
Но и хозяин-то каков, хозяин Хитров: он лишь крякнул, виноватясь за весь русский народ, и отвел глаза в глубокую оконницу, где виделся дальний краешек неприбранного апрельского подворья. И эта грустная картина неухоженности, какого-то всеобщего развала вроде бы лишь подчеркнула правдивость слов немца. Вон бредет едва челядинная баба, кажись, ключника Ерофея жена, с подоткнутым домотканым костычем, в опорках на босу ногу, и кому-то кричит озорное, и лыбится всем широким шадроватым лицом, морща нос утушкой, и показывает пальцами замысловатую фигуру, черт знает чему и рада только, дура набитая: солнцу ли хмельному, иль наводяневшему, едва живому снегу, иль близкой рыбной естве, – вчера привезли с Москвы-реки две дюжины двуаршинных щук, и вот нынче на всю дворню и челядь и самому Богдану Матвеевичу сварена ушица из живой рыбы.
У коровьего двора скотницы выкидывают навоз, готовя его под пахоту, и куры сбегаются к нему со всего двора, распугивая воробьев; желтеет гора свежих березовых поленьев; конюхи сметывают сено в лабаз, и тут же, широко расставив ноги, мощно прудит гнедая кобылица. Струя бьет со звоном в снег и прожигает его насквозь, до самой молодой травы, торопя ее наружу. И хотя из-за толстых каменных стен, из-за оконцев, больше похожих на башенные бойницы, ничего вроде бы и не слышно, но Богдан Матвеевич все дворовое, вседневное не только видит, но и слышит, и чует на запах, и даже кизылбашские мохнатые ковры, устилающие хоромы, ничуть не утешают. Все тот же надоевший вид, будто из поместья не выезжал, будто из деревни можайской да в иную, растекшуюся на семи холмах, как кисель, и никакой ложкой не собрать в кучу. Господи, скука-то!..
Так переживал Богдан Матвеевич московское окольничье сидение, хотя исполнилось ему намедни лишь двадцать восемь лет. Потому ничего и не возразил, но даже благосклонно кивнул, де, Русь не чета ни свеям, ни дегам, ни паршивым полячишкам, пожалуй, во всем мире не сыскать места похуже. Ни сварить толком, ни построить чего, ни ковра соткать, ни дорог стоящих, ни посуды, ни разговора. Зимой снег, весной грязь, летом пыль. Куда уж там равняться с немцем? лишь смиренно склони очи долу; вот и весь сказ.
Но заступился вдруг карла Захарка. Эта расписная живая кукла, будто бы слепленная из тончайшего фарфора, досель смиренно торчавшая на коленях у хозяина, встрепенулась и оборвала кощуны Давыда Берлова:
– Ты скажи еще, Давыдка, что мы скотьи дети, что у нас один глаз и тот на брюхе, а уши на заднице растут, что мы заместо курей яйца выпариваем, что мы грибы и ничтожный помет, что мы не мужики и не бабы, а дохлые собаки. Ах ты фрыга, прискочил за русским куском и лаешь... Как же это случилось, что русские по милости Божией взяли три татарских царства, разбили в пух и прах хана Мамая и твоего хваленого шведа немало гоняли, пока не запросил милостей. Вы, фрыги, от скупости даже кошачий помет жрете... Кукуй, покажи свой... – вдруг выпалил Захарка обидную для всякого немца дразнилку, подслушанную на московских улицах.
Богдан Матвеевич поначалу замешался, но не стерпел и неудержимо рассмеялся, сунул фарфоровую трубочку карле в рот; тот с отвращением сплюнул, вытер губы и закинул табачную соску в дальний угол к опечку. Хитров в назидание без сердца щелканул карлу в затылок.
– Ну, брат Захарка, ой уморил! Значит, кошачий помет едят? И неуж верно?.. А ты свой-то стручок нам выкажи! – задорил он дворового шута, так радый забаве.
– Покажу, так немчин от зависти помрет. Веком таких не видывал. У меня с загогулиной да золотой с серебром.
– Ой-ой... Золотой с серебром, – повторял Хитров, закатываясь в смехе, и все его голубоглазое, ребячье, в крупных веснушках лицо полнилось неподдельным удовольствием: он, хитрец придворный, лишь сейчас забылся и на миг стал самим собою, разгуляй-хватом, каким родила его мати. И стало понятно, отчего любит великий самодержец Богдана Матвеевича.
Но Берлов сидел туча тучей, тихо наливался грозою – а гнев Берлова на Москве знаком. Давно ли за поперечные слова купчине Марселиусу он горло перерезал, едва отвадились с тем. Поймав белесый от бешенства взгляд лекаря, Хитров успокоился, зарокотал, проглатывая остатки смеха:
– Ну что ты, будет тебе, Берлов. На Захарку, что ли, пообиделся? Так плюнь.
– Я вот ему сейчас дам чистительного, чтобы весь на лайно изошел. – Берлов расстегнул камзол, наверное, взаправду полез в зепь за порошком, а после, затаив что-то в пригоршне, потянулся к карле. – Вот сейчас тебе и будет струк...
Лекарь хотел поймать карлу за нос и промахнулся: тот ловко отпрянул, состроил испуганную гримасу, обнял хозяина за шею:
– Ой, что-то боюся я его, Богдан Матвеевич. Лутер поганый, алгимей, затянет он нас дуриком в ловушку.
– Поди на конюшни и скажи Федотке, чтоб тебе язычок притупили. – Хитров согнал карлу с колен. – Больно ты востер и неуважлив.
– Неуважлив, да верен, – откликнулся Захарка от двери.
Берлов, провожая карлу нехорошим, запоминающим взглядом, неулыбчиво посоветовал:
– Приказал бы ты его палками почесать... О, майн Готт, руссиш швайн... недопесок.
Хитров улыбнулся, подмигнул отчего-то заговорщицки лекарю и с ласковой миною сказал:
– Я и тебя прикажу постегать, что блюстися не хочешь. Будешь коли рычать, кончишь дни свои в Тоболеске. – Хитров налил немчине из братины и, столкнувшись своим достаканом с его чарою, доверительно продолжил, понизив голос: – Ты, немчин, хочешь меня ухапить, догадываюсь я, а из моей усадьбы становище сделать для своих бессудий. Да записать меня в свои лазутчики и прелагатаи. Не так ли?
– Оле! – вскинул руки Давыд Берлов. – Я к вам нижайше и изысканно... Почтению моему к вам нет предела, Богдан Матвеевич. Я шута поддразнил лишь, а вам причудилось. Вам, русским, везде снятся да видятся лазутчики и шпионы, словно бы у немецкого предпринимателя нет никаких иных видов. Мы устрояем жизнь, мы устроители, мы с рождения и до смерти строим свое благополучие. Я бы на вас положил обиду, но я вас искренне уважаю. Вы рыцарь! Оле! Вы большой человек! Какие претензии, Богдан Матвеевич...
– Значит, поблазнило мне...
– Вот-вот...
– Ну и слава Богу. Я немчин-то люблю. Хоть и заносчивы не в меру и жадны до безрассудства, но зато жить умеют...
Хитров недоговорил: в это время вошел дворецкий и доложился, что явился стольник с подачею от государя. Хитров приказал отворять ворота: он и сам видом переменился, приосанился, вся порода вылезла наружу, и лекарь, до того на равных сидевший с окольничим за беседою, сразу помельчал, отстранился за ту незримую черту, где положено быть слугам.
Богдан Матвеевич из поставца выбрал новую фарфоровую трубочку с розовым мундштуком, набил ее любекским табаком, на голову надел шапку червчатого бархата с собольим околом, внимательно погляделся в зеркало и пошел из хором, поманив с собою лекаря. На крыльце усадьбы он остановился, оглядел дом: в слюдяных оконцах увидал охочие до зрелищ лица многочисленной дворни; потом посмотрел вниз, где у медной пушчонки, захваченной у свеев с боя, застыл привратник, и взмахнул рукою. Привратник поджег фитиль, пушчонка лайкнула, два дюжих челядинина развели дубовые створки ворот, в проеме высокого, заостренного палисада показались теремные служивые. Впереди шел бедный князь Иван Мещеринов, недавно просивший Хитрова устроить ему воеводство в кормление, следом ключник нес серебряное блюдо со стерлядью паровой живой с царского обеденного стола, а замыкали шествие два истопника.
Стольник Иван Мещеринов отбил трижды земной поклон, и Хитров также низко поклонился, держа трубочку на отлете, не спеша спустился с хоромной лестницы.
– Великий государь Алексей Михайлович тебя, Богдан Матвеевич Хитров, подачей жалует, стерлядью паровой живой. – Стольник снова низко поклонился, Хитров махнул рукою, и дворецкий поспешно подошел, принял подачу, – а лежала на серебряном блюде стерлядь фунтов на двадцать, не менее, свежего волжского улова.
Хитров, не глядя за спину, снова приказал рукою, и затинная пищалица лайкнула другорядь: пусть соседи знают и завистливо разнесут по Москве, что окольничий Богдан Матвеевич Хитров царской милостью нынче отмечен. Отходчив государь и незлопамятен: вишь вот, утром в зубы, а в первом часу пополудни паровой стерлядью как бы прощения просит за обиду... Хитров пригласил князя Мещеринова откушать рыбки, но царев посланник учтиво откланялся: не всякое званье ко времени. И верно угадал: вторично Хитров не настаивал...
Они вернулись в Гостевую палату докушивать. Хозяина томило, что разговор вроде бы оборвался не в мирных душах. Лекарь – человек нужный: хоть и лутер, и обавник, и с чернокнижниками, звездобайцами знается, но опять же не хлебогубец, не бездельник, при нужном ремесле, в Кукуе, Немецкой слободе, человек громкий и при вожжах. Не в хомуте, не в погонялках, не в догонялках, но при вожжах.
– Немчин я уважаю, – продолжил разговор Хитров, невольно как бы заискивая перед лекарем. – А гречан на дух не переношу. Ведь как ведется: русского цыган обманет, цыгана – жид, жида – грек, а грека – черт. Худо, что греки к нам повадились. Мало что попрошайничают, так и свою волю на нас норовят. Не про них ли та старая притча. Слушай-ка... Звал ячмень пшеничку: «Пойдем туда, где золото родится, мы там с тобою будем водиться». Пшеничка сказала: «У тебя, ячмень, длинен ус, да ум короток. Зачем нам с золотом водиться, оно к нам само привалится». Так вот греки, как тот ячмень, нас куда-то манят, а куда, в толк не возьму.
Лекарь молчал, мотая на ус, но тут не сдержался:
– Слышно, царь гречан жалует.
– Государь знает, кого любить, – снова вдруг загрубился Хитров. – Никто не смеет судить царские думы. И не тебе, лекарь, свой нос совать куда не след. Ешь давай, немчин, да пей, пока взашей не гонят, и кончай брусить.
– О, майн Готт. Над каждым моим словом твой топор, – искренне вскипел лекарь и тут же дал отступного. – Повинуюсь, повинуюсь, мой господин. Только и хотел сказать: у патриарха кровь водянеет. Смотрели его нынче. И селезенка лишена природной теплоты. Недолго уж протянет. Ждите перемен...
На прощанье подарил Хитров Давыду Берлову серебряную чарку, из которой потчевал лекаря. Чем весьма удоволил гостя и притушил сердечную горечь.
Глава пятая
Никакие обавники, чаровники и травознатцы, никакие звездобайцы, гадающие о судьбе по звездам, не помогут вам попасть ни в бояре, ни в окольничие, ни в думные дворяне, ежели вы смерд, рабичишко, посадский человек иль бобыль, бедный казак, бродящий по чужим подворьям в поисках хлебного куска, а тем более, ежели ты челядинин, подневольный, дворня, глядящая из чужого рта: тут и вовсе кабала вам и всей вашей родове на многие колена вглубь и вдаль. Воистину: на чужой каравой рот не разевай; не тобой положено, не тобой и взято; на все воля Господня; одному у лопаты хлебной, другому – у каравая, иному о лыко запинаться, другому холить плесны в алых бархатных башмаках, усаженных яхонтами.
Значит, то верховенство, тот устрой недостижимы для ничтожного человечишки? что это – тын необойденный? стены крепостные необоримые? надолбы и решетки запретные? пали неперелазные? Да, эти препоны и рогатки неодолимы. Но можно взлететь над ними выспрь, подняться выше любого господина на Руси. Это путь служения Господу, юдоль тернистая, где слезы – за благодать, страдание – за радость, смирение – за ликование, вековечное одиночество – розовый куст; вертоград, где можно душу спасти, – иноческий подвиг.
Как душа бренной плоти, так и монашествующий архиерей всякому боярину духовный отец и путеводитель, учитель и наставник, словесный пастырь и перст указующий – он и есть та небесная гроза, коей следует всякое время опасатися.
Ведь не сказка же: бежал с Анзерских скитов монах Никон в заплатанной рясе, подбитой оленьей шкурою, и самосшитых броднях из нерпичьей кожи, самолично скроенных на манер медвежьих лап; тайно скинулся с морского отока бывалый сын нижегородского смерда Никита Минич, едва не сгубленный мачехою в русской печи. И вот через четырнадцать лет он едет вобрат на Соловки, как посол, исполненный царского долга, новугородский митрополит, защитник всякого бедного и подневольного, гроза монастырской братии, скорый на расправу и неистовый ревнитель за истинное русское благочестие; попадает через тысячи поприщ поморскою землею в избушке, уставленной на сани-розвальни, покрытой изнутри кизылбашскими длинноворсными коврами, завернутый в медвежьи полости и в соболью шубу до пят, с архиерейской панагией на груди, подарком государя. Что и осталось с собою от прежнего чернеца, так это десятифунтовые вериги, навсегда опоясавшие грудь...
Далеко растянулся поезд царева посланника, владыки Помория. Глядит в слюдяное окошко Никон быстрыми, нетускнеющими глазами, и сон его не берет, и долгая дорога с увала на увал не томит. Монастырями развешен его путь, колоколами отпет и расхвален; и уж вроде бы тайбола заснеженная уже поглотит и сотников, и стрельцов, и бояр, и князей, и челядь многую, и подводы со скарбом и ествою, и сани со стрелецкою поклажею, и всякую огневую и ружейную справу; но в воздухе все еще висит малиновый гуд подголосков и рокот становых колоколов. Сла-ва Никону... Слава Ни-кону, сла-ва-а... Долга попажа на Холмогоры, а оттуда на Лопшеныу, а после морем. Спи, владыка, отдохни, святой отче: вот твой клирик Шушера прикорнул в ногах и давно уж, знать, досматривает десятый сон: скуфейка смялась к затылку, обнажив морщиноватый багровый лоб, и сквозь неплотно затворенные веки в узкие щели глаз за Никоном слепо и немо приглядывает что-то темное, но зрячее. Хоть и спит Шушера, притомился чернец, но и в ночи зрит неотступно за своим любимым господином. Овчинная полость сбилась с колен, и митрополит осторожно, стараясь не потревожить служку, поправил ее. Качаются боковые фонари, заливисто скрипят полозья, бубенцы напоминают: «Не спи, не спи», очнется и понугнет лошадей верховой возница; слышно, как, почуяв заминку, подскочит, матерясь, бессонный сотник: видно, задремал монастырский работник. Пока долго спит повсюдная Северная Русь, ибо на ее просторах зима во власти, и редкие короткие оттайки еще робко благовестят о приступающей весне. Завалы снега, неторный, бродный санный путь, нет-нет да и тревожно падает на крышу избушки кухта с близких елей; где-то с протягом подает тоскующий голос волк ли, собака ли. Господи, как все знакомо митрополиту, сам страннический, Христовый воздух Севера побуждает к подвигу; здесь и настоялось, окрепло иноческое чувство Никона. Тут кто-то засмеялся в боярском возке, и гневно перекосилось лицо митрополита. В чернь слюдяного оконца видит Никон чье-то матерое, породистое, окиданное гривою волос лицо в дорожной лисьей шапке с собольим околом, взглядывается в него и не спешит узнать себя.
Оле!.. Где ты, прежний чернец? какую такую странную игру затеял с тобою Господь, выдернув из крестьянского зипуна и сунув в руки ключку подпиральную... Вопию тебе, вопию, во умилении зову тебя, Исусе, сокровище нетленное; Исус, богатство неистощимое; Исусе, нищих одеяние; Исусе, вдов заступление; Исусе, сирых защитничек... Неустанно шепчет Никон, поглядывая за собою в черный прогал слюды; иногда на протяжном извиве пути вдруг как бы сквозь его лик проступает длинная вереница зыбких обозных огней... Опять из соседнего возка послышались смех, забористая ругань, помянули нехорошо женщину. Наивные, шепчет досадливо Никон. Они думают жить вечно, не ведая того, что нога их уже занесена над провалищем и, может, этой неправедной минутою они уже запечатали свою дорогу ко Христу. Ишь, государю жалуются, что допираю молитвами, службою допек, изнемогли лодари. Стыд потеряли; почитают поклон Господу за тяжкий труд. Все хотят емати, а когда отдавати? Егда суд приступит и ожжет главу? Идеже взять уговорное слово, коли Божье не почитают...
Давно ли я, самохвальный слепец-иосифлянин, возгоржался, де, Руськая земля благочестием всех одолела; а нынь вижу, как прав был иерусалимский патриарх Паисий, когда зазирал и строжил меня за церковные вины, когда открыл слепые очи мои на всеобщее наше неустроение. Чем гордились, чем? Москва – третий Рим и крепость Православия. Оле! Церковь – содом и вместилище греха: омраченный пианством, вскочит народишко безобразно в церковь и давай беса править. Волхвы и еретицы, богомерзкие бабы-кудесницы окружили Христов дом, волшебствуя, и народ с радостью пьет тот лживый напиток... Воистину греки наши благоверные и благочестивые родители, и надобно им поклонитися. Лишь из Цареграда свежим ветром продует нашу затхлость. Вот и назаретский Гавриил был на Москве, плакался о нас и скорбел, не веря ушам своим, как лаются безумны человеци, говорят скаредные и срамные речи, творят блуд, и прелюбодейство, и содомские грехи... И то: каков пастырь – таково и стадо. Что с господина шапку тянуть и стыдить его, коли у самого попа колпак давно в бесстыдстве сронен; оттого похвальное слово ныне у не боящихся Бога дворян и боярских людей: бей попа, что собаку, лишь бы жив был, да кинь пять рублей.
Государь, сосуд благовонный, сердце неостудное, инок Христов в царских багряницах; кто более его кручинится и плачется о нестроении церковном? Как прощались, скорбел: де, пастыри церкви только именем пастыри, а делом волцы, только наречением и образом учители, а произволением мучители, любят сребро и злато и украшение келейное, имеют влагалища исполнена лишних одежд...
А нынь новая кручина – патриарх помер. Настигла весть в Холмогорах: плачется государь, де, Бог наш изволил взять от здешнего лицемерного света отца нашего господина кир Иосифа, патриарха всея Руси; а мать наша соборная и апостольская церковь вдовствует, слезно сетует по женихе своем, а как в нее войти и посмотреть, и она, мать наша, как есть пустынная голубица пребывает, не имеющая подружил, так и она, не имея жениха своего, печалится... Возвращайся Господа ради поскорее к нам, обирать на патриаршество именем Феогноста, а без тебя отнюдь ни за что не примемся... Ты, владыко святый, помолись, чтобы Бог наш дал нам пастыря и отца.
...Государь ждет, велит поспешать: прилучится что да замешкаю коли, пообидеться может. Греют царевы листы сердце Никона: куда дороже они всяких лалов и смарагдов, от них щекотный огонь и глаза щемит близкой слезою. Собинный друг велит поторапливаться. Вроде бы обручены души, окольцованы, столь они томятся друг по друге. Не спи, Никон, бодрствуй: тебе выпала воля дозорить над Русью. От твоего костра разлетятся искры, и подымется пал, и горящие галки полетят над землею, и свара людская станет обыденкой.
Оглянись, Никон: не замешкал ли на отвилке, той ли дорогою наметил ход от росстани, есть еще время вспятить отай, и никто не похулит, есть места на Руси, где можно так затвориться вновь, как бы пропасть навовсе.
Никитка, помнишь ли, как, оставя отчий дом, тайком, не спросясь отцова благословения, ты бежал в Макарьев в Желтоводский монастырь, где и стал послушником и строгая жизнь в затворе не томила тебя. В летнее время ты взбирался спать на колокольню в те недолгие часы, что доставались отдыху, чтобы не опоздать к началу ранней утрени, и благовестный колокол подымал тебя на ноги грозным, но и милосердным зовом...
Никитка Минич, еще не позабыл ли ты, как невдали от того монастыря в селе Кириково жил учительный священник Анания, а ты любил вести с ним духовные беседы. И однажды, набравшись смелости, ты попросил в подарок рясу – так не терпелось тебе постричься. И старый благочестивый поп сказал тебе: «Юноша избранный, не прогневайся на меня: ты по благодати Духа Святого будешь носить рясы лучше этой, будешь ты в великом чине, патриархом».
...Греют душу царевы листы. Лежат они в дорожной укладке в замшевом мешке под боком митрополита: ничей глаз не должен коснуться их переписки; ежели и живет какая тайна на свете, так это государевы письма к собинному другу.
Торопись, Никон. Это, послушествуя твоей затее, собрал Алексей Михайлович такое торжественное посольство в Соловецкий монастырь по давно усопшую душу за прощением, по святые мощи митрополита Филиппа. Это ты сыскал в преданиях византийских, как император Феодосии посылал за мощами Иоанна Златоуста с собственной молитвенной грамотой к оскорбленному его матерью святому. И поверил тебе мягкий государь, де, пока не покается синклит перед мучеником Филиппом, умерщвленным опричником Малютой Скуратовым, до той поры не будет на Руси молитвенного смирения, быть на земле разброду и ереси и не знать более должного покоя в великом царствии. Грех за невинную кровь пал на Русь, и надобно ей очиститься покаянными слезами.
В замшевом мешке вместе с перепискою и митрополичьей печатью покоится царево послание в Господний вертоград, что написал Алексей Михайлович самолично, никому не препоручая, в слезах и молитвах, бесконечно веруя, что его искренний глас безусловно достигнет святой души невинноубиенного Филиппа Колычева и он простит царский дом: «Молю тебе и желаю пришествия твоего сюда, чтоб разрешить согрешение прадеда нашего царя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно завистию и несдержанием ярости. Хотя я и не повинен в досаждении твоем, однако гроб прадеда постоянно убеждает меня и в жалость приводит, ибо вследствие того изгнания и до сего времени царствующий град лишается твоей святительской паствы. Поэтому преклоняю сан свой царский за прадеда моего, против тебя согрешившего, да оставивши ему согрешение его своим к нам пришествием, да упраздняется поношение, которое лежит на нем за изгнание, пусть все уверятся, что ты помирился с ним; он раскается тогда в своем грехе, и за это покаяние и по нашему прошению приди к нам, святой владыка! Оправдался евангельский глагол, за который ты пострадал: „Всяко царствие раздельшееся на ся не станет“, и нет более теперь у нас прекословящего твоим глаголам...»
Глава шестая
«Ханжа, на себя одеяло тащит», – вслух сказал Хитров и от своих слов проснулся. Оказывается, и ночью не позабывал Ртищева, его постоянно смиренный, опущенный долу взгляд, коротко стриженные, как кабанья щетина, волосы. «Тьфу на него! – Окольничий протер глаза и окончательно проснулся. – Святее Господа Бога быть хощет, а сам все куры строит, выскочка. Я ужо тебе хвост-то прищемлю, как будешь пред государем-то ластиться. Змей... одно слово Змей Горыныч. – Хитров вздохнул, с неохотою слез с пуховика. – Вчера девка Марыська просилася в постелю, не пустил к себе: больно жадна до утех, а после храпит. Ну их, бесово племя, к дьяволу. Одна усталь – и все... Что там Давыдко, лекарь, намедни баял? Де, патриарх отходит, завдовеет наша матушка-церковь. Небось тоже куры струит, свои виды имеет, шиш заморский, вот и крутит возле». И тут перекинулся мыслью Хитров, сам себе указал: ну, Богдаша, не трусь, перемененья надо ждать. Зашевелятся ныне ханжи, пришло время постникам, эко сдружились, шепотники, житья от них не стало. Ртищев-то первейший средь них закоперщик. Надобно слово и дело крикнуть, под пытку подвесть, нет ли средь них умыслу. Украину, вишь, громко славят да гречан, – не перекинуться ли хотят, а батюшка-государь на то очи закрыл. Ханжа приглазно сала кус съест – не утрется, а скажет, не скуксясь, де, огурец соленой... Верное слово стариками молвлено: не дай, Господи, делать с барина холопа, с холопа дворянина, из попа палача, из богатыря воеводу. Словить бы мне Ртищева, да в Земской приказ ко мне на правеж. Лично бы доблюл, штоб пошибче да без изъяну – без сговору с палачом. А то ишь наловчились, поганцы, дощечки в сапожонки пихать, чтоб палкою не достало... В друзьяки метит к государю, да тех же беспородных в Терем тащит. Что Матвеев, что Нащокин – на грош сотня. Знать, пришло перемененье света: мужик кругом правит, и никто породы не блюдет. А я сыщу, однако, на них оракула-звездобайца: как клопов изведет...
Хитров позвал карлу, велел подавать выездное платье. С улицы открыли ставни, но свету с воли едва пролилось. Весна нынче припазднивалась: на Благовещенье снегу с крыш – не охапить, в затишках сугробы под самые застрехи. Вчерась была Марья – зажги снега, давно пора вешнице быть, а тут без шубы не ступи: ох-ох-ох, воистину новые времена и Господь отступился от нас. Хитров вздохнул, перекрестился: на Варваре зазвенели колокола, какой-то служка раньше Кремля встряхнулся с постелей. Хитров накинул на плечи стамедовый халат на бумажном подкладе, еще очумелый, тупой со сна беспомощно пробежался по опочивальне, сам себе чужой, бедный, позабытый. Потрогал по-стариковски печку, изразцы едва отозвались теплом: ах, лентяи, ах, выжиги, их не встряхни – и сами заколеют, и хозяина выморозят.
Во рту было противно, будто коты ночевали: вчера накурился, а нынче мука. Вот дьявольская забава – пожурил себя Хитров, невольно потянулся к тавлинке с табачком, подсыпал на ноготь щепотку, вдохнул, зверски чихнул, и вся усадьба ожила. Захлопали двери, забегали по двору огни, вся челядь, более ста душ, неохотно, с натугою принялась жить. Хитров кликнул меду; Захарка принес ендову, отлил в кубок. Окольничий выпил, зажмурился – и тоже ожил, почуял, что молод, удачлив, любим государем – и холост. Этот негодяй Давыдка обещал литовку: яра, говорит.
«Слышь, Захарка, ты литовок знавал? Яры, сказывали, как воск».
Бессонный дозорный карла поднял на хозяина круглые, мучительно грустные глаза, особенно яркие на бледном лице.
«Да что вы, Богдан Матвеевич. Меду в какую посуду ни лей, он слаще не будет. Пока пьешь – услада, после хмель, а в конце слезы. Подсунет тебе Давыдка ведьму, покрутишься на помеле».
«Ох, брат, пошто ты не женщина? Тебя бы я полюбил», – искренне воскликнул Хитров и подмигнул Захарке. Тот вспыхнул, в бесстрастном немом лице пробрызнуло жизнью.
«Будет вам, будет, – с тоскою отозвался Захарка. – Во мне и так всего много, не по моему сердцу. Будто сам себе скудельница. И спать боюся, снится одна срамота». И не спросясь благоволения, в хозяйский кубок отлил из серебряной ендовы, жадно выпил с таким чувством, будто и не жилец.
Хозяин поглядел в зеркало, но смолчал, наливши из стеклянной посуды родостаму, обильно смочил затылок розовой водой, отбивая запах табаку, придирчиво оценил обличье, сам себе показался тусклым, потертым. Усмехнулся, тут же возлюбя себя: не с лица воду пить, рыжий да рябой народ дорогой. Не суйся на свет, но и в тени не застаивайся. Впредь тебе, Богдан Матвеевич, наука: не тот вор, что ворует, но тот вор, что попадается.
«Вот поскули еще, поскули, – пригрозил Захарке. – Все мы холопи государевы. Мне бы твои заботы, злодей Живешь, рабичище, как кот на печи. Будешь ныть, сошлю с Афонькою в Петрищево да оженю на Матрешке еговой, старой деве, карл плодить. Во, кобыла неезжена! За ночь не объедешь! Тамотки запоешь лазаря да и затоскуешь о московском житье».
Хитров погрозил пальцем в зеркало, подсматривая любопытно за карлою. Захарка смиренно поклонился земно, держа в руке ермолку; ендова с медом стояла на полу и для карлы казалась крестильной чашей. В густой темно-коричневой заводи ее купалось отраженье трав и птиц, коими был расписан потолок опочивальни. Каштановые, с шелковым отблеском волосы скатились на лицо Захарки, и хозяину послышалось, что карла плачет.
«Ну поди, кобеляка. Утрися. Ты мне за сына. Узнай, съехал ли со двора Афонька, да проверь клади. С приказчиком вместях. Такой он замотай и опойца... И возницу поторопи со двора, пока дороги не пали».
Карла направился из спальни, но хозяин вновь задержал его, ныне беспокойный, суматошливый какой-то; вдруг велел прочитать вести из Петрищева. Захарка принес письмо, встал подле окна, утренний лунный свет вытончил и заголубил его и без того прозрачное фарфоровое лицо. «Государю Богдану Матвеевичу холоп ваш Гришка да староста Ивашко Захаров челом бьют, – читал Захарка монотонно, с каждым словом подымая на хозяина грустный взор. – Здесь, государь, в вотчине вашей, дал Бог, здорово. Да послали к вам, государь, десять баранов, да три кадки творога, да оброчных дворовых Оленкиных, Максюткиных да Матренкиных триста яиц, да с Оксиньею послано, что прошлого году пряла, ее оброку две новины. Да всякого хлеба выслано, овса 65 четвертей с осьминою, ячменя 100 четвертей, гороху три четверти, гречи четыре четверти, пшеницы с получетвериком три четверти, да семени конопляного две третницы, да льняного семени выслано осьмина плавуну да пол-осьмины ростуну. Да милости у тебя, государь, просим, прикажи, государь, пожаловать рубашонок, ободрался, наг. Да послано, государь, вешной рыбы пять пуд...»
«Вот и сверься по этой памятке, чтобы приказчик не замотал», – приказал Хитров, дослушав письмо, и отсутствующим взором проводил Захарку до двери. Окольничий уже был мысленно в государевом Тереме.
...Богдан Матвеевич Хитров вышел на высокое гостевое крыльцо, обернувшись, почтительно перекрестился образу Богородицы, висящему в печуре над резною дверью. Был окольничий в охабне из объяри с золотными пуговицами и бархатной шапочке с собольим околом. Ступал он мягко сафьянными короткими сапожками, подбитыми медными гвоздями. У края лестницы приостановился, осмотрел подворье, почтительно склоненную челядь. Конюх держал, уцепив за мундштуки, темно-красного жеребца. Хитров не видел сейчас всего имения, этих клетей и подклетьев, амбаров и скотиньих дворов, погребов и дворовых служб, но по разноголосице в весеннем воздухе, по тому живому гулу, что перекатывался по широкому двору, по репищам, куда свозили навоз, и по саду, спускающемуся к Москве-реке, он верно знал, что холопы и без догляду чуют руку своего государя и не отлынивают, полагаясь на сговорчивость его и ухватку.
Хитров глубоко принял вешнего опойного воздуха, как из доброго ковша, расправил молодецки плечи и сразу протрезвел. Это на государевом дворе втай прочим он шута строит, по взаимному уговору с царем принял на себя веселую игру. Но на своем дворе и в приказах, где начальствует, он господин, и всяк, кто по нужде неотложной столкнулся с Хитровым, тот долго помнит твердую руку окольничего и цепкий пригляд. Нет того на свете, чего бы убоялся царский постельничий: не раз и не два хаживал с вилами на медведя и на нож принимал. Иль кто не знает на Москве Богдана Матвеевича? Он и над Земским приказом голова, и всяк при несчастье своем идет под защиту его, чтоб имение отстоять, иль землицы выторговать под строение, иль слезно пожалиться на чинимые соседом скорби; но он же, Богдан Матвеевич, и в Новой четверти владыка, под его началом все кабаки Руси, шинки и кружечные дворы, всякое питье в доходы с него, откупщики, и целовальники, и кабацкие головы; здесь дознаются, кто тайно курит водку иль пьет и нюхает табак, тут же и расправу чинят лиходеям и вольникам, скрытным шинкарям, особым поклонникам хмельного. В этом приказе и бумагу Хитров выправит, чтобы домашнего пива на праздник наварить, отсюда с дознанием стрелецкий пристав идет по Москве, вынюхивая, не вычинивает ли кабацкий голова какой обиды и тесноты царевой казне... Что скрывать, великий на Руси человек Богдан Матвеевич, и ежели досталось ему намедни от Алексея Михайловича, так из любви лишь, чтобы глупой голове неповадно было вознестись в гордыне. Ибо многие ли на Руси удостоены великой чести быть пред царские очи каждоденно!
Легко сбежал с крыльца окольничий, деревянные ступени поскрипывали под ногою, огладил жеребца по круто выгнутой шее, с помощью дворового осторожно поднялся в высокое седло, стараясь не помять парадного охабня, наискал сапогами короткие высеребренные стремена; один кожаный тебенек, выпущенный поверх стременного ремня, загнулся неловко, и конюх, сразу заметив промашку, упреждая грозный окрик, торопливо подбежал и разогнал защитную справу под ногою хозяина. Обласкивая жеребца корявой ладонью, дворовый обошел его, проверил подпруги, расправил на спине алый бархатный покровец, разобрал на груди галдыри из медных блях, разложил на горбоносой чуткой голове нарядный «ухват» шелка с кистями и ворворками. Окольничий терпеливо дожидался, скосясь влево и встряхивая плеткой; жеребец переступал, горячась, и шпоры с бубенцами весело перекликались. Слуга в зипунишке и собачьем рыжем треухе с батогом в руке поспешил к воротам. Хитров ударил оголовком рукояти по медной литавре, висевшей у колена, и тронулся к воротам. Двое холопов сопровождали возле, почти притираясь боками к жеребцу; густые черные брови под папахами, высоко заломленные над яростно жгучими глазами, выдавали южную горячую кровь. Нет, эти не заблажат понапрасну, не раскричатся, но будут хранить окольничего, не скупясь на колотушки...
Стояли в природе радостные утренники, с ночи снег еще не отволг, не вымягчел, и наст стеклянно хрупал, ломался под жеребцом. Топились в хоромах и челядинных избах печи, дым низко слоился под сереньким, уже отмякающим небом вдоль узких улиц, свивался в сиреневые кольца, опадая за Москву-реку в Скородом, а там, в Земляном пригороде, сплетался с прочей избяной гарью и зависал над Москвою плотным сизым туманом. Лаяли собаки в округе, звонили колокола златоглавых церквей, ржали лошади, выведенные из стойл, у колымажного сарая чинился плотник, сряжая телеги, колымаги и кареты к весне, мазал дегтем ступицы, клепал ободья, розвальни закатывали к пристенкам, задирая в небо оглобли. У воды на ветошных буграх смолили челны, и костровые огни с хитровского подворья в этой легкой утренней сумеречности виделись пока тревожно-багровыми, напоминающими военный табор.
У ворот окольничий, по обыкновению, полуразвернул коня и московские сиреневые холмы с садами и дубравами, с жадным вороньем и чайками, пластающимися над водомоинами, золотые шеломы монастырей и посадские хоромы охватил каким-то последним, запоминающим взглядом, будто прощался с жизнию. И как по зову, вся челядь тоже обернулась, свежо разглядывая то, что доставалось поймать утреннему взгляду, не сходя с места, и нося в себе эту картину до ночи. Молод Хитров, тридцати не распечатал, но житейской основательности ему не занимать. И по служебникам дворовым скользнул взглядом, поймал сытые, без капли тоски рожи – и остался доволен. Нет, эти не переметнутся, не кинутся в гиль, не бросят господина своего обезглавленным в навозную яму, что сделали с окольничим Траханиотовым. Да им ли и грешить? ествой не обнесены, одежонкой не обижены, не наги-босы ходят, живут как сыр в масле; знай блюди свое вседневное дело, к чему господином приставлен, – вот и милость к тебе; это не в вотчинах под оком приказчика убиваться на земле, в поте лица добывая для хозяина оброк. И скажите на милость, кому охота на десятину, на барщину, на соленую жизнь? Вот и глядят рабичишки Хитрову в рот, упреждая всякую его затею...
Окольничий вывернулся из ворот и широкой плавной ступью направил коня середкой улицы мимо мытоимницы, где немчины хранят мягкий товар, и восточных крикливых лавок с кизылбашской затейливой всячиной, мимо усадеб Шереметева, князей Буйносовых, Сицких, Хворостининых. Деревянная мостовая в пазьях уже выпрела от снега, там настоялась прозрачная снежница поверх тонкого коварного льда; жеребец уросил, всхрапывал, косясь на темные дворы, но ступал вкрадчиво, спокойно. Так и должен носить конь окольничего, у которого жалованья две тысячи рублей годовых, не считая подарков. Чем ближе к Кремлю, тем плотнее обтекал Хитрова народ; окольничий бил рукоятью плети в литавру, но мало кто внимал этой просьбе. Попадали в приказы старые бояре в каптанах, окруженные многочисленной дворней, молодые стольники, все верхи; стекался к Пожару с Неглинной и из Замоскворечья всякий служивый московский люд, кому край как надо нынче быть иль у патриарха, иль попасть пред царские очи, дети боярские и жильцы, стольники и стряпчие, монахи и священство в черных скуфейках, подьячие и писаря, стрельцы в алых зипунах при бердышах и саблях и сторожевые вахты, драгуны и государевы истопники, посадские и черная сотня, богомольцы и нищие, сбитенщики и калашники, разносчики питья и еств, челядь и вольница, страждущие и жалобщики, тут же обозы с сеном и говядой, рыбой и скобяным товаром из дальних и ближних слобод, – все попадали к Кремлю, гонимые заботой и безделицей, разбрызгивая наводяневший снег, порою проваливаясь по колена в водомоины, когда теснила, жарко дыша, конская морда.