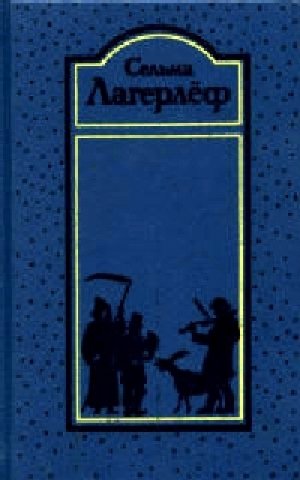
I
Умирает маленькая, хрупкая сестра Армии спасения.[1] Она получила чахотку и смогла протянуть всего один год. Почти до самого конца она продолжала выполнять свои обязанности, но, когда силы у нее окончательно иссякли, ее послали в санаторий. Она лечилась там несколько месяцев, но лучше ей не стало, и поняв под конец, что нет никакой надежды, она отправилась домой к матери, которая жила в собственном доме на окраине города. Теперь она в ожидании смерти лежит на постели в тесной комнатушке, в той самой, где жила в детстве и юности.
Ее мать сидит рядом, испуганная и печальная. Она настолько поглощена уходом за дочерью, что плакать ей недосуг. Подруга больной, работавшая с нею вместе, стоит у изголовья постели и тихо плачет. Взгляд ее, полный любви и сострадания, устремлен на лицо умирающей. Когда же глаза ее затуманиваются слезами, она резким движением вытирает их.
На маленьком неудобном стуле, который почему-то так нравился больной, что она постоянно возила его с собой, куда бы ни переезжала, сидит рослая женщина. На воротнике платья у нее вышита большая буква F.[2] Ей предлагали сесть на другое место, но она упорно предпочитала этот скверный стул, словно желая этим доказать свое внимательное отношение к больной.
Этот день не такой, как все дни, — стоит новогодний вечер. Небо висит серое и тяжелое. Тому, кто сидит дома, кажется, что погода холодная и ненастная, но стоит ему выйти на улицу, как его обдает на удивление теплый и ласковый воздух. Чернеет не покрытая снегом земля. Редкие белые снежинки падают на тротуар и тут же тают. Кажется, что вот-вот начнется сильный снегопад, но он никак не хочет начинаться. Видимо, снег и ветер не желают утруждать себя и бушевать в старом году, предпочитая сберечь силы для наступающего нового.
Что-то похожее творится и с людьми. Можно подумать, что им не хочется ничем заниматься. На улицах пустынно, в домах тихо. Напротив маленького дома, где лежит умирающая, находится участок земли — там начали забивать сваи под фундамент. Утром туда пришли рабочие. Они подняли молот, и он, падая, запел свою грохочущую песню труда. Но работали они недолго, скоро устали и ушли.
Со всем остальным творится то же самое. Несколько женщин с корзинами прошли торопливо за покупками к празднику. Но вскоре всякое движение в городе прекратилось. Детей, игравших на улице, позвали домой, велели им надеть выходное платье и сидеть дома. Лошадей, тянувших тяжелые возы, погнали в конюшни в городском предместье, где им предстоит отдыхать целые сутки. Чем ближе к вечеру, тем тише становится вокруг, под конец всякий шум прекратился, отчего людям, казалось, полегчало на душе.
— Хорошо, что она умрет в канун праздника, — говорит мать. — Скоро станет совсем тихо, и ничто не будет ей мешать.
Больная лежит в забытьи с самого утра, и три женщины, собравшиеся у ее постели, могут говорить что угодно, она их не слышит. Но, несмотря на это, можно легко определить, что ее состояние — не тупое беспамятство. В начале дня выражение ее лица много раз менялось. Оно отражало то удивление и испуг, то страдание и мольбу, а сейчас — сильный гнев, отчего оно кажется почему-то крупнее и в то же время красивее.
Маленькая сестра Армии спасения настолько преобразилась, что ее подруга, стоящая у изголовья постели, повернулась к своей начальнице и прошептала:
— Взгляните, капитан! Как красива сейчас сестра Эдит. Она похожа на королеву.
Рослая женщина поднимается с низенького стула, чтобы лучше рассмотреть лицо умирающей.
Видно, она до последнего дня привыкла видеть на лице маленькой сестры, даже усталой и больной, покорную и веселую мину. Пораженная переменой в лице Эдит, она не садится на стул, а продолжает стоять.
Сделав нетерпеливое движение, больная резко приподнимается и садится в постели, опираясь на подушки. На лице ее появилась печать неописуемого величия, и хотя губы ее не шевелятся, кажется, что с них готовы сорваться слова осуждения и презрения.
Мать смотрит на удивленных женщин.
— Вот такое с ней случается каждый день, — сказала она. — Разве не в этот час она обходила бедных?
Подруга бросает взгляд на старенькие часы, тикающие на столике рядом с кроватью.
— Да, — отвечает она, — как раз в это время она отправлялась к обездоленным.
Она резко обрывает фразу и подносит к глазам платок. Как только она начинает говорить, подступивший к горлу ком вынуждает ее замолчать.
Мать берет сухонькую руку дочери и начинает ее гладить.
— Ей было не по силам помогать им, приводить в порядок их трущобы и увещевать, чтобы они отучались от дурных привычек, — говорит она со скрытым осуждением в голосе. — Непосильную работу трудно выбросить из головы. Ей, поди, кажется, что она все еще ходит помогать им.
— Такое может случиться, если слишком сильно любишь свою работу, — тихо отвечает капитан Армии спасения.
Они видят, что брови больной расширяются и сдвигаются, отчего пролегающая между ними морщинка становится глубже, а верхняя губа слегка приподнимается. Они ждут, что глаза ее вот-вот раскроются и бросят на них испепеляюще-гневный взгляд.
— Она похожа на карающую птицу небесную, — благоговейно прошептал капитан.
— Что там может случиться сегодня в трущобах? — успокаивающе говорит подруга и протискивается между сидящими возле постели, чтобы погладить больную по лбу. — Не думай о них, сестра Эдит, — продолжает она. — Ты и без того сделала для них так много добра.
Эти слова, казалось, помогли Эдит отогнать прочь занимавшие ее мысли. Печать крайнего напряжения на ее лице сменяется выражением кротости и страдания, столь обычным для нее в дни болезни.
Она открывает глаза и, увидев наклонившуюся к ней подругу, берет ее за руку, пытаясь привлечь к себе. Подруга не понимает, что означает это легкое прикосновение, но, увидев мольбу в ее глазах, пригибается ниже, к самым губам больной.
— Давид Хольм, — шепчет Эдит.
Сестра из Армии спасения качает головой. Ей показалось, что она ослышалась.
Больная напрягается изо всех сил, стараясь, чтобы ее поняли. Она повторяет фразу, выговаривая отдельно каждый слог:
— По-шли за Да-ви-дом Холь-мом!
Больная смотрит подруге в глаза, чтобы удостовериться, что та ее правильно поняла. Потом она снова откидывается на подушки, а через несколько минут опять впадает в забытье, и перед ее глазами вновь появляется какая-то безобразная сцена, наполняющая ее душу гневом и страхом.
Подруга выпрямляется, она больше не плачет. Ее охватывает сильное душевное волнение, заставившее слезы высохнуть.
— Она хочет, чтобы я послала за Давидом Хольмом!
Казалось, больная пожелала чего-то ужасного. Большую, грубую женщину-капитана Армии спасения охватывает столь же сильное волнение, как и ее подопечную.
— За Давидом Хольмом? — повторяет она. — Но ведь это невозможно. Не можем же мы привести Давида Хольма к умирающей!
Мать больной видит, как лицо дочери вновь приобретает выражение гневного судии. Она глядит вопросительно на двух растерявшихся женщин.
— Сестра Эдит хочет, чтобы мы послали за Давидом Хольмом, — объясняет капитан, — но мы не знаем, следует ли это делать.
— За Давидом Хольмом? — спрашивает мать. — А кто такой Давид Хольм?
— Один из тех, с кем сестре Эдит пришлось немало помучиться. Но Господу было неугодно, чтобы она сумела наставить его на путь истинный.
— Быть может, капитан, Господу угодно возыметь над ним власть в эти последние часы ее жизни?
Мать больной недовольно глядит на них.
— Вы распоряжались моей дочерью до тех пор, покуда в ней оставалась хоть искра жизни. А теперь оставьте ее мне в час кончины!
Эти слова решают дело. Подруга снова встает у изголовья постели. Капитан Армии спасения садится на маленький стул, закрывает глаза и начинает тихо бормотать молитву. Остальные еле различают отдельные слова. Она просит Господа, чтобы молодая сестра ушла из жизни без печали и волнений о своих обязанностях и заботах, присущих суетному миру испытаний и скорбей. Но ее, глубоко погруженную в молитву, разбудила подруга Эдит, положив ей руку на плечо. Она мгновенно очнулась и открыла глаза.
Больная снова пришла в себя. Но на этот раз в глазах ее нет кротости и покорности. И на лбу ее по-прежнему лежит печать грозного гнева.
Подруга тут же наклоняется над ней и отчетливо слышит вопрос, в котором звучит упрек:
— Почему ты, сестра Мария, не послала за Давидом Хольмом?
Весьма возможно, что подруге хочется возразить, но в глазах Эдит она читает нечто, заставившее ее промолчать.
— Я приведу его сюда, сестра Эдит, — соглашается она.
Она поворачивается к матери больной и говорит, как бы извиняясь:
— Я никогда не отказывала в просьбе сестре Эдит, не могу этого сделать и сегодня.
Больная закрывает глаза со вздохом облегчения, и подруга выходит из комнаты, где снова воцаряется тишина. Капитан Армии спасения тихо молится со страхом и тоской. Грудь умирающей тяжело вздымается, и мать придвигается поближе к постели, словно хочет уберечь свое несчастное дитя от страданий и смерти.
Через несколько секунд Эдит снова открывает глаза. Лицо ее по-прежнему выражает нетерпение, но, когда она видит, что подруги нет в комнате, и понимает, что ее желание будет исполнено, оно смягчается. Она не делает попытки говорить, но больше не впадает в беспамятство, а лежит с открытыми глазами.
Стукнула наружная дверь, и больная снова приподнимается в постели. Сестра Мария слегка приоткрывает дверь спальни.
— Я не смею войти, — говорит она, — не хочу вносить с собой холод. Не будете ли вы любезны, капитан Андерссон, выйти сюда на минутку?
В этот момент она видит смотрящие на нее с надеждой глаза больной.
— Я не могла найти его, — объясняет она, — но я встретила сестру Густавссон и еще нескольких наших, и они обещали мне отыскать его. Густавссон приведет его сюда, к сестре Эдит, если только найдет.
Едва она умолкла, как умирающая закрывает глаза и погружается в созерцание сцены, занимавшей ее ум целый день.
— Она видит его, — говорит Мария с досадой, но тут же берет себя в руки. — Да будет воля Божия, видно, так надо.
Она тихо уходит в переднюю, и капитан следует за ней.
Там стоит женщина лет тридцати, не старше, с серой морщинистой кожей, жидкими волосами, исхудавшая и изможденная хуже иной старухи. Одежда на ней до того ветхая, что в голову невольно приходит мысль, будто она надела эти лохмотья намеренно, чтобы просить милостыню.
Капитан Армии спасения смотрит на нее со все возрастающим страхом. Самое ужасное в ней не одежда, не преждевременная старость, а неподвижное, застывшее лицо. Эта женщина двигается, ходит, стоит, но, кажется, не сознает, где она находится. Очевидно, ей пришлось так сильно страдать, что душа ее достигла предела терпения: еще мгновение, и ее поглотит безумие.
— Это жена Давида Хольма, — говорит сестра Мария, — я пришла к ним в дом, чтобы позвать его, и нашла ее в таком состоянии. Его я дома не застала, она была одна. Ни на один мой вопрос она не могла ответить ни слова. Я не посмела оставить ее одну и взяла с собой.
— Так это жена Давида Хольма? — восклицает капитан Андерссон. — Я точно видела ее раньше, но не узнала. Что могло случиться с ней?
— Нетрудно догадаться, что с ней случилось, — с горячностью отвечает сестра Мария, охваченная бессильной яростью. — Муж замучил ее до полусмерти.
Капитан Армии спасения со страхом смотрит на женщину, у которой глаза, казалось, готовы выкатиться из орбит, а зрачки уставились куда-то в одну точку. Она сомкнула руки в замок и крутит большими пальцами, губы ее слегка дрожат.
— Что он сделал ей?
— Не знаю. Она не могла мне ответить. Когда я пришла к ней, она сидела и дрожала. Детей дома не оказалось, и мне не у кого было спросить. О, Боже, надо же было случиться этому именно сегодня! Разве могу я помочь ей, когда мне нужно думать о сестре Эдит?
— Видно, он бил ее.
— Думаю, он сделал что-нибудь еще хуже. Я видела женщин, которых били мужья, они не выглядели так ужасно. Нет, с ней случилось что-то худшее, — нотки страха в голосе сестры Марии все усиливаются. — Мы видели по лицу сестры Эдит, что с ней случилось нечто ужасное.
— Да! — восклицает капитан Андерссон. — Теперь понятно, что ей привиделось. И слава Богу, что сестра Эдит поняла это и ты смогла прийти туда вовремя, сестра Мария! Слава Господу Богу! Видно, Его святая воля, чтобы мы спасли ее рассудок.
— Но чем я могу помочь ей? Она идет за мной, когда я веду ее за руку, но не слышит моих слов. Душа ее не здесь. Как могу я вернуть ее ей? У меня нет над нею власти. Может быть, вам это удастся лучше, капитан Андерссон?
Рослая женщина-капитан берет несчастную за руку и говорит с ней ласково и строго, но на лице ее не появляется даже малейший проблеск сознания, все попытки тщетны. Внезапно дверь приотворяется, и мать больной высовывает голову в прихожую.
— Эдит начинает волноваться, — говорит она, — лучше вам войти в комнату.
Обе женщины из Армии спасения возвращаются в маленькую спальню. Больная мечется на постели, то привстает, то снова откидывается на подушки. Но это беспокойство, по-видимому, результат душевных, а не физических страданий. Увидев, что ее друзья снова заняли свои места у ее постели, она немного успокаивается и закрывает глаза.
Капитан Армии спасения подает знак сестре Марии оставаться возле больной и поднимается, чтобы прокрасться на цыпочках к двери. Но в этот момент дверь отворяется, и в комнату входит жена Давида Хольма.
Она подходит к постели и останавливается, бессмысленно тараща глаза, дрожа и продолжая крутить негнущиеся пальцы до треска в суставах. Какое-то время она, по-видимому, не сознает, где находится, но постепенно взгляд ее теплеет. Она наклоняется к лицу умирающей.
И тут лицо вошедшей искажает зловещая и страшная гримаса. Ее пальцы раздвигаются и скрючиваются. Оба солдата Армии спасения вскакивают на ноги, боясь, что она бросится на умирающую.
И тут маленькая сестра открывает глаза. Увидев перед собой кошмарное, полубезумное существо, она садится и обвивает эту женщину руками, прижимает ее к себе изо всех своих слабых сил, начинает целовать ее лоб, щеки, губы и не переставая шептать:
— Ах, бедная фру Хольм! Бедная фру Хольм!
Нищая, обезумевшая от горя женщина вначале отшатывается назад, но тут по телу ее пробегает судорога, и, разразившись рыданием, она, прижимаясь головой к щеке умирающей, опускается перед кроватью на колени.
— Она плачет, сестра Мария, — шепчет капитан Андерссон. — Теперь она уже не сойдет с ума.
Сестра Мария крепко сжимает в кулаке мокрый от слез платок и, тщетно пытаясь говорить спокойно, отвечает шепотом:
— Только она может это сделать, капитан. Что будет с нами, когда ее не станет?
Секунду спустя они замечают умоляющий взгляд матери больной.
— Да, конечно, — говорит капитан, — нам нужно увести ее. Не годится, чтобы муж застал ее здесь. Нет, нет, ты, сестра Мария, оставайся возле своей подруги! — возражает она, увидев, что та собирается уходить. — А я позабочусь об этой женщине.
II
В тот же самый новогодний вечер, только позднее, после наступления темноты в маленьком садике, окружающем церковь, сидели и распивали пиво и водку трое мужчин. Они устроились на траве под липами с блестящей мокрой темной листвой. Сначала они пили в погребке, но когда его закрыли, обосновались под открытым небом. Им хорошо было известно, что ночь эта новогодняя, потому-то они и отправились в церковный садик. Они хотели быть поближе к башенным часам, чтобы не пропустить новогодний тост.
Они сидели не в темноте, сюда падал свет электрических фонарей с соседних улиц. Двое из них — старые опустившиеся бродяги с большой дороги — застряли в городе, чтобы пропить выпрошенные медяки. Третьему было тридцать с небольшим.
Из боязни, что их увидит и прогонит полиция, они уселись рядышком и разговаривали тихо, почти шепотом. Молодой рассказывал, а двое других слушали его с таким вниманием, что на время забыли про стоявшие перед ними бутылки.
— Был у меня один товарищ, — начал он серьезным и почти зловещим тоном, хотя в глазах у него светилось лукавство, — с которым в канун Нового года произошла сильная перемена. И вовсе не оттого, что он, подсчитав доходы, был недоволен годовыми барышами, а оттого, что услыхал, будто в этот день с ним может случиться нечто опасное и страшное. Уверяю вас, господа, что весь этот день, с утра до вечера, он сидел притихший и испуганный и даже не пропустил ни рюмочки. Вообще-то он из себя был человек веселый, и сыграть с ним в новогоднюю ночь такую шутку было так же непросто, как любому из вас выпить на брудершафт с губернатором.
Итак, господа, вас, наверное, разбирает любопытство: чего же он боялся? Нелегко было заставить его об этом рассказать, но однажды он все же мне это поведал. Однако, быть может, вам неохота слушать об этом сегодня ночью? Ведь в этом церковном садике жутковато, когда-то здесь было кладбище. Что вы на это скажете?
Бродяги, разумеется, тут же стали его уверять, что не верят в привидения, и он стал продолжать свой рассказ.
— Этот мой приятель был из хорошей семьи. Он учился в Упсале[3] и знал, стало быть, чуть больше, чем мы с вами. И могу вам сказать, что он сидел смирно в канун Нового года и не выпил ни капли спиртного, лишь потому, что боялся, как бы не ввязаться в драку, не попасть еще в какую-нибудь беду и не умереть в этот день. В любой другой день он бы этого не испугался. Ему страшно было лишь умереть под Новый год, не хотел, чтобы его заставили править телегой мертвецов.
— Телегой мертвецов? — ахнули бродяги.
Чтобы подзадорить их, долговязый нарочно спросил, желают ли они дослушать его рассказ до конца, сидя в таком мрачном месте, но они велели ему поскорее продолжать.
— Так вот, мой приятель точно уверил меня, что есть на свете старая-престарая телега, в которых крестьяне возят всякую всячину на рынок, только такая ветхая, какой на дороге не увидишь. Она до того замызгана глиной и грязью, что не разобрать, из чего она сделана. Ось треснута, обода разболтаны и дребезжат, колеса не смазаны с незапамятных времен и скрипят так, что можно спятить. Дно телеги прогнило, сиденье рваное, обшарпанное, половина спинки облучка оторвана. А тащит эту повозку древняя кляча, одноглазая и хромая, с поседевшей от старости гривой и хвостом. Лошадка эта до того тощая, что хребет у нее похож на полотно пилы, обтянутое кожей, а ребра пересчитать можно. Она неповоротлива, ленива и упряма, а тащится до того медленно, что дитя ползком обгонит. Упряжь у этой клячи потертая, истлевшая, все крючки и пряжки с нее отвалились, и теперь ее связывают обрывками бечевки да ивовыми прутьями. Латунные и серебряные украшения осыпались с нее все до одного, осталось лишь несколько реденьких грязных нитяных кистей, которые не украшают упряжь, а обезображивают ее. Вожжи у нее под стать упряжи, их так часто чинили, что остались лишь одни узлы, так что поправить их уж никак нельзя.
Он приподнялся и потянулся за бутылкой, быть может главным образом для того, чтобы дать слушателям время переварить сказанное.
— Может, вам, господа, все это кажется странным, — продолжал он, — но скажу дальше, что вдобавок к упряжи и вожжам есть также и возница, он сидит, сгорбленный и злой, на рваном сиденье и погоняет старую лошадь. Губы у него сине-черные, а щеки серые, глаза мутные, как разбитое зеркало. На нем длинный черный засаленный плащ с большим капюшоном, надвинутым на глаза. В руке он держит заржавленную тупую косу с длинным черенком. И знаете ли, господа, человек, который держит в руках рваные вожжи, не простой возница, он состоит на службе у строгой госпожи по имени Смерть. День и ночь ездит он по ее поручениям. Умирает человек, а он уже спешит туда на скрипучей, громыхающей телеге, погоняя хромую клячу.
Рассказчик на мгновение умолкает и вглядывается в лица своих приятелей. Увидев, что они слушают его с большим вниманием, он продолжает:
— Вам, господа, должно быть, доводилось видеть Смерть на картинках, и вы, верно, заметили, что ее всегда рисуют идущей пешком. Но сейчас речь идет не о самой Смерти, а о ее вознице. Можно подумать, что сама Смерть собирает лишь самый богатый урожай, а маленькие стебельки и придорожные травы велит косить своему вознице. А сейчас расскажу я вам про самое удивительное. Дело в том, что, хотя по этому поручению одна и та же кляча возит одну и ту же телегу, возница время от времени сменяется. Новым возницей Смерти становится тот, кто умирает последним в году, кто испускает дух, когда часы в новогоднюю ночь бьют двенадцать. Его мертвое тело хоронят, а его неприкаянная душа должна надеть плащ, взять в руки косу и разъезжать целый год от одного умирающего к другому, покуда ее не сменят в следующую новогоднюю ночь.
Он умолкает и бросает на своих щуплых собутыльников хитрый выжидающий взгляд. Он замечает, что они тщетно пытаются разглядеть стрелки на башенных часах.
— Часы только что пробили без четверти двенадцать, — поясняет он. — Так что вам не стоит беспокоиться, роковой час еще не настал. Однако теперь вы, верно, поняли, чего боялся мой приятель. Именно того, что может умереть, когда часы будут бить полночь, и что ему придется стать таким возницей. Мне думается, он целый день сидел, воображая, будто ему слышится скрип и громыханье телеги Смерти. И надо вам сказать, господа, самое невероятное, что он умер как раз в прошлую новогоднюю ночь.
— Он умер как раз в полночь?
— Мне известно лишь, что он умер в канун Нового года, но в котором часу, не знаю. Я мог бы предсказать ему, что он умрет именно в этот день, раз он так боялся этого. Если вы тоже это вообразите, то с вами случится то же самое.
Оба бродяги, словно по уговору, разом схватили свои бутылки и сделали по большому глотку. Потом они стали медленно и неуклюже подниматься.
— Неужто вы, господа, собираетесь нарушить компанию, не дождавшись полуночи? — спрашивает рассказчик, увидев, что ему отлично удалось напугать их. — Я думаю, вы не придаете ни малейшего значения этой старой сказке? Тот приятель, о котором я говорил, был человек слабый, не отличался настоящей здоровой шведской породой, как мы с вами. Но давайте-ка выпьем, а после еще посидим.
— Вот и прекрасно, — говорит он, заставив их снова сесть на землю, — за целый день я впервые отдыхаю здесь. Где бы я ни показался, на меня тут же набрасывались солдаты Армии спасения и тащили к сестре Эдит, которая лежит при смерти. Но я благодарил их и отказывался. Кто добровольно слушает эти тошнотворные проповеди?
Услышав имя сестры Эдит, хилые бродяги, не раз приложившиеся к бутылке и порядком захмелевшие, разом вздрагивают. Они спрашивают, не она ли учредила приют в трущобах.
— Ну конечно, она, — отвечает долговязый, — целый год она удостаивала меня особым вниманием. Надеюсь, она не из числа ваших близких знакомых и вы не станете сильно скорбеть о ней.
Очевидно, она сделала для них какое-то благодеяние, и они не забыли об этом. Они решительно и дружно заявляют, что если сестра Эдит хочет кого-нибудь видеть, то нужно немедленно идти к ней.
— Вы так считаете, господа? Я согласен идти, если только вы — а вы хорошо меня знаете — сможете сказать, доставит ли сестре Эдит радость встреча со мной.
Ни один из бродяг не берет на себя смелость ответить на этот вопрос. Они лишь настаивают на том, чтобы он шел к ней. Он решительно отказывается и поддразнивает их, а они приходят в ярость и угрожают поколотить его, если он не пойдет добровольно.
Потом они поднимаются на ноги и засучивают рукава, готовясь к нападению.
Их противнику, который знает, что он самый рослый и сильный во всем городе, вдруг становится жаль этих тщедушных людишек.
— Если вы непременно хотите драться, я готов в любую минуту. Только, мне думается, лучше решить дело полюбовно, в особенности учитывая то, о чем я вам только что рассказал.
Быть может, у опьяневших бродяг были и другие причины рассвирепеть, но боевой задор в них уже проснулся, и они бросаются на него со сжатыми кулаками.
Уверенный в своем превосходстве, он даже не удосуживается встать, а продолжает сидеть на земле. Он лишь размахивает вытянутыми руками и расшвыривает нападающих, как щенков, налево и направо. Но они снова нападают на него, и одному из них удается нанести этому рослому, сильному человеку довольно серьезный удар в грудь. Мгновение спустя он чувствует, как что-то горячее поднимается у него в горле и наполняет рот. Он знает, что одно легкое у него разрушено, и понимает, что это начало кровохарканья. Он перестает драться и бросается на землю, а изо рта у него струйкой течет кровь.
Но беда становится непоправимой, когда его собутыльники, обнаружив, что их руки запачканы теплой кровью, и увидев, что он упал, решают, что убили его, и пускаются наутек, оставив его одного. Вскоре кровотечение прекращается, но стоит ему сделать малейшую попытку подняться, как оно начинается снова.
Ночь еще не слишком холодная, но, лежа на сырой земле, он замерзает. Он начинает понимать, что погибнет, если никто не придет ему на помощь и не отведет его в теплый дом. Он лежит почти в центре города, и в новогоднюю ночь на улицах рядом с церковным садом немало людей, но сюда никто не заходит. Они совсем близко, он слышит их голоса. Как обидно умереть, когда помощь так близка.
Он ждет еще немного, но холод становится все невыносимее, и он, чувствуя, что не сможет подняться, пытается позвать на помощь.
Но ему снова не везет, как раз в этот момент башенные часы начинают бить полночь. Голос человека тонет в этом металлическом звоне, и никто его не слышит. Он не может даже сделать новую попытку, потому что от напряжения кровь полилась сильнее. Она хлынула потоком, и он успевает подумать, что вся кровь выливается из него, и, очевидно, так оно и случилось. «Не может того быть, что я умру сейчас, когда часы бьют полночь», — мелькает в его голове, и тут же его охватывает чувство, будто он гаснет, как догоревшая свеча. И в тот самый миг, когда звучит последний удар, возвещающий о том, что новый год вступил в свои права, он погружается в темноту, в небытие.
III
Едва башенные часы успели звонко, на всю округу, ударить двенадцать раз, как воздух прорезал короткий и жуткий скрип.
Этот звук повторяется снова и снова с малым промежутком. Кажется, будто скрипит немазаное колесо какой-то повозки, только звук этот гораздо резче и неприятнее скрипа самой скверной телеги. Он причиняет боль. Он повергает в страх и отчаяние.
Какое счастье, что его не слышат все те, кто гуляет по улицам в ожидании Нового года. Если бы веселые молодые люди, слонявшиеся всю ночь по улицам вокруг площади и церковного садика и теперь кричавшие друг другу поздравления с Новым годом, услышали этот скрип, то новогодние пожелания сменились бы воплями страха перед ужасами, ожидающими их самих и их друзей. Если бы эти звуки услышали прихожане, которые собрались в маленькой миссионерской часовне и только что затянули благодарственный новогодний гимн, они, верно, подумали бы, что в их песнь вмешались стенания и вой падших ангелов. Если бы их услышал человек, поднявший на веселом празднике бокал шампанского и кричащий «ура» Новому году, он замолчал бы, приняв их за зловещее карканье ворона, предвещающее крушение всех его надежд и желаний. Если бы их услышали все, кто в эту ночь бодрствует у себя в доме, подводя итог своим делам и поступкам в истекшем году, в сердцах у них зародилось бы глубокое отчаянье от сознания своей слабости и бессилия.
К счастью, этот скрип слышит лишь один-единственный человек, и человек этот заслужил, чтобы в душе его проснулась тревога, угрызения совести и чувство презрения к самому себе, если он вообще на это способен.
IV
Человек, только что потерявший так много крови, лежит, пытаясь прийти в сознание. Ему кажется, что его кто-то будит, что над его головой, пронзительно крича, кружит какая-то птица. А он погружен в прекрасный сладостный сон и не может очнуться.
Но тут же он догадывается, что это вовсе не крик птицы, а скрип старой телеги Смерти, о которой он рассказывал двум бродягам. Она с ужасным скрипом и дребезжанием едет к церковному садику и не дает ему спать. Лежа в полузабытьи, он хочет отогнать мысль о телеге Смерти. Видимо, это мерещится ему, потому что он не так давно думал об этом.
Он опять впадает в транс, но беспрерывный скрип по-прежнему доносится до него, не давая обрести покой. Он начинает понимать, что это и в самом деле скрипит телега. Что это вовсе не игра воображения, а реальность, и нет надежды на то, что этот скрип прекратится.
Тогда он решает, что должен проснуться. Больше ничего не остается делать.
Он тут же замечает, что лежит на прежнем месте, что никто ему не помог. Ничего не изменилось, только воздух прорезают отрывистые и резкие заунывные звуки. Кажется, будто они доносятся издалека, но они так назойливы и так режут слух, что он понимает: это они разбудили его.
Неужто он долго лежал в беспамятстве? Нет, не может этого быть. Ведь вокруг столько людей, он слышит, как они громко поздравляют друг друга с Новым годом, стало быть, часы совсем недавно пробили полночь.
Скрип раздается снова и снова, и человек, который всегда терпеть не мог резких, визгливых звуков, решает попробовать встать на ноги и уйти, чтобы не слышать эту мерзость. Ведь можно же хотя бы попытаться. Теперь, очнувшись, он чувствует себя вполне хорошо. Похоже, что у него в груди нет больше открытой кровоточащей раны. Он не чувствует больше ни холода, ни усталости и, как в ту пору, когда был здоров, вовсе не ощущает своего тела.
Он все еще лежит на боку, в том же положении, как тогда, когда началось кровохарканье и он бросился на землю. Теперь он хочет повернуться на спину и посмотреть, на что способно его ослабевшее тело. «Сейчас я осторожно приподнимусь на локте, — думает он, — перевернусь и снова лягу».
Обычно, когда человек говорит: «Сейчас сделаю то-то и то-то», он одновременно и делает это. Но на этот раз с ним происходит нечто удивительное, тело лежит неподвижно, отказываясь повиноваться его воле. Неужели он лежал здесь так долго, что заледенел? Но если бы он настолько окоченел, то, верно, уже умер бы, а он жив, ведь он видит и слышит. Да, впрочем, не так уж сейчас и холодно, с веток деревьев на него то и дело падают капли.
Его мысли были настолько заняты этим странным состоянием, что он на время забыл про назойливый скрип. Но вот он снова услышал его. «Да, теперь уж не придется думать, Давид, о том, как бы убежать от этой музыки! — говорит он себе. — Придется терпеть изо всех сил».
Нелегко человеку, который вроде бы только что был здоров и силен, да и сейчас не чувствует себя больным, набраться терпения и лежать неподвижно. Он не перестает делать попытки хотя бы шевельнуть пальцем или приподнять веки. Но все напрасно. Он пытается представить себе, как он это делал, когда мог двигаться. Но ему кажется, что он, как ни странно, забыл, как это делается.
Тем временем скрип становится все громче. Он уже доносится не издалека, и человек понимает, что это скрипит повозка, которая медленно движется по Лонггатан[4] в сторону площади. Ясно, что это чья-то злая шутка. Вот слышится уже не только стук колес, но и треск дерева, и стук копыт лошади о камни мостовой. Будь это сама разнесчастная телега Смерти, которой так боялся его старый товарищ, страшнее, поди, не было бы.
«Ну что, Давид, — думает он, — мы с приятелем не очень-то жаловали полицию, но, если бы она сейчас заявилась и прекратила бы это безобразие, мы бы сказали ей спасибо».
Этот человек имел обыкновение хвастаться своей храбростью, но сейчас он начинает бояться, что эта скрипучая музыка, вдобавок ко всему случившемуся с ним этой ночью, доконает его. Ему приходят в голову страшные мысли: когда его найдут здесь, то посчитают мертвым и повезут обряжать и хоронить. «А ты, Давид, будешь лежать и слушать, что говорят возле твоего мертвого тела, и вряд ли услышишь что-нибудь получше того, что слышишь сейчас».
Видно, из-за этого скрипа он опять начинает думать о сестре Эдит, но не с чувством раскаянья, а с досадой на то, что она как бы взяла над ним верх.
Скрип наполняет воздух и режет слух, но вовсе не вызывает у лежащего на земле человека чувство раскаянья за зло, причиненное им людям, а лишь раздражает и напоминает про обиды, которые причинили ему другие.
Когда же его раздражение достигает апогея, он вдруг перестает об этом думать и целую минуту лежит, прислушиваясь. Повозка доехала до конца Лонггатан, но не свернула на площадь. Копыта лошади не бьют больше, соскальзывая, по булыжникам мостовой, сейчас они ступают по песчаной дорожке. Она движется по направлению к нему. Она въехала в церковный садик.
Радуясь, что ему смогут сейчас помочь, он пытается приподняться. Но у него опять ничего не получается. Движутся в нем только мысли.
Но зато он теперь слышит, что старая повозка в самом деле приближается к нему. Трещит гнилое дерево, бренчит упряжь, немазаные колеса скрипят до того жалобно, что того и гляди повозка развалится, не доехав до места, где он лежит.
Повозка тащится ужасно медленно, и одинокому, уставшему ждать человеку кажется, что она никогда не подъедет к нему. Он никак не может взять в толк, что это за повозка, зачем она едет по церковному саду в новогоднюю ночь. Может, кучер пьян и заехал не туда, куда нужно? Вряд ли он сможет кому-нибудь помочь.
«Да просто этот скрип испортил тебе настроение, Давид, — думает он. — Не беспокойся, этот тарантас не свернул на другую аллею, а едет прямо сюда».
Повозка уже в нескольких шагах от него, и невыносимый скрип заставляет его упасть духом. «Не везет тебе нынче ночью, Давид, — думает он. — Вот увидишь, это новая беда приближается к тебе. Либо тяжелый каток на тебя наедет, либо еще что-нибудь приключится».
Секунду спустя он уже видит то, чего он так долго ждал. И хотя это вовсе не каток, который может раздавить его, он приходит в ужас.
Он не может повернуть голову, и потому видит только то, что находится прямо перед ним. Он лежит на боку лицом к дорожке, и повозка предстает перед ним как бы по частям. Первое, что он видит, — голова старой лошади с седой гривой, с обращенным к нему слепым глазом, затем видит ее перед, ногу и упряжь, связанную обрывками бечевки и ивовыми прутьями, с грязными нитяными кистями. А вот он видит и всю жалкую клячу и старую телегу со сломанным облучком и разболтанными, вихляющимися колесами, обычную крестьянскую телегу, но такую старую и разбитую, что на ней и возить-то ничего невозможно.
Сидящий на облучке возница тоже точь-в-точь как тот, о ком он недавно рассказывал. В руках он держит связанные из обрывков вожжи, узел на узле, капюшон надвинул на глаза, сам сгорбился от вечной усталости.
Когда Давид, потеряв много крови, лишился чувств, ему казалось, что душа его трепещет, как гаснущий огонек. Теперь же ему кажется, будто ее так сильно трясут, выкручивают и перетряхивают, что ей никогда не вернуться на прежнее место. Можно подумать, что от всего того, что предшествовало появлению этой телеги, он должен был ожидать чего-то сверхъестественного, но если у него и мелькали подобные мысли в голове, то он тогда не придавал им значения. Но увидеть своими глазами то, о чем говорится в сказке… такого с ним еще никогда не бывало.
«Ты, кажется, вовсе рехнулся, Давид! — окончательно растерявшись, думает он. — Мало того, что твое тело искалечено, теперь ты и разума лишишься».
Спасает его то, что в это самое мгновенье он видит лицо возницы. Поравнявшись с Давидом, лошадь остановилась, и возница распрямился, словно проснувшись. Усталым движением руки он сдвинул капюшон на затылок и внимательно огляделся. При этом лежащий на земле встретился с ним взглядом и узнал в нем старого знакомого.
«Так это ты, Георг, — думает он. — Хоть ты и странно нарядился, я узнал тебя, узнал».
«Скажи, Давид, где он был все это время? — продолжает он про себя. — Думается, мы не виделись целый год. Но ведь Георг человек свободный, не связан, как ты женой и детьми. Может, он ездил куда-нибудь далеко, может, едет аж с северного полюса. Весь он какой-то бледный и замерзший».
Он пристально смотрит на возницу, потому что в выражении его лица что-то кажется ему незнакомым. Но это точно Георг, его старый товарищ и собутыльник, иначе и быть не может. Он узнает его большую голову, орлиный нос, здоровенные черные усы и бородку. Человеку с такой внешностью, какой гордился бы любой сержант, можно сказать даже — любой генерал, нечего и надеяться на то, что его не узнает старый друг.
«Да что ты говоришь, Давид, — продолжает он про себя. — Разве ты не слыхал, что Георг умер в прошлом году в стокгольмской больнице под самый Новый год? Мне кажется, я тоже слыхал об этом, но мы с тобой не раз ошибались. Ведь это и есть Георг, живехонький. Погляди-ка на него, вот он встает! Разве это не Георг? Тело у него хилое, мне всегда казалось, что оно не подходит для его сержантской головы. Ну, что ты теперь скажешь, Давид? Когда он спрыгивал с телеги, плащ у него распахнулся, и было видно, что на нем длинный, застегнутый до самого ворота, драный сюртук, который вечно свисал у него чуть ли не до самых пят. На шее большой красный шарф, и ни намека на жилет или рубашку».
Человек, лежащий без движения, приободрился. Он даже расхохотался бы, если бы только был в состоянии это сделать.
«Если только сила когда-нибудь вернется к тебе, Давид, ты ему заплатишь за это представленье. Надо же так вырядиться, у меня голова чуть на куски не раскололась, будто он ее динамитом взорвал. Кто, кроме Георга, мог найти такую клячу, такую телегу и подъехать к церкви! Даже ты сам, Давид, не мог бы придумать такого представления. Георг всегда умел тебя переплюнуть».
Возница подходит к лежащему на земле, останавливается и смотрит на него. Лицо у него застывшее, серьезное. Он явно не узнает, кто лежит перед ним.
«Чего я не понимаю во всей этой истории, — думает Давид, — так это, во-первых, как он узнал, что я с товарищами сижу здесь на траве, и зачем ему понадобилось пугать нас. Во-вторых, для чего ему было наряжаться возницей Смерти, которого он всегда так боялся?»
Возница наклоняется над ним, с лица его по-прежнему не сходит странное, чужое выражение.
— Не очень-то обрадуется этот бедняга, — бормочет он, — когда узнает, что ему придется сменить меня.
И человек, распростертый на земле, слышит его слова.
Опираясь на косу, возница наклоняется все ниже, и вдруг узнает товарища. Нагнувшись совсем близко к его лицу, он нетерпеливо откидывает падающий на лоб капюшон и смотрит ему в глаза.
— О! — восклицает он с ужасом, — да это Давид Хольм лежит здесь! Этого я боялся больше всего.
— Так, значит, это ты, Давид, значит, это ты, — повторяет он, бросая косу на землю и опускаясь на колени перед лежащим. — Весь этот год, — продолжает он взволнованно и горько, — я хотел сказать тебе одно-единственное слово, пока не поздно. Однажды я чуть было уже не сказал его, но ты этому воспротивился, и я не смог подойти к тебе. Я думал, что мне удастся сделать это час спустя после того, как меня освободят от этой службы, но ты уже лежишь здесь. Теперь слишком поздно говорить тебе: «Берегись!»
Давид Хольм слушает его и несказанно удивляется. «Что он хочет этим сказать? — спрашивает он себя. — Он говорит так, словно его уже нет в живых. И когда это он был со мною рядом, а я помешал ему? Однако так и должно быть, — утешает он себя. — Ведь он вырядился так нарочно, чтобы испугать меня».
— Это я виноват в том, что тебя постигла такая участь, — продолжал дрожащим голосом возница. — Думаешь я не знаю? Если бы ты не связался со мной, то и по сей день вел бы спокойную и честную жизнь. Вы оба молодые и толковые, ничто не должно было вам мешать. Знай же, Давид, во всем этом бесконечном году не было ни дня, чтобы я не думал с болью о том, что ты из-за меня свернул с трудового пути и пристрастился к пьянству! Ах, — продолжает он, проводя рукой по лицу друга, — боюсь, что ты успел наделать таких бед, о которых я даже не знаю! Недаром вокруг твоих глаз и рта начертаны эти ужасные знаки!
Хорошее настроение Давида Хольма начинает сменяться раздражением. «Хватит шутить, Георг! — думает он. — Приведи сюда кого-нибудь, пусть помогут поднять меня на твою телегу и отвезти в больницу!»
— Я знаю, Давид, тебе известно, чем я занимался весь этот год и что это за телега, что за лошадь привезла меня сюда. И мне не нужно говорить тебе, кто после меня возьмет в руки косу и вожжи. Но помни, что не я уготовил тебе эту судьбу. Весь этот ужасный год помни, что я не мог избежать встречи с тобой в эту ночь! Знай же, если бы я мог, то сделал бы все на свете, чтобы тебе не пришлось пройти через это!
«Может, Георг и в самом деле спятил? — думает Давид. — Что же он медлит, неужто не понимает, что речь идет о жизни и смерти?»
В этот момент возница бросает на него бесконечно горестный взгляд.
— Не волнуйся, Давид, из-за того, что я не везу тебя в больницу. Когда я являюсь к больному, врача уже звать поздно.
«Видно, сегодня ночью все тролли и дьяволы забавляются, устраивая представление, — думает Давид. — Когда наконец-то сюда является человек, оказывается, что он не то спятил, не то нарочно хочет, чтобы я погиб здесь».
— Хочу напомнить тебе, Давид, о том, что случилось с тобой прошлым летом, — говорит возница. — Был воскресный день, дорога, по которой ты шел, вела через широкую долину мимо просторных пашен, красивых усадеб с цветниками. Стоял душный послеполуденный зной, какой нередко бывает в начале лета. Думаю, ты заметил, что, кроме тебя, вокруг не было ни души. Коровы паслись на выгонах, прячась в тени деревьев, а людей вовсе не было видно. Они, верно, сидели по домам, спасаясь от жары. Не правда ли, было такое с тобой, Давид?
«Может, и было, — думает Давид, — я столько раз бродил и в стужу, и в жару, что всего не упомнишь».
— И вот когда наступила полная тишина, ты услышал позади себя на дороге скрип. Ты повернул голову, думая, что кто-то едет, но никого не увидел. Ты оборачивался несколько раз и решил, что таких чудес с тобой еще не приключалось. Скрип слышался отчетливо, но откуда он? Откуда ему было взяться среди бела дня на открытой со всех сторон равнине, в тишине? Ты не догадался, что это в самом деле был скрип колес, хотя повозки ты видеть не мог. А если бы ты понял это, то я смог бы показаться тебе, тогда еще время не было упущено.
Давид Хольм прекрасно помнил этот случай. Помнил, как он заглядывал в садики, смотрел в канавы, пытаясь понять, что за звуки преследуют его. Под конец он испугался и зашел в одну крестьянскую усадьбу, чтобы не слышать этот противный скрип. Когда же он снова вышел на дорогу, все было тихо.
— Это был единственный раз в этот год, когда я увидел тебя, — продолжал возница. — Я сделал все, что мог, чтобы ты увидел меня, сделал так, чтобы ты услышал скрип колес, большего мне сделать было не дано. Ты шел, словно слепой, со мной рядом.
«В самом деле, я слышал этот скрип, — мысленно соглашается Давид, — но что это доказывает? Неужто он хочет сказать, что ехал позади меня? Ведь я мог рассказать кому-нибудь эту историю, а он, в свою очередь, рассказал ее Георгу».
Возница наклоняется над ним и говорит таким тоном, будто утешает больное дитя:
— К чему спорить, Давид. От тебя не требуется понимать, что с тобой случилось, но ведь тебе прекрасно известно, что меня, говорящего сейчас с тобой, нет в живых. Ты еще раньше слышал, что я умер, но не хочешь в этом признаваться. И если даже ты не слыхал об этом, то ты ведь видел, как я только что ехал на этой телеге. А на этой телеге, Давид, живые не ездят.
Он показывает на обшарпанную телегу, стоящую посреди аллеи.
— Ты посмотри не только на телегу, Давид! Погляди на деревья позади нее!
Давид Хольм повинуется ему и в первый раз соглашается, что столкнулся с явлением, которое не может объяснить. Он видит сквозь телегу деревья на противоположной стороне аллеи.
— Ты много раз слышал мой голос, — говорит возница. — И не можешь не заметить, что я говорю не так, как прежде.
Давид Хольм вынужден согласиться с ним. У Георга всегда был красивый голос, и у этого возницы тоже, но говорит он все же как-то по-другому. Сейчас его голос какой-то тонкий, звенящий, но слушать его нелегко. Играет тот же музыкант, но инструмент у него теперь другой.
Возница протягивает руку, и Давид Хольм видит, что на нее с ветки падает маленькая прозрачная капля. Но рука не останавливает каплю, она падает сквозь нее на землю.
На гравиевой дорожке лежит упавшая ветка. Возница подсовывает под нее косу и поднимает ее сквозь эту ветку. Но ветка не ломается, а остается целой.
— Не вздумай истолковать это неправильно, — продолжает возница, — попробуй понять! Ты видишь меня и думаешь, что я такой же, как всегда, но видеть меня может лишь тот, кто лежит на смертном одре или уже умер. Но это не значит, что мое тело есть пустота. Это обитель души, как и твое тело, как тело каждого. Только не представляй его себе плотным, тяжелым и сильным. Представь его отражением в зеркале, попробуй вообразить, что оно отделилось от зеркала и может говорить, видеть и двигаться.
Давид Хольм больше не пытается сопротивляться. Он смотрит правде в глаза и не делает больше попыток улизнуть от нее. С ним говорит привидение, и сам он — мертвец. И в то же время, сознавая это, он чувствует, как в нем начинает закипать яростный гнев. «Не хочу быть мертвецом, — думает он, — не хочу быть отражением, пустотой. Хочу, чтобы у меня был кулак, которым можно ударить, и рот, которым можно есть». Ярость сгущается в нем в густое темное облако, которое мечется и душит его, вызывает отвращение. Пока еще оно мучит только его самого, но готово при первой возможности излиться наружу.
— Я хочу попросить тебя об одном, Давид, — обращается к нему возница. — Ведь мы были с тобой друзьями в этом мире. Ты так же, как и я, знаешь, что в жизни каждого наступает момент, когда тело его либо уничтожается, либо вконец изнашивается и обитавшей в нем душе приходится покидать его. И перед тем, как войти в неведомую страну, душа трепещет от страха. Она стоит, как дитя на берегу морском, не смея пуститься вплавь. Чтобы ей достало смелости отправиться в путь, она должна услышать чей-то голос из бесконечного пространства. И тогда она отправится в путь без страха. Таким голосом был я в течение целого года, Давид, и таким голосом станешь ты в грядущем году. И я прошу тебя лишь не противиться судьбе, покориться ей. А иначе навлечешь тяжкие страдания и на себя, и на меня.
Сказав это, возница склоняет голову, чтобы заглянуть Давиду Хольму в глаза. Он будто боится упрямства и протеста во взгляде друга.
— Пойми, Давид, — говорит он еще настойчивее, — ты не можешь этого избежать. Я не успел еще понять хорошенько, что происходит здесь, по эту сторону вселенной. Я, можно сказать, находился лишь на грани миров, но из того, что я успел увидеть, мне стало ясно, что пощады здесь не жди. Нужно делать то, что тебе предназначено, хочешь ты этого или нет.
Он снова смотрит в глаза Давиду, но не видит в них ничего, кроме мрачного облака гнева.
— Не стану отрицать, Давид, что сидеть в этой телеге и ездить от дома к дому — самое страшное занятие, на какое только можно обречь человека. Куда бы ни приехал возница, повсюду его ждут плач и стенания, его доля — видеть лишь болезнь, страдание, раны, кровь, кошмар. И все же это не самое страшное. Хуже всего видеть то, что сокрыто внутри, то, что корчится от ужаса перед тем, что его ожидает. И еще скажу я тебе: ты уже слышал, что возница стоит на грани миров. Он, как и живые люди, видит лишь несправедливости, разочарования, неравное распределение благ, напрасные стремления и беспорядок. Он не может заглянуть глубже в мир иной, чтобы увидеть, есть ли во всем этом смысл и преднамеренность. Иной раз может он узреть какие-то проблески, но почти все время должен с трудом продвигаться вперед на ощупь, в темноте, терзаясь сомнениями. И подумай еще о том, Давид, что, хотя вознице суждено возить телегу Смерти всего один год, время здесь исчисляется не земными часами и минутами. Для того, чтобы он мог успеть всюду, куда ему велено, этот единственный год растягивается и становится равным сотням, тысячам земных лет. И, ко всему прочему, возница знает, что его презирают за это ремесло. Но страшнее всего, Давид, то, что он, разъезжая, встречается с последствиями зла, которое он сам совершил во время земной жизни, и никак этого не избежать!..
Голос возницы срывается на крик, он в отчаянье сжимает руки. Но мгновение спустя, видимо, замечает холодное презрение в глазах товарища. Он плотнее запахивает плащ, будто хочет согреться.
— Послушай меня, Давид, — упорно продолжает он, — как ни тяжела работа, которая ждет тебя, отказываться и упорствовать ты не должен, иначе и тебе, и мне будет еще хуже. Ведь я не могу предоставить тебя самому себе, покуда не научу этому ремеслу, и боюсь, что это будет самым тяжким из всего, что на меня возложено. Ты можешь противиться сколько тебе угодно. Можешь заставить меня держать косу недели, месяцы, до следующего года. Мой год истек, но я не получу свободы до тех пор, пока ты добровольно не примешь это ремесло.
Возница говорит все это, стоя на коленях перед Давидом Хольмом, и голос его звучит все убедительнее и искреннее. Он умолкает на мгновение, ища глазами признаки того, что его слова возымели действие. Но его бывший товарищ полон решимости сопротивляться во что бы то ни стало. «Может быть, я и в самом деле умер, — думает он, — тут уж ничего не поделаешь. Но ничто не может меня заставить иметь дело с телегой и лошадью смерти. Пускай находят мне другую работу. А этой я заниматься не стану».
Возница собрался уже было встать, но вдруг вспомнил, что забыл сказать нечто важное:
— Помни, Давид, что до сей минуты с тобой говорил Георг! Но теперь ты будешь иметь дело с возницей. Ты, верно, давно знаешь, о ком идет речь, когда вспоминают о Ней, не знающей пощады.
Мгновение спустя он уже стоит, поднявшись во весь рост с косой в руке. Капюшон надвинут на глаза.
— Ты, узник, выйди из своей темницы! — кричит он зычно и звонко.
И тут же Давид Хольм поднимается с земли. Он не знает, как это случилось, но теперь он стоит выпрямившись. Вот он пошатнулся, на миг все вокруг закружилось: и деревья, и церковная стена, но он сразу же обрел равновесие.
— Оглянись, Давид Хольм! — приказывает ему громкий голос.
Он растерянно повинуется. Перед ним, распростертый на земле, лежит рослый, складно скроенный человек, одетый в грязные лохмотья. Он измазан кровью и землей, рядом валяются пустые бутылки. Лицо у него распухшее, с красными прожилками, трудно догадаться, какие у него на самом деле черты. Блуждающий луч света, падающий от дальних фонарей, высвечивает злобный, полный ненависти взгляд в щелках приоткрытых глаз.
Перед этой лежащей фигурой стоит он сам, тоже высокий и стройный. На нем такая же оборванная грязная одежда, как на лежащем мертвеце. Он стоит перед своим двойником.
Но это не в полном смысле слова его двойник, потому что сам он — пустота. Вернее, не пустота, а зеркальное отражение, которое вышло из зеркала и начало жить и двигаться.
Он резко оборачивается. Там стоит Георг, и теперь он видит, что бывший его друг тоже пустота, всего лишь отражение тела, когда-то ему принадлежавшего.
— Слушай, душа, потерявшая власть над своим телом с последним ударом часов в новогоднюю полночь, — говорит Георг, — ты сменишь меня на этом посту. Ты станешь освобождать души от земного бремени, покуда не истечет этот год.
После этих слов Давид Хольм приходит в себя. В ярости он бросается на возницу, хватает его косу, чтобы сломать ее, пытается разорвать на куски его капюшон.
И тут он чувствует, как кто-то с силой хватает его за руки, как этот кто-то сшибает его с ног. Потом ему связывают руки у запястий и ноги у щиколоток.
Затем его грубо, словно падаль, швыряют на дно телеги, не беспокоясь, ушибется ли он.
Еще мгновение, и телега трогается с места.
V
Узкая, длинная, но довольно просторная комната в домике на городской окраине. Домик столь мал, что состоит почти что из одной этой комнаты, не считая маленькой спаленки. Комнату освещает одна лампа, свисающая с потолка, и при ее свете можно увидеть, что здесь чисто и уютно. Помимо этого, комната имеет еще одну особенность, вызывающую улыбку у всякого, кто в нее входит. С первого взгляда заметно, что живущие в ней обставили ее весьма остроумно, чтобы она выглядела, как целая квартира. Вход в нее с торцовой стены, и почти у самых дверей стоит маленькая плита. Стало быть, это кухня, и здесь собрана вся кухонная утварь. В середине комнаты устроена столовая с круглым столом, дубовыми стульями, стенными часами и небольшим буфетом с фарфором и стеклом. Лампа, разумеется, висит прямо над круглым столом, но она освещает также и гостиную — дальнюю часть комнаты, где на цветастом ковре стоит диван красного дерева и пальма в красивом фарфоровом горшке, а на стене развешаны фотографии.
Обычно те, кто входят в эту комнату, сразу же представляют себе, сколько шуток вызывает такая расстановка мебели. Если сюда с улицы заходит хороший друг, хозяева шутливо проводят его в гостиную, просят извинения за то, что ненадолго оставят его одного, так как им, мол, нужно похлопотать в кухне. За обеденным столом, стоящим так близко к кухонному закутку, что сюда доходит жар от плиты, хозяева не раз торжественно заявляют:
— Ах, нужно позвонить, чтобы служанка убрала тарелки!
А когда кто-нибудь из детей начинает плакать в кухне, то ему в шутку говорят, мол, не шуми, а то папа в гостиной услышит, и малыш начинает смеяться.
Подобные мысли возникают обычно у тех, кто в первый раз входит в эту комнату, но тем, кто явился сюда в эту новогоднюю ночь, не до шуток. Это двое мужчин, опустившихся и оборванных. Их можно было бы принять за обыкновенных бродяг, если бы на одном из них поверх лохмотьев не был бы надет черный плащ, а в руках он не держал бы заржавленную косу. На одежду бродяги это мало похоже. Еще более странно то, как он появился в комнате. Он не повернул ключ в замке, не приотворил дверь даже хотя бы чуть-чуть, а просто прошел сквозь нее, хотя она и была заперта. На втором нет столь пугающего наряда, но он внушает еще больший страх, потому что не входит в комнату сам, его тащит приятель. И хотя его с величайшим презрением собственный товарищ швырнул на пол, руки и ноги у него связаны и сам он лежит на полу, как темная куча жалкого тряпья, его искаженное гневом лицо и мечущие молнии глаза наводят страх.
В комнате эти двое не одни. Они видят, что за круглым столом в середине комнаты сидят молодой человек с мягкими чертами лица и по-детски добрым взглядом и женщина, немного постарше, но маленькая и тщедушная. На мужчине красная трикотажная блуза, на которой крупными буквами вышито: «Армия спасения». На черном платье женщины надписи нет, но на столе перед ней лежит шапочка, указывающая на ее принадлежность к этой организации.
Оба они глубоко опечалены. Женщина молча плачет, то и дело вытирая глаза мокрым смятым платком, нетерпеливо и нервно. Можно подумать, что слезы мешают ей делать что-то важное. Глаза мужчины тоже красны от слез, но он не дает волю своему горю в присутствии женщины.
Время от времени они обмениваются словами, и можно понять, что все их мысли находятся сейчас в соседней комнате, где лежит больная, которую они покинули ненадолго, чтобы дать возможность ее матери побыть с нею наедине. Они целиком поглощены мыслями о больной и, как ни странно, не замечают появления двух мужчин. Правда, последние не говорят ни слова, один из них стоит, прислонясь к дверному косяку, другой лежит у его ног, и все же сидящие за столом, казалось бы, должны были бы удивиться этим гостям, явившимся сюда среди ночи и проникнувшим в дом сквозь запертую дверь.
Во всяком случае, человеку, лежащему на полу, странно, что люди за столом иногда смотрят в сторону, где находится он и его товарищ, и, видимо, не замечают их. А вот он, проезжая только что по городу, видел все так, словно вовсе и не изменился, хотя его никто не видел. Он был взбешен, ему хотелось напугать людей, которые были его врагами, показаться им таким, каким он есть сейчас, но понял, что не может стать видимым для них.
Он прежде не был в этой комнате, но те, кто сидят здесь за столом, ему знакомы, и поэтому он точно знает, где сейчас находится. И то, что его насильно притащили сюда, куда он целый день ни за что не хотел идти, только усиливает его ярость.
Внезапно солдат Армии спасения отодвигает стул.
— Уж перевалило за полночь, — говорит он. — Его жена думает, что он должен к этому времени вернуться домой. Попробую сходить туда и еще раз позвать его.
Он медленно и неохотно поднимается, берет висящее на спинке стула пальто и собирается надеть его.
— Я понимаю, ты, Густавссон, не надеешься на то, что сможешь привести его, — говорит молодая женщина, с трудом сдерживая подступающие к горлу рыдания, — и просто считаешь это последней услугой сестре Эдит.
Солдат Армии спасения, собиравшийся было сунуть руки в рукава, останавливается:
— Видишь ли, сестра Мария, — отвечает он, — может, это последняя моя услуга сестре Эдит, и все же я не хочу, чтобы Давид Хольм оказался у себя дома или захотел идти со мной. Сегодня я говорил с ним много раз и просил его прийти, коль скоро вы с капитаном Андерссон приказывали мне. И каждый раз я был рад тому, что он отказывается, что ни мне, ни другим не удавалось привести его сюда.
Услышав свое имя, человек, лежащий на полу, вздрагивает, и губы его растягиваются в презрительной улыбке.
— Видно, у него ума чуть побольше, чем у остальных, — бормочет он.
Сестра Мария смотрит на солдата Армии спасения и говорит резко, слезы больше не душат ее:
— Постарайся на этот раз объяснить Давиду Хольму, что он должен прийти сюда.
Юноша идет к двери с таким видом, будто повинуется, хотя его и не убедили.
— Надо ли мне вести его сюда, даже если он смертельно пьян? — спросил он, подойдя к двери.
— Приведи его, Густавссон, живого или мертвого. Разве ты не слышал, что я сказала? В худшем случае, он сможет выспаться здесь и протрезвиться. Нам важно лишь, чтобы он был здесь.
Юноша уже взялся за ручку двери, но вдруг резко повернулся и подошел к столу.
— Не хочу, чтобы такой человек, как Давид Хольм, приходил сюда, — сказал он, бледнея от волнения. — Ты, сестра Мария, знаешь не хуже меня, каков он. Неужто ты считаешь, что он достоин войти туда? — Он показал на дверь импровизированной гостиной.
— Считаю ли я… — начала она, но он не дал ей договорить.
— Разве ты не знаешь, что он станет лишь издеваться над нами? Начнет хвастаться, что сестра Армии спасения до того влюблена в него, что не может умереть, не простившись с ним.
Сестра Мария бросает на него нетерпеливый взгляд, и рот ее уже было приоткрылся, чтобы резко ответить ему, но она тут же овладевает собой, кусая губы.
— Я не смогу стерпеть, если он станет говорить так о ней после ее смерти! — восклицает Густавссон.
— Разве ты не знаешь, что, сказав эти слова, Давид Хольм был бы прав? — спрашивает сестра Мария серьезно, отчеканивая каждое слово.
Лежащего на полу при этих словах пронизывает внезапное чувство радости, его всего передергивает. Несказанно удивленный, он бросает взгляд на Георга, желая увидеть, заметил ли тот его движение. Возница продолжает стоять неподвижно, но на всякий случай бормочет Давиду Хольму, мол, жаль, что тот не знал этого при жизни. Было бы чем хвастать перед приятелями.
Солдат Армии спасения настолько потрясен словами сестры Марии, что вынужден схватиться за спинку стула. Вся комната идет кругом у него перед глазами.
— Что ты говоришь, сестра Мария? Уж не хочешь ли ты, чтобы я поверил…
Сестру Марию охватывает необычайное душевное волнение. Она с силой сжимает в кулаке носовой платок, слова потоком вырываются у нее изо рта, гневно, торопливо, будто она стремится высказать все, покуда ее не остановит благоразумие:
— А кого ей еще любить? Нас с тобой и других, кого она сумела образумить и обратить на путь истинный? Мы не смогли противостоять ей до конца. Мы не смеялись над ней, не издевались. Из-за нас ей не пришлось испытывать страх и угрызения совести. Ни ты, Густавссон, и ни я не виноваты в том, что она лежит сейчас на смертном одре.
Казалось, этот взрыв чувств успокоил юношу.
— Я не понял, сестра, что вы говорите о любви к грешникам.
— Ты и сейчас меня не понял.
Это твердое убеждение снова заставляет одного из призраков почувствовать неизъяснимую и глубокую радость. Но из страха, что его гнев и яростное желание сопротивляться может улетучиться, он стремится задушить это чувство. Его застали врасплох, он думал, что здесь его ожидают одни лишь нравоучения. Впредь он будет держаться настороже.
Сестра Мария кусает губы, чтобы побороть свое волнение. Кажется, что она поспешно принимает решение.
— Это ничего, что я расскажу тебе все, — продолжает она. — Теперь это ничего не значит, ведь она умирает. Если ты посидишь минутку, то все узнаешь.
Солдат Армии спасения снимает пальто и садится на прежнее место у стола. Он сидит молча, устремив на сестру Марию искренний взгляд своих красивых глаз.
— Сначала я расскажу тебе, Густавссон, что мы с сестрой Эдит делали в канун прошедшего Нового года. Прошлой осенью нашим правлением было решено основать здесь в городе приют, для этого нас и послали сюда. Работы у нас было уйма, но братья и сестры помогали нам, не щадя сил, и в канун Нового года мы уже смогли переехать в этот приют. Кухня и спальни были уже вполне готовы, и мы надеялись, что сможем открыть приют перед Новым годом, но это не получилось, потому что не были готовы стерилизационная печь и прачечная.
Сначала сестре Марии было трудно сдерживать слезы, но чем дольше она рассказывала, тем больше отдалялась от момента настоящего и тем тверже становился ее голос.
— Ты, Густавссон, в то время еще не вступил в Армию спасения, а не то был бы тогда вместе с нами в новогодний вечер. Несколько братьев и сестер пришли к нам, и мы в первый раз угостили их чаем в новом приюте. Ты и представить себе не можешь, как радовалась сестра Эдит, что ей поручили открыть приют здесь, в ее родном городе, где она знала каждого бедняка, знала, чем ему можно помочь. Она ходила и разглядывала одеяла и матрацы, свежевыкрашенные стены и начищенные до блеска кастрюли с такой радостью, что мы не могли не подшучивать над ней. Она, что называется, радовалась, как дитя. А ведь ты знаешь, Густавссон, когда сестра Эдит радуется, рады и все вокруг.
— Аллилуйя! Уж это мне известно! — сказал солдат Армии спасения.
— Она не переставала радоваться, и друзья сидели у нас долго, когда же они ушли, на нее напал неизъяснимый страх перед всеми злыми силами, и она попросила меня молиться с ней о том, чтобы они не одолели нас. Мы опустились на колени и стали молиться за наш приют, за нас самих и за всех тех, кто будет нам помогать. И тут вдруг зазвонил дверной колокольчик. Товарищи наши только что ушли, и мы решили, что это, верно, один из них забыл у нас что-нибудь и вернулся, но на всякий случай пошли к воротам вдвоем. Когда же мы открыли дверь, то увидели, что это вовсе не кто-то из наших друзей, а один из тех, для кого мы основали приют.
Сказать по правде, Густавссон, при виде стоявшего в дверях человека, здоровенного, одетого в лохмотья и до того пьяного, что он еле держался на ногах, меня охватил страх и мне захотелось, сославшись на то, что приют еще не открыт, не пускать его в дом. Но сестра Эдит была рада, что Господь послал ей гостя. Она решила, что Он желал этим показать свое благоволение к нашему труду, и позволила ему войти. Она подала ему ужин, но он стал браниться и заявил, что хочет лишь выспаться. Его впустили в спальню, он швырнул на пол пальто, бросился на койку и минуту спустя заснул.
«Подумать только, как она тогда испугалась меня! — говорит про себя Давид Хольм с тайной надеждой, что стоящий позади него услышит и поймет: Давид Хольм остался таким же, как был. — Жаль, что она не может видеть, каков я сейчас. Верно, умерла бы от страха».
— Сестра Эдит хотела оказать первому посетителю приюта особое благоволение, — продолжает сестра Мария, — и я поняла, ей было досадно, что он сразу заснул. Но тут же, увидев его пальто, она снова обрадовалась. Думается, такой грязной и рваной одежды я прежде не видела. Она до того пропахла табаком и водкой, что противно было до нее дотронуться. Когда сестра Эдит стала разглядывать это пальто, я невольно испугалась и попросила ее не трогать его, ведь плита и прачечная у нас еще не были готовы и мы не могли выстирать его, чтобы убить заразу.
Однако ведь ты понимаешь, в глазах сестры Эдит этот человек был послан ей Богом, для нее привести в порядок хоть что-то из его одежды было радостью, и я не могла остановить ее. И помочь ей она мне не разрешила. Мол, я сама сказала, что это пальто может быть заразным. Она не разрешила мне даже притронуться к нему. Мол, я ее подчиненная, она за меня в ответе и должна заботиться о моем здоровье. А сама стала зашивать и латать это пальто и просидела за этим занятием всю новогоднюю ночь.
Сидящий напротив сестры Марии солдат Армии спасения в восторге ударяет руками по столу.
— Аллилуйя! — восклицает он. — Благословенна будь сестра Эдит.
— Аминь, аминь! — отвечает сестра Мария, и лицо ее озаряется внезапным вдохновением. — Благословенна будь сестра Эдит, станем мы твердить в горе и в радости. Благодарение Господу за то, что он послал нам ее. Ведь она смогла целую ночь сидеть, склонясь над этим пальто и чинить его с такой радостью, будто это была королевская мантия!
Тот, кто был прежде Давидом Хольмом, представляя себе, как молодая девушка чинит в ночной тиши одежду нищего бродяги, испытывает при этом ощущение удивительного покоя и отдохновения. После всего, что раздражало и возмущало его, это чувство словно бы исцеляет и убаюкивает его. Ему хочется, чтобы это чувство долго не покидало его. Кабы только Георг не стоял позади него, мрачный и неподвижный, и не следил бы за каждым его движением!
— Благословен будь Господь, создавший ее такою, ведь она ни разу не пожалела о том, что сидела тогда до четырех утра и зашивала эти лохмотья, вдыхая вонь и не боясь заразы! Благодарение Господу за то, что она ни разу не пожалела о том, что сидела в комнате, которую мороз выстудил до того, что она легла поутру в постель вовсе окоченевшая!
— Аминь, аминь! — подхватил юноша.
— Когда она окончила работу, то вовсе продрогла. Я слышала, как она долго ворочалась в постели и никак не могла согреться. Едва она успела уснуть, как пришло время вставать, но тут я уговорила ее полежать еще немного и позволить мне накормить гостя, если он встанет с постели до того, как она выспится.
— Вы всегда были ей добрым другом, сестра Мария.
— Я знаю, что сестре Эдит этого ужасно не хотелось, — продолжает с улыбкой сестра Мария, — но она согласилась, не желая меня огорчать. Ей пришлось поспать недолго. Когда этот человек выпил кофе, он спросил, не я ли починила его пальто. Услышав, что то была не я, он велел позвать сестру, которая это сделала.
Он был трезв, говорил тихо и складно, не так, как прочие бродяги, и я, зная, какую радость доставит сестре Эдит его благодарность, пошла за ней. Она пришла, и было вовсе не похоже, что она не спала всю ночь. Щеки у нее порозовели, она была так хороша в этом радостном ожидании, что при виде ее незнакомец сильно удивился и даже отчасти растерялся. Он ждал ее, стоя у дверей, лицо его было искажено злобой, и я боялась, что он ударит ее. Но, когда она вошла, лицо его просветлело. «Нечего бояться, — подумала я. — Он ничего ей не сделает. Разве может кто-нибудь обидеть ее?»
— Аллилуйя, аллилуйя! — согласился с ней солдат Армии спасения.
Но незнакомец тут же помрачнел, и когда она подошла, сорвал с себя рывком коротенькое пальтишко, так что пришитые ночью пуговицы отлетели. Потом он резко сунул руки в только что починенные карманы, и мы услышали, как они затрещали, и оторвал подкладку. Вид у драного пальто стал еще хуже, чем был.
«Видите ли, фрёкен, я привык к такому наряду, — сказал он. — Мне в нем легко и удобно. Жаль, что фрёкен старалась зря, но тут уж я ничем помочь не могу».
Перед лежащим на полу предстает лицо, сияющее от счастья, которое тут же омрачается, и он уже почти готов признать, что эта озорная мальчишеская выходка была жестокой и бессовестной, но снова вспоминает про Георга. «Хорошо, что Георг слышит, каков я есть, если только он этого не знал раньше, — думает он, — Давида Хольма нелегко сломить. Он зол и жесток, смеяться над мягкосердечными — его любимое дело».
— До этой минуты, — продолжает сестра Мария, — я не обращала внимания на его внешность. Но тут, когда он рвал то, что сестра Эдит чинила с такой любовью, я разглядела его. Он был на удивление строен и высок, держался свободно и с достоинством. Голова у него была большая, красивой формы. Лицо, некогда красивое, по-видимому покраснело и распухло, так что трудно было угадать его прежний облик.
И, несмотря на то, что он рвал свое пальто с громким злобным смехом, на то, что его глаза с пожелтевшими белками злобно сверкали из-под покрасневших и распухших век, думается мне, что сестре Эдит казалось, будто она встретилась с чем-то прекрасным, чему суждено погибнуть. Я видела, как она сначала отшатнулась, будто ее ударили, но тут же в глазах у нее загорелся ясный свет, и она сделала шаг ему навстречу.
Перед тем как он ушел, она сказала ему лишь, что просит его прийти в следующую новогоднюю ночь. И, когда он посмотрел на нее с недоумением, добавила:
«Видите ли, я просила этой ночью Иисуса, чтобы он послал счастливый новый год гостю, который первым придет в наш приют, и хочу увидеть вас снова, чтобы узнать, услышана ли моя молитва».
Поняв, что она хочет сказать, он разразился бранью:
«Да уж, обещаю вам, приду и докажу, что он и не думал слушать ваш детский лепет».
Бедняге, которому таким образом напомнили о его забытом и теперь невольно исполненном обещании на мгновение кажется, что он уцепился за соломинку, что сопротивляться теперь не имеет смысла, но он тут же подавляет эту мысль. Он не хочет покоряться. Если надо, он будет противиться до Страшного суда.
Слушая рассказ сестры Марии, солдат Армии спасения волнуется все сильнее. Он уже не в силах усидеть на месте и вскакивает со стула.
— Ты не назвала мне имени этого бродяги, сестра Мария, но я понимаю, что это Давид Хольм.
Сестра Мария кивает головой.
— Боже милостивый, Боже милосердный! — восклицает он, простирая руки к небу. — Почему вы тогда посылаете меня за этим человеком? Разве он в то утро почувствовал раскаяние? И вы хотите пригласить его сюда, чтобы она увидела, что молилась напрасно? Для чего вы хотите причинить ей такую боль?
Сестра Мария смотрит на него с нетерпением, граничащим с гневом.
— Я еще не закончила…
Но юноша прерывает ее:
— Нам следует остерегаться, не давать волю жажде отомстить. Во мне тоже теплится грешное желание позвать нынче ночью Давида Хольма, чтобы показать ему ее на смертном одре и сказать, что она уходит от нас из-за него. Я думаю, вы хотите сказать ему, что она заразилась смертельной болезнью, когда чинила его одежду, которую он после этого бессовестно порвал. Я слышал, как вы говорили, что после той новогодней ночи сестра Эдит не была здоровой ни одного дня. Но мы должны быть осторожнее. Мы так хорошо знали ее, да и сейчас она стоит у нас перед глазами, что не должны давать волю своему жестокосердию.
Сестра Мария наклонила голову к столу и говорит, не поднимая глаз, будто расставляет свои слова в виде узора на скатерти:
— Месть? — спрашивает она. — Неужто это месть — заставить человека понять, каким богатством он обладал и потерял его? Если я положу ржавое железо в огонь и заставлю его снова стать блестящим и твердым, неужто это можно назвать местью?
— Я так и знал, сестра Мария! — восклицает солдат Армии спасения с той же пылкостью. — Вы надеетесь наставить Давида Хольма на путь истинный, переложив на его плечи тяжесть вины. А не подумали ли вы о том, что мы при этом тешим себя, удовлетворяем свою жажду мести? Это опасная западня. Тут так легко ошибиться.
Маленькая бледная сестра Мария смотрит на юношу, и в глазах ее светится экстаз самоотречения. «Сегодня я думаю не о себе», — отчетливо говорит ее взгляд.
— В таком деле нас подстерегает не одна западня, — повторяет она, со значением подчеркивая каждое слово.
Щеки солдата Армии спасения заливает румянец. Он пытается ответить, но не находит нужных слов. Момент спустя он роняет голову на стол и, закрыв лицо руками, начинает плакать. Долго сдерживаемое горе прорвалось наружу.
Сестра Мария не мешает ему, губы ее шепчут молитву:
— Господи Боже наш, Иисусе Христе, помоги нам пережить эту ночь! Ниспошли мне силу помочь ближним моим, мне, самой слабой и неразумной из них!
Связанный человек не придает почти никакого значения обвинению в том, что он заразил сестру Эдит, но, когда молодой солдат Армии спасения начинает рыдать, он делает резкое движение. Он сделал открытие, которое потрясло его, и не собирается это скрывать от возницы. Его радует, что та, которую любит этот красивый юноша, предпочла его.
Когда всхлипывания солдата Армии спасения затихают, сестра Мария перестает молиться и ласково говорит ему:
— Ты, верно, думаешь о том, что я только что сказала тебе про сестру Эдит и Давида Хольма.
Из-под руки юноши слышится сдавленное «да», и по телу проходит судорога боли.
— Я понимаю, что это причиняет тебе страдание, — говорит она. — Я знаю человека, который тоже любит Эдит всей душой, она заметила это и сказала тебе, что не может этого понять. Она имела в виду, что если и полюбит кого-нибудь, то это будет человек, стоящий выше нее. Так же считаешь ты, Густавссон. Мы можем посвятить свою жизнь служению несчастным, но свою естественную человеческую любовь ни ты, ни я не можем им подарить. Когда я говорю тебе, что сестра Эдит создана иначе, тебе это кажется унизительным, и ты от этого страдаешь.
Солдат Армии спасения не двигается, все так же уронив голову на стол. Невидимая фигура напротив делает попытку подвинуться поближе, чтобы лучше их слышать, но тут же Георг приказывает ему лежать, не шевелясь.
— Аллилуйя! — восклицает сестра Мария, лицо ее отражает крайнее волнение. — Аллилуйя! Кто мы такие, чтобы судить ее? Разве не наблюдал ты, что сердце, исполненное высокомерия, отдает свою любовь сильным и могущественным мира сего. А кому отдаст все тепло своей любви сердце, в котором есть место лишь покорности и милосердию, как не ожесточившемуся, падшему, заблудшему?
После этих слов наступает очередь Давида Хольма ощутить болезненный укол. «Что это происходит с тобой этой ночью? — думает он. — Какое тебе дело до того, что эти люди говорят о тебе? Неужто ты ожидал, что они станут хвалить тебя?»
Солдат Армии спасения поднимает голову и смотрит испытующе на сестру Марию.
— Дело ведь не только в этом.
— Да, я понимаю, что ты хочешь сказать. Но не забудь, что вначале сестра Эдит не знала, что Давид Хольм женат. И во всяком случае, — продолжает она после некоторого колебания, — вся ее любовь была направлена на то, чтобы исправить его. Если бы он, стоя на помосте, признал, что он спасен, счастье ее было бы полным.
Юноша хватает сестру Марию за руку и напряженно ловит каждое ее слово. Когда она кончает говорить, он с облегчением вздыхает.
— Но это не та любовь, о которой я думаю!
Сестра Мария слегка пожимает плечами, его настойчивость утомила ее.
— Сестра Эдит никогда не говорила мне о своих чувствах, — соглашается она со вздохом. — Быть может, я ошибаюсь.
— Если сама она не говорила вам об этом, думаю, что вы ошибаетесь, — говорит он подчеркнуто серьезно.
Призрак, лежащий у дверей, мрачнеет. Ему не нравится, что разговор принял такой оборот.
— Я не хочу сказать, что в сердце сестры Эдит возникли какие-либо другие чувства, кроме сострадания, когда она впервые увидела его. Казалось бы, она и потом не должна была бы его любить, ведь он часто вставал у нее на пути и во всем был ей помехой. К нам приходили жены и жаловались, что их мужья бросили работу, после того как в городе появился Давид Хольм. Мы ходили помогать бедным и видели, что насилие и порок торжествуют все больше. И почти всегда следы их вели к Давиду Хольму. Но ведь для сестры Эдит вполне естественно, что именно это и заставляло ее делать все, чтобы обратить его на путь истинный во имя Господне. Он был для нее дичью, на которую она охотилась с метким оружием, и чем дальше эта дичь ускользала от нее, тем настойчивее она ее преследовала, твердо веря, что в конце концов победит, потому что из них двоих она сильнее.
— Аллилуйя! — воскликнул юноша. — Без сомнения, она сильнее! Помните, как однажды вечером вы с сестрой Эдит пошли в трактир и стали раздавать объявления о новом приюте? Сестра Эдит увидела, что за столом рядом с Давидом сидит молодой человек, который слушает, как этот бродяга насмехается над сестрами Армии спасения и хохочет вместе с ним. Ей стало жаль юношу, она сказала ему несколько слов о том, чтобы он не позволял развращать себя. Тот ничего не ответил и не последовал за ней. Но, продолжая сидеть в той же компании, он уже не мог заставить себя улыбаться и, наполнив свой стакан, не мог поднести его к губам. Давид Хольм и остальные стали смеяться над ним, говорили, что он боится сестер Армии спасения. Но он вовсе не испугался, просто ее желание помочь ему, ее сострадание глубоко тронули его и заставили бросить своих приятелей и пойти за ней. Ведь вы, сестра Мария, знаете, что это правда, вам известно, кто этот человек.
— Аминь, аминь, это правда, я знаю, кто этот человек, знаю, что с тех пор он стал нашим лучшим другом, — говорит сестра Мария и ласково кивает юноше. — Не стану отрицать, что сестре Эдит случалось и брать верх над Давидом Хольмом, но чаще всего она терпела поражение. К тому же в ту новогоднюю ночь она простудилась и тщетно боролась с кашлем, который никак не хотел проходить, не прошел и по сей день. Болезнь мучила ее, и потому, верно, ей уже не так, как прежде, везло в борьбе, которую она неустанно вела.
— Сестра Мария! — перебивает ее юноша. — Ничто из того, что вы сказали, не доказывает ее любовь к нему.
— Да, ты прав, Густавссон. Вначале ничто на это не указывало. Я скажу тебе, что меня заставило в это поверить. Мы знали одну бедную портниху, больную туберкулезом. Она изо всех сил боролась со своей болезнью и пуще всего боялась заразить детей. Она рассказала нам, что однажды, когда с ней случился приступ кашля на улице, к ней подошел бродяга и стал ругать ее за то, что она кашляла, отворачиваясь от людей.
«У меня тоже чахотка, — сказал он, — и доктор просит меня быть осторожнее, но я плюю на это. Я кашляю людям прямо в лицо, хочу, чтобы они заразились. Чем они лучше нас, хотел бы я знать?»
Больше он ничего не сказал, но портниха так испугалась, что весь день чувствовала себя разбитой. По ее описанию, это был высокий и статный мужчина, по-видимому, когда-то красивый, одежда на нем была грязная и рваная. Лицо его она хорошо не разглядела, помнила лишь глаза: две желтые злобные щелки под опухшими веками. Потом они прямо-таки часами глядели на нее. Но больше всего ее испугало то, что он не казался пьяным и вконец опустившимся, а говорил с такой ненавистью к людям.
Неудивительно, что сестра Эдит по этому описанию сразу же узнала Давида Хольма. Но нас удивило не то, что она стала защищать его. Она принялась уверять эту женщину, что он лишь шутя хотел напугать ее.
«Вы должны понять, что у такого сильного мужчины не может быть чахотки, — сказала она. — Ясное дело, он злой человек, раз хотел испугать вас, но ведь не стал бы он нарочно заражать людей, если бы даже и был болен. Что же он, по-вашему, чудовище какое-то?»
Мы не согласились с ней, считая, что таков он и есть на самом деле, но она горячо защищала его и даже рассердилась на нас за то, что мы так плохо о нем думаем.
Возница снова показывает, что следит за тем, что говорят. Он наклоняется и смотрит товарищу в глаза:
— Я думаю, сестра Мария права. Только тот, кто сильно любит тебя, может защищать тебя и не видеть твоих пороков.
— Быть может, — продолжает сестра Мария, — это ни о чем не говорит, так же как и то, что произошло несколько дней спустя, а может, это вообще ничего не значит. Но случилось так, что однажды вечером, когда мы с сестрой Эдит возвращались домой, усталые и опечаленные бедами наших подопечных, к ней подошел Давид Хольм. Он объяснил, что уезжает из города и что теперь ей будет спокойнее жить, мол, он подошел к ней только затем, чтобы это сообщить.
Я думала, это ее обрадует, но по ее ответу видно было, что она опечалена. Она ответила, что предпочла бы, чтобы он остался, чтобы она смогла продолжать бороться за него.
Он ответил, что, к сожалению, остаться не может, так как собрался поездить по Швеции в поисках одного человека, которого непременно должен найти. Мол, ему не будет ни сна, ни покоя, покуда он не найдет его.
И знаешь, сестра Эдит с явным испугом стала расспрашивать, кто этот человек. Я уже готова была шепнуть ей, чтобы она была осторожнее и не унижалась перед этим бродягой, но он, казалось, ничего не замечал, а просто отвечал, что если найдет этого человека, то она точно об этом узнает. Мол, он надеется, что она порадуется за него, что ему тогда не надо будет больше шататься по стране нищим бродягой.
Сказав это, он ушел и, видно, сдержал слово, потому что мы больше его не видели. Я надеялась, что нам никогда больше не придется иметь с ним дела, ведь он приносил несчастье повсюду, где появлялся. Но однажды к нам в приют пришла женщина и спросила у сестры Эдит про Давида Хольма. Она сказала ей откровенно, что она его жена и что она, не выдержав его пьянства и дурного поведения, оставила его. Она взяла детей, ушла от него тайком и приехала в наш город, который находится так далеко от их бывшего дома, что ему не могло прийти в голову искать ее здесь. Теперь она нашла работу на фабрике, и жалованья хватает, чтобы накормить себя и детей. Женщина эта была хорошо одета, внушала доверие и уважение. Она стала своего рода начальницей девушек, работавших на фабрике и уже сумела купить приличный домик, мебель и домашнюю утварь. А прежде, когда она жила со своим мужем, ей нечем было кормить детей и вся семья голодала.
Теперь она услышала, что его видели в городе и что сестры Армии спасения знают его, и потому она пришла сюда, чтобы узнать, как он живет.
Если бы ты, Густавссон, видел и слышал, как вела себя при этом Эдит, ты никогда бы этого не забыл. Когда эта женщина пришла к нам и сказала, кто она, сестра Эдит побледнела, и вид у нее был такой, словно ее постигло смертельное горе, но она скоро подавила это чувство, и в глазах у нее появилось какое-то неземное выражение. Видно было, что она овладела собой и ничего не желала для себя самой в этом мире. А с его женой она говорила до того ласково и сердечно, что растрогала ее до слез. Она не упрекнула ее ни одним словом и все же заставила ее раскаяться в том, что она покинула своего мужа. Мне думается, она внушила этой женщине, что та была чудовищно жестокой. Более того, сестра Эдит сумела вызвать в ней воспоминания о старой любви, любви ее юности, которую она питала к мужу, когда они только что поженились. Она заставила его жену рассказать, каким он был в первое время ее замужества, вызвала в ней желание увидеть мужа. Не думай, что сестра Эдит скрыла от нее, каким он теперь стал, но убедила ее, что она тем более должна стремиться помочь ему стать прежним Давидом Хольмом, которого она знала когда-то.
Стоящий у дверей возница снова наклоняется, смотрит на своего пленника и выпрямляется, не говоря на этот раз ни слова. Вокруг его товарища сгущаются тучи, настолько темные и мрачные, что он не в силах этого выносить. Он прислоняется к стене и надвигает капюшон на глаза, чтобы не видеть лежащего на полу.
— Без сомнения, в душе жены Давида Хольма уже были зачатки угрызения совести за то, что она, покинув мужа, предоставила порокам и злобе окончательно погубить его, — продолжает сестра Мария, — и во время этого разговора это чувство начало расти в ней. Правда, во время первой встречи она еще не решилась дать знать мужу, где она находится, к этой мысли она пришла во время второго долгого разговора. Я не хочу сказать, что сестра Эдит уговорила ее, что она внушила ей большие надежды, но я знаю, она хотела, чтобы жена позвала его к себе домой. Она думала, что это спасет его, и не стала ее отговаривать. Я должна сказать, что это дело рук Эдит, что это она соединила мужа с семьей, которую он погубил. Я долго думала над этим и решила, что она не смогла бы взять на себя такую ответственность, если бы не любила его.
Сестра Мария произносила эти слова с твердой уверенностью, но те двое, которые были так взволнованы, слушая рассказ о любви больной девушки, теперь, казалось, замерли. Солдат Армии спасения сидел, закрыв глаза рукой, а на лице лежащего у дверей снова появилось выражение злобы и ненависти, как в первый момент, когда его принесли в комнату.
— Никто из нас не знал, куда ушел Давид Хольм, — снова начала Мария, — но сестра Эдит велела другим бродягам передать ему, что ей известно, где находятся его жена и дети. И вскоре он пришел сюда. Сестра Эдит позаботилась вначале о том, чтобы он обзавелся приличной одеждой, нашла ему работу на стройке, а после свела с женой. Она не потребовала от него никаких заверений и обязательств, зная, что таких, как он, нельзя связать обещаниями, а просто хотела пересадить семена, проросшие среди сорняков и колючек, на добрую почву, и была уверена в том, что ей это удастся.
И кто знает, быть может, ей это и удалось бы? Но вот случилась большая беда. Сестра Эдит захворала воспалением легких, и когда начала вроде бы поправляться и мы надеялись на ее скорое выздоровление, вдруг начала таять, и пришлось отправить ее в санаторий.
А как Давид Хольм обошелся с женой, говорить тебе не надо. Ты знаешь это не хуже всех нас. Мы хотели скрыть это от сестры Эдит, пощадить ее. Надеялись, что она умрет, не узнав этого. Но теперь, я думаю, ей это известно.
— Откуда она могла это узнать?
— Узы, связывающие ее с Давидом Хольмом, настолько крепки, что она смогла почувствовать, что с ним происходит, узнать об этом необычным путем. И потому, что ей все известно, она весь день так жаждала увидеть его. Она навлекла страшную беду на его жену и детей, и теперь у нее остались лишь эти короткие часы, чтобы все исправить. А мы здесь медлим и не можем помочь ей такой малостью, не можем привести его сюда!
— Но чему это послужит! — упорствует юноша. — Она ведь будет даже не в силах говорить с ним. Она слишком слаба.
— Я смогу говорить с ним от ее имени, — твердо говорит сестра Мария. — И он станет слушать слова, которые ему будут сказаны у ее смертного одра.
— Что вы скажете ему, сестра Мария? Что она любила его?
Сестра Мария поднимается со стула. Она сжимает руки на груди и стоит, обратив лицо к небу и закрыв глаза.
— О, Господи Иисусе! — молит она. — Сделай так, чтобы Давид Хольм пришел сюда, прежде чем она умрет! Боже милостивый, сделай так, чтобы он увидел ее любовь, чтобы ее любовь, огонь ее любви растопил его душу! Боже милосердный, разве эта любовь не ниспослана ей, чтобы победить его сердце? Боже правый, пошли мне силы, чтобы я смогла, не щадя ее, бросить его душу в огонь ее любви! Боже милостивый, пусть этот огонь дохнет на его душу ласковым ветром, взмахом ангельского крыла, алым огнем, что зажигается поутру на востоке и разгоняет мрак ночи! Боже милостивый, не дай ему поверить, что я делаю это из мести! Боже милостивый, пусть он поймет, что сестра Эдит любит лишь то сокровенное в нем, что сам он стремился задушить, убить! Боже милостивый…
Сестра Мария вздрагивает и открывает глаза. Солдат Армии спасения стоит и надевает пальто.
— Я пойду за ним, сестра Мария, — говорит он сдавленным голосом. — Я не вернусь без него.
Человек, лежащий на полу у дверей, поворачивается к вознице:
— С меня довольно, Георг! Когда ты принес меня сюда, вначале их слова тронули меня. Может, ты таким образом и мог смягчить мою душу, но тебе следовало упредить их. Они не должны были говорить о моей жене.
Вместо ответа возница слабым жестом указывает ему на кого-то в глубине комнаты. Это старая женщина, она вошла, отворив оклеенную обоями дверь в гостиной. Она подходит к друзьям ее дочери, которые вели столь долгую беседу, и говорит голосом, дрожащим от волнения, строго и торжественно:
— Она не хочет больше там лежать. Она просит перенести ее сюда. Конец близок.
VI
Несчастная маленькая сестра Армии спасения, лежащая при смерти, чувствует, как силы ее с каждой минутой убывают, как бессилие овладевает ею все неотвязнее. Боли больше не мучают ее, она лежит и борется со смертью так же, как много ночей, бодрствуя у постели больных, она боролась со сном.
— Ах, как сладко ты манишь меня! Да только нельзя тебе меня одолеть сейчас, — говорила она тогда сну, и если сну удавалось на несколько мгновений побороть ее, то она тут же стряхивала его с себя и возвращалась к своим обязанностям.
А сейчас ей кажется, что где-то в прохладной комнате, где воздух чист и свеж и где ее больным легким станет легче дышать, кто-то стелет широкую и удобную постель с подушками мягкими и рыхлыми, как поднявшееся тесто. Она знает, что постель эту стелют для нее, и ей так хочется поскорее опуститься на нее и заснуть, избавиться от чувства бесконечной слабости, но где-то в глубине души она сознает, что тогда ей уже не удастся проснуться. Она продолжает отгонять от себя соблазн покоя. Его время еще не пришло.
Маленькая сестра Армии спасения оглядывает спальню, и в глазах ее мать читает укор. Эдит выглядит сейчас такой строгой, какой прежде не бывала.
«Почему вы так жестоки и не можете помочь мне в такой малости? — жалуются ее глаза. — Разве я не исходила столько дорог, служа вам, когда была здорова? Отчего же вы не хотите взять на себя труд позвать сюда того, кого я хочу видеть?»
Но большей частью она лежит с закрытыми глазами в ожидании и прислушивается столь напряженно, что ни один шорох в маленьком домике не может ускользнуть от ее ушей. Внезапно у нее появляется такое чувство, будто в соседнюю комнату вошел кто-то, что он стоит и ждет, когда его приведут к ней. Она открывает глаза и с мольбой смотрит на мать.
— Он стоит у дверей в кухню. Ты не можешь, мама, впустить его сюда?
Мать поднимается со стула, открывает оклеенную обоями дверь и выглядывает в большую комнату. Потом она возвращается и качает головой.
— Там никого нет, доченька, — говорит она, — никого, кроме сестры Марии и Густавссона.
Больная вздыхает и снова закрывает глаза. Но к ней снова возвращается ощущение, что он стоит возле двери и ждет. Если бы только ее одежда лежала, как обычно, на стуле возле кровати, она бы оделась и вышла сама, чтобы поговорить с ним. Но одежды там нет, к тому же она боится, что мать не позволит ей встать.
Она лежит и пытается придумать, как ей попасть в соседнюю комнату. Она уверена, что сейчас он там. Просто мать не хочет впустить его сюда. Она, верно, считает, что вид у него ужасный, и не желает, чтобы дочь разговаривала с таким человеком. Матушка, верно, считает, что ей не к чему его видеть. Мол, теперь, когда дочь умирает, ей все равно, что станется с ним.
Под конец в голову приходит мысль, которая кажется ей удивительно хитрой уловкой. «Скажу матушке, что хочу лежать в большой комнате, — думает она. — Этому она не станет противиться».
Она говорит матери о своем желании, но та, видно, разгадала причину желания дочери и начинает возражать.
— Разве тебе плохо здесь? Ведь в другие дни ты хотела лежать здесь.
Она не делает ничего, чтобы исполнить желание дочери, и продолжает сидеть не шелохнувшись. Сестра Эдит чувствует себя, как в ту пору, когда была ребенком и просила мать о чем-нибудь, чего та не хотела исполнить. И, как тогда, она начинает просить и хныкать, искушая терпение матери.
— Матушка, мне так хочется перебраться в большую комнату. Позови Густавссона и сестру Марию, пусть перенесут меня туда. Моей кровати недолго придется там стоять.
— Сама увидишь, что лучше там тебе не будет, и запросишься назад, — говорит мать, но все же выходит и возвращается с друзьями дочери.
Счастье еще, что она лежит на маленькой легкой деревянной кровати, на которой спала в детстве, и им втроем — сестре Марии, Густавссону и матери — нетрудно перенести ее.
Как только ее вынесли из дверей, она сразу же бросает взгляд в сторону кухни и сильно удивляется тому, что не видит его. Ведь на этот раз она была так уверена.
Она так сильно разочарована, что не разглядывает эту поделенную на три части комнату, которая хранит так много воспоминаний, а закрывает глаза. И тут в ней снова возникает ощущение, что возле двери находится кто-то чужой. «Не может быть, чтобы я ошибалась, — думает она, — кто-то здесь есть, либо он, либо кто-то другой».
Она снова открывает глаза и пристально оглядывает комнату. И тут она с трудом различает, что у дверей что-то темнеет. Что-то неотчетливое и неясное, как тень.
Мать наклоняется над ней.
— Тебе здесь не полегче? — спрашивает она.
Девушка кивает и шепчет, что рада находиться здесь. Но думает не о комнате, а все время лежит и смотрит на дверь. «Что там может быть?» — удивляется она и чувствует, что для нее важнее жизни узнать это.
Сестра Мария вдруг встала так, что загородила дверь, и она изо всех сил стала умолять ее отойти чуть-чуть в сторону.
Они поставили ее кровать в часть комнаты, именуемую гостиной и расположенную в противоположном конце по отношению к двери. Полежав здесь немного, она шепчет матери:
— Я уже поглядела на гостиную, теперь хочу поглядеть на столовую.
Она замечает, что ее мать и друзья обмениваются огорченными взглядами и покачивают головами. Она решает, что они боятся перенести ее поближе к тени у двери.
Она бросает на мать и друзей умоляющий взгляд, и они переносят ее, не пытаясь возражать.
Теперь, находясь в столовой, гораздо ближе к двери, она видит, что там стоит какая-то темная фигура со странным инструментом в руках. Это точно не он, но, во всяком случае, кто-то, с кем ей очень важно встретиться.
Ей необходимо придвинуться к нему поближе, и она с робкой улыбкой подает знак, чтобы ее перенесли в кухню. Больная видит, что мать это так сильно огорчает, что она начинает плакать. В душе девушки возникает смутное ощущение того, что мать сейчас вспоминает, как Эдит девочкой сидела на полу перед плитой, раскрасневшаяся от огня, и рассказывала ей обо всем, что было с ней в школе, а мать в это время готовила ужин. Она понимает, что матери видится ее дочь повсюду, что с каждой вещью в доме связаны воспоминания, что она уже начинает сгибаться под тяжестью надвигающегося на нее одиночества. Но сейчас она не должна думать о матери. Она не должна думать ни о чем, кроме главного, кроме того, что она должна успеть сделать за отпущенное ей короткое время.
Ее перенесли в противоположный конец комнаты, и теперь она наконец отчетливо видит то невидимое, что стоит у двери. Это человек в черном плаще с капюшоном, надвинутым на лицо. В руке он держит длинную косу. Ей не приходится сомневаться ни мгновения, она понимает, кто это.
«Это смерть», — думает она. И ей становится страшно, оттого что смерть пришла слишком рано. Сама же по себе она ей страха не внушает.
Когда несчастную больную перенесли к дверям, пленник Смерти, лежащий на полу, съежился, словно стараясь сделаться меньше, чтобы девушка его не заметила. Он замечает, что она не отрывает взгляда от двери, видно что-то видит там. Он не хочет, чтобы она увидела его. Это было бы для него слишком большим унижением. Ее взгляд не встречается с его взглядом. Она смотрит не на него, и ясно, что заметила она не его, а Георга.
Когда ее постель придвинули совсем близко к ним, он видит, что она кивком головы позвала Георга. Георг плотнее запахивает плащ, будто мерзнет, и подходит к ней. Она смотрит на него с жалобной, умоляющей улыбкой.
— Ты видишь, я не боюсь тебя, — шепчет она почти беззвучно. — Я охотно последовала бы за тобой, но прошу тебя погодить до утра, чтобы я смогла выполнить великое поручение, ради которого Господь послал меня в этот мир.
Она говорит с Георгом, а Давид Хольм в это время поднял голову, чтобы лучше разглядеть ее. Он видит, что святая возвышенность ее души придала ей невиданную красоту, нечто гордое, высокое, недостижимо прекрасное, неодолимо притягивающее, и он не в силах отвести от нее глаз.
— Ты, верно, не слышишь меня? — спрашивает она Георга. — Наклонись ко мне пониже. Я должна поговорить с тобой так, чтобы другие не слышали.
Георг наклоняется над ней так низко, что капюшон почти касается ее лица.
— Ты можешь говорить тихо! — отвечает он. — Я все равно тебя услышу.
И она начинает шептать ему так тихо, что никто из троих людей, стоящих возле ее постели, не слышит ее слов. Ей внимают лишь возница и призрак, лежащий на полу.
— Не знаю, известно ли тебе, что мне назначено сделать, но мне непременно нужно дотянуть до утра, чтобы я могла увидеть одного человека и уладить с ним все. Ты не знаешь, как скверно я с ним поступила. Я была слишком самонадеянной и смелой. Как смогу предстать пред ликом Господним я, причинившая им такое горе?
Глаза ее широко раскрыты от страха, она задыхается, но продолжает, не дожидаясь ответа:
— Я должна сказать тебе, что жду человека, которого люблю. Ты понимаешь меня? Человека, которого я люблю.
— Но послушай, сестра, этот человек…
Она не хочет слушать его ответа, покуда не скажет ему все, покуда не уговорит его.
— Ты видишь, я попала в беду, потому и говорю это тебе. Нелегко мне признаваться, что я люблю именно этого человека. Стыдно было мне, что я столь низко пала, что полюбила человека, связанного узами с другой. Я противилась этому чувству, я боролась с ним. Мне казалось, что я, призванная помогать людям, исправлять несчастных и заблудших, стала хуже самого скверного из них.
Георг молча гладит рукой ее лоб, позволяя ей продолжать.
— Однако худшее унижение не в том, что я люблю женатого. Самое отвратительное то, что это скверный и злой человек. Сама не знаю, почему я бросила себя под ноги этому негодяю. Я хотела, я надеялась найти в нем хоть крупицу хорошего, но каждый раз обманывалась. Видно, сама я скверная, раз мое сердце могло так ошибиться. О, неужто ты не можешь понять, что я не могу уйти, не сделав последней попытки, не увидев, что он раскаялся?
— Ты делала уже так много попыток, — уклончиво говорит Георг.
Она закрывает глаза, погружаясь в раздумье, но тут же открывает их, и в ее взгляде светится твердая уверенность.
— Ты думаешь, что я прошу лишь ради меня самой, и считаешь, как и другие, что мне должно быть безразлично, что с ним случится, мол, я все равно ухожу от суеты. Позволь мне рассказать тебе о том, что случилось в тот день, и ты поймешь: мне нужна эта отсрочка, чтобы помочь другим.
Она закрывает глаза и продолжает говорить:
— Случилось это сегодня утром. Не помню точно, куда я шла, знаю, что несла корзинку с едой кому-то из бедняков. Я очутилась в незнакомом дворе. Кругом стоят высокие красивые дома, везде чистота, порядок, видно было, что здесь живут люди зажиточные. Я не знала, зачем сюда явилась, но вдруг заметила, что к стене одного дома пристроен сарайчик, что-то вроде курятника. Его, видно, приспособили для человеческого жилья. Стены здесь и там залатаны фанерой и картоном, кривые оконца, жестяные трубы на крыше.
Из одной трубы поднималась тоненькая струйка дыма. Я поняла, что жилище это обитаемо, и сказала себе: «Конечно, сюда-то мне и нужно идти».
«Словно лезу к птичьему гнезду», — подумала я, поднимаясь по крутой деревянной лестнице, похожей на стремянку. Дверь была не заперта, и я, услыхав внутри голоса, отворила ее без стука.
Никто из находившихся здесь не обернулся и не поглядел на меня. Я встала в угол у двери и решила подождать, чтобы они обратили на меня внимание. Я твердо знала, что пришла сюда по очень важному делу.
Мне казалось, что я вошла в сарай, а не в комнату. Мебели здесь не было никакой, даже кровати. В одном углу лежало несколько рваных матрасов, очевидно служивших постелью. Ни одного стула, по крайней мере ни одного целого, пригодного для продажи, один лишь грубый некрашеный стол.
Внезапно я сказала себе, что знаю, где нахожусь. В середине комнаты стояла жена Давида Хольма. Стало быть, они переехали сюда, когда я была в санатории. Почему же здесь так бедно и убого? Куда девалась их мебель? Где же их красивый шифоньер, швейная машинка и…
Я перестала перечислять… Я не могла сказать, чего здесь не хватало, здесь не было просто ничего.
«Какой измученный вид у его жены, — думала я, — и как бедно она одета. До чего же она изменилась с прошлой весны!»
Я хотела было уже броситься к ней и расспросить ее, но остановилась, заметив, что в комнате были две незнакомые дамы, которые разговаривали с ней.
У всех у них был очень серьезный вид, и я скоро поняла, о чем идет речь. Они хотели поместить двоих детей этой женщины в приют, чтобы они не заразились туберкулезом от отца.
Я не верила своим ушам. «Не может быть, что у Давида Хольма туберкулез, — думала я. — Правда, я слышала однажды об этом, но не поверила».
Я только не могла понять, почему речь шла только о двух детях. Мне помнилось, их было трое.
Мне не пришлось долго ломать голову. Одна из дам-благотворительниц, увидев, что несчастная мать плачет, ласково сказала, что за детьми там будет уход лучше, чем дома.
«Не обращайте внимания, госпожа докторша, на мои слезы, — ответила мать. — Я плакала бы еще горше, если бы не смогла отправить детей. Младшенький лежит в больнице. И когда я увидела, как он страдает, то сказала себе, что, если у меня заберут детей, не стану противиться, лишь обрадуюсь и скажу спасибо».
При этих словах сердце мое сжалось от страха. Что сделал Давид Хольм со своей женой, своим домом и детьми? Ведь это я виновата в том, что он отыскал их.
Стоя в углу, я начала всхлипывать. Мне было ясно, что они заметили меня, но делали вид, что не замечают. Я увидела, что жена идет к дверям.
— Выйду на улицу, позову детей, — сказала она, — они здесь неподалеку.
Она прошла мимо меня так близко, что ее нищенское залатанное платье коснулось моей руки. Я упала на колени, поднесла подол ее платья к губам, поцеловала его и заплакала. Но сказать ничего не могла. Я была слишком виновата перед ней.
Меня удивило, что она не заметила меня, хотя она, должно быть, не хотела говорить с той, что навлекла такую беду на ее дом.
Однако несчастная мать не вышла из комнаты, одна из дам объяснила ей, что до прихода детей нужно сделать одно дело. Она достала из сумочки бумагу и прочитала ее вслух. Это было свидетельство о том, что родители доверяют детей ее попечению, пока в доме у них есть опасность заражения туберкулезом. Бумагу эту должны были подписать отец и мать.
В противоположном конце комнаты была дверь. Она отворилась, и вошел Давид Хольм. Я невольно подумала, что он, стоя за дверью, подслушивал, чтобы появиться в нужный момент.
На нем была ветхая грязная одежда. Глаза его горели злым огнем. Я поняла, что он испытывает явное наслаждение, словно радуется своим бедам.
Он начал говорить о том, как он любит своих детей, как ему тяжело из-за того, что одного из них увезли в больницу, а теперь он должен потерять и остальных.
Две дамы, не желая его слушать, заметили лишь, что он наверняка потеряет их, если оставит у себя.
В этот момент я повернулась и взглянула на его жену. Она прислонилась к стене и смотрела на него, как избитая и истерзанная жертва смотрит на своего палача.
Я начала сознавать, что причинила им гораздо большее зло, чем думала до сих пор. Мне показалось, что Давид Хольм питал тайную ненависть к этой женщине. Что он стремился найти ее не потому, что хотел обрести семейный очаг, а для того, чтобы мучить ее.
Я слушала, как он развлекал знатных дам разговором об отцовской любви. Они говорили ему, что он мог доказать свою любовь, выполняя предписания врача, а не распространяя заразу. Ведь тогда они не стали бы возражать против того, чтобы дети остались дома.
Ни одна из них еще не поняла, что творится у него в душе. А мне это стало ясно. «Он хочет удержать детей, — подумала я, — ему наплевать на то, что они заразятся».
Но его жена, видно, тоже поняла его. Вне себя, она дико закричала:
— Убийца! Он не хочет позволить мне отдать детей! Он хочет оставить их дома, чтобы они заразились и умерли! Он рассчитал, что таким образом отомстит мне!
Давид Хольм пожал плечами и отвернулся от нее.
— Да, правда, я не хочу подписывать эту бумагу.
Начались горячие споры и уговоры. Жена бросала ему в лицо гневные слова, и даже благородные дамы, раскрасневшись от волнения, говорили с ним резко.
А он стоял совершенно спокойный и отвечал, что не может жить без детей.
Я слушала их с неописуемым страхом, страдая больше всех, потому что любила человека, совершившего преступление. Я надеялась, что они найдут нужные слова которые смягчат его. Мне самой хотелось броситься к нему. Но какая-то странная сила связывала меня и заставляла стоять в углу. «Что толку спорить и уговаривать? — думала я. — Такого человека нужно испугать». Ни одна из женщин не сказала ему ни слова о Боге. Ни одна из них не угрожала ему гневом Господним. Мне казалось, будто я держу в руках карающую молнию Божию, но не в силах поразить его ею.
В комнате вдруг стало тихо. Благородные дамы поднялись и собрались уходить. У них ничего не вышло. Ничего не могла поделать и жена. Она перестала кричать и погрузилась в немое отчаянье.
Я сделала еще раз нечеловеческую попытку шевельнуться и заговорить. Слова жгли мне язык. «Ах ты, лицемер! — хотелось мне сказать. — Неужто ты думаешь, я не вижу твоих намерений? Я скоро умру и назначаю тебе свидание на Божием суде. Я обвиняю тебя в намерении убить своих собственных детей. Я стану свидетельствовать против тебя!»
Но когда я поднялась, чтобы сказать это, то находилась уже не у Давида Хольма, а лежала обессиленная дома, в своей постели. И с той поры я все зову и зову его, но никто не приводит его ко мне.
Маленькая сестра Армии спасения, рассказывая это, лежала с закрытыми глазами. Закончив рассказ, она широко раскрыла глаза и посмотрела на Георга с неописуемым страхом.
— Ведь ты не дашь мне умереть, прежде чем я поговорю с ним? — умоляет она его. — Подумай о его жене и детях!
Лежащий на полу удивляется упорству Георга. Ведь он мог бы успокоить ее одним-единственным словом, сказав, что Давид Хольм выбыл из игры и больше не может нанести вреда детям и жене. Но он скрывает от нее эту новость. Вместо того он еще больше огорчает ее.
— Как сможешь ты заставить Давида Хольма? — говорит Георг. — Его убедить невозможно. То, что ты видела сегодня, месть, которую он давно вынашивал в своем сердце.
— Ах, не говори так! Не говори так!
— Я знаю его лучше тебя, — говорит возница, — и могу рассказать, что сделало Давида Хольма таким.
— Расскажи, я охотно выслушаю тебя. Я так хочу лучше понять его!
— Тогда ты пойдешь за мной в другой город. Мы остановимся возле здания тюрьмы. Вечер. Человека, просидевшего восемь или четырнадцать дней за пьянство, только что выпустили. Его никто не ждет у ворот тюрьмы, но он останавливается и смотрит по сторонам в надежде, что кто-нибудь придет за ним, он так сильно этого хочет.
Дело в том, что человеку, выпущенному из тюрьмы, пришлось пережить тяжкое потрясение. Пока он сидел, с его младшим братом случилась беда. Он напился и убил человека, его арестовали. Старший брат ничего об этом не знал, пока тюремный священник не привел его в камеру убийцы и не показал ему юношу, все еще сидевшего в кандалах, которые пришлось надеть при аресте, оттого что он буйствовал.
«Видишь, кто здесь сидит?» — спросил Давида священник.
Увидев, что это его любимый брат, Давид Хольм был сильно потрясен.
«Ему теперь придется сидеть в тюрьме много лет, — сказал священник, — но, по правде говоря, тебе следовало отбывать за него срок, ведь это ты, и никто другой, сманил и развратил его, сделал горьким пьяницей, не помнящим, что творит».
Давид Хольм сдерживался с трудом, а когда вернулся в камеру, заплакал, как не плакал с детства. После этого он сказал себе, что свернет с дурного пути. Ведь до тех пор он не знал, каково чувствовать, что ты навлек беду на дорогого тебе человека. Потом мысли его с брата перешли на жену и детей, он понял, как им тяжело, и дал себе слово, что им никогда не придется больше обижаться на него. И в этот вечер, выйдя из тюрьмы, он жаждал увидеть жену и сказать ей о своем решении начать новую жизнь.
Но она не пришла к тюрьме встретить его, не встретилась она ему и на пути к дому. Он приходит домой и стучит в дверь, но она не раскрывает ее настежь и не спешит ему навстречу, как обычно после долгой разлуки. В голову ему закрадывается подозрение, но он не хочет этому верить. Не может быть, чтобы это случилось именно сейчас, когда он решил стать другим человеком.
Жена всегда оставляла ключ под ковриком у дверей, когда выходила из дому. Он наклоняется и находит ключ на обычном месте. Он отпирает дверь, входит в дом и не может ничего понять: комната пуста. Да нет, не совсем пуста, большая часть мебели осталась, но никого из его семьи здесь нет.
Нет ни дров, ни еды, ни занавесок на окнах. Комната выглядит неуютной, заброшенной, словно здесь никто не жил много лет.
Он идет к соседям спросить, не захворала ли его жена, покуда его не было. Он пытается внушить себе, что ее увезли в больницу.
— Нет, вроде бы она не болела, когда съезжала с квартиры, — был ответ.
— А куда она уехала?
— Этого никто не знает.
Он видит их любопытство и злорадство и чувствует, что иначе и быть не могло. Ясно, что жена воспользовалась случаем и уехала, пока он сидел в тюрьме. Она взяла с собой детей и все необходимое и не подумала подготовить его к этому, а предоставила вернуться домой к пустому очагу. А он-то так ждал встречи с ней! Повторял без конца, что он скажет ей. Хотел от всего сердца просить у нее прощения. У него был друг из круга людей образованных, но вовсе опустившийся. Давид намеревался обещать жене не водиться больше с этим человеком, хотя его влекли к нему не только его пороки, но также знания и ум. На другой день он отправился к своему прежнему наставнику и сказал, что снова поступает в его распоряжение. Он собирался было начать гнуть спину ради жены и детей, чтобы они были одеты и обуты и не знали больше забот. А теперь, когда он принял такое решение, она убежала от него!
Его бросало то в жар, то в холод, его трясло от бессердечия жены. Да, он мог бы понять ее, если бы она ушла честно и открыто. Тогда бы у него не было права возмущаться, ведь ей тяжко жилось с ним. Но то, что она улизнула потихоньку, без предупреждения и заставила его прийти в пустой дом — бессердечно. Этого он никогда не сможет простить ей.
Она опозорила его перед всеми. Теперь весь квартал смеется над ним. Но он сказал себе, что они перестанут смеяться. Он найдет-таки свою жену и сделает ее такой же несчастной, как он сам, нет, несчастной вдвойне. Он заставит ее узнать, каково человеку, когда леденеет сердце, как у него сейчас.
Единственным утешением для него была мысль о том, как он накажет ее, когда найдет. Три года он искал ее, и все это время он подогревал свою ненависть мыслью о том, как она поступила с ним, и под конец ее поступок стал казаться ему страшным преступлением. Он бродил один по пустынным дорогам, лелея все усиливающуюся ненависть и жажду мести. Он так долго искал ее, что успел хорошенько обдумать, как он станет мучить ее, если они вновь сойдутся.
Маленькая сестра Армии спасения до сих пор молчала, лишь выражение ее лица говорило о том, что она слушает. Но тут она прервала рассказ призрака, жалобно воскликнув:
— О нет, не говорите более ничего! Это так ужасно. Как я отвечу за то, что сделала? Ах, если бы я не свела их! Его грех не был бы так велик, если бы не я…
— Нет, я не скажу более ничего, — отвечает возница, — я ведь только хочу, чтобы ты поняла, что бесполезно просить об отсрочке.
— Но ведь я хочу… — восклицает она в смертельном страхе. — Я не могу так умереть, не могу! Дай мне лишь несколько мгновений! Ведь ты знаешь, что я люблю его. Я никогда не любила его так сильно, как сегодня.
Призрак, лежащий у дверей, вздрагивает. Пока сестра Эдит разговаривала с возницей, он пристально смотрел на нее. Он ловил каждое слово, вглядывался в выражение ее лица, чтобы запомнить его навеки. Все, что она говорила, даже самые жестокие слова о нем, были сладостны для его слуха. Когда Георг рассказывал о нем, ее страх за него, ее сострадание исцеляли его душу. Он еще не знает, как назвать чувство, которое он питает к ней. Он знает лишь, что от нее он бы мог стерпеть все. То, что она любит его таким, какой он есть, его, ставшего причиной ее смерти, кажется ему сверхъестественно прекрасным. Каждый раз, когда она говорит, что любит его, душа его испытывает неведомый доселе восторг. Он изо всех сил пытается привлечь внимание возницы, но тот не смотрит в его сторону. Тогда он делает попытку подняться, но падает вниз, испытывая страшную боль.
Он видит, как сестра Эдит беспокойно мечется в постели. Она ломает руки, протягивает их с мольбой к Георгу, но лицо его строго, он неумолим.
— Я бы дал тебе отсрочку, кабы она помогла тебе, — говорит он ей. — Да только знаю, что над ним у тебя нет власти.
И возница наклоняется над ней, чтобы произнести слова, которые освобождают душу от телесной оболочки.
И тогда, в это самое мгновение темная фигура подползает к умирающей. С колоссальным напряжением сил, стоящим ему боли, какой он еще никогда не испытывал, он разорвал свои оковы, чтобы приблизиться к ней. Он думает, что в наказание за это боль будет длиться вечно, но он не может допустить, чтобы сестра Эдит ждала напрасно, когда он находится в этой же комнате. Он подполз к ее постели так, чтобы его не видел его враг Георг, и сумел взять ее за руку.
И хотя он не в силах даже слегка пожать эту руку, она чувствует его присутствие и быстрым движением поворачивается к нему. Она видит, что он стоит на коленях у ее постели, уткнувшись лицом в пол, не смея взглянуть на нее и лишь держа ее руку в своей, выражает ей свою любовь и благодарность начинающего смягчаться сердца.
И тогда лицо ее освещается блаженным светом счастья. Она смотрит на мать, на своих друзей, которым ей раньше было недосуг сказать слова прощания, чтобы они стали свидетелями выпавшего ей на долю счастья. Свободной рукой она показывает на пол, чтобы они разделили с нею несказанную радость, оттого что Давид Хольм лежит раскаявшийся у ее ног. Но в этот миг черный человек наклоняется над ней и говорит:
— Узница, любезная моему сердцу, выходи из своей тюрьмы!
Она мгновенно откидывается на подушку, и вместе с последним дыханием жизнь покидает ее.
В этот же самый момент Давида Хольма отрывают от нее невидимые узы, которые он может только чувствовать, связывают ему руки, ноги его остаются свободными. Георг с гневом шепчет ему, что его ждали бы вечные муки, кабы не их старая дружба.
— Идем отсюда! — продолжает он. — Нам здесь нечего делать. Те, кто унесут ее отсюда, уже явились.
Он грубо хватает Давида Хольма и насильно тащит его прочь. Давиду кажется, что комнату вдруг наполняют какие-то светлые существа. Они видятся ему и на лестнице, и на улице, но неведомая сила тащит его с такой скоростью, что он не успевает разглядеть их.
VII
Давид Хольм снова брошен на дно телеги Смерти. Теперь он зол не только на весь окружающий его мир, но и на себя самого. Что это нашло на него? Неужто он спятил? Почему он бросился к ногам сестры Эдит, словно раскаявшийся грешник, готовый искупить свою вину? Георг, верно, смеется над ним. Настоящий мужчина должен иметь мужество отвечать за свои поступки. Он знает, почему совершил их. Он не должен нестись со всех ног и каяться вопреки своим принципам только потому, что девчонка говорит, что любит его.
Что это на него накатило? Неужто это любовь? Но ведь он умер. И она умерла. Что же тогда это за любовь?
Хромая кляча снова тронулась в путь. Теперь она ступает по одной из улиц предместья. Увозит его из города. Дома встречаются все реже, расстояния между фонарными столбами все длиннее. Вот уже виднеется городская застава, дальше их не будет вовсе.
Приближаясь к последнему столбу, он вдруг начинает испытывать горечь и непонятный страх, он не хочет покидать город.
И в тот же самый момент он слышит голоса сквозь мерзкий скрип телеги. Он поднимает голову и прислушивается.
Это Георг разговаривает с кем-то, кто едет с ними в телеге, с незнакомым пассажиром, которого он раньше не замечал.
— Дальше я уже не могу сопровождать вас, — говорит еле слышный ласковый голос, исполненный печали и боли. — Я хотела бы так много сказать ему, но он разгневан и зол и не может ни видеть, ни слышать меня. Передай ему привет от меня и скажи, что я была здесь, чтобы повидать его, но с этой минуты меня унесут отсюда и я не смогу показаться ему такой, какова я сейчас.
— А если он раскается и исправится? — спрашивает Георг.
— Ты сам сказал, что он не может исправиться, — отвечает голос с горечью и дрожью. — Передай ему мой привет и скажи, что я надеялась, мы вечно будем вместе, но с этой минуты он никогда более не увидит меня.
— А если он искупит свою вину? — повторяет Георг.
— Скажи ему, что дальше мне не позволено ехать с ним, — жалуется голос, — и передай ему мой прощальный привет.
— А если он переменится, станет другим? — настаивает Георг.
— Передай ему, что я буду любить его всегда, — прозвучал еще печальнее голос, — другой надежды я дать ему не могу.
Давид Хольм встал на колени в телеге. Услышав эти слова, он поднимается во весь рост. Размахивая руками, он тщетно пытается ухватить что-то, что ускользает от него. Он не может разглядеть, что это, сознает лишь, что это нечто мерцающе-светлое, невыразимо прекрасное.
Ему хочется вырваться, поспешить за этим улетающим прочь чудом, но что-то держит его онемевшее тело, держит крепче оков и веревок.
Это на него нахлынула любовь души, то же чувство, которое осенило его у постели умирающей. Любовь земная — лишь ее бледное подобие. Она постепенно раскалила его душу, подобно огню, медленно разгорающемуся в дровах. Его сила еще не видна, но вот он вспыхивает раз и другой, показывая, что вот-вот разгорится ярким пламенем. Такой огонь и побежал сейчас по его жилам. Он еще не разгорелся вовсю, но уже светит ярко, и при этом свете Давид Хольм видит свою возлюбленную, столь прекрасную, что впадает в оцепенение, сознавая, что он не смеет, не хочет, не может приблизиться к ней.
VIII
Телега возницы движется со скрипом в глубоком мраке. По обеим сторонам дороги высокой стеной стоит густой лес. Дорога так узка, что неба вовсе не разглядеть. По этой дороге лошадь плетется еще медленнее, скрип колес режет уши еще невыносимее, мысли гложут душу еще яростнее, и безнадежное однообразие становится еще более унылым. Георг натянул поводья, скрип на мгновение прекратился, и возница высоким звонким голосом воскликнул:
— Что мне былые мучения, что мне мученья грядущие, ведь мне более не придется пребывать в неведении о самом главном. Благословенно будь имя Господне за то, что я вышел из мрака земного. Я, ничтожный раб Твой, воздаю Тебе хвалу, оттого что знаю отныне: Ты даровал мне жизнь вечную.
Лошадь снова пустилась в путь, телега затряслась и заскрипела, но слова возницы продолжали звенеть в ушах Давида Хольма.
Долог был этот путь, казалось, ему не будет конца. В первый раз ему стало немного жаль своего старого товарища. «Он человек храбрый, — подумал Давид. — Он не жалуется хотя бы на то, что не может оставить это страшное ремесло».
Они ехали так долго, что Давиду показалось, будто прошли целые сутки, но вот наконец выбрались на равнину, небо над которой было не хмурое, а ясное. Между Большой Медведицей и Тремя Волхвами[5] сиял лунный серп.
Хромая кляча еле ковыляла по равнине, и, когда они наконец проехали ее, Давид Хольм поглядел на месяц, чтобы определить, как долго они тащились по ней. И тут, к своему удивлению, он увидел, что месяц не сдвинулся с места.
Они потряслись дальше. Время от времени он бросал взгляд на месяц и видел, что тот стоит неподвижно между Большой Медведицей и Тремя Волхвами.
И тут он понял, что, хотя они вроде бы ехали целые сутки, ночь не сменилась утром, день не сменился вечером, царила все та же ночь.
Они продолжали ехать час за часом, как ему казалось, но на небесном циферблате стрелки замерли и стояли без движения.
Он поверил бы, что время во всей вселенной остановилось, кабы не вспомнил слова Георга о том, что время намеренно растягивается для того, чтобы возница мог поспеть повсюду, куда ему следует явиться. Он понял, к своему ужасу, что время, кажущееся днями и сутками по исчислению людей, всего лишь короткие минуты.
В детстве ему рассказывали про человека, который гостил у святых в их небесных обителях. Воротясь домой, он сказал, что в Царствии небесном сто лет проходят, как один день на земле.
Он снова пожалел Георга: «Неудивительно, что он ждет не дождется, когда его сменят, — подумал он. — Долгим был для него этот год».
Съезжая с крутого пригорка, они увидели человека, который передвигался еще медленнее, чем они, и которого они, стало быть, могли обогнать.
Это была старуха, сгорбленная и тщедушная. Она шла, опираясь на посох, и, несмотря на свою слабость, тащила такую тяжелую поклажу, что ей приходилось сильно наклоняться на один бок.
Старуха, должно быть, заметила телегу Смерти, потому что отошла в сторону и встала у обочины дороги, чтобы пропустить ее.
Потом чуть прибавила шагу, чтобы поравняться с телегой, и шла рядом, разглядывая эту странную повозку.
При ясном свете луны ей не трудно разглядеть, что лошадь эта — жалкая одноглазая кляча, что упряжь на ней связана из обрывков кожи и ивовых прутьев, телега ветхая, того и гляди потеряет колеса.
— Ну и ну, — бормочет старуха себе под нос, не думая о том, что ее могут услышать, — и как это люди могут отправляться в дорогу на такой телеге да с такой лошадью. Я-то думала попросить подвезти меня немного, да ведь эта лошадь и без того еле плетется, а сядь я на телегу, она непременно развалится.
Услыхав ее слова, Георг тут же наклонился и принялся расхваливать свой выезд.
— Не скажите, — возразил он, — телега и лошадь моя вовсе не так плохи. Я ездил с ними по бурному морю, когда волны были вышиной с дом, большие корабли тонули, а телега даже не перевернулась.
Старуха слегка ошалела, но, решив, что возчик этот большой шутник, решила не отстать от него:
— Может, они у тебя в бурном море-то лучше управляются, чем на земле, тут-то, я вижу, им нелегко тащиться.
— Да, я спускался на ней в шахту, к самому сердцу земли, и лошадь даже не споткнулась, — продолжал возница, — проезжал по горящим городам, где пламя бушевало со всех сторон, и жар был, как в плавильной печи. Ни один пожарный не смел сунуться туда, в дым и огонь, а моя лошадь не испугалась.
— Никак, ты, возница, вздумал смеяться над старым человеком, — обиделась старуха.
— Иной раз меня посылали на высокие горы, где нет ни проезжих дорог, ни хоженых троп, и моя лошадь взбиралась по скалам и прыгала через пропасти. И телега уцелела, хотя иной раз дорогой ей была каменная гряда. Я ездил по болотам, где ни одна кочка не удержала бы и малого ребенка, по снегу толщиной в человеческий рост, и нигде не пропал, так что жаловаться мне на лошадь мою и на телегу не пристало.
— Коли ты правду говоришь, тебе и в самом деле жаловаться грех, — согласилась с ним старуха. — Видно, ты и сам храбрый богатырь, раз у тебя такой выезд.
— Мне дана такая сила, что дети человеческие подвластны мне, — отвечал возница громко и сурово. — Я покоряю тех, кто живет в богатых дворцах и в убогих хижинах. Я даю свободу рабам и сбрасываю с тронов королей. Нет замка со столь мощными стенами, чтобы я не мог проникнуть в него. Нет на свете столь хитрой науки, которая могла бы помешать моему приходу. Я побиваю уверенных в себе, греющихся в лучах своего счастья, и дарую наследство и богатство нищим и несчастным.
— Вот я и вижу, — засмеялась старуха, — что повстречала знатного господина! А раз ты такой сильный и выезд у тебя распрекрасный, подвез бы ты меня маленько! Я думала поспеть к дочерям на новогодний ужин, да заблудилась, и теперь мне, видно, придется идти по проселку всю ночь, коли ты мне не поможешь.
— Нет, об этом ты меня не проси, — ответил возница. — Лучше тебе идти по проселку, чем ехать в моей телеге.
— Пожалуй, ты прав, — снова согласилась старуха. — Думается мне, твоя лошадь сдохнет, коли я сяду. Но пусть она хоть мой узелок повезет, уж в этом ты, верно, мне не откажешь.
И, не спрашивая позволения, она быстро бросает узел на дно телеги. Но он тут же падает на дорогу, словно она положила его на клубящийся дым или стелющийся туман.
И в тот же миг она, очевидно, потеряла способность видеть телегу, так как осталась стоять на дороге, растерянная и дрожащая, не делая попытки снова заговорить с возницей.
Этот разговор снова заставил Давида Хольма немного пожалеть Георга. «Видно, здорово пришлось ему натерпеться, — подумал он. — Неудивительно, что он так переменился».
IX
Возница привел Давида Хольма в комнату с высокими зарешеченными окнами, высокими, голыми стенами без малейших украшений. Вдоль одной стены здесь стоят несколько кроватей, и только одна из них занята. В нос ему ударяет слабый запах лекарств. Возле одной постели сидит человек в форме тюремного надзирателя. Давид понимает, что очутился в тюремном лазарете.
С потолка свисает маленькая электрическая лампочка, и при ее свете он видит, что на кровати лежит больной юноша с красивым, но изможденным лицом. Едва успев бросить на него взгляд, Давид забывает, что лишь недавно испытывал известное сострадание к Георгу. Теперь он готов наброситься на него с прежней яростью.
— Что тебе здесь надо? — кричит он вне себя. — Если ты посмеешь дотронуться до того, кто лежит на этой постели, то будешь мне заклятым врагом, сам знаешь.
Возница бросает на него скорее сострадательный, нежели строгий взгляд.
— Теперь я понимаю, Давид, кто лежит здесь. Когда мы вошли сюда, я этого не знал.
— Знал ты или нет, Георг, дело не в этом, пойми только…
Но Георг делает знак рукой, и Давид тут же обрывает фразу, погружается в молчание, подавленный, охваченный неодолимым страхом.
— Нам с тобой остается лишь покоряться и слушаться, — говорит возница. — Ты не должен ни желать, ни требовать, твое дело молча ждать.
Георг надвигает капюшон на глаза, давая этим понять, что не желает с ним больше говорить. В наступившей тишине Давид слышит, что больной арестант начинает разговор с сержантом.
— Вы думаете, я смогу снова стать человеком? — спрашивает он слабым, но не сердитым и не печальным голосом.
— Ясное дело, сможешь, Хольм, — ласково, но неуверенно, — тебе нужно только сначала поправиться, главное, чтобы спал жар.
— Вы ведь знаете, сержант, я говорю вовсе не про болезнь. Я про то, смогу ли я стать другим, ведь это нелегко тому, кто осужден за убийство.
— Все будет хорошо, Хольм, ведь у тебя есть к кому идти, — отвечает надзиратель, — есть место, где тебя примут.
Лицо больного освещает добрая улыбка.
— Что сказал доктор, осмотрев меня нынче вечером?
— Ничего страшного, ничего страшного. Доктор все время говорит: «Если бы только я мог вызволить его из этих стен, я бы в два счета поставил его на ноги».
Грудная клетка узника поднимается, он втягивает воздух сквозь зубы.
— За эти стены, — бормочет он, — да, за эти стены.
— Я повторяю то, что говорил мне доктор, — продолжает сержант, — но ты не лови меня на слове, а то убежишь от нас опять, как осенью, год тому назад. Это ничего не даст, только дольше будешь сидеть, ясно тебе, Хольм?
— Не бойтесь, сержант. Я теперь стал умнее. Я теперь думаю только о том, чтобы поскорее отсидеть свой срок. А после начну новую жизнь.
— Да, в этом ты прав, теперь у тебя будет новая жизнь.
В голосе надзирателя звучат торжественные нотки.
Давид Хольм, слушая их, страдает сильнее, чем больной.
— Они заразили его в этой тюрьме, — бормочет он, в ужасе раскачиваясь всем телом. — Теперь здоровье его погублено. А какой красивый он был, какой сильный и веселый.
— А вы, сержант… — начал больной, но тут же, заметив нетерпеливый жест надзирателя, быстро спросил: — А может, мне не положено с вами разговаривать?
— Нет, сегодня ночью ты можешь разговаривать со мной, сколько тебе вздумается.
— Сегодня ночью… — говорит задумчиво больной. — Может быть, потому, что это новогодняя ночь?
— Да, — отвечает сержант, — именно потому, что для тебя начинается счастливый новый год.
— Этот человек знает, что больной умрет нынче ночью, — жалуется брат узника в бессильной ярости. — Поэтому-то он так ласков с ним.
— А вы не заметили, сержант, — продолжает больной свой прерванный вопрос, — что я переменился после побега?
— Да, ты, Хольм, стал с тех пор тихим, смирным, как овечка, у меня нет ни малейшего повода на тебя жаловаться. И все же я снова говорю тебе: не вздумай это повторить!
Больной улыбается.
— А вы не знаете, сержант, отчего со мной случилась эта перемена? Может, вы думаете, это оттого, что после побега я заболел еще сильнее?
— Да, мы, в общем-то, так и решили.
— А это вовсе не оттого, — возражает узник. — Причина тому совсем другая. Я раньше не смел об этом говорить, а сегодня ночью мне хочется рассказать вам.
— Я боюсь, однако, что ты говоришь слишком много, — говорит сержант.
Но видя, что лицо больного мрачнеет, он добавляет:
— Вовсе не потому, что мне надоело тебя слушать, я о тебе же забочусь.
— А вам здесь, в тюрьме, не показалось странным, что я вернулся добровольно? Ведь никто не знал, где я находился, а я сам явился в контору ленсмана и сдался. Вот вы, например, считаете, что я поступил странно?
— Ну, мы, конечно, подумали, что ты так намаялся, что решил сдаться добровольно.
— В самом деле, первые дни мне было лихо. Но ведь меня не было здесь целых три недели. Неужто вы думали, что я все это время сидел зимой в дремучем лесу?
— Нам пришлось так думать, раз ты сам это сказал.
Видно, что слова надзирателя позабавили больного.
— Иной раз приходится обманывать начальство волей-неволей, чтобы не подвести тех, кто тебе помог. Больше мне ничего не оставалось делать, понимаете, сержант? Тем, у кого хватило храбрости принять беглого арестанта, приютить его, нужно отплатить добром. Вы, верно, тоже так думаете.
— Ты задаешь мне вопрос, ответа на который я дать не могу, — терпеливо отвечает надзиратель.
Молодой арестант тяжело вздыхает:
— Дожить бы мне только до того дня, когда меня выпустят, и вернуться к ним, в дом на опушке леса!
Он умолкает и лежит, задыхаясь. Надзиратель смотрит на него с беспокойством. Он хватает бутылку с лекарством, но, увидев, что она пуста, встает.
— Пойду принесу еще этого снадобья, — говорит он и выходит из комнаты.
Возница тут же садится на его место возле постели. Он ставит косу так, чтобы юноша не мог видеть ее, и откидывает назад капюшон.
При виде этой страшной фигуры, сидящей рядом с его братом, Давид Хольм начинает всхлипывать жалобно, как ребенок, но сам юноша не проявляет беспокойства. Он лежит в горячке, не замечая, что рядом с ним сидит незнакомец, он думает, что это все тот же сержант.
— Это такой маленький домишко, — говорит он, задыхаясь.
— Помолчи лучше, тебе тяжело напрягаться, — успокаивает его возница. — Начальству известно все до мелочей, оно только виду не показывает.
Больной смотрит на него с удивлением.
— Да, Хольм, не делай большие глаза, — продолжает возница, — погоди-ка, я все тебе сам расскажу! Думаешь, мы не знаем, что один человек прокрался однажды утром в маленький домишко на краю большого села, надеясь, что дома никого нет? Ведь мы здесь, в тюрьме, тоже люди. Скажу тебе, что было дальше. Этот человек вошел в дом и испугался, потому что дом этот не был пуст, как он полагал. На широкой постели возле стены лежал и смотрел на него больной мальчик. Человек медленно подошел к нему, но тот закрыл глаза и лежал не шевелясь, как мертвый.
«Почему ты лежишь среди бела дня? — спросил человек. — Ты что, болен?»
Ребенок не шелохнулся.
«Не бойся меня, — продолжал человек. — Скажи только, где мне взять у вас немного еды. Я быстро поем и уйду!»
Мальчик продолжал лежать неподвижно. Тогда незнакомец вытащил из постели соломинку и пощекотал ему нос.
Мальчик чихнул, а человек засмеялся. Ребенок сначала посмотрел на него с удивлением, а после тоже принялся смеяться.
«Я хотел притвориться мертвым, — сказал он. — Ты, верно, слыхал, что, если повстречаешь в лесу медведя, нужно броситься на землю и притвориться мертвым. Тогда медведь уйдет и станет рыть тебе яму, чтобы положить тебя туда. А ты тем временем можешь улизнуть».
Тут человек покраснел от досады:
«Стало быть, ты решил, что я пойду рыть яму, чтобы уложить тебя в нее?»
«Да, это я так, по глупости, мне ведь все равно не убежать. У меня нога болит в бедре. Я даже ходить-то не могу».
Больной арестант удивляется.
— Может, ты, Хольм, не хочешь, чтобы я продолжал рассказ?
— Нет, продолжайте, мне приятно вспоминать об этом. Только я никак не пойму…
— Ничего удивительного в этом нет. Был один такой бродяга по имени Георг. Ты, верно, слыхал про него? Он узнал про эту историю, странствуя по дорогам, и рассказал ее другому бродяге. Так слухи о ней дошли до тюрьмы.
Ненадолго наступает тишина, но тут больной снова спрашивает слабым голосом:
— И что случилось потом с этим человеком и с ребенком?
— Так вот, человек этот еще раз попросил еды.
«К вам в дом, верно, заходят иной раз нищие и просят накормить их?»
«Случается», — отвечает мальчик.
«И твоя мать подает им милостыню?»
«Если у нас есть в доме еда, она кормит их».
«Вот видишь, я тоже бедняк и пришел к вам попросить, чтобы вы меня накормили. Скажи, где мне взять чего-нибудь съестного? Я много не возьму, мне бы только утолить голод».
Ребенок поглядел на него лукаво и понимающе:
«Матушка знала, что тут у нас по округе ходит беглый, и потому спрятала еду в шкаф и заперла».
«Да ты, верно, знаешь, куда она ключ положила, так скажи мне. А не то мне придется сломать шкаф».
«Да это не так просто, у нас замки крепкие».
Человек прошелся по дому, поискал ключи. Он пошарил на припечке, заглянул в ящик стола, но так и не нашел их. Мальчик тем временем сидел на постели и глядел в окно.
«Гляди, матушка идет и с ней куча народу», — воскликнул он.
Беглец одним прыжком отскочил к двери.
«Если ты сейчас выбежишь, то тут же попадешь им в лапы, — сказал мальчик, — спрячься лучше в шкаф».
Человек помедлил у двери.
«Так ведь у меня нет ключа», — возразил он.
«Да вот он!»
И мальчик протянул ему большой ключ.
Беглец взял ключ, подбежал к шкафу и отпер его.
«Бросай сюда ключ! — крикнул мальчик. — И захлопни шкаф!»
Человек послушался, и через секунду оказался запертым в шкафу. Он стоял и прислушивался к тому, что делали его преследователи. Сердце у него стучало. Он слышал, как дверь отворилась и в комнату вошло много людей.
«Здесь был кто-нибудь?» — громко спросил пронзительный женский голос.
«Да, — отвечал мальчишка, — приходил один человек сразу, как ты, матушка, ушла».
«Господи Боже мой! Господи Боже мой! — запричитала женщина. — Вот они и сказали, что видели, как он вышел из лесу и вошел сюда».
Беглец стоял и думал о мальчишке, который предал его. Хитрец заманил его в мышеловку. Он уже начал было толкать дверь, чтобы вырваться наружу, как вдруг услышал, что кто-то спросил, куда подевался беглый арестант.
«Так его теперь тут нет, — послышался звонкий голос мальчика, — он увидал, что вы идете, и убежал».
«Он взял у нас что-нибудь?» — спросила мать.
«Нет, он просил дать ему еды, а у меня ничего не было».
«А он не обидел тебя?»
«Он пощекотал мне нос соломинкой».
Беглец услыхал, как люди засмеялись.
«В самом деле?» — спросила мать с облегчением и засмеялась вместе с остальными.
«Так чего тогда нам стоять здесь и глазеть на стены?» — сказал мужской голос, и беглец услышал, что люди уходят.
«Так ты остаешься дома, Лиса?» — спросил кто-то.
«Да, сегодня я больше не хочу оставлять Бернхарда одного», — ответил голос матери.
Беглец слышал, как заперли входную дверь, и понял, что мать с сыном остались вдвоем. «Что теперь будет со мной? — думал он. — Оставаться мне здесь или попробовать выйти?» И тут он услышал шаги, кто-то подошел к шкафу.
«Не бойся, — сказал голос матери, — выходи, давай поговорим».
Она повернула ключ в замке и открыла дверцу шкафа. Человек робко вылез оттуда.
«Это он сказал, чтобы я спрятался туда», — сказал он, показывая на мальчика.
Мальчишка, довольный этим приключением, засмеялся и даже захлопал в ладоши.
«Ему до того надоело лежать одному и думать свою думу, что скоро с ним сладу не будет», — сказала мать.
Беглец понял, что она его не выдаст, потому что мальчик заступился за него.
«Ваша правда, — ответил арестант. — Я зашел сюда к вам, чтобы попросить хоть немного поесть, но ничего не нашел. Сынишка ваш не дал мне ключей. Он толковей многих, у кого здоровые ноги».
Мать поняла, что он хочет к ней подольститься, и все же осталась довольна.
«Я сперва накормлю тебя», — сказала она.
Пока беглец ел, мальчик расспрашивал его про побег, и он рассказывал обо всем откровенно. Он не готовил побег заранее, просто случай помог. Он работал на тюремном дворе, и ворота были распахнуты, ждали, что привезут несколько возов угля. Мальчик спрашивал его без конца о том, как он пробирался через город в лес. Несколько раз человек порывался уйти, но мальчик и слушать об этом не хотел.
«Да вы можете посидеть весь вечер у нас и потолковать с Бернхардом, — сказала под конец хозяйка. — Вас ищет столько людей, что бежать вам еще опаснее, чем оставаться здесь».
Беглец продолжал сидеть и рассказывать, когда вошел хозяин. В комнате было полутемно, и торпарь подумал вначале, что сын разговаривает с кем-то из соседей. «Никак, это ты, Петер, рассказываешь сказки Бернхарду?»
Мальчик начал весело смеяться.
«Нет, отец, это не Петер. Тут дело намного интереснее, садись послушай».
Отец подошел к постели, но ничего не понял, покуда сын не шепнул ему в ухо:
«Это беглый».
«Господи спаси! Что ты болтаешь, Бернхард!» — воскликнул отец.
«Это правда, — сказал сын. — Он сам рассказал мне, как прокрался через тюремные ворота, как три ночи ночевал в заброшенной лесной хижине. Я теперь все знаю».
Мать быстро зажгла лампу, и торпарь поглядел на беглого, который встал у дверей.
«Могу я услышать, что тут стряслось?» — спросил хозяин.
Мать с сыном принялись наперебой рассказывать. Торпарь был человек немолодой и рассудительный. Пока они рассказывали, он внимательно рассматривал арестанта. «Видно, бедняга совсем больной, не жилец, — подумал он, — еще одна ночь в лесной хижине, и ему крышка».
Когда все замолчали, он сказал:
«Немало людей пострашнее тебя слоняется по большим дорогам, и никто их не забирает».
«Да ведь во мне-то что страшного? Просто пьян был, а один человек сильно раздразнил меня».
Торпарь не хотел, чтобы сын слышал это, и прервал его:
«Думаю, что так оно и было».
В доме наступила тишина. Торпарь задумался, остальные со страхом смотрели на него. Никто не смел сказать ни слова, чтобы упросить его. Под конец он повернулся к жене:
«Не знаю, правильно ли я поступаю, но я, как и ты, думаю, что если наш сын спрятал его, то нам не годится его выгонять».
Итак, было решено, что беглец останется ночевать и уйдет рано утром. Но на другое утро у него был такой жар, что он едва мог стоять на ногах. Пришлось оставить его в доме на несколько недель.
Странно смотреть на двух братьев, слушающих этот рассказ. Когда возница рассказал, что беглец остался в крестьянском доме, больной лежал спокойно, вытянувшись на кровати. Казалось, боли перестали мучить его, и он погрузился в счастливые воспоминания. Другой брат смотрит подозрительно, думая, что за этим кроется какая-то западня. Время от времени он делает брату знак, чтобы тот не очень-то верил вознице, но не может привлечь его внимание.
— Врача они не смели позвать, — продолжал возница, — в аптеку за лекарством тоже пойти боялись. Пришлось больному обходиться без него. Если кто-нибудь проходил мимо и хотел зайти к ним, хозяйка выходила на крыльцо и говорила, что у Бернхарда высыпала какая-то сыпь на теле. Мол, она боится, не скарлатина ли это, и не смеет пригласить гостя в дом.
Через несколько недель беглецу полегчало, он сказал себе, что дольше не годится оставаться у этих хозяев, что ему нужно идти дальше. Мол, нельзя дольше быть обузой этим бедным людям.
И тут хозяева заговорили с ним о том, что для него было нелегко слушать. Однажды вечером Бернхард спросил его, куда он собирается отправиться, когда уйдет от них.
«Верно, пойду опять в лес», — ответил он.
«Знаете, что я вам скажу? — сказала ему тогда жена торпаря. — Ничего хорошего не выйдет из того, что вы опять отправитесь в глухомань. Будь я на вашем месте, я бы примирилась с правосудием. Что за радость бегать от людей, словно дикий зверь?»
«Так ведь и в тюрьме сидеть радости мало».
«Уж лучше отсидеть и больше горя не знать».
«Да ведь когда я бежал, мне оставалось ждать совсем недолго, а теперь, поди, прибавят срок».
«Вот беда-то, и зачем вы только бежали!»
«Нет, — горячо возражает он, — это лучший поступок за всю мою жизнь!»
Сказав это, он смотрит на мальчика и улыбается, а тот смеется и кивает ему. Беглецу нравится этот мальчишка. Ему так и хочется поднять его с постели, посадить на плечи и унести.
«Вам трудно будет видеться с Бернхардом, если вы всю жизнь будете скитаться несчастным беглецом».
«А еще труднее будет, если меня запрут в тюрьме».
Сидевший у огня торпарь вмешивается:
«Мы уже начали к вам привыкать, да только теперь, когда вы поднялись на ноги, мы не сможем вас дольше прятать от соседей. Другое дело, если бы вас честь по чести выпустили из тюрьмы».
В голове беглеца быстро проносится мысль: «Быть может, они хотят заставить меня выдать себя добровольно, потому что боятся ссориться с правосудием?»
«Я уже здоров и могу завтра уйти», — отвечает он.
«Я вовсе не к тому говорю, — ответил торпарь. — Просто вы могли бы поселиться у нас, помогать нам крестьянствовать, кабы отсидели срок».
Беглец знал, как тяжело найти место тому, кто вышел из тюрьмы, и предложение это тронуло его. Но вернуться в тюрьму ему было нелегко, и он промолчал.
В этот вечер Бернхарду было хуже обычного.
«Неужто нельзя отправить его в больницу и полечить?» — спрашивает беглец.
«Он лежал там уже много раз, да все без толку. Они говорят, что ничего не поможет, кроме морских соленых ванн, а откуда у нас на это деньги?»
«А что, туда далеко ехать?»
«Деньги нужны не только на дорогу, но и на еду, и на жилье. Нет, этого нам, ясное дело, никак не осилить».
Беглец сидит молча и думает о том, что когда-нибудь он смог бы заработать деньги Бернхарду на поездку к морю.
Он повернулся к торпарю и сказал:
«А ведь нелегко взять себе в работники бывшего арестанта».
«Я бы взял вас с удовольствием, — отвечает торпарь, — да только вы, быть может, не любите деревню, хотите жить в городе?»
«Когда я сидел в камере, то вовсе не вспоминал про город, думал только о зеленых полях и лесах».
«Когда отсидите срок, у вас гора спадет с плеч».
«Вот и я это говорю», — вмешалась жена.
«Хорошо, кабы ты спел нам, Бернхард, да только тебе, может быть, сильно нездоровится сегодня?»
«Я могу», — отвечает мальчик.
«Мне думается, твоему другу это понравится», — говорит мать.
Арестанту стало страшно, он словно бы почуял беду. Он хотел было уже просить мальчика не петь, но тот уже затянул песнь. Он пел звонким и чистым голосом, и, слушая его, беглый арестант сильнее, чем прежде, в тюрьме, почувствовал себя пожизненно заключенным, жаждущим свободы, простора, возможности двигаться.
Арестант закрыл лицо руками, но слезы сочились между пальцами и падали. «Из меня уже ничего не выйдет, — думал он, — но я должен попытаться вернуть свободу этому ребенку».
На следующий день он попрощался и ушел. Никто не спросил его, куда он идет. Они все трое сказали ему лишь: «Возвращайся к нам!»
— Да, они это сказали, — прерывает наконец больной возницу. — Знаете ли, сержант, это было единственно хорошее в моей жизни.
Некоторое время он лежит молча, две слезинки медленно катятся по его щекам.
— Я рад, что вы про это знаете, — продолжает он. — Теперь я могу говорить с вами про Бернхарда, сержант… Мне казалось, что я уже свободный… Что я был у него… Я никак не мог вообразить, что буду так счастлив нынче ночью…
Возница наклонился глубже над больным.
— Послушай меня, Хольм! — говорит он. — Что бы ты сказал, если бы смог увидеть своих друзей теперь, сию же минуту, хотя иначе, чем ты себе представлял? Если бы я предложил тебе не томиться годами, а сделал бы тебя свободным сейчас, этой ночью? Хочешь ли ты этого?
С этими словами возница откинул капюшон и сжал рукой косу.
Больной лежит и смотрит на него широко раскрытыми глазами, в которых загорается искра надежды.
— Понимаешь ли ты, Хольм, о чем я говорю? — спрашивает возница. — Понимаешь ли ты, что я тот, кто может открывать все тюрьмы, тот, кто может помочь тебе бежать туда, где ни один преследователь тебя не догонит?
— Я понимаю, о чем ты говоришь, — шепчет узник, — а как же Бернхард? Ведь ты знаешь, я вернулся сюда, чтобы по-честному стать свободным и помочь ему.
— Ты принес ему самую большую жертву, какую только мог принести, и в награду за это срок твоего наказания сократился, великая, незыблемая свобода уже ожидает тебя. Тебе не надо больше думать о нем.
— Но ведь я обещал отвезти его к морю, — говорит больной. — Я шепнул ему на прощанье, что повезу его к морю, когда вернусь. Нужно держать слово, данное ребенку.
— Значит, тебе не нужна свобода, которую я тебе предлагаю? — спрашивает возница, поднимаясь со стула.
— Нет, нет! — восклицает юноша, хватая полы плаща возницы. — Не уходи! Ведь ты знаешь, как я томлюсь! Если бы только был кто-нибудь, кто мог бы помочь ему! Но у него нет никого, кроме меня.
Внезапно он радостно восклицает:
— Да вот же тут сидит мой брат Давид! Вот и хорошо. Я попрошу его помочь Бернхарду.
— Твой брат Давид! — презрительно говорит возница. — Нет, его ты не можешь просить защитить ребенка. Ты не знаешь, как он обошелся со своими детьми!
Он умолкает, видя, что Давид Хольм уже сидит на другой стороне кровати, готовый помочь брату.
— Давид, — говорит больной, — у меня перед глазами зеленые лужайки и огромное открытое море. Понимаешь, Давид, я сидел здесь так долго, что не могу устоять, раз мне предлагают честную свободу. Да вот только этот ребенок. Ты ведь знаешь, я обещал.
— Не беспокойся, — дрожащим голосом говорит Давид, — я не оставлю этого ребенка, этих людей, которые пожалели тебя, обещаю тебе помочь им. Выходи на свободу! Иди куда хочешь! Я позабочусь о них. Выходи спокойно из своей темницы!
После этих слов больной откидывается на подушку.
— Ты сказал ему слова смерти, Давид, — говорит возница. — Идем отсюда! Пришла пора нам уходить. Освобожденный не должен встретиться с нами, живущими в рабстве и во мраке.
X
«Если бы только Георг мог услышать мои слова сквозь этот скрип и грохот, — думает Давид, — я бы сказал ему спасибо за то, что он помог сестре Эдит и моему брату. Я не хочу слушаться его и браться за его работу, но мне хочется показать, что я понимаю, как он помог им».
Едва он подумал это, как возница, словно подслушав его мысли, дернул вожжи и придержал лошадь.
— Я лишь несчастный и неумелый возница, — говорит он. — Иной раз мне удается помочь кому-нибудь, иной раз — нет. Этих двоих мне было легко переправить через границу. Ведь одна из них жаждала попасть к Господу на небеса, а другого почти ничего не связывало с землей. Знаешь ли, Давид, — продолжает он, переходя вдруг на прежний, товарищеский тон, — сидя в этой телеге и слушая, я думал, что, если бы я мог подать людям весть, я послал бы им наставление.
— Это я могу понять, — говорит Давид Хольм.
— И знаешь ли, что не большая беда быть косцом, когда зерно на поле созрело. Но вырывать неспелые колоски, не достигшие и половины своего роста, работа жестокая и неблагодарная. Хозяйка, которой я служу, считает эту работу недостойной себя и поручает ее мне, бедному вознице.
— Я это понял, — говорит Давид Хольм.
— Если бы люди только знали, как легко переводить через границу тех, кто закончил свою работу, выполнил свой долг и почти разорвал свои земные узы, и как тяжело освободить тех, кто не успел ничего закончить и совершить и оставил на земле всех, кого любит, они, быть может, постарались бы облегчить работу возницы.
— Что-то я не пойму тебя, Георг.
— Ты только подумай, Давид! За то время, что ты был со мной, ты слыхал только про одну болезнь, а со мной так было весь год. И все потому, что эта болезнь косит неспелые колосья, урожай, снимать который приходится мне. В первое время, когда я начал править телегой Смерти, у меня постоянно не выходило из головы: «Кабы этой болезни не стало, работа моя не была бы столь тяжелой».
— Так ты это хотел бы сказать людям?
— Нет, Давид. Теперь я лучше, чем прежде, знаю, на что способны люди. Они, без сомнения, победят этого врага с помощью оружия и упорства. Они не успокоятся, покуда не освободятся от нее и от других тяжелых болезней, которые косят их, не давая созреть. Но главное не в этом.
— И как же тогда им облегчить работу возницы?
— Люди столь рьяно стремятся устроить для себя на земле все наилучшим образом, что, думается мне, придет день, когда бедность, пьянство и прочее зло, сокращающие жизнь, исчезнут. Но это не значит, что труд возницы станет тогда легче.
— Что же тогда ты хотел бы сказать людям?
— Скоро наступит новогоднее утро. И люди, проснувшись и вспомнив, что наступил новый год, будут думать о всех своих надеждах и желаниях, о своем будущем. И тут я хотел бы сказать им, чтобы они желали себе не счастья в любви, не успехов, не богатства и власти, не долгой жизни или даже здоровья. Я хотел бы, чтобы они, сложив молитвенно руки, просили у Бога лишь одного: «О Боже, дай моей душе созреть, прежде чем настанет час жатвы».
XI
Две женщины сидят, углубившись в беседу, которая длится вот уже много часов. Она прервалась лишь, когда они обе в послеобеденное время слушали мессу в помещении Армии спасения, а после снова возобновилась. Одна из женщин пытается изо всех сил пробудить в душе другой чувство мужества и умиротворения, но ей, по-видимому, это плохо удается.
— Знаете, фру Хольм, — говорит та, что пытается утешить и приободрить довольно странным образом другую, — я думаю, что теперь вам станет легче жить. Ведь он, мне кажется, сделал уже все самое плохое, что только мог. С тех самых пор, как вы снова сошлись, он все грозил вам отомстить, вот и отомстил. Но вы, верно, понимаете, что одно дело — заставить себя однажды проявить жестокость и не позволить увести детей, а другое — тешиться мыслями об убийстве и совершить его на деле. Этого, я думаю, никто не вынес бы.
— Спасибо вам, капитан, за вашу доброту, за то, что вы стараетесь утешить меня, — отвечает жена.
Но про себя она, видимо, думает: мол, если капитан Армии спасения не знает того, кто мог бы вынести подобное, то ей-то самой известен такой человек.
Видно, что капитан Армии спасения уже отчаялась, но делает еще последнюю попытку убедить несчастную.
— Вы должны, фру Хольм, принять во внимание одно обстоятельство. Не знаю, можно ли назвать грехом то, что вы несколько лет назад покинули мужа, и все же это был дурной поступок. Вы бросили его на произвол судьбы, и печальные последствия не замедлили проявиться. Но в этом году вы сделали попытку все исправить. Вы поступили так, как того хочет Господь, и потому должна произойти перемена к лучшему. Сильный шторм сразу не усмирить, но доброе дело, которое начали вы, фру Хольм, и сестра Эдит, должно принести свои плоды.
Слова капитана Армии спасения слышит теперь не только жена Давида Хольма. Пока она говорила, в комнате появились и встали у дверей Давид и его товарищ Георг, вернее, их тени.
Руки и ноги у Давида уже больше не связаны. Он следует за возницей без принуждения. Но когда он замечает, куда его привели, волна возмущения снова захлестывает его. Ведь здесь никто не собирается умирать. Зачем же его снова заставляют видеть дом и жену?
Он уже поворачивается к Георгу, чтобы с гневом спросить его, но тот делает ему знак молчать.
Жена Давида поднимает голову, кажется, будто твердая уверенность другой женщины придает ей бодрости.
— Ах, если бы можно было этому поверить! — вздыхает она.
— Нужно верить, — говорит гостья и улыбается ей. — Завтрашний день уже принесет перемены. Вот увидите, что с новым годом придет помощь.
— С новым годом? — повторяет жена Давида. — Да, ведь сегодня новогодняя ночь, я совсем об этом забыла. Который сейчас час, как вы думаете, капитан Андерссон?
— Новый год давно наступил, — отвечает капитан и смотрит на свои часы. — Уже без четверти два.
— Тогда не стоит вам сидеть здесь со мной. Идите домой и ложитесь спать. Я уже успокоилась, сами видите.
Женщина бросает на нее испытующий взгляд.
— Не уверена, что вы вполне успокоились.
— Не беспокойтесь за меня, капитан. Я знаю, что наговорила много лишнего нынче ночью, но сейчас все прошло.
— Верите ли вы, фру Хольм, что можете всецело положиться на Господа, на Его святую волю и что Он устроит все к лучшему?
— Да, — отвечает женщина, — верю.
— Я охотно бы осталась до утра, но вижу, что вы хотите, чтобы я ушла.
— Я всегда рада вам, но теперь он скоро придет, и лучше будет, если я останусь одна.
Обменявшись еще несколькими фразами, обе женщины выходят из комнаты. Давид Хольм понимает, что жена идет отворить ей ворота.
— Давид, ты слышал, что она сказала? — спрашивает возница. — Ты понимаешь, что люди знают все, что им положено знать. Им нужно только помочь, укрепить их в желании жить долго и счастливо.
Едва он успел произнести эти слова, как вернулась жена. Видно, что она собирается сдержать слово и лечь. Она садится на стул, нагибается и начинает расшнуровывать ботинок.
Она сидит внаклонку, и вдруг громко хлопают ворота. Она встает и прислушивается.
— Это он идет! — говорит она. — Точно, он.
Она подбегает к окну и вглядывается в темноту двора. Стоит у окна минуту-другую, пристально всматриваясь. Когда же она отходит от окна и идет назад, они видят, как сильно изменилось ее лицо. Оно стало серым, глаза, губы словно посыпаны пеплом. Движения стали неловкими, неуверенными, губы слегка дрожат.
— Мне этого не вынести, — шепчет она, — не вынести.
— Я должна уповать на Господа, — говорит она, останавливаясь посреди комнаты, — они велят мне уповать на Господа. А разве я не молила Его, не звала? Что я должна делать, как вести себя, чтобы Он помог мне?
Она не плачет, но слова ее сплошной стон. Видно, что она в крайнем отчаянье и сама не знает, что делает.
Давид Хольм наклоняется вперед, пристально смотрит на нее и вдруг вздрагивает от пронзившей его мысли.
Жена не идет, а, едва волоча ноги, добирается до постели в углу комнаты, где спят ее двое детей.
— Жаль их, — говорит она, склоняясь над ними, — они такие красивые.
Она садится рядом с ними на пол и долго смотрит сначала на одного, потом на другого.
— Но мне надо уходить отсюда, а оставить их здесь я не могу.
Она как-то неловко и непривычно гладит каждого из них по голове.
— Не сердитесь на меня за это. Я не виновата.
Она продолжает еще сидеть на полу и гладить детей, когда ворота снова хлопают. Она опять вздрагивает и сидит неподвижно, выжидая, пока не убеждается, что пришел кто-то другой, не ее муж. Потом она торопливо встает.
— Мне нужно спешить, — таинственно шепчет она детям. — Я быстро это сделаю, лишь бы он не помешал мне.
Однако она ничего не делает, а лишь ходит по комнате взад и вперед.
— Что-то говорит мне, что нужно подождать до утра, — бормочет она вполголоса, — но что это даст? Завтра будет такой же день, как и все остальные. С чего бы это ему завтра смягчиться?
Давид Хольм думает про мертвое тело, лежащее на дорожке в церковном садике, которое скоро зароют, как ни на что более не годное. И ему почти хочется, чтобы жена узнала, что ей не надо более его бояться.
Снова слышится слабый шум. Это хлопает какая-то дверь в доме, ее открывают и закрывают. И снова жена начинает дрожать, вспоминая о том, что она собирается сделать. Она, шаркая ногами и дрожа всем телом, подходит к печке и кладет в нее дрова, чтобы развести огонь.
— Ничего, если он придет и увидит, что я развожу огонь, — говорит она, словно в ответ на чье-то возражение. — Могу же я в новогоднее утро сварить себе чашку кофе, чтобы не заснуть, дожидаясь его!
Слыша эти слова, Давид Хольм испытывает большое облегчение. Он снова недоумевает, зачем Георг привел его сюда. Здесь никто не собирается умирать. И больных здесь нет.
Возница стоит неподвижно, надвинув капюшон на глаза. Он так глубоко погружен в раздумье, что задавать ему сейчас вопросы бесполезно.
«Он хочет, чтобы я поглядел на своих в последний раз, — думает Давид. — Быть может, мне больше никогда не придется повстречать их».
— И это меня вовсе не печалит, — говорит он в первый момент, ему кажется, что в его сердце есть место лишь одному, и все же он подходит к постели на полу, где лежат его дети.
Он стоит и смотрит на них, и в голову ему вдруг приходит мысль о мальчишке, которого его брат любил так сильно, что добровольно вернулся в тюрьму. И ему становится горько, оттого что он не может так любить своих детей.
«Пусть они все же будут счастливы в этом мире! — думает он с внезапной слабостью. — Завтра они обрадуются, когда узнают, что им больше не придется бояться меня».
«Какими людьми они станут? — думает он с интересом, какого раньше к ним не проявлял, и ему вдруг становится страшно, что они станут такими же, как он. — Уж я-то был невезучим!»
«Не знаю, — продолжает он думать, — не могу понять, почему я раньше не думал о них. Кабы можно было, я хотел бы вернуться и сделать из них честных людей».
Он стоит, прислушиваясь к тому, что чувствует его сердце.
— Странно, но я больше не питаю к ней ненависти, — бормочет он. — Мне хотелось бы, чтобы она была счастлива после всего, что ей пришлось выстрадать. Кабы я мог, я вернул бы ей мебель. Хотелось бы, чтобы она по воскресеньям ходила в церковь нарядная. Но ведь теперь, когда я не буду им мешать, ей будет хорошо. Думается, Георг привел меня сюда, чтобы я порадовался тому, что умер.
В этот момент он сильно вздрагивает. Углубившись в свои мысли, он уже было перестал следить за тем, что делает жена. А сейчас он тихо вскрикивает от ужаса.
Она снимает с полки над плитой банку и насыпает немного молотого кофе в кофейник. Потом достает из-за пазухи пакетик с белым порошком и тоже сыплет его в воду.
Давид Хольм таращит на нее глаза, отказываясь понимать, что она делает.
— Увидишь, Давид, этого хватит, — говорит она, поворачиваясь к двери, словно обращаясь к нему. — Этого хватит на детей и на меня. Я не могу больше смотреть на то, как они тают с каждым днем. Если ты еще задержишься на часок, то все будет сделано по твоему желанию до того, как ты воротишься.
Муж больше не может стоять и слушать. Он бросается к вознице.
— Георг! — молит он. — О Господи, Георг, неужто ты не слышишь?
— Слышу, Давид, — отвечает возница. — Ведь я стою здесь. Должен стоять. Это мой долг.
— Но пойми же ты, Георг! Дело не только в ней. Но и в детях. Она хочет забрать с собой детей.
— Да, Давид. Она хочет взять с собой твоих детей.
— Но это не должно случиться! Это бессмысленно! Неужто ты не можешь дать ей понять, что это не имеет смысла?
— Ты просишь невозможного, Давид! У меня нет власти над живыми!
Но Давид Хольм не дает запугать себя, он бросается на колени перед возницей.
— Подумай о том, что прежде ты был моим другом, моим товарищем, не дай этому случиться! Не дай этому пасть на мою голову! Не дай этим несчастным беднякам умереть!
Он смотрит на Георга, ожидая ответа, но тот лишь мотает головой.
— Я сделаю для тебя все, что могу, Георг. Я отказался сменить тебя и стать возницей, но теперь с радостью соглашусь, только не заставляй меня пройти через это. Ведь они оба еще совсем малы, я вот стоял здесь и желал быть живым, чтобы сделать из них людей. А она… она же потеряла разум этой ночью. Она не знает, что делает. Сжалься над ней, Георг!
Но возница продолжает стоять, неподвижный и неумолимый, и лишь слегка отворачивается от него.
— Ведь я одинок, совсем одинок. Я не знаю, кого мне просить. Молить мне Бога-Отца или Христа? Я только что пришел в этот мир. Кто здесь власть имущий? Кто скажет мне, кому молиться?
О, я, бедный грешник, молю Того, кто властвует над жизнью и смертью. Я недостоин взывать к Тебе с мольбой. Я нарушал все Твои заповеди и законы. Но погрузи меня в кромешный мрак! Дай мне исчезнуть совершенно! Сделай со мной, что хочешь, но пощади их!
Он умолкает и ждет ответа. Но слышит лишь слова жены, которая говорит сама с собой:
— Ну вот он растаял, и вода вскипела, остается лишь немного остудить.
И тут Георг склоняется над ним. Его капюшон откинут, лицо освещает улыбка.
— Давид, — говорит он, — если ты в самом деле раскаялся, то, возможно, есть выход, чтобы спасти их. Ты сам должен сказать жене, что ей не нужно больше тебя бояться.
— Но она не сможет услышать меня. Или все-таки сможет?
— Нет, не такого, каков ты сейчас. Ты должен вернуться к тому Давиду Хольму, который лежит в саду возле церкви. По силам ли это тебе?
Давид Хольм вздрагивает от ужаса. Жизнь человеческая предстает перед ним как нечто удушающее, убивающее. Неужто свободное растение души должно снова стать человеком? Счастье ждет его лишь в мире ином. Но он не колеблется ни мгновенья.
— Если я могу, если я свободен… я думал, что должен…
— Да, ты прав, — отвечает Георг, и лицо его радостно сияет. — Ты должен стать возницей Смерти на весь этот год, если другой не станет делать эту работу за тебя.
— Другой? — спрашивает Давид. — Кто станет жертвовать собой ради такого ничтожества, как я?
— Давид, ты знаешь, что есть человек, который никогда не переставал каяться в том, что сманил тебя с честного пути. Быть может, этот человек захочет выполнять за тебя эту работу, радуясь, что ему больше не придется болеть за тебя душой!
Не давая Давиду Хольму времени опомниться, возница склоняется над ним и смотрит чудесно сияющими глазами ему в лицо:
— Старый друг, Давид Хольм, постарайся изо всех сил! А я останусь здесь и дождусь тебя. У тебя мало времени.
— Ну а как же ты, Георг?
Возница прерывает его властным движением руки, которому нельзя не повиноваться. В тот же миг он надвигает капюшон на глаза и звонко произносит:
— Ты, узник, войди снова в свою темницу!
XII
Давид Хольм приподнялся на локте и огляделся. Фонари погасли, но небо прояснилось, и светила луна. Он без труда понял, что лежит в церковном садике на увядшей траве под сенью черных липовых ветвей.
Не задумываясь ни на минуту, он поднялся на ноги. Он чувствовал себя бесконечно слабым, его тело будто парализовано, голова кружилась, и все же ему удалось подняться с земли. Вот он, шатаясь, пустился в путь по аллее, но, сделав несколько шагов, схватился за дерево, чтобы не упасть.
«Я не смогу, — думал он. — У меня не хватит сил на то, чтобы явиться вовремя». У него ни на мгновение не возникло чувство, что все, только что случившееся с ним, нереально. Он ясно и полно представлял себе все события минувшей ночи.
«В моем доме стоит возница с косой, — подумал он. — Я должен торопиться!»
Он оторвал руку от дерева, за которое держался, и сделал несколько шагов, но слабость снова одолела его, и он упал на колени.
И в этот момент он, оставленный всеми, почувствовал, как что-то легко прикоснулось к его лбу. Он не знал, была ли то рука, или губы, или край легчайшей одежды, но этого было достаточно для того, чтобы все его существо пронизало блаженство.
— Она вернулась ко мне! — ликовал он. — Она снова со мной. Она защитит меня.
Он простер руки к небу в восторге, оттого что возлюбленная любит его, оттого что любовь к ней переполнила его сердце, даже после того, как он вновь обрел жизнь земную.
Он услышал за собой шаги в пустынной ночи. Это шла невысокая девушка, голову которой скрывала большая шляпа сестры Армии спасения.
— Сестра Мария! — воскликнул он, когда она поравнялась с ним. — Сестра Мария, помогите мне!
Видимо, узнав голос, она робко покосилась на него и поспешила дальше, не обращая никакого внимания на его слова.
— Сестра Мария, я не пьян. Я болен. Помогите мне дойти домой.
Она вряд ли поверила его словам, однако тут же подошла к нему, помогла подняться, и он пошел, опираясь на нее.
Итак, он снова был на пути к дому, но как медленно тянулось сейчас время! Несчастье с ними могло уже произойти в любую минуту. Он остановился.
— Сестра Мария, вы очень помогли бы мне, если бы пошли раньше меня ко мне домой и сказали бы моей жене…
— И сказала бы, что ее муж вернется домой пьяный, как всегда? К этому ей, очевидно, не привыкать.
Он закусил губу и молча пошел вперед, изо всех сил стараясь прибавить шагу, но его окоченевшее тело отказывалось слушаться.
Вскоре он сделал новую попытку уговорить ее пойти вперед него.
— Мне приснился сон, — сказал он, — будто я видел, как умирала сестра Эдит, и что вы, сестра Мария, сидели подле нее… Мне приснились также мои, у меня дома… Жена этой ночью не в себе. Вот я и прошу вас, сестра Мария. Если вы не поспешите, она может что-нибудь сделать с собой.
Он говорил тихо и сбивчиво. Сестра Мария не отвечала, она все еще думала, что он пьян.
И все же она продолжала вести его. Он сознавал, что ей стоило большого труда заставить себя помогать тому, кого она считала причиной гибели сестры Эдит.
Он продолжал ковылять к дому, как вдруг его охватил новый страх. Как он сможет заставить жену, которая боится его, поверить ему, раз даже сестра Мария…
Наконец они остановились у ворот дома, где он жил, и сестра Мария помогла ему отворить их.
— Теперь-то уж вы, Хольм, верно, сами справитесь?
— Будьте так добры, крикните жену, чтобы она спустилась и помогла мне.
Сестра Мария пожала плечами.
— Знаете что, в другой раз я, быть может, и помогла бы вам, но нынче ночью у меня на это нет никакой охоты. С меня довольно.
В голосе ее послышались всхлипывания, она замолчала и поспешила прочь.
Карабкаясь по крутой лестнице, он боялся, что опоздал. Да и как он мог заставить жену поверить ему?
Он уже готов опуститься на ступеньку от слабости и отчаянья, как вдруг снова чувствует чье-то легкое и ласковое прикосновение ко лбу. «Она здесь, со мной, — думает он. — Она охраняет меня». Мысль об этом придала ему силы, и он поднялся на верхнюю ступеньку.
Когда он открыл дверь, то увидел ее почти у самого порога — казалось, она спешила запереть дверь, чтобы он не смог войти. Увидев, что опоздала, она быстро попятилась к плите и встала к ней спиной, будто хотела что-то спрятать и защитить. Лицо у нее было такое же мертвенно-неподвижное, как в тот момент, когда он уходил, и он тут же сказал сам себе: «Она еще не успела это сделать. Я пришел вовремя». Он бросил быстрый взгляд на детей, чтобы убедиться в этом. «Они еще спят. Она не сделала этого. Я пришел вовремя», — повторяет он.
Он протянул руку туда, где недавно стоял Георг, и почувствовал, что ее пожала чья-то рука.
— Спасибо! — тихо говорит он, голос его задрожал, и глаза внезапно заволокла пелена.
Шатаясь, он пересек комнату и опустился на стул. Он видел, что жена следит за его движениями так, будто в дом вошел дикий зверь. «Она тоже решила, что я пьян», — подумал он.
Чувство безнадежности вновь овладело им. Он бесконечно устал и хотел отдохнуть. В задней комнатушке была кровать, и ему так хотелось растянуться на ней, а не сидеть столбом. Но он не смел туда идти. Ведь стоило ему повернуться к жене спиной, как она выполнила бы задуманное. Он должен был оставаться здесь и караулить ее.
— Сестра Эдит умерла, — начал было он, — я был у нее. Я обещал ей, что буду добр к тебе и детям. Завтра ты сможешь отослать их в приют.
— Полно врать! — оборвала его жена. — Густавссон был здесь и сказал капитану Андерссон, что сестра Эдит умерла и что ты так и не пришел к ней.
Сидя на стуле, Давид Хольм как-то обмяк и, к своему удивлению, заплакал. Его угнетала бесполезность возвращения в мир вялых мыслей и закрытых глаз. Уверенность в том, что ему никогда не преодолеть стены, воздвигнутые его собственными поступками, отнимала у него силы. Жажда, бесконечная жажда сейчас, немедля соединиться с душой, витавшей где-то рядом, и невозможность этого заставляла его лить слезы.
Сквозь сотрясавшие его рыдания он услышал голос жены:
— Ты плачешь, Давид? — спросила она.
Он поднял к ней лицо, мокрое от слез.
— Я хочу стать лучше, — сказал он сквозь зубы, как будто гневался. — Хочу стать честным человеком, но никто мне не верит. Как же мне не плакать?
— Нелегко поверить тебе, Давид, — сказала она, еще колеблясь. — Но я верю, раз ты плачешь. Теперь я верю тебе.
Словно в доказательство своих слов, она села на пол у его ног и уткнулась головой в его колени.
Она сидела так с минуту неподвижно и тоже начала всхлипывать.
Он вздрогнул:
— Ты тоже плачешь?
— Я не могу не плакать. Не смогу стать счастливой, покуда не выплачу все свое горе.
И в этот момент Давид Хольм снова ощутил на лбу легкий холодок. Слезы перестали литься по его лицу, и оно осветилось таинственной смутной улыбкой.
Он исполнил первое, что ему было предназначено этой ночью. Ему осталось помочь ребенку, которого любил его брат. Ему осталось показать таким людям, как сестра Мария, что сестра Эдит не ошибалась, подарив ему свою любовь. Ему осталось поднять из руин свой очаг. Ему осталось передать людям завет возницы. Когда же он все это исполнит, то сможет отправиться к ней, к любимой, желанной.
Он чувствовал себя бесконечно старым. Он стал терпеливым и покорным, как старики. Он не смел ни надеяться, ни желать, а лишь, сжимая руки, шептал новогоднюю молитву возницы:
— О Господи, дай душе моей созреть, прежде чем настанет час жатвы!