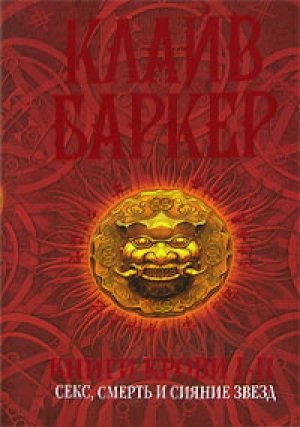
…Леон Кауфман уже хорошо знал этот город. Дворец Восторгов — так он называл его раньше, в дни своей невинности. Но тогда он жил в Атланте, а Нью-Йорк еще был неким подобием обетованной земли, где сбывались все самые заветные мечты и желания. В этом городе грез Кауфман прожил три с половиной месяца, я Дворец Восторгов уже не восторгал его.
Неужели вправду миновало всего четверть года с тех пор, как он сошел с автобуса на станции возле Управления порта и вгляделся в заманчивую перспективу 42-й улицы, в сторону ее перекрестка с Бродвеем? Такой короткий срок и так много горьких разочарований.
Теперь ему было неловко даже думать о своей прежней наивности. Он не мог не поморщиться при воспоминании о том, как тогда замер и во всеуслышание объявил:
— Нью-Йорк, я люблю тебя. Любить? Никогда.
В лучшем случае это было слепым увлечением. И после трех месяцев, прожитых вместе с его воплощенной страстью, после стольких дней и ночей, проведенных с нею и только с нею, та утратила даже ауру былого великолепия.
Нью-Йорк был просто городом. Может быть, столицей городов.
Столицей — буквально. Он видел ее утром просыпавшейся, как шлюха, и выковыривавшей трупы убитых из щелей в зубах и самоубийц из спутанных волос. Он видел ее поздно ночью, бесстыдно соблазнявшей пороком на грязных боковых улицах. Он наблюдал за ней в жаркий полдень, вяло и безразличной к жестокостям, которые каждый час творились в ее душных переходах.
Нет, этот город не был Дворцом Восторгов. Он таил не восторг, а смерть.
Все, кого встречал Кауфман, были отмечены клеймом насилия; таков был непреложный факт здешней жизни было даже что-то утешительное в том, чтобы вновь узнать о чьей-нибудь насильственной смерти. Это свидетельствовало о жизни в этом городе.
Но он почти двадцать лет любил Нью-Йорк. Свою будущую любовную связь он планировал большую часть своей сознательной жизни. Поэтому ему нелегко было забыть о своей страсти, как будто ее не существовало. Порой очень рано, задолго до воя полицейских сирен, все еще выдавались минуты, когда Манхеттен по-прежнему был чудом.
Вот за эти-то редкие мгновения и ради лучших снов юности он дарил бывшей возлюбленной свои сомнения в ней — даже если она вела себя не так, как положено добропорядочной леди.
Она не дорожила его щедротами. За те несколько месяцев, что Кауфман прожил в Нью-Йорке, на улицы города были выплеснуты целые потоки крови.
Точнее, не на сами улицы, а в тоннели под ними. «Подземный убийца» таково было модное выражение, если не пароль того времени. Только на прошлой неделе сообщалось о трех новых убийствах. Тела были найдены в одном из вагонов сабвея, на Авеню оф Америка — разрубленные на части и почти полностью выпотрошенные, как будто какой-то умелый оператор скотобойни не успел закончить свою работу. Эти убийства были совершены с таким отточенным профессионализмом, что полицейские допрашивали каждого человека, который, по их сведениям, когда-либо имел дело с торговлей мясом. В поисках улик или каких-нибудь зацепок для следствия были тщательно осмотрены мясоперерабатывающие фабрики в портовом районе и дома, где жили жертвы преступления. Газеты обещали скорую поимку ^убийцы, но никто так и не был арестован.
Недавние три трупа были не первыми из обнаруженных в аналогичном состоянии; в тот самый день, когда Кауфман приехал в город, «Тайме» разразился статьей, которая до сих пор не давала покоя впечатлительным секретаршам из его офиса.
Повествование начиналось с того, что некий немецкий турист, заблудившись в сабвее поздно ночью, в одном из поездов набрел на тело. Жертвой оказалась хорошо сложенная, привлекательная тридцатилетняя женщина из Бруклина. Она была полностью раздета. На ней не было ни одного лоскута материи, ни одного украшения. Даже клипсы были вынуты из ушей.
Не менее экстравагантной выглядела та систематичность, с которой вся одежда была свернута и упакована в отдельные пластиковые мешки, лежавшие на сиденье возле трупа.
Здесь орудовал не обезумевший головорез. Тот, кто это сделал, должен был быть чрезвычайно организованным и хладнокровным субъектом; каким-то лунатиком с весьма развитым чувством опрятности.
Еще более странным, чем заботливое оголение трупа, было надругательство, совершенное над ним. В сообщении говорилось — хотя полицейский департамент не брался подтверждать сведения репортера, — что тело было тщательнейшим образом выбрито. На нем был удален каждый волос: на голове, в паху и в подмышках; волосы сначала срезали чем-то острым, а потом опалили. Даже брови и ресницы были выщипаны.
И наконец, это чересчур обнаженное изделие было подвешено за ноги к поручням на потолке вагона, а прямо под трупом была поставлена пластиковая посудина, в которую стекала кровь, сочившаяся из ран.
В таком состоянии нашли обнаженное, обритое, повешенное вниз головой и практически обескровленное тело Лоретты Дайс.
Преступление было омерзительным, педантичным и обескураживающим.
Оно не было ни изнасилованием, ни каким-то изощренным истязанием. Женщину просто убили и разделали, как мясную тушу. Мясник же как в воду канул.
Отцы города поступили мудро, запретив посвящать прессу в обстоятельства убийства. Было решено, что человека, обнаружившего тело, необходимо отправить в Нью-Джерси, где он находился бы под защитой местной полиции и где до него не смогли бы добраться вездесущие журналисты. Однако уловка не удалась. Один нуждающийся в деньгах полицейский поведал все детали преступления репортеру из «Таймс» — Теперь эти тошнотворные подробности обсуждались всюду, они были главной темой разговоров в каждом баре и в каждой забегаловке; и, разумеется, в сабвее.
Но Лоретта Дайс была только первой из многих. Вот и еще три тела были найдены в метро; хотя на этот раз работа была явно прервана на середине. Тела не все были обриты, а кровь из них не совсем вытекла, потому что вены остались не перерезанными. И другое, более важное, отличие было в новой находке: на трупы наткнулся не турист из Германии, а хроникер из «Нью-Йорк Тайме».
Кауфман как раз проглядел репортаж, занявший всю первую полосу газеты. Проглядел и поморщился. Смакование подземных ужасов не увлекало его, чего нельзя было сказать о соседе слева, который сидел вместе с ним за стойкой кафе. Леон отодвинул яичницу. Статья лишний раз свидетельствовала о загнивании его города. Она не прибавляла аппетита.
Тем не менее, он не мог вовсе не обращать внимания на страницу с репортажем (убогая притязательность описания усиливала чувство сострадания к жертвам). Он также не мог мысленно не полюбопытствовать, кто же стоял за этими жестокостями. Совершил ли их какой-нибудь один психически ненормальный человек или несколько, одержимых манией копирования оригинала? Возможно, настоящий кошмар только начинался. Он подумал, что, может быть, произойдет еще немало убийств, прежде чем последний убийца, перевозбужденный кровью или уставший от нее, потеряет бдительность и попадется в руки полиции. А до тех пор весь город, обожаемый город Кауфмана, будет жить в состоянии между истерикой и экстазом.
Сидевший рядом бородатый мужчина ударил кулаком по стойке, опрокинув чашку Кауфмана.
— Дерьмо! — выругался он.
Кауфман отодвинулся от растекшегося кофе.
— Дерьмо, — повторил мужчина.
— Ничего страшного, — сказал Кауфман. Он презрительно взглянул на соседа. Неуклюжий бородач достал носовой платок и теперь пытался вытереть кофейную лужицу, еще больше размазывая ее по стойке.
Кауфман поймал себя на мысли о том, насколько этот неотесанный субъект был способен убить кого-нибудь. Был ли в его цветущем лице или в маленьких глазках какой-нибудь знак, выдающий истинную натуру их владельца?
Мужчина снова заговорил:
— Заказать другую? Кауфман кивнул.
— Кофе. Одну порцию. Без сахара, — сказал субъект девушке за стойкой. Та подняла голову над грилем, с которого счищала застывший жир:
— Мм?
— Кофе. Ты что, глухая? Мужчина повернулся к Кауфману.
— Глухая, — ухмыльнувшись, объявил он. Кауфман заметил, что у него не хватало трех зубов в нижней части рта.
— Неприятно, а?
Что он имел в виду? Пролитый кофе? Отсутствие зубов?
— Сразу трое. Ловко сработано. Кауфман еще раз кивнул.
— Поневоле призадумаешься, — добавил сосед.
— Еще бы.
— Сдается мне, нам хотят запудрить мозги, а? Они знают, кто это сделал.
Бестолковость разговора начала досаждать Кауфману. Он снял очки и положил их в футляр. Бородатое лицо больше не было так отчетливо назойливым. Стало немного легче.
— Ублюдки, — продолжал бородач, — паршивые ублюдки, все они. Ручаюсь чем угодно, они хотят запудрить нам мозги.
— Зачем?
— У них есть улики, — просто они скрывают их. Держат нас за слепых. Так люди не поступают.
Кауфман понял. Некая теория всеобщей конспирации, вот что проповедовал этот субъект. Панацея на все случаи жизни, он был хорошо знаком с ней.
Что-то здесь неладно. Все эти истории, они плодятся с каждым днем. Вегетативный период. Небось, вырастают какие-то дерьмовые монстры, а нас держат в темноте. Говорю же, хотят запудрить нам мозги. Ручаюсь чем угодно.
Кауфман оценил его уверенность — в ней была заманчивая перспектива. Незримо крадущиеся чудовища. С шестью головами, двенадцатиглазые. Почему бы и нет?
Он знал, почему. Потому что это извиняло бы его город. А Кауфман ни на минуту не сомневался в том, что монстры, поселившиеся в подземных тоннелях, были абсолютно человекообразны.
Бородач бросил деньги на стойку, скользнув широким задом по запачканному кофейными пятнами стулу.
— Может быть, какой-нибудь паршивый легавый, — сказал он на прощание, пробовал сделать какого-нибудь паршивого супермена, а сделал паршивого монстра.
Он гротескно ухмыльнулся.
Ручаюсь чем угодно, — добавил он и неуклюже заковылял к выходу.
Кауфман медленно, через нос выпустил воздух из легких — напряженность в теле постепенно спадала.
Он ненавидел этот сорт конфронтации; в подобных ситуациях у него отнимался язык и появлялось чувство какой-то неловкости. И еще он ненавидел этот сорт людей: мнительных скотов, которых во множестве производил Нью-Йорк.
Было почти шесть, когда Махогани проснулся. Утренний дождь к вечеру превратился в легкую изморось. В воздухе веяло чистотой и свежестью, как обычно на Манхеттене. Он потянулся в постели, откинул грязную простыню и встал босыми ступнями на пол. Пора было собираться на работу.
В ванной комнате слышался равномерный стук капель, падающих с крыши на дюралевую коробку кондиционера. Чтобы заглушить этот шум, Махогани включил телевизор: безразличный ко всему, что тот мог предложить его вниманию.
Он подошел к окну. Шестью этажами ниже улица была заполнена движущимися людьми и автомобилями.
После трудного рабочего дня Нью-Йорк возвращался домой: отдыхать, заниматься любовью. Люди торопились покинуть офисы и сесть в машины. Некоторые будут сегодня вспыльчивы — восемь потогонных часов в душном помещении непременно дадут знать о себе; некоторые, безропотные, как овцы, поплетутся домой пешком: засеменят ногами, подталкиваемые не иссякающим потоком тел на авеню. И все-таки многие, очень многие уже сейчас втискивались в переполненный сабвей, невосприимчивые к похабным надписям на каждой стене, глухие к бормотанию собственных голосов, нечувствительные к холоду и грохоту туннеля.
Махогани нравилось думать об этом. Как-никак, он не принадлежал к общему стаду. Он мог стоять у окна, свысока смотреть на тысячи голов внизу и знать, что относится к избранным.
Конечно, он был так же смертей, как и люди на улице. Но его работа не была бессмысленной суетой — она больше походила на священное служение.
Да, ему нужно было жить, спать и испражняться, как и им. Но его заставляла действовать не потребность в деньгах, а высокое призвание.
Он исполнял великий долг, корни которого уходили в прошлое глубже, чем Америка. Он был ночным сталкером: как Джек-Потрошитель и Жиль де Ре; живым воплощением смерти, небесным гневом в человеческом обличье. Он был гонителем снов и будителем страхов.
Люди внизу не знали его в лицо и не посмотрели бы на него дважды. Но его внимательный взгляд вылавливал и взвешивал каждого, выбирая самых пригодных, селекционируя тех молодых и здоровых, которым суждено было пасть под его сакральным ножом.
Иногда Махогани страстно желал объявить миру свое имя, но на нем лежал обет молчания, и эту клятву нельзя было нарушить. Он не смел ожидать славы. Его жизнь была тайной, и только лишь неутоленная гордость могла жаждать признания.
В конце концов он полагал, что жертвенному тельцу вовсе не обязательно приветствовать жреца, стоя на коленях и трепеща перед ним.
Во всяком случае, он не жаловался на судьбу. Сознавать себя частью великого обычая — вот в чем состояло искупление и вознаграждение неудовлетворенного тщеславия.
Правда, были кое-какие недавние открытия… Нет, он ни в чем не был виноват. Никто не смог бы упрекнуть его. Но времена были не из лучших. Жизнь стала не такой легкой, как десять лет назад. Он постарел, работа уже давно измотала его; а на плечи ложилось все больше забот и обязанностей. Он был Избранным, и эта привилегия была нелегка.
Он все чаще подумывал о том, как передать свои знания какому-нибудь более молодому человеку. Конечно, нужно было посоветоваться с Отцами, но рано или поздно преемника предстояло найти, и он чувствовал, что для него не могло быть большего преступления, чем пренебрежение таким драгоценным опытом.
В его работе слишком многое значили навыки. Как лучше всего подкрасться, нанести удар, раздеть и обескровить. Как выбрать наилучшее мясо. Как проще всего избавиться от останков. Так много подробностей, так много приемов и уловок.
Махогани прошел в ванную комнату и включил душ. Перед тем, как встать под теплый, упругий дождь, он оглядел свое тело. Небольшое брюшко, поседевшие волосы на груди, фурункулы и угри, испещрившие бледную кожу. Он старел. И все же этой ночью, как и в любую другую ночь, у него было много работы…
Купив пару сэндвичей, Кауфман вбежал обратно в вестибюль, опустил воротник пиджака и смахнул с волос капли дождя. Часы над лифтом показывали семь шестнадцать. Работать предстояло до десяти, не дольше.
Лифт поднял его на двенадцатый этаж, в общий зал конторы. Немного поплутав в лабиринте пустых столов с зачехленными компьютерами, он добрался до своего крохотного рабочего места, над которым все еще горел свет. Уборщицы уже покинули помещение и теперь переговаривались в коридоре; кроме них здесь никого не было.
Он снял пиджак, стряхнул его, насколько мог, от водяных брызг и повесил на спинку стула.
Затем уселся перед ворохом ордеров, с которыми возился в последние три дня, и принялся за работу. Он хотел побыстрее закончить баланс, а сосредоточиться было легче, когда вокруг не стучали пишущие машинки и не жужжали принтеры.
Развернув пакет с сэндвичами, он достал ломтик ветчины с густым слоем майонеза, а остальное отложил на вечер.
Было девять.
Махогани оделся на ночную работу. На нем был его, обычный строгий костюм с аккуратно заколотым коричневым галстуком; серебряные запонки (подарок первой жены) торчали в манжетах безукоризненно выглаженной сорочки, редеющие волосы были смазаны маслом, ногти острижены и отполированы, а лицо освежено одеколоном.
Его чемоданчик был собран. В нем лежали полотенца, инструмент, крючки и кожаный фартук.
Он придирчиво вгляделся в зеркало. Ему подумалось, что с виду его можно было принять за человека лет сорока пяти, от силы — пятидесяти.
Всматриваясь в собственное лицо, он не переставал думать о своих обязанностях. Кроме всего прочего, ему нужно было соблюдать осторожность. Сегодня ночью к нему будет приглядываться множество глаз. Его вид не должен был вызывать никаких подозрений.
«Если бы они только знали, — подумал он, — те люди, что проходят и пробегают мимо него на улице; те, что наталкиваются, задевают локтями и не извиняются; те, что сочувственно улыбаются ему; те, что посмеиваются за его спиной, глядя на этот мешковатый костюм. Если бы они только знали, кем он был, что делал и что носил с собой!»
Он еще раз предупредил себя о том, что нужно быть осторожным, и выключил свет. Комната погрузилась во мрак. Он подошел к двери и открыл ее, привычный к темноте. Рожденный в ней.
Дождевых облаков уже не было. Махогани направился к станции сабвея на 145-й улице. На эту ночь он выбрал «Авеню оф Америка», свою излюбленную и, как правило, наиболее продуктивную линию.
С жетоном в руке он спустился по лестнице. Прошел через автоматический турникет. В ноздри дохнуло запахом метро. Пока что не из самих туннелей. У тех был свой собственный запах. Но уже этот спертый, наэлектризованный воздух подземного вестибюля — уже он один придавал уверенности. Исторгнутый из легких миллиона пассажиров, он циркулировал в этом кроличьем загоне, смешиваясь с дыханием гораздо более древних существ: созданий с мягкими, как глина, голосами и отвратительными аппетитами. Как он любил все это! И запах, и мрак, и грохот.
Он стоял на платформе и критически рассматривал тех, кто спускался сверху. Его внимание привлекли два или три тела, но в них было слишком много шлаков: далеко не все могли удостоиться охоты. Физическое истощение, переедание, болезни, расшатанные нервы. Тела, испорченные излишествами и плохим уходом. Как профессионала они огорчали его, хотя он и понимал слабости, свойственные даже лучшим из людей.
Он пробыл на станции больше часа, прогуливаясь от платформы к платформе, с которых уходили поезда с людьми. Отсутствие качественного материала приводило его в отчаяние. Казалось, день ото дня предстояло выжидать все дольше и дольше, чтобы найти плоть, пригодную для использования.
Было уже почти половина одиннадцатого, а он еще не видел ни одной по-настоящему идеальной жертвы.
«Ничего, — говорил он себе, — время терпит. Вот-вот толпа народа должна хлынуть из театра. В ней всегда были два-три крепких тела. Откормленные интеллектуалы, перелистывающие программки и обменивающиеся своими соображениями об искусстве, — да, среди них можно было подыскать что-нибудь ценное».
Иначе (бывали же ночи, когда здесь не встречалось ничего подходящего) ему пришлось бы подняться в город и подстеречь за углом какую-нибудь припозднившуюся парочку влюбленных или одного-двух спортсменов, возвращающихся из гимнастического зала. Обычно они поставляли неплохой материал — правда, с подобными экземплярами всегда был риск натолкнуться на сопротивление.
Он помнил, как больше года назад подловил двух черных самцов, различавшихся возрастом чуть не на сорок лет, — может быть, отца и сына. Они защищались с ножами в руках, и он потом шесть недель отлеживался в больнице. Та бешеная схватка заставила его усомниться в своем мастерстве. Хуже — она заставила его задуматься о том, что сделали бы с ним его хозяева, если бы те раны оказались смертельными. Был бы он тогда перевезен в Нью-Джерси, к своей семье, и предан должному христианскому погребению? Или его плоть была бы скинута в этот мрак, на их собственное потребление?
Заголовок «Нью-Йорк Поста», оставленного кем-то на лавке, уже несколько раз попадался на глаза Махогани: «Все силы полиции брошены на поиски убийцы». Он вновь не удержался от улыбки. Сразу исчезли мысли о неудачах, старости и смерти. Как-никак, а ведь именно он был этим человеком, этим убийцей, но предположение об аресте вызывало разве только смех. Ни один полисмен не смог бы отвести его в участок, ни один суд не смог бы вынести ему приговор. Те самые блюстители закона, что с таким рвением изображали его преследование, служили его хозяевам не меньше, чем правопорядку: иногда ему даже хотелось, чтобы какой-нибудь безмозглый легавый схватил его м торжественно предал суду, — посмотрел бы он на их лица, когда из той темноты придет весть о том, что Махогани находится под покровительством высшей власти. Самой высшей: Подземной.
Время близилось к одиннадцати. Поток театралов уже заполнил станцию, но все еще не было ничего примечательного. Он решил пропустить толпу, а потом с одной или двумя особями доехать до конца линии. Как любой настоящий охотник, он умел терпеливо выжидать.
Кауфман не закончил даже к одиннадцати, на час позже установленного им самим срока. Спешка и отчаяние намного затрудняли работу; колонки цифр на бумаге уже давно начали плыть перед глазами. В десять минут двенадцатого он бросил авторучку на стол и признал поражение. Затем тыльными сторонами ладоней протер воспаленные веки.
— Фак ю, — сказал он.
Он никогда не ругался в компании. Но порой это слово было его единственным утешением. Он собрал документы и с влажным пиджаком на локте направился к лифту. От усталости у него ломило спину, глаза слипались.
Снаружи холодный воздух немного взбодрил его. Он пошел к сабвею на 34-й улице. Оставалось лишь поймать экспресс до «Фар Рокуэй». Все. Дорога домой обычно занимала не больше часа.
Ни Кауфман, ни Махогани не знали того, что в это время под пересечением 96-й и Бродвея в поезде, следовавшем из центра, полицейские обезвредили и арестовали человека, которого приняли за подземного убийцу. Европеец по происхождению, довольно щуплый, он был вооружен молотком и пилой, которой грозил во имя Иеговы разрезать пополам молодую женщину, оттесненную им в угол второго вагона.
Едва ли он был способен привести в исполнение свою угрозу. Тем более что такая возможность ему просто не представилась. Пока остальные пассажиры (включая двух морских пехотинцев) следили за развитием событий, потенциальная жертва нападения ударила его ногой в пах. Он выронил молоток. Она подобрала этот инструмент и размозжила им правую скулу обидчика, после чего в дело вступила морская пехота.
Когда поезд остановился на 96-й, «палача сабвея» уже поджидали полицейские. Они ворвались в вагон, крича or ярости и готовые наложить в штаны от страха. Изувеченный «палач» лежал в луже крови. Торжествуя победу, они выволокли его на платформу. Женщина дала показания и поехала домой в сопровождении морских пехотинцев.
Это происшествие сыграло на руку ничего не ведавшему Махогани. Полицейские почти до самого утра не могли установить личность задержанного — главным образом потому, что тот едва шевелил свернутой челюстью и вместо ответов hi вопросы издавал только нечленораздельное мычание. Лишь в половине четвертого на дежурство пришел капитан Девис, который в арестанте узнал бывшего продавца цветов, известного в Бронксе как Хэнк Васерли. Выяснилось, что Хэнка регулярно арестовывали за угрожающее поведение и непристойные выходки, почему-то всегда совершавшиеся во имя Иеговы. Его поступки были обманчивы; сам он был не опасней чем Истер Банки. Он не был Подземным Убийцей. Но к тому времени, когда полицейские удостоверились в этом, Махогани уже давно покончил со своим делом.
В одиннадцать пятнадцать Кауфман вошел в экспресс, следовавший через Мотт-авеню. В вагоне уже были двое пассажиров: пожилая негритянка в лиловом плаще и прыщавый подросток, тупо взиравший на потолок с надписью «Поцелуй мою белую задницу».
Кауфман находился в первом вагоне. Впереди было тридцать пять минут пути. Разморенный монотонным громыханием колес, он прикрыл глаза. Поездка была утомительной, а он устал. Он не видел, как замигал свет во втором вагоне, не видел и лица Махогани, выглянувшего из задней двери.
На 14-й Стрит негритянка вышла. Никто не вошел.
Кауфман приподнял веки, посмотрел на пустую платформа станции и вновь закрыл глаза. Двери с шипением ударились одна о другую. Он пребывал в безмятежном состоянии между сном и бодрствованием; в голове мелькали какие-то зачаточные сновидения. Ощущение было почти блаженным. Поезд опять тронулся и, набирая скорость, помчался в глубь туннеля.
Возможно, подсознательно Кауфман отметил, что дверь между первым и вторым вагонами ненадолго отворилась. Может быть, он почувствовал, как на него дохнуло подземной сыростью, а стук колес внезапно стал громче. Но он предпочел не обращать внимания на перемены обстановки.
Возможно, он даже слышал шум драки, когда Махогани расправлялся с туповатым подростком. Но все эти звуки были слишком далеки, а сон был слишком близок. Он задремал.
По каким-то причинам сновидение перенесло его в кухню матери. Она резала репу и ласково улыбалась, отделяя от овощей крепкие, хрустящие дольки. Во сне он часто оказывался ребенком и видел ее за работой. Хрум. Хрум. Хрум.
Он вздрогнул и открыл глаза. Его мать исчезла. Вагон был пуст.
Как долго продолжалась его дрема? Он не помнил, чтобы поезд останавливался на «Уэст 4-й Стрит». Все еще полусонный, он поднялся и чуть не упал от сильного толчка под ногами. Состав разогнался до едва ли допустимого предела. Вероятно, машинисту не терпелось поскорей очутиться дома, в постели с женой. Они во весь опор летели вперед; было довольно жутковато.
Окно между вагонами затемняли шторы, которых (насколько он помнил) раньше не было. Кауфман окончательно пробудился, и в его мысли закралась смутное беспокойство. Он заподозрил, что спал чересчур долго и служащие метро просмотрели его. Может быть, они уже миновали «Фар Рокуэй», и теперь их состав мчался туда, где поезда оставляют на ночь.
— Фак ю, — вслух сказал он.
Следовало ли ему пройти вперед и спросить машиниста? Вопрос был бы совершенно идиотским: простите, где я нахожусь? Разве в такое время ночи не ожидал бы его в лучшем случае поток ругани вместо ответа?
Затем состав начал тормозить.
Какая-то станция. Да, станция. Поезд вынырнул из туннеля на грязный свет «Уэст 4-й Стрит». Он не пропустил ни одной станции.
Так где же сошел мальчик?
Либо тот проигнорировал предупреждение на стене, запрещающее передвигаться между вагонами во время движения, либо прошел вперед, в кабину управления. Скривив губы, Кауфман подумал, что подросток вполне мог очутиться между ног машиниста. Такие вещи не были неслыханной редкостью. Как-никак, это был Дворец Восторгов, и в нем каждый имел право на свою долю восторгов в темноте.
Кауфман еще раз криво усмехнулся и пожал плечами. Какое ему дело до того, куда направился тот подросток?
Двери закрылись. В поезд никто не сел. Тронувшись со станции, состав перешел на запасной путь, и лампы вагона снова замигали — поезду потребовалась почти вся мощность, чтобы набрать прежнюю скорость.
Кауфмана уже не клонило в сон. Страх потеряться впрыснул немалую дозу адреналина в его артерии; все мышцы сразу напряглись.
Обострились сразу и чувства.
Даже сквозь стук и лязганье колес на стыках он услышал звук разрываемой ткани, доносившийся из второго вагона. Может быть, там кто-нибудь рвал на себе одежду?
Он стоял и держался за поручень, чтобы сохранять равновесие.
Окно между вагонами было полностью зашторено, но он внимательно всматривался в него и хмурился, как если бы внезапно его зрение обрело проницательность рентгеновских лучей. Вагон бросало из стороны в сторону. Состав стремительно мчался вперед. Снова треск материи. Может быть, изнасилование?
Как загипнотизированный, он медленно двинулся в сторону задней двери, надеясь найти какую-нибудь щель в шторе. Его взгляд был все еще прикован к окну, и он не замечал крови, растекшейся на дрожавшем полу.
Затем его нога поскользнулась. Он посмотрел на пол. Его желудок опознал кровь раньше, чем мозг, и выдавленный спазмами комок теста с ветчиной мгновенно подкатил к горлу. Кровь. Сделав несколько судорожных глотков спертого воздуха, он отвел взгляд — назад к окну.
Его рассудок говорил: кровь. От этого слова некуда деться. Между ним и дверью оставалось не больше одного ярда. Ему нужно было заглянуть за нее. На его ботинках была кровь, и кровь узкой полосой тянулась в следующий вагон, но ему все равно нужно было глянуть за дверь. Ему нужно было глянуть за нее.
Он сделал еще два шага и начал исследовать окно, надеясь найти какую-нибудь щель в шторе: ему хватило бы даже микроскопической прорези от нити, случайно вытянутой из ткани. Оказалось, что там было крошечное отверстие. Он приник к нему зрачком.
Его разум отказался воспринять то, что разглядел глаз. Открывшееся зрелище представилось ему какой-то нелепой, кошмарной галлюцинацией. Но если разум отвергал увиденное, то голос плоти убеждал в обратном. Его тело окаменело от ужаса. Глаз, не мигая, смотрел на тошнотворную сцену за шторой. Он стоял перед дверью шаткого грохочущего поезда, пока кровь не отхлынула от его конечностей и голова не закружилась от недостатка кислорода. Багровые вспышки света замелькали перед его взором, затмевая картину содеянного злодейства.
Затем он потерял сознание.
Он был без сознания, когда поезд прибыл на Джей-стрит. Он не слышал, как машинист объявил, что пассажиры, следующие дальше этой станции, должны пересесть в другой состав. Если бы он услышал подобное требование, то мог бы задать вопрос о его смысле. Ни один поезд не высаживал пассажиров на Джей-стрит: эта линия тянулась к Мотт-аве-ню, через Водный Канал и мимо Аэропорта Кеннеди. Он мог бы спросить о том, что же это был за поезд. Мог бы если бы уже не знал. Истина находилась во втором вагоне. Она ухмылялась и подмигивала ему, жалко покачиваясь на окровавленных крючьях.
Это был Полночный Поезд с Мясом.
В глубоком обмороке отсутствует счет времени. Прошли секунды или часы, прежде чем глаза Кауфмана открылись и мысли сосредоточились на его новом положении.
Раньше других у него появилась мысль о том, что судьба благоволила к нему: должно быть, от тряски его бесчувственное тело перекатилось сюда, в единственное безопасное место этого поезда.
Он подумал об ужасах второго вагона и едва подавил в себе рвотные спазмы. Где бы ни находился дежурный по составу (скорее всего, убитый), звать на помощь было невозможно. Но машинист? Лежал ли он мертвым в кабине управления? Мчался ли поезд навстречу гибели в этом неизвестном, нескончаемом туннеле без станций?
Если ему не грозило смертью крушение на рельсах, то был Палач, все еще орудовавший за дверью, перед которой лежал Кауфман.
Что бы ни случилось, эта дверь именовалась: Смерть. Его, Кауфмана, Смерть.
Грохот колес заглушал все звуки — особенно теперь, когда он лежал на полу. От вибрации у Кауфмана ныли зубы; лицо онемело; даже череп болел.
У него уже давно затекли конечности. Чтобы восстановить кровообращение, он принялся осторожно сжимать и разжимать пальцы рук.
Ощущения вернулись вместе с тошнотой. Перед глазами все еще стояла омерзительная картина, увиденная в соседнем вагоне. Конечно, ему приходилось видеть фотографии с мест преступлений; но здесь были необычные убийства. Он находился в одном поезде с Мясником сабвея — монстром, который подвешивал свои жертвы за ноги, нагими и безволосыми.
Как скоро этот убийца должен был выйти из этой двери и окликнуть его? Он был уверен, что умрет — если не от рук Палача, то от мучительного ожидания смерти.
Внезапно за дверью послышалось какое-то движение. Инстинкт самосохранения взял верх. Кауфман забился глубже под сиденье и сжался в крохотный полуживой комок с бледным лицом, повернутым к грязной стене. Он втянул голову в плечи и зажмурил глаза, как ребенок, скрывающийся от кошмаров Богимена.
Дверь начала открываться. Щелк. Чик-трак. Порыв воздуха с рельсов. Запах чего-то незнакомого: незнакомого и холодного. Воздух из какой-то первобытной бездны. Он заставил его содрогнуться.
Щелк — Дверь закрылась.
Кауфман знал, что Мясник был совсем рядом. Без сомнения, тот стоял в нескольких дюймах от сиденья.
Может быть, сейчас он смотрел на неподвижную спину Кауфмана? Или уже занес руку с ножом, чтобы выковырять его отсюда, как улитку, спрятавшуюся в свой жалкий домик?
Ничего не произошло. Он не почувствовал злорадного дыхания в затылок. Лезвие, обагренное чужой кровью, не вонзилось ему под лопатку.
Просто послышалось шарканье ног возле головы; неторопливый, удаляющийся звук.
Сквозь стиснутые зубы Кауфмана вырвался выдох. В легких осталась боль от задержанного в них воздуха.
Махогани почти расстроился от того, что спавший мужчина вышел на Уэст 4-й Стрит. Он рассчитывал заниматься делом вплоть до прибытия к месту назначения. Увы, нет: мужчина пропал. «Впрочем, это тело выглядело не совсем здоровым, сказал он себе, — вероятно, оно принадлежало какому-нибудь малокровному еврею-бухгалтеру. Его мясо едва ли могло быть сколько-нибудь качественным». Успокаивая себя такими мыслями, Махогани пошел через весь вагон, в кабину управления. Он решил провести там оставшуюся часть поездки.
Кауфман задышал судорожными рывками. У него не хватало духа предупредить машиниста о приближающейся опасности.
Послышался звук открываемой двери. Затем низкий и хриплый голос Мясника:
— Привет.
— Привет.
Они были знакомы друг с другом.
— Сделано?
— Сделано.
Кауфман был потрясен банальностью этих реплик. О чем они? Что сделано?
Несколько последующих слов он пропустил из-за того, что поезд загромыхал по рельсам какого-то другого, особенно глухого туннеля.
Больше Кауфман не мог выносить неизвестности. Он осторожно выпрямился и через плечо взглянул в дальний конец вагона. Из-под сиденья виднелись только ноги Палача и нижняя половина открытой двери. Проклятье! У него появилось желание еще раз посмотреть в лицо этого монстра.
Там засмеялись.
Кауфман быстро оценил ситуацию: впал в арифметическую форму паники. Если продолжать оставаться на месте, то Мясник рано или поздно заметит его и превратит в отбивную котлету. С другой стороны, если рискнуть покинуть убежище, то можно оказаться обнаруженным еще раньше. Что хуже: бездействовать и встретить смерть загнанным в нору или попробовать прорваться и испытать Судьбу в середине вагона?
Кауфман сам удивился своей храбрости: он уже отодвинулся от стены.
Не переставая следить за спиной Палача, он медленно выбрался из-под сиденья и пополз к задней двери. Каждый преодоленный дюйм давался ему с мучительным трудом, но Палач, казалось, был слишком увлечен разговором, чтобы оборачиваться.
Кауфман добрался до двери. Затем начал подниматься на ноги, заранее готовясь к зрелищу, которое ожидало его во Втором Вагоне. Дверная ручка поддалась почти без нажима; он отворил дверь.
Грохот колес и смрад, какого никогда не бывало на земле, на мгновение оглушили его. Боже! Наверняка Палач услышал шум или почувствовал запах. Сейчас он обернется.
Но нет. Кауфман проскользнул в дверной проем и через два шага очутился в залитом кровью вагоне.
Чувство облегчения сделало его неосторожным. Он забыл как следует прикрыть за собой дверь, и она, качнувшись вместе с поездом, распахнулась настежь.
Махогани повернул голову и внимательно оглядел ряды сидений.
— Что за черт? — спросил машинист.
— Не захлопнул дверь, вот и все.
Кауфман услышал, как Палач подошел к двери. Всем телом вжавшись в торцевую стену и оцепенев от ужаса, он внезапно подумал о том, что его мочевой пузырь переполнен. Дверь затворилась, и шаги начали удаляться.
Опасность вновь миновала. Теперь по крайней мере можно было перевести дыхание.
Кауфман открыл глаза, стараясь не смотреть на то, что находилось перед ним.
Этого невозможно было избежать.
Это заполоняло все его чувства: запах выпотрошенных внутренностей; вид багрово-красных тел; ощущение липких сгустков на его ладонях, которыми он опирался на пол, когда полз; скрип крючьев и веревок, вытягивавшихся под тяжестью трупов; даже воздух, разъедавший небо соленым привкусом крови. Он угодил в жилище смерти, на всей скорости мчавшееся сквозь тьму.
Но тошноты уже не было. Остались только редкие приступы головокружения. Неожиданно он поймал себя на том, что с некоторым любопытством разглядывал тела.
Ближе всего были останки того прыщеватого подростка, которого он встретил в первом вагоне. Его труп, подвешенный за ноги, при каждом повороте поезда раскачивался в такт с тремя другими, видневшимися поодаль: омерзительный танец смерти. Руки мертвецов болтались, как плети: под мышками были сделаны глубокие надрезы, чтобы тела висели ровнее.
Все анатомические части подростка гипнотически колыхались. Язык, вывалившийся из открытого рта. Голова, подергивавшаяся на неестественно длинной шее. Даже пенис, перекатывавшийся из стороны в сторону по выбритому лону. Из большой раны в затылке кровь капала в черное пластиковое ведро, предусмотрительно подставленное снизу. Во всем этом было нечто от элегантности: печать хорошо выполненной работы.
Немного дальше висели трупы двух белых женщин и одного темнокожего мужчины. Кауфман наклонил голову, чтобы разглядеть их лица. Они были полностью обескровлены. Одна из девушек еще недавно была настоящей красавицей. Мужчина показался ему пуэрториканцем. Все головы и тела были тщательно острижены. Волосы лежали в отдельном пластиковом пакете. Кауфман отодвинулся от стены, и как раз в этот момент тело женщины повернулось к нему спиной.
Он не был готов к такому ужасу.
Ее спина была разрезана от шеи до ягодиц; в рассеченных мускулах сверкала белая кость позвоночника. Это был отточенный штрих Мастера, финальное торжество его искусства.
О, жалкие человеческие останки, безволосые, истекшие кровью, распоротые, как рыбы, предназначенные для не менее жуткого пожирания.
Кауфман почти рассмеялся над законченностью своего ужаса. Он чувствовал, как им овладевало безумие, сулившее помутненному рассудку забвение и полное безразличие к окружающему миру.
Он чувствовал, как стучали его зубы; как тряслось все тело. Он знал, что его голосовые связки пытались издать какое-то подобие крика. Ощущение было невыносимым: только способность кричать еще отличала его от того, что находилось перед ним, и она могла в несколько секунд превратить его в такую же окровавленную, неодушевленную массу.
— Фак ю, — сказал он громче, чем намеревался.
Затем плечом оттолкнулся от стены и пошел по вагону, разглядывая аккуратные стопки одежды на сидениях. Слева и справа мерно раскачивались трупы. Пол был липким от высыхающей желчи. И даже сквозь прищуренные веки он слишком отчетливо видел кровь в пластиковых ведрах: она была черной и густой, с тяжело колебавшимися световыми бликами.
Он миновал тело подростка. Впереди была дверь в третий вагон. Путь к ней пролегал между двумя рядами воплощенных кошмаров его вчерашней и позавчерашней жизни. Он старался не замечать их, сосредоточившись на дороге, которая должна была вывести его из этого невменяемого состояния.
Он прошел мимо первой женщины. Он знал, что ему нужно было пройти всего лишь несколько ярдов; не больше десяти шагов, если ничего не случится.
Затем погас свет.
— О, Боже, — простонал он.
Поезд качнуло, и Кауфман потерял равновесие.
В кромешной тьме он взмахнул руками и ухватился за висевшее рядом тело. Ладони ощутили холодную и скользкую плоть, пальцы погрузились в рассеченные мышцы на спине женщины, ногти вцепились в столб позвоночника, царапая его, как громадную рыбью кость. Щека вплотную прижалась к липкой поверхности бедра.
Он закричал; его крик еще не затих, когда начали вновь зажигаться лампы на потолке.
Неоновые трубки еще мигали, не успев разгореться своим ровным мертвенным свечением, когда из первого вагона послышались шаги Палача.
Его руки выпустили тело, за которое держались. Лицо было вымазано еще не свернувшейся трупной кровью. Он ощутил ее у себя на щеке: как воинственную раскраску индейца.
Крик привел его в чувство — и неожиданно придал силы. Он понял, что бегство не спасло бы его: в этом поезде он не скрылся бы от преследования. Предстояла примитивная схватка двух человек, встретившихся лицом к лицу в логовище смерти. И он был готов не раздумывая воспользоваться любым средством, которое помогло бы ему уничтожить противника. Это был вопрос выживания, простой и ясный.
Дверная ручка начала поворачиваться.
Кауфман быстро огляделся в поисках какого-нибудь оружия. Мозг лихорадочно, но четко просчитывал возможные варианты обороны. Внезапно взгляд упал на аккуратную стопку одежды возле тела пуэрториканца. На ней лежал нож с рукояткой, инкрустированной под золото. Длинное, безукоризненно чистое лезвие. Почти кинжал; вероятно, гордость бывшего владельца. Шагнув вперед, Кауфман подобрал нож с сиденья. С оружием в руке, он почувствовал себя увереннее; пожалуй, даже — веселее.
Дверь стала отворяться. Показалось лицо убийцы.
Их разделяли два ряда раскачивавшихся трупов. Кауфман пристально посмотрел на Махогани. Тот не был чересчур безобразен или ужасен с виду. Всего лишь лысеющий, грузный мужчина лет пятидесяти. Тяжелая голова с глубоко посаженными глазами. Небольшой рот с изящной линией губ. Совершенно неуместная деталь: у него был женственный рот.
Махогани не мог понять, откуда во втором вагоне появился незваный гость, но осознавал, что допустил еще один просчет, еще одну промашку, свидетельствующую об утере былой квалификации. Он должен был немедленно распотрошить этого маленького человечка. Как-никак, до конца линии осталось не более одной-двух миль. Новую жертву предстояло разделать и повесить за ноги прежде, чем они прибудут к месту назначения.
Он вошел во второй вагон.
— Ты спал, — узнав Кауфмана, сказал он. — Я видел тебя.
Кауфман промолчал.
— Тебе следовало бы сойти с этого поезда. Что ты здесь делал? Прятался от меня?
Кауфман продолжал молчать.
Махогани взялся за рукоятку большого разделочного ножа, торчавшего у него за поясом. Из кармана фартука высовывались молоток и садовая пила. Все инструменты были перепачканы кровью.
— Раз так, — добавил он, — мне придется покончить с тобой.
Кауфман поднял правую руку. Его нож выглядел игрушкой по сравнению с оружием Палача.
— Фак ю, — сказал он.
Махогани ухмыльнулся. Попытка сопротивления казалась ему просто смешной.
— Ты не должен был ничего видеть. Это не для таких, как ты, — проговорил он, шагнув навстречу Кауфману. — Это тайна.
В голове Кауфмана промелькнули отрывочные воспоминания о варварских жертвоприношениях, о которых он читал еще в школе. Они кое-что объясняли.
— Фак ю, — снова сказал он.
Палач нахмурился. Ему не нравилось подобное безразличие к его работе и репутации.
— Все мы когда-нибудь умрем, — негромко произнес он — Тебе повезло больше, чем другим. Ты не сгоришь в крематории, как многие из них: я могу использовать тебя, чтобы накормить твоих праотцев.
Кауфман усмехнулся в ответ. Он уже не испытывал суеверного ужаса перед этим тучным, неповоротливым мясником.
Палач вытащил из-за пояса нож и взмахнул им. — Маленькие грязные евреи вроде тебя, — сказал он, — должны быть благодарны, если от них есть хоть какая-то польза. Ты пригоден только на мясо!
Бросок был сделан без предупреждения. Широкое лезвие стремительно рассекло воздух, но Кауфман успел отступить назад. Оружие Палача распороло рукав его пиджака и с размаху погрузилось в голень пуэрториканца. Под весом тела глубокий надрез стал расползаться. Открывшаяся плоть была похожа на свежий бифштекс: сочный и аппетитный.
Палач начал вытаскивать свое орудие из ноги трупа, и в этот момент Кауфман кинулся вперед. Он метил в глаз Махогани, но промахнулся и попал в горло. Острие ножа насквозь пронзило шейный позвонок и узким клином вышло с той стороны шеи. Насквозь. Одним ударом. Прямо насквозь.
У Махогани появилось такое ощущение, будто он чем-то подавился — будто у него в горле застряла куриная кость. Он издал нелепый, нерешительный, кашляющий звук. На губах выступила кровь — окрасившая их, как помада у женщины, пользующейся слишком яркой косметикой. Тяжелый нож со звоном упал на пол.
Кауфман отдернул руку. Из двух ран заструилась кровь.
Удивленно опершись на оружие, которое убило его, Махогани опустился на колени. Маленький человечек безучастно смотрел на него. Он что-то говорил, но Махогани был глух к словам: будто находился под водой.
Внезапно Махогани ослеп. И с ностальгией по утраченным чувствам, понял, что уже никогда не будет слышать или видеть. Это была смерть: она обхватывала его со всех сторон.
Его руки еще ощущали горячий и влажный воротник сорочки. Его жизнь еще колебалась, привстав на цыпочки перед черной бездной, пока пальцы еще цеплялись за это последнее чувство… затем тело тяжело рухнуло на пол, подмяв под себя его руки, священный долг и все, что казалось таким важным.
Палач был мертв.
Кауфман глотнул спертого воздуха и, чтобы удержаться на ногах, ухватился за поручень. Его колотила дрожь. Из глаз хлынули слезы. Они текли по щекам и подбородку и капали в лужу крови на полу. Прошло какое-то время: он не знал, как долго простоял, погруженный в апатию своей победы.
Затем поезд начал тормозить. Он почувствовал и услышал, как по составу прокатилось лязганье сцеплений. Висящие тела качнулись вперед, колеса прерывисто заскрежетали по залитым слизью рельсам.
Кауфманом завладело смутное любопытство.
Свернет ли поезд в какое-нибудь подземное убежище, украшенное коллекцией мяса, которое Палач собрал за свою карьеру? А этот смешливый машинист, такой безразличный к сегодняшней бойне, — что он будет делать, когда поезд остановится? Но что бы ни случилось, вопросы были чисто риторическими. Ответы на них должны были появиться с минуты на минуту.
Щелкнули динамики. Голос машиниста:
— Дружище, мы приехали. Не желаешь занять свое место, а?
Занять свое место? Что бы это значило?
Состав сбавил ход до скорости черепахи. За окнами было по-прежнему темно. Лампы в вагоне замигали и погасли. И уже не зажигались.
Кауфман очутился в кромешной тьме.
— Поезд тронется через полчаса, — объявили динамики, точно на какой-нибудь обычной линии.
Состав двигался только по инерции. Стук колес на стыках, к которому так привык Кауфман, внезапно исчез. Теперь он не слышал ничего, кроме гула в динамиках. И ничего не видел.
Затем — шипение. Очевидно, открывались двери. Вагон заполнялся каким-то запахом: таким едким, что Кауфман зажал ладонью нижнюю часть лица.
Ему показалось, что он простоял так целую вечность — молча, держа рот рукой. Боясь что-то увидеть. Боясь что-нибудь услышать. Боясь что-нибудь сказать.
Затем за окнами замелькали блики каких-то огней. Они высветили контуры дверей. Они становились все ярче. Вскоре света было уже достаточно, чтобы Кауфман мог различить тело Палача, распростертое у его ног, и желтоватые бока трупов, висевших слева и справа.
Из гулкой темноты донесся какой-то слабый шорох, невнятные чавкающие звуки, похожие на шелест ночных бабочек. Из глубины туннеля к поезду приближались какие-то человеческие существа. Теперь Кауфман мог видеть их силуэты. Некоторые из них несли факелы, горевшие мутным коричневым светом. Шуршание, вероятно, издавали их ноги, ступавшие по слою ила; или, может быть, их причмокивающие языки; а может, то и другое.
Кауфман был уже не так наивен, как час назад. Можно ли было сомневаться в намерениях этих существ, вышедших из подземной мглы и направлявшихся к поезду? Палач сабвея убивал мужчин и женщин, заготавливая мясо для этих каннибалов; и они приходили сюда, как на звон колокольчика в руке камердинера, чтобы пообедать в вагоне-ресторане.
Кауфман нагнулся и поднял нож, который выронил Па-дач. Невнятный шум становился громче с каждой секундой. Он отступил подальше от открытых дверей обнаружил, что противоположные двери тоже были открыты и за ними тоже слышался приближающийся шорох.
Он отпрянул. Он уже собирался укрыться под одним из сидений, когда в проеме ближней двери показалась рука — такая худая и хрупкая, что она выглядела почти прозрачной.
Он не мог отвести взгляда. Но его охватил не ужас, как у окна. Им снова завладело любопытство.
Существо влезло в вагон. Факелы, горевшие сзади, отбрасывали тень на его лицо, но очертания фигуры отчетливо вырисовывались в дверном проеме.
В них не было ничего примечательного.
Оно было таким же двуруким, как и он сам. Голова была обычной формы, тело — довольно хилым. Забравшись в поезд, оно хрипло переводило дыхание. В его одышке сказывалась скорее врожденная немощь, чем минутная усталость; поколения людоедов не наделили его физической выносливостью. Пожалуй, в нем было что-то изначально старческое.
Сзади из темноты поднимались силуэты таких же существ. Больше того — они карабкались во все двери.
Кауфман очутился в ловушке. Взвесив в руке нож, примерившись к его центру тяжести, он приготовился к Схватке с этими дряхлыми чудовищами. Одно из них принесло с собой факел, и лица остальных озарились неровным светом.
Они были абсолютно лысыми. Их иссушенная плоть обтягивала черепа так плотно, что, казалось, просвечивала насквозь. Кожу покрывали лишаи и струпья, а местами из черных гнойников выглядывала лобная или височная кость. Некоторые из них были голыми как дети, — с сифилитическими, почти бесполыми телами. Болтались сморщенные гениталии.
Еще худшее зрелище, чем обнаженные, представляли те, кто носил покровы одежды. Кауфману не пришлось напрягать воображение, чтобы догадаться, из чего были сделаны полуистлевшие рваные лоскуты, наброшенные на плечи и повязанные вокруг их животов. Напяленные не по одному, а целыми дюжинами или даже больше, как некие патетические трофеи.
Предводители этого гротескного факельного шествия уже достигли висящих тел и с видимым наслаждением поглаживали своими тонкими пальцами их выбритую плоть. В разинутых ртах плясали языки, брызгавшие слюной на человеческое мясо. Глаза метались из стороны в сторону, обезумев от голода и возбуждения.
Внезапно один из монстров заметил Кауфмана. Его глаза перестали бегать и неподвижно уставились на незнакомца. На лице появилось вопросительное выражение, сменившееся какой-то пародией на замешательство.
— Ты, — пораженно протянул он.
Возглас был таким же тонким, как и губы, издавшие его.
Мысленно прикидывая свои шансы, Кауфман поднял руку с ножом. В вагоне было десятка три чудовищ — гораздо больше находилось снаружи. Однако они выглядели совсем слабыми, и у них не было никакого оружия — только кожа да кости.
Оправившись от изумления, существо заговорило снова. В правильных модуляциях его голоса зазвучали нотки некогда обаятельного и культурного человека:
— Ты приехал с остальными, да?
Оно опустило взгляд и увидело тело Махогани, Ему понадобилось не больше двух-трех секунд, чтобы уяснить ситуацию.
— Ладно. Слишком старый, — объявило оно и, подняв водянистые глаза на Кауфмана, принялось осторожно изучать его.
— Фак ю, — сказал Кауфман.
Существо попыталось улыбнуться. Забытая техника этого мимического упражнения проявилась в гримасе, оскалившей два ряда острых зубов.
— Теперь ты должен будешь делать это для нас, — проговорило оно, и его ухмылка стала плотоядной. — Мы не можем жить без мяса.
Его рука похлопала одно из человеческих тел. Кауфман не знал, что ответить. Он с отвращением следил за пальцами монстра, скользнувшими в щель между ягодиц и ощупывавшими выпуклую мякоть.
Оно нам так же отвратительно, как и тебе, — добавило чудовище. — Но мы обязаны есть это мясо. Чтобы не умереть. Господь знает, что оно не вызывает у меня аппетита.
Все-таки у монстра было какое-то чувство юмора. К Кауфману вернулся дар речи. Он удивленно вслушался в собственный голос — в нем было больше смятения, чем страха.
— Кто вы? — Он вспомнил бородача из кафе. — Что с вами произошло? Какой-нибудь несчастный случай?
— Мы — отцы Города, — сказало существо, — и матери, и дочери, и сыновья. Строители, творцы законов. Мы создали этот город.
— Нью-Йорк? — спросил Кауфман, вспомнив Дворец Восторгов.
— Задолго до твоего рождения, до рождения всех живущих.
Продолжая разговаривать, оно засунуло пальцы в рану висящего тела и начало ногтями раздирать жировую ткань под его обритой поверхностью. За спиной Кауфмана послышались восторженные возгласы и звон крючьев, освобождаемых от трупов. Там тоже снимали кожу — с таким же деловитым возбуждением, с каким на скотобойне освежевывают туши телят.
— Ты принесешь нам больше, — сказал отец Города. — Больше мяса. Предыдущий был слишком слаб.
Не веря своим ушам, Кауфман уставился на него.
— Я? — наконец выговорил он. — Кормить вас? За кого ты меня принимаешь?
Хрупкая рука протянулась в сторону окна.
Последовав за этим указующим жестом, взгляд Кауфмана вонзился во мрак. Совсем рядом с поездом находилось нечто такое, чего он до сих пор не видел: гораздо большее, чем что-либо человеческое.
Существа расступились, чтобы Кауфман мог подойти и рассмотреть поближе то, что было снаружи. Однако его ноги не двигались с места.
— Иди, — сказал отец.
Кауфман подумал о городе, который любил. В самом деле они были его старейшинами, его философами и создателями?
Ему верилось в это. Возможно, там, на поверхности, преспокойно жили люди бюрократы, политики, представители всех видов власти, — которые знали эту страшную тайну и все время поддерживали существование этих чудовищных тварей; кормили их, как дикари выкармливают ягнятами своих богов. Так ужасающе отлажен был начинавшийся ритуал. Он, словно удар колокола, изнутри потряс Кауфмана. Он отозвался не в сознании, а в более глубокой, более древней его части: в его существе.
Его ноги, больше не подчинявшиеся рассудку и повиновавшиеся только инстинкту поклонения, сделали шаг вперед. Он прошел сквозь коридор тел и вышел из вагона.
Зыбкие огни факелов едва освещали мглу, простирающуюся снаружи. Воздух казался почти окаменелым; таким крепким и застоявшимся был смрад первобытной тверди. Но Кауфман не чувствовал запахов. Он нагнул голову — только так он мог бороться с новым приближающимся обмороком.
Вот где он был: предшественник человека. Самый первый американец, чей дом находился здесь задолго до Алгонкинов или Шауни. Его глаза — если у него были глаза — смотрели на Кауфмана.
У Кауфмана затряслось тело; мелкой дробью застучали зубы.
Он различил звуки, доносящиеся из утробы этого исполинского чудища: пыхтение, хруст.
Оно пошевелилось в темноте.
Даже шум его движения был способен вызвать благоговейный страх. Точно гора — вспучилась и осела.
Внезапно подбородок Кауфмана задрался кверху, а сам он, не раздумывая о том, что и для чего делает, повалился на колени, в липкую жижу перед Прародителем Отцов.
Вся его прожитая жизнь вела к этому дню. Все бессчетные мгновения складывались в ней для этого момента священного ужаса — ужаса, который полностью подавил его.
Если бы в этой доисторической пещере было достаточно света, чтобы полностью разглядеть увиденное, то его трепещущее сердце, вероятно, разорвалось бы на части. Он чувствовал, как надсадно гудели мышцы у него в груди.
Оно было громадно. Без головы и конечностей. Без каких-либо черт, сравнимых с человеческими, без единого органа, назначение которого можно было бы определить. Оно было похоже на все, что угодно, и напоминало стаю. Тысячу больших и малых рыб, сгрудившихся в один o6i организм: ритмично сокращавшихся, жевавших, чавкавших. Оно переливалось множеством красок, цвет которых глубже, чем любой из знакомых Кауфману.
Все, что видел Кауфман, и было больше того, что он хотел видеть. И еще больше оставалось скрытым в темноте: колыхавшимся и вздрагивавшим в ней.
Не в силах смотреть, Кауфман отвернулся. И краем глаза заметил, что из поезда вылетел футбольный мяч, шлепнувшийся в лужу перед Прародителем.
Он думал, что это был футбольный мяч, пока не вгляделся и не узнал в нем человеческую голову. Голову Палач его лица были содраны широкие лоскуты. Блестя от крови голова замерла возле Повелителя.
Кауфман отвел взгляд и пошел обратно в вагон. Все тело содрогалось, как от рыданий, и только глаза не могли оплакать прошлую жизнь. Слишком много испепеляющей ярости оставалось у него за спиной — она иссушила все слезы.
Внутри уже началось пиршество. Одно существо склонилось над трупом женщины и выковыривало нежную студенистую мякоть из глазницы. Другое засунуло руку в ее рот. У двери лежало обезглавленное тело Палача; из обрубленной шеи все еще струилась кровь.
Перед Кауфманом стоял тот низкорослый отец Города, который недавно говорил с ним.
— Будешь служить нам? — спросил он с такой кротость с какой можно попросить корову пойти за человеком.
Кауфман уставился на тяжелый нож Палача, символ службы. Существа покидали поезд, волоча за собой подует денные тела. Когда унесли факелы, вагон снова стал погружаться во мрак.
Перед тем как огни полностью исчезли в темноте, он шагнул вперед и, обхватив ладонью голову Кауфмана, повернул его лицо к грязному стеклу вагонного окна. Отражение было мутным, но Кауфман мог различить насколько он изменился внешне. Мертвенно бледный, заляпанный гримом крови. Рука существа еще не выпускала лица Кауфмана, a пальцы уже проникли в его рот, залезая все дальше в горло и царапая ногтями гортань. Кауфмана тошнило, но у него не было воли противиться этому вторжению.
— Служи, — сказало существо. — Молча.
Слишком поздно Кауфман осознал намерение этих пальцев.
Внезапно его язык был крепко сжат, повернут вокруг корня. Оцепенев, Кауфман выронил нож. Он силился закричать, но не сумел издать ни звука. В его горле бурлила кровь, он слышал, как чужие когти раздирали его плоть — и окаменел от боли. Затем рука вылезла наружу и застыла перед его лицом, держа большим и указательным пальцами его багровый, покрытый пеной язык.
Кауфман навсегда утратил способность говорить.
— Служи, — повторил отец и, отправив его язык себе в рот, с явным удовольствием начал жевать.
Кауфман упал на колени, изрыгая потоки крови и остатки сэндвича. Отец заковылял прочь, в темноту; остальные старцы уже исчезли в своей пещере, чтобы остаться в ней до следующей ночи.
Щелкнули динамики.
— Возвращаемся, — возвестил машинист.
С шипением захлопнулись двери, загудели электродвигатели. Лампы замигали, погасли и снова зажглись.
Поезд тронулся.
Кауфман лежал без движения, а по его лицу текли слезы — слезы покорности и смирения. Он решил, что истечет кровью и умрет на этом липком полу. Смерть его не пугала. Этот мир был отвратителен.
Его разбудил машинист. Он открыл глаза. Над ним склонилось черное негритянское лицо. Оно дружелюбно улыбалось. Кауфман хотел что-то сказать, но его рот был залеплен спекшейся кровью. Он замотал головой, как слюнявый дегенерат, старающийся произнести какое-нибудь слово. У него не выходило ничего, кроме мычания и хрюканья.
Он не умер. Он не истек кровью.
Машинист усадил его к себе на колени, обращаясь и разговаривая с ним так, будто он был трехлетним ребенком:
— У тебя будет важная работа, дружище: они очень довольны тобой.
Он облизал свои пальцы и прикоснулся к опухшим губам Кауфмана, пробуя разлепить их:
— До ночи нужно многому научиться…
Многому научиться. Многому научиться.
Он вывел Кауфмана из поезда. Они находились на станции, подобной которой тот еще никогда не видел. Платформу окружала первозданная белизна кафеля: безукоризненная нирвана станционных служителей. Стены не были обезображены корявыми росписями. Не было сломанных турникетов; но не было и эскалаторов или лестниц. У этой линии было только одно назначение: обслуживать Полночный Поезд с Мясом.
Рабочие утренней смены уже смывали кровь с сидений и пола поезда. Двое или трое уже снимали одежду с тела Палача, готовя его к отправке в Нью-Йорк. Все люди были заняты работой.
Сквозь решетку в потолке струился мутный поток утреннего света. В нем клубились мириады пылинок. Они падали и снова взвивались, как будто старались взобраться вверх, против светового напора. Кауфман восторженно следил за их дружными усилиями. Такие чудесные зрелища ему встречались только в раннем детстве. Волшебные пылинки. Вверх и вниз, вверх и вниз.
Наконец машинисту удалось разлепить его губы. Изувеченный и онемевший рот еще не двигался, но, по крайней мере, уже можно было вздохнуть полной грудью. И боль уже начала утихать.
Машинист улыбнулся ему, а потом повернулся к работавшим на станции.
— Хочу представить вам преемника Махогани. Он наш новый Мясник, — объявил он.
Рабочие посмотрели на Кауфмана. Их лица выразили несомненное почтение, которое он нашел довольно трогательным.
Кауфман поднял глаза на потолок, где квадрат света становился все ярче. Мотнув головой, он показал, что хочет выйти наверх, на свежий воздух. Машинист молча кивнул и повел его через небольшую дверь, а потом по узкой лестнице, выходящей на тротуар.
Начинался хороший, погожий день. Голубое небо над Нью-Йорком было подернуто тающей пеленой бледно-розовых облаков. Отовсюду веяло запахом утра.
Улицы и авеню были почти совсем пустыми. Вдали через перекресток проехал автомобиль, едва проурчавший двигателем и сразу скрывшийся за поворотом; по противоположной стороне дороги трусцой пробежал пожилой мужчина в спортивном костюме.
Очень скоро эти безлюдные тротуары должны были заполниться толпами народа. Город продолжал жить в неведении: не подозревая о том, на чем был построен и кому обязан своим существованием. Без малейшего колебания Кауфман встал на колени и окровавленными губами поцеловал грязный бетон. Он давал клятву верности этому вечному творению.
Дворец Восторгов снисходительно принял его поклонение.