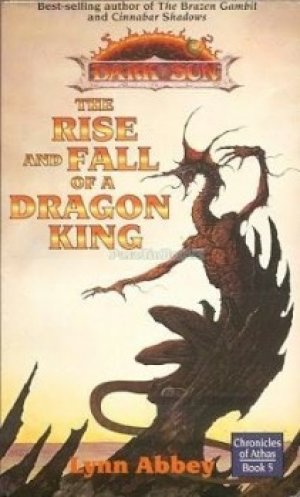
Первая Глава
Безымянные звезды искрились в небе над древним городом Уриком, бросая бледный свет на темно-фиолетовые поля, серебряный шелк каналов и россыпь огоньков рыночных деревень, кольцом окружавших его. По всему протяжению высоких и длинных, в милю длиной, стен города-квадрата были вырезаны серые и черные барельефы, представлявшие Короля-Волшебника Хаману, Льва Урика. С мечом в одной руке и скипетром в другой, он внимательно глядел на свои владения, защищая их от врагов.
С барельефов смотрели блестящие, желто-зеленые глаза, в холодном полуночном воздухе казавшиеся блестящими соринками, но соринками особого цвета, в смысле которого невозможно было ошибиться. Их сияние можно было видеть даже на расстоянии дня пути от Урика, за орошаемыми полями. Эти глаза были маяками для честных путников, путешествующих в ночное, более холодное время, и предостережение для разбойников и завистливых завоевателей: Лев из Урика никогда не спит, никогда не закрывает своих глаз. Город Короля Хаману невозможно застать врасплох или вырвать из его безжалостной хватки.
Внутри стен города, где глаза-геммы не светили, мужчины и женщины, носящие туники такого же желто-зеленого цвета, смотрели за выполнением законов их короля, поддерживали мир их короля, и это было достаточно просто. В Урике было не слишком много законов, и они редко менялись. Комендантский час, к примеру, не отменялся с тех пор как появился, тысячу лет назад: между появлением десятой звезды после заката солнца и началом нового дня никакой гражданин — мужчина или женщина, ребенок или раб — не имел права поставить ногу на булыжники улиц Урика. При свете звезд темплары короля не должны были видеть никого, за исключением самих себя.
Но от начала времени — задолго до того, как Король-Лев перешагнул через стены Урика — королевские законы применялись только к его законопослушным подданным. Мудрые короли добивались того, что мудрые люди подчинялись охотно. Еще более мудрые короли узнали, что не только никакая сеть законов не может управлять всеми жителями, но даже стремиться к этому бессмысленно. Король Хаману разрешал каждую ночь кипеть горшку ночной жизни на Улицах Урика, и за тысячу лет он взрывался не больше дюжины раз.
— Стой! — скомандовал одетый в желтое темплар, отделившись от группы точно так же одетых мужчин и женщин. Здесь, на расстоянии плевка от Эльфийского Рынка Урика, миньоны Короля Хаману очень заботились о своей собственной безопасности, и обычно ходили группами по трое-четверо, редко парами и никогда по одиночке — особенно ночью.
Пара рабов-мулов, державшая на могучих плечах роскошный портшез, немедленно, но плавно остановилась, чтобы не потревожить откинувшего на подушки пассажира. Еще четыре раба с зажженными факелами встали вокруг них, осветив все вокруг переливающимся светом. Мулы аккуратно поставили носилки на булыжную мостовую. Они выдернули шесты, сделанные из твердого дерева, из скоб носилок и встали в ожидании, прижав шесты к левой части мускулистой груди.
— Кто нарушает королевский комендатский час? — грозно спросил темплар. Серьезность его тона совершенно противоречила дружеским шуткам, которыми продолжали обмениваться его товарищи.
На редкость непривлекательная на вид женщина-полуэльф, которая была главной среди рабов, державших факелы в руках, посмотрела сверху вниз на человека-темплара с нашивкой четвертого ранга на левом рукаве. — О Великий, мы несем Лорда Урсоса, — доверительно ответила она.
Она говорила без малейшего акцента, не считая уличногого выговора Урика, пока не дошла до имени своего хозяина, которое произнесла отчетливо растягивая слога, как говорят в далеком Драе. Было бы совершенно невероятно, если бы оказалось, что аристократ из Драя действительно едет по улицам Урика в комендантский час — особенно в нынешние смутные времена, когда вместе с исчезновением Дракона исчез и друг-соперник Короля Хаману, король-волшебник Драя, Тектактитлей.
Темплар недовольно засопел. Кто бы не находился в портшезе, его имя — или ее имя — скорее всего было не Урсос.
— По чьему разрешению Лорд Урсос нарушает комендатский час? — продолжил он.
Полуэльф переложила факел в левую руку. Она была невооружена, как и ее пятеро товарищей-рабов: согласно еще одному закону Хаману, всем гражданам, включая лордов, путешествующих в портшезах, запрещалось иметь оружие. И тем более рабам. Оружие было привелегией темпларов. У темплара четвертого ранга был посох, который, однако, был по меньшей мере вдвое короче, чем твердые шесты мулов, а посох женщины-полуэльфа опасно напоминал боевую дубину гладиатора, особенно учитывая кожу, обвивавшую его рукоятку и камень, по форме напоминавший яйцо, привязанный к основанию.
Темплар повторил, — По чьему разрешению Лорд Урсос нарушает комендатский час? — на этот раз громче и с тревогой в голосе.
Его подпирающие стену товарищи наконец-то оторвались от своего разговора. Правая рука рабыни исчезла в складках напоминавшего маленькую воронку от вихря рукава. В лунном свете над местом событий повисло напряжение, которое разрядилось, когда из воронки появился небольшой кожаный кошелек, который темплар передал своему товарищу на проверку.
— По вашему разрешению, Великий.
— Все в порядке, — объявил темплар, проверивший кошелек, и вытащил оттуда две металлические монеты, прежде, чем передать кошелек другим.
— Хорошо, но имей в виду, что Лев будет смотреть и на тебя, и на твоего лорда, — сказал первый темплар и вернулся к своим товарищам.
— И на вас, Великий, — тихонько выругалась женщина-рабыня.
Портшез и эскорт остановились, едва оказавшись на Эльфийском Рынке. Не колеблясь, вся команда резко повернулась и исчезла в переулке, о чьем существовании нельзя было даже заподозрить в свете хороших смоляных факелов, не говоря уже о намного меньших, которые несли четверо. Они прошли несколько шагов в темноте и тесноте, потом остановились опять. Полуэльф постучала, раздался гулкий, похожий на барабан звук, четырехугольная дверь открылась, красный свет внезапно осветил все вокруг. Мулы пронесли портшез через порог. Эскорт потушил свои факелы и закрыл дверь за собой.
Внутри, в вестибюле тот, кто был в портшезе, встал со своего кресла. Его лицо закрывала простая, ничем не украшенная маска, тело было закутано в просторный плащ. Проще было сказать, какой расе Лорд Урсос не принадлежал — ни халфлинг, ни дварф, ни мул и ни чистокровный эльф — чем сказать, кто он такой и какого пола.
Скрюченный раб, открывший дверь, поторопился убраться прочь, когда увидел портшез с эскортом. Он вернулся вместе с другим рабом, более высокопоставленным, одетым в переливающиеся льняные одежды, чей пол можно было определить мгновенно и без ошибки. Тихим голосом она указала эскорту, где оставить портшез, а потом отправила их в коридор к двери, которая вела в шумную таверну. Когда эскорт вышел, в вестибюле опять стало тихо — тишина настолько внезапная и абсолютная, что можно было заподозрить магию в воздухе. Не нарушая этой сверхъестественной тишины рабыня повела замаскированного Лорда Урсуса вниз по узкой винтовой лестнице к двери с занавесом. Низко поклонившись перед занавесом, она грациозно протянула руку вперед к нему, но сама осталась на месте, не сделав ни шага, чтобы пройти через разноцветные шелковые занавески.
Лорд Урсус прошел мимо нее, одной рукой снимая с себя плащ, а второй маску, и через шелк вошел на верхнюю галерею подземного амфитеатра. Это был поджарый и жилистый человек, с впалыми чертами лица, на котором многочисленные страсти оставили свои следы. С настояшим презрением аристократа, он бросил свою верхнюю одежду рабу, стоявшему на верхушке лестницы амфитеатра. Раб затрептал, его руки наполовину вытянулись вперед.
— Милорд, — беспокойно прошептал он. — Где-? — раб оборвал сам себя, рабам не подобает задавать вопросы, тем более аристократам. — Вы-? — и опять оборвал себя, в очевидном отчаянии. Никто, даже элегантный лорд, не имеет право входить в это место без приглашения.
Лорд Урсус понял. Снисходительно улыбнувшись, с грацией танцора, он сделал рукой изящный жест. Когда раб опять увидел руку, между кончиками большого пальца и указательного был зажат маленький керамический медальон, в форме звезды.
— Ах-. — Раб улыбнулся в ответ, когда медальон оказался в его руках. Он расслабился и вздохнул полегче. — Ваше место уже приготовлено, милорд. Не соблагоизволит ли милорд просто последовать за мной-?
Место действительно было готово, место в первом ряду, рядом с перилами, ограждавшими круглую яму с темным песочным полом, которая освещалась светом висевших на стенах факелов. Еще один раб, шедший за ними по крутым ступенькам амфитеатра, предложил лорду неглубокой бокал, наполненный густой поблескивающей жидкостью. Лорд отказался, не менее изящным жестом, и носитель бокала побежал назад, ко входу.
— Милорд, — начал первый раб, опустив глаза и заставив свои руки затрепетать. — Что нибудь еще? Что вы предпочитаете… трубку, вино или, возможно, что нибудь покрепче?
— Ничего.
Голос лорда оказался глубже и тверже, чем ожидал раб; он отступил, споткнувшись, и чуть не упал.
Определенный тип мужчин приходил в это место для развлечения, уплачивая очень симпатичную сумму в золоте за это право. Все остальные мужчины в амфитеатре — а их было немало, самых разных рас, но ни одной женщины — держали в руках бокалы, а в зубах сжимали металлические соломинки. На их лицах застыло выражение усталости и расслабленности, широко открытые глаза глядели в никуда. Человек, отказавшийся от бокала или трубки, навевавшей сладкие сны, был редкий гость, с которым, возможно, будут проблемы.
Однако второй раб не посмел взглянуть в глаза гостю.
— Прочь, — скомандовал лорд, и благодарный раб с неожиданной энергией зашлепал сандалиями по ступеням лестницы амфитеатра.
Лорд уселся поудобнее, откинувшись на обитую мягкой обивкой спинку скамьи, на которую давало право его приглашение, и терпеливо ждал, пока остальные гости занимали свои места, сопровождаемые таким же почтительным эскортом. Потом, когда опоздавшие уселись и взяли в зубы свои соломинки, в стене ямы открылась дверь. Первыми вошли рабы, волоча по песку стеллаж с колокольчиками и цимбалами. Прежде чем нестройные звуки инструментов растаяли в воздухе, вошел квартет музыкантов, затянутых в черную кожу. Сверху они выглядели как фиолетовые тени на искрящемся песке.
Гостей охватило радостное предвкушение предстоящего зрелища, некоторые даже отбросили свои бокалы. Треск разлетающихся на куски изящных глиняных сосудов наполнил амфитеатр, вызвав недовольное шипение некоторых из других гостей, но не терпеливого лорда с пустыми руками, сидевшего рядом с перилами.
Открылась еще одна дверь, больше первой, из нее в яму полился красный свет. Его лучи отражались от отполированных колокольчиков и цимбал, падая прямо на гостей, которые не обращали на них ни малейшего внимания. Ничто не могло оторвать их взгляда от трех тележек с маленькими колесами, уже катившимися по песку. На каждой из тележек торчал столб из костей мекилота, а на перекладине столба висела жертва, еще живая — две женщины и мужчина — их руки были широко раскинуты, как для полета.
Одна из женщин застонала, когда колесо ее тележки подпрыгнуло на песке. Ее силы стремительно уходили. Она повисла на веревках, привязанных к самому столбу и перекладине. Приятно щекотавший нервы ужас несчастной поднялся из ямы; терпеливый Лорд Урсос больше не выглядел невозмутимым. Он закатал рукава своей одежды и поставил локти на перила.
Когда тележки остановились и рабы, везшие их, испарились, музыканты заиграли простую и печальную мелодию: флейта, лира, колокольчики и цимбалы все вместе. Это был совершенный контрапункт к стону женщины. Тонкие волосики на голых руках лорда поднялись в возбуждении, когда на песок молчаливо ступил хозяин ночи. Не было сказано накаких слов: введения или объяснения. В словах не было никакой нужды. Все в амфитеатре — от рабов на самой высокой галерее до тех, кто был в яме, а особенно до тех несчастных, которым не повезло и они оказались на костяных крестах — все прекрасно знали, что произойдет сейчас.
Хозяин ночи достал из глубины своей одежды маленький нож с изогнутым лезвием. Его стальное лезвие было дороже чем золотое, и она сверкнуло в свете факелов, когда он продемонстрировал его гостям. Потом он повернул его так, чтобы свет, отражаемый им, осветил маленький кусочек бока привязанного мужчины. Пленник вздохнул, когда хозяин ночи сделал первые надрезы на его коже, над трепещущими ребрами, и затрепетал, когда мастер начал медленно снимать с него кожу. Музыкант, игравший на лире, начал свою первую импровизацию, нагнетая мелодию в средних тонах, оставив колокольчикам высокие и флейте низкие.
Продемонстрировав гостям свой нож во второй раз, мастер сделал еще один разрез, на этот раз через артерию. Он сунул свою руку в маленький мешочек, висевпий на поясе и достал оттуда горсть белого кристаллического порошка, который втер в новую рану. Раненый мужчина задрожал и забился на своем костяном кресте. Цимбалы зазвякали, обрамляя его тонкий мучительный стон через заткнутый кляпом рот, а флейтист добавил пару нот, чтобы объединить их.
Лорд с голыми руками вернулся обратно на свое место, оторвавшись от перил. Его рукава упали, опять закрывая его запястья, глаза были закрыты, а руки сжаты в кулаки. Он задышал еще быстрее, когда мелодия связала вместе музыку и смертельные страдания. Это сочетание оказалось слишком сильным для некоторых из гостей вокруг него: они добавили свои стоны ужаса к гармонии музыки, созданной ночным хозяином. Симфония и сопереживание вместе послали восторженный трепет по спине лорда. Но трепет умер, не достигнув горла, и во всем огромном зале только он один, не считая хозяина ночи, остался молчаливым.
Мелодия продолжала развиваться, не достигая окончательной формы, пока все три пленника истекали кровью, рыдали и выли: восемь тактов подъем, четыре спуск, потом самые нижние, самые мрачные ноты, затем снова трехтактный подъем в средние тональности.
Темная страсть музыки хозяина ночи успокоила беспокойные мысли лорда и дала ему мир, на мгновение, но, рожденная от мук смертных, она слишком быстро закончилась. Один за другим голоса пленников замолкали. Там, где была музыка, осталось только мясо, мертвое мясо. Хозяин исчез, за ним музыканты, гости и рабы, в конце концов лорд остался один.
Абсолютно один.
Его губы разомкнулись и из его горла, наконец, полилась музыка: восьмитактный подъем, четырехтактный спуск, потом самые нижние, самые мрачные ноты, затем снова трехтактный подъем в средние тональности.
Много позже, когда замолкли даже самые шумные таверны Урика и темплары дремали, опираясь на свои копья, в одной очень скромной комнате, находившейся под самой крышей — днем сгораешь от жары, а ночью дрожишь от холода — полуночный покой был прерван дикими недовольными криками ребенка. Мать, спавшая на старой тряпичной кровати рядом с мужем, немедленно проснулась, но не открыла глаза, а сжала их еще сильнее, как если бы сила воли или простой отказ мог успокоить ее несчастливую дочь.
Напрасная надежда. Воспаление зубов, так болезь ее дочери назвала старая карга, которая сидит весь день у соседнего колодца. Ребенок будет кричать, пока ее зубы не выйдут наружу и воспаление десенах не пройдет. И дочь и мать будут счастливы, если вообще сумеют заснуть.
— Сделай хоть что-нибудь, — проворчал муж, отворачиваясь от нее и натягивая их старое одеяло на уши.
Он был хороший человек: никогда не пил, не поднимал на нее голос, и даже не бил ее, уходил каждое утро и весь день потел около печи горшечной мастерской, принадлежавшей его дяде. Он боялся своей дочки, полностью пораженный ее бледностью и хрупкостью. Когда-нибудь, если колесо Судьбы повернется в нужную сторону, и будет не менее честно, чем дядя, девочка назовет его Отец. Он хотел самого хорошего для своего отпрыска, но теперь, когда она нуждалась в теплых руках, которые укачали бы ее, он угрюмо чувствовал себя полностью беспомощным. Так что женщине пришлось опустить ноги на пол и убрать спутанные волосы со своих глаз.
В комнате был свет. Женщина молчаливо выругалась, что оставила лампу гореть. Открытое пламя было опасно им всем — ее мужу, дочери и всем соседям в их доме. Кроме того это напрасный расход масла, ненужная трата денег, которых и так не хватает в эти дни, ведь она не в состоянии работать.
В последнее мгновение, перед тем, как открыть глаза, внутренним взором мать увидела несчастье: ее невыспавшийся муж, неуклюже покачнувшись, падает на печь, кричит от боли и оставляет их на нищету и смерть.
Она была настолько увлечена этой картиной, только что промелькнувшей в ее мыслях, что даже не закричала, когда увидела еще одну женщину — незнакомку — сидевшую на стуле рядом с колыбелькой ее дочери. Механически она потянулась к лампе, которая не горела. Свет шел от самой незнакомки; он окружал ее и ребенка.
— Лайм…
Это слово, имя ее мужа, с трудом вышло изо рта матери. Мужчина крепко спал и не проснулся, зато темноволосая незнакомка посмотрела на нее, и когда она повернула голову, на ее лице засияли огромные глаза, серые, как и у ребенка.
— Успокойся, — сказала незнакомка мягко и тихо, даже нежно. — Успокойся… Кисса. Солнце встанет и боль твой дочки уйдет.
— Да, — медленно согласилась Кисса. Часть ее была охвачена паникой: незнакомка в ее доме, незнакомка держит ее дочь. Незнакомка, которая знала ее, хотя она сама она никогда не видела ее раньше, незнакомка, которая сидит на ее стуле и купается в свете, который льется неизвестно откуда. — Лайм, — позвала она погромче, — Лайм!
— Да успокойтесь вы, оба, — настойчиво сказала незнакомка. — Со мной ребенок в безопасности.
— В безопасности, — повторила Кисса. Улыбка незнакомки эхом отозвалась в ее руках и прошла по телу, смывая панику. — Да, в безопасности.
— Никто в Урике не находится в большей безопасности, чем твоя дочь, — добавила незнакомка, и, наконец, Кисса поверила ей.
Она, как завороженная, вернулась в свою разворошенную кровать, где теплая тень мужа уже ждала ее.
Пронзительные серые глаза незнакомки опять повернулись к ребенку. Она не стала произносить один из успокаивающих горловых звуков, или бессмысленных слогов, и не стала подражать антеннам канка, шевеля пальцами. Вместо этого она запела мелодию без слов, колыбельную, и усталый и больной ребенок согрелся и успокоился.
Маленькие кулачки девочки разжались. Нахмуренное личико разгладилось, когда незнакомка почесала ее головку. Ребенок потянулся и ухватил пальчиками толстый клочек темных волос. Они обе рассмеялись, а потом незнакомка запела опять — восемь тактов подъем, четыре спуск, потом самые нижние ноты, затем снова трехтактный подъем в средние тональности — тема и вариации, пока зубы не вышли наружу и ребенок не уснул на руках странной женщины.
Он начал свой путь, когда воздух был еще холоден, и день был не больше, чем слабое обещание рассвета над восточными крышами. С чашкой, спрятанным внутри его потрепанной узкой туники, и костылем под плечом, он медленно вышел из переулка, в котором спал, в тепле и безопасности под кучей мусора, которая собиралась никак не меньше года, и пошел по направлению к северо-западному углу Площади Столяров. У лавки булочника на углу была веранда, которая весь день была в тени и была шире, чем дверь лавки — достаточно широка, чтобы хромой нищий мог усесться и заняться своим делом, которым он, будь его воля, не занимался бы никогда. Он не хотел причинять неудобство никому, а особенно Нуари, булочнику, который иногда кидал ему остатки пищи на пол в конце дня.
Это было долгое путешествие от его переулка к магазину булочника, и очень опасное. Малейшая ошибка, костыль поставленный не на тот булыжник, и он упадет на землю со своих нетвердых ног. Поэтому он был очень осторожен, и каждый раз проверял костыль, прежде чем доверить ему свой вес и свое равновесие. Когда он удостоверивался, что все в порядке, он хватался за него обеими руками и, задержав дыхание — он всегда задерживал дыхание в этот опасный момент — выбрасывал свою здоровую ногу вперед. А потом подтягивал покалеченную ногу, всегда болевшую, бесполезную ногу, к здоровой.
Его плечо болело не меньше чем нога, когда он наконец увидел перед собой веранду булочника. Король нищих, которому он платил за право быть здесь, сказал, что будет лучше, если он избавится от костыля, что он проживет дольше и заработает больше, если будет подтягиваться на руках, а не ходить. Может быть к этому он и придет. В некоторые дни солнце уже стояло высоко в небе, когда его руки приходили в себя после ежедневнего утреннего путешествия. Но у него была своя гордость, несмотря ни на что. Он будет стоять и ходить так хорошо, как только сможет, пока у него будет выбор, а когда выбора не станет, он выберет смерть.
Но не сегодня.
— Эй, калека! Потише, за тобой не угнаться, калека!
И приветствие в виде горсти гравия. Он отмахнулся и аккуратно поставил свой костыль в следующую подходящую ямку. Он не мог ни остановиться, ни даже замедлиться; не мог и повернуться к своим мучителям. Хулиганы, как он хорошо знал по долгому опыту, редко ходят одни.
— Эй, калека! Я тебе говорю, калека!
— Калека — какая разница между тобой и змеей?
Их было трое, он знал это уже прежде, чем мясистая рука ударила его по шее и он едва не упал на землю.
— Змеи не умирают до рассвета, калека, но ты умрешь сейчас.
Он отмахнулся своим костылем, со всей силы, что еще оставалсь в нем. Он не знал их, и, конечно, никогда не сделал им ничего плохого. Но это не имело значения. Они были хищниками; он — их жертва. Все случилось просто и быстро. Позади него был переулок, и хотя любой человек без сомнения сказал бы, что там слишком темно и всякие обломки внутри помогут только его мучителям, он потащился туда, держась за свой верный костыль. Трое позади него были как все и тоже видели преимущества переулка. Самый ближайший к нему отбил костыль в сторону, а двое остальных схватили нищего за руки и за ноги, и забросили в глубокие тени переулка.
Ноери не смог бы сказать, что заставило его выйти из дворика его лавки, заполненной печами, и выглянуть за прилавок именно в этот момент. Возможно у него и была причина, но он забыл о ней. Рассвет был концом рабочего дня. Его основные покупатели были рабочими, которые покупали хлеб когда еще было темно, это вообще была их первая утренняя покупка, часть съедали сами, а остальное приносили домой после работы, чтобы накормить свои семьи. Возможно, однако, что это была причуда Льва: в зигзагах судьбы обыкновенно винили могучего короля Урика. В любом случае Ноери был за прилавком, выглядывая из открытой двери, когда увидел, что малолетние бандиты схватили нищего.
Его нищего.
Отец всегда говорил, что нищий полезен для бизнеса — вежливый и чистый нищий, с очевидным, но не отвратительным изъяном. Этот мальчишка-калека был то, что надо и даже больше: его разум не пострадал. Его глаз всегда глядел на улицу, а ухо слышало слова всех, идущих мимо, в том числе воров и бандитов, и иногда это приносило прибыль.
Если бы мальчик попросил, Ноери с удовольствием дал бы ему место на ночь, например под прилавком. Но мальчик был очень горд, по своему; он не хотел благотворительности, за исключением своего места на веранде и нескольких корочек хлеба.
Ноери всегда немного расслаблялся, слыша как мальчик топает и устраивается на веранде. Урик был опасным местом для того, у кого нет двери, которую можно закрыть за собой. Глубоко в сердце Ноери знал, что однажды придет такое утро, когда нищий не появится. Но он даже не мог себе представить, что его конец прозойдет не дальше, чем за пятьдесят шагов от веранды его лавки.
Инструменты для бизнеса Ноери висели на стене рядом с ним. Не самым легким среди них был клинообразный деревянный молоток, которым он пользовался, чтобы сбить вниз слишком поднявшееся тесто; впрочем он мог использовать его и для других целей… например чтобы прибить юных бандитов, решивших поиграть с мальчиком-калекой.
Жена Ноери, Майа, в это время была во дворе и вместе с тремя подмастерьями разгружала печь. Майа могла бы остановить его, если бы видела, как он с молотком в руке выбегает из двери. А любой из подмастерьев мог бы помочь ему самому в будущей драке: он, конечно, был сильнее любого из юнцов, но не всех троих вместе.
Если бы у него было время подумать, ему могла бы придти в голову мысль о лучшем правосудии. В Урике было достаточно много нищих, и его веранда была очень привлекательным местом для них; очень скоро у него был бы новый нищий. Ноери не был ни темпларом, ни бандитом; даже в гневе он никогда не бил людей, хотя бы и своих подмастерьев, которые всяко заслуживали парочку хороших ударов.
Но Ноери не остановился ни на секунду, чтобы подумать. Он пересек улицу и бегом ворвался в переулок. Взмахнув правой рукой, он ударил молотком по спине самого толстого из троицы, стоявшего ближе всех к нему. Юнец с криком полетел на землю, переполошив своих товарищей, самый высокий из которых был ближе всего к разъяренному булочнику. С побелевшим от страха лицом молодой бандит попытался защититься отнятым у калеки костылем, но молоток Ноери был тяжелее и легко отбил костыль в сторону.
А потом булочник ударил еще раз, и изо рта бандита потекла кровь вместе со слюной, раздался треск ломающихся зубов. На какой-то момент Ноери стал беззащитен и уязвим, ужаснувшись страшной картине, но напуганный третий бандит не воспользовался его секундным замешательством. Вместо этого он бросился бежать из переулка, даже не бросив взгляд на своих товарищей, один из которых лежал, слабо постанывая, а другой истекал кровью.
— Убирайтесь, — сказал Ноери голосом, который не узнал бы никто из тех, кто его знал. — Убирайтесь немедленно, и чтобы я никогда не видел здесь ваших рож.
Это был хороший совет, и Кровавому Рту хватило ума принять его. Он помог подняться на ноги своему товарищу, и держась друг за друга они заковыляли по улице, стремясь уйти подальше от этого места.
Свободной рукой Ноери поднял непострадавший костыль. Помимо оглушительного стука его сердца и тяжелого дыхания, в переулке не было ни звука; ничто не двигалось. Не было ничего, что сказало бы ему, что он не один.
— Парень? — позвал он наугад. — Джанни? — Он думал, что это было имя мальчика, хотя обычно он обращался к тому «ты» или «парень», когда молодой калека сидел на его веранде. — Не бойся, парень. Все кончено. Ты не пострадал?
Потом, опасаясь самого худшего — что он появился слишком поздно — Ноери отложил в сторону молоток и костыль. Он неуверенно пошел вперед по переулку, разбрасывая мусор по сторонам, прежде чем знакомые звуки не привлекли его внимания: легкий удар, тяжелый удар и волочение; затем опять легкий удар, тяжелый удар и волочение. Холодная рука страха сжала сердце булочника, когда он повернулся к свету улицы.
Джанни, мальчик-калека, добрался до веранды, пока Ноери смотрел на него. Он сел на плоский камень, как делал каждое утро, и прислонил костыль рядом с собой, устраивая поудобнее на камне свою искалеченную ногу так, чтобы ее могли видеть прохожие и покупатели Ноери, как и обернутую соломой чашку нищего.
— Причуда Льва, — прошептал Ноери. Его руки поднялись сами собой и схватились за сердце. Он заставил их расслабиться и опуститься вниз, хотя страх продолжал терзать сердце, а плохие предчувствия только начинались.
— Что же я сделал? — вслух спросил он сам себя.
Молоток для теста лежал там, где он его оставил, окровавленный, как и рубашка Ноери. Но костыль… костыль исчез. Единственный костыль, который он видел, был на своем обычном месте, прислоненный к стене его веранды.
— Причуда Льва, — повторил Ноери и повернулся обратно к теням, когда его желудок взбунтовался.
Хаману, Льва Урика, Короля Мира, Короля Гор и Равнин, и еще не меньше дюжины других самых разных титулов, которые выкрикивали глашатаи за время его тысячелетнего правления городом, чаще всего можно было найти на самой высокой крыше широко раскинувшегося дворца. Королевские аппартаменты тоже были на крыше. Двери и сами комнаты были приспособлены для житья полугигантов, хотя мебель подходила скорее для людей, из-за своей просты и даже строгости, несмотря на позолоту и блестящий лак, покрывавшие ее.
Король сидел за черным мраморным столом в своих аппартаментах и рассеянно глядел на восток, на солнце, вставшее часом раньше. Сидя, Хаману напевал мелодию, мелодию из восьми тактов. Намек на ночную прохладу еще сохранялся в тени за ним. Одежда из глянцевого шелка свободно спадала с его могучего торса. Ее багровый цвет изумительно дополнял его смуглую, с желтым оттенком кожу и черную гриву, которая падала назад с высокого умного лба и рассыпалась пышными эльфийскими локонами по его плечам.
В его облике не было ни одной мягкой черты. Глаза был глубокого желтого цвета созревших цветов дерева агафари; твердые и темные губы резко выделялись над твердым безбородым подбородком. Еле заметные морщинки вокруг глаз могли бы быть знаком, что этот этот человек обладает хорошим чувством юмора и любит посмеяться — но точно так же легко они могли быть признаком жестокости и коварства.
За спиной короля на черной полке лежал меч, сделанный из настолько тонкой стали, что сверкал на солнце как серебяный. Две темные обсидиановые сферы стояли на искусно сделанных пьедесталах: одна около наконечника меча, вторая рядом с рукояткой. Рядом с ними на стене висели отполированные доспехи, самого разного размера и стиля. Было видно, что все они побывали в бою, но на всех них не было ни следа желтой песчаной пыли, которая была проклятьем всех гостиниц и постоялых домов Урика, как если бы одного присутствия короля было достаточно, чтобы управлять капизами ветра и погоды — как оно и было на самом деле.
Хаману мигнул и пошевелился, потом встал со стула, сбросив с себя рассеянность. Балюстрада из львов с оскаленными пастями ограждала край крыши. Он оперся рукой о вырезанную из камня гриву и пристально уставился на свое владение, пока не увидел то, что хотел увидеть и не услышал то, что хотел услышать. Его лицо опять расслабилось, а мысли потекли в более привычные места: например в сознание того, кто был его личным стюардом за последние сто лет.
Энвер, время.
В ответ дварф безмолвно подчинился приказу, бросил свой недоеденный завтрак и поторопился к крыше, на бегу отдавая приказания направо и налево.
Хаману усмехнулся и легко похлопал каменного льва по голове. Последняя ночь была неплоха, он совсем недурственно повеселился. Так что утром он излучал терпимость и легкий юмор.
Он уже сидел за мраморным столом, когда появился Энвер во главе процессии рабов, несущих подносы с едой и корзины, наполненные прошениями и подношениями.
— Ваше Всеведение, пусть этим утром кровавое солнце Атхаса воссияет на вас и на все ваши земли! — торжественно объявил Энвер хорошо поставленным голосом, кланяясь до земли.
— А разве оно этого уже не делает, прямо сейчас? — ответил Хаману, слегка меняя интонацию голоса. — Разве что-нибудь уже случилось, дорогой Энвер? — Терпимость — вместе с хорошим юмором — никак не мешает внушить хоть какому-нибудь смертному чувство страха перед завтраком.
— Ничего, Ваше Всеведение, — ответил дварф, сотрясаясь от ужаса.
Рабы за спиной Энвера сбились в толпу, дрожащую от страха, а ведь еще мгновение назад они радовались тому, что находились в безопасности с завтраком Хаману в руках. Он не нуждался в пище. Вообще, было мало того, в чем Хаману по-настоящему нуждался. Но он хотел свой завтрак, он хотел, чтобы его поставили на стол, а не уронили на пол и раскидали среди ежедневных прошений.
— Хорошо, Энвер. — Улыбка Хаману имела зубы: тупые человеческие зубы, хотя, как и весь его облик, он мог изменить их в мгновение ока. — В точности, как и должно быть. В точности, как я и ожидал.
Энвер наконец сумел изобразить на лице улыбку, хотя и менее зубастую, а рабы трясущимися руками поставили подносы с едой и корзины на стол, прежде чем отбежать к дальнему концу крыши и скрыться из виду, спустившись по лестнице. Хаману слышал их вздохи облегчения своим невероятным слухом. Он мог услышать в Урике все, что хотел, его зрение было еще лучше. И более того, он мог убить одной мыслью и наесться умирающим дыханием жертвы.
Иногда он так и делал — хотя и не со скуки, прохоти или голода, как считали его подданные. Но сегодня из всей еды его заинтересовал только ломоть свеже-испеченного хлеба. С изысканными манерами, подходящими скорее изнеженному аристократу, а не могучему королю, он отломил небольшой кусочек хлеба, пролил на него каплю золотистого меда и поднес его к губам.
Страх окружающих опъянял, но никакой страх не мог сравниться со всегда другим вкусом поднявшейся на дрожжах смеси муки и воды, когда она еще горячая и только что вынута из печи.
— Энвер, — сказал Хаману между кусками, — есть булочная на северо-восточном углу Площади Плотников…
— Она будет закрыта немедленно, Ваше Всеведение, а булочник послан в шахту, — рьяно уверил его Энвер, добавив еще один поклон и замысловатый взмах рукой, для верности.
Дварф не был обычным стюардом; он был темплар, исполнитель, самый высокий ранг в гражданском бюро. В левый рукав Энвера было вплетено столько нитей из драгоценного металла и серебра, что он падал на ладонь дальше кончиков пальцев, когда дварф складывался в поклоне. Это была очень смешная поза, особенно учитывая безуспешные попытки Энвера скрыть свое недовольство за маской подобострастия. За ней же он пытался спрятать свой страх, который, тем не менее, зловонной струйкой сочился наружу, в горячий воздух.
Хаману не обращал внимания на его попытки, пытаясь вместо этого вспомнить, действительно ли в последнее время он был более капризным или предсказуемым. Он старался вспомнить каждый день в точности так, как он прошел, но после тринадцати веков жизни ему было трудно отделить воспоминания от сновидений. Дварф, вроде Энвера, или темплар-друид, вроде Павека, или кто-нибудь другой из его нынешних любимцев имели память попроще и их воспоминания заслуживали большего доверия.
Сегодня, однако, нет необходимости использовать сознание Энвера.
— У меня на уме кое-что другое, дорогой Энвер. Булочник, — он остановился, послав свои мысли в Урик, пока не нашел нужное ему сознание, — Ноери сын Ноери, сегодня утром он спас мне жизнь.
Энвер распрямил и свою спину и свой рукав. — Ваше Всеведение, могу ли я спросить, как это произошло?
— О, самым обычным образом. — Хаману полил медом еще один кусок хлеба, медленно прожевал его, наслаждаясь как им, так и недоумением дварфа. — Улицы были очень грязны. Я отступил в переулок, чтобы почистить их, но этот булочник, Ноери сын Ноери, бросился туда со своим молотком для теста и спас меня.
— Замечательно, Ваше Всеведение.
— Правда. Слишком-печальная-правда. Он был так целеустремлен, спасая меня, что дал преступникам возможность убежать.
— Убежать, Ваше Всеведение? Определенно не надолго.
— Нет, нет, дорогой Энвер. Они живы, по меньшей мере двое из них. Кажется — как чудесно ты как-то раз выразился? — кажется они получили хороший урок, и для чего мне изменять приговор булочника, разве не так?
Энвер покачал головой. — Но вы наблюдаете за ними, Ваше Всеведение?
— Дорогой Энвер, ну конечно я наблюдаю за ними. Даже сейчас я присматриваю за этими юными бандитами. Но мы говорили о булочнике, не правда ли? Да. У меня задание для тебя. Я хочу, чтобы два мешка самой лучшей муки — не муки из таможни, а моей муки, белой химали из дворца — привезли в лавку этого булочника на Площади Столяров и добавили еще кошелек с серебром — а то он топит свои печи навозом иниксов! Скажи ему, чтобы он испек из них хлеба, самого лучшего белого хлеба, который он может испечь, и доставил его во дворец еще до заката.
Улыбка дварфа была такая же широкая и круглая, как Гутей накануне Нового Года. Исполнитель быстро считал и хорошо знал окольные пути, несмотря на свое абсолютную честность. На кошелек с серебром Ноери сын Ноери может купить годовой запас угля, и если этот человек не полный профан в своей профессии, он сможет выпечь сотни батонов хлеба из двух мешков лучшей дворцовой муки.
— Я понимаю, Ваше Всеведение, — сказал Энвер, еще более энергично чем раньше. — Самые богатые купцы, высшие темплары, аристократы, и все их повара, я позабочусь, чтобы они тоже узнали об этом, Ваше Всеведение. К закату весь город будет знать, что вы едите хлеб, испеченный Ноери сыном Ноери. Они все выстроятся в очередь у его дверей.
— Имей в виду, дорогой Энвер, что это маленькая лавка на маленькой плошади. Так что я думаю, что половины города будет вполне достаточно. А может быть и четверти.
— Слово распространится, Ваше Всеведение.
Хаману кивнул. Никто бы не заметил трех тел в переулке. Никто и не заметил труп, который он оставил рядом с дверью на юг от площади. Но благородный жест, типа этого, может изменить жизнь людей так, как даже он не в состоянии предсказать.
— Это все, Ваше Всеведение?
Король кивнул, потом опять позвал своего стюарда. Если он собирается сделать благородный жест к человеку, который спас ему жизнь, он мог бы сделать такой же жест и к тому, чью жизнь он позаимствовал. — Там есть нищий на веранде. Мальчик-человек с искалеченной ногой. Брось что-нибудь полезное в его чашку.
— Да, конечно, Ваше Всеведение. Что нибудь еще, Ваше Всеведение?
— Последняя вещь: прежде чем вернуться во дворец подойди к фонтану на Площади Льва и брось в него монетку.
Улыбка Энвера исчезла, глаза расширились. — Ваше Всеведение, что я должен пожелать?
— Ну — чтобы хлеб этого Ноери сына Ноери был также хорош, как и его молоток, что же еще?
Вторая Глава
Утренняя аудиенция Хаману началась когда Энвер ушел с крыши. Она закончилась, когда король сломал печать на последнем свитке из корзин на его мраморном столе, и призвал, мгновенным псионическим усилием, последнего просителя из приемной, находившейся под крышей. Окон в ней не было, зато было душно и жарко.
Иногда просители переставали добиваться личной аудиенции еще до того, как они с незабываемым ужасом чувствовали присутствие их короля в своих мыслях. Иногда Хаману в полной мере оправдывал дурные предчувствия просителя. А в других случаях он следовал за мягкосердечным сознанием по всему Урику и даже за его пределами; была у него и такая сила. После тринадцати столетий практики Хаману мог дать своим прихотям волю и отправить их гулять по его городу, как он сам почти всегда делал по ночам, заимствуя тело и память — настоящая кража! — и на мгновение, год или столетие живя чужой жизнью.
У Хаману было полным-полно таких своевольных причуд и украденных тел, шляющихся по его городу прямо сейчас, и он слегка коснулся их, когда последний на сегодня проситель карабкался по ступенькам в приемную. Вор, который уже показал фантазию и умение в своей нелегкой профессии, схватил женщину — на самом деле ребенка, вдвое его моложе — и бросил ее на землю в кухонном дворике ее скромного дома.
Король сжег тело и сознание вора одной мыслью. Последней картиной, промелькнувшей перед глазами вора, была кричащая женщина, на которую хлынула горячая кровь насильника. Потом вор стал безусловно мертв, а последний проситель пересек крышу дворца.
Темплары гражданского бюро, готовившие петиции — за деньги, взятки и прочие подношения — написали заявление от купца по имени Эден. Хаману, по ошибке, решил что Эден — имя мужчины, и ошибся еще раз, когда коснулся сознания купца, решив что это сознание мужчины. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вопреки утверждениям Энвера, Хаману не был всеведущ и знал далеко не все. Никто, даже он, не в состоянии знать все обо всяком живом существе. О мертвом, совсем другое дело. Сознание мертвого выдавало все свои секреты, а потом уже было бесполезно. Впрочем, Хаману не убивал ради секретов.
Обман совсем другое дело.
Он смотрел как эта женщина-купец — Эден — поднимает подол своего платья и перешагивает через обожженные остатки очередного неудачливого просителя. Самого неудачливого просителя, на самом деле.
В ее сознании было отвращение, но не страх. Отвращение к трупу, решил с надеждой Хаману. Он сам — Хаману, Король Урика — имел дело с очень немногими женщинами, не считая женщин-темпларов и проституток. На его репутации висели тяжким грузом события давно прошедших лет. Почтенные семейства прятали от него своих жен и дочерей, как если бы от него можно было что-то спрятать.
Эта Эден, в белом льняном платье, с пышными черными волосами и ненакрашенным лицом, была воплощение респектабельности. Значительно более респектабельна чем юный аристикрат — последний перед ней — чьи кишки уже начали вонять под кровавым светом черного солнца.
Хаману в общем-то было все равно, что Ренади Солеюз унаследовал свое состояние убив отца, братьев и всех остальных родственников; король не вмешивался в дела семьи. Хаману не был разгневан и тем, что обвинения водяного вора Ренади против соседей не стоили выеденного яйца эрдлу; напротив, наглость была верным путем к королевской милости. Но молодой лорд соврал, когда Хаману задал несколько вопросов о финансовом положении поместья Солеюз, и, что еще хуже, дурак рассчитывал на заклинание осквернителя-шарлатана, которое тот спрятал в коже ящерицы и которое якобы сможет защитить его, пока он врет.
За ложь Хаману убивал.
Наследственная гордость Солеюзов была уничтожена мыслью и огнем — в основе их обоих есть что-то от волшебства — с точностью солдата. Теперь Хаману и Урику была нужна семья аристократов, которая могла бы управлять поместьем и людьми, лордом которых был покойный Ренади. Скорее всего он предложит эту честь Энверу. После более чем векового присмотра за личной жизнью короля, решил Хаману, дела по управлению поместьем будут детской игрой для такого как Энвер. Но, возможно, он предложит наследство Солеюзов этой Эден, плоскогрудой женщине-полуэльфу с мужским именем.
Ему не хотелось убивать ее. Двое просителей в одно утро: слишком расточительно.
— Почему ты здесь? — спросил Хаману. Его темплары написали, что она предлагает сделку. Это не удивтельно: она купец, торговля — ее работа и ее жизнь. Но что за сделку? — Расскажи подробно.
Она заколебалась, беспокойно облизывая губы своим бледным языком и теребя руками свое льняное платье. — О Могучий Король Урика, Король Атхаса, Король Гор-. — Ее лицо стало бледно, как платье: она сбилась с рима, забыла его титулы и ее сознание — Хаману знал это наверняка — стало пустым.
— И так далее, — сказал он, помогая ей. — Я внимательно слушаю тебя.
— Я пришла с посланием от моего мужа, Чорласа, он входит в Дом Верлизаен.
— Я знаю о Доме Верлизаен, — согласился Хаману. Как и следовало из их имени, Верлизаен были чистокровные эльфы. Три поколения назад они обменяли свои стада канков на шум и крики Эльфийского Рынка Урика, почти легального. Примерно сто лет назад кое-кто из племени ушел из Урика, основав торговый дом, который действовал вполне цивилизованными средствами. Шаг вниз, без сомнения, с точки зрения клана Верлизаен, и вполне достаточно, чтобы объяснить плоские, разбавленные человеческой кровью черты лица Эден.
В прошении стояла сделка, а не послание, но знание иногда важнее воды или золота, и является хорошим основанием для сделки. Эден еще не соврала ему.
— Что за сообшение? — продолжил король, заинтересовавшись, какую сделку может предложить ему эта женщина.
Эден сделала то, что на первый взгляд могло показаться еще одним нервным жестом.: она стала ласкать большие бледно-зеленые бусины на своем браслете. Потом раздался клик, привлекший внимание Хаману, и когда ее пальцы разомкнулись, свернутая к кольцо полоска пергамента оказалась в ее трепещущих пальцев.
Было бы слишком просто, если бы это оказался яд, или заклинание, так как ни то ни другое не могло ему навредить. Помимо всего прочего, Хаману не был смуглым человеком, которым казался сейчас. Но его охрана должна была найти этот пергамент, и он спросит с них еще до заката.
— Мой муж дал мне это.
Пергамент выскользнул из ее пальцев и упал на черный мраморный стол. Хаману поднял его и прочитал слова, написанные Чорласом, о трех сотнях деревянных шестов, которых везут караваном из Нибеная на восток, в пустынный оазис, и там оставят без охраны, под лунным светом. На вид кажется, что шесты сделаны из простого коричневого дерева, писал Чорлас, который все знал абсолютно точно, так как был владельцем каравана, направлявшегося на восток. Но эти шесты оставляли пятна на руках караванщиков, которые переносили их, а потом их казавшееся коричневым дерево стало отсвечивать металлом, похожим на бронзу.
Дерево агафари, без сомнения, самое драгоценное достояние Нибеная и достойный соперник зазубренным обсидиановым мечам — стандартному вооружению солдат Урика. В настоящее время Урик и Нибенай не воевали, во всяком случае открыто, хотя настоящего мира между Львов и Королем-Тенью не было с тех пор, как они завладели своими нынешними владениями много лет назад. А в последние три года между городами не было даже торговли, и для этого было множество причин, как например взаимная зависть и недоверие между Хаману и его братом-королем, не в последнюю очередь подогретая предательством Урикита-темплара по имени Элабон Экриссар.
На самом деле как раз именно сейчас не было вообще никакой торговли между Уриком и другими городами Пустых Земель, населенных по-преимуществу людьми. И никаких посетителей. Все жители Урика оставались там, где они были в области Хаману, когда он выпустил свой декрет, а иностранцы оставались снаружи; нарушение каралось смертью.
Торговля конечно продолжалась; ни один город не может обеспечивать себя всем, хотя учитывая набитую товарами таможню, Урик Хаману мог выдержать многолетнюю осаду. Закон просто усложнил ее и увеличил риск, которому купцы и так подвергались, возя товары в соперничающие между собой города-государства, и заодно дал Хаману предлог — как будто он нуждался в нем — вмешаться, в случае чего.
— А твой муж был в Нибенае, когда писал это? — медленно и угрожающе спросил Хаману. Если она солжет, он узнает это в то же мгновение. Если она скажет правду, то является соучастником нелегальной торговли, наказание за которую — как минимум — лишение глаза.
— Он был там, о Могучий Король. Он послал мне это с большим риском для жизни и попросил меня немедленно принести его сюда. И я пришла сюда, — она подняла голову и, несмотря волны захлестовывавшего ее ужаса, от которого холодела кровь, встретила раскаленный взгляд Хаману и не отвела глаза. — Пять дней назад, о Могучий Король.
Ого, да она осмелилась негодовать на него. В плохой день это был бы немедленный смертный приговор; сегодня его это просто заинтересовало. Хаману пробежал кончиком пальца по словам, написанным Чорласом, читая эльфа, который написал их.
— Здесь было еще одно послание, — заключил он.
— Только то, с которым я пришла прямо к вам, о Могучий Король, как я уже сказала.
— Твой муж поставил тебя в очень опасное положение, дорогая леди, или может быть ты скажешь, что не знала, что согласно моим законам запрещается любая торговля или переговоры с людьми из Нибеная?
— О Могучий Король, мой муж Урикит, он родился и вырос в Урике.
Хаману кивнул. Его эдикт, который ограждал Урик от анархии, распространившейся по Атхасу после падения дракона, разделил семьи, особенно большие торговые династии, раскинувшие свои крылья по всем Пустым Землям, но не он один выпустил такие эдикты: Тир, Галг и сам Нибенай поступили точно также.
Да, но купцы не могут не торговать, торговля их жизнь, их плоть и кровь. А торговля и риск неразделимы, и женщина, стоявшая перед ним, конечно знает это.
— Это ничего не меняет, дорогая леди. Я запретил любую торговлю. Ты подверла опасносности свою собственную жизнь, выполняя просьбу своего мужа. Твою жизнь, дорогая леди, не его. И ради чего? Какая сделка может оправдать такой риск? — Хаману мог представить себе несколько, но Эден придется удивить его, так как, несмотря на содержание послания, которое она принесла ему, что само по себе заслуживало награды, Хаману обожал сюрпризы.
Беспокойство заморозило язык Эден во рту; Хаману уже потерял надежду на сюрприз, когда она наконец сказал:
— О Могучий Король, мой муж и я, мы оба считаем, что король Нибенай вооружает врагов Урика.
— И? — спросил Хаману. Ее мысль, хотя и совпала с его собственным мнением, еще не удивила его.
— Мой муж очень стар, о Могучий Король. Он взял меня в свой дом, когда умерла моя мать, ради ее отца, который был его другом в юности. Чорлас заботился обо мне как о собственной внучке, а потом, когда я подросла, он сделал меня своей женой. — Ее голос прервался, но не от горечи, а от редчайшей из всех земных страстей: любви длиной в жизнь. — Сердце моего мужа слабо, о Могучий Король, а его чувства уже не так остры, как когда-то. Нибенай не его дом, о Могучий Король. Он не хочет умереть, не увидев как солнце садится за желтыми стенами Урика и не увидев в последний раз фонтан Льва.
— Ага, поэтому он и послал тебя рассказать мне, что Нибенай вооружает моих врагов? И что Дом Верлизаен предоставил для этого караван? И за этот намек на хорошие вести он просит, чтобы ворота Урика раскрылись перед ним и он мог бы вернуться?
— Да, о Могучий Король. Мой муж знает точное расположение этого пустынного оазиса; он не был отмечен ни на каких картах — раньше.
— Неужели один из владельцев Торгового Дома Верлизаен думает, что если он не знал об этом оазисе, тогда и никто другой не знал о нем?
— Да, о Могучий Король, — ответила Эден. Похоже Чорлас из Дома Верлизаен воспитал себе хорошую жену. Она боялась его; это мудро, но ею руководил не только страх. Она продолжала, — Он лежит за предалами владений как Урика, так и Нибеная. Это оазис смерти под Джиустеналем.
Ого, он хотел сюрприза и получил, но крайне неприятный. Хаману опять пробежался пальцами по строчкам послания. Пять дней, сказала она, с тех пор как она обратилась к его темпларам. Десять дней, возможно, с тех пор, как были написаны слова, которые он чувствовал под пальцами. А сколько дней прошло с того момента, как Чорлас оставил эти шесты из дерева агафари для завывающей армии Джиустеналя, и тем, когда Чорлас написал письмо своей дорогой жене? Три, в самом лучшем случае, не меньше, чтобы старик сумел преодолеть свои эльфийские предрассудки, добыть себе быстрого канка и ускакать на жуке в пустыню.
У Хаману были свои собственные шпионы, и те из них, которые ездили на канках, то есть почти все, постоянно испытывали нужду в новых жуках. Он должен был услышать о шестах, оазисе и амбициях Джиустеналя, и тем не менее не слышал. Он коснулся ее сознания, почти незаметным отеческим касанием, не пробудив ни ее страхов и ее защиты. Она не ела три дня, но не из-за бедности, а потому что ее муж вернулся в Урик. Чорлас прятался в помещениях рабов их уютного дома. Между двумя ударами сердца Эден Хаману нашел ее дом в Урике и Чорласа в нем. Эльф был стар и честен, насколько может быть честен эльф-купец. У него было слабое сердце и он действительно хотел умереть внутри могучих стен Урика.
— А как насчет тебя, Эден из Дома Верлизаен? Ты тоже хочешь умереть в Урике, как и твой муж?
— О Могучий Король, мне совершенно все равно, где я умру, — спокойно сказала она. — Но пока я жива, мне хочется видеть врагов моего города под ногами моего короля.
Хаману засмеялся — а что еще может сделать мужчина, оказавшись лицом к лицу с такой кровожадной женщиной? Он взял немного желтой смолы из маленького ящика и стал разминать ее пальцами, пока она не стала гибкой и податливой. — Я сочту изменой, если мои темплары не доложат мне, что видели тебя и твоего заслуженного мужа около Фонтана Льва до захода солнца. — Он сделал из смолы кольцо, которое затвердело под его ледяным выдохом, и протянул Эден. — На память.
Ее лицо разгладилось и даже стало красивым, когда она улыбнулась.
Всегда тщательно выполняющий полученные поручения, Энвер завершил дела на Площади Столяров и вернулся во дворец прежде, чем Эден ушла, по-прежнему улыбаясь. Возможно она прошла мимо него, когда он шел на крышу с обычной толпой рабов, на этот раз вооруженных корзинами и швабрами. Хаману не спросил, однако, и даже не полюбопытствовал, тем более, что Энвер не спросил про труп Солеюза.
Энвер, кстати, совершенно не заинтересовался имением Солеюза.
— Ваше Всеведение, — сказал дварф с настолько низким поклоном, что коснулся лбом коленей, — Неужели я или мои наследники чем-то обидели вас?
— Конечно нет, дорогой Энвер. — Вопрос заслуживал не такого ответа, но Энвер никак не мог увидеть выражение лица короля. — Но что будет после? Между тобой и твоим отцом почти три сотни лет, разве не так? Возможно ты хочешь перемен.
— Забота о Вас — это цель и жизнь моей семьи, Ваше Всеведение. Даже больше чем жизнь — вечная честь.
— Я мог бы стереть мешающий тебе фокус…
Энвер внезапно выпрямился с такой яростью на лице, что Хаману даже отшатнулся на своем стуле, на ширину волоса.
— Я скорее умру.
— Тогда попозже, дорогой Энвер. А кстати, кто отвечал за лестницу этим утром? Этот дурак, — Хаману показал на мокрое пятно, оставшееся на том месте, где умер Ренади и которое теперь ожесточенно терли рабы, — стоял передо мной вместе с заклинанием, которое маг-шарлатан спрятал в шкуре ящерицы и дал ему, и это заклинание не конфисковали. А позже здесь была женщина, она стояла там, где ты стоишь сейчас, и вынула сообщение из бусины, размером с твой большой палец. Полезное сообщение, будь уверен — Нибенай послал шесты из агафари в Джиустеналь — но кто-то на лестнице оказался более, чем беспечен, и я хочу, чтобы этот кто-то оказался в обсидиановых ямах.
Энвер знал, кто именно из исследователей проверял тех, кто находился в приемной: лицо мгновенно всплыло на поверхность сознания дварфа, вместе с многочисленными подробностями бурной жизни темплара — его мать умерла, отец был болен, жена беременна, геморроидальные шишки болезненно раздулись — ничто из этого не имело значения дла Хаману.
— В ямы, дорогой Энвер, — сказал он холодно.
И Энвер, который совершенно точно знал, что нет и не может быть тайных мыслей, когда находишься перед королем, быстро кивнул. — В ямы, немедленно, Ваше Всеведение. — Не рабом, как первоначально собирался Хаману, но надзирателем, так что нити на его рукавах останутся нетронутыми.
Хаману никогда не говорил намеками. Предоставленный себе самому, он правил Уриком жестко, даже жестоко по отношению к обычным смертным. Предоставленный себе самому он не хотел править городом немертвых, как делал Дрегош в Джиустенале.
Вместо этого Хаману выращивал своих темпларов, поколение за поколением, специально отбирая среди них бандитов, извращенцев и садистов — вроде Элабона Экриссара, который к тому же вступил в заговор с Нибенаем — для своего личного развлечения. Остальные, простой, почти-честный народ, переводили его непрощающую жестокость в более-менее выносимое правосудие.
Энвер, входивший во вторую группу, был и на самом деле слишком ценен, чтобы ссылать его на фермы Солеюзов. Хаману великодушно простил трюк Энвера, как он прощал зловредность Экриссара. Обе эти группы были основными частями его тысячелетнего правления в огороженном желтыми стенами городе. Для поместья Солеюзов он найдет кого-нибудь другого.
Тем временем рабы закончили свою работу. От Ренади Солеюза осталось только мокрое место, которое быстро сохло под лучами кровавого солнца.
Утро почти сменилось полднем, когда Хаману надо было приготовиться спуститься по лестнице и заняться более важными, и более публичными делами города.
Отполированные доспехи и одежда для торжественного выхода ожидали его одобрения, которое он дал, как делал почти всегда, не бросив на них даже беглого взгляда.
Расписанный шелковый балдахин был раскинут над бассейном, в котором он обычно мылся один, без помощи слуг. Пришло время для верного Энвера опять исчезнуть.
— Я буду ждать ваш вызов, Ваше Всеведение, — заверил его дварф, гоня стадо рабов вниз по лестнице.
Хаману подождал, пока все его чувства, естественные и сверхъестественные не подтвердили, что он остался один. Он встал из-за стола, его правую руку окутала мерцающая сфера, из которой торчал черный коготь, длинный, как указательный палец эльфа. Им Хаману разрезал воздух перед собой, как если бы это была туша, подвешенная для освежевания и потрошения.
Когда из невидимой раны стал сочиться туман, Хаману просунул в него обе руки и расширил щель. Миниатюрные серые облака моментально заколебались вокруг его запястьев. Когда солнце испарило их, Хаману взял аккуратно сложенную одежду, которая по цвету и материи совершенно подходила тому, что было на нем сейчас, так же как нижняя одежда и сандали, стоящие на верху стопки шелка, и забросил их в щель. Он снял сандали и ударом ноги отправил их под стол. Потом снял с себя шелковую мантию и забросил туда же, а потом бросил и нижнее белье.
Когда Хаману был удовлетворен картиной, которая говорила любому наблюдателю о небрежном короле, расшвыривавшем повсюду одежду, не обращая внимания на ее стоимость, ослепительная сфера опять появилась вокруг его правой руки. Она быстро выросла, закрыв сначала его руки и плечи, а потом все его тело, включая голову. Сияющий силуэт в форме человека стал распухать, пока не стал вдвое выше, чем Хаману, каким он только что был. Потом, также быстро, как он появился и расширился, сияние исчезло, и создание, подобного которому не было ни в городе ни где-то еще под кровавым солнцем, оказалось на его месте.
По настоящему обнаженный, Хаману внимательно осмотрел себя, каким он стал. С горькой усмешкой он подумал, что если бы за эти столетия он не отказался бы от тошноты, как от одного из признаком смертности, его бы точно затошнило. Раджаат, Принесший Войну, первый волшебник, выглядел именно так. Но не Раджаат сделал Хаману таким, каким он был сейчас. Раджаат видел его в одном облике, Хаману себя по другому, и последние тринадцать веков видение Хаману одерживало победу.
Его кожа была абсолютно черная, тускло-черная, непостижимая чернота пепла и сажи, туго натянутая на длинный костяк из костей, слишком длинный, слишком толстый и кошмарной формы, чтобы принадлежать одной из рас Возрождения. Между его ребрами была пустота, как и между костями его рук и ног. Немертвые бегуны в пустыне имели больше плоти, чем правитель Урика Король-Лев. Посмотрев на Хаману, ни один из смертных не поверил бы, что кто-нибудь, настолько длинный и тонкий, может вообще быть живым, или тем более грациозно плавать почти без усилий в бассейне, что он как раз делал сейчас.
У края бассейна он остановился. Вода в бассейне была слегка несовершенна. В ней отражались его темно-желтые глаза и светло-желтые клыки, но в ней не было видна тьма, заменившая его лицо. Кончиками своих когтистых лап Хаману исследовал острые углы своих щек, безволосый гребень на лбу, и еще один гребень, который поднимался из сузившегося черепа. Уши оставались на своем обычном месте, и похоже не изменили своей формы. Нос исчез, когда — два столетия назад, а может быть три или четыре? А его губы… Хаману решил, что вместо губ у него сейчас твердый хрящ, как у губ иникса; он поздравил себя с тем, что не видит их.
С возрастом ноги Хаману удлинились. Сейчас ему было удобнее ходить на носках, чем на пятках. Колени стали прямее, и хотя он все еще мог выпрямить ноги, если было надо, чаще всего они были согнуты. Когда он спускался в бассейн, его походка напоминала движения птицы, не человека.
Он нырнул на дно бассейна, потом поднялся на поверхность. Несмотря на тринадцать веков преобразования, некоторые привычки никак не хотели исчезнуть, например непроизвольное движение руки, хотевшей смахнуть уже несуществовавшие волосы с глаз. Один удар сердца — в пустой груди Хаману было сердце, и он надеялся что человеческое, хотя и не был в этом уверен — он просто лежал на поверхности, расслабившись и не думая ни о чем. Потом скелетоподобные руки согнулись — сила в них была немерянная — и подняли тело из воды.
Худой, черный король мог бы зависнуть в воздухе не сделав ни одного движения или полететь быстрее любого крылатого хищника. Вместо этого Хаману вернулся в объятия бассейна, вода взлетела вверх с каким-то особым плеском. Он перевернулся на спину и закружился в ясной теплой воде как колесо тележки, пока не поднял настолько высокие волны, что вода перехлестнулась через край бассейна и оставила лужи на крыше. Он забыл обо всем, кроме удовольствия, пока стрела боли не ударила от указательного пальца прямо в позвоночник.
Прорычав ругательство на все четыре стороны света, Хаману сжал кулак и стал изучать бледный, красно-серый отросток, проткнувший черную как зола плоть. Это была, конечно, кость, человеческая кость, еще один крошечный остаток его первоначальной человеческой природы, потерянной навсегда. Он зажал ее двумя когтями, и рывком вытащил из себя.
Смертный человек умер бы на месте от болевого шока. И смертный человек действительно умер. Глубоко в бездонной душе Хаману смертный человек умирал сотни раз каждый год его бессмертной жизни. Он продолжал умирать, кусочек за кусочком, пока от его человеческой природы не останется ничего, совсем ничего, и заклинание преобразование Раджаата не закончит свою грязную работу. Матаморфоза должна была закончиться уже несколько столетий назад, но Хаману, который понимал, что Раджаат задумал, сопротивлялся как мог Принесшему-Войну. Бессмертный король Урика не мог ни остановить ни обратить назад свое неумолимое превращение; он мог только замедлить процесс, голодом и лишениями.
Когда его кошмарный облик снова скрылся за образом привлекательного человека, Хаману с удовольствием поел, хотя никакая пища на попадала в его настоящий организм. В своем собственном облике Хаману вообще не ел и постоянно страдал от боли, что, впрочим, только ожесточало и укрепляло его и без того стальную волю. Умереть он не мог и давно достиг пределов своей неестественной худобы. Хаману терпел и поклялся, что только одной силой воли оттянет завершение заклинания Раджаата до конца времени.
Капля липкой крови, по цвету и температуре напоминавшей раскаленную лаву, вспучилась на суставе пальца. Он недоверчиво уставился на нее, потом резко опустил кулак под воду. Зловонный пар пробил поверхность; как будто извивающийся черный отросток вытек из открытой раны. Хаману вздохнул, закрыл глаза и одной горячей как солнце мыслью превратил кровь в твердую как камень корку.
Еще одно проигранное сражение в войне, в которой не был побед: магия в любой форме ускоряла превращение. Хаману очень редко использовал традиционные заклинания и был скуп со своими темпларами, но тем не менее даже его мысли и внешний вид были магией. Каждое заклинание, решавшее очередную проблему, приближало окончательное поражение. Но даже и так — хотя ни один из тех, кто случайно заглянул бы в бассейн не заподозрил бы это — Хаману, родившийся человеком, оставался намного ближе к нему, а не к тому, чем собирался сделать его Раджаат. У него все еще было сердце человека, и Хаману верил, что в битве между временем и преобразованием он победит.
Смахнув с себя незапекшуюся кровь, Хаману вышел из бассейна. Его уверенность в себе вернулась, он почувствовал себя готовым к будущим сражениям. Стоя на краю крыши и опираясь руками на львиную баллюстраду, он дал солнцу высушить его спину, пока глядел на город, его город.
В этот час, когда красное солнце было в зените, Урик казался спокойнее, чем в середине ночи. Ничто не двигалось, за исключением выводка молодых кес'трекелов, накручивавших ленивые спирали над стенами Эльфийского Рынка. Рабы и свободные, аристократы и темплары, мужчины и женщины, эльфы, люди, дварфы и полукровки, все прятались в тени, в поисках защиты от безжалостных лучей темного солнца. Не было никого, достаточно храброго или глупого, кому бы пришло в голову посмотреть на горящую под солнцем крышу дворца, где одинокий силуэт темнел на фоне пыльного неба.
Хаману слегка коснулся сознания своих миньонов, разбросанных по всему городу, как обычный человек пробегает кончиком языка по своим зубам, пересчитывая их после драки. Половина из них спала и видела сны. Кто-то был с женщиной, а кто-то с мужчиной. Остальные лежали, сберегая силу и энергию. Он не стал их тревожить.
Его собственные мысли переключились на эту женщину, Эден, и ее послание. Он спросил себя, может ли такое быть, чтобы Король-Тень Нибенай, которого когда-то называли Галлард, Погибель Гномов, послал шесты из своего драгоценного агафари к немертвым Джиустеналя? Ответ, без сомнения, да — за хорошую цену.
Никогда не было особой любви между любыми из Доблестных Воинов Раджаата, включая Дрегоша из Джиустеналя и Галларда. Они не настолько доверяли друг другу, чтобы заниматься благотворительностью. Они вообще не доверяли друг другу. Только по требованию дракона, Борса из Эбе, который полностью прошел дорогу превращения под действием заклинания Раджаата, они поддерживали друг друга и сотрудничали в деле, которое требовало их общего участия: поддерживать охранные заклинания в вечной тюрьме их общего создателя. Эту тюрьму они называли Пустотой, расположенной под местом, которое они называли Тьмой.
Хаману вспомнил день, где-то около пяти лет назад, когда Борс исчез, вместе с некоторыми Доблестными Воинами. В этот полдень, в первый раз за тысячу лет, Раджаат освободился. Тот факт, что Раджаат больше не был на воле и вернулся в свою Пустоту, не возродил сотрудничество трех Доблестных Воинов, выживших после смерти Борса и воскрешения Раджаата. Они не доверяли друг другу и дали смертной женщине — полуэльфу по имени Садира из Тира — восстановить охранные заклинания тюрьмы.
Совсем по-другому было тогда, много лет назад, в год Вражеской Ярости — 177-го Столетия Королей. После того, как Борс впервые установил охранные заклинания вокруг тюрьмы Раджаата, была дюжина бессмертных королей-волшебников, гордо правивших своими городами-государствами Центральных Земель.
Через тринадцать столетий их осталось только семеро. А десять лет назад Калак, Тиран Тира, был свергнут своими собственными амбициями и кучкой смертных заговорщиков, включая собственного высшего темплара и Садиру, ту самую Садиру, которая победила Борса и установила новые охранные заклинания вокруг Пустоты Раджаата.
С точки зрения Короля-Льва Калак был дурак, безрассудный дурак, который вполне заслужил преступление, совершенное против него. И Калак не был Доблестным Воином. Поэтому Хаману, возможно, доверял Тирану Тира больше, чем Доблестным Воинам, но уважал его намного меньше. А теперь он проклинал Калака каждый раз, когда это имя оживало в его памяти. Смерть Калака оставила невосполнимую дыру в Тире, старейшем — а также самом большом, богатом и могущественном — городе Центральных Земель. А теперь, не в последнюю очередь благодаря бунтовщикам из Тира, убившим своего бессмертного короля-волшебника, троны Балика, Раама и Драя тоже опустели.
Почти никого не осталось из Доблестных Воинов Раджаата: он сам, Галлард в Нибенае, Иненек в Галге и немертвый Драгош в Джиустенале — и никто из них не является драконом.
Пока Раджаат достаточно надежно заключен в Пустоте под Тьмой, Хаману ничего не имеет против, если дракона вообще не будет.
Как только Борс завершил метамофозу Раджаата и стал странствовать по Центральным Землям как дракон, он стал править всем, один. Даже бессмертные короли-волшебники в своих гордых городах-государствах подчинялись любой его прихоти. Бывали и войны, конечно — их следами были разрушенные и заброшенные города — но равновесие сил никогда не по-настоящему не изменялось. Когда Борс требовал, он получал, потому что именно он удерживал Раджаата в Пустоте.
А теперь Борса нет, в нескольких буйных городах-государствах вообще нет короля, и единственное, что держит жадность бессмертных в узде — знание, которое любой Доблестный Воин несет в своих костях: используй слишком много магии, зачерпни слишком много магической силы из Черной Линзы или еще чего-нибудь в таком роде, и станешь следующим Драконом.
Это ожидание могло бы соблазнить некоторых из них — но не Хаману — если бы они все беспомощно не смотрели, как сошедший с ума, лишенный рассудка Борс не буйствовал в Центральных Землях сразу после того, как они все вместе наложили заклинания, закончившие его метаморфозу. Первые пятьсот лет куда бы Борс не пришел, он выпивал жизнь из всего. В результате Центральные Земли превратились в сухие, сожженные пустоши, пустыни, и оставались такими до сих пор.
Дрегош как-то раз уже уступил искушению и тем самым вызвал гнев своих бессмертных соратников. Борс собрал их всех вместе, во второй раз, и они нашли подходящее вечное наказание для вечной спеси: они разрушили его город и лишили плоти живое существо, которое было гордым Истребителем Гигантов. Он остался Доблестным Воином, как в день смерти, но больше ничем другим. Дрегош стал тем, когда в народе называли немертвым, кэйскарга на языке халфлингов, который был старейшим из всех языков, которые знал Хаману.
С позором и под угрозой еще более сурового наказния, Дрегож жил долгие века под своим разрушенным городом. Смертные хринисты забыли о Дрегоше, но бессмертные помнили, особенно Инесс из Ваверли, которую смертные называли Абалах-Ре, Королева Раама, и которая донесла о предательстве Дрегоша.
Теперь Инесс мертва, как и Борс, а Дрегош хочет пустой трон Раама. Хаману рассудил, что Нибенай решил поддержать притязания Дрегоша на трон при помощи шестов агафари, потому что Дрегош никогда не смог бы стать таким драконом, каким был Борс, и не имело значения, завоюет ли он город без короля или нет. Нравится или нет, но скорее всего Галлард поддержит Драгоша в завоевании любого города, на который бы не нацелился немертвый Доблестный Воин. Нравится или нет, но скорее всего Галлард — который считает себя самым коварным из всех Доблестных Воинов Раджаата — надеется, что придет день, и останутся только два Доблестных Воина: он сам и Дрегош. А если ценой за то, чтобы стать королем-драконом, будет жизнь любого живого существа в одном городе или в трех, будет намного легче уплатить ее, если ни один из этих городов не будет твоим.
Но, по меньшей мере, у Галларда была совесть. А Калак даже не заколебался при мысли, что надо пожертвовать половиной населения Тира. Для достижения своей цели он был готов убить как обычных жителей, так и темпларов. Но Калак из Тира был дурак и бандит с самого начала, еще задолго до того, как были созданы Доблестные Воины.
А Хаману из Урика — кем он был прежде, чем стал бессмертным Доблестным Воином?
Мысли Хаману скользнули в сторону. Внезапно перед его мысленным взглядом предстало место, очень далекое от его драгоценного Урика. Он стоял в другом месте и в другом времени: поле созревшего золотого химали, на котором усердно работают его семья и их родственники. Теплый летний ветерок шевелит его волосы и осушает пот на спине. В его юношеских руках грабли для сена. Его младший брат — слишком маленький для того, чтобы жать зерна химали или работать граблями — сидит недалеко с красными трубочками у губ, развлекая сборщиков урожая во время работы. Мелодия брата потерялась во времени вместе с его именем. Но темноволосая и сероглазая девушка, стоящая в памяти рядом с братом и покачивающаяся в такт музыки, никогда не будет забыта, пока Король-Лев жив, как и ее имя: Дорин.
Ради Дорин Хаману стал мужчиной в глазах своей семьи. Ради него Дорин стала женщиной. Жизнь, которая лежала перед ними, наполненная полями с зерном, подрастающими детьми и любовью, для которой не надо никаких слов, была единственной жизнью, которой Хаману хотел жить. Если бы он сделал для Дорин то, что надо было сделать, если бы он решил защищать ее, как поклялся тогда, он никогда бы не увидел стены Урика.
Его тело лежало бы рядом с ее, превратившись в грязь и пыль, как тела всей его семьи и всех родственников, работавших на том поле.
Порыв ветра прервал воспоминания Хаману. Король-Лев отпустил баллюстраду и обернулся. Ветер принес пыль, пыль превратилась в грязную тень, приобрела форму, стала такой же высокой, как и он сам, но намного шире в плечах.
— Виндривер, — спокойно сказал он, когда тень стала полностью материальной, и последний командующий армии троллей встал между ним и бассейном.
Огромные, как полугиганты, но умные, как эльфы или дварфы, тролли были страшными врагами для армии, во главе которой стояли Доблестные Воины, а Виндривер был — и остался — самым ужасным из всех троллей. Он жил и сражался почти два века, прежде чем он и пятидесятилетний Хаману сошлись лицом к лицу для последней — для тролля — битвы. Тонкий занавес серебряных волос висел вокруг изогнутых назад ушей, а морщины на его лысом лбу впечатляли не меньше, чем его гребень. Возраст не сделал тусклыми обсидиановые глаза Виндривера. Они и сейчас, на крыше дворца, были черные, блестящие и острые, как и тогда, на сглаженной ветром верхушке утеса над бушующим морем.
— Потерял свои мозги? — спросил Виндривер. Хотя тролли и не любили говорить, они всегда были готовы оскорблять и ругаться. — Поджарил свою макушку так, что закоптил единственную извилину, как и все остальное?
Хаману зашипел, очень эффектный, высокомерный жест, учитывая его неестественную форму. Если меряться ненавистью, он и Виндривер были равны. Если Энвер был один из столпов, на которых покоилась власть Хаману, Виндривер был другим.
Тролль предпочел бы умереть вместе со своим народом, но Хаману не дал ему возможность выбора. Тело Виндривера давно превратилось в грязь и пыль — а тело Хаману нет — но Виндривер был жив, поддерживаемый той самой магией, которая питала самого Хаману. Он был бессмертным напоминанием о геноциде по отношению к завоеванным народам, и к завоевателю, который сделал это.
— Взгляни туда, на горизонт, — Виндривер указал на юго-запад, в направлении далекого Нибеная, экспортера испачканых шестов из дерева агафари, «потерянных» под развалинами Джиустеналя. — Что ты видишь?
— А что видишь ты? — парировал Хаману. — Кучу палок лежащих рядом со старым колодцем?
Виндривер служил Хаману. Правда, у тролля не было выбора. Король Урика мог простить ошибку, неудачу и даже ненависть к себе, но только не бесполезность своего слуги, живого, мертвого, или между ними. Виндривер был самый доверенный шпион Хаману; именно его король посылал для разведки к своим товарищам Доблестным Воинам.
— Для чего мне палки? Ты думаешь, что мне нужны костыли из-за моего преклонного возраста? — в свою очередь возразил троль.
— Не когда ты приносишь мне плохие новости.
Тролль хихикнул, показав крупные зубы, которые когда-то могли дробить камни. — Самые худшие, О Могущественный Правитель. На равнинах рядом с Нибенаем формируется армия. Правда старый Галлард не ведет ее — пока. Но я пролетел через палатки командиров и видел карты, нарисованные кровью на выдубленной коже темпларов Урика. Нибенай придет, Ману; заруби себе на носу, я знаю, что я видел. То, что Галлард послал в Джиустеналь, так, мелочь, не имеющая большого значения. Галлард, Погибель Гномов, собирается стать Галлардом, Погибелью Урика.
Хаману презрительно оскалил свои клыки, не доверяя троллю.
Галлард может отправить свою армию куда угодно — например в Тир или в еще более далекий Драй. Еще два года назад Драй был домом Лорда Урсоса, и среди перепутанных воспоминаний лорда были и картины кровавой анархии, которая сейчас правит Драем. Галлард не будет терять свою армию у стен Урика, когда трон Драя пуст. Не слишком вежливо вести свою армию через владения другого Доблестного Воина, но такое уже случалось.
— На этот раз ты ошибся, Виндривер. Ты переоценил самого себя.
Разочарованный, Виндривер втянул воздух и попытался еще раз. — Он приведет с собой своих детей, его тысяча раз по тысяче детей. Он поставит их против твоего места, тебе придется побить его ставку, и я не знаю, у кого больше шансов, у тебя или у этой толпы надоедливой мошкары, которая будет мелькать у тебя перед глазами и жалить со всех сторон. Где твои дети, Король-Лев Урика?
Тысяча лет не прошли даром — язык тролля стал острым и едким. Его последний вопрос попал в очень старую рану. Хаману опять зашипел, и пыль, которой был Виндривер, опять закрутилась столбом. — Урик — вот мой ребенок, все пятьдесят тысяч сердец, и все храбрее тебя. Возвращайся в Нибенай. Ужаль Галларда в глаза, если осмелишься. Подслушай его слова там, где никто не сможет услышать их, потом расскажешь мне о его планах.
Столб пыли, крутившийся на крыше дворца, поднялся в воздух и помчался в сторону Нибеная. Хаману проверил оружие и одежду, которое рабы приготовили для него. Когтистая лапа слегка дрожала, пока он делал еще один серый туманный разрез в неподвижном послеполуденном воздухе. Злость, сказал он себе, запихивая оружие и оставшуюся одежду в другой мир. Злость на Виндривера, потому что тролль сделал то, что делал всегда, и на себя, потому что жало попало в цель.
Урик действительно был его ребенком, его единственным ребенком. Он противостоял им всем — Галларду, Дрегошу, любому, кто бы не осмелился угрожать Урику. Раджаат предназначил ему одну судьбу, но он сразился с ней и, ради Урика, победил. Король-Лев никогда не проигрывал сражения, не считая самого первого.
Мерцающая сфера опять появилась вокруг его правой руки и распространилась на всю его выжженное, увядшее тело. Когда все закончилось, он опять стал желтокожим и темноволосым человеком, выше, чем он был за завтраком и намного мускулистее, одетый иллюзию доспехов, которые он хранил в другом мире. Его точеные руки больше не трепетали; впрочем и это было иллюзией.
Если они придут сюда, все разом и со всей своей силой, и ему придется выбирать между собой и своим городом… Да, это возможно. Но есть способ. По меньшей мере Хаману верил, что есть способ сохранить Урик. Но опасность была, огромная опасность, невозможно было заранее предугать все, и ему пребовалось сотрудничество с человеком, который был, несмотря на простоту, также необычен, как любой Доблестный Воин, с человеком, который поступал только так, как говорила ему совесть, и который служил примитивной силе, которой не мог приказывать сам могучий король Урика.
На этот раз, возможно, придется завоевывать сочувствие и симпатию этого человека. Иначе ему придется стать драконом, еще более ужасным чем Борс, бродивший по Центральным Землям.
— Я расскажу ему всю эту историю, даже напишу, — сказал Хаману оскалившимся львам, составлявшим его баллюстраду. — Когда он прочитает ее, он сможет сам судить обо всем, и если он будет судить по совести, по правде, Страж Урика ответит на его просьбу, когда он позовет.
Третья Глава
Через час после полуночи, когда рабы были давно заперты в своих домах и ночная стража темпларов дремала в коридорах дворца, Хаману из Урика вернулся из крыш и приемных своего дворца в самое сердце своих владений, подальше от глаз смертных. Ночным убежищем Хаману был тайный уголок, напоминавший самую обычную деревню; там был колодец и дома, заляпанные грязью. На стенах были нарисованы горы, пришедшие из предыдущей, более зеленой эпохи. Для работы на делянках и полях было заготовлено множество самых разнообразных орудий, и тем не менее виноградные лозы превратились с голые палки, увитые соломой. На фруктовых деревьях не было ни фруктов ни листьев.
Дверь потайного уголка Хаману всегда была закрыта, изнутри. Когда Хаману заходил в него, он делал это магически, проходя через тот самый другой мир, где он хранил свою одежду. Будучи внутри, он иногда открывал дверь, допуская внутрь Энвера или еще кого-нибудь из самых доверенных слуг, чтобы поговорить или просто поесть вместе. Но по большей части, когда Хаману приходил в свое убежище, он в одиночестве сидел на жесткой каменной скамье, свет звезд омывал жестокого короля Урика, а Хаману погружался в воспоминания.
Этой ночью, через десять ночей после того, как Хаману услышал сообщения Эден и Виндривера, и через десять ночей после того как он послал Энвера на спине канка на северо-восток через соляную пустыню, Лев из Урика опустил свое массивное тело на знакомую каменную скамью. В свой уголок он принес потрепанный письменный стол. На столе лежала пачка листов из самого тонкого, чистого — девственно чистого — пергамента, на которых еще не было сделано ни единой отметки. В лунном свете листы светились каким-то переливающимся, лазоревым цветом. Чернильный камень, масло, и красивое медное перо лежали перед пергаментом, ожидая когда король закончит задачу, за которую взялся.
Или скорее начнет.
Хаману думал, что это будет проще простого — письменно рассказать свою историю, заставить молчаливые буквы сделать свое дело, при помощи волшебства или псионики. Он думал, что он закончит к тому моменту, когда Энвер вернется с Павеком, его высшим, сославшим самого себя темпларом, ревностным новичком-друидом, на которого Хаману возлагал такие надежды. Он ошибся, как он не ошибался очень давно, начиная с Столетия Королей. Слова были в голове, более многочисленные, чем звезды над головой, но они страдали и извивались, как змеи в яме. Он искал одно, а поймал другое, совсем другое слово, которое подняло столько грязных воспоминаний, что он просто не мог дать им излиться на бумагу, пока тщательно не проверит их.
Вначале он думал, что эти во многом случайные мемуары развлекут его. Потом он обманул себя, поверив, что такие непостоянные, даже капризные мысли только помогут ему свести всю свою историю вместе. Этот оптимизм давно прошел. От иллюзий он избавился еще несколько ночей назад: писать намного сложнее, чем колдовать. Хаману знал любое волшебство под кроваво-красным солнцем; листы пергамента оставались пустыми. Он был на пути к полному отчаянию.
Шесть дней назад Энвер при помощи медальона сообщил о своем благополучном прибытии в — с точки зрения убежденного горожанина Энвера — унылый и примитивный поселок друидов по имени Квирайт. А несколько часов назад, на закате, дварф опять использовал свой медальон, чтобы сообщить — очень устало — что он, Павек и половина от первоначального эскорта дварфа из военного бюро находятся у ворот Урика.
А что случилось со второй половиной эскорта? Хаману подумал о мщении — его посланник путешествовал под его личной защитой, и он сам отомстит — но главным образом он собирался отвлечься на хоть что-нибудь, что спасет его от полуночи и чернильного камня.
Отстали, Ваше Всеведение: этот Павек, эта неоттесанная деревещина, оказался просто каким-то Тирским ураганом. «Идем домой, Лев ждет тебя», сказал я ему, как вы и велели мне, Ваше Всеведение, и в то же мгновение он вскочил на канка и стал отдавать приказы как командор. Он не останавливался на привалы, чтобы поесть или отдохнуть, Ваше Всеведение; по моему он вообще не спал. Четверо из ваших драгоценных канков мертвы, Ваше Всеведение, умерли от истощения. Если те, на которых мы едем сейчас, выживут, мы будем в Кело на восходе. Надеюсь, что, попечением Льва, в Урике мы будем в полдень, если этот бешенный Павек, Ваше Всеведение, не загонит нас как канков.
Я предупрежу твоих сыновей, дорогой Энвер, пообещал Хаману глядя на восток, в сторону Кело, на садящееся солнце. Твоя усталость будет вознаграждена.
Хорошо вознаграждена. Так как теперь невозможно было отвлечься на месть, Хаману провел весь вечер занимаясь подготовкой встречи дварфа и друида. Сыновья Энвера были предупреждены о скором возвращении их отца. Пир с холодным вином и сладкими фруктами, которые так любил старый темплар, был уже почти готов. Дом Павека, бывший Дом Экриссара, резиденция, которую Хаману предназначил для друида-темплара, был открыт в первый раз за два года. Были наняты свободные мужчины и женщины; Павек не любил, когда ему прислуживали рабы. Кладовые были наполнены, с окон убрали доски и проветрили комнаты, пока луны всходили на небо.
Все готово — за исключением истории Хаману.
Теперь отвлекаться было больше не на что, не было никаких извинений, его тайный уголок был тих и спокоен. Была только ночь, последняя ночь перед приездом Павека и стопка чистых листов пергамента. С тяжелым вздохом Хаману налил чернила на чернильный камень и опустил перо в черную ванночку.
Он думал, что это будет просто, но он никогда не рассказывал всю эту историю — настоящую историю — никому, даже себе, и со звездами, скользящими к восходу, он все еще не знал, как начать.
— Рассказывай, просто рассказывай, — потребовал он от самого себя. — Начни с начала, с конца или с середины, но начни, наконец!
Ты знаешь меня как Хаману, Льва Урика, Короля Гор и Равнин, Великого Короля, Могучего Короля, Короля Мира. Я — оплот войны и мира, мой щит висит над Уриком, мой меч побеждает в любом сражении.
Мое милосердие легендарно и… непостоянно. Моя справедливость прославляется повсюду… за жестокость. Мое имя — инструмент мщения, которое с опаской шепчут во тьме. Мои глаза — совесть моего города.
В Урике меня называют бог, я и есть бог, но я не выбирал стать чьим-то богом, по меньшей мере я этого не хотел.
Я не родился бессмертным, непобедимым или вечным.
Я родился как обыкновенный человеческий младенец более тысячи лет назад, в конце 176-го Столетия Королей. Когда солнце было на подъеме в Год Размышления Дракона, моя мать прилегла на соломе и родила меня, пятого из сыновей моего отца. Она назвала меня Ману, и прежде, чем мой черные волосики высохли, завернула меня в льняное полотенце и принесла в Гелд, где вся моя семья собирала урожай химали. Мой отец воткнул золотой початок в мои запеленутые руки и поднял меня вместе с созревшим зерном к солнцу.
Он благодарил его за дар жизни, за здорового ребенка и за щедрый урожай. Без дара жизни, человек будет беден всегда; с ним ему не надо ничего большего.
Женщина, которая помогала моей матери и пошла с ней к полю, принесла еще горячие пироги из химали, сладкий мед и молодое вино. Все мои родственники — начиная с дедушки матери и кончая моим двоюродным братом, родившимся за десять дней до меня — и другие семейства Дэша, нашей деревни, присоединились к нам на праздник начала новой жизни. Еще до заката меня подержали на руках все женщины деревни, чтобы я знал, как обо мне заботятся. И каждый мужчина подкинул меня над головой и поймал опять, чтобы я знал, что сильные руки всегда защитят меня.
Я помню это, так как моя мать часто расказывала мне эту историю, пока я был молод и потому что такой был обычай в семьях Дэша, так они встречали новую жизнь. И, кстати, я помню день своего рождения потому, что теперь я Хаману, а не Ману, и моя память устроена иначе, чем тогда, когда я был простым смертным. Я помню все, что случилось со мной. Правда после тысячи лет жизни большая часть того, что я помню, повторяет одно другое; я не могу сказать совершенно точно, когда то или иное событие случилось; только то, что оно произошло, много-много раз.
Совершенная память — еще одна часть заклинания, которое наложил на нас Раджаат, когда делал из нас Доблестных Воинов; лично меня моя память совершенно измучила. Каждый день я ищу новый опыт, новое переживание, которое не было бы эхом моей прошлой жизни. Я зарываюсь все глубже и глубже в грязь страстей смертных, надеясь найти такой момент, который еще не переживал, но родился я только один раз, именно тогда. Память об этом дне все еще сияет, как солнце, сияет как лица моей матери и моего отца.
Дэш был очень приятным и удобным местом для ребенка. Он был приятным, так как каждая семья жила в своем добротном доме и еды хватало на всех; семья моего дедушки жила в самом лучшем доме и питалась лучше всех. А удобно было потому, что Очистительная Война бушевала со 174 Столетия Королей, и армии нуждались в том, что давала деревня: воинах и еде.
Дэш вообще был обязан войне своим существованием. Мои предки последовали за Мироном Сжигателем Троллей в составе первой армии, посланной в северо-западные Центральные Земли, когда все остальные расы, появившиеся во время Возрождения — двоюродные братья людей, но более молодые: эльфы, дварфы, тролли, гномы, пикси, и все остальные, за исключением халфлингов — были вышвырнуты оттуда. Но мои предки были фермерами, не воинами. Как только армия обратила троллей в бегство, мои предки остановились в одной из долин горной системы Кригилл, на восток от Ярамуке.
Но Дэш никогда не был деревней троллей. Тролли вообще жители гор, шахтеры и ломщики камня. На протяжении всей своей истории они торговали с другими расами своим камнем, чтобы получать еду и другие вещи. Это была их ошибка, их рок.
Зависимость от торговли сделала их уязвимыми. Мирон из Йорама — первый Сжигатель — Троллей — просто запер троллей на Кригиллах, осадив все их основные крепости. Он мог просто уморить их всех голодом за несколько лет. Он мог бы воспользоваться волшебством, если бы он продолжал осаду, и волшебство опустошило бы Кригиллы. Горные долины стали бы, конечно, золой и пеплом. И Дэш не был бы основан. И я бы не родился…
Так что все было бы по-другому, если бы Мирон Сжигатель-Троллей был другим. Не уверен, что лучше, во всяком случае не для Урика, который никогда бы не прославился без меня. Просто по-другому. Но Мирон из Йорама был тем, кем он был: могучий, стремительный дурак, который вымел троллей из Кригиллов могучей стремительной атакой. Он превратил мирных работников по камню в бойцов с каменным сердцем, и его армия никогда больше не смогла победить их.
Позже, когда я стал Сжигателем-Троллей, все стало иначе. Но это было позже.
Когда я родился, уже не было пикси, также как огров и кентавров. Середина Центральных Земель — точнее то, что осталось от когда-то зеленых земель после Грозы-Пикси, Стирательницы-Огров и Дробителя-Кентавров, истребивших эти расы до последнего представителя — принадлежало людям. Остальные войны шли по окраинам. Мирон из Йорама сражался на далеком северо-востоке, где пустыня простиралась от восхода солнца до середины следующей ночи.
Как только тролли ушли из Кригилл, судьба решила, что люди-фермеры будут селиться в горных долинах. И все остальное тоже было делом рук судьбы.
После моего рождения моя судьба так переплелась с Сжигателем-Троллей, что никто в Дэше не имел ни достаточно ума, ни магии, чтобы предвидеть будущее. Не то, что мы совсем не знали о нашем месте в Очистительной Войне. Дважды в год наши фургоны, нагруженные зерном, ехали на равнины, где управляющие делами Сжигателя-Троллей покупали и продавали. С фургонами ехали как мужчины, так и женщины. Они сообщали управляющим свои имена и в замен получали оружие.
Иногда — не слишком часто — в Дэш возвращались ветераны. Мои средний брат не вернулся, зато вернулся дядя, это было еще до моего рождения. Одна его нога была обрублена выше колена, другая ниже, один взмах топора в руке тролля. В свое время все его дети проделали тот же путь, что и он, через управляющих. Один из моих двоюродных братьев вернулся, когда мне было десять лет. У него были и руки и ноги, зато не было глаз, и что-то повредилось в голове. Во сне он страшно кричал, и его жена не могла спать рядом с ним.
Я спросил его, что случилось, что он видит во сне?
— Огонь, — сказал он. — Огонь, который ярче солнца. Тролли верещат, когда когда горит их тело. И языки пламени вырываются из глаз.
Слова моего кузена напугали меня. Я увидел то, что видел он, как если бы это было мое собственное воспоминание… а теперь и эта картина стала моим собственным воспоминанием. Когда Сжигатель-Троллей убивает, он убивает огнем, который выходит из него. Это заклинание Раджаата: все его Доблестные Воины могли убивать своей мыслью. К тому же каждый из них мог убивать своим собственным путем, и этот самый путь ужасал не меньше самой смерти. Но мне было только десять и я не знал своей судьбы. Боязливые слезы хлынули мне на щеки, я побежал от кузена к отцу.
— Не делай со мной так. Не посылай меня против троллей! Я не хочу видеть горящие глаза!
Отец взял меня на руки и держал, пока я не пришел в себя. Он сказал, что никогда нет недостатка в людях, желающих присоединиться к армии Сжигателя-Троллей. Если я не хочу сражаться, я могу оставаться в Дэше всю мою жизнь, как это сделал он, мой отец. Когда я прильнул к нему, веря его словам всем моим сердцем и отбросив ужасные страхи, к нам присоединилась Дорин. Не говоря ни слова она взяла мою руку в свои и поднесла в своей щеке.
Она поцеловала мои трепещущие пальцы.
Мне кажется, что Дорин была на несколько лет старше меня; но никто не знал этого совершенно точно. Она родилась далеко на восток от Кригилл, там, где война между Сжигателем-Троллей и троллями была повседневной реальностью. Может быть она родилась в какой-нибудь деревне. Но скорее всего она родилась в одном из фургонов, которые шли за армией, куда бы та не шла. Потом она сумела убежать. Мирон из Йорама, чьи идеи о заслонах и полевых ограждениях не пошли дальше кучки солдат, державших в руках мешки с протухшим броем, оставил свой фланг без присмотра. Тролли пробрались незамеченными и как следует пощипали ему перышки, а Дорин осталась сиротой.
Управляющие отослали ее из зоны боев; они сделали это на свой собственный лад — загрузили опустевшие фургоны сиротами и ранеными, и отправили их туда, где троллей не видели многие поколения. Позже, когда армия стала моя, я вспомнил, что сделали управляющие и наградил их. Но в тот день, когда мне исполнилось десять лет и я выглядывал из рук своего отца, я в первый раз увидел по-настоящему красоту Дорин и кошмарное видение живых факелов исчезло из моего внутреннего взора.
— Я останусь с тобой, Ману.
Безусловно Дорин говорила со мной и раньше, но я никогда не слушал ее голос по-настоящему, и, хотя я был тогда еще очень молод, понял, что нашел недостающий кусок своего сердца.
— Я возьму Дорин с жены, — сказал я отцу, страхи и слезы были забыты. — Я построю для нее дом под холодными деревьями и она принесет мне детей. Ты должен сказать об этом Дедушке. Иначе он захочет отдать ее кому-нибудь другому.
Мой отец засмеялся. Он был высокий, толстый человек, а грудь у него была как бочка. Его смех можно было слышать от одного конца Дэша до другого. Дорин смутилась и покраснела. Она убежала, с руками прижатым к ушам, но не была недовольна…
И Отец поговорил с Дедушкой.
У меня оставалось еще шесть лет до того, как мне было разрешено полюбить Дорин, а ей меня. Шесть лет, чтобы построить дом в тени деревьев. Шесть лет, чтобы разучить мой свадебный танец. Признаюсь, я провел больше времени в развалинах разрушенных домов троллей, совершенствуя движение танца под музыку из дудочки моего еще более юного брата, чем лепил кирпичи из грязи для стен нашего с Дорин дома.
Так уж устроена память у детей, но я забыл рассказы моего двоюродного брата о троллях и об огненных глазах. Думаю, что я забыл и слезы, которые привлекли ко мне внимание Дорин. Тем не менее что-то из видений моего полусумашедшего кузена задержалось в самых глубоких слоях мое памяти. Я никогда не ездил с фургонами, везущими химали на равнины, тролли скорее очаровали меня и я провел много дней, исследуя развалины их домов на склонах Кригилл.
Буквы нашей собственной человеческой письменности не имели для меня тогда никакого смысла, зато я расшифровал надписи, найденные на могильных памятниках и статуях троллей. Я выучил их имена и имена их богов, которые они высекали на камне, который сами и добывали. Я видел, как они запаниковали, когда армия Сжигателя-Троллей появилась в долинах под ними, как они бросили свои дома, оставляя все за собой.
Каменные тарелки стояли на каменных столах, ожидая суп, который в них так и не налили.
Их скамьи были сделаны из камня, их кровати тоже; я был восхищен, когда думал об их силе и твердости тела. Со временем я научился узнавать разорванные в клочья остатки их полотенец, скатертей и матрацов в покрытых пылью углах их разрушенных комнат, но это не поколебало моего восхищения и уважения к ним.
Кувалды с головками из самого твердого камня лежали там, где их бросили, рядом с наполовину вырубленными глыбами камня. Их рукоятки из костей эрдланда сопротивлялись ветрам и дождям на протяжении двух королевских веков. Я легко мог себе представить, что бы случилось с человеческим черепом после удара такой штукой. Но кувалда не оружие; я не нашел в каменных руинах ни одного оружия смертельнее короткого ножа с каменным лезвием.
По правде говоря тролли были мирной безмятежной расой, пока Раджаат не создал своих Доблестных Воинов, а те не собрали свои армии. Мирон из Йорама научил троллей бояться, сражаться и, в конце концов, заставил их возненавидеть любую мысль о людях. Тем не менее чистая правда, что Дэш и тролли могли бы жить мирно и преуспевающи в Кригиллах, если бы не вмешался Раджаат. Люди не любят добывать камень, а тролли не умеют выращивать зерно. Но ко времени, когда я родился, между расами уже не осталось даже тени приязни. Было слишком поздно для мира, слишком поздно для любого исхода, кроме уничтожения, или тех или других. В этом сходились и Раджаат и Сжигатель-Троллей.
И было слишком поздно для Дорин.
Моя прекрасная невеста хорошо помнила свою жизнь до Дэша и не переносила любого упоминания о троллях. Для нее серокожие тролли были воплощением зла. Каждый день, на восходе солнца, она выходила за деревню и приносила жертву Сжигателю-Троллей, молясь за его победу. Ее ненависть была непоколебимой и легко объяснимой: она видела троллей своими глазами и видела резню, устроенную ими. Я же видел только свои развалины. Мои мысли о троллях были загадками, даже для меня.
В Дэше мальчик становился мужчиной в день шестнадцатилетия. Я мог бы взять Дорин в мой почти-законченный дом, но старейшины попросили нас подождать, пока следующий урожай химали не будет собран. Дорин и я уже были любовниками; так что мы спокойно могли подождать. Мы должны были пожениться до того, как родится наш ребенок.
Да, день моего рождения сияет в моей памяти, но день, который всегда стоит у меня перед глазами, это день Высокого Солнца на семнадцатом году моей жизни — года Мести Врагам, день, когда я и Дорин поженились. Я хорошо помню, как кровавое солнце поднимается над вершинами Кригилл, помню острый аромат еды, которую женщины начали раскладывать по тарелкам, помня смех, поздравления и звуки дудочки моего брата, когда я начал танцевать танец, в которм упражнялся шесть лет. Во время танца, под звуки музыки я сказал Дорин, что я буду обожать ее, защищать ее и хранить от всех неприятностей всю свою жизнь.
Я все еще танцевал, когда с гор до нас донеслись удары барабанов. На несколько ударов сердца рокот барабанов стал частью моего танца. А потом мой искалеченный дядя закричал «Барабаны Войны!», а еще один ветеран с криком «Тролли» бросился бежать со свадебного пира.
У нас не было времени ни убежать ни спрятаться, собственно говоря у нас не было времени даже как следует испугаться. Тролли хлынули в Дэш со всех сторон и удары их боевых топоров сыпались отовсюду. Во всяком случае так казалось мне тогда. Сейчас, когда я вспоминаю те события, я знаю побольше о том, что происходили тринадцать сотен лет назад, и понимаю, что их не могло быть больше двадцати, не считая барабанщиков, сидевших в укрытии за деревней. Но в то утро мои глаза видели сотни серокожих созданий, одетых в полированные доспехи и махавших кровавыми топорами.
Страх сделал меня бесстрашным и безрассудным. Оружия у меня не было, да я и не знал что делать с мечом, топором или копьем, даже если бы они оказались в моих руках. Посреди криков и суматохи я бросился на ближайшего ко мне тролля с голыми руками и даже не заметил удара, после которого оказался на земле.
Я рассказываю настоящую историю этого дня, со всем ее ужасом и болью: даже Доблестный Воин Раджаата не может надеяться — или бояться — вспомнить то, что происходило, пока он лежал без сознания. Я выбрал верить в то, что вся деревня умерла прежде, чем начался новый пир, только на этот раз уже троллей; я выбрал верить в то, что все мои мои родственники и знакомые умерли легко и быстро, а Дорин умерла самой первой из них всех. Впрочем мое сознание знает, что я обманываю свое сердце, потому что впоследствии я узнал, что делают тролли с побежденными людьми: их женщины вытаскивают кишки мужчин через разрезы в животе, или ломают им кости и вытаскивают еще бьющиеся сердца. То, что их мужчины делали с нашими женщинами, не обращая внимания на их возраст и красоту, лучше всего забыть…
Если бы я мог забывать.
Со временем я отомстил им, полностью; моя совесть больше не тревожит меня, но я по-прежнему благодарен судьбе за то, что так никогда и не узнал, что случилось с людьми Дэша. Судьба нанесла мне скользящий удар в голову, судьба спрятала меня под обломками того, что было моим свадебным пиром и моим домом. Тролли не сожрали меня только потому, что не нашли.
Солнце уже село, когда я наконец сумел открыть глаза. Моя голова была в огне, но не это заставило меня мигнуть. Наполовину свернувшаяся капля крови ударила по моей щеке, пока я лежал, поражаясь тому, что выжил и желая быть мертвым. Рапотрошенное тело того, кого я наверняка знал, но больше не мог узнать лежало прямо на мне. Я весь был покрыл запекшейся кровью и потрохами.
Когда я справился со своим отчаянием, то услышал языки пламени, потрескивавшие неподалеку — источник света, который позволил мне увидеть труп. Я услышал и грубый хохот пьяных.
Тролли, подумал я. Они уничтожили Дэш и теперь празднуют свой успех на его развалинах. Я не имел ни малейшего понятия, сколько осталось троллей, и ни малейшей надежды, что моя вторая атака будет более удачна, чем первая. Меня вообще не волновало больше ничего. Мои пальцы ощупали землю рядом со мной и схватили камень, даже больший, чем мой сжатый кулак. Вооруженный им и храбростью отчаяния, я вскочил на ноги и бросился на ближайший голос.
В неверном свете костров мне показалось, что голова, из которой шел этот мерзкий смех, было по меньшей мере вдвое больше моей. Пьяная или нет, она услышала мое приближение и небрежным ударом свалила меня на землю. Я опять очутился на мокрой от крови земле, уставившись в небо пылающей от боли головой, мои губы были разбиты, а по щекам тели слезы. Незнакомцы издевательски расхохотались. Когда я попытался встать, кто-то из них ударил меня ногой в грудь.
Он сделал бы умнее, если бы ударил посильнее, чтобы я потерял сознание: камень все еще был у меня в руке и я хорошо использовал его.
Человек упал, а я встал, пытаясь связать то, что я видел, с тем, что я помнил. Я помнил троллей, но пьяные парни были людьми. Это они хлебали вино Дэша, и они развели костер из обломков столов, слульев и дверей. Повсюду были следы кровой резни: разрубленные тела, тела без голов, отрубленные руки и ноги… Насекомые уже собрались тучей, а запах…
Быть может этим парням было все равно, а может быть они вообще уже мало чего соображали, но я никогда не нюхал запах насильственной смерти. Я разинул рот, как детеныш эрдлу, а потом все, что было у меня в животе, вылетело наружу.
— Так ты из этой деревни, малец?
Я повернулся на голос…
И увидел, что тролли сделали с ней, с моей Дорин. Живую или мертвую, они сорвали с нее свадебное платье и привязали ее к столбу рядом со стеной деревни. Лица у нее не было, грудей тоже; тело было покрыто кровью и грязью, внутренности торчали наружу. Я узнал ее по длинным черным волосам, в которых еще были вплетены желтые цветы, и по нерожденному ребенку, которого они обвязали вокруг ее шеи.
В моем сердце родился крик и немедленно умер. Я не мог двигаться, не мог даже повернуться или упасть.
— Как твое имя, малыш? — спросил один из парней.
Мое сознание было пусто. Я не знал.
— Не в состоянии говорить. Не знает свое имя. Может быть деревенский дурачок.
— Эй, дурень, голоден?
Еще один голос, может быть новый, может быть нет. Я слышал слова так, как если бы они прилетали издалека и улетали обратно. Теплый сырой ком стукнул мне по руке упал в грязь около моих ног. Мои глаза говорили, что это катыши из жареного мяса, но сердце говорило иначе. Еще несколько комков прилетело ко мне, еще больше смеха. Я начал дрожать и никак не мог остановиться.
— Закройте ваши глотки, — зло оборвала их женщина.
Сильные руки схватили меня и повернули. Я потерял равновесие и оперся на ту самую женщину — все-таки самое лучшее, что есть в людях, умение прощать — которую ударил своим камнем. Она была ниже меня ростом, но я оцепенел от ужаса и безнадежности, ноги не держали меня и ей пришлось напрячься.
— Дурни! Разве вы не можете догадаться? Это его деревня, его люди…
— Тогда почему они не забили его до смерти, как остальных?
— Он дурачок…
— Он сбежал. Повернулся к ним своим желтым хвостиком и сбежал.
Во мне поднялся гнев, но женщина держала меня крепко. Ее глаза приказали мне молчать.
— Ему двинули по голове, вот и все, — сказала женщина, защищая меня.
Ее руки ощупали мои волосы. Это было легкое, даже нежное движение, но от него проснулась боль в моем черепе и в моем сердце. Я вздрогнул от боли и отшатнулся.
— Да, удар был не слабый. Ему повезло, что он остался жив и не ослеп.
«Повезло» — самое последнее слово, которое бы я выбрал, но оно сломало заклинание, которое держало мой язык на привязи.
— Меня зовут Ману, — сказал я им. — А это место называется Дэш. Это был мой дом, пока этим утром не пришли тролли. А кто вы такие? Почему вы здесь? Почему вы едите вместе с мертвыми?
— Вы слышали это? — сказал один из парней с пьяным смешком. — «Почему вы едите с мертвыми» — слишком красиво сказано для крепко стукнутого фермерского пацана.
Но я уже знал, кто они такие. На самом деле была только одна возможность: это были солдаты армии Сжигателя-Троллей. Они преследовали своего врага — моего врага — и вернулись в Кригиллы.
— Где тролли? Вы отомстите за наших мертвых?
Еще больше смеха, улюлюканья и грубых шуток, пока до этого времени молчавший рыжеволосый человек не поднялся на ноги. Насмешки прекратились, но глядя в холодные твердые глаза ветерана я уже не был ни в чем уверен.
— Ты, фермерский пацан, еще не дохляк, если не попытаешься сам себя кокнуть слишком красиво говоря.
От него веяло уверенностью и жестокостью, прирожденным лидерством, как от моего дедушки. Женщина рядом со мной от страха даже обмякла. Ее взгляд стегнул меня, как кнутом. От меня ожидали, чтобы я тоже испугался его. Что я и сделал. Я сравнил себя с солдатами Сжигателя-Троллей и понял, что я меньше последнего из них во всех отношениях, кроме одного: я умнее. Я смотрел на их, и мне было ясно, что они из себя представляют. Они презирали меня, и я выпрямился. Они издевались над моей речью, что ж, я стал тщательно выбирать слова.
— Дык я прямо говорю: мы фермеры, и армия Сжигателя-Троллей поклялась, что спасет нашу расу и загонит всякого ублюдка-тролля в могилу. Я видел, как вы помогли нам, людям Дэша; теперь покажите мне могилу с погаными троллями.
Рыжеволосый человек вскинул свой кулак, но вся моя одежда была в крови моих родственников и друзей. И когда я встретил его взгляд моим, он не осмелился ударить меня.
— Где тролли? — повторил я. — Они вернулись на равнины? Или они сейчас уничтожают Корлайн, как они уже уничтожили Дэш? — Корлайн был еще одной деревней в Кригиллах, немного выше нашей по долине. — Или они рассеялись в горах над нами? Я знаю места, в которых они жили раньше. Я могу отвести вас туда.
Внутренним зрением я видел людей Корлайна, не такими как знал их, но такими, какими стали люди из нашей деревми: покалеченными, окровавленными, разорванными на куски и с вырванными лицами. Я не почувствовал ничего по отношению к ним; я вообще ничего не чувствовал, за исключением нужды во мщении.
— Вы могли бы вырезать их всех, как они вырезали Дэш.
— Вырезать! — недовольно проворчал рыжеволосый человек. — Нам? Нам вырезать троллей? Рискнуть нашими жизнями ради их… или тебя?
В глубине его глаз была тайна. Я видел это, видел и вызов. Он ответил бы на мои вопросы, если бы у меня хватило наглости их задать, но он не думал, что я выживу с таким знанием. Возможно я не стал бы спрашивать, если бы он не искушал меня, именно тогда, своим презрением.
— Почему вы здесь, — вернулся я к своему прежнему вопросу. — Почему вы едите в компании мертвых? Почему вы не охотитесь и не режете троллей, которые перерезали нас?
Рыжеволосый усмехнулся. Его зубы были в желтых пятнах, а один был заострен, как клык. — Это работа Сжигателя-Троллей, пацаненок. Он, и только он режет троллей. Да, мы гоняем за ними, парнишка, но и только. Потом приходит он и поджаривает их. А мы только ворошим серый пепел и зарываем его. Я видел, как это случается. Это — он вытянул свою мозолистую ладонь в сторону моей бедной Дорин — это ничего, парень, по сравнению со сжиганием. Тролли могут убить тебя и еще тысячи таких как ты, мне на это плевать с высокой башни, пока тролли будут гореть, когда придет он.
Я стоял молча, разрываясь между отвращением и гневом. Женщина, по-прежнему стоявшая рядом, сжала мою руку.
— Это правда, мальчик, — сказала она.
Проглотив свое отвращение, я дал сказать своему гневу, но негромко, медленно и холодно. — А где Мирон из Йорама? Когда придет Сжигатель-Троллей? — Откровенно говоря, я думал, что знаю ответ на свой вопрос, но мне нужно было услышать его.
Еще одна презрительная усмешка рыжеволосого ветерана. — Может быть сегодня, а может быть завтра или послезавтра. Мы гоняем за этими троллями с начала Высокого Солнца. — Едкая усмешка. — Он знает, где мы, пацан. Он придет, когда ему будет удобно, но не раньше. А пока, будь спок, мы бежим за ними, близко-близко, и ни один живой человек не должен знать, где мы находимся.
— Я живой, — сказал я, — и я знаю.
Он вынул костяной нож из ножен на поясе. — Тролли оставляют за собой мясо, а не живых.
Я понял, что сейчас умру. Все, кого я любил и уважал в этой жизни, уже умерли. Их тени звали меня из тьмы. Я принадлежал Дэшу, моей семье, всем, кого я любил. Но мой гнев был сильнее, а смерть не утолила бы мою жажда отомстить им всем: троллям, людям, и особенно Мирону из Йорама. Голос, который я едва узнал, хотя он вырвался из моего горла, сказал:
— Возьмите меня с собой. Дайте мне идти за троллями, пока не придет Сжигатель-Троллей.
— Годный-для-ничего фермерский пацан? Что ты умеешь делать, малец — кроме как рыться в грязи.
— Я присмотрю за ним, — сказала женщина, которая все еще стояла рядом со мной, прежде, чем я успел что-то сказать.
— Джиккана, Джиккана! Ты разбила мое сердце, — выкрикнул еще один мужчина с пьяным смешком. — Он же еще мальчик. Последние десять ночей в твоей кровати был совсем не он.
Она с яростью повернулась. — Мой самый лучший нож обещает, что он останется в ней дольше тебя.
Мужчина заткнулся, и нож остался в ножнах.
Бледно-лиловое сияние появилось над нарисованными горами восточной стены убежища Хаману. Ночная тишина сменилась отрывистыми командами офицеров дневной стражи, занимавших свои места на стенах города. Начиналось еще одно утро Урика. Отложив перо в сторону, Король Урика размял свои усталые пальцы. Отчетливые черные строчки храбро заполнили несколько листов драгоценного пергамента. Еще большее число листов валялись в саду, разорванные и смятые. Два листа остались нетронутыми.
— Мне нужно больше пергамента, — прошептал Хаману. — И больше времени.
Четвертая Глава
Дневная жара опять пришла в Урик. Там и здесь поднимался к небу хор прожорливых насемых, кишевших повсюду. Все остальные свободные создания, если у них было хотя бы немного ума, старались спрятаться от смертоносных лучей темного солнца. Во всем государстве Хаману деловой шум затих, шаги рабочих сменились храпом. Над сжигаемой жарой мостовой пустых рыночных площадей танцевали бесчисленные миражи-приведения, пока купцы самым разнообразным товаром дремали внутри своих ларьков.
За стенами города, на зеленых полях и в деревнях, рабочие отложили в сторону свои мотыги и лопаты, и растянулись рядом со своими животными. Совсем далеко, в сложном лабитинте горных шахт, которые были печально знамениты обсидиановыми ямами, надзиратели пили холодный фруктовый чай, удобно расположившись под кожаными навесами, а несчастная масса рабов получила пару часов отдыха и неограниченный доступ к боченкам с водой.
В этом не было никакого особого милосердия, напомнил себе король, который, как и его далекие рабы, пил мелкими глотками воду из деревянного черпака в тени своего потайного уголка, глубоко внутри дворца. Пока был жив Дракон, Борс из Эбе, он каждый год брал оброк: тысячи живых душ с каждого Доблестного Воина, чтобы поддерживать заклинание вокруг тюрьмы Раджаата. Обсидиановые ямы требовали больше жизней — намного больше — но на них держалась безопасность Урика.
То, что рабы отдыхали каждый полдень, гарантировало, что они проживут немного больше и немного больше дней будут врубаться в черные жилы обсидиана. Впрочем, жизнь раба на обсидиановых копях редко длилась больше, чем сто пятьдесят дней, две пятых Атхианского года, который длился триста семьдесят пять дней. Обсидиановые мечи служили не намного дольше; даже когда ими не пользовались, они тупились и шелушились. Поддерживать равновесие между количеством способных работать рабов и числом корзин с драгоценной колючей рудой, от которой зависела оборона Атхаса, было задачей, выполнение которой Хаману отказался отдать своим темпларам. Это был его один из самых старых декретов, который давал несчастным рабам отдых днем, и именно угроза его личного вмешательства держала темпларов-надсмотрщиков под своими пологами.
Определенно, в этом не было никакого особого милосердия.
Зато милосердие было прямо здесь, скрывая присутствие короля от Павека, который спал мертвым сном в тени одного из мертвых плодовых деревьев. Разбудить человека с лицом, изуродованным шрамом, было не труднее, чем вздохнуть, но Хаману сопротивлялся искушению, которое, на самом деле, не было искушением. Жалкий ужас смертных сопровождал его все время; сладкий сон истощенного человека был редкой драгоценностью.
Сразу после возвращения в город вчера после полудня, Энвер послал гонца во дворец, прося суток отдыха, прежде, чем он мог вернуться к своим обязанностям. Однако верный Павек зашел в свой дом в Урике только для того, чтобы помыться и поменять запачканную грязью одежду. У ворот дворца он появился, когда солнце уже садилось, и провел добрую часть ночи за рабочим столом, читая под светом лун тонкие листы папируса.
Павек был умный человек; он легко разбирал почерк Хаману, понимал рассказ и выводы из него, но, самое главное, он был честный человек, и излучал свои эмоции как огонь излучает тепло. Этим утром он излучал интенсивное нежелание говорить о том, что прочел. Хаману согласился с этим нежеланием, по своему, и пригласил новичка-друида поработать в своем безжизненном саду.
Голые пни и аккуратно увязанные тюки с ветвями и соломой свидетельствовали о тщательной работе Павека — по меньшей мере пока он не свалился от усталости. Он так и остался лежать на этой свеже-расчищенной земле, ноги согнуты в коленях, одна рука под щекой, безмятежный как ребенок. Картины, чем-то похожие на миражи, танцевавшие над пустыми рыночными площадями, мерцали над плавно движущимися ребрами Павека, но в отличии от вызванных жарой настоящих миражей, которые любой смертный мог видеть, только Хаману мог видеть тонкие образы снов своего высшего темплара.
Впрочем, это были простые сны простого мужчины: образы тех, кто жил рядом с ним и кого он, по-видимому, любил. В центре вспыхивающих и гаснувших образов была женщина; губы Хаману сложились в понимающую улыбку. Прекрасная блондинка с великолепной фигурой, Хаману видел ее только однажды, ночью в Квирайте, но Лев Урика точно знал, что его уродливый темплар ничего не преукрасил. Хаману не знал ее имя; сликом много имен смертных, привязанным к лицам, он слышал за тринадцать веков, никакой памяти не хватит, чтобы сохранить их все. Но он узнал ее по особенному строению ее сознания и абсолютной честности сна Павека.
Эта белокурая женщина-друид попала в руки бывшего любимца Хаману, Элабона Экриссара, во время кризиса с зарнекой; именно тогда Павек впервые привлек к себе внимание Хаману. Следы плохого обращения, пренебрежения, да и просто пыток были отчетливо видны под ее внешней красотой и жизнерадостностью. За то время, что Хаману не видел ее, она несколько подлечилась, но не вылечилась полностью, потому что не хотела принять любовь и дружбу, которые его высший темплар предлагал ей. Впрочем со временем может быть так оно и будет; женщины чаще всего очень искушены во всем, что касается сердец смертных, а ее вырастила Телами, архидруид, которая была одной из мудрейших женщин Атхаса.
Впрочем, может быть и нет. Невидимые болезненные шрамы зачастую дают больше надежности и безопасности, чем любовь любого мужчины.
За свою долгую жизнь Хаману видел почти все, что может случиться с хрупкими и недоговечными смертными; мало что могло удивить — или заинтересовать — его. Отец Энвера, который прожил двести пятьдесят шесть лет, начал смотреть на мир с беспристрастностью бессмертного только незадолго до своей смерти. Павек, однако, был еще молод, а эта женщина была еще моложе. Мужчина и женщина живут дольше чем цветы, и они значительно разнообразнее, но Хаману видел, как быстро они увядают — особенно когда он использует их для своих целей.
Он слегка согнул указательный палец. Павек вздохнул, картины женщины в его сне исчезли, заменились другими. Теперь над плечом Павека витал мальчик, крепкий черно-волосый мальчик, который улыбался слишком легко и охотно, чтобы быть воспитанным в приюте для темпларов, как сам Павек. Слегка порывшись в памяти, Хаману вытащил оттуда имя мальчика: Звайн, был в другой части дворца, немногим меньше двух лет назад. Он вспомнил его имя, потому что это имя было необычно для Урика и из-за чувства позора и страдания, которое излучал этот Звайн: мед для языка бессмертного.
Да, и Звайн был еще один смертный, которого мучили как Экриссар, так и Телами. Он был сиротой, но не из-за своей ошибки, и выжил, потому что в тот момент, когда ему было совсем плохо, Павек протянул ему руку.
Этого было почти достаточно, чтобы один из Доблестных Воинов Раджаата поверил в справедливость и высшие силы.
Но на всякий образ Звайна, победившего свою судьбу, приходился десяток образов медноволосого Руари, порхавших рядом с ним. Юный полуэльф во сне Павека был хорошенький, гордый… хрупкий и так-аппетитный для пресытившегося короля, который страстно желал чувств своих подданых. Хорошо, что Павек оставил своего незабываемо-беспомощного друга в Квирайте. Даже во сне другого человека глубокие внутренние проблемы громко заявляли о себе, а медные глаза сверкнули зеленым, когда далекое сознание ответило на голод Доблестного Воина…
А потом все исчезло вместе с зевком Павека, приподнявшимся на локте.
— Великий! — пробормотал темплар с все еще затуманенными сном глазами. В его мыслях воцарилась паника. Он не знал, надо ли ему встать и поклониться, или остаться лежать, с лицом прижатым к земле.
— Я прервал твой сон, — слегка извиняющимся тоном сказал Хаману.
Глаза Павека раширились; он принял решение. Его голова упала на землю, как камень, и он распростерся перед своим повелителем.
— Великий, я не помню…
И это была ложь; честнейший человек лжет, чтобы защитить правду.
Павек не хотел вспоминать свой сон, но Лицо Руари плавало на поверхности его сознания и не тонуло — не могло утонуть — пока Хаману не освободил его, после чего этот огромный человек затрясся от внутреннего холода несмотря на подавляющую жару.
— Когда я попросил тебя привести в порядок мой сад, — мягко начал Хаману, — я ожидал, что ты продемонстрируешь свое искусство в заклинаниях друидов. Я совсем не ожидал, что ты будешь работать до изможения, копаясь в земле с киркой и лопатой.
Хаману сам соврал, чтобы быть наровне с Павеком. Он прекрасно знал, что никакая магия, кроме его собственной, не сработает в его дворце, и именно его магия управляет этим убежищем. Правда он надеялся, что Павек сможет пробудить своего стража, чтобы вдохнуть новые силы в истощенную и безжизненную почву, но, откровенно говоря, он был бы разочарован, если бы Павек подчинился ему и попытался использовать что-нибудь другое, кроме пота и мышц.
— Если вы хотите, Великий, чтобы лес возник немедленно, за одну ночь, вы должны были бы позвать кого-то другого. — Как всегда, упрямая честность Павека победила страх и здравый смысл.
— Другого друида? — спросил Хаману; терзать смертных — мучать и пытать их — было сравнительно мягкое обхождение с теми, кто не собирался противиться ему; таким образом он спасал их от своих самых страшных заветных желаний. — Твоих друзей, может быть? Руари? Или ту блондинку, которая так много значит для тебя — и для которой ты не значишь ничего? Кстати, подскажи мне ее имя, Павек; я забыл его.
— Акашия, Великий, — тихо ответил Павек; темплар не может не подчиниться прямому приказу своего короля. Плечи человека затряслись, когда он поднялся на колени. — Она скорее умрет, чем будет служить вам, Великий, но даже если вы заставите ее, она не сделает больше того, что сделал я. Ничего не может вырасти здесь. Эта почва выжжена.
А что, мог бы спросить Доблесный Воин Раджаата, заставило тебя использовать такое такое странное слово? — А ты, Павек? Разве я заставляю тебя? — спросил Хаману, уже намного менее дружелюбно.
— Н-не знаю, Великий. Когда я слышу ваш голос — Когда я чувствую вас в своем сознании…
— Ты чувствуешь принуждение? Неужели ты почувствовал принуждение, когда Энвер передал тебе послание, написаное самыми обыкновенными чернилами на самом обыкновенном листе пергамента?
— Вы знаете, где находится Квирайт, Великий. Он вашего гнева нет и не может быть защиты, вы можете наказать нас всех. Как я мог отказаться?
Павек говорил в землю. Его глаза были закрыты. Он ожидал, что сейчас умрет, тысячей самых разнообразных смертей, одна ужаснее другой, но ничто не мого удержать его от того, чтобы сказать правду, как он понимал ее. И тем не менее, ирония судьбы, среди всех живущих под кровавым солнцем Атхаса именно Павек был одним из тех немногих, которые могли не бояться Короля-Льва. Ему не нужно было бояться и за свой драгоценный Квирайт; Телами выпросила из него обещание вечной безопасности для своей деревни задолго до того, как родились дедушки и бабушки Павека.
— Я дарую тебе право отказываться служить мне, Павек. Прямо сейчас, я гарантирую тебе это. Если хочешь, можешь выйти через эту дверь. Уходи, и знай в своем сердце, что я не буду преследовать тебя. Решение за тобой, — сказал Хаману, а в его воображении человеческое тело и одежда из льна вспыхнули, запылали желто-оранжевым цветом, а сердце человека, видимо что-то почувствовав, забилось быстрее.
Хаману втянул в себя свое Невидимое влияние: он мог заставить человека мыслить так, как того хотел. Мир стал тише и спокойнее, когда его чувства ограничились, стали как у обычного смертного. Он на самом деле не знал, что выберет Павек. Когда Телами ушла, у него хватило силы духа и твердости сдержать свое слово; другим так не повезло. Хаману сам не знал, что он сделает, если Павек решит уйти. Ставки были высоки, но даже после тринадцати сотен лет управления городом мысль о том, что какой-то жалкий смертный может не подчиниться ему, была как ядовитая заноза в сердце.
Павек оперся о ручку лопаты и поднялся на ноги. — Я слишком долго был темпларом, — сказал он, втыкая лопату в землю. Оставив ее торчать из бесплодной почвы, он коснулся пальцами золотого медальона, висевшего на шее под рубашкой. — Скажите мне придти, Великий, и я приду. Скажите мне уйти, и я уйду. А если вы попросите меня выбрать, я останусь стоять там, где стоял, потому что я такой, как я есть.
Хаману выдохнул, и снова стал управлять миром вокруг себя. Хотя золотой медальон Павека, висевший на золотой цепи, находился между пальцами его темплара, Хамана чувствовал все, что происходит в сердце мужчины, стоявшего перед ним, ощущал малейшие вибрации его мыслей. Честность как всегда победила.
Зато глядя внутрь своего собственного сознания, Хаману видел множество вопросов, на которые он не мог даже надеяться получить ответ. Ожидал ли он другого от Павека? Разрешил бы он Павеку спокойно уйти, или же был риск, что привычки всей жизни окажутся чем способности Доблестного Воина заставлять своих подданных? Он был последний из Доблестных Воинов Раджаата, и эта его способность стала привычкой, глубоко укоренившейся в нем, как и в любом из его темпларов. Много веков назад такая исковерканная психика восхитила бы его, на за тысячу лет самоанализ ему просто надоел. Он тоже был тем, кем он был.
Его глаза встретили взгляд Павека. Несмотря на страх, недоверие и привычки, которые пропитывали все существо темплара, тот не отклонился и не вздрогнул. Возможно, он был именно тем человеком, на которого мог положиться любой Доблестный Воин: воин, который может выдержать твой взгляд.
В данный момент достаточно одного взгляда. Павек был далеко не единственный темплар, который требовал внимания Хаману. Кто-то еще положил свою руку на медальон. С быстротой молнии Хаману определил металлический медальон, драгоценный камень на нем и твердую руку, которая его держала.
Командор Джавед.
Искра узнавания прошла через другой мир и дошла до военного бюро. Когда она встала в выемку в медальоне Джаведа, они оба объединились в мыслях Хаману. Он послал Виндривера шпионить за Кролем-Тенью — бестелесный тролль может проникнуть туда, куда заказан вход любому смертному — но он послал и своего собственного воина, чтобы разведать все об армии Короля-Тени. Он не удивился, узнав, что командор вернулся в Урик первым.
Рассказывай! потребовал он, потому что было намного легче слушать, чем вслепую рыться среди хаотических мыслей. Где войско, которое Король-Тень ведет через нашу страну?
Ушло в тень, как и их король, Великий, как только увидели нашу пыль на горизонте, рассказал Джавед. Женщины и их наемники улизнули, не захотев сражаться с нами лицом к лицу.
Хаману нахмурился. Многие столетия он и Галлард, Погибель Гномов, посылали войска на пустынные границы своих владений и устраивали маленькие сражения, тренируя войска и заодно стараясь понять, нельзя ли добиться серьезной победы. И никогда такого не было, чтобы войска Нибеная сбежали с поя боя еще до его начала. Он пробежался по поверхности сознания эльфа, собирая картины покинутого лагеря: холодные очаги, пустые траншеи, пустые загоны для канков.
Ничего ценного, вообще ни единой мало-мальски ценной вещи, задумчиво сказал Хаману к удовольствию своего командора. Нет даже перевернутого горшка для еды или остатков корма для канков. Они планировали отступить без боя с самого начала.
Так и мне кажется, Великий, согласился Джаред, как только Хаману собрался углубиться поглубже в его воспоминания. Я иду к вам, Великий. Мысли эльфа расплылись в сером эфире нижнего мира.
Темплары Урика обычно не изучали Невидимый Путь. Его тайны уходили корнями в силы, которые Хаману не мог контролировать, как он контролировал элементарную магию, которую распределял через медальоны. Исключения он делал только для командоров и других темпларов высшего ранга, чьи мысли могли бы прочитать враги Урика.
Как мыслеходец, Джавед не мог даже и подумать, чтобы соревноваться со своим королем, но мог подать сигнал тревоги, а Хаману всегда был наготове.
Я иду к вам, Великий, повторил командор, распространяя свое сознание так, чтобы король мог видеть громадного канка, на котором он, эльф пустыни, скакал из уважения к своему королю, потому что жук все-таки был быстрее, чем не слишком молодые заслуженные ноги.
Зеленый лабиринт орошаемых полей фермерских хозяйств Урика уже был виден со спины канка-гиганта.
Великий, даруй мне быстрый проход через Модекан к воротам Урика и за них.
Темплары — даже высокопоставленные командоры вроде Джаведа или носители золотых медальонов вроде Павека — могли использовать свои медальоны, чтобы напрямую связываться со своим королем, но только не друг с другом. Если командор хотел избежать конфронтации с темпларами гражданского бюро, которые контролировали передвижения по спицам колеса, в центре которого находился Урик, а тем более если он хотел доехать на канке прямо до ворот королевского дворца, Лев из Урика должен был отдать несколько распоряжений.
Даровано, сказал Хаману. Он оборвал контакт через Невидимый Путь.
Хаману вызвал легкоузнаваемые крыши зданий Модекана из своей памяти и сделал их настоящими. Глядя из другого мира, он увидел как одетые в желтое темплары, дремлющие на своем посту у ворот, внезапно проснулись и в шоке схватилась за свои медальоны. Все как один обратили лица с отлившей от них кровью к небу, на котором по воле Льва появилась пара огромных желтых глаз с с вертикальной щелью зрачка.
— Герой Урика скоро появится.
Хаману передал свой голос из дворца в деревню, где его мог слышать каждый темплар, и весь остальной Модекан тоже. Раздались громкие одобрительные крики, вся деревня бешенно зааплодировала. Если бы Хаману не был абсолютно уверен в верности Джаведа, он мог бы даже позавидовать популярности эльфа. А так он просто продолжил выкрикивать свои приказы.
— Герою вопросов не задавать и не мешать. Освободить ему дорогу на Урик. Обеспечить максимально быстрый проход.
В казармах деревни дисциплина была поставлена из рук вон плохо: половина темпларов упала на колени, остальные ударили кулаком в грудь, приветствуя короля. Но воля Хаману будет выполнена — он аккуратно коснулся сознания каждого темплара острым краем своего гнева прежде, чем закрыл глаза. Через мгновение глаза короля появились над южными воротами Урика, потом он моргнул и опять перенес внимание на свое убежище.
Павек все еще глядел на него. Хотя разговоры через медальон остались для него тайной, он безусловно слышал сказанные команды и сделал свои собственные заключения.
— Командор Джавед, Великий? — спросил он. — Урик в опасности, Великий? — Остальные вопросы в сознании Павека: «Поэтому и позвали меня? Вы ожидаете, что я вызову стража?» остались непроизнесенными, но, конечно, не неуслышанными.
— Ты сможешь сам судить об этом, Павек, — предложил король, одновременно великодушно и требовательно. Он разрешил блеску в его желтых человеческих глазах исчезнуть, и темплар смог отвести взгляд.
Было еще достаточно времени, так что дворцовые рабы успели вымыть Павека душистым мылом и переодеть в изысканную одежду из гардероба самого короля. Шелк едва касался плеч Павека, а потом красиво струился вдоль его рук и ног. Внушительная фигура Павека вполне могла принадлежать какому-нибудь командору, но ему не хватало величия. Вслед за Хаману он пошел в королевскую приемную, выглядя именно тем, кем он был: самым обычным человеком в чужой одежде.
Короли-волшебники, одним из которых был Хаману, обычно строили дворцы с монументальным тронным залом, который заставлял смертных чувствовать себя мелким и ничтожным, когда они входили в него. В зале Хаману стоял украшенный драгоценными камнями трон, который вызывал боль в его спине совершенно независимо от того, в какой форме он на нем сидел. К сожалению, обстоятельства требовали, что он принимал просителей в полных доспехах… и получал полную порцию боли. Иногда он спрашивал себя, как остальные переносили эту пытку — может быть они знали какое-то заклинание, которое он упустил, или просто страдали меньше, потому что не морили себя голодом и на их бессмертных костях было побольше мяса, чем у него.
Но скорее всего другие наслаждались этим зрелищем, а Хаману нет. У него было достаточно мало общего с ними с самого начала, и никакие последующие события не сделали их ближе. Он видел их крайне редко, во всяком случае намного реже чем рабов, подстригавших его мнимые ногти. Говоря по правде, Хаману не считал их ровней себе и уж тем более своими товарищами. Самыми его ближайшими товарищами были его собственные мысли, и те места, где он жил, только подчеркивали его добровольную самоизоляцию.
Хаману предпочитал заниматься делами Урика в простой комнате, в которой на стене висела пара всегда зажженных факелов, и единственной мебелью были мраморная скамья и черный валун на мелком сером песке. Вода магически лилась из валуна и, когда Хаману входил в комнату, начинала стекать по трем из четырех грубо отделанных стен.
Журчание стекающей воды успокаивало нервы Хаману и заодно внушало почтение друида-новичка, который старательно подавлял в себе интерес к заклинанию, которое заставляло воду течь. На самом деле маленькие водопады имели совершенно простую цель: разговоры в комнате было невозможно подслушать, ни физически, ни магически.
— Садись, — сказал Хаману Павеку, пока он сам ходил вокруг сверкающего камня размеренным шагом солдата. — Джавед уже прошел через ворота. Скоро он будет здесь.
Павек подчинился. Он сфокусировался на воде, текушей из валуна, и его мысли явственно успокоились. Затем мысли Павека исчезли в песке. Хаману перестал ходить. Он мог видеть человека глазами, слышал его дыхание и ровные удары его сердца, но Невидимое присутствие, при помощи которого Король-Лев глядел за своими темпларами и вообще за любыми живыми созданиями, привлекавшими его внимание, внезапно и полностью прекратилось.
Даже Телами не смогла бы проделать такой трюк.
Страж, сказал себе Хаману, друидическая сущность Урика, который держался в стороне от любых сверхъестественных созданий, созданных магией Раджаата, но приходил на зов самого обыкновенного человека. Лев из Урика немедленно создал незаметную сферу вокруг своего друида-темплара и дал ей расшириться, надеясь заметить какие-нибудь колебания в нижнем мире, которые сказали бы ему о присутствиии стража.
Он не нашел ничего и стал размышлять о такой форме магии, которая может скрыть мысли человека от внимания Доблестного Воина, когда трубы объявили о прибытие Командора Джаведа. Хаману коснулся сознания стражей в коридоре и высокие бронзовые двери открылись, пропуская эльфа, который носил свой титул, Герой Урика, уже больше сорока лет.
Эльф был высок даже для своей расы. Когда он стоял, его голова и плечи возвышались над Павеком, да и над самим Хаману в образе человека. Кожа и волосы были черные, как валун в центре комнаты — точнее они такими были бы, если бы он не сказал так быстро и не пришел прямо к своему королю, нигде не задерживаясь. Дорожная пыль покрывала командора с ног до головы; он почти выглядел на свой возраст. Павек, который был высшим темпларом и превосходил командора по рангу, встал и предложил ему свое место на каменной скамье.
Джавед поклонился до земли Хаману, потом повернулся к Павеку. — Я и так слишком долго сидел, милорд. Для старых ног старого эльфа будет лучше немного постоять.
Что было правдой, насколько Хаману мог судить. Хаману мог чувствовать, как болят старые кости Джаведа и натертые за время пути раны. Он мог бы сделать так, чтобы они не беспокоили эльфа, как его самого не беспокоила собственная боль, но это безусловно унизило бы командора, было бы ударом по его чести.
— Может быть я могу подержать это? — спросил Павек — вечный регулятор третьего ранга — протягивая руку к завернутому в кожу свертку, который Джавед держал в одной руке.
Но ради этого свертка Джавед несся через пустыню и рисковал гневом своего короля, ставя псионический щит. Командор испытывал к темплару со шрамом на лице что-то вроде отеческой любви, но сверток мог доверить только своему королю.
— Что ты нашел, Джавед? Карты, свитки? — спросил Хаману, стараясь сдержать свое любопытство, которое могло убить любого, слишком много времени стоявшего между ним и удовлетворением своего желания.
Джавед хорошо знал своего короля и видел, что происходит. Он быстро положил сверток на скамью и перерезал жилы иникса, обвязанные вокруг него. Если бы он попытался развязать узлы, то рисковал бы своей жизнью. Под кожей оказались слои шелка, несколько бледно-желтых вязанных рубашек, которые, как настойчиво утверждал Джавед, были лучшей защитой для смертных от отравленных стрел и мечей халфлингов.
Хаману сжал кулаки, пока командор осторожно, рукав за рукавом, откладывал рубашки в сторону. Он уже знал, что в центре пакета Джаведа было что-то достаточно обыкновенное: свиток с заклинанием, карта местности или еще что-то в этом духе. Хотя ни один из смертных этого не заметил, в комнате стало тише, когда небольшая магия, циркулировавшая по стенам под видом воды, впитала в себя зловещее излучение, поднимавшее из-под шелка. Так что Лев из Урика спокойно ждал, пока его командор не отступил в сторону.
Последний слой шелка, которого Джавед отказался коснуться, выглядел так, как будто лучи смертельного солнца Атхаса непрерывно били по нему не меньше века. Его краски выцвели, он стал серым, цвета гниющей кости, а швы самой рубашки истлели.
— Великий, два хороших человека умерли, завертывая это, чтобы я мог довезти его до вас, — объяснил Джавед. — Если на то будет ваша воля, я умру, прямо здесь, разворачивая его, но если вы захотите еще как-нибудь использовать старого усталого эльфа, то, Великий, я думаю, что лучше всего вам самим достать его из свертка.
— Где? — спросил Хаману странным, задыхающимся шепотом, не больше чем Джавед или Павек желая коснуться шелка и того, что он скрывает. — Как? Было ли что-нибудь еще вместе с ним?
Джавед покачал головой. — Кусок пергамента, Великий. Послание, насколько я могу судить. Но эта штука выцвела и выглядит не менее старой, чем этот шелк. Мы бы никогда не нашли ее, если бы один из моих людей не споткнулся бы об нее и не умер… — Эльф остановился и уставился в глаза Хаману, ожидая реакции, но Хаману был еще не готов. Джавед нервно кашлянул и продолжил, — Я не могу говорить с полной уверенностью, что солдаты Нибеная намеренно оставили…
— Ты можешь быть уверен, что это совершенно намеренно, — заверил его Хаману со слабым вздохом.
Он махнул рукой, приказывая смертным отойти в сторону, потом стряхнул со своей правой руки человекоподобную оболочку. Мужчины никак не отреагировали на скелетоподобные пальцы с угрожающими черными ногтями — точнее каждый из них постарался проглотить свой ужас, пока Хаману тщательно срезал оставшийся шелк.
Осколок черного стекла, длинный, как рука эльфа, появился из-под шелка. Обсидиан, но другой, не обычный обсидиан из каменоломен Урика, а скорее такой, какой использовал Раджаат, чтобы создать своих Доблестных Воинов.
— Дрегош? — Подумал вслух Хаману. Неужели это именно то, что Галлард получил как плату за свои шесты из агафари? Прежде, чем он успел поразмышлять дальше, на конце осколка появился красный уголек. — Держитесь подальше от этого, — предупредил он своих смертных товарищей. — И стойте очень тихо и неподвижно.
Дымная пелена поднялась от обломка, скрывая уголек от глаз менее острых, чем у Хаману, который вглядывался в него знакомыми сине-зелеными глазами. Отвратительный запах, в котором чувствовались сера, плесень и разложение смерти, заполнил лишенную окон комнату. Полностью сбросив с себя человеческую оболочку, Хаману обнажил клыки, с которых капала слюна. За один удар сердца пелена сгустилась, и, как змея, намоталась на руку Хаману. Потом она распухла, со скоростью молнии, и протянулась от щиколотки до шеи.
— Проклятый Нибенай! — крикнул Джавед, обнажая меч. При этом он рисковал своей жизнью дважды — не подчинившись прямому приказу своего короля и собираясь сражаться с волшебством.
— Дурак! — ответил Хаману, замораживая командора там, где он стоял, хотя его мысли занимал вовсе не Король-Тень или Джавед. — Я больше не человек, судьбу которого может определить кто-то другой, — предупредил он змею, которая по-прежнему пыталась сжать его ребра и горло.
Несмотря на тугие объятия магической змеи, Хаману высвободил руку, нашел голову змеи и повернул ее к свету, чтобы получше рассмотреть. И чтобы она смогла рассмотреть его.
— Я совсем не такой человек, каким, как ты думаешь, я являюсь.
Небрежным движением Хаману насадил голову змеи на коготь своего большого пальца и дал жару своего гнева выйти из сердца. Змея задрожала, задергалась и, не обращая внимания на коготь, пронзивший ее череп, открыла рот и зашипела. Сверкающаяся, горячая, как раскаленная лава, кровь потекла из ее зубов, покрывая запястья Хаману. Хаману зашипел в ответ и, дотянувшись до Серости, вынул кинжал из ничего.
Одним ударом он отрезал змее золову. Ее кольца тяжело упали на пол около его ног, и, исчезая, опять превратились в ядовитый дым.
Яд не представлял ни малейшей угрозы для Хаману, но Павек и Джавед упали на колени. Лев из Урика был не в том настоении, чтобы приносить кого-то в жертву, особенно своих собственных людей. Левой рукой взявшись за рукоятку ножа, сделанного из такого же черного стекла, как и изрядно уменьшившийся осколок, Хаману провел острием по запястью правой руки.
Его горячая кровь зашипела, капая на пол. Темный маслянистый дым поднялся в воздух, уничтожая остатки исчезающего волшебства. Зловоние стало даже еще хуже, но больше не было смертельным. Когда последняя капля стекла на пол, Хаману вдохнул в себя запах. Воздух очистился. Потом он взглянул на своих смертных соратников, которые стояли на коленях, перейдя все мыслимые границы страха.
— Ты принес мне послание?
Джавед кивнул, потом протянул своему королю запачканный и ветхий лист пергамента. — Я знал, что вы захотите его увидеть, Великий.
Хаману схватил пергамент движением настолько быстрым, что человеческий глаз не успевал увидеть его. Чернила исчезли, как и предупредил Джавед, но были и другие способы прочитать послание Доблестного Воина. Он закрыл глаза и стертые черты лица Короля-Тени появились перед его внутренним взором.
Ты видишь, и правильно видишь, опасность для всех нас. Вот это было послано мне. Ты легко можешь представить себе, кто его послал. Слишком долго мы живем без дракона. Если мы не сможем сделать его, онего сделает. Слушай меня внимательно, Хаману: он нашел способ превратить это дерьмо, Тихиана из Тира, в дракона, если мы не остановим его. Задолго до смерти Борс признался мне, что Раджаат намеревался сделать Дракона Тира из тебя, пока он — то есть Борс — не решил иначе. Еще не поздно. Трое из нас могут придать тебе форму, пока Раджаат продолжает возиться с Тихианом. Я разработал заклинание, которое поможет сохранить твое сознание в безопасности. Это будет совсем по-другому, чем с Борсом; мы не можем допустить очередное опустошение Центральных Земель, никто из нас этого не разрешит. Подумай об этом, Хаману. Подумай очень серьезно об этом.
Образ Короля-Тени исчез вместе с горячим ругательством Хаману. Осколок заклинания Раджаата был неожиданным и неприятным доказательством правоты Галларда. Если Раджаат сумел перенести свою магию в материальный мир, это означает, что Пустота слабеет; они действительно слишком долго жили без Дракона, поддерживавшего ее. Но даже если Галлард на самом деле нашел заклинание, которое поможет избежать безумия в момент создания Дракона, Галлард никогда не предложил бы его ему.
С неохотой Хаману вспомнил рассказ Виндривера о стратегии Погибели Гномов. Было всего три способа превратить Доблестного Воина в Дракона: заклинания других Доблестных Воинов, которые помогут ускорить трансформацию; использовать очень большое число очень сложных заклинаний и преобразовать самого себя или — следуя презренному примеру Калака из Тира — впитать в себя жизнь всего города. Скорее всего Галлард надеялся использовать все три вместе.
— Призови новобранцев в армию, — тихо и спокойно сказал Хаману Джаведу. Если бы он дал возможность любой части его настоящих страстей выйти наружу, оба его смертных соратника погибли бы от звука слов. — Пускай все узнают, что всякому, кто прибегает к помощи Урика для защиты себя, придется побегать ради защиты самого Урика — или страдать от ужасных последствий.
— Где мы будем сражаться, Великий? — спросил Джавед, его голос был еще слаб и надтреснут после яда.
— Там, где я прикажу, — недовольно сказал Хаману своему наиболее доверенному офицеру. — Созывай моих солдат.
Старый эльф мудро кивнул и поклонился, поднявшись на ноги. — Как скажете, Великий. Я выполню ваш приказ.
Он повернулся и пошел к бронзовой двери, которую Хаману открыл для него своей мыслью. Павек пошел за ним.
— Еще нет. Еще нет.
Павек опять упал на колени. — Воля ваша, Великий.
— Ты мне нужен здесь, во дворце, Павек, но мне нужны и твои друзья-друиды, тоже. Пошли слово в Квирайт. Пошли слово Телами, если можешь. Скажи ей, что время пришло; последнее время.
— Если опасность грозит Урику, она грозит и Квирайту, Великий; так что я думаю, она уже знает об этом. Она говорит, что есть только один страж на весь Атхас; все остальные только часть его, и тогда она тоже часть его, — ответил Павек, по прежднему стоя на коленях, его голова была почтительно склонена.
В мыслях молодого человека крутились самые разнообразные чувства, но отвращения среди них не было. Наклонившись вперед, Хаману сунул коготь под подбородок Павека и слегка нажал, так чтобы он смог увидеть озабоченное лицо, которое его высший темплар пытался от него скрыть. Потом провел другим когтем по лицу Павека.
— А если опасность грозит мне и только мне, что тогда, Павек?
И опять сознание Павека очистилось, стало как гладкая поверхность воды в безветренный день. Король-Лев был в шаге, нет в полушаге от того, чтобы убить этого непонятного смертного — не было никакой возможности извлечь ответ на вопрос из мыслей Павека. Убить его было бы легче легкого; но опустить руку, позволить Павеку встать на ноги и, шатаясь, выйти из комнаты живым — это было самой трудной вещью, которую Хаману сделал на протяжении многих поколений.
Виндривер! Хаману бросил имя в нижний мир вместе с пергаментом Галларда. Виндривер! Сейчас!
Он уселся на мраморную скамью, которая, как и каменная скамья в его убежище, была настолько прочна, что могла выдерживать его вес и размеры. Вода по-прежднему текла из камня и по стенам. Король-Лев погрузил свое кошмарное лицо в не менее ужасные руки и постарался ничего не думать, планировать или опасаться, пока воздух не затвердел и не появился тролль.
— Слушаюсь и повинуюсь, — сказал Виндривер. — Я проклятый слуга проклятого дурака.
Хаману не клюнул на приманку. — Ты внимательно проверил лагерь войска Нибеная?
— Конечно. Четыре сотни уродливых женщин окруженные четыремя тысячами еще более уродливых мужчин.
— Больше ничего? — Хаману ничем не выдал ни своих подозрений, ни своего гнева.
— Ничего, О Великий. Просвяти меня, О Великий: что я должен был найти там?
— Это! — Хаману сунул под нос тролля то, что осталось от обсидианового осколка. Ставшее не больше трети первоначального размера, стекло было покрыто пятнами сажи. Тролль отпрыгнул назад, как если бы был из плоти и крови.
— Его там не было! — сказал Виндривер, разом потеряв всю свою наглость. — Я бы заметил…
— Глупости! — Хаману швырнул осколок в своего слугу; стекло описало дугу и исчезло в Серости. — Похоже, что ты стал глухим и слепым, Виндривер или, еще хуже, безответственным.
— Никогда… не в том, что касается его. Я учую запах Принесшего-Войну в любом месте.
Хаману не сказал ничего, просто подождал, пока тролль сам не услушал свою собственную глупость и саморазоблачение. Виндривер ненавидел Принесшего-Войну куда больше, чем Сжигателя-Троллей, и тем не менее он не почувствовал осколок, пока Хаману не сунул его ему под нос. Он мечтал увидеть, как один Доблестный Воин уничтожает другого, и его мечты, похоже, сделали его безответственным.
— Неужели Раджаат освободился? — спросил тролль. — Черная Линза — она же там, куда эта волшебница из Тира бросила ее, разве нет? Надеюсь никто не украл ее, а? Темплары-? Медальоны-?
— Все еще работают, — уверил его Хаману. Без Черной Линзы Доблестные Воины не смогли бы передавать магию своим темпларам. — Этот осколок откололся не от Черной Линзы.
— Тогда от чего? И как Раджаат-?
— Я не знаю, Виндривер — но ты мне расскажешь, крогда вернешься из Ур Дракса.
Он ожидал возражений: путь до разрушенной крепости Борса был долог и опасен, даже для развоплощенного призрака. Но Виндривер исчез еще до того, как он договорил.
Пятая Глава
Пара серебряных колец окружила лицо Гутея, большей из лун Атхаса, когда он взобрался в высшую точку ночного неба Урика. Четвертую ночь подряд Гутей венчался своими коронами, и хотя Хаману был один в своем убежище, он знал, что не он один глядит на небо сегодня ночью.
Еще одна ночь с такими кольцами, и утром фермеры его владений обнаружат пересохшие рвы на месте каналов, питающих водой их поля. Они проверят каждые ирригационные ворота. Они выкопают ил и исправят все, что возможно. Позже они повстречаются с соседями и бросят перенумерованные камешки в священную урну, определяя порядок, в котором поля будут получать воду.
Лотерея была необходима, потому что никто — даже бессмертный Король-Лев — не мог предсказать, как долго водостоки будут доставлять темную живительную влагу из далеких гор. Хаману не мог даже быть уверен, что эти водостоки вообще наполнятся. Бывали времена за последние тринадцать сотен лет, что вода не текла.
Все что Хаману знал об этом, он узнал от отца и матери много-много лет назад. Когда Гутей получают свою тонкую как паутина корону пять ночей подряд, наступает время готовить поля к посеву хамали и сажать стойкое зерно, которое поддерживало жизнь в Центральных Землях с того времени, когда дожди перестали регулярно идти. И как только сухие поля засаживались зернами, более драгоценными чем золото или сталь, наступало время для молитв. Водостоки должны были наполниться в течении двадцати дней, или они совсем не наполнялись.
Народ Урика молился своему бессмертному живому богу и приносил ему подарки, выпрашивая его милость. Тонкая, но непрекращающаяся струйка — аристократы, свободные фермеры и даже рабы — уже текла к воротам дворца, предлагая горсти зерна. Иногда зерно было завернуто в потрепанные лохмотья, иногда лежало в искустно сделанных костяных ящичках или в запечатанных амфорах. Независимо от упаковки, темплары Хаману ссыпали его в огромный ящик, сделанный из кожи иникса. Когда вода придет, Хаману вскинет этот ящик себе на плечи и, перевоплотившись в великого Короля-Льва, засадит им четыре поля: одно на восток от стен города, а остальные на север, запад и юг.
Легенда, которую Хаману не одобрял, утверждала, что зерно-подарок на самом дне ящика — то, которое Хаману получил первым и посадит последним — было счастливым зерном, которое принесет много счастья фермеру, который подарил его. Ум смертных был тем, чем он был, и фермеры Урика не ждали пятой ночи Гутея с кольцами, чтобы принести свое зерно-подарок к воротам дворца. Они заранее верили луне, и приносили свое зерно накануне днем, хотя и знали, что если на пятую ночь кольца не появяться, ящик будет опустошен и все зерно в нем сожжено.
Ничто из этого не удивляло Хаману. Он был одним из них. Он знал, что в душе все эти фермеры были очень суеверны и все они были игроками. Они азартно играли каждый раз, когда сеяли зерно в землю. Они считали свое зерно-подарок хорошим ходом, который увеличит их шансы.
И для самого Хаману, сына фермера, это был акт веры, когда он босиком шагал по полям, разбрасывая зерно-дар. Но человек, который разрешил другим поклоняться ему как богу, может верить только в самого себя. Он не может допустить, чтобы хоть кто-нибудь увидел его голову, склоненную в сомнениях или молитве. Но в этом году, когда армии Короля-Тени плясали вдоль границ Урика, а закопченые остатки магии первого волшебника еще были свежи в его памяти, сомнения Хаману были особенно сильны. Он даже помолился бы, если бы знал имя бога, который мог его услышать.
Чем дольше он откладывал второй и третий призыв на военную службу, тем больше увеличивались шансы, что враги Урика могут напасть. Но если бы он призвал жителей-солдат слишком быстро, поля остались бы не засеянными, зерно бы не выросло и, независимо от победы или поражения в битве, в этот год, год Высокого Солнца, урожая бы не было. А если к тому же не придет вода…
А в целом слишком много вопросов без ответов, даже для изощренного ума бессмертного короля. Пожалуй в первый раз, с тех пор, как Хаману стал писать свои воспоминания, ему показалось, что копаться в прошлом более предпочтительно, чем думать о настоящем или с ужасом ждать будущего. Он пролил пару капель масла на чернильный камень, стоявший на столе, покрутил в палочкой в углублении. Когда чернила были готовы, Хаману обмакнул в них перо и без колебаний начал писать.
Пять лет я сражался в армии Мирона Сжигателя-Троллей бок о бок с Джикканой. В ней не было абсолютно ничего, что напомнило бы мне о Дорин или о Дэше, вот почему я оставался с ней так долго. Она была сильным и достаточно примитивным созданием; она ругалась, дралась или пила слишком много, как только появлялась такая возможность. Я так никогда и не узнал, видела ли она во мне сына, которого у ней никогда не было, или простого деревенского парня с огоньком внутри, который всегда был готов закончить драку, которую она начинала.
Джиккана научила меня читать и писать человеческими буквами, сражаться ножом и дубинкой, зубами, кулаками и ногами — короче всем, чем только возможно. У ней был бурный темперамент, острый как сломанное стекло, и, рано или поздно, она дралась со всеми, включая меня. И тем не менее за все эти годы, в течении который она шла вместе с армией Сжигателя-Троллей, она никогда не подходила к сражающимся троллям ближе, чем в тот день, когда я встретил ее в Дэше.
К концу года Ярости Священника, когда солнце было уже не так высоко, на армию Сжигателя-Троллей напала двадцатидневная лихорадка, которая схватила и Джиккану. Ее длинные мускулы размякли, как жир на огне. Складки кожи повисли на руках и ногах, свисали с подбородка. Она кашляла всю ночь, и выплевывала кровавые куски легкого, когда пришло утро. Во время перехода я нес оба наших мешка с запасами и достал все травы, какие только можно было использовать, но ничего не изменилось. После обеда она свалилась на обочину дороги.
Я предложил, что понесу ее вместе с ее мешком.
— Не будь дураком, Ману, — сказала она, добавив крепкое ругательство и закашлявшись в конце. — Я дошла так далеко, как только могла, намного дальше, чем я дошла бы без тебя. Но дальше, мальчик, тебе придется идти одному. Закончим все здесь.
Джиккана дала мне свой нож. Я ударил ее туда, куда она хотела. Я не раз скручивал шеи птицам, помогая маме готовить ужин, и я держал веревки, когда отец выбраковывал наше стадо. Так что я не был совсем незнаком со смертью, но когда сейчас я обдумываю события своей жизни, смерть Джикканы отмечает момент, когда я убил в первый раз. Свет жизни быстро исчез из ее глаз; она не страдала. Я держал ее тело в руках, пока оно не закоченело и не закостенело. Потом я перенес ее в наш ночной лагерь. Джиккана был моим первым учителем после Дэша, и я заплатил за то, что мы выпили, пока всю ночь пели песни, успокаивая ее дух. Когда же небо начало светлеть, я вырыл ей могилу, а потом еще навалил камни сверху, чтобы не дать хищникам поужинать ее телом.
Длинные тени рассвета связали меня с ее могилой, навсегда.
Я ожидал, что заплачу, но слезы так и не полились из меня. Внутри меня не было ничего, нечему было выходить наружу. Я плакал от ужаса в уничтоженном Дэше, но я уже не плакал над телом Дорин. И я не мог плакать над кем-нибудь другим.
Я вырезал имя Джикканы на длинной кости, используя буквы, которым она меня научила, и потом воткнул ее острым концом среди камней. А на обратной стороне кости я тоже вырезал буквы, буквы троллей, которым я выучился в руинах над Дэшем, и которые ни один из моих товарищей не мог прочесть. Немного покривив душой, я написал, что Джиккана была достойной женщиной, и она никогда не наложила свои руки ни на одного тролля, что было достаточно правдиво и могло заставить троллей задуматься на мгновение, прежде чем они решили бы осквернить ее могилу.
А тролли поблизости были, и немало. В те годы поблизости всегда было немало троллей. После отступления, которое продлилось несколько поколений, Виндривер перешел в контратаку и привел свою армию на земли, заселенные людьми. Дэш был одной из первых человеческих деревень, которые пали перед ярость предводителя троллей за те пять лет, пока я шел рядом с Джикканой. Мы никогда не схватили тех троллей, которые убили Дорин и мою семью, хотя мы следовали за ними по меньшей мере год и видели больше примеров их кровожадной работы, чем у меня хватит мужества о них рассказать.
Так что троллей поблизости хватало, и мы научились выслеживать их. Мы сообщали об их передвижениях Сжигателю-Троллей или его офицерам, когда они приезжали в наш отряд.
И мы никогда не сражались с троллями. Никогда. Ни Джиккана, ни Балт, тот рыжеволосый человек, который вел наш отряд, и вообще ни один из ветеранов-наемников даже понятия не имел, как сражаться с нашими серокожими врагами. Вот так низко пала армия Сжигателя-Троллей всего за два поколения с тех пор, как была основана.
В тот день в Дэше Балт сказал правду. Армия Сжигателя-Троллей разделилась на маленькие отряды, которые следовали за троллями, пока те разоряли Центральные Земли. Мы следили за ними, и говорили офицерам, где они находятся. Когда они осообщали ему — если они сообщали ему — Мирон из Йорама появлялся и уничтожал их.
Пять лет преследования троллей. Пять лет похорон распотрошенных трупов и сжигания разрушенных домов, чтобы предупредить распространение болезни. Пять лет, и за это время я никогда не видел Мирона из Йорама, за исключением смотра Высокого Солнца на равнинах, когда мы получали плату за год и провизию на год вперед.
О, это была очень впечатляющая личность — наш герой и полководец, Мирон из Йорама, одетый в развевающиеся шелковые одежды, глядящий на нас, когда мы шли строем через удушающую пыль по его наполовину сожженной стране. У него была магия, сомнений в этом не было.
Каждый год он притаскивал немного троллей прямо на смотр. Он связывал их вместе и сжигал, прямо перед нами. Пламя выплескивалось из глаз и ушей троллей, лилось из их ртов, пока они кричали. Наш герой любил делать то же самое с любым несчастным человеком, которой вызвал его гнев — обычно убив тролля без разрешения.
Мы были очень впечатлены тем, что Мирон из Йорама делал с троллями, но то, что он мог — и делал — с нами, он просто сохранял армию, из поколения в поколение.
Вещи начали изменяться примерно в то самое время, когда умерла Джиккана. К этому времени Виндривер хорошо изучил своего врага и разделил свою армию на множество отрядов, использовавших преимущество безжалостных приказов, которые Мирон из Йорама отдавал нам. Некоторые человеческие отряды дезертировали, а некоторые были вынуждены сражаться, не обращая внимания на приказы, что означало, в частности, что верные Сжигателю-Троллей отряды — Балт всегда оставался верным, пока ему платили — охотились чаще за людьми, чем за троллями.
Теперь любой обязан был быть настороже. Все отряды выставляли посты на ночь, и спали с мечом, а то и с двумя в руках. Отряд Балта не была исключением, и я обычно проводил полночи в пикете, еще до того, как Джиккана умерла. После ее смерти я стал ходить в пикет по своему выбору, обычно раз в четверо суток, проводил в нем всю ночь и без проблем маршировал следующий день. Я хотел быть один. Смерть Джикканы пробудила во мне призрак Дэша, а Дорин прочно поселилась в моих снах. Я дошел до того, что вообще я не хотел закрывать глаза и спать. Охотиться за троллями — следить за их отрядами в надежде, что Сжигатель-Троллей наконец-то появиться и сделает нам честь, убив их — было совершенно недостаточно. Я хотел отомстить.
Я хотел убивать тролей сам, своими собственными руками, своим собственным оружием.
Мне не пришлось долго ждать.
Это была Самая Короткая Ночь Года Ярости Священника, еще одного года, наполовину исчезнувшего из моей памяти, и охотники за троллями из отряда Балта отпраздновали это событие так, как они праздновали всегда: они пили до тех пор, пока могли держаться на ногах, а когда не могли, то ложились на живот и пили опять, пока один за другим не засыпали около костра. Я думал о том, чтобы уйти, но это было не так-то просто. Балт и остальные были отбросами, дерьмом, но они были единственными людьми, которые знали мое имя. В те дни, когда тролли и дезертиры шлялись по всем дорогам, жизнь одинокого человека не стоила ничего. Я выбрал головешку из костра, завернул ее медленно тлеющий конец в промасленную материю и, взяв подмышку одеяло и боевую дубинку, забрался на свой пост на верхушке ближайшего холма.
Тролли очень хорошо знали и наши праздники и наши человеческие привычки; мы мирно жили вместе, пока не началась война. Если бы я был троллем, я обязательно воспользовался бы преимуществом Самой Кроткой Ночи, так что я ожидал неприятностей и был готов, когда услышал треск соломы под большими тяжелыми ногами. Действия в случае ночного нападения были просты и я хорошо знал, что делать: при первом же подозрительном звуке я должен был сорвать покрывало с моей головешки, потом швырнуть ее в воздух. Пламя должно было по идее предупредить наш отряд и ослепить троллей, чье ночное зрение было лучше нашего, но уязвимо к внезапным вспышкам яркого пламени. Сразу после чего я должен был бежать как можно быстрее, как огонь, раздуваемый ветром. И весь отряд должен был мчаться за мной еще быстрее — так приказал нам Мирон из Йорама.
Первую часть моих приказов я выполнил, так что вспышка должна была ослепить то, что поднималось на мой холм, но в эту Самую Короткую Ночь ни Балт, ни все остальные не были способны сделать даже шаг, не говоря о том, чтобы мчаться как ветер. И я тоже не собирался бежать. Перехватив факел невооруженной рукой, я поднял свою кремниевую дубину, одна сторона которой заканчивалась коротким острым крюком, а другая представляла из себя довольно-таки увесистую головку. Я крикнул — Я здесь, сюда, — и добавил пару слов, которые, как мне сказали, были оскорблениями на языке троллей.
Поступь тяжелых ног стала громче, и большой кусок неба стал серым, когда тролль появился в виду. Как и я, он был вооружен каменной дубинкой, хотя ее рукоятка была шире, чем мое запястье, а камень, привязанный к ее концу, был больше моей головы. Он проорал что-то непонятное, потясая своей дубиной. Я выкрикнул в ответ что-то, сейчас уже не помню что. А потом он взмахнул рукой, собираясь нанести мне смертельный удар.
За исключением самого Сжигателя-Троллей, не осталось ни одного человека, который помнил победы, прогнавшие троллей из Кригилл. Все рассказы, которые я слышал об этом от Джикканы, были легендами, прошедшими через три или четыре поколения бардов. Мы не знали о троллях практически ничего, за исключением того, что они велики и быстры, а их серая кожа крепче нашей лучшей брони. Насколько я слышал, без магии люди мог победить тролля только одним способом: окружить его стаей, как джозхаллы, и забить его до смерти тысячей маленьких ударов.
У меня же был только один шанс и только один удар. Чтобы использовать всю свою силу, я отбросил факел в сторону и взялся обоими руками за рукоятку моей дубины. Против другого человека кремнивая дубинка была бы самым лучшим вариантом: можно оглушить другого человека ее увесистым концом, а можно вывести его из строя и крюком. Но против толстокожего тролля я должен был действовать по приципу: все или ничего. Так что я перевернул дубинку крюком вперед и ринулся на моего врага.
Кости моей руки заклинило в плече, когда кремень вонзился в тело тролля. Я почти выпустил дубинку. Почти. Каким-то образом мне удалось сохранить захват, руки остались там, где были, и крюк продолжал свой путь в тело, пока вся дубинка на вошла внутрь, вплоть до кожаного шнура, державшего головку. Троль издал странный звук, вроде как ребенок запищал. Его дубинка скользнула по моей руке, когда он падал на землю. Он был мерт еще до того, как земля сотряснулась от падения тяжелого тела.
Пошатываясь, так как внезапно мое сердце почти отказалось биться и легкие позабыли вдохнуть воздух, я опустился на одно колено и при свете лун внутренне ликовал по поводу своей победы. В моей голове, как это ни странно, была только одна мысль, Как его зовут? Остался ли неподалеку хоть кто-нибудь, кто знает его имя? Армия Виндривера, разбросанная по Центральным Землям, состояла вовсе не из отверженных, сирот и безродных ветеранов, как наша. Тролли были прекрасно организованы и полностью преданы своему делу. Отряды, за которыми мы следовали, обычно бывали целыми семьями, с отцами, матерями, детьми и даже, случалось, дедушками и бабушками.
Я так никогда и не узнал имя моего тролля, не узнал и то, зачем он явился, один, на мой холм, на свою погибель. Возможно он просто заблудился в ночной темноте. Возможно его гнали его собственные мечты о мщении и о славе. Но скорее всего он был здесь не один, недалеко были другие, и вскоре какой-нибудь другой тролль должен был появиться, чтобы посмотреть, что случилось с их товарищем.
Но прежде, чем другой тролль привнес острый вкус опасности в мою победу и прекратил мое ликование, отброшенный мой факел зажег сухую, как солома траву.
Огонь был моим врагом с тех пор, как я себя помню. Схватив свое одеяло я начал махать им и топтать языки пламени до тех пор, пока они не исчезли и все опять стало темно. Тогда, стоя на коленях, я стал счищать горячий пепел с моих пальцев, пока они опять не стали холодными, как тело за моей спиной. Рассвет пришел тогда, когда я уже отдохнул и допил последние капли из меха для воды.
Когда первые красные полосы дневного света появились над восточным горизонтом, я оглядел свою ночную работу: огонь, который я погасил, и тролля, которого убил. Он был молод, вероятно не старше меня — что делало его почти мальчиком, для тролля. Бородавчатые мозоли, которые покрывают все тело взрослых представителей его расы, едва прикрывали его руки. На его гладком лице резко выделялись мягкие коричневые глаза, которые были широко открыты и глядели на меня. А его открытый рот спрашивал почему?
У меня не было ответа. Мы были далеко от Дэша; не было ни единой причины считать, что я отомстил троллю, который лично обидел меня. Нравится мне или нет, но тролль, которого я убил — и который хотел убить меня, тут я не ошибался — имел свою собственную раненую память и сражался с людьми по той же причине, по которой я сражался с троллями.
Никто из нас не был прав, но я остался в живых, а он нет. Все остальное не имело значения. Я пережил резню в Дэше, я выжил в бою один на один против тролля. Судьба явно имела планы на меня. Я верил в это не менее сильно, как верил в то, что солнце всходит каждое утро, но я даже помыслить не мог о том, что ждало меня впереди.
Тролли были солнцепоклонниками. Каждый дом, который я исследовал над Дэшем, имел открывавшуюся на восток дверь с лучистым диском на ней и надписью, вырезанной на камне над ней. Я открыл, что еще до того, как Сжигатель-Троллей появился в Кригиллах, тролли устанавливали черепа своих предков на крышах своих домов, чтобы солнце могло сразу осветить и наполнить светом их пустые глаза.
Мой тролль упал на землю неправильно. Ногами к восходу, так что его глаза были все еще в тени. Это было не осквернение — не сравнить с тем, что тролли делали в Дэше и в других местах — просто случай, что он упал и умер именно в таком положении. Но я должен был доказать себе, что я лучше троллей, оправдать то, что сделал. Я обвязал мой ремень вокруг его ног, и с некоторым трудом перетащил его так, чтобы лучи восходящего солнца падали на его все еще открытые глаза. Золой я написал на его груди благословление, которое видел на их могильных камнях.
Потом, когда солнце поднялось достаточно высоко, я взял мой нож и отрезал ему голову.
К тому времени, когда я вернулся в лагерь со своим трофеем, Балт и все остальные только начали приходить в себя после вчерашней пьянки. Голова тролля видела у меня на поясе, капли крови с нее капали на колено. Оглядываясь назад, я вижу еще один жест руки судьбы, приведший в конце концом меня в такое положение, которое я не должен был пережить. Я был молод — это объясняет большинство глупостей, совершаемых мужчинами всех рас; я думаю, что это объясняет и мою глупость тем утром.
Бросив голову тролля к ногам Балта, я громко, чтобы все слышали, сказал, — Я спас ваши ничего не стоящие жизни прошлой ночью, — и, по необъяснимой наивности юности, стал ожидать, что он поблагодарит меня. Больше того, я думал, что он признает, что я самый лучший солдат среди них, и признается в этом перед всем отрядом.
Глупость. Абсолютная глупость, идиотизм… и судьба.
У Балта был меч, кстати единственный меч в нашем отряде. Это был составной меч: кусок обломанного куска обсидиана был вставлен в пропитанный водой кусок деревянной бочки, потом высушен в гончарной печи для обжига кувшинов и укреплен медной проволокой. Против троллей он был совершенно бесполезен, но Балт решил, что со мной он расправится очень быстро, когда вынул его из объемистых ножен.
— Знал с начала, что с тобой будут заморочки, — прорычал он, отбрасывая ногой в сторону мой трофей и надвигаясь на меня. — Надо было покончить с тобой тогда — со всеми этими красивыми фермерскими словечками и идеями.
Я отступил на шаг и проверил, палец за пальцем, свою хватку на обернутой в кожу рукоятке моей дубины. С мертвым троллем в памяти, я был осторожен, но совершенно не боялся ни моего противника, ни его оружия. Просто моей дубине надо было побольше места, чем мечу Балта; я сорвал ее с плеча и отступил еще на шаг, вскинул руку и приготовился к первому замаху. Балт усмехнулся и кивнул.
Я думал, что наша стычка вот вот начнется, и совершенно не обрашал внимания на то, что происходило у меня за спиной. И напрасно. Руки, о которых я и не подозревал, схватили меня за локоть и запястье. Они вырвали оружие из моей руки, сильно пихнули меня в бок и бросили на пол, навстречу судьбе.
Я тяжело приземлился на четвереньки, прямо перед обутыми в кожу ногами Балта. Он с силой ударил меня ногой в подбородок, и я покатился по грязи, к большому удовольствию моих товарищей, которые с намного большим воодушевлением смотрели на смерть одного из своих, чем на смерть своего настоящего врага.
— Ты думаешь, что умнее меня Ману, — сказал мне Балт, подняв ногу для второго удара. Я отполз назад, уткнувшись в недружелюбную стену из ног, на этом мое отступление закончилось. — Ты ошибся, ошибся во всем. Ты небось думаешь, что если твои проклятые родители научили тебя красиво балакать, так ты можешь захапать лучший кусман. Теперь твои предки мясо для проклятых троллей, Ману, и ты, гавноед, тоже будешь, когда они найдут тебя.
Балт собирался подрезать мне поджилки и бросить меня троллям — это было ясно по блеску в его глазах и по тому, как он держал меч, когда взмахнул им. Он мог сделать со мной все, что угодно; от страха у меня все ослабело, меня тошнило, я проиграл. Кислая кровь наполнила рот. У меня не было даже сил убрать ногу, если бы он ударил меня тогда туда, куда собирался. Но Балт промахнулся, и вместо этого ударил меня ногой в живот.
Сегодня я Лев Урика, неуязвимый и непобедимый. В этом облике, который дал мне Раджаат, самая лучшая сталь ничего не может сделать со мной. По своему желания я могу скрыть свою настоящую фигуру под любой иллюзией. Стоит мне только захотеть, и я могу предстать в облике любого животного или разумного существа. Но когда я был обыкновенным смертным, во мне не было ничего, чтобы могло заставить Балта уважать меня. Я был сложен также, как и народ моей матери: легкие кости, худой, длинный. С детских лет я выучил все трюки, которые помогали сохранять равновесие в любой ситуации, так как у меня никогда не было такой физической силы, как у моего отца и братьев. Я мог нести Джиккану, потому что знал, где поднять, я смог свалить тролля, потому что знал, как сохранять равновение, где самая уязвимая точка, как скрутить и перегруппировать все мышцы своего тела так, чтобы ударить как змея.
Знание — вот мое оружие, сказал я себе, пока лежал в грязи, а кровь и желчь текли с моего лица. Я был умнее, чем Балт; я был лучше, но в начале я должен вдохнуть и защититься от ударов ног, сыплющихся со всех сторон. Не обращая внимания на боль, почти ничего не видя, полагаясь только на инстинкт — и знание — я ухитрился схватить ногу, когда она ударила меня под ребра. Я повернул ее, потом скрутил. Наконец послышался стон, не из моего горла, и через пару ударов сердца мне удалось встать на четвереньки.
Я задохнулся, когда попытался вдохнуть, и выплюнул на пол один или два зуба. Мои волосы были в грязи и крови, но наконец мои легкие заработали и голова прояснилась. Я услышал шаги Балта, он собирался ударить мне в бок. Подняв голову, я встретил его взгляд.
— Трус, — сказал я ему грубым, свистящим шепотом. — Не можешь сражаться с троллями без Сжигателя-Троллей, не можешь сражаться даже с хилым человеком, если он не лежит на земле в луже крови.
Я старался уколоть его побольнее, унизить перед всеми, и мне это удалось. Все глаза глядели его, он смешался на момент, отступил назад, его рот какое-то мгновение работал беззвучно, потом он сказал, — Вставай, фермерский пацан. Вставай на ноги, если осмелишься, или ползи отсюда туда, где твое место.
Мы слышали, что тролли умеют выслеживать по запаху, и что их носы ничуть не хуже, чем их ночное зрение. Видя, как я плююсь кровью и хватаюсь за бока, Балт решил, что я и так буду тролльим мясом, подрежет он мне поджилки или нет. И скорее всего он был прав: я был уже мерт, но я был сыт по горло беготней от троллей, и не собирался убегать или уползать от моего собственного племени. Так что я встал потверже на ноги и продолжал стоять. Некоторые из моих товарищей даже проглотили свои зубы от изумления или восхищения. Не знаю от чего. Мне было на них наплевать. Моя кровь перестала идти.
— Трусы, — повторил я, на этот раз обращаясь к ним всем. Балт сделал шаг ко мне. Я выплюнул еще один зуб, который кровавой отметиной прилип к его щеке, и он остался стоять там, где был. — Маленькие дети, которые слегка опасаются троллей и по настоящему боятся только Сжигателя-Троллей. Огненные глаза! — Я вспомнил моего двоюродного брата, убитого пять лет назад и зарытого где-то в руинах Дэша. — Я видел магию Сжигателя-Троллей, его огненные глаза, как и вы все. Я видел их на смотре — и больше ничего. Я видел, как Мирон из Йорама сжег сердце связанного человека, когда мы были на смотре, но я больше никогда не видел его ужасной магии.
Я верил в то, что сказал и ненавидел Мирона из Йорама больше, чем ненавидел Балта или любого тролля, который когда-либо жил на Атхасе. Это дало мне силы сделать шаг в направлении Балта.
— Позови его, Балт. Позови Сжигателя-Троллей. Скажи ему, что я сделал. Скажи ему, чтобы он пришел и сжег меня огнем из глаз. Я умру для этого, ведь мы все здесь для того, чтобы подхнуть от его огня, разве не так? Позови его!
Раз в месяц, когда золотое лицо Гутея поднималось над восточным горизонтом, мы все собирались вместе около костра, брались за руки и выкрикивали имя Сжигателя-Троллей окружающей нас ночи. Когда у нас в горле уже першило, Балт опускался на колени, его вены надувались, на лбу пульсировала жилка, и он рассказывал Сжигателю-Троллей сколько троллей мы видели с прошлого раза, что они делали, что мы делали. Впрочем, эта часть его рассказа не изменялась никогда: они грабили, мы убегали.
— Да, Балт, — сказал кто-то позади меня. — Позови Сжигателя-Троллей. Дай ему решать.
— Ману прав. Может быть Сжигатель-Троллей слушает нас. Может быть нет. Мы видим только его вертухаев-офицеров, они только и талдычат, что он поджарил столько-то троллей там, столько-то еще где-то, но никогда около нас, — сказал еще один голос из толпы.
— Никогда около нас, — добавила женщина, сладкий мед для моих звенящих ушей. — Никогда не видела никого во время этих проклятых смотров, кто бы сказал иначе, все говорят одно и тоже: весь год они видят троллей и никогда не видят Сжигателя.
Я почувствовал, как вокруг меня крепнет убеждение моих товарищей. — Позови его, Балт, — выкрикнул я еще раз, потом потянулся, схватил две ближайшие ко мне руки и начал выкрикивать имя нашего героя.
Вслед за мной все начали повторять его имя, как если бы Гутей был на небе. Балт опустился на колени, крепко ударившись о землю, закрыл глаза. И ничего не произошло — как обычно, когда обыкновенный смертный призывал Мирона из Йорама.
Когда пришло время и темная магия стала моей, я дал своим темпларам медальоны — по большей части просто куски обожженной глины — которых я коснулся и оставил на них свой отпечаток, свой выдох, так что они никогда не сомневаются, что я могу видеть и слышать их. Балт был моим учителем, не меньше чем Джиккана; он научил меня, что поле боя, страх, мораль и дисциплина — это разные слова для одной и той же вещи.
А кое-чему я научился сам, в это самое время. Если бы Мирон из Йорама был хотя бы половиной того человека, которым он должен был быть, он услышал бы Балта в то утро. Он смог бы пройти через нижний мир — я точно знаю, что сила у него была, зато не хватало ума и воли — и он ударил бы меня своими огненными глазами.
Я никогда не делаю таких ошибок. Когда мои темплары призывают меня, моя воля становится их; а когда они восстают против меня или устраивают заговоры, я превращаю их в пепел и прах, как если бы они не рождались.
Но не так действовал Мирон из Йорама.
Я убил Диккану, убил моего одинокого тролля, и с того времени убил еще десять тысяч других, но Балта убил Мирон из Йорама.
— Это просто возмутительно, — сказал я, пока Балт сражался, пытаясь привлечь внимание нашего полководца. — Мы стоим здесь, мужчины и женщины, люди, пока тролли грабят и убивают наш народ. Если мы не бегаем, мы воем на луну, как звери, бесполезно надеясь, год за годом, что кто-нибудь услышит нас, что этот кто-нибудь наконец-то заинтересуется тем, что происходит, и убьет наших врагов за нас. Какому человеку мы служим? Что это за человек, Мирон из Йорама, Мирон Сжигатель-Троллей? Прошли столетия с того дня, как он привел нашу армию в Кригиллы и одержал там свою первую и единственную победу. А теперь он копит троллей, как скряга копит металл. Он не хочет победить, он не хочет уничтожить троллей — он хочет медленно сжигать их своими огненными глазами: год, век… вечность!
Они слушали меня; мои товарищи слушали меня. Потом они отпустили руки друг друга, их головы качнулись, они начали шептаться между собой. Я не мог слышать их слова, но — клянусь Волей Льва — если я только мог слышать сам себя! Все куски головоломки были у меня в руках, но они ускользнули из моей ладони. Вместо того, чтобы собрать их всех вместе — людей, троллей, эльфов и все остальные расы — и повести их против Доблестных Воинов Раджаата, я взял дубинку, которую мне вернули, и ударил ею по рыжей голове Балта.
Шестая Глава
— Прошли столетия с того момента, когда у Гутея были две короны в течении семи суток, а потом еще три ночи одна корона. Вместе десять, Ваше Всеведение! Такого не бывало с года Мести Рала в 177-ом столетии Королей, — сказал Энвер, читая со свеженаписанного свитка. — Бюро высших темпларов требует еще половину пятой года для поиска в архивах, но они без сомнения только подтвердят то, что вы, Ваше Всеведение, и так помните.
Хаману кивнул, но не потому, что согласился со словами Энвера, но потому, что когда Энвер медленно и монотонно произносил свою речь, пришло время для короля Энвера кивнуть своей головой… и вспомнить то, что сказал дварф. Хаману нужно обдумать то, что его инквизитор сказал ему, и некоторые слова или интонации уколят его, привлекут к себе его внимание. Со стороны, однако, казалось, что Хаману впоминал быстрее, чем говорил дварф. Он слушал с пустым ухом, собирая слова примерно так, как дырявая корзина собирает воду, пока не приходит время кивнуть и вспомнить.
Кивнув и вспомнив, мысли Хаману опять пошли странствовать своими путями, пока Энвер читал то, что ученые выкопали из архивов Урика. Он не помнил точной даты, когда Гутей в последний раз выдал такое десятидневное представление — систематический подсчет лет и веков мало волновал его — но он совершенно точно помнил это событие. Оно произошло примерно через два года после того, как Борс, Палач Дварфов, стал Борсом, Драконом Атхаса. В тот год все покосы Центральных Земель превратились в пепел, но Гутей пообещал избыток воды и сдержал свое обещание.
И в этот год он сдержал его, тоже.
Пятьдесят восемь дней назад — двадцать дней после того, как Гутей опоясался короной — северные водоводы Урика начали наполняться. Десять дней спустя все обрабатываемые поля Урика получили двойную долю смешанной с илом воды. Во главе сажающей армии, большей чем первый военный призыв, который вместе с Командором Джаведом находился сейчас у южной границы, Король-Лев промаршировал через похожие на пруды поля, на которых работали согнутые, грязные рабы и свободные, сея годовой урожай надежды.
Драгоценная вода текла еще десть дней. Водоводы не справлялись с ее наплывом, вода выплескивалась из желобов. Стены из обожженных на солнце кирпичей рассыпались, превращаясь в кучи желтой слизкой грязи. Потрясенные фермеры бродили посреди своих разрушенных домов по шиколотку в потоках холодной горной воды. Так как их только что засаженным полям угрожала невообразимая опасность — слишком много воды — фермеры обратились к жрецам земли и воды, которые, в свою очередь, восемнадцать дней назад прошли беспокойной процессией через городские стены к воротам дворца Хаману.
Хаману ждал их — он мог видеть с крыши своего дворца намного дальше, чем любой жрец с верхушки своего храма. Он знал, что вода все еще поднимается, и после серьезных колебаний призвал второй призыв способных носить оружие граждан Урика — одного из каждых оставшихся пяти. Потом, что случалось крайне редко, Король-Лев объяснил свои намерения: второй призыв не отправится на юг, как первый. Вместо этого он отправится на север, за уже обрабатываемые поля, и, копая лопатами и кирками, используя драгоценное дерево и работая изо всех сил, сделает новые каналы, которые позволят распространить дар Гутея в пустыню и засеять новые поля. Таким образом будут освоены новые части пустыни, а старые поля спасены от излишка воды.
Собравшаяся толпа разразилась радостными криками, приветствуя своего Короля-Льва — не самое частое событие, во всяком случае не более частое, чем потоки воды, вызвавшие его. К следующему восходу солнца около северных ворот стояли тысячи людей. Они пришли с радостью, как сказали регистраторы — еще одно нечастое событие — и добрая половина из них была добровольцами, что вообще было беспрецендентно. Страх и поклонение могут поддерживать живого бога, но ничто не сравниться с гордостью, которую Хаману почувствовал за них и вместе с ними, когда они пошли на север, чтобы спасти поля от затопления.
Второй призыв копал двенадцать дней. Ров с темной от грязи водой появился за самыми последними полями Урика, спасая урожай, но вода все еще прибывала из далеких гор. Огромное пещерное озеро под Уриком, которое удовлетворяло жажду огромного города, превратилось в ревущий водоворот. Оно уже затопило каменные берега и подбиралось к стенам пещеры, которые не были мокрыми с того времени, когда Лев из Урика еще был смертным.
Хаману отпустил второй призыв на милость Джаведа, и призвал третий. Один из пяти мужчин и женщин, любого возраста, был призван. Спустя пять дней четыре тысячи Уриктов собрались на внешном дворе дворца. Пока толпа глядела, могучий Король-Лев молотом разбил вдребезги запечатанные двери одного из десяти зернохранилищ Урика, а потом послал третий призыв в поля, которые были спасены вторым, с мешками зерна на плечах.
Третий призыв продолжал работу на затопленных полях; Хаману видел сотни темных точек, медленно движущихся через грязь. Среди них был и Павек, сеющий зерна по колено в грязи. На его плече небрежно висел золотой медальон. Рядом с ним работали двадцать жителей Квирайта. Потайная деревня послала добрую часть своих жителей — фермеров и друидов — хотя у них хватало проблем с их собственной землей.
Все это было очень рискованной игрой, старой как само сельское хозяйство: если зерно из зернохранилища сумеет подняться и созреет, они получат урожай, не меньше четырех мешков на каждый, которым они рискнули, совершенно замечательный результат для земли, которую не обрабатывали многие столетия. Будет что продавать своим менее удачливым соседям, завоевывая их не оружием, а торговлей. Быть может зерна будет столько, что удастся даже построить одиннадцатое зернохранилище. Если зерно взойдет…
А если будущий урожай погибнет, например в случае, если в Урик придет война или случится какое-нибудь другое несчастье, все еще останутся девять других хранилищ, в каждом из них достаточно зерна, чтобы кормить весь Урик целый год. Хаману не играл в игры, один из результатов который была судьба его города.
— Ваше Всеведение, ораторы составили новый панегирик.[1] — Энвер продолжал читать свои заметки. — Они называют вас Хаману Повелитель-Воды, Создатель Океанов. Они желают включить панегирик в завтрашнюю литанию. У меня здесь полный текст, Ваше Всеведение; могу прочитать, если вам интересно. Текст достаточно хороший — немного напыщенный на мой вкус — но я уверен, что народ найдет его вдохновляющим.
— Создатель Океанов, — повторил Король-Лев, опять перенеся свое внимание на крышу дворца.
Океан было словом, которое его ученые выкопали в архивах, и больше ничем. Лев из Урика сомневался, что на свете есть кто-нибудь, кто видел океан — не считая Раджаата, конечно, если он еще жив в своей Пустоте. Хаману вытащил из памяти воспоминание о нем, которое он сам когда-то видел в кристалле Раджаата: синяя вода, раскинувшаяся от горизонта до горизонта, пенистые волны, одна за другой разбивающиеся о песок, который не сохнет никогда. Грязный водяной ров, опоясывающий Урик, не только не был океаном, он не был даже обещанием океана. Все, что он обещал — а живой бог осмеливался надеяться на его обещание — зеленые поля и небывалый урожай.
Что бы этот океан хотел, прежде чем родиться? Что для этого надо? Безусловно больше, чем десять ночей с серебряными кольцами вокруг золотой луны. Надо больше, чем целый год потоков мутной воды, льющихся с неба, чтобы появилось озеро настолько широкое, что невозможно увидеть его противоположный берег. Борсу потребовалось больше столетия, чтобы прекратить разрушение, которое начали Очистительные Войны. Зато через совсем немного лет после этого Дракон начал странствовать по Центральным Землям Атхаса. Сколько лет надо, чтобы пещера Урика больше не смогла вместить всю воду и вместо Урика на земле появится безграничное озеро?
Может быть тогда Хаману начнет верить в океаны.
— Храмы Адаркина и Улидмана.
Храм было словом, которое гарантированно привлекало к себе внимание Хаману. Он не полностью запретил почитание других богов, кроме себя — Лев из Урика не был ни богом ни дураком — но он не поощрял их. Пока священники храмов элементалей оставались в своих освященных временем местах, Лев из Урика терпел их присутствие в городе. И эти места были далеко от места в ежедневном списке Энвера.
Терпение никогда не было добродетелью Хаману, но этим утром он был невероятно милосерден — и невероятно любопытен — и дварф без помех продолжил свой рассказ.
— провозгласили существование демиурга по имени Бербоут.
— Грязь, дорогой Энвер, — со вздохом поправил его Хаману. — Правильное слово грязь. То, что они роются в манускриптах в поисках слов, которые были стары, когда я был ребенком, не меняет сути дела. Они хотят поклоняться грязи.
Безволосые брови Энвера сошлись вместе под неодобряющим углом. Он сжал свой свиток в кулаках, которые стали белыми от напряжения.
После того, как Дракон приказал долго жить и изменения стали неизбежными, Хаману рассказал своему почтенному исполнителю правду: Король-Лев Урика родился как самый обычный человек в одной из долин горной системы Кригилл примерно тринадцать веков назад. Он был бессмертным, но не был богом. Дварф очень тяжело воспринял это разоблачение. Энвер, сын, внук и правнук одетых в желтое темпларов, предпочитал верить в ложь о божественности — и всезнании — которую он узнал в детстве.
— Если вы так говорите, Ваше Всеведение, значит так оно и есть, — сухо сказал он, обычные слова в том случае, когда ответ бога разочаровывал его. — Жрецы воды и земли хотели бы воздвигнуть храм, чтобы отметить высочайший уровень воды, но безусловно они посвятят его тому, кому вы пожелаете, даже грязи.
— Объявили ли они, что вода уже достигла самого высокого уровня, дорогой Энвер? Начал ли поток воды спадать?
— Ваше Всеведение, я не знаю.
Хаману не смог устоять перед искушением и слегка подколол своего самого верного слугу. — И я тоже, дорогой Энвер.
— Мое упущение, Ваше Всеведение. — Дварф так окостенел, что казалось треснет и развалится при малейшем порыве ветра. — Что я должен сказать им, Ваше Всеведение? Что они должны переименовать своего демиурга? Или сказать им не делать ничего, пока поток не спадет?
— Нет, я думаю, что не надо говорить им ничего. Это самое мудрое — насколько я могу судить, дорогой Энвер, Бербоут может пожрать все наши земли, отсюда до Дымящейся Короны. А еще он может разбухнуть и утопить нас всех… Кстати, Бербоут это он, правда? Грязевой демиург, который вместе тем является женщиной — такое сочетание больше, чем я могу себе представить.
— Очень хорошо, Ваше Всеведение. Как вы хотите, Ваше Всеведение. Я проинструктирую жрецов Адаркина и Улидмана получше распросить своих оракулов. Они не узнали правильное имя своего демиурга, и пускай они точно убедятся в его мужественности… или женственности… прежде чем начнут молиться ему или строить храмы. Этого достаточно, Ваше Всеведение?
Энвер был образцом усидчивости и честности, и практически полностью лишен чувства юмора. Но бог, который хорошо помнит все совершенные им ошибки, должен быть терпим к слабостям своих помошников — или жить в полном одиночестве.
— Этого должно хватить, дорогой Энвер. Обязано хватить.
Внимание Хаману опять начало бродить по совсем другим дорогам еще до того, как Энвер произнес первые три слога следующей заметки из своего длинного свитка. Между наводнением и приготовлениями к войне, большую часть этой пятой части года он не обращал внимания на своих любимцев. Они выжили, конечно — большинство из них. Когда он не жил их жизнью, они жили сами, точно так же, как тогда, когда он еще не вплел свое любопытство в их существование. Забросив свою Невидимую сеть, Хаману коснулся их всех, одного за другим. Нищий умер. Аристократ неумно переел и страдает от последствий в самом темном и грязном уголке своего роскошного дома. Лорд Урсос наслаждается незванным гостем. У дочки Киссы режется еще один зуб. Ноери сын Ноери усыновил своего нищего и поставил его работать за прилавок своей булочной.
Монотонный рассказ Энвера плавно перешел от религии к беженцам; этот предмет не возбудил любопытства Хаману и не требовал его внимания. Хотя Королю-Льву было приятно думать, что страдающие граждане Раама, Драя и даже далекого Балика выбрали Урик своим убежищем, его темплары привыкли иметь дело с незнакомцами. Границы Урика, конечно, официальны были закрыты для всех, но Хаману вполне доверял своим желторубашечникам; они точно знают как, где и против кого применять этот закон.
Он опять вернулся к своим любимцам, пока еще одно небрежно сказанное слово не зацепило его пустое ухо: стрелы. Мастера по изготовлению луков из Кело повздорили с мясниками из Кодеша из-за цены на перья для тысячи луков, которые заказало военное бюро.
— Скажи мясникам, чтобы они продали свои проклятые перья по стандартной цене, или их наследники дадут их в пода…
О Могущественный Хаману! Король-Лев, Лорд и Властелин Мира, услышь меня!
Отдаленное эхо многих голосов проникло в сознание Хаману.
Его сознание заскользило обратно, вдоль серебряной нити, протянувшейся через нижний мир, к источнику вызова.
Оружие! Мне нужно непобедимое оружие и землетрясение.
Серость пронзили жгучие иголки, и когда Хаману открыл свои зеленовато-желтые глаза над отчаявшимся темпларом, его зрение было испещрено пылающими цветами. Поблизости была могучая магия — чужая магия.
О Могущественный Хаману! Даруй мне непобедимое оружие и землетрясение.
Прищурившись из-за излишка магии, Хаману вгляделся в хаос и кровопролитие на земле: на полную когорту его темпларов набросились какие-то бандиты, и очень много. Нет, не бандиты. Мгновенный анализ показал, что это хорошо вооруженные и отлично обученные воины, переодетые бандитами. В середине еще сражавщегося, но уже почти побежденного отряда Урикитов стоял военный, мужчина-человек, охваченный паникой, по его щекам текли слезы, руки с медным медальоном были подняты к небу. В третий раз он воззвал к Королю-Льву.
О Могущественный Хаману! Даруй мне непобедимое оружие и землетрясение, иначе я умру!
Мудрая просьба — по своему. Землятресение — если бы Хаману действительно решил бы использовать заклинание и заставил бы землю пойти волнами — могло поглотить всех, кто был на поле боя, друзей и врагов без разбора, за исключением того темплара, у которого было бы непобедимое оружие. Хотя жертвы неизбежны в битве, Король-Лев Урика не имел привычки вознаграждать командиров, которые спасали себя и бросали на произвол судьбы других темпларов меньших рангов и наемников, которыми руководили. Он уже решил вызвать землетрясение не давая непобедимого оружия — и насладиться смертью этого жалкого командира — но тут же ощутил колебания нижнего мира, которые не пропустили бы вообще никакое заклинание, которое он мог даровать.
На Атхасе было очень мало псиоников способных вызвать в нижнем мире настолько сильные колебания, что Доблестные Воины не смогли бы связаться со своими темпларами. Конечно, в этой маленькой группе были сами Доблестные Воины. Хаману знал особенности заклинаний каждого из них.
Иненек, Невидимый ветер унес имя врага. Это ее след он почувствовал в нижнем мире, это ее переодетые темплары Галга напали на его. Стирательница-Огров.
Внезапно колебания прекратились, заменившись страстным голосом, полным обольщения и, хотя Иненек постаралась скрыть это, ненавистью. Однажды ты провел меня, Ману, больше этого не будет. Раджаат выбрал тебя за твою силу, а не за ум. Ты никогда не был умен, Ману, хотя ты считаешь себя мудрецом. Сдавайся, и Урик выживет.
По нижнему миру со скоростью ветра пронесся визжащий кулак, удар которого мог бы сравнять с землей гору щебня.
Твои обещания пусты как твои угрозы, Иненек, ответил Хаману, с хохотом отражая ее атаку.
Иненек всегда была черезчур уязвима к насмешкам. Нижний мир осветился бесполезным ударом молнии; она так и не научилась контролировать свой темперамент. Хаману легко отразил молнии, как мгновение назад развеял визжащий кулак. Иненек — Оба из Галга, так она называла себя сейчас — была, бесспорно, самой слабой среди Доблестных Воинов. Как она ухитрялась уничтожать огров, было загадкой, для решения которой Хаману так и не нашел времени. Он подозревал, что она переодевалась в женщину-огра и всаживала ножь в сердце любому мужчине-огру, после того, как завлекала его в свою кровать.
Стирательница-Огров не могла повредить ему, но его темплары были обречены, если он не вмешается. Со все еще пылающими глазами Хаману повернулся к Энверу, который даже не подозревал ни о чем плохом вплоть до этого мгновения.
— Я вернусь, очень скоро. — Он успел поймать потрясенный взгляд расширившихся глаз дварфа, потом разрезал воздух на крыше когтем и вошел в Серость.
Из Урика Хаману вышел черноволосым человеком. На поле битвы он возник Львом Урика, с черной гривой, выше и сильнее, чем любой великаныш, и намного более смертельный. В его правой руке сиял золотой меч. Несколько воинов с оружием в руках бросились на него. Он рассек их оружие, вместе с ними. Хаману владел своим волшебным мечом с мастерством, отточенным многими годами практики, каждый его удар был смертелен, враги валились один за другим.
Хаману не старался защитить свою спину и даже не отбивал удары, сыпавшиеся на него. Лев из Урика был иллюзией, очередной личиной, скрывающей его настоящую форму. Спокойный и внимательный наблюдатель — если бы такой мог быть на поле боя — заметил бы разрыв во времени, между моментом, когда металлическое оружие проходило через эфемерную внешнюю форму Льва и тем мгновением, когда оно разлеталось на куски, ударившись о невидимое тело дракона. Оружие сделанное из дерева или костей ждала другая судьба: оно сгорало в недолго живущих языках пламени, наталкиваясь на внутреннюю ауру.
Со своим королем, сеющим хаос среди врагов, темплары Урика воспряли духом. Они бросились вперед, добивая и так павшего духом противника. Хаману приветствовал их вновь-обретенное мужество; он наградит их, сохранив им жизнь. Но офицер, который вел их…
Его львиные уши слегка пошевелились, когда золотой меч принес смерть еще пяти солдатам Галга.
Он хотел услышать два звука: биение сердца своего офицера и лязг его металлического меча. Первую оплошность командира еще можно простить — если бы его паника не была сильнее Невидимого вмешательства Иненек, Хаману никогда бы не узнал, что его темплары нуждаются в нем. Вторая оплошность будет непростительной и последней в его жизни. Хаману напряг слух. Наконец он нашел половину того, что искал: сердце смертного, бившееся под бронзовым медальоном.
Бахир! Хаману схватил разбежавшиеся мысли офицера, его голос громом прогремел в его сознании. Сражайся, Бахир.
Хаману не любил убивать своих собственных темпларов. Это была, по меньшей мере, бесполезная трата жизни смертного. А в самом худшем смысле из-за уз, которые медальон создавал между ними, их смерть потакала самым темным аппетитам его существа, выводила их на передний план. Сражайся с врагами, Бахир. Бейся с ними до смерти… или будешь сражаться со мной.
Если бы такое услышал разумный человек, он бы все понял и бросился бы на солдат Иненек даже с голыми руками, но Бахир больше не был разумным человеком. Иненек начала, а Хаману ненароком закончил. Сознание Бахира покачнулось и разлетелось на куски. В последний раз ударило его сердце, в последний раз его сознание вспыхнуло мыслью, и последний Доблестный Воин Раджаата насладился его смертью.
Крошечный кусочек жизни смертного возбудил давно и жестко подавляемый аппетит Хаману. На какое-то мгновение на поле перед ним не осталось ни Урикитов ни врагов, только страстное желание, и живые пылинки, которые могли удовлетворить его.
Лев из Урика прорычал какие-то слова, слишком громко и зло, чтобы ухо смертного могло понять их. — Будь ты проклят!
Хаману отвернулся от искушения и от поля боя. Оставив своих темпларов сражаться с противником, он скользнул в нижний мир… где его уже поджидал вихрь.
Иненек угадала его выбор — его предсказуемую слабость — и приготовила ему псионическую ловушку. Хаману скинув с себя внешнюю личину, принял свою настоящую форму, став длинной и тонкой тенью, и дал вихрю засосать себя. Он не удивился, когда далеко внизу под его ногами появилась черная пасть, становившаяся все больше и больше с каждым оборотом вихря. Иненек послала его в Пустоту под Серостью, в объятья Раджаата. Хаману мог себе представить, чем Раджаат пообещал наградить ее.
Но, говоря по правде, Оба из Галга не могла повредить ему. Ее довольно значительная сила, не могда сравниться с его, когда он решил использовать ее. От длинных скелетоподобных пальцев Хаману пошло сияние, кокон света полностью окружил его. Вихрь Иненек больше не мог удержать его, и он начал подниматься обратно, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, пока вихрь полностью не рассосался.
В Серости время текло самым странным образом. Дни, недели, даже года могли пронестись за один чих в нижнем мире, а иногда, наоборот, время шло вдвое быстрее, и Доблестный Воин мог вновь появиться на поле боя — как и сделал Хаману — спустя удар сердца после того, как исчез из него.
Хаману воспользовался преимуществом растерянности и удивления своих врагов. Двое умерли сразу, после сильного удара мечом, снесшего их головы. Еще двое бросились бежать; он догнал их и убил ударом в спину.
Побитая в нижнем мире, неспособная доставить Хаману к Раджаату, побеждаемая на поле боя, Иненек перестала помогать своим темпларам, которые, чувствуя что удача в бою ушла от них, бросились бежать от неизбежной смерти. Малая часть, те воины, которые сражались на самом краю битвы, могли бы спастись; впрочем, их трудно было назвать счастливчиками. Иненек никогда не приняла бы их обратно из страха, что Хаману перевербовал их, а обычные люди были уверены, что жизнь темплара-предателя не будет ни долгой ни приятной.
Темплары Галга, попавшие в руки Хаману, знали какая судьба ожидает их: быстрая смерть, если повезет, медленная и мучительная, если нет. Они не знали, кто такие на самом деле короли-волшебники и почему они презирают один другого. Они знали только, что жизнь темплара заканчивается, когда он предстает перед другим королем-волшебником. Двое или трое темпларов Иненек упали на колени, отрекаясь от своего города; они предлагали свои клятвы в верности могучему королю Урика. Но в их сердцах не было надежды, а в головах никакой полезной информации — и он никогда не возьмет себе на службу тех, кто отказался от своего города.
Он предложил им ту же возможность, которую всегда предлагал своим пленным темпларам — смерть от своей собственной руки, а не от его. Все без исключения выбрали еще более простой и надежный вариант: разбежаться и прыгнуть на мечи и копья, которые держали Урикиты.
— О Могучий, ваша воля исполнена, — сообщил Хаману юный адьютант, когда все дела были закончены. Яркая желтая рубашка эльфа и правый рукав в металлическими нитями были изрядно потрепаны и запятнаны кровью. Мысли на поверхности его сознания были болезненно ясны. Его звали Калфен, и это была его первая компания. Он вырос до звания адьютаната не из рядовых темпларов военного бюро — эмалированный медальон ему достался благодаря связям семьи. — Темплары Обы мертвы, все до одного за исключением… за исключением раненых…
Голос Калфен прервался, а мысли заметались. Он представил себя в менее удачный день, раненым, страдающим от боли, и ждущим, пока другой живой бог распутает его воспоминания.
Хаману не обратил внимания на душевные страдания юноши. Он допускал протекцию в рядах темпларов, потому что это не давало молодым, вроде этого Калфена, никаких настоящих преимуществ. — Жди здесь, — приказал он, и добавил, для надежности, жесткий мысленный приказ, который заморозил юного эльфа на месте. — Когда я закончу с ранеными, ты расскажешь мне все, что случилось здесь, с самого начала.
Эльфы были самым проблематичным народом среди смертных. Добрая часть из них умирала сразу, как только Хаману касался их сознания. Зато самые лучшие из них были такими же мужественными, независимыми и решительными воинами, как Джавед. Если бы он сделал усилие, он мог бы научиться отделать слабых от сильных еще до того, как устраивать им проверку, но было намного проще — и быстрее — мысленно вбить Калфена в землю и посмотреть, выживет ли он.
Никто из раненых темпларов Обы не будет жить. Те, которые еще остались в живых, приветствовали освобождение от мук, которое им обеспечивали два одетых в желтое сержанта-хирурга, обычно быстрым ударом в яремную вену. Два сержанта с длинными ножами низко поклонились, когда тень Хаману упала между ними. Не сказав ни единого слова, они отступили назад и объединились со своими товарищами, стоявшими рядом с ранеными Урикитами. Они оставили своего короля молчаливо пройтись среди истекавших кровью темпларов Галга, аккуратно перерезая духовные нити, связывавшие тело с духом. Хаману уже поглотил дух одного человека, он не хотел — и не нуждался — добавлять хотя бы еще одно имя к своему бесконечному списку жалоб против Раджаата.
Он действовал очень тщательно, потому что эти темплары принадлежали Инеенек, так что она легко могла внедриться внутрь одного из них. Он сам так делал, как с мужчинами, так и с женщинами, когда посылал их на войну.
С Нибенаем между их владениями Урик и Галг — Король-Лев и Оба — редко сражались друг с другом. Пока Борс был жив, Доблестные Воины Раджаата воевали только с ближайшими соседями, а с другими заключали договоры о мире, в основном вынужденные. До последнего момента Галг и Нибенай были врагами и только врагами, до последнего момента…
Хаману погрузил свой мысленный щуп глубоко в землю, чтобы определить место боя. Холод сковал его сердце. Битва произошла далеко от любой дороги, еще дальше от любой фермы или оазиса, глубоко внутри разоренных, пустых пограничных земель, которые являлись предметом спором между Уриком и Нибенаем по меньшей мере тринадцать сотен лет.
Хаману не сомневался, что Галлард знал, куда Иненек послала своих темпларов, но он очень сомневался, что его старый друг-враг знает, что она вступила в заговор с Раджаатом. В другие времена контакт с Принесшим-Войну был единственным преступлением, за которое Доблестные Воины единогласно осуждали и наказывали.
Да, но времена изменились. Все изменилось — за исключением Хаману, Льва из Урика. Пока Хаману думал о драконах и Доблестных Воинах, последний из темпларов Галга тяжело вздохнул в послений раз и перешел от жизни к вечному сну.
Король Урика тяжелым шагом подошел к временному лазарету, где хозяйничали двое его сержанта-хирурга. После битвы он предоставлял неограниченную магию целителям военного бюро для излечения раненых, и ожидал от них, что они сделают все, что возможно.
Тем не менее, не имея прямого доступа к магии, сержанты-хирурги были не слишком умелы в своем деле. Темплары стонали и визжали, пока хирурги обрабатывали их раны. После их лечения оставались огромные отвратительные шрамы, вроде того, который пересекал когда-то симпатичное лицо Павека.
Хаману использовал полный потенциал Невидимого мира, когда решил подлечить своих темпларов. Как восстановитель жизни и здоровья, он был более, чем компетентен, но даже его гибкое сознание не могло исполнить то, что надо для всех сразу. Он решил не выбирать немногих счастливчиков. И еще он решил сохранить свое сострадание темпларам, верой и правдой служивших ему, в тайне, и он мысленно оправдал свой выбор мыслью, что для самих смертных будет лучше, если они не будут опираться и ждать его милодсердия.
Бледный, истекающий холодным потом, Калфен ожидал его в точности там, где Хаману оставил его.
— Рассказывай, — скомандовал Лев, закидывая Невидимые псионические нити в сознание юноши.
Волшебство Хаману удерживало Калфена на ногах. Собственная воля эльфа только формировала слова и мысли, которые король собирал с поверхности его сознания.
Несчастье началось прошлой ночью, совершенно невинно, когда горстка беженцев подошла к лагерю темпларов. Они выглядели не такими истощенными, как обычные беженцы, и в их карманах было достаточно металла, чтобы купить себе ночную защиту у огня темпларов.
— С ними были дети, — объяснил Калфен.
Несмотря на то, что каждый эльф из племени был сильно привязан к своему роду и родственникам, по отношению к своим потомкам эльфы были совершенно не сентиментальны. Они могли оставить в пустыне любого, если было надо вставать и идти. С другой стороны племена, на попечении у которых были дети, были более преуспевающими и меньше боялись за свое будущее. Мысли Калфена были горькими от стыда. Он поддался взятке металлическими монетами, уступил женским чарам и предрассудкам своей собственной расы.
Хаману еще усилил его стыд, тысячи острых иголок пронзили сознание Калфена изнутри. Юноша не мог даже вздохнуть.
— Я умираю, — прошептал он.
Доверие и предрассудки — это еще одна двусторонняя монеты. Когда Лев из Урика доверяет своим смертным темпларам, он получает взамен их предрассудки. Калфен был не первым Урикитом, который купился на хитрость Обы из Галга. Заклинание Хаману сохранило юношу живым, и даже стоящим на ногах.
— Рассказывай, — потребовал он. — Что было дальше? Говори!
Увы, остальное было просто и предсказуемо: один из мнимых беженцев незаметно подлил что-то в вино. Неподверженные действию своих ядов, беженцы растворились в ночи, оставив темпларов умирать на восходе солнца. Но командир выпил меньше, чем Калфен и остальные. Он заметил говорящую без слов пыль на востоке и протрубил тревогу. А потом пинал, ругаясь, каждого в бок, пока все не встали. К тому времени, когда Калфен встал на ноги, звук сандалей, хлопающих по земле пустыни, был повсюду.
Больше сказать или узнать было нечего. Хаману освободил Калфена. Эльф падал на землю постепенно: сначала на колени, потом на локти, и наконец на лицо. С опозданием он прижал свои ладони с длинными пальцами к ушам и волосам, как если бы плоть смертного могла защитить его от вопросов Хаману. Его вырвало, и даже хуже, но он остался в живых. Огонь Льва испытывал его, и сумев не умереть, он был осужден на жизнь.
Мысли Хаману уже были далеко от эльфа. Быстрым шагом он ходил по остаткам лагеря, в поисках остальных частей головоломки, которую Иненек оставила для него. Ее план не удался, все у нее пошло наперекосяк: он появился слишком рано, пытаясь спасти своих темпларов, и ее ловушка сработала не в том порядке. Но она хотела, чтобы он появился — иначе зачем она залезла в сознание его офицера или приготовила вихрь, который ждал его в Серости?
То есть ключом был командир темпларов, его собственный офицер. Иненек хотела, чтобы темплар использовал свой медальон и призвал его в этот отдаленный уголок пустыни, хотя и не для боя. Отравленное вино и колебания в нижнем мире, все это было предназначено для того, чтобы держать его подальше, пока убивают его темпларов… Пока все, кроме одного единственного темплара не были бы перебиты…
Не считает ли Оба из Глага темпларов Урика идиотами? Ни один темплар военного бюро не согласится быть единственным выжившим, памятником чудовищной глупости. И он безусловно не вызовет своего бессмертного короля только для того, чтобы тот полюбовался на паническое бегство и разгром своей когорты. У командира должны была быть причина получше.
— Смирно! — голос Хаману загрохотал над полем боя.
Сержанты-хирурги продолжали свою работу, но темплары, которые собирали оружие, доспехи и вообще все ценное с трупов как друзей, так и врагов, встали, вытянув руки вдоль боков. Голова Хаману пульсировала — как она пульсировала все время, с тех пор как он вышел из нижнего мира. Боль была, можно сказать, совсем незначительная, по сравнению с той воистину смертной болью, на которую он привык не обращать внимания, и совершенно не удивительная, учитывая сколько волшебных сил было потрачено в этом негостеприимном месте.
Помассировав иллюзорный лоб рукой, на этот раз похожей на руку человека, Хаману разобрался в своей боли. Магия и псионика, его и Иненек, вызвали большую часть этой боли, но сыграл свою роль и след Принесшего-Войну под этим местом. Однако запах Раджаата шел не только из нижнего мира, где Хаману мельком увидел Черноту, пока боролся с вихрем Иненек, но и был где-то здесь, между остатками боя.
Хаману шагнул к своему бездыханному командиру, который упал в точности там, где стоял, подняв свой медальон. Сознание человека было темное и холодное; когда Доблестный Воин захотел исследовать дух смертного, от того уже ничего не осталось, даже некроманту здесь делать было нечего.
С ревом Лев Урика обругал всех, включая себя, Иненек, Раджаата и бесполезного офицера. Со злости он пнул труп ногой и еще до того, как тот опять упал на землю, понял, что нашел недостающую часть.
Завернутый в шелк и кожу, второй осколок был меньше чем тот, который нашел Джавед в лагере темпларов Нибеная. Его темная энергия билась в точно таком же ритме, как пульсирующие вены Хаману — и все остальное вокруг. Она хотела все разрушить, но он не осмелился сделать хоть что-нибудь с ним, пока сержанты-хирурги выкачивали из него магию для исцеления его темпларов.
Беспокойно Хаману забросил сеть в нижний мир.
Виндривер!
Почти пятая часть года прошла с тех пор, как Хаману послал тролля в Ур Дракс — не сликом много времени, учитывая как коварна может быть цитадель, если Раджаат ухитрился с ней что-то сделать не покидая свою тюрьму.
Виндривер!
Хаману не беспокоился об слишком долгом отсутствии тролля. В прошлом бывало, и не раз, что Виндривер исчезал на год, даже на десять, вынюхивая самые разнообразные секреты. Бестелесный, ни живой ни мертвый, странствующий тролль почти не влиял на мир вокруг него и, одновременно, был практически неуязвим. А если бы Виндривер был уничтожен — Хаману опять потер свой лоб; под иллюзорным обликом льва он чувствовал кусок камня — он бы заметил исчезновение тролля.
Виндривер!
Третий призыв пронесся через серость и благополучно умер без ответа. Хаману принялся взвешивать вероятность совершенно невероятных событий: Виндривер попал в ловушку. Виндривер в плену. Виндривер нашел возможность отомстить ему. Хаману готов был поставить на кон свою бессмертную жизнь, что Виндривер не предаст его Раджаату и другим Доблестным Воинам, но в последнее время он уже несколько раз ошибся, так что кто его знает…
Ко мне, Виндривер, немедленно!
Ничего. Ни шепота, ни обещания из нижнего мира. На закате солнца сержанты-хирурги закончили свою работу с ранеными. Хаману подобрал завернутый осколок и сломал его о свое бедро. Он вдохнул отравленный дым и сжег заклинание Раджаата своим. Когда на поле боя не осталось ничего, что мешало бы ему, Хаману прокричал имя тролля к началу времени и к концу пространства. Он получил в ответ бесчисленное количество прерванных мыслей, но ни одна из них не вышла из сознания тролля.
После тринадцати сотен лет жизни враг так же хорош, как и друг. В эту ночь, когда обе луны вместе плыли по небу, вернувшийся в Урик Хаману был не один, но одинок. Он позвал Энвера, Джаведа и Павека с их отдельных ужинов. Они сидели, тихие и напряженные, на крыше дворца, пока он ходил в облике человека рядом с балюстрадой, не обманывая этим никого. Он видел их мысли, явственно читал их убеждение, что произошло что-то ужасно плохое, но он не мог поговорить с ними так, как он говорил с Виндривером. И они не могли отвечать ему так, как старый тролль.
— Что за печальное собрание, О Могучий Хозяин. Кто-нибудь собирается умереть, или уже умер? — Как тень, нарисованная в темноте серебряным пером, Виндривер вывернулся из тьмы. — Я услышал тебя, О Могучий Хозяин, и подумал, что это может быть важным.
Хаману скрыл свое облегчение. — Что ты узнал в Ур Драксе? Ты нашел источник осколков?
Толстые серебряные губы разошлись, обнажив еще более толстые серебряные зубы. — Осколки, О Могучий Хозяин? Вы нашли еще несколько?
Хаману в свое время разгромил троллей Виндривера и полностью уничтожил их, но никогда ему не удавалось перехитрить старого генерала, чей ум и сейчас был не менее остер, чем в юности. — Иненек. Сегодня. Уничтожен, как и первый.
— Если их было два, О Могучий Хозяин, ясно, что есть и другие, — сказал Виндривер таким тоном, что его легко было по ошибке принять за беспокойство.
— Что с Ур Драксом? Удалось ли тебе узнать что-нибудь?
— Мужчины дураки во всем, что касается женщин, О Могучий Хозяин.
— Сохрани свои поучения для себя. Рассказывай!
Хаману сжал свое собственное предплечье, и серебряный силуэт Виндривера стал тверже и материальнее.
— Шторм Узурпатора все еще бушует, О Могучий Хозяин. Холодный дождь падает на плавящиеся камни. Пар и лед существуют рядом, бок о бок над поверхностью черного озера, внутри которого заключены кости Принесшего Войну.
Сердца Хаману прыгнуло.
— Что?
— Это была совершенно замечательная идея, О Могучий Хозяин, похоронить кости вашего врага в озере лавы, а потом бросить туда Темную Линзу. Невероятно замечательная. Разве, после всего, лава не что иное, как нерожденный обсидиан? Кто может сказать теперь, где заканчивается Линза и где начинается тюрьма, О Могучий Хозяин? И когда тюрьма становится дворцом? А дворец тюрьмой?
Под рукой Хаману один из львов баллюстрады лопнул и превратился в пыль.
— Очень трудно сказать, из-за дыма, тумана и пара, но мне кажется, О Могучий Хозяин, что поверхность озера больше не плоская. В центре, я думаю, она приподнимается, что-то похожее на десну ребенка, когда зубы собираются выходить наружу — О, прошу прощения, Могучий Хозяин: у вас нет детей. Вы ничего не знаете о том, как выходят зубы…
— Они его удержат? — требовательно спросил Хаману. — Заклинания, которые наложила эта женщина, удержат ли они Раджаата в Пустоте?
— При свете солнца они напрягаются, О Могучий Хозяин, но по-прежнему сильны.
Седьмая Глава
Хаману отослал их от себя — всех: Виндривера, Энвера, Павека, мириады рабов и темпларов, поддерживавших работу дворца, и удалился в свой кабинет, чтобы подготовить компоненты и составить заклинание невидимости, которое было нужно, что увидеть своими собственными глазами тюрьму того, кто создал его и — еще более важно — суметь вернуться обратно.
— Масло, О Могучий Хозяин? — прошелестел Виндривер из самого темного угла комнаты, в котором Хаману работал в тиши ночи.
Подвалы под дворцом были затоплены. Для сохранности их содержимое поспешно перенесли в верхние комнаты, так что в обычно строгом и упорядоченном кабинете Хаману царил хаос. Сокровища, накопленные за долгие годы, лежали сомнительными качающимися пирамидами. Затененная фигура Виндридера почти затерялась среди других бесчисленных теней, и Хаману не стал терять концентрацию, чтобы взглянуть на своего старого врага.
— Неужели ты действительно веришь, что масло из яиц красноглазой птицы-рок защитит тебя от твоего создателя?
— …девять сотен восемьдесят, девять сотен восемьдесят один… — сквозь стиснутые зубы ответил Хаману.
Мерцающие капли, черные как небо в полночь и блестящие как жемчужины, падали из полированной порфировой бутылочки, которую он держал над обсидиановым котлом. Четыре столетия назад он сам добыл это масло из красноглазой птицы. Это масло обладало огромным магическим потенциалом — он только начал его изучать — но он не ожидал, что оно защитит его от первого волшебника.
Ничто, кроме собственного ума и всего счастья этого мира не в силах защитить последнего Доблестного Воина от Раджаата.
— Ты дурак, О Могучий Хозяин. Сдаться и жить с этим. Стать драконом. Любой дракон лучше чем Раджаат на свободе. Ты же не сможешь одновременно сражаться и с Раджаатом и с другими Доблестными Воинами.
— …девять сотен восемьдесят восемь, девять сотен восемьдесят девять…
Неспособный ни вызвать вспышку Хаману, ни отвлечь его от стряпни чего-то загадочного на столе перед ним, Виндривер обратил внимание на окружающий их беспорядок. За исключением язвительного голоса и вспышек гнева, тролль никак не мог повлиять на мир живых. Это было его защитой — он мог незамеченным проскользнуть через любые, кроме самых мощных, заклинания, включая те, которыми Хаману установил в этой комнате. Это же было его вечным разочарованием.
Покрутившись по комнате, Виндривер потряс пыль и поднял в воздух из теней несколько пылевых демонов. Одной рассеянной мыслью Хаману успокоил воздух, и отсчитал девять сотен девяностую каплю масла. Демоны исчезли.
В кабинете был еще один стол, ничем не загромжденный, на нем лежали только принадлежности для письма и два листа прегамента: один чистый, а второй уже исписанный. Это привлекло любопытство Виндривера, как естественный магнит привлекает к себе железо. Воздух над столом вздохнул. Уголки исписанного листа затрепетали.
Хаману представил себе большой палец в центре листа. — … девять сотен девяносто четыре, девять сотен девяносто пять…
Подхваченное небольшим вихрем медное перо прокатилось по краю стола и с шумом ударилось о пол. Лист пергамента остался там, где лежал.
— Воспоминания, О Могучий Хозяин? — шелест прекратился. — Оправдания? Защита?
Обвинения Виндривера входили в спину Хаману как ледяные ножи. Лев из Урика нес на себе личину человека в своем кабинете, где никакие иллюзии были не нужны. Тем не менее движения человека, жесты человека, походка человека — его сознание знало все это лучше движения любого другого существа. Он пожал иллюзорными плечами под иллюзорной шелковой рубашкой и продолжал свой счет.
— Чем тебя приворожил этот уличный червь, сирота, О Могучий Хозяин? Ты вроде крепко привязал его к себе золотой цепью, и тем не менее жалуешься на его непонимание?
— …одна тысяча… одна тысяча один…
Хаману опустил бутылочку на стол и, взяв ковш из ребра инекса, размешал жидкость в котле. По поверхности вязкой смеси пошли пузыри. Обе свечи в кандлябре над головой Хаману потухли с дружным шипением, оставив за собой запах давным давно умерших цветов. Угольная жаровная тускло пылала под котлом, но когда Хаману помешал во второй раз, бледное сияние пошло уже из самого котла.
— Я обратил внимание на твоего Просто-Павека, Павека — высшего темплара, Павека — друида. Его шрамы заходят очень глубоко, О Могучий Хозяин. Он заходят в твое сердце, и в сердце любого маленького создания.
— Павек умный человек.
— Он слишком молод.
— Он смертный.
— Он слишком молод, О Могучий Хозяин. Он не может понимать.
— А ты стар. Разве твой возраст сделал тебя умнее?
— Во всяком случае умнее тебя, Ману. Ты никогда не будешь взрослым.
Ману. Значит тролль прочитал самый верхний лист пергамента, где было написано имя, но ведь он знал о Ману на протяжении столетий, или нет? Виндривер в целом знал историю Льва, но сам Хаману знал о тролле очень мало. Для чего ему надо знать о призраке?
Убрав ковш к левой руке, правой Хаману потянулся к самому обыкновенному на вид кожаному кошельку, лежашему на столе. Он вынул оттуда щепотку мелкого порошка, земляного цвета, и рассыпал его крупицы по кипящей поверхности котла. Там, где падала крупинка, вспыхивало пламя.
Блестящие черные волосы Хаману заплясали от жары. Он сказал слово; в то же мгновение языки пламени замерли в воздухе. Волосы опять опустились на шею; его иллюзия поддерживалась сама собой, без помощи мысли. Через несколько мгновений издалека донеслись плач и вопли, кто-то рыдал очень далеко от кабинета. Пламя мигнуло, погасло и Хаману опять помешал ковшом в котле.
— Ты зло, Ману.
— Это ты так говоришь.
— Да, я так говорю. А ты слышишь меня?
— Я слышу. Ты, в свое время, не делал ничего другого.
— Я не волшебник, — негодующе воскликнул тролль.
— Только благодаря случайному стечению обстоятельств. Раджаат сделал тебя раньше, чем он сделал меня.
— Что б он был проклят! Не мы начали Очистительную Войну.
— И не я. Я только закончил ее. А разве ты закончил бы ее по-другому? Разве ты смог бы остановить свою армию, пока был жив хотя бы один мужчина, женшина или человеческий ребенок? Разве ты смог бы остановить сам себя?
В воздухе повисла тишина.
Над кипящим в котле варевом появился радужный пузырь. Он быстро раширился, потом вырос в высоту: ядовитый радужный пузырь высотой в человека. Потом пузырь лопнул, окутав Хаману неприятно пахнувшим туманом. Шелк его иллюзорной рубашки завял, открывая черную драконью плоть его настоящей формы. Сдавленный смешок пришел из угла кабинета, потом иллюзия восстановилась.
Хаману опять взял в руку ковш, сделанный из кости иникса, сделал им круг, постукивая по краям котла, потом бросил его в жидкость. Предпоследний компонент на месте. Над котлом, не касаясь его, повисла синяя полусфера, ядовитая и живая. Потирая человеческими пальцами человеческий подбородок Хаману изучал ее поблескивающие синие искорки, скрывая очень человеческую хмурую усмешку.
Похоже, все в порядке. Поднявшееся варево, мерцающий свет, еще не выветрившийся запах — все, как он рассчитывал и как предсказали его вычисления. Но любые предсказания могут быть ошибочны, катастрофически ошибочны, если заклинание пойдет вразнос.
Раджаат, создатель как волшебства, так и Доблестных Воинов, написал грамматику заклинаний еще в своей собственной молодости, задолго до того, как начались Очистительные Войны. С того времени мало что было добавлено к волшебным книгам, да и то вписано кровью: предупреждения тем, кто пытался повторить эксперимент и неудачно. Заклинание невидимости, которое придумал Хаману, было опасно и непроверено. Оно существовало только в его воображении. Скорее всего он выживет даже в случае ошибки, но как раз сейчас просто выжить было недостаточно.
Все еще хмурясь Хаману отошел от стола. Он остановился около кучи вещей, ничем не отличающейся от других, и зацокал языком. Прежде, чем Виндривер успел сказать что-нибудь ядовитое, из кучи высунулась голова ящерицы. Встав на колени Хаману взял ее в руку.
Ящерица, критик, была большой и старой, для своего рода. Ее когда-то блестящие много-красочные чешуйки выцвели, превратились в еле заметные, слегка окрашенные полоски. Ее движения были медленны и осторожны, тем не менее она без колебания приняла палец Хаману и взобралась через его ладонь на предплечье. Ее ноги скрылись из вида, так как она обвила ими настоящую плоть Халану, внутри иллюзии.
— Ты удивляешь меня, — пробормотал Виндривер из угла.
Хаману дал возможность замечанию тролля упасть в пустоту, хотя он, тоже, был поражен, услышав что-то похожие на восхищение в голосе своего старого врага. Он был зло и принимал это. Тысячи раз тысячи судов выносили приговоры Льву из Урка. Он сделал тысячи ужасных дел, потому что они были необходимы. Он сделал намного больше, потому что ему было скучно, требовалось развлечение и надо было отдохнуть. Но его зло было такой же иллюзией, как его человеческая личина.
Король-Лев не мог сказать, что видит ящерица своими глазами. Ее сознание было слишком мало, слишком отлично от него, чтобы он мог войти в него. Ученые считали — и доказали — что критики не живут в домах, где живет зло. Они выбирали смерть, если ворота такого дома закрывались за ними, не давая им выйти. Из доказательств ученых, сделав маленьких шаг, следовало, что критики не выносят присутствие зла рядом с собой, и, естественно, что критики и Лев из Урика вместе быть не могут, никак.
Тем не менее во дворце никогда не было недостатка в этих обычно одиноких созданиях. Только для них в каждой комнате стояли мелкие тарелки лучшего меда — и даже здесь, среди ядовитых компонентов заклинаний, или на крыше, под неиспользуемой кроватью Хаману.
С критиком вокруг предплечья Хаману вернулся к рабочему столу, сунул пальцы в тонкую изящную тарелку и предложил рокошный ужин своему компаньону. Темный язык мелькнул, пробуя подарок, затем мельнул второй раз, после которого мед исчез. Широкий зевок обнажил беззубые десны ящерицы, потом усыпанный крапинками подбородок опять устроился на предплечье Короля-Льва, греясь в волнах тепла, идущих от неестественного тела.
Согнув палец, Хаману осторожно провел им по треугольному черепу критика и его узким бокам. Склонившись над ним, он прошептал только одно слово: «Раджаат», и добровольно открыл свое сознание ящерице, как многие совершенно недобровольно открывали свои сознания ему.
Критик поднял свою голову, мелькнул язык — как если бы мысли были сладким медом, разлитым в воздухе. Медленно он напряг свои ноги, повернулся, и пополз к ладони Хаману, которая висела над голубой полусферой, накрывавшей мерцающий котел.
Тень пала на руку Хаману. — Это не необходимо, Ману.
— Зло не заботится о необходимости, — оборвал его Хаману. — Зло служит делу, так как добро этого не умеет. — Его самого удивила горечь, прозвучавшая в этих словах. Он думал, что его больше не волнует, что думают о нем другие но оказалось, что и это иллюзия. — Оставь меня, Виндривер.
— Я вернусь в Ур Дракс, О Могучий Хозяин. Там нет ничего, что бы ты мог узнать сверх того, что узнал я — и без малейшего риска.
— Иди куда хочешь, Виндривер, но иди.
Критик прыгнул в котел. На мгновение кабинет погрузилась в полную темноту. Когда свет вернулся, он шел только из жаровни. Поверхность варева была атласно-гладкая; как тролль, так и критик исчезли.
С сомнениями и опасениями, которых он обычно не ощущал, Хаману поднял котел. Затем он опустил его внутрь окованного железом сундука, на поверхности которого были вырезана слова из языка, который был забыт задолго до того, как родился Раджаат. Потом Хаману запер сундук с сине-зеленой магией внутри и, чувствуя каждый из тысячи прожитых лет, уселся перед чернильным камнем и пустым листом пергамента.
Компоненты должны взаимодействовать две ночи и день, потом жидкость надо будет процедить и заклинание невидимости может быть использовано.
За это время он мог написать очень много.
Я взял меч Балта из его безжизненной руки. В первый раз в своей жизни я держал в руке выкованное оружие. Мои нервы затрепетали, в точности как тогда, когда волосы Дорин касались мой кожи. Мечу было суждено стать моим оружием, навсегда. Отбросив в сторону свою старую кремнивую дубинку, я провел ладонью по стальному лезвию. Это вдохновило меня, даже Дорин так не вдохновляла мои страсти смертного, и я уже знал все секреты меча, как я знал все ее.
Безмолвный ветеран нашего отряда отступил в сторону, когда я поднял меч и сделал им медленное и широкое круговое движение. — Теперь мы будем сражаться с троллями, — сказал я им над остывающим телом Балта. — Хватит, побегали. Если кому-то нравится бегать от врагов, может начинать бежать прямо сейчас, потому что любой, кто не захочет сражаться с троллями, будет сражаться со мной.
Я принял стойку, которую принимают бойцы с мечом перед боем, слегка присел и напружинил ноги. Я много раз видел, как это делают, но сам никогда не пытался сделать так. Выставив вперед меч и прикрыв рукояткой жизненно важную часть своего тела, я почувствовал идеальное равновесие, когда мои плечи были прямо над моими ногами. Это было так удобно, так естественно. Не думая я улыбнулся, обнажив свои зубы.
Трое из нашего отряда резко повернулись и дали деру, побежав к ближайшей дороге и к деревне, мимо которой мы прошли несколько дней назад, но остальные остались на месте. Они приняли меня как своего командира, меня, сына фермера из Кригилл, с легкими костями танцора, который слишком красиво говорил и который убил в один день тролля и воина-ветерана.
— Ха-Ману, — назвал меня один из них: Герой Ману, Могучий Ману, Ману с мечом в руке и желанием использовать его.
Солнце, ветер и почтение в глазах жестоких и сильных людей сделало меня командиром их отряда в тот день. Моя жизнь совершила крутой поворот. Оглядываясь назад, я вижу болезненный путь Ману из Дэша: сожженные дома, оскверненные тела родных и близких… Дорин. Впереди будущее призывало его, чтобы он придал ему форму, выковал его, как его меч был выкован молотом и жаром кузнечного горна.
Я не мог вернуться обратно в Дэш: невозможно победить власть времени, но я еще не стал Хаману полностью. Человек может отказаться от своей судьбы и оставаться заточенным в тесном уголке между прошлым и будущим, пока они оба не станут недоступными. Выбор был за мной.
— Снимаемся с лагеря, — скзала я им, это была моя первая сознательная команда. — Прошлой ночью я убил только одного тролля. Там, где есть один тролль, будет много. И как раз сейчас самое время для троллей узнать, что это земля людей.
Не было одобрительных ни криков ни рукоплесканий, просто покрытые пылью спины людей, мужчин и женщин, которые подчинились моей команде. Подчинились ли они только потому, что я убил Балта и они боялись меня? Послушали ли они меня только потому, что я предложил им возможность, за которую они ухватились? Или они сделали это просто по-привычке, по той самой привычке, которая хранила меня позади Балта в течении пяти лет? Возможно немного из-за каждой из этих причин, возможно из-за чего-нибудь другого, чего я не могу угадать сейчас, а возможно и вообще без всякой причины.
Со временем, я узнал тысячи способов подчинения людей своей воле, но в конце концов есть очень мало тех, кто готов первым ринуться в неизвестное. А я был одним из таких.
У нас было три канка. Два жука перевозили наш багаж: одежду и плащи, большие кухонные котлы, еду и воду — и это помимо двухдневного запаса, который каждый ветеран нес в своем личном рюкзаке — и еще всякую уйму разных полезных вещей, в которых люди без дома нуждаются в пустыне. Третий канк нес самого Балта, его личные вещи и все наши деньги. Я подошел в брызгающему ядом канку и поехал на нем, в перевый раз, пока наши следопыты искали следы троллей.
Первым делом я пересчитал монеты в нашем денежном сундучке — какой бы человек этого не сделал? Мы могли бы есть лучше, если бы в деревнях, через которые мы проходили, можно было бы купить более лучшую еду за любые деньги. Я нашел хорошо спрятанный и очень тяжелый кошелек самого Балта и пересчитал эти монеты, тоже. Оказалось, что Балт был богачом, хотя его богатство принесло ему мало пользы. Но вдвое больше чем деньги меня заинтересовали куски пергамента, сделанные из выделанной кожи тролля, которые Балт хранил в денежном сундучке.
Пока все остальные спали, я проверил эти клочки и в который раз поблагодарил Джиккану, которая научила меня читать человеческие буквы. Некоторые из этих клочков оказались картами: карта Кригилл, карта Центральных Земель, карты незнакомых мне мест. Черные линии были дорогами; деревни были именами рядом с точками, побольше или поменьше. На карте Кригилл был обозначен и Дэш, его имя было перечеркнуто большой красной полосой. Были там и другие деревни, больше, чем я мог сосчитать.
На этой драгоценной карте Балт делал самые разные пометки: синие волнистые линии обозначали речки, которые текли там раньше или сейчас, черные линии с треугольником под ними отмечали места, где мы хоронили наших мертвых. Эти черные линии поразили меня: я не думал, что он отмечает это. Последние пять лет моей жизни были записаны на этих листах пергамента.
Еще один лист содержал имена всех членов нашего отряда с краткими характеристиками. Я засмеялся, когда прочитал то, что он написал обо мне: «Большеротый фермерский мальчик. Слишком много говорит. Слишком много думает. Опасен. Покончить с подлецом когда Джиккана бросит его». Мужчина, который записывает такие вещи для того, чтобы не забыть их, дурак, но я очень внимательно прочитал все, что он написал, и запомнил все слово в слово, прежде чем сжечь лист пергамента. Помимо всего прочего, он был совершенно прав по отношению ко мне; он просто двигался и соображал недостаточно быстро.
В сундучке были и другие листы пергамента. На каждом из них была печать более высокопоставленного офицера. Слова оказались незнакомы для меня, даже когда я прочитал их вслух. Код, решил я, но код чего? Слов, символов, идей, передвижений, оперативных планов? Я взломал код троллей прежде, чем узнал, что человечество имеет свою собственную письменность и свой собственный код. Я не сомневался, что могу взломать любой код, какой бы не изобрел Балт.
Конечно этот код изобрел не Балт, он был на это просто неспособен. Это был код Мирона из Йорама, приказы, которые он — или его доверенный офицер — посылал отрядам вроде нашего. На каждом таком листе офицеры, чьи пути пересекались с нашими, писали свои мнения о нашем отряде. А так как мы очень редко видели одного и того же офицера дважды, эти листы были что-то вроде разговоров между нашими начальниками.
Склонившись над ними, я легко представил себе Балта, делающего то же самое. Картина вдохновила меня. Я взломал код Сжигателя-Троллей спустя три ночи. Это был очень простой код: один буква всегда заменяла другую, независимо от офицера, писавшего текст. Офицеры Сжигателя-Троллей были ненамного умнее Балта, но наш рыжеволосый предводитель не сумел узнать их секреты. Он никогда не возил бы с собой все эти годы плотно исписанные листы пергамента, если бы знал, как мало офицеры Мирона ценят его.
На этих закодированных листах были не только оскорбления и ругательства. Слово за слово, и я из кусочков сложил стратегию Сжигателя-Троллей. Он пас троллей, как если бы они были, ни больше ни меньше, канками. Некоторых он выбраковывал, остальных заставлял двигаться, приготавливая их пастбища: человеческие фермы, человеческие поселки, человеческие жизни.
Мы — отряд Балта и остальные отряды, которые каждый год маршировали на равнинах — не были воинами, мы не сражались на войне; мы были пастухами, предназначенными пасти стада Мирона из Йорама, всю оставшуюся жизнь.
Следующей ночью я прочитал мой перевод ветеранам нашего отряда. Честный гнев душил мое горло, пока я описывал намерения Сжигателя-Троллей; я не смог закончить. Одноглазый мужчина — один из самых доверенных людей Балта и, насколько я мог судить, не мой друг — взял лист после меня. Он читал с запинками, но привлек внимание отряда, а это дало мне шанс изучить реакцию моих мужчин и женщин, не привлекая к себе внимания. Почти все они были детьми и внуками ветеранов. Они выросли в военных лагерях, раскинувшихся на равнинах, в тех местах, где раз в год собиралась вся армия, чтобы промаршировать перед лицом самого Мирона. Когда они становились достаточно взрослыми, то присоединялись к одному из отрядов. Война Мирона из Йорама против троллей была не просто целью их жизни, это была вся их жизнь, она сформировала их, она вырастила и кормила их. Когда Одноглазый закончил, они сидели молча, гляда на пламя с непередаваевым выражением лица. На какой-то момент я запаниковал, но быстро пришел в себя, когда понял, что их разочарование, их ощущение предательства было намного глубже, чем мое. Причина для их жизни — та самая причина, которая поддерживала их отцов и дедов — была мошеннически подделана тем самым человеком, которого они называли своим героем, лордом и хозяином: Мироном Сжигателем-Троллей.
Теперь было уже недостаточно, чтобы я вел их от одной деревни до другой, в поисках троллей, которые — как они это делали время от времени — исчезали по ночам из Центральных Земель. Если я хотел, чтобы мои ветераны и дальше следовали за мной, я был обязан заменить Сжигателя-Троллей в их сознании.
Так я пришел в еще один угол моей жизни, еще один крутой поворот, не менее тяжелый, чем предыдущий. Я мог бы сидеть с ними, глядя на пламя, пока дерево не превратилось бы в золу и солнце не встало. Без командира и без цели, наш отряд мог бы быстро разбежаться, или стать добычей троллей, бандитов или хищников пустыни, которые уже тогда были многичисленны и смертельны. Но судьба уже назвала меня Хаману; я не мог упустить момент.
— Смерть, — тихо сказал я, поднимаясь на ноги. Не было необходимости кричать, в лагере было тихо, как в могиле и все глядели на меня. — Смерть Мирону из Йорама и троллям. Мы расскажем правду в любой деревне и убьем любого офицера, который пересечет нам дорогу. Мы опять начнем сражаться с троллями. А когда мы покончим с ними, мы вернемся и покончим с Сжигателем-Троллей!
На этот раз раздались одобрительные крики. Мужчины жали мне руку, женщины целовали в щеку. «Веди нас, Хаману», сказали они. «Мы отдаем нашу жизнь в твои руки. Ты видишь свет там, где мы видим тени. Веди нас. Дай нам победу. Дай нам гордость, Хаману».
Я слушал их просьбы, принял их вызов. Я повел их к свету.
После изучения карт Балта, я нашел маршруты наших скитаний. Более того, я нашел обширные пустые области, где мы не были никогда, и куда, я надеялся, идут тролли, когда они временно отдыхают от охоты на людей.
Осталось двадцать три человека в том, что раньше было отрядом Балта, а теперь стало отрядом Хаману. Нам совершенно не хватало воинов, чтобы сражаться с троллями в землях, которые они знали лучше, чем мы. Так что мы шли, заходя в незнакомые, но отмеченные на карте деревни. При свете костров и сжигающем полуденном солнце, я рассказывал нашу историю любому, кто мог стоять достаточно долго. Вывод из моего рассказа был прост: человечество страдает только потому, что армия, поклявшаяся защищать его, вместо это преследует непостижимые цели Сжигателя-Троллей.
— Отвернитесь от Сжигателя-Троллей и троллей. Возьмите вашу судьбу в свои руки, — говорил я в конце своего выступления. — Выбирайте: или платить цену победы сейчас, или обрекать себя на вечное поражение.
Инстинкт говорил мне, как привлечь и удержать внимание к себе, ритмом, голосом или жестом, но только практика могла научить меня, как найти слова, которые могли бы навечно привязать сердце человека к нашим идеям. Я учился быстро, но не всегда достаточно быстро. Временами мои слова были неправильны, и мы уходили из деревни под градом грязи и дерьма, летевшим нам вослед. Но даже и в таком случае нас оказывалось немного больше, чем тогда, когда мы входили в деревню.
От двадцати мы быстро выросли до сорока, от сорока до шестидесяти.
Наша репутация — моя репутация — распространялась все шире. Банды дезертиров, которые разочаровались в армии Сжигателя-Троллей раньше нас, встречали нас на равнинах. Были предложены союзы. Мой отряд должен будет влиться в их, а я, будучи моложе годами и опытом, должен буду подчиниться власти другого предводителя. Последовали дуэли: я был молод и все еще учился, но я уже был Хаману, и это была моя судьба — не их — выковать победу в войне.
Да, это правда, что металлический меч Балта выпустил наружу кишки четырех лидеров дезертиров, которые не хотели понимать этого. После каждой дуэли я приглашал ветеранов их отрядов присоединяться ко мне. Кое-кто так и сделал, но верность глубоко проникла в сознание людей, так что в основном после дуэлей мне доставалась толпа врагов, которые не хотели присоединяться к моему растущему отряду и не могли вернуться в армию Сжигателя-Троллей. Без предводителей, поставленные на колени, им было некуда податься, у них вообще не было будущего.
Верные Сжигателю-Троллей отряды волновали меня меньше. Они шли по пятам за нами, из одной деревни в другую, угрожали жителям тех деревень, которые помогали нам, и убегали по дороге к троллям, когда я пытался преследовать их. Мои разведчики сказали мне, что, возможно, есть только три преданные Мирону из Йорама отряда, повторяющие, как тень, все наши движения и запугивающие жителей деревень, поставлявших нам воду и еду. К тому времени нас стало настолько много, что мне приходилось постоянно ломать голову, как накормить такую уйму людей. Тридцать мужчин и женщин, сказали мне разведчики, самое большее сорок, и ни одного офицера среди них.
Я верил моим разведчикам.
Одним холодным утром я был так поражен, что не смог ничего сказать, когда утренний патруль доложил о пыли на восточном горизонте: что-то приближается к нам. Большой отряд, в котором много ног.
Вечером предыдущего дня мы разбили лагерь на верхушке небольшого холма. Балт, если у него была возможность, всегда разбивал лагерь на земле: верных Сжигателю-Троллей ветеранов никогда не волновало, что тролли могут увидеть огонь их лагеря на фоне ночного неба. Они всегда выбирали оборону, а не маскировку. Но та утренняя пыль поднималась не из под ног троллей.
— Сколько? — спросил я разведчиков, обманувшим меня.
Прикрывшись ладонью от встающего солнца, они скривили лицо и сощурились так, что их взгляд стал даже острее моего.
— Много, — сказала одетая в кожу женщина, потом немного помолчала, и добавила. — Много, если это тролли. Больше, если люди.
Ее товарищи согласились.
— Это люди? — спросил я, уже зная ответ. В окрестностях были люди, но троллей мы не видели с момента смерти Балта.
К тому времени уже проснулся весь лагерь. Те, которые не глядели на солнце, глядели на меня. Ни один из разведчиков не осмеливался встретить мой взгляд.
— Сколько? — я поднял руку, готовый влепить женщине пощечину, если она не сумеет ответить.
— Сотня, — прошептала женщина; число распространилось по лагерю, как огонь по сухой траве. — Может быть больше, может быть меньше. Но точно больше чем нас.
У ветеранов было в запасе по меньшей мере сотня ругательсв в адрес неудачливого и неумелово главаря, и я услышал их все, пока облако пыли ширилось перед нами. Они подходили все ближе — расходясь, чтобы окружить нас. Уже стало ясно, что их намного больше, чем сотня. С подьемом солнца стало ясно, что среди них есть и офицеры, а там, где были преданные Мирону офицеры, там была и магия Сжигателя-Троллей, по меньшей мере это обещали мне самые старые из ветеранов. Я никогда не видел, как используют магию — за исключением смотров, на которых Сжигатель-Троллей поджаривал несколько троллей, или мелких представлений, когда мы брались за руки и выкрикивали, обращаясь к луне, имя Сжигателя-Троллей. Нам было не выстоять против одного, и не было необходимости бояться другого.
— Что теперь, Хаману? — наконец спросил кто-то. — Что нам делать теперь?
— Все кончено, — ответил вместо меня кто-то другой. — Их слишком много, задавят массой. Мы уже падаль для труполюбов, это точно.
Я влепил ему пощечину и вытащил меч, который висел у меня на боку, днем и ночью. — Мы никогда не будем бегать; мы сами нападем на них! Если Мирон из Йорама послал армию против нас, а не против троллей, пусть его армия и заплатит за его глупость.
— Атаковать как, Хаману? Атаковать где? — с легкой укоризной спросил Одноглазый.
Я держал бывшего друга Балта поближе к себе, с тех пор, как он перешел на мою сторону. Он был вдвое старше, чем я, и знал вещи, которые я даже не мог себе представить. Когда он был мальчишкой, он слушал ветеранов, которые вымели троллей из Кригилл. Я разрешил Одноглазому высказаться и внимательно выслушал то, что он сказал.
— Если мы сейчас побежим, Хаману, — продолжал Одноглазый, — если мы рассеемся по всем направлениям прежде, чем ловушка захлопнется, и оставим все позади себя, некоторым из нас удастся убежать. А если мы останемся на месте, мы попадем в ловушку все, Хаману. Сказано, что те, у кого нет достаточно сил, чтобы пробить гору кулаком, должны поджечь траву. Сейчас время для бегства, Хаману.
— Мы атакуем, — настаивал я, подогреваемый своим характером.
Моя рука с мечом напряглась, готовая убить любого мужчину или женщину, который посмеет усомнится в выполнимости моих честолюбивых замыслов. Ветераны вокруг меня видели мой внутренний конфликт. Четыре раза — пять, если считать Балта — я доказал, что могу убить любого, вставшего у меня на пути. Одноглазый являлся еще большим искушением. Одна его мудрость могла победить меня; вонзить меч ему в живот было легко, но это была бы пустая победа.
Облако пыли все росло и росло, охватывая нас и с юга и с севера. Мы слышали барабаны, видели ветеранов, шагавших в шаг под звуки барабанов и передававших приказы с одной стороны фаланги на другой. Мое сердце билось в ритме ударов барабана. Страх рос под моими ребрами и в груди моих ветеранов. На верхушке холма созревала паника. Если она созреет… Когда я взглянул на затянутый пылью горизонт, мой ум был пуст, все мысли куда-то подевались в ожидании поражения. Я хотел атаковать, но у меня не было ответа на вопросы Одноглазого: как и где?
— Ты не сможешь удержать их, — опять предупредил меня Одноглазый. — Они собираются бежать. Отдай приказ, Хаману. Беги с ними, впереди них. Это наш единственный шанс.
Слушая его, не меня, кое-кто уже повернулся на запад, собираясь бежать, и значительно большее число собиралось последовать их примеру. Мой меч сверкнул в нагревающемся воздухе, сделал короткую дугу и остановился на волосок от шеи Одноглазого. Я привлек внимание ветеранов, и у меня был один удар сердца, чтобы использовать это.
— Мы побежим, Одноглазый, — уступил я. И тогда моя судьба взорвалась. Видения и возможности наполнили мое сознание. — Да, мы побежим — прямо на них, мы нападем на них сами! Мы все, вместе, как один человек. Мы подождем, пока их фаланга не окружит нас, со всех сторон, перед нами она будет тонкой, и тогда, когда они подумают, что мы уже у них в руках, мы образуем клин, копье, встанем плечом к плечу, и ударим на них из всех сил. Пусть они побегут… от нас!
В своем воображении я увидел себя наконечником копья, мой кровавый меч режет и колет, мои ветераны бегут вокруг меня, а враги валятся мне под ноги. Но то, что я увидел в своем воображении, было недостаточно, для всех остальных: я внимательно глядел на Одноглазого, ожидая его реакции.
Его губы затвердели, а мясистый нос сморщился. — Можно сделать. — Его подбородок поднялся и опустился. — Стоит попробовать. Лучше умереть, сражаясь с врагом лицом к лицу, чем получить удар в спину.
Мой кулак ударил воздух над моей головой — первый и последний раз когда я, Хаману, приветствовал мудрость другого человека. Приказы были быстро переданы всем, я выстроил свой отряд в виде плотной группу, готовой ударить с вершины холма в любую сторону. Не все приняли мое решение с энтузиазмом, не все собирались выполнять его, но я убил первого же ветерана, который что-то вякнул против меня, перерезав ему поджилки еще до того, как перерезал его горло. После чего все они осознали, что намного лучше стоять за моей спиной, чем глядеть мне в глаза.
Я держал своих ветеранов на верхушке холма, пока круг вокруг нас не замкнулся. Как только они начали сходиться, все мысли о панике и страх исчезли; их заменила мрачная отвага: или мы победим, прорвем их линию, втопчем их в грязь, или все умрем. По меньшей мере мы надеялись, что умрем. Именно это придало нашим ветеранам мужества, когда мы пошли вниз с холма. Лучше смерть в бою, чем огненные глаза.
Могу ли я описать возбуждение того момента, навсегда врезавшегося в мою память? Шестьдесят орущих людей, бегущих за моей спиной, и лица мужчин и женщин передо мной, ставших даже бледнее серебряного Рала, когда он в одиночестве плывет по ночному небу. До этого боя я никогда не возглавлял атаку, и не мог даже представить себе устращаюшую энергию людей, собиравшихся умереть.
Буквально любая деталь сражения была нова для меня; меня поражало все. Мы бежали очень быстро; я помню ветер, который бил мне в лицо. Я помню как сообразил, что если я буду держать меч прямо перед собой, то насажу на него своего первого врага как на вертел, и буду на какое-то мгновение совершенно беззащитен, так как меч застрянет внутри тела.
У меня едва хватило времени поменять захват на рукоятке, поднять руку с мечом над левым плечом и приготовиться ударить плоско на уровне плеч, как мы налетели на их линию. Человек упал, его голова была отрублена. Рядом со мной Одноглазый махнул молотком с каменной головкой по женщине. Никогда не забуду звук ее крушащихся ребер и потока крови, вылетевшего на длину руки из ее открытого рта.
Так началась эта славная схватка. Судьба направила наше копье на кучку людей, которые только и могли противостоять нам: выпивающие жизнь маги, которые шли вместе с армией Мирона. Их заклинания принадлежали им самим, они были независимы от Сжигателя-Троллей. Но использование заклинаний требует спокойствия и концентрации, а на поле боя ни то ни другое не существует дольше нескольких ударов сердца.
Враги ожидали легкой победы на предателями-бандитами. Они ожидали, что магия сделает самую трудную часть работы, убьет меня и моих ветеранов. Они не были готовы к кровавому рукопашному бою. А мы сражались с ними, и они не выдержали, стали убегать, сдаваться, умирать. В конце концов перед нами осталсь только кучка роскошно-одетых офицеров с металлическим оружием, мекилотовыми щитами и кожаными доспехами.
Битва остановилась, пока они изучали меня, а я их. Мои ветераны были готовы, и они были готовы умереть, защищая себя.
Но они предпочитали не умерать.
— Мир, Ману! — Их представитель выкрикнул мое имя. — Ради любви к людям, мужчинам и женщинам, остановись!
— Никогда, — проорал я, думая, что он предлагает мне сдаться, и зная, что у нас есть сила убить их всех. — Я буду убивать троллей и всех, кто не желает сражаться с троллями.
Тут я взглянул на них повнимательнее, и понял, что это они готовы отступить.
— Ты прав, Ману, — опять выкрикнул их представитель, закрываясь щитом. — Нет чести в убийстве людей, когда есть тролли не дальше, чем в двух днях ходьбы отсюда.
Я поднял мой меч. — Ты лжешь, — сказал я, не заботясь о точности.
Офицеры остановились и встали, собираясь дорого продать свою жизнь. Их было пятеро. Рядом с ними стояла охрана, тоже вооруженная металлическими мечами и одетая в кожаные доспехи, хотя и без щита из кожи меколота. Я взглянул на них и решил, что это отличные бойцы. Мы уже потеряли по меньшей мере десятерых из наших шестидесяти, а пауза давала возможность нашим врагам перегруппировать свои силы.
Я махнул мечом — глядевший на меня человек слева играючи отбил мой неподготовленный и неумелый удар.
— Не дури, Ману, — сказала другая офицер-женщина. Я вспомнил, что она уже бывала у нас раньше и спросил себя, какая часть зашифрованного пергамента написана ее рукой. — Мы знаем, где тролли. Мы приведем тебя к их норам. Кого ты хочешь убить больше, нас или троллей?
Одноглазый и еще шесть других голосов хором потребовали, чтобы я отказался от предложения офицера, но она знала меня, знала мою дилемму. Тролли были враги. После долгих лет войны мира между нами быть не могло: или мы или они. Мирон из Йорама был врагом только потому, что не хотел выиграть эту войну. Но люди не были нашими врагами. Я мог убить без угрызений совести любого, кто встал бы между мной и моими врагами, но у меня не было причин воевать против своего собственного народа.
— Положите ваши мечи, — сказал я тем, кто стоял передо мной. Они так и сделали. — Отзовите ваших ветеранов!
Еще один офицер — невысокий круглолицый мужчина, который, скорее всего, в бою не представлял никакой опасности, но имел самый высокой ранг среди них — крикнул: «Отбой». Из середины охраны начал бить барабан. Я махнул одному из вооруженных стражников, тот отошел в сторону и я увидел черноволосого, веснушчатого мальчика, трясшегося от страха, но выбивавшего ритм своими костяными барабанными палочками с кожаными головками.
Сигнал был подхвачен двумя другими барабанщиками, с легкими изменениями. Круглолиций одицер сказал, что на призыв должно было ответить пятеро барабанщиков, по одному на каждого офицера. Эти барабанщики были обычные мальчишки, не ветераны, даже без оружия. Они не представляли для нас никакой опасности, но когда мы напали на их фалангу и смяли ее, не было времени разбираться в таких мелочах. Офицер поклялся, что они не убежали, что они не менее храбры, чем любой ветеран, и в десять раз храбрее меня. Взглянув в его глаза я сразу понял, что по меньшей мере один из них его родственник, один из тех, кто не откликнулся на призыв барабана. Он осудил меня, мысленно назвав убийцей детей, как я когда-то осудил Балта за убийство Дорин.
По моей команде мы обыскали все поле в поисках пропавших барабанщиков. Еще до заката мы нашли всех троих мальчишек, их холодные пальцы по-прежнему сжимали барабанные палочки.
Битва славная штука, когда ты сражаешься с врагом, ты сражается за свою жизнь и жизни ветеранов рядом с тобой. Но вся слава заканчивается вместе с битвой. Звуки агонии всегда одни и те же, независимо от языка, на котором говорит раненый, и трупы выглядят одинаково ужасно, будь это труп подростка, взрослого мужчины или бородавчатого тролля.
Вокруг вершины холма были разбросаны по меньшей мере сотня трупов. С того времени, как я ушел из Дэша, смерть всегда была рядом со мной, хотя я этого не выбирал. Когда пришло время, я похоронил Джиккану, потом Балта, и я считал, что и все остальные честно заслужили свои могилы. Но сто человеческих тел…
— Что мы должны сделать с ними? — спросил я Одноглазого во время холодного ужина, когда мы устало ело черствый хлеб и твердое, прокопченое мясо. — Нам нужно не меньше десяти дней, что вырыть им всем могилы. Мы все умрем от жажды и голода…
Одноглазый нашел что-то очень интересное в своем хлебе и предпочел не услышать меня. Вместо него ответила женщина-офицер.
— Мы оставим их кес'трекелам и другим падальщикам. Сейчас они только мясо, Ману. Давай дадим другим тварям оказать им честь. А мы сами направимся на запад завтра на рассвете — если ты на самом деле хочешь поймать этих троллей.
Так мы и сделали, но не на рассвете. Круглолицый офицер заставил нас подождать себя, пока хоронил своего собственного сына глубоко в земле, где падальщики не могли достать его.
Эти пять офицеров, они держали меня в рабстве, с их твердыми взглядами и слишком охотно предоставляемой помощью. Я знал, что я умнее, чем Балт и все остальные в нашем отряде, но, хотя я и забрал у них мечи, чувствовал себя идиотом по сравнению с ними. Мои ветераны тоже видели разницу и чувствовали мою неуверенность в себе. Оба дня, пока мы шли на запад, все те, кто присоединился ко мне до битвы на вершине холма, и те, которые вступили в отряд после, выполняли мои приказы, но только после того, как бросали взгляд на моего круглолицевого пленника.
— Покажи мне троллей! — потребовал я, сватил его за руку и жестко встряхнул.
Он покачнулся и едва не упал; после моей хватки наверняка на его руке остался синяк. Но он ухитрился сохранить равновение, и не дал боли перекосить свое лицо. — Они там, — сказал он, махнув рукой в сторону высохших прерий.
Земля была плоская, как моя ладонь, на ней не было абсолютно ничего, только далеко на юго-западе из травы поднимались конические вершины гор. Они ничем не напоминали Кригиллы, но тролли были горцы, и я поверил офицеру, когда он сказал, что мы найдем троллей на юго-западе.
— Горы движутся! — пожаловался я позже в этот день. Мне показалось, что эти странные пики стали намного ближе к нам, чем на восходе солнца.
За моей спиной послышались сдавленные смешки. А один из ветеранов проворчал, что вряд ли я был на смотру у Сжигателя-Троллей. Я видел Кригиллы, видел и Центральные Земли, но эти овражные земли — которые офицеры называли прериями — были новыми для меня. Они казались плоскими, но впечатление было обманчиво, и «овражные» было ничем не хуже чем любое другое описание этих земель, через которые мы сейчас шли.
В сухой траве скрывались овраги и каверны, достаточно большие, чтобы проглотить иникса. Эти каверны были не опасны — во всяком случае не тогда, когда впереди медленно идет человек и проверяет землю концом копья в поисках скрытых каверн, обычно покрытых тонкой земляной коркой, не выдерживавшей вес взрослого воина. Но каверны были вовсе не единственной опасностью, таившейся в сухой траве. Прерии были переполнены высохшими руслами ручьев, некоторые из них были шириной и глубиной не больше полушага. Зато другие были такие глубокие, что могли скрыть в себе высокого человека — или тролля — и вдвое шире. На их берега ветер нанес кучи земли, которые рассыпались в пыль под весом человека.
Когда мы подходили к такой расселине, обычно оказывалось, что перейти ее невозможно, и приходилось идти вдоль берега до тех пор, пока она не сужалась — или приходили в такое место, где берега были обрушены раньше прошедшими здесь войсками, и переход оказывался возможен. В некоторых из таких расселин была даже грязная вода, а на берегу следы ног: шестиногие жуки, четырехногие животные с раздвоенными копытами, двуногие птицы с когтями на каждом пальце, и иногда отчетливые выемки от одетой в кожу ноги, по меньшей мере вдвое большей, чем моя.
В такой грязевой расселине легко могла спрятаться не одна банда троллей. Если тролль знал путь через овражную страну — где пересечь эту расселину, а где ту — он мог двигаться намного быстрее нас, и незамеченным.
Когда солнце стало краснее, а тени вытянулись, наш круглолицый офицер предложил разбить лагерь в одном из оврагов. Было не слишком много тех, кто хотел спать в открытой могиле. Что касется меня, то детство в Кригиллах и пять лет с Балтом выработало свои понятия о безопасности: я хотел, чтобы эти странные горы были у меня под ногами. Я хотел увидеть своего врага как можно быстрее, а до него было еще далеко.
И я был Хаману. Я получил то, что хотел.
Мы шли, при свете лун и факелов, я гнал своих ветеранов до тех пор, пока они не устали так, что не могли сделать ни единого шага. Тогда мы разбили лагерь у подножия одного из этих странных холмов. По форме они напомимали жилища муравьев или червей, если бы муравьи или черви были таких размеров, что могли строить холмы для жилья. Их покрытые травой склоны были достаточно крутые, без камней, которые дали бы зацепку для рук или ног.
При свете дня мы легко нашли бы путь наверх; этой ночью, однако, пришлось разбить холодный лагерь у подножия. По крайней мере одна особенность овражных земель была знакома нам: днем, под солнцем, обжигающая жара; ночью, при луне, замораживающий кости холод. И ветераны и офицеры завернулись с плащи и сгрудились вместе, обогревая друг друга своими телами.
Я дежурил первым вместе с еще пятью сильными людьми, поклявшимися что не уснут на посту.
Я стоял лицом к югу; тролли обычно приходили с севера. Первый звук, который я услышал, был человеческий крик, мгновенно прекратившийся. Я знал, что мы в ловушке, но в тот день я не имел понятия, кто расставил эту ловушку: тролли или офицеры Сжигателя-Троллей. Что бы это ни было, это не было битвой — оружие было только у троллей; люди умирали, запутавшись в своих плащах, спящие или только что проснувшиеся и еще вялые.
Я поднял меч, но человеческая рука стиснула мою шею у основания черепа. Вся моя сила вытекла из меня, опустилась к ногам, хотя я не упал и остался стоять. Страх, какого я никогда не испытывал прежде, парализовал меня, мысли о бегстве или сражении исчезли из моей головы. Псионическая атака — сейчас я знаю это — но тогда для меня это была чистая магия, и я, Ману из Дэша, сын фермера, в первый раз столкнулся с Невидимым Путем и понял, что это такое.
Я решил, что я ослеп и оглох, но это была только Серость, холодный нижний мир, выкачивающий звуки из моих ушей и образы их моих глаз, пока меня крепко держала другая рука, другое сознание. В следующий момент я уже стоял на залитой луной земле, далеко от странно-выглядевших холмов. Потом дребезжащий злой голос сказал:
— Отправьте его вниз.
Что-то тяжелое и твердое ударило меня сзади. Когда я очнулся, я был в яме, накрытой сверху кирпичным потолком, в компании червей и мелких жуков. Свет, вода и еда — достаточная только для того, чтобы не умереть — падали ко мне сверху, через недостижимую дыру в потолке.
Я не знал, чем закончилась последняя битва в моей человеческой жизни, но я мог угадать.
Восьмая Глава
Подбородок Хаману, выглядевший совершено по человечески в слабом утреннем свете, сочившимся через решетчатые стены его кабинета, опустился на грудь. Иллюзорное мясо уперлось в иллюзорный шелк, потом шея короля выпрямилась и он сел подчеркнуто прямо на своем стуле.
Глаза, наполненные мелким песком, мигнули от удивления. Он спал не чаще раза в десять лет, а еще реже замечал, что спит. В той части своего сознания, которая была связана с медальонами его темпларов и которой он слушал их просьбы, была самая настоящая суматоха, даже паника — но только не в просьбах, исходивших от сержантов-хирургов, ораторов или других, которые по долгу службы должны были иметь неограниченный доступ к силе Черной Линзы, которую он передавал своим миньонам. К некоторому удивлению самого Хаману на такие обычные просьбы он отвечал даже во сне.
Прошло уже тринадцать сотен лет, а он время от времени все еще узнавал что-то новое о силах, которые Раджаат даровал ему. В другое время это открытие привлекло бы внимание Хаману на целый день, а то и больше, но только не сегодня. В голове настойчиво сражались необходимость, смерть и страх, а все остальное подождет.
Король-Лев протянул волоски сознания через Серость, один для каждой просьбы. Как и у бога, как его называли подданные, хотя он им и не был, его сознание могло быть одновременно во многих местах — например странствовать по Урику со своими миньонами и, параллельно, скитаться по пустыне в поисках темпларов, попавших в беду.
Сущность Хаману, основа его бытия — а это было больше, чем спутанный клубок нитей сознания и даже больше, чем его физическое тело — оставалась в кабинете, глядя на разбросанные в беспорядке листы пергамента, покрытые строчками, написанными его четким, уверенным почерком. Тем не менее на листах и на поверхности стола было полно больших чернильных пятен, свидетельство спешки, с которой все это было написано. На столе были и выемки, оставленные медным пером, когда он нажимал им на бумагу, как будто колол мечом. Чернила, однако, высохли, как и чернильный камень.
О Могучий Король, владелец всего…
Новая просьба. Хаману послал еще одну нить, на этот раз с вопросом: «Что случилось?»
Это был далеко не первый раз, когда Короля-Льва буквально затопили просьбами о магии Черной Линзы. Высушенные Центральные Земли, которыми правили Доблестные Воины Раджаата, были жестоким страшным местом, где на каждом шагу любого подстерегали опасности и несчастья. Но, как и раньше, он всегда просыпался, настороженный, когда приходила просьба о помощи. Его незнание о кризисе — отчаянии его темпларов — никогда не длилось дольше нескольких ударов сердца. Он проснулся уже много ударов сердца назад, и тем не менее ни одна из его нитей еще не вернулась обратно. Он должен был полагаться только на свои собственные ощущения.
Притупленные, тусклые, непонятные ощущения. Пока он стоял, иллюзия вокруг его тела стала рассеиваться. В мгновение ока руки, которыми он опирался на стол, стали мешаниной из плоти дракона и подобия человека. Он зевнул, подчиняясь долго спавшему инстинкту.
— Я слишком много думаю о прошлом, — прошептал он, как если бы произнесенное вслух объяснение могло объяснить беспрецендентный беспорядок в его бессмертном мире. Потом, выковыривая настоящий песок из уголков его иллюзорных глаз, Хаману обошел стол.
Окованный железом сундук, где вызревало его заклинание невидимости, на первый взгляд не изменился. Проведя рукой по светящемуся зеленым замку, он оценил вибрации заклинания внитри ящищка — сложные, но согласно его ожиданиям.
— О Могучий Король, владелец всего! Выйди из твоего кабинета. Отопри дверь. О Мой Король, Лев из Львов, я прошу тебя: ответь мне.
Упрямый и еще плохо соображающий после прерванного сна, Хаману повернулся на звук голоса, к обычной двери. Но он не помнил голос, а стук в дверь тем более не напоминал ни о ком.
— Вы внутри, О Могучий Король? Это я, Энвер, О Могучий Король.
Энвер. Ну конечно это Энвер, туман в голове Хаману начал рассеиваться. Он посмотрел на своего стюарта мысленным зрением. Преданный дварф стоял снаружи, прямо перед дверью, запечатанной смертельным охранным заклинанием. Морщины беспокойства усеивали лоб Энвера. Пальцы правой руки были сжаты в кулак, костяшки побелели от напряжения, а левой рукой он вцепился в свой медальон.
Хаману решил, что это плохое предзнаменование, как всегда, когда утром Энвер обращался к нему как могучему королю, а не как к всезнающему богу. Взмахом руки он развеял заклинание, откинул засов и открыл дверь.
— Я здесь, дорогой Энвер. Я был здесь все это время. Я просто спал. — Хаману подпустил в свой обычный сухой и твердый, как кость, голос несколько иронических ноток, как если бы он был обычным человеком, спящим по ночам без просыпа.
Дварф на это не купился. Его глаза расширились, складки на лбу беспокойно задвигались, тревога пробежала по его лысой голове. Вихрь самых невероятных мыслей и сомнений пронесся в его голове, но произнесенные им слова были совешенно спокойны.
— О Могучий… Ваше Всеведение, вас ждут в тронном зала, — с очевидным усилием Энвер вернулся к своей обычной манере выражения. — Хотите ли вы завтрак, Ваше Всеведение, ванну и бассейн?
Некоторые из нитей, которые Хаману отпустил, проснувшись, наконец возвращались к нему, сливпись в один угрожающий, мрачный шнур. Темплары умерли в деревне Тодек, умерли так быстро и настолько внезапно, что их последние мысли не открыли ничего, он только бесполезно перенапряг живые сознания призвавших его.
Эльфы-темплары уже бежали по дороге из Тодека в Урик. В их мыслях был только ритм и дыхание. Объяснение событий подождет, пока они не появятся во дворце.
Другие нити направились к горстке темпларов, находившихся на блокпосту на юго-восточной границе Урика. И там они были сожжены и перепутаны тем же самым типом вмешательства, которое Оба из Галга использовала на юго-западе днем раньше. В надежде что-нибудь понять, Хаману расширил связь между собой и своими темпларами. Он пообещал им любое заклинание, какое только они не захотят. Но эти отчаявшиеся сознания хотели вовсе не заклинаний. Они хотели его, Хаману, своего Короля-Льва, своего бога и могучего предводителя, они хотели, чтобы он оказался рядом с ними.
Существовали пределы и для силы Доблестных Воинов: Хаману не был всемогущим. Хотя его мысли погли путешествовать через нижний мир во многие места и во многие сознания одновременно, его тело могло быть только в одном месте, раздваиваться он не умел. Чтобы удовлетворить своих окруженных темпларов, он должен бы был перенести всего себя из дворца, что они и сделал, когда Оба бросила ему вызов. Но Энвер был не единственным пораженным до глубины души темпларов во дворце. Настоящий узел просьб и нитей сознания клубился в его тронном зале, где, судя по всему, собрались все живые высшие темплары со своими золотыми медальонами, темплары самых высших рангов гражданского и военного бюро. При этом все галдели, кричали и требовали его внимания.
Король-Лев не привык к трудным выборам.
— Свежую одежду?
Необычные дни — а сегодня безусловно один из них — требовали необычного внешнего вида и экстраординарных поступков, отступления от обычной рутины. Хаману приподнял черную бровь. — Дорогой Энвер, — с легкой укоризной сказал он, переделав свой иллюзорный внешний вид, став заметно выше и преобразовав тусклую заляпанную пятнами одежду в величественный костюм из блестящего черного шелка, вполне подходящий к мрачному случаю. — Я думаю, что сегодня одежда будет нашей самой маленькой проблемой.
Хаману прошел мимо своего стюарда, чья челюсть отвисла от изумления, прорубил отверстие в нижний мир и, следующим шагом, оказался на отделанном мрамором возвышении, на котором стоял так нелюбимый им, украшенный драгоценными камнями трон. Не было нужды ни в какой магии или псионическом трюке, чтобы привлечь внимание темпларов. Увидев его все немедленно прекратили разговоры и склонились в глубоком поклоне. Хаману быстро пробежался по их восхищенным сознаниям, собирая восемьдесят различных оттенков мрачных предчувствий и сомнений.
Шестеро стражников из гражданского бюро, чей долг был стоять у пустого трона и охранять большой фонарь, висевший над ним, выпрямились первыми. Практически одновременно они громко ударили толстым концом своих копий в пол и кулаком по левой груди своих кожаных доспехов. Женщина-оратор, которая разделяла с ними тронный зал, прочистила горло.
— Приветствуем Вас, О Могущественный Король, О Могучий Хаману. Владелец Воды, Создатель Океанов, Король…
Могучий Хаману бросил на нее взгляд и забрал ее голос.
Теперь в зале было тихо, за исключением поскрипывания огромного мельничного колеса, которое приводило в движение дюжина здоровенных рабов, и скрипа сети веревок и блоков, которые передавали движение от колеса к гигантским красно-золотым веерам. Было позднее утро, дневная жара била в крышу дворца, и ничто кроме волшебства не могло охладить комнату и собравшуюся толпу.
Запахи экзотических, пикантных и очень дорогих духов смешивались друг с другом и с всегда присутствующим «ароматом» пота смертных. Чем более изысканным и чувствительным был темплар, тем больше был ароматический шарик или надушенный платок, который он держал около своего носа.
Со своей стороны Хаману чувствовал каждый аромат, каждый оттенок запаха, рожденный воздухом или мыслью. Его глаза, глаза Доблестного Воина, глядели не мигая на каждое знакомое лицо. Тут был Джавед, одетый в свою обычную черную тунику и хладнокровно опиравшийся о колонну. Джавед опирался потому, что сегодня раны на его ноге болели больше обычного — Хаману чувствовал его боль. Но Джавед тоже был Доблестный Воин, Герой Урика, и, как и Король-Лев, на его внешнем виде боль никак не сказывалась. Рядом с дверью стоял Павек, но не потому, что пришел последним, а потому, что не имело значения, насколько тщательно одели его домашние слуги — на таком собрании он всегда казался чужим. Поэтому он передвинулся, сам, в самый конец зала, надеясь что его товарищи по высшему бюро, высшие темплары, не заметят его.
У Хаману было немало и других любимцев: например Ксерайк, с ее черной тросточкой. Наследница Плукрайтов, одиннадцатая в их линии, носила медальон ученых и была более близорука, чем любой из ее предков. Были здесь и другие. Его любимцы привыкли к его присутствию. Их сознания открывались при малейшем давлении. Если бы он пожелал, они могли сказать вслух все, что их заботило. Остальные, хорошо зная, что любимцы Хаману являются также громоотводом его гнева, были более чем расположены ждать и смотреть.
Он заставил их всех ждать подольше. С далекой юго-восточной границы через все помехи нижнего мира прорвалось отчаяние сержанта.
Услышь меня, О Могучий Хаману!
Король-Лев набросил небольшую пелену на тронный зал. В то же мгновение в толпе воцарилась неестественная тишина. Все прекратилось: движения, разговоры и даже мысли собравшихся темпларов — самое важное для могучего воина и мага, который был нужен где-то далеко, но который не мог увидеть своими глазами это далеко из-за круговорота мыслей кругом.
Я слышу тебя, Хаману проверил трясущееся пятно — сознание своего темплара — и нашел имя, Анделими. Держись, я с тобой.
Его слова немного успокоили женщину-темплара, но не были полной правдой. Хаману глядел на юго-восточную границу глазами женщины. Ее зрение не было так остро, как его, но тем не менее он увидел то, что хотел: черные черви ползли по поверхности песка и соли, приглушая ее обычный болезненный для глаз блеск.
Армия немертвых, псионически сказал он Анделими полную правду, подтверждая ее собственные опасения.
Мы не можем контролировать их, О Могучий Король.
Контролировать немертвых — из всех тайн и загадок сотворенной Раджаатом Черной Линзы эта так и осталась неразгаданной. Как и другие Доблестные Воины, Хаману имел огромную власть над смертью во всех ее формах. Он мог вызвать смерть бессчетным числом способов, мог и защитить от смерти, но всегда платил за это страшную цену — еще один шаг на пути превращения самого себя в дракона. Его темплары черпали магию из Черной Линзы, и это был фундаментально-другой сорт волшебства, совсем не тот, который Раджаат даровал своим Доблестным Воинам.
Магия, которую его темплары качали из Черной Линзы, не ускоряла преобразование в дракона, а также не превращала обычную жизнь в пепел. И, так как немертвые не хотели есть и пить, не уставали и не страдали, Доблестные Воины иногда даровали своим живым темпларам способность поднимать жертв предыдущих сражений в тот момент, когда казалось, что наступающий отряд врагом уже мог праздновать победу.
Что случалось не часто.
Как только темплар поднимал немертвых и заставлял их сражаться, он или она должны были считаться с возможностью, что кто-то другой может перехватить управление ими. Не с теми же шансами, конечно. При прочих равных условиях более опытные темплары контролировали немертвых лучше, чем менее опытные — не считая, конечно, самых искушенных священников, друидов, волшебников или самих Доблестных Воинов, которые легко перехватывали управление немертвыми почти у любого темплара.
Хаману лично проверял способности своих темпларов к управлению и наблюдал за тем, как те, у которых оказывался необходимый талант, проходили обучение. Военное бюро никогда не разрешило бы Анделими и другим двадцати темпларам ее манипула выйти за ворота не имея с собой опытного темплара-некроманта — особенно на юго-восток, где земли Урика граничли с владениями Джиустеналя.
Хаману пошевелил мысли Анделими. Где ваш некромант?
Рихаен пытался, О Могучий Король, уверила она его. И Ходит тоже…
Ее глаза опустились на твердо-утоптанную почву слева от ее ног; Хаману перехватил контроль над ее телом и повернулся направо. Анделими была сержантом военного бюро, ветераном, сражалась почти два десятилетия в самых разных битвах. Она умела сражаться не хуже, чем ее король, но инстинкты глубже знания, и она скорее умерла бы, чем бросила взгляд направо. Хаману держал открытыми ее глаза достаточно долго, чтобы увидеть все, что нужно.
Рихаен пытался…
Мысли Анделими были тусклыми и мрачными. Она едва не плакала. Мертвый эльф был ее любовником, отцом ее детей, вкусом сладкой воды на ее языке.
Рихаен пытался повернуть назад армию немертвых, но эти трупы поднял тот самый Доблестный Воин, который разорвал связь между королем Урика и темпларами Урика. Вместо того, чтобы управлять миньонами Джиустеналя, Рихаен сам попал под их контроль. Его сердце остановилось, и он сам стал немертвым, которым управлял кто-то другой. Ходит, которая также была очень талантлива и отлично подготовлена, попыталась — глупо — перехватить управление Рихаеном, и ее постигла та же судьба.
Оставшиеся темплары манипула, включая Анделими, вынуждены были сражаться со своими собственными немертвыми. Это было совершенно невозможно без обращения к магии, и любой темплар нес с собой травы, масло или оружие, чтобы сделать это. Но то, что сделал тот, кто поднял армию Джиустеналя, Рихаену и Ходит, невозможно было исправить. Для них заклинание немертвости было необратимо. Их тела валялись на земле. Ни одной знакомой черточки не осталось на теле любимого эльфа Анделими, за исключением серебряного медальона некроманта и нескольких прядей его длинных коричневых волос, плавающих в луже его отвратительно пахнувшей крови.
Ради своих собственных воспоминаний о Дэше и Дорин, Хаману мог бы оставить Анделими наедине с ее горем. Но именно ее мука прорвалось через завесу Дрегоша, и ради Урика он не мог показать слабости, не было времени на плач по умершим.
Анделими!
Она уже распласталась на земле. Он заставил ее подняться на ноги.
Где остальные солдаты твоего манипула? Кто выжил?
Хаману не хотел бы, чтобы она опять увидела то, что осталось от Рихаена, но ему нужно было видеть. Он заставил ее открыть глаза и смахнул с них ее слезы. Пятнадцать выживших темпларов стояли фалангой за Анделими. Их разнообразные медальоны открыто висели на груди. На их лицах было написано поражение, так как он не слышал, как они призывали его. Они знали, что случилось — сейчас он был в сознание Анделими — и знали, что это случилось слишком поздно.
Мы не бросили оружие, О Могучий Лев! Мы сражаемся, О Великий Хаману! — выкрикнул адъютант манипула королю, зная, что Хаману глядит на него глазами женщины. Он ударил окровавленной рукой по левой груди, приветствуя своего короля. Ваши темплары не подведут вас!
Мысли адъютанта были сбивчивы, их было трудно читать. Его рука трепетала, когда он опускал ее. Темплары Урика не могли молить о победе над легионом немертвых, развернувшимся перед ними, и адъютант это знал. В этот знойный полдень он и Анделими хотели всем сердцем, чтобы смерть — чистая окончательная смерти — пришла к ним, и чем скорее, тем лучше.
Они хотели, чтобы Хаману убил их там, где они сейчас стояли и выпил их жизненную силу, продвинувшись еще дальше по пути превращения в дракона.
Хаману подумал о жестокой иронии судьбы: только живые Доблестные Воины должны были превратиться в дракона. Дрегош, как и армия, которую он поднял, был немертвым, и следовательно неспособным стать драконом, хочет он того или нет. Волшебству Дрегиша не было предела, за исключением отсутствия жизни в подземном городе.
Даже-чересчур-живой Лев Урика тщательно проверил нижний мир, утверждаясь в своих подозрениях. Джиустеналь поднял целую армию немертвых, ползущих к Урику. Хаману мог бы повернуть их, перехватив контроль за ними, но тогда надо было сражаться за каждого, и цена победы была бы непозволительна высока.
Вы должны отступить, сказал он манипулу голосом Анделими.
Их это не успокоило. Немертвые двигались медленно, но безостановочно; они никогда не усравали, никогда не отдыхали. Только эльфы могли обогнать их — если среди немертвых не было эльфов.
Лучше остаться на месте и сражаться, громко проворчал медлительный дварф.
Он стоял с кулаками, дерзко упертыми в бедра. Какую бы смерть Хаману не выбрал для него — а его мысли были совершенно ясными — любая была лучше, чем стать немертвым дварфом с добавочным проклятием банши за неисполненный жизненный фокус. Как раз в этом дварф ошибался. Король-Лев мог сделать его судьбу еще хуже, чем немертвость — Виндривер мог подтвердить это — но Хаману решил, что сейчас не время для развлечений. Судьба Урика висела на волоске, и спасти Урик было намного важнее, чем преподать вечный урок тупоголовому упрямому дварфу.
Поставьте всю вашу воду передо мной.
Пока адъютант смотрел за тем, чтобы образовалась маленькая куча мехов с водой, Хаману проник глубже в сознание Анделими и втиснул в ее память слоги и жесты заклинания Черной Линзы, которое она должна была произнести. Если бы ее сознание не было заморожено печалью, псионический шок свел бы ее с ума. А так присутствие Хаману было для нее только передышкой перед вечным ночным кошмаром.
Когда куча с мехами была сложена в относительном порядке, а заклинание укоренилось в сознании женщины-сержанта, Хаману снова заговорил, обращаясь к Анделими: После того, как ты произнесешь заклинание, каждый из вас опять возьмет свой мех с водой и пойдет на северо-запад. С каждым шагом капля воды будет падать на землю с кончика вашего указательного пальца. Когда немертвые ступят на эту каплю, безжизненная кровь в их безжизненных венах вспыхнет как пламя.
Тогда нам не хватит воды, чтобы вернуться к нашим постам, прервал его дварф, упрямо надеясь на чистую смерть. Немертвые сожрут нас…
Есть маленький оазис на север отсюда…
Манипул хорошо знал это, хотя оазис не был отмечен ни на одной официальной карте. Они регулярно наведывались туда, чтобы брать взятки у беглых рабов, скрывавшихся в нем. На коррупцию такого рода Хаману не обращал внимание все тринадцать столетий.
В его источнике хватит воды, чтобы удержать немертвых: просто наполните ваши меха из источника, потом обойдите оазис кругом… Хаману сузил глаза Анделими и заставил ее улыбнуться. На том месте, где должны были быть зубы, потрясенные темплары увидели львиные клыки. Когда армия немертвых пройдет мимо, сожгите оазис и пригоните беглых обратно в Урик, где они получат то наказание, которое заслужили.
Они подчинились, эти темплары, которых он пытался спасти. Никакая другая сила под кровавым солнцем не смогла бы спасти их. Хаману, их король, подтвердил свою репутацию жестокого и капризного правителя. Они пошли в Урик, потому что знали, что за все тринадцать веков ни один одетый в желтое темплар не сумел спрятаться от Льва Урика. Они могли закопать свои медальоны, сломать или сжечь их, это не спасло бы их. Как только он, хотя бы раз, касался их сознания, он мог найти их всегда и везде, так что они подчинились, не думая о том, что если армия Дрегоша дотянется до Урика, может не остаться ни Урика ни Льва…
Заклинание Убийцы.
Хаману вложил эти слова в сознание Анделими. Она повторила их, активируя заклинание, внедренное в ее память. Оно в свою очередь активировало связь между темпларом и Доблестным Воином, между Доблестным Воином и Черной Линзой, и магия начала свою работу. Искры заплясали над мехами для воды, они увеличились в размере, распространяясь на всю кучу, пока вся серо-желтая кожа не покрылась переливающимся белым одеялом.
Когда все закончилось, пришло время для Хаману вернуться в Урик, время рассказать своим перевозбужденным темпларам об опасности, которая грозит ему — и им — совершенно с другой стороны. Здесь он сделал все, что был должен сделать.
Хаману мигнул, и вглянул на тронный зал Урика своими собственными глазами. Его пелена по-прежнему была накинута на обширное помещение. Двое из темпларов, стоявших ближе всего к трону, немного нагнулись в тот момент, когда пелена схватила их. Всегда очень трудно избежать влияния времени, так что они оба упали вперед. Когда один из них придет в себя, у него будет окровавленный нос, а у второго — окровавленный подбородок. Упали также некоторые из ныне молчаливой толпы, окружавшей трон. Одна из них — женщина по имени Фулда Гарт — никогда уже не встанет. Она не была ни особенно старой, ни больной, но всегда был риск, смертельный риск, когда бессмертное сознание Хаману касалось сознания смертного.
Пара эльфов прибежала из Тодека, пока внимание Хаману было приковано к границе с Джиустеналем. Они бежали даже тогда, когда оказались в тронном зале, и успели сделать несколько длинных шагов, пока пелена не поглотила их. И они оба упадут, когда Хаману поднимет заклинание. У первого эльфа еще есть шансы встать. Его товарищ держал в левой руке зловеще-знакомый завернутый в кожу сверток.
День начался не слишком хорошо, и судя по тому, как плохо он идет, дальше будет хуже, много, много хуже.
Прежде чем развеять заклинание, Хаману тщательно проверил сверток второго курьера. Внутри что-то слабо стучало, пока Хаману нес его обратно к трону. Выругав Раджаата еще раз, Хаману подумал, не уничтожить ли его, пока пелена еще действует. Будут вопросы — в головах курьеров-эльфов, и еще много у кого — а вопросы рождают слухи. И будет еще больше вопросов, если он убъет обоих эльфов. Он подумал еще раз. Если темплары в этом зале увидят силу осколка прежде, чем он уничтожит его, ему не надо будет заботиться об их верности, когда придут по-настоящему тяжелые времена, хотя и сейчас, скажем прямо, не легкие.
Со вздохом Хаману вобрал пелену в легкие. Эльфы-курьеры упали на пол. Остальные вдохнули воздуха или выдохнули слова, застрявшие в горле. Ничто из этой суматохи не привлекло внимание Хаману, когда вспышка синей молнии, очень похожей на те, которые предвещали Тирский ураган, ударила из завернутого в кожу обломка. И ударила она на кого-то в толпе. Хаману взглянул туда и обнаружил чужого, сознание чужого человека, не темплара Урика.
— Раам, — пробормотал Хаману, пробуя сознание незнакомца, пока его самые быстро соображающие темплары насторожились. — Почему Раам выступил притив меня? Войска Дрегоша на марше, не лучше ли действовать сообща?
Джавед, который соображал и чувствовал опасность быстрее всех смертных, которых встречал Хаману, услушал шум, доносившийся из пульсирующего осколка. Увидел он и синию молнию, вылетевшую из руки Короля-Льва. Как Герой Урика, Джавед имел привелегию носить меч даже в тронном зале. Но едва он выхватил меч, как закричалa другой темплар, женщина.
С руками, прижатыми к щекам, она раскачивалась от страшной боли, ногами ударяя других, менее чувствительных темпларов. Хаману только бросил на нее быстрый взгляд — сейчас все его внимание принадлежало незнакомцу из Раама.
Человек из Раама, безусловно, был одним из лучших экземпляров своей расы. Высокий, выше среднего, мускулистый и гибкий, но не худой, с обожженными солнцем волосами. Эти волосы будут красиво развеваться, когда сильный ветер будет дуть ему в лицо от Дымащейся Короны. К своиму телу он прижимал какой-то предмет, по виду точно такой же завернутый в кожу сверток, который Хаману держал в руке.
— Брось его! — крикнул Хаману, с потолка посыпались грязь и куски штукатурки, но это не оказало никакого эффекта на блестяще-синие, затянутые пеленой глаза.
Хаману переместил осколок, который он все еще держал в руке, за спину. Молнии били по его рукам, плечам, шее. Они проникали через иллюзорную человеческую оболочку Короля-Льва не уничтожая ее и не повреждая его настоящее тело, пока.
— Брось его, немедленно! — опять крикнул он, на этот раз еще громче. Он не осмеливался использовать магию или псионику, пока магия Раджаата крутится по залу.
Но человек из Раама весь оцепенел и только моргал. Судя по его внешности, он был темпларом Абалах-Рэ; королева Раама никогда не заботилась об уме тех, кого она выбирала себе в темплары. К счастью, у короля Урика были другие предпочтения. Высшие темплары Урика были достаточно смелы и решительны, и легко брали на себя ответственность в любой самой сложной ситуации. Несколько мужчин и женщин вырвали вздрагивающий сверток из рук застывшего как статуя незнакомца и положили его перед королевским троном, где его оболочка немедленно испарилась.
Хаману ожидал очередного осколка из черного стекла, на вместо него по мраморному возвышению быстро заструилась небесно-голубая змея, переливаясь блестящими красками. Она укусила его в лодыжку, легко пронзив зубами иллюзорную человеческую кожу. Безграничная ярость и ненависть ударились в бессмертную настоящую кожу Хаману. Магические клыки вонзились очень глубоко, но под его исхудалой плотью была только кость, черная, как обсидиан, и твердая, как обсидиан.
Покрепче сжав левой рукой осколок из Тодека за спиной, Хаману опустил вниз свою правую и схватил змею за ее мерцающими глазами. Магическое создание оказалось еще более сложным чем то, которое Джавед нашел в брошенном лагере Нибеная и которое он уничтожил, но и яд этого не произвел на Хаману никакого действия.
— Ты удивляешь меня, Принесший-Войну, — сказал он, держа искусственное создание так, чтобы его темплары могли видеть. Он начал давить, и небесно-голубая голова змеи потемнела. — Тринадцать веком под Чернотой затуманили твой разум, а мой стали еще острее под солнцем.
Голова змеи была темной как полночь, когда ее череп лопнул и разлетелся на куски. На помост хлынул яд, оставляя на мраморе выемки размером с ноготь дварфа. Он разъел иллюзорную золотую кожу на правой руке Хаману, но не повредил никому.
Хаману подержал исчезающую змею на виду, и еще поднял повыше, показывая ее своим темпларам, так что они могли громким криком приветствовать его триумф. Но их ликование было недолгим. Второй осколок перестал пульсировать, Хаману это не понравилось. Темплары не успели завершить свое второе приветствие, как в зале потемнело. Это не мог быть закат; его пелена висела в тронном зале не так долго, чтобы день пришел к своему естественному концу. Такую темноту мог бы вызвать пепел, летящий со стороны Дымящейся Короны; но извержение, вызвавшее такую пепельную тучу, обязательно сопровождалось бы колебаниями земли и грохотом.
Так что скорее всего это Тирский ураган, мгновенно налетающая буря, рожденная неудовлетворенными амбициями Тихиана, который собирался стать драконом, и подогреваемая яростью Раджаата. Тирский ураган был разрушителен, смертельно-опасен, мог привести к сумашедствию, но, в конце концов, был лучше, чем тьма, опустившаяся на тронный зал. Даже вечный светильник, висевший над головой Льва, замигал, а потом погас.
Хаману не стал терпеть такого оскорбления. Он прошептал слова заклинания, вызывавшего искры. Острая боль ударила его в бок.
Для того, чтобы любое заклинание сработало, требуется энергии жизни. Пока осквернители и сохранители что-то неясно бормотали и указывали пальцами друг на друга, Хаману подпитывал свои заклинания из неистощимого безропотного источника: самого себя. Он добровольно жертвовал своей собственной бессмертной плотью. Боль ничего не значит, если это помешает грандиозным замыслам Раджаата. Он жертвует часть своего тела, и что-то другое его заменит, без сомнения. Но человек может нести воду в дырявой корзине, если будет бежать очень быстро, и хотя превращение в дракона, строго говоря, остановить невозможно, Хаману при любой возможности старался продлить свое собственное на как можно больший срок.
Его мысли заставили искры пробежать по фитилю фонаря, и Львиный глаз опять запылал. Мгновением позже яркий свет полился через отверстия в решетке — за окном сверкнула молния, синяя как осколок, как змея, родившаяся из осколка, как левый глаз Раджаата. Отдаленный удар грома сопровождал молнию. Потом в тронной комнате опять стало темно — не считая золотогоглазого Льва. Со своими темпларами, молчаливо стоящими вокруг него, и воем испуганного простого народа Урика, доносящегося через стены дворца, Хаману стал дожидаться следующего события, каким бы они ни было.
Ему не пришлось долго ждать.
— Хаману из Урика.
Через темноту тронного зала Хаману узнал хищный голос Абалах-Рэ, которую когда-то звали Инесс из Ваверли, ныне правившую в Рааме. За сотни лет глаза Короля-Льва изменились, как и все его тело. Король-Лев Урика мог видеть так, как видят дварфы, эльфы и еще некоторые другие расы, появившиеся при Возраждении — не просто отражение внешнего источника света, но тепло, идущее от тел живых существ. И больше того, он мог видеть магию в ее эфирной форме: золотое свечение медальонов, которые носили его темплары, и темно-синию ауру — даже он с трудом видел ее — окружавшую белокурого темплара Раама.
Голос Инесс пришел из этой ауры, но не из заклинания, которое королева Раама могла бы произнести, живая или мертвая. Хаману немедленно подумал о Раджаате, но не первый волшебник сотворил заклинание, которое заставило зазвучать слова из воздуха вокруг тупоголового темплара Раама; не сделал это и другой Доблестный Воин.
И тем не менее это было тонкое и могущественное заклинание, не менее тонкое и могучее, чем заклинание невидимости самого Хаману, которое сейчас находилось в его кабинете. Осознание того, что он не может понять, кто этот волшебник, который изобрел это заклинание, заставило задрожать холодной дрожью костяной позвоночник короля Урика.
— Заруби у себя на носу, Хаману из Урика: Принесший-Войну безостановочно растет. Он ждал тринадцать столетий, теперь он жаждет мести. Он помнит тебя лучше, чем всех остальных — ты был самым молодым из нас и его любимцем. Раны, которые ты нанес ему, не зажили, их можно исцелить только бальзамом из твоего черного сердца. Он будет искать тебя самым первым. Он придет за тобой, малыш Ману из Дэша. Он уже знает дорогу.
В другой день Хаману восхитился бы беспорядочной смесью правды, мифа и вранья, которые произнес рожденный заклинанием голос. Он мог бы громко расхохотаться, мог бы отправиться на поиски неведомого волшебника и — очень вероятно — напав на его след убить беднягу, только ради развлечения.
В другой день, но не сегодня. Не с синей молнией Раджаата, потрясшей город. Хотя никакой маг на мог знать то, что помнила Инесс из Ваверли о том дне, тринадцать сотен лет назад, когда Доблестные Воины предали своего создателя и создали для него тюрьму под Чернотой, и слова этой неоспоримой правды только что прозвучали в душном воздухе тронного зала. Да, Раджаат неутомим, Раджаат жаждет мести и Раджаат начнет с Урика.
Учитывая возможность, что чье-то мысленное сознание еще привязано к заклинанию, Хаману спокойно сказал, — Скажи мне что-нибудь, что я не знаю. Скажи мне кто ты и почему пришел в Урик, уверенный, что сознание Принесшего-Войну схватит тебя… опять. Разве одной смерти недостаточно?
Синяя аура мигнула, как если бы кусочки сущности, настоящей сущности Доблестного Воина из Раама, действительно были использована про создании заклинания. — Король-Тень нашел меня, — сказал она, когда аура восстановилась.
Это фраза не была ответом на вопрос Хаману. Быть может это увертка. И совершенно точно вранье. Галлард из Нибеная много чего сделал в своей жизни и был много кем, но только не дураком. И уж точно он не стал бы рыскать в Черноте рядом с Пустотой, тюрьмой Раджаата, только для того, чтобы найти кусочки сущности любого Доблестного Воина, и меньше всех Инесс из Ваверли. Больше всех них королева Раама опиралась на мифы и теологические выкрутасы, чтобы поддерживать свое правление. По двум причинам Нибенай не проглотил Раам много столетий назад: во-первых Урик, расположенный между обоими городами; вторая Дрегош, ненавидевший Инесс со страстью немертвого.
— И Король-Тень послал тебя ко мне? — спросил Хаману, скрывая свое недоверие за по-прежнему спокойным голосом, и сохранив свои настоящие вопросы для себя.
Тирский ураган, который после первоначальной атаки должен был потерять силу и стать слабым дождиком, пока показывал себя в полной красе. Удары грома потрясали желтостенный город Хаману, молнии били почти не переставая — его чуткие уши отмечали все удары, пока эхо не сделало точный подсчет невозможным. Едкое зловоние наполнило зал; на глазах всех собравшихся темпларов появились слезы. Синий свет урагана мягко замерцал в едком воздухе, превратился в крутящуюся световую колонну, которая плавно превратилась в Инесс из Ваверли, какой та была в разгаре своей юности и красоты, принявшей свою самую соблазнительную позу.
— Раджаат растет, он становится все сильнее и сильнее, используя нашу слабость. Без дракона среди нас никакое заклинание не сможет удержать его. Нам нужен дракон, чтобы сохранить его в Пустоте, чтобы сотворить еще нескольких Доблестных Воинов, чтобы восстановить порядок в мире. Мы выбрали тебя, ты должен стать драконом. Раджаат придет в Урик, жаждая реванша. Он уничтожит тебя. А потом уничтожит все. Доблестные Воины оказывают тебе честь, Хаману из Урика. Мы предлагаем тебе жизни тысяч живых существ. Ты станешь драконом, и Урик будет спасен.
Девятая Глава
Еще один залп синей молнии, еще один оглушающий раскат грома, еще раз сотряснулся весь Урик. Сотканная из молний фигура королевы Раама начала таять и исчезла. В начавшейся после этого суматохе только Хаману услышал звук удара о пол медленно осевшего человека, и немедленно послал свою мысль, заставив забиться сердце белокурого темплара.
Этот Тирский ураган казался сильнее и злее, чем последний, он с такой силой бился в стены Урика, как будто хотел разрушить их. Хаману показалось, что он вообще самый жестокий из всех ураганов за эти годы, начиная с первого — возможно из-за того, что этот появился внезапно и без предупреждения. Пять лет назад самые достойные темплары Урика поддались, по меньшей мере временно, безумию, которое нес с собой Тирский ураган. Теперь выжившие бесстрастно смотрели на безумствующие синии молнии. Даже если они не были уверены, что шторм быстро исчерпает себя — а Хаману отчетливо видел их сомнения через гром и молнии — они по меньшей мере решили не дать соседям увидеть свою слабость.
Хаману был терпим к любой черте характера своих смертных темпларов, за исключением слабости. Мужчины и женщины, собравшиеся в тронном зале, были тверды, вплоть до жестокости; компетентны в своем деле, вплоть до заносчивости, и имели железную волю и смелость, которых не могло подавить даже его присутствие. Они еще колебались, задавать ли вопросы, пока голос королевы Раама звучал в их сознании, но, неизбежно, один из них преодолеет свои колебания.
Чтобы избежать ненужной и неизбежной смерти, которая последует за таким нарушением субординации, Хаману коснулся сознания белокурого темплара.
Кто послал тебя? Что ты знаешь о послании и о предмете, который принес?
Спазмы сотрясали тело темплара Раам, пока он лежал на полу. Чтобы выжить, ему потребовалось настоящее чудо, вмешательство другого Доблестного Воина, не его хозяйки, а несмотря на все, что могла пообещать ему во королева Раама, пока жила, Доблестные Воины не любят совершать чудеса.
Не сражайся со мной, посоветовал Хаману. Отвечай на мои вопросы. Рассказывай.
Темплар подчинился, посылая Хаману одну за другой картины Раама, впавшего в полный хаос. Анархия в Рааме была еще больше, чем ожидал Хаману. Через пять лет после исчезновения женщины, которую жители Раама называли Абалах-Рэ, и которая утверждала, что является главным советником безымянного и несуществовавшего бога, жители Раама — купцы, аристократы, темплары и самые худшие из эльфийских племен — превратили свой город в поле боя.
Ее темплары, не знавшие даже настоящий источник своей силы, попытались восстановить магическую связь с богом, которому Инесс призывала их служить. Ничего удивительного, что в это страшное время удрученные, презираемые темплары сражались только за то, чтобы удержать свой квартал и разграбленный дворец. Ничего удивительного, что когда некоторые из них увидели знакомое лицо во сне, услышали голос, который они отчаялись увидеть опять, они сделали то, что сказал им голос. Они пошли на очищенные от пыли пристани, где были привязаны несколько шхун, готовых для пути через Иловое Море. Они нашли там осколок, он лежал на берегу, выделяясь среди камней…
Узнав это, Хаману подумал в первую очередь о Джуистенале, находившемся на побережье Илового Моря, и его правителе, Дрегоше, который зарился на Раам так же давно, как и Нибенай, и чья армия немертвых шла на Урик с юго-восточной границы, уничтожая его темпларов. Хаману подумал и о том, что из ослабевшего сознания темплара больше нечего вычерпать не получится. Чудеса Хаману делать не умел, но вечный покой обеспечить мог; он резко оборвал серебряную нить жизни темплара Раама. Никто, ни Дрегож, ни Раджаат, ни Инесс, если она нечто большее, чем воспоминание или чья-то злая выдумка, ни сам Хаману, если бы он передумал, не обладали силой превратить белокурого темплара в немертвого, или разграбить его память.
Не двигаясь с места Хаману обратился к эльфу-курьеру, принесщему второй осколок.
Рассказывай.
Серце эльфа на мгновение перестало биться, но он был молод и здоров, и быстро пришел в себя.
Пара посланцев, О Могучий Король, пришла к регистратору Тодека и заявила, что они темплары из Балика…
Еще один город очень далеко на юг от Урика, но также на берегу Илового Моря.
Наша регистратор, она не поверила. Они пришли пешком, совершенно оборванные, у них были вытянутые злые лица и никаких бумаг, зато было несколько странных керамических монет, глядя на которые регистратор не поняла, где и кем они сделаны. Но они знали вещи, которые знают только темплары, О Могучий Король, и к тому же один из нас не так давно был в Балике и знал, что в городе беспорядок и анархия: купцы и аристократы захватили власть, прямо как в Тире. Темплары или мертвы, или прячутся по самым темным щелям. Так что регистратор выслушала их.
Мы все были близко и слышали собственными ушами то, что сказала эта парочка: Король Андропинис не мертв, но он нуждается в помощи, прежде чем сумеет опять захватить власть в городе. Он сказал, что они смогут найти помощь в Урике, если доставят свое послание…
И это послание — завернутый в кожу свиток? прервал его Хаману.
Нет, О Могучий Король, свиток — это дар, свидетельство того, что послание на самом деле от короля Андропиниса, так они сказали. Регистратор приказала развернуть сверток. Они не хотели, пока мы не заставили их. Я рассмеялся, О Могучий Король, когда они бросили жребий, и проигравший выполнил свое смертельное обещание. Но он умер плохой смертью, а эта штука все еще завернута в шелк…
Вздохнув, Хаману вышел из сознания эльфа, а тот продолжал подробно рассказывать о судьбе Баликан. Появится ли во все еще освещенной синим светом сотканный из молний образ Албеорна Убийцы-Эльфов, если он развернет второй осколок? Изрыгнет ли и он смесь правды и лжи, обещаний и угроз? И где находятся в этот самый момент посланники из еще одного лишившегося своего Доблестного Воина города, Драя, которые, нет сомнений, тоже направляются в Урик со смертельно опасным обломком в руках?
Хаману разжал левую руку и обломок упал на жесткое сидение трона за его спиной. Он был готов иметь дело с элитой своих темпларов, готов противостоять ураганам и нашествиям немертвых, но против той силы, которая стояла за этими обломками… пожалуй, он еще не готов поднять на нее кулак, образно говоря.
Тирские ураганы были недолговечны. Сама их жестокость действовала против них. Хаману прислушался: дикие завывания ветра за стенами дворца постепенно стихали и скоро должны были умереть. Молнии сверкали реже и слабее, гром не грохотал, а ворчал. Холодный черный дождь промочил город, а воздух стал холодным, как в полночь. Зато удары бессчетного числа капель барабанили не хуже грома. Каждая стена, каждая крыша, каждая рыночная площадь и каждая улица станут чистыми, хотя бы на время. Монументальные барельефы Короля-Льва на внешних стенах города придется перерисовывать — большая работа, требующая огромного труда и усилий, и нельзя ее не сделать, несмотря на армию немертвых, которая по Центральным Землям идет к Урику.
Хаману раскинул свою сеть в нижнем мире и протянул ее за пределы города. Уголки его рта поднялись с облегчением: вся ярость Тирского урагана была абсолютно точно сконцентрирована на дворце, так что поля за пределами города совершенно не пострадали, для них это был просто проливной ливень. Рабочие остались целы в тех убежищах, которые они нашли для себя, и с посеянным зерном тоже нечего не случилось.
Если война придет в Урик, от урожая не останется ничего, но в остатках своего человеческого сердца Хаману оставался фермером. Проблемы, которые будут завтра, решим завтра; а сегодня урожай уцелел и он может спокойно спать ночью… если сможет уснуть.
Элите его темпларов пришлось не спать до полуночи. Когда ворчание шторма закончилось, Хаману отдал приказы своим мужчинам и женщинам. Высшее командование военного бюро и еще кое-кого он вызвал в штаб, особую комнату с картами на стенах, но большинство его высших темпларов было здесь и получило приказы по устранению последствий шторма.
Выполнение приказов ляжет на плечи рядовых темпларов. Были жертвы среди жителей — он мог чувствовать мертвых и умирающих Урикитов — были и разрушения: упавшие дома, вспыхнувшие, несмотря на черный дождь, пожары. Было и немного людей, сошедших с ума; некоторые из них были совершенно беспомощны, зато остальные стали опаснее любого зверя на арене.
Одетые в желтое темплары Хаману должны будут найти их всех. Мертвых Урикитов надо отправить на кладбище, мертвых животных — к живодерам. Раненых к любым целителям, каких только можно найти; и необходимо защитить город от мародеров, бунтов и сумашедших. Необходимо создать рабочие отряды, которые займутся тушением огня, разбором завалов, спасением тех, кто оказался под обломками упавших зданий. Темплары выполнят свою собственную тяжелую и грязную работу, если он скажет что и как делать.
Что он и сделал.
— Теперь я ухожу к себе, чтобы обдумать то, что я узнал, — объявил Хаману всем темпларам Урика прежде, чем любой из высших темпларов успел победить свое почтение к королю и задать ему несколько вопросов. — Каждый из вас будет делать то, что вам прикажут ваши начальники в бюро. Необходимо устранить все последствия Тирского Урагана. — Одновременно он коснулся сознания темпларов и перелил в них личные приказы. — Есть вопросы?
Он оглядел комнату, встречая и переламывая взгляд любого, кто собирался что-то спросить. Хватит слов, пора за дело. Темплары начали уходить. Как только освободился путь к мервому телу, рабы перестали вращать огромное мельничное колесо. Они подхватили труп белокурого темплара из Раама и почтительно понесли его из комнаты.
Хаману выделил одну особую черноволосую голову среди всех, идущих к двери. Протянув палец через нижний мир, он коснулся плеча человека. Лицо Павека резко вытянулось, голова дернулась вперед, хотя спина оставалась прямая — впечатляющее физическое свидетельство бессильного, бесполезного пути смертных — но в остальном никто не заподозрил, что он тайно разговаривает с самим королем.
Павек хорошо освоил трюки своей новой должности.
— Я не дал тебе приказов, — сказал Хаману, когда они остались одни в тронном зале. Он сузил глаза и был вознагражден мгновенно появившимся страхом, хотя Павек и сумел почти сразу проглотить его.
Павек поднял голову, очень медленно. Темные глаза смертного, хотя и расширенные от страха, смогли выдержать взгляд Короля-Льва. — О Могущественный Король, я буду следовать командам из моего бюро. Есть фермеры Квирайта, сеющие зерно на север от стен…
— И восемь из них понимают в друидстве намного больше, чем ты будешь понимать в старости! Если бы весь Урик был так хорошо защищен, самый жестокий Тирский ураган стал бы легким ветерком задолго до того, как очутился здесь.
Павек тяжело сглотнул. Виноватые мысли закрутились в его голове. Он знал о шестерых друидах, но не о восьми. Он боялся за себя, еще больше боялся за них. Это был запоздалый страх, но его спина одеревенела. — О Могучий Король, вы сказали, что Квирайту пришло время заплатить за вашу защиту. Это был их выбор. Еще больше хотели приехать…
— Но ты решил, что шестерых достаточно. А я говорю тебе, Павек, что эти двое затесались среди них, а ты ничего не знал.
На этот раз человек сломался. Его тело обвисло, он виновато опустил голову, уставился на ноги и пробормотал, — Это был их выбор, О Могучий Король. Они знали, что их магия здесь запрещена, но все равно пришли. Вы заставили их понять, что Квирайт такая же часть Урика, как и Фонтан Льва.
Даже в поражении — особенно в поражении — Павек говорил только те слова, которые рождало его сердце. Раз, редко два в каждом поколении Хаману находил человека, который всегда говорил правду, не считаясь с опасностью.
— Ты нужен мне здесь, Просто-Павек.
— О Могучий Король, я готов выполнить любые ваши приказы.
— Хорошо, — Хаману усмехнулся, обнажив золотые клыки, но эффект от великолепной иллюзии пропал, потому что Павек упрямо продолжал разглядывать кончики собственных ног. Король протянул руку назад, за спину, и взял завернутый в кожу сверток, который он оставил на сидении трона. Сейчас он был определенно тяжелее и перестал пульсировать. — Ты возьмешь его и отнесешь в мой кабинет. — Смотри на меня, Павек, Смотри на меня, коггда я приказываю тебе что-то!
На этот раз клыки не были иллюзией. Никто не мог предсказать резких поворотов настроения Хаману, даже он сам. Его серце гулко стукнуло, и без всякого предупреждения снисхождение сменилось крайним негодованием. Иногда Хаману из-за этого убивал людей, за один удар сердца, но не сегодня. Павек же был непоколебим; он с достоинством справился со своим страхом и поднял голову. Негодование Хаману растаяло также внезапно и необъяснимо, как и появилось.
— Я не собирался проявлять неуважение, О Могучий Король.
Хаману редко объяснял свои решения, а извинялся перед кем-нибудь еще реже. Он спрятал свои острые и изогнутые клыки под иллюзией человеческих зубов и посчитал это достаточным. Потом он сунул сверток в недовольные руки Павека. — Ты отнесешь это в мой кабинет. Я думаю, что эта штука совершенно безопасна, пока, и хочу ее исследовать. Ты найдешь стол, на котором лежат листы папируса. Положи ее на этот стол и посиди там. Жди меня и ничего не трогай. У дальней стены стоит окованный железом сундук. Присматривай за ним, Павек, и также не трогай.
— Я не трону ничего, О Могучий Король. У меня даже мысли такой нет.
— Повторяю, присматривай за сундуком. Об остальных вещам там не беспокойся. В основном так находится добыча из Ярамуке и других запрещенных мест. Наводнение, все перепуталось, дворец вообще весь промок, как и сам Урик. Под комнатой вода, и поэтому даже сокровища навалены всюду, где еще сухо.
В голове любого другого человека, которому сказали бы о легендарных сокровищах Ярамуке, могли бы проскочить жадные мысли; любой, по меньшей мере мысленно, мог бы соблазниться. Но не Павек. Его мысли были просты и безхитростны. — Я буду ждать, О Могучий Король, и внимательно наблюдать за окованным в железо сундуком.
— Ты мог бы прочитать листы пергамента, — предложил Хаману, забрасывая семена любопытства в твердокаменное сознание Павека.
— Если вы это прикажите, О Могучий Король.
Хаману молчаливо выругался. Откуда только берутся честные люди? Этого просто невозможно соблазнить. — Тебе придется ждать меня какое-то время, Павек, тебе может стать скучно, очень скучно. Ты можешь читать листы пергамента, если соскучишься.
— Я запомню это, О Могучий Король.
Нравится ему это или нет, но Павек не уступит никогда, значит придется отдать приказ этому человеку, чтобы он прочитал то, что Хаману написал, как он это делал раньше. — Иди, — сказал он устало, — Жди, уставай, и помни все, что хочешь.
— Как хотите, О Могучий Король. — Павек неуклюже поклонился — у него никогда не было и не будет изысканной грациозности настоящего придворного — и пошел к двери.
Хаману расщепил воздух перед собой и приготовился войти в Серость, когда смертный человек внезапно остановился и повернулся. Туманные усики нижнего мира свернулись колечками между ними. Павек сделал вид, что не заметил их, но как и любой друид — даже такой малознающий, как Павек — он должен был заметить их и понять, что они такое.
— Да, Павек?
Лицо со шрамом перекосилось в гримасе, Павек мигнул и вздрогнул. Он почти забыл, зачем остановился. Потом сглотнул, опомнился, мысль снова появилась в его сознании. — О Могучий Король, этот окованный железом сундук, за которым я должен наблюдать. Зачем… почему я должен наблюдать за ним? И что я должен делать… если с ним что-то произойдет?
— Ничего, Павек, абсолютно ничего. Если что-то действительно случится, ты просто умрешь.
Хаману не стал ждать реакции Павека. Он просунул одну руку в нижний мир, затем ногу, а затем шагнул из тронного зала прямо в штаб, где его уже давно ждали высшие темплары военного бюро. С этими мужчинами и женщинами Король Урика говорил жестко и прямо, без церемоний.
— Нам придется сражаться за жизнь Урика, — сказал он им, запечатав щель в нижний мир. — Армии Нибеная и Галга охватывают нас с флангов, а Дрегош послал против нас армию немертвых из Джиустеная. Раам прислал вестников с сообщением, Балик тоже, и, скорее всего, армии идут уже достаточно долго. И, только вопрос времени, к нам придет такое же сообщение из Драя.
Все собравшиеся дружно вздохнули, кое-кто негромко выругался, а один спросил, — Что с Тиром?
На это Хаману не мог ответить. Свободный народ Тира сверг своего короля-дракона, вернул Принесшего-Войну в тюрьму, стал сам править своим городом, избрал руководящий всем совет, который понавыпускал кучу законов, и совершенно не интересовался тем, что происходит в Центральных Землях за границами своего города-государства.
Большинство из тех, кто собрался в штабе уже знали, что войска Нибеная и Галга находятся недалеко от границ Урика и отметили их тонкими полосками цветного шелка на миниатюрной карте Центральных Земель, которую Хаману сам вырезал на стене этой комнаты. Но армия Джиустеналя — несколько черных линий, которых Хаману быстро добавил на юго-востоке — оказалась неприятным сюрпризом.
Они не стали спрашивать своего короля, что он сделал, чтобы навлечь на себя гнев других Доблесных Воинов. Такие вопросы они не задавали, это было не их дело. Зато все остальное было их, и посыпались многочисленные практические вопросы: о будущих призывах, о слишком растрянутых линиях обеспечения, о нехватке оружия на складах города, и о хаосе, вызванном наводнением, который воцарился на обычно вполне приличных дорогах Урика. Хаману больше слушал, чем отвечал. Он командовал Уриком уже тринадцать веков, но, тем не менее, смертные, которых он собрал здесь, знали об этих делах больше его, который смотрел на все сверху и мог ошибаться в деталях. Как всегда он предпочитал довериться их проницательности и точному рассчету.
Армии Короля-Льва были непобедимы, потому что Король-Лев никогда не гнушался советами своих советников.
После бурного утра наступил полдень, как всегда жаркий и душный, но сегодня, благодаря испаряющимся после Тирского урагана лужам, еще и неприятно влажный. Мужчины, женщины и сам Хаману сбросили церемониальную одежду — или ее иллюзию — и одевшись в простые льняные туники и рубашки тщательно прорабатывали план сражения. Уже наступила ночь, когда Хаману, наконец, одобрил самое лучшее решение, которое смогли выработать смертные и бессмертный умы, не намекнув ни единым словом, что всего этого может оказаться недостаточно, если он не ошибся и им придется иметь дело с тем самым безжалостным врагом, как он то подозревал.
Врагом или врагами…
Как бы он ни старался во время обсуждения в штабе, или потом, сидя в одиночестве на промытой штормом крыше, Хаману никак не мог составить из событий дня единую картину. И у Доблестных Воинов были слабости, ведь заклинания Раджаата сотворили бессмертных из самых обычных мужчин и женщин. Они скрывали свои слабости, это был один из самых больших их секретов, но после тринадцати веков непрерывного шпионажа друг за другом, при помощи магии или обычных шпионов, Хаману не верил, что ему удалось сохранить свои секреты от других королей-волшебников более удачно, чем они сохранили свои секреты от него. Конечно, у него был Виндривер, но он не был уверен, что оказался единственным Доблестным Воинов, сумевшим обзавестись призраком-шпионом после победы. И Галлард говорил с Борсом, который знал, что Лев Урика никогда не станет Драконом Урика.
Если только Раджаат не стоит за всем этим. Может ли так быть, что именно Раджаат сотворил заклинание, принесшее голос Инесс к трону Короля-Льва…? Нет, скорее всего нет, так как Хаману не сумел распознать личность за заклинанием, и, несмотря на то, что выжившие Доблестные Воины ненавидели друг друга от всего сердца, это никак не мешало им ненавидеть Принесшего-Войну еще больше, и они не поддались бы ни на какие его обещания и посулы.
Или Раджаат начал способ скрывать свою магическую сущность?
Хаману не нашел ответ на этот вопрос, глядя с крыши на залитый лунным светом ночной город. Со всех сторон доносился стук молотков и возгласы людей, смертные восстанавливали поврежденные дома и улицы, их жизнь продолжается и неважно, сколько ему пришлось за это заплатить, с раздражением подумал он. Он рассек ногтем воздух и вернулся в кабинет, где нашел Павека, полность захваченного незаконченной историей, написанной на листах пергамента.
И сандали и драгоценности Короля-Льва были иллюзией. Совершенно бесшумно он приблизился к освещенному огнем факелов столу.
— Так ты все-таки устал-?
Павек подпрыгнул от неожиданности еще до того, как Хаману успел закончить вопрос. Стол перед ним и стул за ним полетели на пол. Листья пергамента, чернильный камень, перо и — самое важное — завернутый в кожу осколок взлетели в воздух. Воздух замерцал, когда Хаману, двигаясь быстрее света или звука, ухитрился схватить кожаный сверток в спане от пола. Какое-то мгновение они оба молча глядели на совешенно невинно-выглядевший сверток, потом перевели взгляд друг на друга. Наконец Павек, который и без того нетвердо стоял на ногах, грохнулся на колени.
— Я просто болван, большой неуклюжий болван, О Могучий Король, — пробормотал он виновато, хотя в его мозгу промелькнула шальная мысль, что Лев Урика должен был бы предупредить бедного человека.
— То есть я должен был предупредить тебя, а?
Павек ничего не сказал, очень мудро. Хаману поднял стол, положил осколок на него и собрал разлетевшиеся листы пергамента.
— Ты прочитал. Что скажешь?
Самый настоящий ураган, не меньше Тирского, забушевал в сознание Павека, но там не было ни одной, даже наполовину сформировавшейся мысли. Нетерпеливый, как любой начинающий поэт, прочитавший свои стихи на аристократическом рауте, Хаману должен был дожидаться слов человека.
— Я думаю — я думаю, О Могучий Король, что это еще не окончено.
— И это все? Неужели ты не стал понимать меня больше, понимать те трудные решения, которые мне приходилось принимать, и приходится до сих пор? Это не та моя биография, которую ты учил, когда был в приюте, — уверенно сказал Хаману. То, что учили дети — официальная история Короля-Льва — было рассказом о живом боге, полном чудес, откровений и непогрешимости, и даже отдаленно не напоминало превратности и трудности жизни человека, о котором рассказывали листы пергамента.
Хаману ужасно не хотелось просить смертного высказать свое мнение. Это было унизительно, это совершенно не подобало Королю-Льву. Темный огонь гнева вспыхнул в его душе. — Говори, Павек! Смотри на меня! Задай вопрос, спроси все, что хочешь узнать. Не стой на коленях, как полоумный иникс. Я рассказал тебе секреты, которые я хранил столетиями, от всех. И ты даже не хочешь знать почему?
— О Могучий Король, простите меня, но я даже не надеялся понять ваш рассказ. У меня так много вопросов, я даже не знаю с чего начать…
— Спрашивай, Павек. Гляди мне в глаза и задавай вопросы, спрашивай так, как будто твоя жизнь зависит от них, и, клянусь, так оно и есть!
Голова с широко раскрытыми глазами пошла вверх, очень смертная голова, и очень, очень хрупкая. Последовал вопрос, точно такой же, каким он сформировался в сознание Павека.
— А вы были любимцем Раджаата? И как случилось, что вы им стали…
Два вопроса: в два раза больше, чем он приказал и замечательный повод — если бы Хаману нуждался в этом — убить трепещущего человека, стоявшего перед ним на коленях. Но, странное дело, гнев исчез. Хаману обошел стол, поднял стул и водрузил свое иллюзорное тело на жесткое сидение.
— Ответ, который приходит ко мне в голову, нет. Я никогда не был любимцем Раджаата. Я ненавидел его еще до того, как узнал, кем он является на самом деле, до того, как он сделал меня бессмертным Доблестным Воином. Он знал, что я ненавижу его. Я бы не вынес его любви, и все эти годы я верил, что он ненавидит меня. Однако сегодня ночью вопросы должен задавать не я, а ты, смертный, которого некоторые могли бы назвать моим любимцем. Ненависть ко мне не защитит тебя от моей любви, дорогой Павек, и я вполне осознаю, что стал именно тем, кого ненавидел, когда был обыкновенным человеком.
— Сегодня печальный день, Павек. Сегодня я осознал, что моя ненависть забавляла Раджаата, быть может забавляет и сейчас, как ты забавляешь меня. Я был последним из его созданий — но мы посадили его в тюрьму совсем не за это. Около двух сотен лет он обдумывал свои ошибки, размышлял, как исправить их — и именно поэтому он сотворил меня. Я был последним, потому что в меня он вложил все, что должен был иметь Доблестный Воин, по его мнению. Я ненавидел его, Павек, но, обдумывая сейчас все с самого начала, я думаю что да, Павек, я был любимцем Раджаата. Я носил в своих костях его надежду на очищение Атхаса; не ислючено и то, что я напоминал Раджаату того смертного мужчину, которым он сам когда-то был…
Хаману внезапно остановился, он сам вспомнил себя, сына и внука фермера, каким он был когда-то, и почувствовал вес прошедших тринадцати сотен лет на своих плечах. Пожалуй никогда эта тажесть так не давила на его бессмертные плечи. Бросив взгляд на рабочий стол, он как бы заново увидел серую пыль и пустые воспоминанния его неестественной жизни. Он совсем не видел Павека, пока тот не сказал…
— Я не ненавижу и не презираю вас, О Великий Король.
— Тогда ты либо невинный младенец, либо полный дурак, — устало сказал Хаману, прощая себе мгновение слабости — и пытаясь погасить излишнее рвение в своем любимце, чей голос, в этот самый момент, слишком напоминал его собственный.
— Телами так не считает, О Могучий Король.
Возможно Раджаат был прав. Раджаат прожил не меньше двух тысяч лет, прежде чем начал создавать своих Доблестных Воинов. Возможно человеку нужно не меньше нескольких веков, чтобы изучить оковы бессмертия — и научиться выбирать своих любимцев из тех, кто ненавидит его.
Когда Телами жила в Урике, Хаману не вспоминал ни о Дорин, ни о какой-нибудь другой женщине. Ее глаза, ее руки и ее улыбка опять сделали его человеком, мужчиной. Как долго? Год? Двадцать лет? Тридцать? Тогда он жил как в волшебном сне. Каждый день был ярок и интересен, и совершенно не походил на предыдущий; а каждая ночь была тем, о чем обычный мужчина может только мечтать. А потом, однажды утром, она одела одежду странника.
Ночью ей принился сон, ей приснилось место, за Поющими Горами, где воздух холоден и влажен, земля покрыта толстым и мягким зеленым ковром из трав, а верхушки деревьев не видны с земли. Ей приснилось, что вокруг этого места круглый год из земли бьют холодные ключи, а в центре всего находится водопад, завернутый в туман и радугу. И на этом ее жизнь в Урике закончилась: ей было нужно отыскать свой водопад.
Друиды не могут стоять на месте, сказала она, как если бы это что-то объясняло.
А он, конечно, не мог идти. Урик и так уже пострадал — он почти забросил все дела. Поколение темпларов получало силу и управляло городом считая, что их король ослепленный любовью дурак. А обычные жители, на плечах которых стояли он сам и его темплары, чуть-ли не открыто проклинали имя Короля-Льва.
Хаману мог заставить Телами остаться, но не мог заставить ее любить себя.
Он мог убить ее, пока она стояла перед ним со своим посохом и шляпой с вуалью. Смерть смертных — даже тех, которых он любил — была привычной болью. А вот дать им уйти — нет.
— Ты вернешься? — спросил он, как бесчисленное число других женщин и мужчин спрашивали своих уходящих возлюбленных, но только не Хаману, только не Король-Лев, ни до, ни после.
Телеми вернулась, по своему. Она основала свое поселение друидов достаточно близко от Урика, чтобы он примерно знал, где она находится, но на дальней стороне безжизненной соляной пустыни, чтобы его магия не могла дотянуться до нее. Так оно и было до тех пор, пока однажды ночью этот Павек, тупой и упрямый кусок человечества, который заставил ожить давно забытые воспоминания, не открыл проход для короля через пустыню. Тогда Хаману спас деревню Телами от одного из своих любимцев. Он мог бы спасти и ее саму, но вместо этого она предпочла умереть.
Он так и не узнал, нашла ли она этот проклятый водопад. Так как он любил ее, он надеялся, что нашла. Так как она бросила его, он надеялся, что нет. Павек мог бы знать, но тринадцать веков научили сына фермера задавать вопросы только тогда, когда действительно хочешь знать ответы.
— Иди домой, — сказал он Павеку. — Ночью я сам буду смотреть за сундуком. Возвращайся завтра или послезавтра.
Темплар встал на колено и застыл на месте, так как с потолка опустился сверкавший серебром вихрь, пошевелил листы пергамента и превратился в Виндривера.
В высшей степени подходяще — неприятный конец совершенно неприятного дня.
— Я думал, что ты в Ур Драксе.
— У меня есть вопрос, О Могучий Хозяин.
— Я должен был знать это.
Маленький вихрь и тень, это было все, чем мог тролль повлиять на материальный мир, зато он мог видеть все — от Раджаата в своей тюрьме в окрестностях Ур Дракса до темплара со шрамом, читающего один за другим исписанные твердым почерком листы пергамента.
— Твой маленький друг может найти ответ на этот вопрос очень интересным, О Могучий Хозяин, если, конечно, ты собираешься ответить на него.
Хаману мог выдернуть мысли из живого сознания, мог и распутать воспоминания обычного умершего, но он ничего не мог поделать со своим старым врагом, Виндривером, поэтому он просто сказал, — Спрашивай, но для себя. Не впутывай Павека в твои планы.
— О Могучий Хозяин, это вопрос как мой так и его. Я слышал, как он слетел с кончика его языка, когда он перевернул последний лист пергамента.
Бедный Павек — он сказал что-то, что подслушал Виндривер, и сейчас он использует каждый трюк, которому научился будучи темпларом, каждый кусочек друидства, которому Телами обучила его, чтобы сохранить свои мысли в тайне, не выдать себя. Безнадежная борьба, точнее, она была бы безнадежной, если бы Хаману дал хитрым и жестоким словам Виндривера обмануть себя.
Спрашивай для себя.
Его голос развеял серебряную тень Виндривера на все четыре стороны. Это было не слишком большим неудобством для тролля, чей образ вновь появился спустя удар сердца после того, как исчез.
— Как прикажешь, О Могучий Хозяин. Почему Раджаат выбрал тупоголового, неумелого и неловкого придурка вроде тебя, чтобы заменить Мирона из Йорама?
Хаману почти улыбнулся, почти рассмеялся вслух. — Виндривер, я никогда его не спрашивал, а он никогда не говорил. Возможно у него были для этого веские причины — не с твой точки зрения, конечно. Ты всегда побеждал Мирона, но как только я стал Сжигателем-Троллей, моя победа стала неизбежной.
Тень скрюченного пальца почесала тень серебряной челюсти, упрямо выдвинутой вперед. — Возможно. Но возможно и нет. Кто-то же научил тебя стратегии и тактике, о которых Мирон даже не подозревал, и ты бы тоже никогда не додумался, пока был… — Голос Виндривера, звучный глубокий голос тролля увял, превратился в шепот.
— Живым? — закончил Хаману его фразу. — Ты никак не можешь смириться с тем, что сын фермера из Кригилл смог победить и уничтожить троллей. Ты предпочитаешь верить, что Раджаат добыл дух какого-то давно умершего гения и поселил его в мое тело.
— Да, такая мысль давно свербит мою голову. Я был в овражных землях, Ману из Дэша. Я видел тебя: здоровенный, жилистый молодой парень. Ты выглядел совсем молодым, а действовал вообще как ребенок: стоял, выставив вперед свой блестящий стальной меч, причем твоя нижняя челюсть висела так низко, что мекилот мог бы залезть тебе в живот. Да ты даже не знал, за какой конец держать оружие, которое было у тебя в руке. Я видел, как твой собственный человек подбежал к тебе, чтобы убить тебя в отместку за поражение и позор, который ты принес своей армии. Потом я моргнул, и ты исчез. А в следующий раз, когда я увидел тебя…
Нематериальные серебряные слезы полились из глаз тени, и до Хаману дошло, что Виндривер узнал его в тот день на утесе. Заодно он сообразил, что тролль может ответить на один из вопросов, которые уже тринадцать веков жгли его душу.
— Нас предали?
Виндривер проглотил свои слезы. — Предали?
— Мирон из Йорама, послал ли он специально моих ветеранов к твоим троллям? Откуда ты узнал, где мы?
— Мы всегда уходили в овражные земли, когда стебли йоры становились достаточно высоки и приходило время урожая. Сжигатель-Троллей никогда не преследовал нас там; ты знаешь почему…
— Я преследовал вас.
— Да, О Могучий Хозяин, ты преследовал нас повсюду, но не Мирон. Я думаю, что он не ожидал твоего возвращения, но он не предавал, ни тебя, ни нас. Лично я даже не догадывался о той грандиозной игре, которую затеял Мирон, пока не заглянул через плечо Павека и не прочитал твой рассказ.
Какое время они молча глядели один на другого — один сквозь другого — бессмертный дух и бессмертный Доблестный Воин. В плотном воздухе висели невысказанные слова и несостоявшиеся дела.
Павек, смертный, который этого не понимал, а возможно и не мог понять, прочистил свое горло. — О Могучий Король — что случилось после битвы? Как вы убежали из этой дыры-тюрьмы?
Хаману покачал головой. Он не убегал, никогда, ни от кого.
— Да, — добавил Виндривер, стряхивая с себя оцепенение. — Раджаат, похоже, хорошо приготовился для торжественного приветствия.
— Не Раджаат, — прошептал Хаману.
Никакое волшебство или трюки псиоников не могли изменить его воспоминания. Он чувствовал эти стены так, как если бы он мог коснуться их рукой, как тогда, тринадцать сотен лет назад, когда сообразил, что его запихнули в зерновую яму. Его пальцы ощупывали холодные и гладкие кирпичи, в поисках выхода. Дай человеку тысячу лет, все равно он не сумеет продраться через обожженные в печи плитки или выковырять хотя бы одну из них из стены. Дай ему еще тысячу лет, все равно он не сумеет забраться наверх по стене своей тюрьмы, и не имеет значения, сколько раз он пытался подняться по гладким кирпичам и соскальзывал обратно, сколько раз он выкапывал землю со дна ямы и мазал ею стены.
— Не Раджаат? — хором спросили Виндривер и Павек.
Хаману поискал глазами медное перо, валявшееся на полу кабинета. Он поднял его и покрутил между пальцами, прежде чем взяться ладонью за металлическую ручку. — Сжигатель-Троллей, Мирон из Йорама, выхватил меня из овражных земель. Он, и только он бросил меня в зерновую яму на равнинах, по которым маршировала его армия раз в…
— Зерновую яму, — продекламировал Виндривер. — Как подходяще для назойливого сына фермера.
Король-Лев не сказал ничего, просто оскалил поблескивающие в свете лампы клыки и наклонил перо над когтем, черным как обсидиан и крепким как сталь.
— По ночам, — губы Хаману почти не двигались, тем не менее его голос отдавался эхом от потолка и стен. — По ночам, через окружавшие меня стены, я слушал крики и стоны. Я был не один, Виндривер. Сжигатель-Троллей засунул меня в яму посреди моих врагов: троллей. Тролли, с большими толстыми костями, которые могли стоять в своих ямах, а может быть и сидеть, скрестив ноги — если они были достаточно молоды и подвижны — но никогда не могли вытянуть ноги перед собой и лечь спать. Никогда, ни днем ни ночью, ни разу за все время их плена, который был не меньше моего… а то и больше. А мой был…
— Когда созревает урожай твоих йора, Виндривер? Когда солнце поднимается, когда оно высоко, или когда оно опускается? Армии Сжигателя-Троллей маршировали в сезон Высокого Солнца, так что я думаю, что просидел в этой яме меньше чем год, хотя мне показалось, что прошла вся жизнь. Человеческая жизнь — но тролли живут дольше, чем люди, на так ли, Виндривер? А когда стоишь и не можешь лечь, наверняка жизнь троллю кажется еще дольше.
Хаману изо всех сил сжал перо в кулаке, глядя на старого тролля, и ожидая что тот, по меньшей мере, вздрогнет. Но вместо этого вздрогнул Павек, привлекая к себе его внимание.
— Хочешь, я расскажу тебе, как выбрался из этой ямы? — спросил Хаману, перенося свою жестокость на того, кто мог реагировать, пока его собственные воспоминания не победили его. — Сначала они бросили вниз горящие ветки и угли, чтобы грязь и отбросы в моей яме вспыхнули огнем. Потом они опустили мне веревку. Сгорай живьем или лезь вверх. Я выбрал лезть… и ошибся. Ветераны с копьями окружили яму, приветствуя меня с уважением, которого я не заслужил. Я мог стоять, с трудом, но я разучился ходить. Солнце ослепило меня; слезы текли из глаз. Я упал на колени, в поисках тени, тени от меня самого, в поисках темноты, которая осталась внизу.
Они тыкали своими копьями мне в бока. Я сумел вывернуться, схватить одно из них выше наконечника и вырвать его из рук ветерана, который держал его. Тогда они навалились на меня все — мужчины и женщины, люди, моего собственного рода — и избили меня до полусмерти. Я потерял сознание, а когда пришел в себя оказалось, что я стою, привязанный к ребру мекилота, руки и ноги связаны, а солнце бьет мне в лицо.
— Какой-то человек позвал меня по имени: Ману из Дэша. Я открыл глаза и увидел Сжигателя-Троллей, Мирона из Йорама. Это был большой человек, высокий и толстый, завернутый в бесформенный мешок из окрашенного в красное шелка. Два человека стояли рядом с ним, готовые помочь этой горе жира, если она захочет пойти. Другие двое держали наготове крепкую скамью со слегка скошенным сидением. Они должны были волочить ее за ним, потому что его ноги не могли держать его и он должен был садиться после каждого шага, чтобы отдохнуть.
— Я издевался над ним, — сказал Хаману, вспоминая точные слова, которыми он заработал себе еще одно безжалостное избиение. Когда он был смертным, его красноречие не ограничивалось длинными словами и плавно текущими фразами. Где-то между детством на ферме и пятью годами среди ветеранов, он стал настоящим мастером ругательств, задолго до того, как он стал мастером в чем-то другом. Но время не пощадило и этот тип его дарования, шутки и ругательства потеряли свое жало; самые изысканные, избранные проклятия казались в лучшем случае непонятны, а большинство было полностью забыто. В его памяти остались только выражения типа, — Ты, бесполый обрубок, воняющая куча дерьма.
— То есть ты понял, где находишься и что сейчас произойдет. И ты захотел, чтобы он тебя убил как можно быстрее, — предположил Виндривер.
— Да, я узнал это место: равнины, армия, идущая парадным шагом, тролли, воткнутые в землю по обе стороны от меня. Увидев его, однако… увидев то, во что он превратился, Сжигатель-Троллей, который разрешил Дэшу и еще сотне человеческих деревень умереть, я думал не о смерти, а о ненависти. Вы даже представить себе не можете силу ненависти, которую я испытывал, глядя на него.
— О, нет, я могу, О Великий Мастер, каждый раз, когда я гляжу на тебя.
Глаза Хаману опять сомкнулись на призраке. Ненависть Виндривера была самым материальным из всего его существа, и тем не менее она бледнела по сравнению с воспоминанием о Мироне из Йорама.
— Он был неудачник, трус, который даже не мог встать со своим врагом лицом к лицу. Он был обжорой, он пожирал боль и страдания — и ничем не рисковал…
Серебряная тень Виндривера низко наклонилась над столом. — А когда ты рисковал, Хаману? — спросил тролль, его голос превратился в холодный, жесткий шепот. — Когда ты сражался в честной битве, стоя лицом к лицу с врагом, до почетного конца?
— Я сражался до конца войны, — огрызнулся Хаману, хотя не было никакой необходимости защищать себя от давным давно побежденного врага и совершенно запуганного смертного человека. — Мир, вот почетный конец моего…
А риск? Рисковал ли он хоть раз после той встречи с Мироном из Йорама?
— Я сказал правду. Я разоблачил все преступления Сжигателя-Троллей ветеранам его армии. Я обвинил его в смерти людей, бессчетном числе бессмысленных смертей. Ради Дорин и Дэша, ради всех остальных, голоса которых еще звучали у меня в ушах, я вызвал его на суд. Я назвал его Предатель и Обманщик. Я прокричал свое мщение — ему было нечего мне сказать, и он ударил в меня огнем из глаз.
— Моя кровь закипела в венах. Потом она вскипела в моем сердце. Я открыл рот, чтобы закричать; мой язык…
Больше в кабинете не прозвучало ни слова, как не было сказано ни слова на равнинах и в тот жаркий день, день сезона Высокого Солнца. Пока Хаману корчился от боли под атакой жестокого волшебства Сжигателя-Троллей, горящий язык заполнил его рот. Последние звуки, которые он услышал, было потрескивание его собственных ушей, которые трескались от жара, как жир на огне. Тучное тело Мирона из Йорама увеличилось еще больше еще до того, как расширившие глаза Хаману взорвались. Смертный Хаману умер, в черном вихре из пламени, молчания и мучений, которые никакие слова не в состоянии описать, а память не в состоянии сохранить.
Веревки, которые привязывали его к столбу из ребера мекилота вспыхнули и тоже сгорели. Он медленно повалился на землю, к смерти, но Хаману не умер. Мирон из Йорама подхватил нити его сущности и вытянул их от самого порога вечности, чтобы его страдания удвоились.
У Хаману не было ни языка, ни губ, щек или челюсти. Он не мог кричать, во всяком случае ни один звук, издаваемый человеком, не мог выразить силу его боли, а Сжигатель-Троллей не разрешал ему освободиться и умереть, в течении неизвестно сколько времени. Он стал сумашедший, безумный, но не совершенно безмозглый. У него осталась одна единственная мысль: проклятие, которое становилось все громче, сильнее и более замысловато, пока сущность Хаману жила в огненных глазах.
— Я не умер, — прошептал Король-Лев. — Смерть перестала значить хоть что-нибудь. И жизнь перестала. И боль.
Хаману мигнул и освободился от воспоминаний, загнал их внутрь, как всегда. Виндривер и Павек глядели во все глаза на его руку. Он тоже взглянул вниз. Толстый жирный дым сочился из его сжатого кулака. Зловоние сгоревшей плоти принадлежало как настоящему, так и прошлому, реальности и иллюзии. С незнакомым усилием Хаману нашел мускулы своих пальцев и заставил их распрямиться.
Небольшая лужица расплавленной бронзы тускло сияла на ладони руки Хаману. Он не чувствовал ничего — ничего нового, ничего особенного, но его долго-страдавшая человеческая сущность вздрогнула, и жидкий металл полился на стол. Пока ароматы горящего дерева и очищенного метала смешивались со сложным запахом, заполнявшим воздух кабинета, Хаману уставился на новый кратер в своей и без того разрушенной черной плоти.
Потом были и еще другие звуки вокруг него, другие движения. Он не обращал на них внимания, пока Павек — смертный Павек, который ничего не понимал — не оказался перед ним с куском материи, оторванном от бесценных сокровищ Ярамуке, в одной руке и горшочком меда ящерицы в другой.
Виндривер пошевелился, его тень упала между ними. — Ты зря тратишь свое время, человечек. Сжигатель-Троллей ничего не чувствует, и его невозможно лечить.
Павек не сказал ничего, его сознание стало непроницаемым, его собственным, друидско-темпларским сопособом. Он полил медом рану Хаману — старое солдатское лекарство, которое использовали как Джавед, так и Телами — потом обернул ее куском материи и скрыл из виду. Хаману закрыл глаза и отдался наслаждению ново-найденной болью.
Десятая Глава
Хаману прогнал своих компаньонов из кабинета. Он слишком долго жил без уз сочуствия и жалости, чтобы чувствовать себя уютно в их объятьях. Не то, чтобы Виндривер внезапно смягчился; тролль-тень исчез с раскатами жестокого смеха. Хаману даже не знал, куда направился его старый враг — впрочем, возможно в Ур Дракс, где он был все это время, следя за Раджаатом.
Откровенно говоря Хаману было совершенно безразлично, где находится Виндривер. Но Павек тяжелой грудой вторгался в его мысли, тот самый Павек, который игнорировал его приказы. Этот упрямый ничтожный смертный остановился в шаге от двери.
— Ваша рука, — сказал он, неповиновение и страх слились в его голосе. Потом он протянул в сторону Хаману горшок с медом.
— Я всемогущий и бессмертный Король-Лев Урика, может быть ты этого не заметил? — прорычал Хаману. — Мою плоть невозможно вылечить, но она и не гниет. Мне не нужны ни твои услуги, ни твое сочувствие.
Павек остался там, где был, не говоря и не думая, по меньшей мере в его голове не было мыслей, которых можно было бы легко вытащить из его сознания. Искривив человеческие губы в презрительной усмешке, Хаману переформировал свое иллюзорное тело и передвинул его. Он намеривался выхватить горшок из руки темплара быстрее, чем смертные глаза Павека могли бы уловить. Но рана Хаману была настоящей: его рефлексы, мнимые и реальные, замедлились. Пальцы скользнули мимо горшка, схватив воздух. Импровизированная повязка наткнулась на грубо-сделанный сосуд с медом, дернув за грубые края его раны. Король-Лев вздрогнул от боли, горшочек полетел на пол, а Павек мигнул — просто мигнул.
Хаману подхватил свою руку — настоящую руку, выглядевшую как человеческая рука — и попытался вспомнить, когда он в последний раз ошибался, неправильно оценив соотношение реальности и своей собственной иллюзии. Совершенно точно это было до того, как родился этот темплар, и до того, как родился дед этого темплара.
— Ты не можешь сравняться со мной, Павек. Смертный не может даже представить себе мой внутренний мир и, тем более, судить меня. — В его словах было больше боли, чем он надеялся, но было бы просто хорошо, если бы этот темплар наконец ушел.
Но Павек скрестил руки на широкой груди. — Вы были смертным, когда почувствовали себя ровней Мирону из Йорама и Раджаату. Вы не поколебались осудить их, — сказал он, не упоминая титулов Короля-Льва, как если бы он и Хаману были равны.
— Уходи, немедленно, — приказал Хаману.
Но он не удивился, когда этот темплар не подчинился; иначе он был бы разочарован. У Павека не было горячего темперамента Ману, зато у смертного в избытке было упрямство, которое служило той же самой цели. Предвещающей несчастье цели для любого смерного, когда настроение Доблестного Воина мрачнее, чем оно было на протяжении многих столетий.
— Уходи, Павек, прежде чем мое терпение кончилось. Сегодня ночью я не хочу слушать поучения ни от кого, ни от тебя, Виндривера или кого-нибудь другого.
— Вы не закончили свой рассказ.
— Человек умер — и умер очень неприятно, — остаток угрозы Хаманы остался непроизнесенным. Он не хотел никого убивать сегодня ночью, и вообще он никогда не убивал человека, осмелившегося сказать ему правду. — Не сегодня ночью, Павек. Как-нибудь в другой раз. Иди домой, Павек. Поужинай с друзьями. Хорошо поспи. Я позову тебя, когда ты будешь мне нужен.
На поверхности сознания Павека сформировалась мысль, настолько ясная и простая, что Хаману невольно спросил себя, а действительно ли Павек так невинен и прост? Конечно мой король нуждается в еде и сне, думал Павек. Конечно сегодня ночью он нуждается в друзьях.
Я не сплю, Павек, ответил Хаману, впечатав свою мысль прямо в сознание темплара. Одного этого оказалось достаточно, чтобы тот — наконец! — кубарем вылетел за порог.
— Друзья! — прошептал король сам себе, оставшись один. — Тролль, который ненавидит меня, кстати по праву, и темплар, который никогда не выполняет мои приказы. Друзья. Чушь. Болезнь по имени дружба.
Но оказалось что выкинуть мысль о дружбе из головы ничуть не проще, чем Павека из кабинета. Никто не знал Хаману дольше и лучше, чем последний тролль — генерал погибнувшей армии. История Урика была их историей, переплетенной ядом и желчью, но их, общей, совместной. Кто же тогда Виндривер, как не друг, и в то же самое время враг?
И кто же тогда друг, если не смертный человек, который победил свой здравый смысл и перевязал рану на руке дракона?
Рука Хаману, если не считать мозолей и внешнего вида пальцев, была иллюзией, но рана была самая настоящая — у него была сила прорвать собственную защиту, даже не думая об этом, по ошибке. В течении этих столетий он получил много ран, скрытых под иллюзией. Но сегодня ночью волшебство и иллюзия подвели его, или, откровенно говоря, Хаману сам подвел себя. Вид расплавленного металла в ладони настолько наполнил его ужасом и злостью на самого себя, что он забылся и дал Павеку возможность, которую никакой смертный не должен иметь.
Обыкновенная одежда сгорала или мгновенно сгнивала только соприкасаясь с изменяющимся телом Доблестного Воина. В кабинете была только одна единственная подходящая материя: серо-зеленое платье Сильвы Когтя-Фей, Доблестного Воина и королевы Ярамуке. Она была одета в него, когда умерла в руках Короля-Льва, с его обсидиановым ножом в сердце.
Угадал ли Виндривер намерения Павека, пока Хаману был занят своей раной? Прошептал ли тролль подсказку в уши смертного?
А может быть какой-нибудь инстинкт направил поиски темплара в нужную сторону? Инстинкт друида? Еще один друидский страж, которого не может обнаружить даже магия Доблестного Воина?
Хаману считал себя очень умным, когда придумал свой план, который, в случае удачи, должен был обеспечить ему поддержку Павека, то есть поддержку друидского стража, а это могло спасти его город. Его перевязанную руку можно смело считать символом того, что план удался — да, но какой ценой?
Рана?
Это была сущая ерунда. Виндривер сказал правду: Доблестных Воинов Раджаата было невозможно вылечить, но эта грубая впадина будет поглощена неумолимой метаморфозой. А пока у него есть более чем тысячелетний опыт, как терпеть и не обращать внимания даже на самую сильную боль.
Так что эта рана вовсе не цена, но что сказать о ноющей пустоте вокруг его медленно-бьющегося сердца, быть может это намек, что он и так прожил слишком долго?
У него был Урик, и в течении тысячи лет этого было достаточно. Смертные приходили и уходили; Урик продолжался. Город был бессмертным; этот город стал жизнью Хаману. Страсти его миньонов заняли место естественного стремления к любви и дружбе. Потом ему пришла в голову мысль написать мемуары, и теперь — после столетий выращивания и внимания — его драгоценные миньоны бросили по городу как потерянные дети, пока он доверял тонким листам самого лучшего пергамента историю своей жизни.
Хаману обругал сам себя за пренебрежение ими и поискал их через нижний мир.
Лорд Урсос удобно развалился в своей благоухающей ванне, пока юноши и девушки удоблетворяли все его желания и причуды. Тонкие пальцы обняли его безбородый подбородок и подтянули ближе.
Король-Лев отвернулся: он хорошо знал все пороки Лорда Урсоса. У лорда не хватало воображения, все его развлечения были стары и лишены изюминки. Ванна немедленно исчезла из его воображения. Он оглядел кабинет в поисках другого пера.
Я не имею ни малейшего понятия, сколько времени я оставался между жизнью и смертью, сражаясь в псионическом бою с Мироном из Йорама. Именно это оно и было: война в другом мире. Воображение Сжигателя-Троллей против моего, годы его опыта в подобных битвах против силы и чистоты моего гнева, моей ярости. Когда битва закончилась, я был если не мертвым, так, по меньшей мере, не совсем в своем сознании. Наша битва длилась достаточно долго, эхо от нее пошло через весь нижний мир и нарушило покой Принесшего-Войну, а вот это действительно имело значение.
Раджаат пронесся через Серость чтобы найти меня, хотя я никак не мог оценить свое собственное спасение или его без сомнения эффектное появление на равнинах. Я не ощущал ничего, кроме боли, темноты, молчания и — очень смутно — того, что мой враг перестал сражаться, перестал отвечать на удары, которые я своим безумным, сумашедшим способом продолжал обрушивать на него.
В моей черной бездне возник луч света, потом звук, а потом голос, воплощенная сила, приказал мне перестать сопротивляться.
Твои мольбы услышаны, твои желания будут выполнены.
Раджаат. Ему не нужно было называть свое имя, тогда и сейчас. Когда первый волшебник находился в моем сознании, мир был Раджаатом и Раджаат был миром, бесконечным и беспредельным.
Посмотри на себя…
Он дал мне зрение и слух кес'трекела. Взглянув на землю с высоты парящего кес'трекела я увидел микилотов, тянущих четырехколесную повозку по пустыне. На повозке стояла клетка, а в клетке находился Мирон из Йорама. Сжигатель-Троллей сгорел сам. Он лежал на спине, обугленная, раздутая туша. С его тела свисали обрыки обожженной кожи, колебавшейся в такт скрипящей повозке. Целое облако жужжащих насекомых пировало на его гноящихся ранах.
Я решил, что Мирон уже труп; я ошибался. При помощи Раджаата я услышал жалкие всхлипывания в глубине сожженого огнем горла. Я увидел тонкие серебряные цепи, затерявшиеся среди складок жира на запястьях и шиколотках: их колечки были наполнены такой могущественной магией, что даже Доблестный Воин стал совершенно беспомощным.
Я обрадовался, но еще не был полностью удовлетворен. Было совершенно недостаточно, чтобы только Сжигатель-Троллей был наказан за предательство людей. Оставалась еще война, война против троллей, надо было сражаться и побеждать…
В своем время, Ману. В подходящее время. Подожди. Отдохни…
Меня окружила мягкая тень, не та блеклая темнота моих недавних пыток, но настоящая тьма, обещавшая отдых и покой. Но меня не интересовала ни темнота, ни отдых с покоем. Несерьезный и нетерпеливый, я попытался убежать от тени.
Кес'трекел повернул голову, и я увидел вторую тележку, ехавшую по безжизненной равнине. Как и на первой, на ней лежала оболочка от человека. Второе тело мало чем отличалось от скелета с черными костями, на котором были обрывки плоти. Колени были выпрямлены. Руки были скрещены и вплавлены одна в другую. Они скрывали то, что осталось от лица.
От моего лица…
Эта оболочка была еще жива; это был я.
Вся боль, которую я испытывал, оказаль ничем по сравнению с бездной отчания, в которую я рухнул, увидев, что стало с Ману, гибким танцором из Дэша. Больше я не стал сражаться с тенью Раджаата. Я отдался в ее объятия, в ее удивительную мягкость.
Не отчаивайся, сказал мне Раджаат голосом любящего дедушки. Боль принадлежит твоему прошлому. Скоро ты возродишься и больше никогда не узнаешь, что такое боль, больше никогда не будешь страдать.
Поначалу я сомневался в его обещании: жизнь без боли и страдания — не человеческая жизнь. Но живые мертвецы еще не успели изглядиться из моей памяти, так что я отбросил все сомнения и плавал по тени, пока не услышал его голос опять.
Время.
Мягкая тень растаяла. Сознание медленно вернулось в мое искалеченное тело. Вначале было только давление. Потом я различил движение внутри давления. И наконец, я почувствовал напряжение, растяжение, услыпал звуки. У меня опять были уши.
— Пришло время возродиться.
Давление оказалось руками Раджаата, восстанавливающими тело вокруг моих костей. Его большие пальцы скользнули по пустым глазницам. Кость и мясо росли как хлеб в печи пекаря, но даже наполненные магией руки Раджаата не могли сделать свою работу безболезненно. Кости росли и твердели слишком быстро. В какой-то момент боль стала настолько невыносимой, что я попросил бы его остановиться, если бы у меня был рот или язык.
Раджаат знал все мои мысли. — Терпение, ребенок. Самое худшее уже позади. А самое лучше только начинается.
Я не был ребенком, уже давно. Я не нуждался в напоминаниях о том, что я потерял, и я не собирался уступать мою так тяжело заработанную зрелость кому бы то ни было, даже богу. Эхо от низкого, раскатистого смешка прокатилось по моему сознанию. Мои мысли рассыпались, как мякина на ветру.
Сегодня, возможно, мне удалось бы сохранить мои мысли в тайне даже от моего создателя — и именно поэтому как раз сейчас мое заклинание медленно кипит без огня — но не в тот день под безжалостным солнцем. Я вспомнил, как мои родители учили меня хорошим манерам — хорошим с точки зрения фермера — и вежливо поблагодарил его. Новый смешок напоминал мурлыкание довольного кирра.
Снова давление. Раджаат стал восстанавливать мои скулы и челюсть.
Мои возрожденные уши сообщили мне, что я и Раджаат не одни.
— Ты только посмотри на него, — сказал мужчина грубым голосом. — Фермер. Дерьмоголовый юнец, не лучше любого раба. Я говорю тебе, в нем нет никакой необходимости. Сжигатель кончился, как и гномы. Нет никакой необходимости для Принесшего-Войну заменять его. Моя армия стоит наготове. Она может покончить с троллями за одну компанию.
В армии Сжигателя-Троллей мы слышали о других армиях, очищающих человеческие Центральные Земли от нелюдей, слышали и об их командующих. Еще до того, как я узнал его настоящее имя — прежде, чем я узнал кто такой Раджаат и кем стал сам — я слышал что Галлард, Погибель Гномов, считает себя военным гением, хотя не является им даже наполовину. Стратегия невидимости Галларда была хороша в деградирующих лесах, в которых жили гномы, но Виндривер вырезал бы всю его армию вместе с ним самим на равнинах, над которыми парили кес'трекелы.
Однако Погибель Гномов говорил не сам с собой.
— Деревенщина, — согласилась женщина. — Но он может быть полезным, когда Принесший — Войну поработает с ним. — Как я позже узнал, ее имя было Сильва. На протяжении следующих лет я много чего узнал о том, что такое «быть полезным» с ее точки зрения, но тогда мне не было дела ни до нее, ни до ее интересов.
— Он уже может слышать твои слова, — третий голос, мужчина, предостерегающий. Он презирал меня не меньше, чем те двое, но Борс из Эбе всегда смотрел вперед, лучше нас всех разбираясь в лабиринте последствий любого поступка. — Он будет одним из нас, когда Принесший-Войну поработает с ним, как ты выразилась.
После чего они говорили молча, если вообще говорили. Мое сознание наполнило жгучее любопытство; я еще не знал, что означает быть одним из нас. Я хотел только одного: возглавить армию — мою армию — и повести ее на троллей. Я представлял себе резню и победу. И опять удовольствие Раджаата прокатилось по моему сознанию, притупляя все чувства, пока он лепил мускулы на только-что затвердевших костях моего лица.
Когда мои веки были закончены, я открыл глаза, желая как можно скорее увидеть своего спасителя.
И был так поражен, что потерял сознание.
В своей жизни я видел только людей и троллей. Мирон из Йорама был жирным, раздутым мешком с салом, но он был — по меньшей мере я верил в это — человеком. Кроме людей были тролли и только тролли. Но Раджаат Принесший-Войну не был троллем. По сравнению с моим спасителем тролли были симпатичными, хорошо сложенными парнями.
В Раджаате отсутствовала та самая простая симметрия между левым и правым, которую человек ожидает увидеть в любом другом, будь то человек, тролль или представитель какой-нибудь другой мыслящей расы. Голова первого волшебника была огромна и нелепа. Клочки бесцветных волос выпирали между уродливыми наростами, похожими на языки лавы, которые покрывали его череп. Глаза не подходили к лицу ни по цвету, ни по размеру или форме. Нос нависал бесформенным наростом надо ртом с грубыми толстыми губами, из под которых в самые разные стороны торчали зубы. Раджаат хрипел, когда вдыхал воздух, а его выдох пах болезнью и смертью.
Если он восстанавливает меня в его собственном виде…
Раджаат засмеялся и пообещал, что не будет. Его грубые, с наростами пальцы, наполненные могучей магией, повернули мою голову так, что я смог увидеть мужчин и женщин, которых он позвал, чтобы они увидели как создают — и уничтожают — Доблестных Воинов.
Да — это было замечательное, блестящее общество, олицетворение человеческого совершенства, и каждый из них был завернут в иллюзию, хотя тогда я даже не догадывался об этом. Аура невообразимой силы висела над каждым из них. Вот она была совершенно реальна и почти так же ощутима, как их общее коллективное презрение, презрение ко мне.
Они все с изьяном, сказал мне мой спаситель, опять поворачивая мою голову, на этот раз так, чтобы мои глаза уставились в его. У каждого из них есть недостаток, который исправлен в тебе. Ты мой последний Доблестный Воин, Ману из Дэша, Хаману Сжигатель-Троллей. Ты очистишь землю от нечистых. Атхас опять станет синим.
В моем невежестве мне представилось, как знакомый мне мир преображается, горы, песок и даже пустыня становятся синими, и всюду растут голубые поля химали. Но Раджаат изменил образ в моем сознании, показав мне синию воду под голубым небом. Я увидел океаны; так много воды ничего не значило для меня.
Где же земля? мысленно спросил я. Раджаат показал мне острова и плывущие по волнам города, имевшие форму гигантских кораблей; ветер гнал их по просторам океана. А где люди этого синего мира? опять спросил я.
Города кипят жизнью, ответил Раяджаат.
Человеческой жизнью? предположил я, и Раджаат не стал меня поправлять. Тогда.
Его руки сдвинулись с моей головы на шею, от шеи на плечи, потом вниз, на тело. Кости, сухожилия, нервы, все мои утраченные органы быстро появлялись под его волшебными пальцами. Кусочек за кусочком, я опять становился человеком, мужчиной. Боль при этом была совершенно невыносимая — я кусал мой только-что появившийся язык, пока между зубов не осталась только кровавая тряпка, но мои будущие товарищи не услышали от меня ни крика, ни стона.
Свет дня угасал. Холодные серые тени протянулись через тележку, пока, наконец, Раджаат не удовлетворился моим восстановленным телом. Он заставил меня подвигать каждым суставом и напрячь каждый мускул, прежде чем разрешил медленно встать. Я сел, встал и попробовал шагнуть, глядя на мои ноги, руки, лодыжки, бедра так, как если бы я никогда не видел их раньше.
Я снова был самим собой, мужчиной со здоровым, крепким телом, я не был таким даже тогда, когда бандиты Мирона из Йорама вытащили меня из ямы. Шрамы, которые оставили на мне фермерство и война исчезли, но моя мать все равно узнала бы меня по скрюченному пальцу на левой ноге.
Те, кто глазел на меня, были завернуты в шелк, сверкали драгоценностями или великолепными доспехами, пожалуй никогда, ни до ни после, на Атхасе не была такого великолепного зрелища. Я, заново родившийся, конечно был гол, и они с любопытством глядели на меня. Вид брюзжащих разодетых людей, чем-то похожих на хищных зверей, и потеющих рабов больно ударил по моему самолюбию. Пламенно-волосая Сильва прямо-таки пожирала глазами мое тело, глядя на него с видом собственника. Она застала меня врасплох; я вспыхнул от стыда, и не потому, что у меня была горячая кровь или я легко смущался, но потому, что она хотела, чтобы я смутился.
И только Борсу из Эбе не было до меня никакого дела. Его презрение было полным и абсолютным. Его интересовали только дварфы; все остальное, включая мой стыд и мои страдания, нет.
— Ты можешь идти? — спросил Раджаат.
Принесший-Войну стоял на утоптанной грязной дороге. Позади него стояла великолепная башня с тонким шпилем, сверкающим настолько ярко, что он казался объятым пламенем, хотя все это буйство цветов было только отражением садящегося солнца на древнем белом артефакте. Тележка с Мироном из Йорама стояла по ту сторону дороги. Его обожженная, разорванная на клочки и свисавшая с тела кожа слабо колыхалась в такт его дыханию, а его всхипывания и стоны музыкой звучали в моих ушах.
Мои ноги вполне могли нести меня, но я не мог подойти к моему спасителю не пройдя мимо тележки. Я колебался, собирая все свое мужество. Галлард, Сильва и остальные засмеялись, они засмеялись надо мной, мой стыд вырос еще больше, но это не могло двинуть мои ноги. Тогда Раджаат небрежно махнул двумя пальцами, после чего моя сила и моя храбрость стали неважны: его воля и его желание привели меня к нему.
— Приготовьте пир, — сказал первый волшебник, приказывая этим великолепным мужчинам и женщинам так, как если бы они были рабами.
Он указал на тележку, на которой восстанавливал меня, на которой лежала груда хрустальных бокалов. Я увидел злые взгляды, немедленно умершие, и один за другим они потянулись к тележке. Все это время жесткий контроль Раджаата надо мной не ослабевал ни на йоту. Только в эпоху королей я научился завладевать сознаниями многих смертных одновременно и направлять их на самые разнообразные действия. Но даже сегодня я не в состоянии даже прочитать мысли других Доблестных Воинов, и тем более управлять их сознаниями, и никто из них не способен на это, а Раджаат мог держать нас всех… легко.
Раджаат обращался со мной очень бережно. Он развернул меня лицом к блестящей башне, подальше от тележки, в которой лежал Мирон из Йорама. Но недостаточно бережно, чтобы не дать мне сообразить, какая еда и какой напиток будут поданы на приближающемся пиру. Я попытался собраться и воспротивиться силе моего спасителя. Мое новое тело затрепетало, как дым на ветру.
Иди, псионически прорычал мне Раджаат. Твоя судьба ждет тебя.
Судьба. Дэш и Дорин. Джиккана и Балт. Мирон Сжигатель-Троллей и Хаману… Моя судьба была моим правосудием и моим выбором. Я повернулся ко второй тележке, поднял руку и слегка коснулся горы сожженого мяса. Она вздрогнула и завыла, старашный, душераздирающий крик, непохожий ни на что, что я слышал раньше. Пара тлеющих красных глаз появилась на в остальном совершенно невыразительном лице, и, вместе с ними, псионическая стена недовольства.
Кто ты? спросил я, с размаху ударяясь в эту стену, хотя мой настоящий вопрос был совсем другой: ты тот, кем я стану?
Раджжат вмешался прежде, чем я получил ответ на любой вопрос. Холодный серый туман окутал меня. Иди! скомандовал он во второй раз, его воля окутала и подавила мою, и я вошел в Серость.
Я оказался в небольшой комнате, внутри которой плясали яркие всплески света. Под моими голыми ногами был пол из ртутного стекла, холодный, как могильная плита в полночь. В шаге от меня ртуть переходила в спокойную, темную воду. Потолок надо мной походил на радугу из разноцветных кристаллов; шесть камней образовывали круг вокруг седьмого, который был воплощенной темнотой.
Пока я смотрел на него в молчаливом восторге и страхе, внутри каждого из кристаллов радужного кольца забились огоньки света, с каждым ударом они разрастались и наконец выплеснулись наружу, зубчатые колонны разнообразных цветов становились все сильнее, все ближе и ближе приближались к центру темного кристалла.
Смотри, сказал мне Раджаат, хотя я не нуждался в его словах, во все глаза смотря на чудо перед собой.
В то мгновение, когда зубчатые разноцветные колонны сошлись вместе, внутри темного кристалла появилось крошечное пятнышко, бесцветный шарик света. Он притянул к себе цветные колонны, сожрал их и начал распухать, становясь все больше и ярче, до тех пор, пока темный кристалл наполнился таким ярким светом, что мои смертные глаза не могли смотреть на него. Я закрыл глаза и отвернулся, погрузившись в мою собственную темноту. В то же мгновения я почувствовал слабый толчок. Когда я снова открыл глаза, комната была темна, а из камней высовывались маленьки цветные колонны, не больше моего пальца.
— Черная Линза в Хрустальном Зале Башни Пристан, — прошептал Раджаат мне на ухо. — Не спрашивай, что это такое, как это сделано и откуда взялось. На всех планах существования нет ничего, что сравнилось бы с этим. Войди в бассейн и стань моим величйшим созданием, моим последним Доблестным Воином.
Моя семья не выращивала своих сыновей дураками. Мне не надо было вопросов, чтобы понять, что дар, который мне предлагает Раджаат, был не тем, который мог бы принять любой разумный человек. Тем не менее я очень хорошо знал, что умру в то же мгновение, когда откажусь от него. Однажды я уже выбрал смерть, когда стоял лицом к лицу с Мироном Сжигателем-Троллей — и Раджаат восстановил меня. Моя жизнь стала слишком драгоценной, чтобы отказаться от нее вторично. Я победил свое упрямство, и мои ноги понесли меня вперед, по ртутному стеклу в непроницаемо-черную воду, а потоки света опять стали извергаться из кристаллов.
— Ты не пожелеешь об этом, — уверил меня Раджаат.
— Я уже…
Световые потоки собрались в копье ослепительно белого света, который ударил в мой череп и обжег меня как огнем. Я закричал от смертельной боли и стал медленно подниматься в воздух. Внезапно Черная Линза открылась. Внутри оказалось ниша, высотой с человека и такая широкая, что там можно было стоять с вытянутыми руками. Когда мое сердце оказалось в ее центре, она закрылась, опять превратившись в идеальную сферу. Магия Раджаата стала многоцветной сферой вокруг меня. Потом она превратилась в столб и подняла меня и Линзу в ночное небо.
Что я могу рассказть о моих последних мгновениях, как смертного человека? Моя плоть стала огнем, мои кости — красной раскаленной сталью на наковальне кузнеца. Даже мои воспоминания превратились в пламя и пепел. Потом, когда не осталось ничего, кроме света, Линза сфокусировалась внутрь. Вытащив материю из умирающего солнца, восходящих лун и бесчисленных звезд, горевших на безоблачном небе, Раджаат сотворил своего последнего Доблестного Воина.
Мое сердце билось в одном ритме с миром подо мной, бессмертие вливалось в мои вены и я радовался, я наслаждался им. Я увидел Атхас таким, каким я хотел, чтобы он стал: рай, на поверхности которого раскинулось изобилие цветущих полей и зеленых лесов, перемежаемых огромными горами со снежными шапками на вершинах могучих пиков, голубыми озерами и реками, связанными между собой, а над ним парило затейливое кружево облаков.
Никогда! Раджаат вдребезги разбил мое видение. Атхас не принадлежит нам. Мы нечистые, осквернители. Наши дети выростают из дерьма. Наша кровь испорчена. Не нам мечтать о будущем. Ты и твои товарищи должны вычистить мир, вернуть его к чистоте прошедших лет. Синий мир, который он уже показывал мне раньше — бесконечный океан Атхаса и плавающие города — вытеснил мое собственное видение. Я вгляделся пристальнее и увидел, что города населены халфлингами, что поразило меня до глубины душе, ведь как тогда, так и сейчас халфлинги не жили в городах. Долг человечества лежит на ваших плечах. И он должен быть выплачен, Ману из Дэша. Он должен быть выплачен полностью, без остатка.
Сети волшебства окружили меня, сомкнулись вокруг меня, оплелись удавкой на шее, приказывая принять свою судьбу, подчиниться Принесшему-Войну, уважить Раджаата, моего спасителя, моего создателя. И я уступил.
Великий, ваша воля — моя воля.
Сети исчезли, и Раджаат закончил создание своего последнего Доблестного Воина. Не мне говорить об ошибках и слабостях, которые, по менению Раджаата, существовали в моих товарищах, но я точно знал свою собственную слабость, знал еще до того, как Черная Линза вернулась обратно к радужное кольцо на потолке Хрустального Зала. Я принял дар первого волшебника, потому что у меня не было выбора, но ко мне прилипли осколки моего тогдашнего видения, картины многоцветного Атхаса, увиденной сыном фермера.
Так что семена моего восстания были уже посеяны, когда Черная Линза выплюнула меня. Не было и не могло быть никаких секретов от Раджаата, пока я лежал на ртутном стеклянном полу, а моя полупрозрачная, натянутая до предела кожа вбирала в себя свет бесчисненных звезд, равнодушно глядевших с полуночного неба.
— Встань.
Пальцы молний гладили меня, пока я собирался с духом, изображал нечто вроде глубокого поклона своему создателю, а затем медленно вставал. Затем я уставился на мои руки — черные кости. Я спросил себя самого, как это я вообще что-то вижу, но не осмелился коснуться своего лица.
— У тебя где-нибудь болит? Ты чувствуешь, что какая-то твоя важная часть отсутствует? — спросил Раджаат сзади.
— Нет, ничего не болит. И все на месте, — ответил я медленно, осознавая, что он знает мои ответы еще до того, как задавал вопросы. — Я… — Я искал слова чтобы описать неописуемое. — Я пустой… внутри пусто. Я голоден.
Я встретил взгляд несимметричных глаз Раджаата и увидел, что он ликует. Потом я вспомнил о пире. А когда перед моим внутренним взглядом возникла груда поджаренного мяса, в которую превтатился Йорам, мой голод только возрос. Взглянув вниз, я увидел пульсирующую пустоту под моими ребрами.
— Что вы сделали со мной? — очаянно и безрассудно крикнул я, хотя Раджаат должен был услышать мои мысли, которые я пытался спрятать за словами и, честно говоря, сейчас я сомневаюсь, что вообще пытался.
— Я сделал из тебя Доблестного Воина. Я ввел в тебя силу, которая позволит тебя очистить Атхас от всех нечистых. Ты больше не зависишь от фруктов этой земли или от мяса ее животных, тебе не надо их есть, чтобы насытиться. Дар, который я дал тебе, безмерен. Солнечный свет напитает тебя, но сытым и довольным ты будешь только тогда, когда будешь выполнять то, что тебе назначила судьба. Пока ты будешь чистить Атхас, смерть будет твоей амброзией. Начни с троллей. Начни с твоего предшественника. Спускайся вниз, Хаману Сжигатель-Троллей, и начни свой пир.
Мысленная тошнота обрушилась на меня. Я упал на колени и закрыл лицо руками, так делают люди, и я так делал, раньше. Но я больше не был человеком, смертным человеком, с любовью к жизни и страхом смерти. Оплакивая потерю самого себя, я невольно заставил слезы течь из дыр, в которых должны были быть глаза. Слезы были волшебством. Я сообразил, что бессмертие было не единственным даром, который мне дал Раджаат. Теперь я мог исполнять все свои прихоти, все свои желания. Раджаат дал мне магию, могучую магию. Но не успел я восхититься своей силой, как опять почувствовал голод.
И в то же самое мгновение я понял, что хочу не хлеб, а смерть. Только она могла напитать меня.
— Ненавидь меня, если тебе от этого будет легче, — сказал Раджаат, не переставая улыбаться. Он знал мои мысли не хуже меня. — Я не жду от тебя благодарностей… или добровольного подчинения.
Я тяжело сглотнул, не имело значения, что горло существовало только в моем воображении; воображение Доблестного Воина в каком-то смысле более материально, чем сама материя. Воображаемое действие, однако, подняло мой аппетит еще выше, голод стал просто нетерпим.
— Хочешь ты того или нет, но тебе придется исполнять свое предназначение. — Раджаат усмехнулся, показав все свои кошмарные зубы. — Будь верным Доблестным Воином, и будешь править миром, когда он очистится. Но только попробуй не обращать внимания на свой голод, Хаману, и сойдешь с ума. Но знай, ты не просто сойдешь с ума, ты начнешь пожирать жизни всех подряд и насытишься только тогда, когда выпьешь жизнь из любой живой твари под этим кровавым солнцем. Впрочем, твой выбор не слишком волнует меня. Ты будешь служить, и Атхас очиститься от всех уродов, которые сейчас бродят по его просторам. Ты сожрешь все эти исковерканные и кошмарные существа.
И опять я уступил. Сила ума против силы ума, воля против воли, я был не чета своему создателю. Битва с ним сделала бы меня безумным животным, выпивающим жизнь там, где я бы нашел ее. Он сказал мне чистую правду обо мне. С каждым ударом сердца мой голод становился все больше и больше, а сила терпеть его все меньше и меньше.
Раджаат отступил в сторону, освобождая дорогу к открытой двери, за которой виднелась спиральная лестница, уходившая вниз. Обдумав ситуацию тем, что еще оставалось здорового в моем сознании, я решил, что мне надо спуститься вниз, где Мирон из Йорама ждет меня, прежде, чем я стану полностью безумным.
— Твой собственный выбор, — напомнил мне Раджаат, когда я прошел мимо него.
Действительно, мой выбор, и я спускался как можно медленнее, проверяя пределы сумашествия на каждом шагу. Прежде чем я побывал в Хрустальном Зале, я знал о волшебстве только одно: заклинания пишут четкими непонятными буквами на листах самого лучшего пергамента. К тому времени, когда моя правая пятка ударилась об землю, я уже был мастер-маг, великий волшебник. Я узнал смертельный танец жизни и магии: мой голод мог выкачать жизнь как из животного так и из растения. Мой голод убивал.
Я мог — и был должен — научиться использовать свой голод как горючее для могучей магии, но он будет убивать всегда, и не имеет значения, чему я еще научусь.
Начиная с бойни в Дэше, я стал совершенно безразличным к убийству. Так что моя совесть не сказал мне ничего, когда я посмотрел на повозку, на которой лежал Мирон из Йорама. Я мог убить троллей, всех троллей на Атхасе, потому что не было другого выхода. Я мог убить Сжигателя-Троллей, потому что должен был заменить его. Я мог убить кого угодно — я мог убить вообще всех, если не буду осторожен.
Стань осторожным, Хаману. Стань очень осторожным. Стань таким, каким ты хочешь. Это не проблема. Твое предназначение — использовать дар, который я дал тебе.
Предупреждение и обещание вместе. Я знал это уже тогда, хотя был уверен, что Принесший-Войну имеет в виду только то, что я должен очистить Атхас от троллей. Я думал — все Доблестные Воины думали — что Раджаат имеет в виду вернуть Атхас нам, людям, когда войны будут окончены. Мы все ошибались; я ошибался. Мне потребовалось много лет чтобы понять, что Раджаат ненавидел людей больше, чем любую другую разумную расу, потому что человечество воплощало в себе хаос и преобразование. Именно люди появились первыми, когда началось Возрождение. Доблестные Воины Раджаата должны были очистить Атхас от того, что он считал неестественными созданиями природы — включая и само человечество — а затем вернуть его одной единственной расе, которую он считал естественной и чистой от пороков: халфлингам.
Я никогда полностью не понимал, для чего Принесшему-Войну вообще понадобились Доблестные Воины. Его сила была много больше, чем у каждого из нас. Он один мог бы вычистить Атхас от любой расы, от полудня до заката. В течении тринадцати веков я задаю себе этот вопрос. У меня нет хорошего ответа. Быть может ответ связан с самими халфлингами. Халфлинги сами уничтожили синий мир, который Раджаат собирался восстановить, и когда он исчез — прежде, чем они отступили в свои священные леса, где зажили примитивний лесной жизнью — халфлинги сотворили людей. Но какие именно халфлинги?
Безусловно был какой-то раскол, какое-то восстание среди них, какие-то внутренние разногласия, неизвестные нам. Возможно восставшие халфлинги сотворили Раджаата, возможно он нашел их. Как бы то ни было, Раджаат имел халфлингов в союзниках еще до того, как он сотворил первого Доблестного Воина. И он и его союзники сошлись на почве ненависти, они растили и лелеяли свою ненависть к тому зеленому миру, которым в то время был Атхас. Ненависть сделала их безумными; ненависть сделала их хитрыми и изобретательными, и так как Раджаат был основременно и безумным и изобретательным, он сотворил Доблестных Воинов, чтобы они выполнили кровавую работу по очистке Атхаса от рас, которых он ненавидел, а его собственные руки остались бы незапятнанными.
Это не слишком хорошее объяснение, но вообще не может быть хороших объяснений того, почему Раджаат сделал то, что сделал.
Я сам, когда стоял перед белой башней, уже был безумным — от голода. Когда я вцепился руками в трепещущую грудь Мирона из Йорама, я уже знал, что буду жалеть об этом, но когда жизненная сущность Сжигателя-Троллей стала перетекать в меня, я забыл обо всем. Это не извинение; это голая правда.
Горящие страданием глаза Йорама опять появились, когда я коснулся его, злое и яркое солнце зажглось в фиолетовом полумраке. Хотя он был жестоко покалечен, он все еще был могучим волшебником, и он узнал меня, предателя, сына фермера.
Ману. Мое имя пришло ко мне порывом ветра из нижнего мира, ударило меня горячим и острым пеплом. Убей меня, если осмелишься. Я проклинаю тебя моим умирающим дыханием.
Он напрягся, пытаясь порвать тонкие серебряные цепи, которые приковывали его шиколотки, запястья и шею к тележке.
Вспомнив мой неудачный день на равнинах и пламя, ударившее в меня из глаз, я разорвал цепи на этом жирном куске мяса. По окружающей нас равнине и по дикой жизни вокруг Башни Пристин прошло дыхание смерти — первый Сжигатель-Троллей собирал силу для своего заклинания. Но он чересчур напрягся и это заняло у него слишком много времени. Я прижал свои губы к его и выпил его пустую жизнь одним вздохом.
Ману, мое человеческое имя, вот что успел сказать он, завершая свое проклятие.
Груда копченого мяса провалилась в себя, превратилась в пепел и золу, а вечерний ветер быстро развеял ее. Я стоял прямо, как столб, сытый и с ясной головой. Слои сущности Мирона мягко обволокли мои кости. Мои ребра расширились, когда умер старый Сжигатель-Троллей; теперь они соприкасались, когда я выдыхал. Я почувствовал, как теплый поток жизни побежал по задней части моей правой руки, покрытой темножелтой кожей. Часть меня опять стала человеком.
Вы только посмотрите на него!
В мое сердце проникли мысли Доблестных Воинов. Они окружили кольцом меня и уже-пустую тележку. Их ауры сияли ярче, чем Рал или Гутей на восточном горизонте. Никто из них не казался благосклонным ко мне; никто из них и не был благосклонным ко мне.
Один из них, кричаще одетый парень с быстрыми и хитрыми глазами вора-джозхала, вытащил нож, черный, смертельный и поблескивающий не хуже моего скелета. Я расставил ноги пошире и приготовился к битве, как когда-то — совсем недавно! — делал Мирон из Йорама. Снаружи, за кругом Доблестных Воинов, жизнь вздохнула и отдала свою сущность волшебникам.
— Не будь дураком!
Это предупреждение мог сказать только Борс из Эбе; я помнил его имя по моим дням как смертного в армии Сжигателя-Троллей, и узнал его голос, который слышал утром, несколько часов назад. Я повернулся на голос, когда невидимая стена отрезала меня от остальных. Палач-Дварфов протянул руку, но не предлагая дружбу, а показывая, что именно он управляет стеной. Это был человек могучего сложения, его мышцы были не меньше, чем у тех, на кого он охотился, и он был высок, очень высок. У него были бледные, заплетенные в длинные косы волосы и горящие синим огнем глаза.
— Мы не должны сражаться друг с другом, не должны ранить друг друга — по меньшей мере здесь, — объяснил Борс так, чтобы я не усомнился, что он безусловно нападет на меня где сможет и когда сможет. — Оденься, парень, и покончим с этим. Я никогда не буду пить кровь в компании с голым батраком.
— Голым батраком-? — начал было я, позволив моему гневу вспыхнуть ясным пламенем.
В ответ стена запылала багровым светом, поглотив мое глупое заклинание. Раздалось громкое хихиканье, и тут я сообразил: с субстанцией Мирона, прилипшей к моим костям, я был далеко не красавцем. Стыдясь себя, я вообразил, что одет в серый домотканный плащ, и просто охнул от изумления, когда он появился и закрыл мои кости.
Но я учился быстро, очень быстро. Сорвав грубый плащ с плеч, я швырнул его в ночной воздух и превратил в блестящий и украшенный позолотой. Потом я надел на себя иллюзию, в первый раз в своей жизни, и стал Хаману Сжигателем-Троллей еще до того, как раскошный плащ опять лег на мои плечи. Я стал высок, не ниже Борса, но гибок и грациозен как Ману, и у меня теперь были длинные черные волосы Дорин, а на Борса глядели ее спокойные серые глаза.
— А теперь ты будешь пить кровь вместе со мной? — бросил я ему вызов, совершенно не представляя, что имеется в виду.
Но прежде, чем Борс смог ответить, невидимая стена вокруг меня опять полыхнула красным, как если бы поглотила гнев другого Доблестного Воина. Не мой и не Борса, хотя ему пришлось быстро защищаться от заклинаний, носившихся внутри круга. Стоя в центре, невредимый, я увидел, что Доблестные Воины презирают меня ничуть не больше, чем каждый из них презирает другого, и мне нечего их бояться.
Страх — это кое-что такое, что мы оставили Раджаату, нашему создателю, именно его рука резко ударила по нам всем, разбросав грозные и могущественные заклинания, уничтожив стену Борса, погасив каждую ауру и сорвав с нас все иллюзии. Мы все стояли перед ним, совершенно голые, и хотя никто из нас не был так уродлив, как сам Принесший-Войну, наша зачарованная плоть была куда страшнее нашего человеческого облика.
Наполните их! Разделите их между собой! Выпейте их!
Команды Раджаата не были просто словами; это были требующие действия образы, которые сжигали мое сознание. Две женщины и мужчина упали на колени. Четвертый Доблестный Воин изрыгнул желчь; на земле образовался небольшой кратер. Я, по меньшей мере, удержался на ногах, и увидел хрустальные бокалы, взлетавшие с тележки, на которой они только-что появились. Я схватил мой прежде, чем он ударил меня; некоторые другие не были так быстры или счастливы.
Кричаще одетый парень с глазами джозхала и ножом в руке мог бы оказаться очень полезен. Я еще не умел совершенно точно различать, где иллюзия, а где реальность, и, естественно, был слишком горд, чтобы задавать вопросы. Женщина с пламенными волосами кусала себе язык до тех пор, пока кровь не потекла струей, но это слишком напоминало мне те моменты, когда Раджаат лечил меня. Я подсмотрел, как Борс ногтем перерезал себе вену на запястье и сделал то же самое.
Когда наши бокалы были наполнены и дымились, Раджаат приказал нам обменяться ими. Я поискал глазами Палача-Дварфов, но он ускользнул от меня, и мне пришлось удовлетвориться жирной кровью джозхала. Сач Арала, Меч Кобольдов: его имя и еще много чего о нем проникло в мое сознание, и, наверное, мое имя в его. Очищающая война Аралы против непокорных, озорных кобольдов закончилась буквально через пару лет после того, как началась война Сжигателя-Троллей против троллей. Свои пустые дни он коротал в тени Раджаата.
Мысленно он сказал мне, что будет моим другом и научит меня всему, что должен знать Доблестный Воин.
Когда я слышал ложь, мне не нужна была никакая магия, чтобы распознать ее.
Мой второй бокал я взял из рук женщины с пламенными волосами, но выпил кровь совсем другого Доблестного Воина: его имя было Пеннарин и он вел войну на юге с племенами существ с длинными ногами и большими глазами. Он был король государства людей — во всяком случае он так себя называл — пока Раджаат не пригласил его постоять под Черной Линзой. А его мнение о фермерах и детях фермеров лучше было не произносить вслух.
Кровь другого забытого короля, Галларда Погибели-Гномов, была в третьем кубке. С каждым новым кубком я становился все больше и больше неуверенным в себе, так как один за другим Доблестные Воины Раджаата пытались окутать меня ложью и паутиной иллюзии.
Я вспомнил о Борсе только тогда, когда выпил восьмой кубок. Дварфы зарезали первого Доблестного Воина, которого Раджаат отправил против них. Он, как и я, был создан, чтобы заменить кого-то другого. В его кубке было прошлое того, уже забытого, человека вместе с его собственным. Первый Палач-Дварфов был королем и наследником королей, но Борс был самым обычным человеком до того, как Раджаат вытащил его с поля боя.
Когда-то он стоял, как и я, в кольце насмехающихся над ним бессмертных. Я понял, что пока я докажу всем, что со мной надо считаться, он не собирается помогать мне и даже будет мешать, если сможет, но если я уничтожу троллей, то он изменит свое отношение ко мне.
Мой собственный кубок вернулся ко мне последним. Он был пуст только наполовину; нельзя было сказать, что мои новые товарищи слишком прожорливы. Я выпил густой черный напиток — зловонный яд — одним глотком. Видения, которые возникли в моем сознании, оказались воспоминаниями о сожженном и разграбленном Дэше. Я размахнулся и со всей силы запустил своим бокалом в землю; он разлетелся на мелкие куски.
— Да здраствует новый Доблестный Воин, — сказал Галлард и поднял свой бокал повыше, прежде чем швырнуть его на землю.
Остальные, даже Дрегош, который чуть не напал на меня, когда я бросил вызов Борсу, повторили мой жест. На какое-то мгновение между нами было полное согласие, даже гармония, мы все не доверяли и ненавидели нашего создателя, который глядел на нас своими разными глазами из ворот Белой Башни.
Потом Албеорн сказал, как бы проснувшись, — Что мы делаем здесь? У меня есть война, которую надо выиграть.
Принесший-Войну кивнул, и наше единение испарилось, как будто его и не было. Убийца-Эльфов исчез в ночи, за ним другие Доблестные Воины, остались только я, Сач Арала и, к моему удивлению, Борс.
— Я пойду с тобой, — предложил Арала. — Тебе нужен кто-нибудь, кто покажет тебе дорогу до армии.
— Не слушай его, — посоветовал Борс. — Не доверяй никому из тех, кто стоял под Черной Линзой. Ему, — Борс ткнул пальцем в направлении Меча-Кобольдов, Сач отшатнулся. — Мне. Это единственный совет, который я даю тебе и единственный, который тебе нужен. Все остальное ты узнаешь из памяти Мирона из Йорама. А до того, чего там нет, дойдешь своим умом.
Он прочертил черту сверху вниз по воздуху перед собой, как он сделал это со своим запястьем несколькими минутами раньше. Но вместо крови, хлынувшей в бокал, из разреза стал сочиться серебристый туман, сверкавший в ярком лунном свете. Руки Борса исчезли, когда он медленно сунул их в туман, потом туман стал гуще, окружил всю его фигуру и Борс исчез.
Раджаат и Арала оба глядели на меня, пока я повторял движения Борса. Мысленно я даже содрогнулся, подумав о том, что стало бы со мной — и с Атхасом — если бы холодные усики другого мира не обвились вокруг моих запястий.
— Ты будешь служить, — это были последние слова Принесшего-Войну, когда я вошел в Серость.
Только дурак идет по жизни и никогда не чувствует запах страха за своими плечами. Я не был дураком и боялся много раз, но никогда я был в такой панике, когда нижний мир в первый раз сомкнулся вокруг меня.
В Невидимой Реальности нет ни востока или запада, верха или низа, прошлого или будущего. Если смертный потеряет там дорогу, он может искать ее всю оставшуюся жизнь, но все равно не найдет; бессмертный, конечно, проживет подольше.
Меня медленно несло по нижнему миру ровно столько времени, сколько мне понадобилось чтобы пробежаться по воспоминаниям Мирона, впитать в себя все, что он знал о Серости и о полосатом серебряном шатре в центре его армии. Когда коричневые и золотые полосы засверкали в моем сознании не слабее самой жизни, я остановил их перед моим мысленным взором и вышел из Серости во внешний мир.
В самый последний момент я вспомнил, что совершенно гол и превратил себя в воина, которым Мирон из Йорама никогда не был.
Рабы сладко спали в уголках моего шатра, пока мои офицеры играли на золото и драгоценности на моем столе.
— Хватит! — рявкнул я, достаточно громко, чтобы разбудить как моих рабов, так и недавно умерших.
Я ударил кулаком по столу, собираясь разбить кости, но вместо этого редкий и тщательно выделанный деревянный стол разлетелся на куски. Вокруг меня повис запах страха; я открыл для себя, что он не так питателен, как смерть, но помогает избавиться от голода и безумия.
— Идите к своим воинам, — сказал я грудам человеческого мяса, дрожавшим у моих ног. — Приготовьтесь свернуть лагерь. Когда кровавое солнце опять встанет, эта армия — моя армия — пойдет сражаться с троллями и будет сражаться до тех пор, пока на Атхасе не останется ни одного тролля.
Потом был мятеж, не этой ночью, конечно, но очень и очень скоро. Офицеры Мирона были ленивы, воевать не хотели, зато хотели жить в праздности и роскоши. Впрочем, те, кто умел приспособляться к любым ситуациям, привыкли и к моим методам. Тех, кто не сумел, я истребил, самыми разными способами. В мои первые несколько лет как Сжигателя-Троллей, я не столько воевал с троллями, сколько усмирял мятежи. Я много чего узнал о том, как надо сражаться и как надо руководить, и воспоминания Мирона из Йорама совсем не помогали мне в этом.
Множество раз я вспоминал о Борсе из Эбе, но простая правда состояла в том, что Раджаат держал нас, Доблестных Воинов, отдельно друг от друга, на всякий случай… Я послал несколько разведчиков на поиски Палача-Дварфов… и потерял не меньше дюжины хороших воинов. Я мог бы поискать его сам, но я не мог оставить армию надолго, а хотя Серость может доставить тебя туда, куда захочешь, не слишком умно просить ее доставить тебя туда, где ты никогда не был.
Да и Борс уже дал мне единственный совет, в котором я нуждался: все то, что я не смогу извлечь из воспоминаний Мирона, я должен выучить сам.
Через пять лет после того, как я вышел из ворот башни Раджаата, моя армия стала только маленькой частью той, какой она была при Мироне. Мы ехали на спинах канков туда, куда нас вел наш враг. В те дни мое превращение было еще не так заметно, и я сам скакал на них от восхода до заката. Каждый мужчина и каждая женщина под моим желтым флагом был опытным воином, ветераном, закаленным в бою, горящим жаждой мести и умеющим выживать в любой ситуации. И на шее каждого из них висел желтый медальон с моим портретом. И пока я вел армию Сжигателя-Тролеей, не было слышно ни одной жалобы или мольбы моих воинов.
Раджаат сделал меня бессмертным Доблестным Воином с вечным чувством голода, который могла утолить, временно, только смерть троллей. Черная Линза Раджаата дала мне необъяснимую способность передавать магию любому мужчине или женщине, носившему мой медальон. Не то высасывающее-жизнь волшебство, в котором, впрочем, я тоже был мастером, но чистую магию, вроде той, которую используют друиды и жрецы элементарных стихий. Мирон знал о силе Черной Линзы, но никогда не использовал ее, иначе ни один тролль не сбежал бы от него.
К моему неудовольствию, я осознал причины странных поступков моего предшественника. Раджаат сказал величайшую ложь в мире, когда заявил, что боль принадлежит к моему прошлому. Без постоянной смерти — в частности смерти троллей — моя кожа начинала сваливаться с моих костей. У меня начинались ужасные боли от пустоты внути, а мои бессмертные кости терлись одна о другую. Можно сказать, не слишком преувеличивая, что мои боль была намного хуже чем в те мгновения, когда Мирон сжигал меня своими огнеными глазами.
Пока я сам не убил в первый раз тролля своими огненными глазами, я не понимал настоящую сущность колдовства Раджаата. После второго раза я так возненавидел себя, что попытался — безуспешно — убить сам себя. Третьего раза не было. Я научился жить без того грязного счастья, которое дают тебе огненные глаза. Страх и самая обыкновенная смерть были вполне достаточны, чтобы держать в узде как голод, так и безумие, и когда я понял, что бессмертние не иллюзия, которую я могу отбросить в сторону одним желанием, сама боль потеряла всякое значение.
Я давал моим ветеранам вся магию и все заклинания, которые они хотели, думая, что тем самым я мешаю планам Раджаата на меня и на Атхас. Только на седьмой год моей компании против троллей Виндривера я сообразил, что Раджаат предвидел мою двуличность. Слово за словом, заклинание за заклинанием, мое тело преобразовывалось всякий раз, когда сила Черной Линзы переходила через меня к моим воинам.
Однажды вечером, после самого обычного заклинания, которое гарантировало чистоту нашей питьевой воды, моя правая ладонь окостенела, а за ней и вся рука. Я уехал из армии, объявив воинам, что нуждаюсь в тишине и одиночестве, чтобы составить план наших новых атак. Правда была проще: в течении семи лет я не снимал иллюзию и не глядел на собственные черные кости, так что я хотел быть один, когда я это сделаю. То, что я увидел в золотом свете Гутея потрясло и устрашило меня. Я стал выше и тяжелее, чем был раньше. Моя грудная клетка сузилась, зато грудина утолщилась и стала гребнем, очень похожим на тот, который был под крыльями нелетающих птиц эрдлу.
Костяные шпоры торчали над моими щиколотками, а блестящий черный коготь высунулся из нового сустава на мизинце правой руки.
Пока я в ужасе глядел на то, чем стала моя правая рука — а чем она еще станет! — я услышал донесшийся через Серость безумный смех Принесшего-Войну. С тех пор моя воины, как мужчины так и женщины, сражались используя свои мозги и свое оружие везде, где только можно, прибегая к магии и силе Черной Линзы только тогда, когда ничего другое не могло принести нам победу.
Следующие десять лет я гонялся за троллями Виндривера, постоянно тревожа его армию молниеносными рейдами. Никакая, самая надежная дыра не могла спаси их от моих копейщиков и стрелков из лука. Раньше я провел только один ночной набег на армию троллей, теперь я совершил тысячи таких набегов, и каждый раз за мной шли мои ветераны. Иногда мы убивали одного тролля, иногда двух, главным образом пробивая им череп или пронзая сердце. Но чаще всего мы сжигали их повозки с едой и ждали, пока они не умрут от голода. И мы заставляли их двигаться, у них не было ни минуты покоя.
За все эти долгие десять лет мы никогда не ночевали дважды на одном месте. Виндривер по-прежнему держал своих троллей разбитыми на много мелких отрядов, и мы не могли преследовать их всех сразу, хотя и старались. И время, безжалостное время, было на нашей стороне. Человеческие деревни продолжали посылать свою обычную десятину едой и оружием на годовой смотр. Никогда не было и недостатка добровольцев, пополнявших наши ряды.
У троллей таких ресурсов не было. Они не умели выращивать еду и не могли честно приобрести ее. Все, что они ели, было украдено с человеческий полей и чердаков. А потеря любого воина была практически невосполнима. Они никогда не были плодовитой расой, а с тех пор, как их женщины стали воинами и налетчиками, у них почти не осталось времени для вынашивания и выращивания детей.
Как хроники королей, так и мифы о них наполнены правителями, которые выигрывали свои мелкие и крупные войны на поле битвы, разбивая в пух и прах вражеское войско — возможно, так оно и было. Но Очистительная Война Раджаата никогда не была материалом, из которого можно связать великое историческое полотно. Мы не сражались за земли, сокровища или за такие непонятные штуки как честь и слава. Мы сражались за то, чтобы истребить тринадцать других рас, чьим единственным преступлением было само существование их на Атхасе. Пока оставались хотя бы один мужчина и одна женщина этих Возрожденых рас — и следовательно оствалась надежда на восстановление расы — Доблестный Воин не имел права праздновать победу. Пока геноцид оставался моей судьбой, никакие, даже самые тщательно подготовленные, сражения между вооруженными бойцами не могли решить ничего.
Там, где я не мог сражаться сам, я возложил войну на плечи зрелых мужчин, поддерживающих традиции человечества, и на плечи молодых ребят, полных надежды и отваги. Моя война не прерывалась ни на минуту; моя победа была неизбежной.
Явное и целеустремленное стремление к уничтожению почти всегда побеждает любые попытки выживания, и тем более любые надежды на возрождение расы.
Я думаю, ты простишь меня, если я не буду углубляться в эти годы. Достаточно только сказать, что тролли исчезли с Атхаса, абсолютно забыты и я принимаю на себя вину за это.
Конец моей войны — конец троллей — пришелся на тридцать первый год 177-ого столетия Королей, который очень подходяще назывался Годом Иловой Мести. Мы загнали последних троллей — около пятисот мужчин и женщин плюс горстка оставшихся в живых детей — далеко на северо-восток, за смутные границы Центральных Земель, в земли, которые были чужды как для нас, так и для них.
Тролли надеялись, однако, что если они будут очень долго и очень далеко бежать, я прекращу преследование. Напрасная надежда! Даже если бы они отправились на край мира, я шел бы за ними по пятам, пока они не бросились бы вниз с этого самого края. И действительно, примерно так оно и случилось.
То ли Виндривер что-то не рассчитал, то ли он подсознательно хотел встретить судьбу в выбранное им — не мной — время, но он завел свой народ на каменный полуостров, длинной косой вдававшийся в темную и грозную воду — сейчас мы называем его Иловым Морем. Там, под зловещим, цвета песка небом, тролли в последний раз натянули на свои барабаны выдубленную человеческую кожу.
— Мы будем сражаться? — спросил меня мой адъютант, когда нашел меня на холмах материка, возвышавшихся над позицией Виндривера.
Согласно моим подсчетам я меня было примерно три ветерана на каждого тролля, и любой дурак сказал бы вам, что этого совершенно недостаточно для победы, если придется атаковать хорошо укрепленную позицию через узкий перешеек.
Проще и умнее было сидеть в нашем материковом лагере, пока голод и болезни не проредят их ряды. Самое простое и самое умное решение — подождать, пока наши невидимые союзники не выиграют битву вместо нас. Но эти проклятые барабаны били почти не переставая, собирая пошлину с морали моей армии, и было ясно, что ни болезнь ни голод не сохранят надолго линию между двумя ненавидящими друг друга лагерями. Я не мог угадать, как долго продержиться мое небольшое преимущество в числе, или когда окажется, что нас уже меньше и придется отступать.
— Мы будем сражаться, — решил я. — Передай всем мое слово: все или ничего, на рассвете.
С точки зрения тактики в этой местности у меня не было большого выбора: волна за волной мои ветераны накатывались на позиции троллей через горлышко полуострова, пока я стоял на холмах и защищал их от шаманов троллей и их метающей камни магии. Когда моей армии удалось перейти горлышко, я спустился с холмов и сам вступил в битву.
Незадолго до этого я увидел животное, которое навсегда стало моей эмблемой: рыжевато-коричневый лев с густой черной гривой, белыми клыками и смертельными когтями. Так что я сделал себе новую личину: наполовину человек, наполовину лев. Мой меч был из драгоценной стали, длиной с мою ногу и заточен до смертельной остроты. Я еще придал ему золотой блеск, чтобы он соответствовал моей львиной шкуре. Мои собственные люди упали на колени, когда увидели меня; а проклятые барабаны троллей сбились с ритма.
Там, где я проходил, земля становилась красной, красной как смерть. Но даже и так, это была долгая битва, тяжелая битва, и наша победа стала ясна только после полудня, ближе к вечеру, когда я повел всех оставшихся в живых ветеранов на их укрепление, в котором засели их жрецы и барабанщики. Без них тролли запаниковали и потеряли храбрость. Теперь оставалось только самое простое: загнать их всех в один угол и перерезать, или сбросить в воду с утеса на краю полуострова.
Я искал самого Виндривера — его топор против моего меча. Впрочем, соревнования не получилось. К тому времени, когда я нашел его, он был весь покрыт кровоточащими ранами. Его белые волосы стали красными от раны в череп, которая уже давно убила бы человека. Один глаз заплыл и ничего не видел. Одна рука бесполезно висела, вторая задрожала, когда он поднял свой топор, приветствуя меня. Я отбросил свой сверкающий меч в сторону.
— Кончай с этим, — сказал он. — Никто не сдастся. Не тебе. И не этим хилым людишкам.
Я балансировал на краю окончательной победы. Я пришел — наконец-то — к концу моего предназначения, моей судьбы: Виндривер и его немногие оставшиеся в живых, искалеченные товарищи были последними троллями на Атхасе. Когда они умрут, других не будет, никогда. Мой голод, голод Доблестного Воина, будет грызть мой пустой желудок все дни, начиная со смерти последнего тролля. Мысль о душе Виндривера, корчащейся в моей хватке, вечно, заранее грела мою душу блаженством.
И именно из-за этого я не мог сделать это.
— Убирайтесь отсюда и живите дальше, своей жизнью, — предложил я ему. — Мужчины и женщины отдельно, пока ваша раса не придет к естественному концу.
Если бы я был на месте старого тролля и услышал такое предложение, я плюнул бы в свой собственный глаз, и именно это он и сделал. И тем не менее я не мог убить его; я не мог убить последнего тролля сам и не мог дать сделать это любому из моих воинов. Тогда я предложил им покончить с собой, прыгнув с утеса, обрывавшегося прямо в море. Виндривер молчаливо стоял позади меня. Он не был волшебником, но он был первым существом, из тех, которых я встречал, который умел скрывать свои мысли под пустым наружным спокойствием.
Поодиночке и парами, иногда поддерживая друг за друга — но без единого стона или вопля — тролли прыгали с утеса. По своей природе тролли не могут, даже если захотят, плавать. Те, кто не умер, ударившись о торчащие из моря камни, быстро утонули в темной глубине. С закрытыми глазами я считал их смерти, всего сорок семь. Сорок восемь, когда Виндривер отошел от меня.
Он с самого начала собирался быть последним и знал — я полагаю — что я не дам ему уйти так же просто, как остальным. И я вообще не дал ему уйти. Я был наготове, когда прямо перед прыжком он выхватил нож и перерезал большие вены на горле. Я поймал его убегающую душу, заключил ее в гладкий серый булыжник, и сказал то, что я повторяю сейчас, тринадцать веков спустя: Я не виноват в том, что принес смерть целой расе. Во всем виноват Раджаат с его сумашествием. Но я был неправ, и ответственность за геноцид пало именно на меня, Хаману.
Одиннадцатая Глава
…Ваше Всеведение…
Потом был запах муки из хамали, запах свеже-испеченного хлеба, теплого и свежего, только что из печи, наполненного светом солнца и счастьем. Семья — Отец и Мать, братья и сестры, дедушки и бабушки, тетки, дяди, племянники, двоюродные сестры и братья. Община — Дэш и Дорин. Любовь и будущее, связанные вместе, навсегда.
…Ваше Всеведение…
Грубый кусок хлеба, обсыпанный песком, плохо выпеченный привыкшими к войне руками на закопченых камнях разрушенного камина. Пустой живот и пустые победы под грязным небом. Небом, на котором нет ни лун ни звезд, чтобы прорвать темноту. Освещенные огнем костра грязные лица, отчаянно надеющиеся на будущее.
…Ваше Всеведение…
Хлеб с золотистой корочкой, плавающий в полумраке. Сознание, плавающее в комнате без окон, загроможденной ящиками и свертками. Комната битком набита лицами. Лица с открытыми глазами, открытыми ртами и закрытыми сознаниями. Странные лица: некоторые мужчины, некоторые нет, некоторые люди, некоторые нет. Все ждут; ни одно из них не знакомо.
В воздухе плавает беспокойство. Вопросы. Слова, которые не имеют значения. Голоса, которые не привязаны к открытым ртам.
— Хаману.
Удар тьмы, когда глаза мигнули. Его глаза. Его. Хаману.
Один голос, который прорезался через суматоху.
Один голос, который прорезался через суматоху воспоминаний. Одно лицо над толпой. Лицо не похожее на остальных, обрисованное серебром в затененной комнате. И это лицо было, наконец, знакомым.
— Виндривер.
Звук своего собственного голоса оказался ключом, который высвободил Хаману из зловонного болота воспоминаний. Знание о себе самом быстро восстановило порядок в его сознании. Он мигнул, заставил себя не увидеть ждавшие лица, собрал свои мысли, создал себе некоторое подобие уединения, потом взглянул вниз и увидел руку — свою руку — которая мало чем отличалась от кости обтянутой черной плотью.
Потом к нему пришла мысль: Когда это случилось? Прежде, чем ответ на этот вопрос возник в его сознании, его место занял другой вопрос: Неужели после стольких веков борьбы я в конце-концов поддался безумию Раджаата?
Тот простой факт, что он должен задавать это вопрос, заставлял подозревать каким будет ответ.
Хаману пожал плечами и закрыл глаза.
— Отойди от края пропасти, Хаману, — посоветовал свистящий шепот Виндривера.
Какая пропасть? Разве он не сидит в наполненной лицами комнате?
Продуваемый ветрами полуостров, на котором умер последний тролль, вновь появился перед глазами Хаману, куда более реальный, чем эта комната и все в ней, не считая Виндривера.
— Еда, Ваше Всезнание. Вы не ели — и не шевелились — три дня и три ночи.
Хаману узнал круглое, безволосое и очень встревоженне лицо. С холодящим душу страхом он сообразил, что не узнал голос Энвера, когда услышал его в первый раз, и не выхватил лицо Энвера из окружавшей его толпы. Страх превратился в лед, когда он понял, что на самом деле не двигался три дня и три ночи. Его суставы закостенели, потеряли гибкость и стали твердыми как черные кости, которые они соединяли.
Он разогнул пальцы, сустав за суставом, чтобы выпустить металлическое перо. С громким стуком оно упало на стол и покатилось по лежавшим в беспорядке листам пергамента, которые были исписаны его неистовым стремительным почерком. Он прочитал последние написанные им слова: ответственность за геноцид пала именно на меня, Хаману.
Так много вспоминать — переживать заново — прошлое совсем не здорово.
— Это хлеб Нуари сына Нуари: ваш любимый, с тех пор, как он начал выпекать его для вас. Если не этот хлеб, то что тогда, Ваше Всеведение? Вы, наверняка, умираете от голода.
Да, он действительно умирал от голода, но утолить его не мог ни свежевыпеченный хлеб, ни любое другое блюдо, которое мог себе представить Энвер. Виндривер знал, и Виндривер исчез. Павек мог бы догадаться, но знакомого лица со шрамом не было в толпе. Хаману потянулся к караваю, предложенному Энвером. Он оторвал огромный кусок своими острыми зубами, как будто тот был панацеей от всех его сомнений. Потом он поискал сознание друида-темплара и обнаружил его в городском сквере.
Жители квартала позвали Павека. Под лучами утреннего солнца он учил их искусству боя: взмах и защита, удар и блок, отбросить руку, выпад, отступить. Он вооружил их костяным и деревянным оружием: планками и шестами, отодранными от бочонков или содранными с крыш их собственных домов, но он учил их так, как если бы они и их презренное оружие могло хоть как-то пригодиться в будущий битве.
— Если колесо судьбы станет квадратным и стены будут проломлены, — сказал Павек не переставая показывать движения, — каждый житель Урика станет воином. Заставим врага кровью заплатить за каждый шаг. Пусть они карабкаются на пирамиды из их собственных трупов. Мы будем сражаться за Урик, за наш город, за наши дома, семьи и за нас самих.
Те же самые слова Павек использовал, без сомнения, когда вдохновлял фермеров Квирайта перед боем с наемниками Экриссара. Как и фермеры, Урикиты с воодушевлением слушали его. Они тренировались до соленого пота, и вовсе не из-за горсточки темпларов гражданского бюро, стоявших по краям, блокируя улицы. Темплары не глядели на жителей; они сами тренировались, повторяя движения Павека. Житель и темплар вместе делали то, что говорил им Павек, потому что Павек был честный человек, человек, который всегда говорил правду, человек, который готов был отдать за город жизнь и который неоднократно рисковал ей. Человек, который знал — Хаману чувствовал это знание в сознании Павека — что его король не шевелится уже три дня.
Павек был не единственным высшим темпларом среди обыкновенных жителей города. Похожие сцены разыгрывались как в других городских скверах, так и на не умолкающих весь день рыночных площадях, где грань, разделяющая темпларов и жителей, всегда была не так заметна, а жидкие стены хотя и могли удержать канков, эрдлу и иниксов в своих загонах, но были неспособны устоять перед решительным натиском врагов.
Осознав кусок хлеба, сладко тающий в его рту, Хаману использовал мгновение, чтобы найти Джаведа и других камандоров. Мужчины и женщины элиты военного бюро были далеко от стен и зеленых полей города. Они тоже тренировали и обучали как ветеранов так и только что призванных новобранцев, которые должны были защитить Урик обсидианом и сталью. Командоры были не менее преданы Урику, чем Павек, и не большие оптимисты, чем он, хотя Джавед был намного более чувствительным к псионическому прикосновению своего короля.
О Могучий Король, молчаливо и радостно приветствовал его Джавед. Как я могу служить вам?
Ты и так служишь мне достаточно хорошо, ответил Хаману. Я немного… отвлекся. Самое смиренное признание, которое он сделал за тысячу лет. Что нибудь изменилось?
Джавед взахлеб выложил все свои наблюдения, которые гарантировали, что ситуация вокруг Урика не стала ни лучше ни хуже с тех пор, как они в последний раз видели друг друга. Те же самые вражеские армии по-преждему скрывались за горизонтом. Было замечено несколько их воинов; трудно говорить со всей уверенностью: пока Хаману отдыхал, сообщения передавались не быстрее, чем эльф в состоянии бежать. Эстафеты гонцов-эльфов — тактика, которую военное бюро использовало, когда его офицеры не могли или не хотели быть в постоянном контакте со своим королем — уже были организованы и опробованы.
Умно, признал Хаману. Похоже ты все держишь под контролем.
Джавед в свою очередь тоже кое в чем признался: Наши враги до сих пор не прибегали к темпларской магии. Они сидят в своих лагерях, ожидая какого-то сигнала. Пелена пыли, которой Галг и Нибенай окутали местность, мешает им самим ничуть не меньше, чем они сами мешают нам. Мы далеко от города, и не можем известить военное бюро, что появились вражеские армии, которые нам угрожают. Они не спрашивают, а мы не отвечаем.
В своем кабинет Хаману тяжело сглотнул, и прервал псионическую связь с Джаведом. Он посмотрел на Энвера и остальных — мужчин и женщин, частично темпларов, а частично волшебников, которые всегда присутствовали во дворце на тот случай, если надо было использовать военное заклинание не пользуясь силой Черной Линзы, и которые сильно повредили охранные заклинания на двери его кабинета. Эти заклинания, наложенные его бессмертным сознанием, не могли быть полностью уничтожены смертными мастерами-псиониками и волшебниками. Но смертные решили так действовать из-за крайних обстоятельств: три дня они глядели в запертую дверь. Три дня без единого шевеления. Страх, повисший в душном воздухе кабинета, был не страхом за жизнь бессмертного Доблестного Воина, но страхом за его душевное здоровье.
Хаману не мог даже начать объясняться, и не стал пытаться.
— Я не призывал ни тебя, дорогой Энвер, ни кого-нибудь другого. Я просто дал возможность своему сознанию плыть туда, куда ему хочется. Правда я не нашел то, что искал, но в любом случае мне не нужна ничья помощь.
Дварф-исполнитель низко поклонился. — Я думал…
Хаману оборвал его. — Я знаю, о чем ты думал, дорогой Энвер. — И он действительно знал. Вообще-то не стоит ругать смертных за сочуствие, хотя и плохо направленное. — Я позову тебя, когда когда я буду нуждаться в тебе, но я ожидаю, что не увижу тебя ни на мгновение раньше.
— Да, конечно, Ваше Всеведение.
Остальные, как темплары, так и волшебники с вытянутыми, одутловатыми лицами быстро бросились через порог, оставив Энвера наедине с гневом Короля-Льва. Хаману дал возможность им убежать, дожидаясь, пока он с дварфом не останутся в комнате одни, а потом сказал:
— Благодарю тебя, дорогой Энвер.
Энвер поднял голову. — «Благодарю тебя», Ваше Всеведение? С юных лет я служу вам. Я думал, что я привык ко всем вашим поступкам, знаю как надо действовать в тех или иных ситуациях; я ошибался. Простите меня, Ваше Всеведение. Впредь я не допущу подобных ошибок.
— Нет, — задумчиво сказал Хаману, когда дварф повернулся и уже почти вышел за порог. Время ошибок и триумфов быстро приближалось. — Энвер…
Дварф повернулся на носках.
— Благодарю тебя за хлеб. Он просто великолепен.
Слабая улыбка осветила лицо Энвера, потом он исчез за дверью. Дверь кабинета тоже исчезла, как будто ее не было. Не осталось даже пыли. Хаману мог восстановить иллюзию и надежно защитить ее охранным заклинанием. Вместо этого он привел в порядок листы пергамента на столе — хорошее упражнение для затекших пальцев, лучшее чем любое другое.
Прошлое, да, прошлое — это ловушка. Хаману уже дважды попадался в нее с тех пор, как начал описывать свою историю Павеку. Он не может изменить свое прошлое; но никогда раньше он не позволял ему влиять на его будущее — будущее Урика — и не собирается начинать сейчас. Если уже не слишком поздно. Заклинание невидимости, при помощи которого он надеялся найти ответы на свои многочисленные вопросы должно было быть готово две ночи назад.
Призвав круглое и непостижимое колесо фортуны, Хаману нетвердо поднялся на ноги. Ему понадобилось три шага на задеревенелых ногах, чтобы очутиться около обитого железом сундука. Сундук оказался целым и невредимым — добрый знак! Тем не менее Хаману затаил дыхание, пока снимал закрывающие заклинания и поднимал крышку. Многоцветный песок вокруг тигля стал белым, белым как кость — хороший признак. Он не дышал, пока не вынул тигель из песка. Его поверхность была испещрена крохотными ямками, а шов между основанием тигля и его крышкой оказался оплавлен. Хаману громко постучал по нему указательным пальцем. Металлические хлопья упали в песок. Крышка легко открылась.
Множество блестящих бусин, некоторые совсем маленькие, другие размером с кончик ногтя Хаману лежали на дне тигеля. Он осторожно высыпал их на ладонь. Примерно половину из них, на всякий случай, он отделил и положил в особую, использовавшуюся только для хранения заклинаний шкатулку, а остальные проглотил, выговорив слова заклинания и прижавшись к стене, пока бусины таяли в его горле.
Дискомфорт был минимален по сравнению с потерей ориентации, которую вызвало заклинание, пока проникало внутрь него через все иллюзии. Несколько мгновений кожа Хаману равномерно светилась. Потом весь кабинет оказался омыт острым, движущимся светом бусин. Свет вырывался через его кожу, оставляя темные закопченые пятна на за собой. Хаману подхватил шкатулку с бусинами, которая лежала в обесцвеченном песке — он уронил ее туда, когда заклинание начало действовать, затем рассек воздух перед собой. Свет заклинания заиграл в тумане, когда он быстрыми шагами вошел в Серость, иначе эта комната стала бы ловушкой для него — она была слишком мала, чтобы вместить в себя его изменившееся под действием заклинания сущность.
Полностью оказавшись в Серости, Хаману надел на себя еще одну иллюзию. Это была по своему совершенно замечательная иллюзия, потому что теперь Король-Лев Урика появился — в самом магическом из магическом мест — в виде совершенно заурядного человечка. Он мог похвастаться двумя совершенно одинаковыми руками, спутанной гривой грубых черных волос и кошмарным шрамом, который начинался под правым глазом, шел через нос и заканчивался безобразной шишкой там, где он соединялся с верхней губой.
Интересно, что подумал бы Павек, если бы сам смог войти в нижний мир и увидеть, как его копия несется через туман?
Но такая встреча был маловероятна. Маги и мыслеходцы всех мастей могли встречаться в Серости, делали это, но такие встречи крайне редко были случайностью. Сильное присутствие — типа такого, как Хаману сейчас, и не имело значение, насколько тщательно он замаскировался — могло привлечь к себе более маленькие присутствия: потерянные души, плохо закрепленные магические артефакты и новичков-друидов — а могло и отогнать их всех, и именно это было целью Короля-Льва, пока он путешествовал через эфир. Не полное отторжение, которое, само по себе, могло привлечь внимание других сильных присутствий, но мягкое, почти незаметное отталкивание, типа не-обращай-на-меня-внимания-кем-бы-ты-ни-был, которое даст ему возможность приблизиться к избранной им цели без того, чтобы кто-нибудь — особенно Раджаат — мог заметить его.
Если же Раджаат, к несчастью, почувствует, как сущность Павека проплывает недалеко — первый волшебник, возможно, попытается сделать что-нибудь неприятное, но безусловно не настолько неприятное, которое он, пылая жаждой мести, безусловно бы сделал, если бы понял, что один из его мятежных Доблестных Воинов находится неподалеко. А сущность, которая может оказаться Доблестным Воинов, будет иметь пару ударов сердца для побега.
Было два места, в которых Хаману собирался побывать, прежде чем заклинание невидимости утратит свою силу. И оба они были в высшей степени опасны для Доблестных Воинов. Оба они были, в известной степени, тюрьмами Раджаата.
Когда Доблестные Воины восстали тысячу лет назад, они сумели победить, отделив материальную субстанцию Раджаата от его жизненной сущности. Они заточили сущность Раджаата в Пустоте под Чернотой, пульсирующее сердце тьмы и тени в центре нижнего мира. А бессмертное тело Раджата они заключили в каменный кристалл, который Борс хранил в центре его круглого города, Ур Дракса. Почти тысячу лет — более точно, девять сотен лет, потому что Борс был безумен первые сто лет и построил Ур Дракс с усыпальницей только после того, как пришел в себя — Борс поддерживал заклинания, которые хранили сущность Раджаата в Пустоте и заодно удерживали Пустоту подальше от Ур Дракса.
Вся эта конструкция могла бы замечательно работать и после смерти Борса — по меньшей мере до тех пор, пока Доблестные Воины не обдумали дело — если бы не Черная Линза. Линза исчезла буквально через несколько месяцев после того, как Борс превратился в Дракона. То ли она была потеряна самим Борсом, то ли ее украли его враги-дварфы — Хаману слышал обе версии этой истории. Борс, однако, настаивал, что это не шибко какая проблема, пока Линза находится далеко от Ур Дракса.
А потом, в один проклятый день пять лет назад, Садира, Тихиан и остальные из банды самых обыкновенных воров и мятежников из Тира принесли Линзу в Ур Дракс. Четверо Доблестных Воинов погибли в тот день, включая самого Борса. Каменный кристалл был разрушен и Раджаат освободился.
Как называть то, что случилось дальше, вопрос вкуса. В Тире, например, считают что Садира и юный мул по имени Ркард спасли мир. В Урике, конечно, думают иначе.
Но это не так важно, главное, что Раджаат был остановлен. Его сущность опять была отделена от его тела. Хаману, Галлард и Иненек заточили сущность своего создателя в Пустоте под Чернотой. Волшебница, Садира, похоронила физическое тело Раджаата в лавовом озере. Оставалось только решить, что делать с Черной Линзой. В конце концов решили, что она должна остаться в лавовом озере, рядом с костями Раджаата. Сейчас, вспомнив то время, Хаману поразился тому, как все они, смертные и бессмертные, могли быть так глупы, чтобы оставить Линзу не где-нибудь, а рядом с костями Раджаата. Между Чернотой и Черной Линзой всегда была особая связь, резонанс, постольку Раджаат был хозяином их обоих и он один понимал их секреты. И, конечно, всегда был резонанс между сущностью первого волшебника и его телом. Пять лет — пять ненаблюдаемых, непрерываемых лет — Раджаат ислледовал эти резонансы.
Хаману должен найти то, что Принесший-Войну сделал за это время.
Первая часть плана Хаману была проста, по замыслу, хотя и не по исполнению: осторожное, окольными путями приближение к пульсирующей Черноте до тех пор, пока не удастся бросить взгляд на Пустоту, и, в то же мгновение, сбежать оттуда на полной скорости, чтобы избежать ее смертельного притяжения. Заклинание, которое он проглотил несколько минут назад в своем кабинете давало ему хорошие шансы на успех. Если он на самом деле стал Павеком, плотью и сознанием, он, в случае чего, может даже призвать мощь Короля-Льва. Но Хаману не верил, что его собственная сила сможет восторжествовать над судьбой и фортуной.
У Хаману появилась тень, в форме Павека, протянувшаяся через Серость к Черноте, где все тени рождаются или умирают. Блестяще белые пятнышки, пародоксальные и необъяснимые, появились в Черноте, двигаясь, по мере того, как тень Хаману удлинялась, к точке, где Серость и Чернота встречались. Хаману почувствовал опасность и стал бороться, чтобы не последовать за своей тенью.
Обычная тишина в Серости вдруг стала оглушающей. Без предупреждения появились пятнышки темного эфира и начали сжиматься вокруг уменьшившейся тени Хаману. Еще один удар сердца — так сознание Хаману измеряло время в нижнем мире — и он слишком сильно надавит на свое счастье. Необходимо бежать, немедленно, даже не бросив взгляд на Пустоту.
В Серости не было воздуха. Путешественник по нижнему миру не дышал, тем не менее Хаману затаил дыхание, и его тень еще больше уменьшилась. Он решил рискнуть, рискнуть всем, и приблизился еще немного, еще чуть-чуть ближе к границе, и получил то, что хотел: взгляд на Пустоту без субстанции или тени, без света и темноты. Пустота вообще была ничем, и там не было ничего — за исключением сущности Принесшего-Войну.
Поскольку сама Пустота тринадцать веков назад помогла выковать как собственную магию Хаману, так и его тело и сущность, он отлично знал, что она не пуста. Он убедился — с немалым ужасом — что она изрешечена щелями, через которые тень, а возможно и субстанция, может просочиться.
Не думая о последствиях, Хаману обругал собственное благодушие. Пять лет назад он поверил Садире, потому что так было удобнее, потому что они заключили союз на берегах лавового озера, потому что верил, что ее ненависть к нему самому и к другим Доблестным Воинам гарантирует ее бдительность.
Он был дураком тогда и вдвое большим дураком сейчас: бессмысленное ругательство нарушило его концентрацию. Его тень мгновенно увеличилась, коснулась как Черноты, так и темных спиралевидных огней. Руки и ноги вытянулись, стали похоже на спицы в колесе тележки, он стал резко крутиться, собирая тень с каждым оборотом. В панике он схватился за шкатулку, в которой лежали бусинки с заклинанием. Тень окутала его руку.
У него оказалось свободное мгновение для того, чтобы пожалеть о своей глупости. В следующий миг между ним и Чернотой появился смутный человекоподобный силуэт.
Раджаат, подумал Хаману, и предвидя более худшую, чем смерть, судьбу собрал все свое мужество и достоинство. Фигура стала больше и ближе, тем не менее она не походила на деформированный, ассиметричный силуэт Раджаата, и в ее ауре Хаману не видел ни угрозы, ни жажды мести. Она просто оборвала поток между Темнотой и тенью Хаману.
Когда его руки и ноги освободились, Хаману опять выпрямился, причем ему потребовалось для этого не больше усилий, чем он использовал в бассейне на крыше своего дворца. Тем не менее опасность еще не миновала. Чернота продолжала притягивать его, он продолжал падать в Последнюю Тень — и к поджидающей его фигуре — несмотря на все его усилия.
Хаману опять приготовился к смерти.
Еще нет, в оглушительной тишине проревела фигура.
Ее вытянутая правая рука пересекла прозрачное тело и указала пальцем на какую-то точку за левой ногой. Хаману взглянул в том направлении и опять его начало крутить. На этот раз, однако, его схватило притяжение чего-то другого, не Черноты. Как и всякий умирающий человек, смертный или бессмертный, Хаману ухватился за последнюю возможность остаться в живых, пускай слабую и ненадежную. Сильными и точными движениями он поплыл в направлении этого нового течения. Бросив мимолетный взгляд назад, через плечо, пока он проплывал мимо ноги своего спасителя, он заметил силуэт Короля-Льва Урика, входящий в Черноту. У Хаману не было времени для того, чтобы обдумать это экстраординарное зрелище. Он мчался изо всех сил по Серости, и пересек ее границу настолько внезапно, что даже не сразу почувствовал это.
Вынырнув из нижнего мира Хаману оказался на каком-то расстоянии над землей. Именно таким образом он обычно выходил из Серости, когда не знал, где он точно находился: падение никак не могло повредить ему, зато если бы он оказался наполовину внутри какого-нибудь жесткого объекта, а наполовину внутри Серости, это было бы фатально, даже для бессмертного Доблестного Воина. Подобрав под себя голову и плечи в момент удара о землю, Хаману перекатился несколько раз, прежде чем встал на ноги.
Настоящий адепт магии или псионики всегда мог установить место, в котором оказался. Хотя горячий дневной воздух был насыщен водой, и был даже более непроницаем для взгляда, чем нижний мир, Хаману чувствовал пульс Атхаса под своими ногами и совершенно точно знал, что оказался на развалинах города Борса, Ур Дракса.
Толстый ковер болотных растений смягчил его падение, этот ковер покрывал все вокруг, включая немногие оставшиеся стоять стены. Стоячая, тухлая вода сочилась через иллюзорные подошвы иллюзорных сандалей Хаману. Он немедленно дал себе плотные сапоги, но пришлось еще немного времени повозиться с одеждой, которая намокла и липла к телу.
Впереди Хаману услышал ворчание грома, разрывающий уши треск молний. Вначале это его озадачило, но потом он сообразил: за те пять лет, в течении которых Тихиан был заточен внутри Черной Линзы, его гнев не ослаб, может быть только усилился. Бывший тиран Тира создавал жестокие Тирские ураганы, которые обрушивались на Центральные Земли. Здесь, в Ур Драксе, он создал неослабевающий, удушающий туман. На наковальне своего гнева он выковал такую местность, которую Хаману не встречал на Атхасе, нигде и никогда.
Хаману прислушался к своим ощущениям и сделал шаг по направлению к лавовому озеру. Нога Хаману ушла в глубина на половину голени прежде, чем ударилась о камни булыжной постовой, похороненной в болоте. Поверхность болота лопнула и наружу вырвался запах гниения и разложения, наполнивший нос Доблесного Воина. Вначале Король-Лев даже отшатнулся от этого зловония. Зато Ману из Дэша, фермер и потомок фермеров, мгновенно сообразил, что улицы Ур Дракса теперь более плодородны, чем самые лучшие поля Урика.
Он прошел еще немного, обдумывая путь и способы перенести богатства Ур Дракса в Урик, домой.
Хаману был не единственным, кто бродил по сокровищам Ур Дракса. Его нечеловеские острые уши уловили звук шагов других ног, шлепавших по трясине. Он не испугался; туман скрывал его лучше, чем любое заклинание. Пара болтавших между собой горожан прошла мимо, очень близко и очень беспечно, при желании он мог бы украсть кошельки с их поясов. Судя по их разговорам за эти годы жители Ур Дракса постарались приспособиться к диете из слизняков, улиток, змей и прочих обитателей болота.
Как низко они пали! Когда Борс правил этим городом, который он нашел девятьсот лет назад, его жители были самыми могучими и жестокими воинами под кровавым солнцем Атхаса. А теперь они болотные фермеры, и не будут представлять ни малейшей угрозы ветеранам, которых он пошлет для сбора созданной Тихианом грязи.
С другой стороны Ману был воспитан фермерами, которые ведут войны с природой каждый раз, когда сажают семена в не прощающую ошибок землю. Он знал, что и эти фермеры не будут просто стоять и смотреть, как забирают их землю. Битва с врагом не битва с природой, это что-то совсем другое, но народ здесь упорный, как и любые фермеры, в любом месте.
Такой же упорный каким был он сам, когда вернулся в Кригиллы после того, как с троллями было покончено. Он распустил своих ветеранов, подарив каждому из них плату за год и лекцию, как надо себя вести дома. Он посоветовал им построить то, что разрушила война и забыть то, что они видели на войне, и что они делали, пока были у него на службе. Его ошибка — если это действительно была ошибка, а не очередной трюк руки судьбы — что он рассказал им о доме, который он хочет построить в Кригиллах.
Для самого Хаману у войны было совершенно отчетливое начало и еще более отчетливый конец. Ему не было и пятидесяти, когда война закончилась. Да, он сражался почти тридцать лет, но, учитывая его бессмертие, он остался молодым человеком с мечтами и надеждами юноши. Он совершенно забыл, что для его ветеранов война была даже не профессией, а жизнью, единственной жизнью которую они знали на протяжении многих поколений. У них не было домов, которые надо было отстроить заново. Некоторые из них последовали за ним в Кригиллы, где поля заросли сорняками и проводили время восстанавливая оскверненные деревни.
Человек может провести всю жизнь, восстанавливая долину в том состоянии, которое он помнил — бессмертную жизнь. Хаману попытался, хотя с самого начал ему мешало, что даже самые лучшие из его товарищей не знали ничего о том, как вырашивать зерно, или, скажем, как надо жить в таком месте, где год за годом не меняется ничего.
Те, которые не вынесли скуку, собрали свои пожитки и ушли. Хаману решил, что он только выиграл, избавившись от них. Так что он вернулся к тем ветеранам, которые остались с ним, и обучал их всем премудростям земли, которые сам узнал от отца и деда. Но ветераны, вернувшиеся на равнину — и те, которые не уходили из нее — не могли и не умели жить без войны. И вот уже Кригилл достигли слухи, что появились банды грабителей, терроризирующие жителей равнин, причем бандиты гордо носят на груди желтые медальоны, которые он дал им. Заодно слухи утверждали, что Хаману Сжигатель-Троллей превратился в Хаману Сжигателя-Людей, готовым предоставить свою силу любому самому незначительному главарю банды. И этим слухам верили как фермеры с равнин, так и жители городов!
Даже сейчас, тысячу лет спустя, потные плечи Хаману заледенели при этих воспоминаниях. В первый раз, когда он услышал о том, что отставные воины творят его именем, он потерял дар речи. Во второй раз он поклялся, что это будет последний. Он всегда был готов взять на себя полную ответственность за войну против троллей, и за приказы, которые он давал и которые его воины выполняли. Но он не хотел и не мог — тогда и потом — нести на себе проклятия за преступления других людей.
В холодном гневе Хаману во второй раз ушел из Кригилл. С верными ему ветеранами за спиной, он пошел по следу тех, кто предал его и все человечество. Он убил самого наглого из них — и обнаружил, что наслаждается страданиями человека ничуть не меньше, чем страданиями троллей. Он мог бы убить любого бандита, носившего медальон со Львом, и любого из этих недолговечных червяков-бандитов, грабившего фермеров вместе с ними. Но убивать членов своей расы — той, к которой принадлежал он сам, когда был смертным — было противно Хаману, хотя и насыщало его.
Одновременно продолжалось превращение его собственного тела. Он стал настолько тяжел, что ни один канк не мог его на себе нести, и теперь он ходил повсюду пешком в облике получеловека-полульва, в котором он сражался в последней битве с Виндривером. Его последователей это не пугало; со временем уже не верили, что он когда-то был человеком, как они. Они думали, что служат живому богу.
Живой бог, подумал Хаману, бредя по колено в дымящейся болотной жиже, должен получше обращать внимание на то, куда поставить ногу!
Репутация Льва распростанилась далеко за пределы Кригилл. Хаману принимал беженцев из самых разных мест Центральных Земель, где другие Доблестные Воины вели свои очистительные войны. Они приходили к нему с жалобами на обыкновенных бандитов или главарей маленьких армий, которые никогда в жизни не видели ни одного тролля, но носили на шее его керамический медальон. Вначале он отказывался помогать, но со временем в долинах Кригилл набралось столько беженцев, что стало не хватать еды. Так что ему пришлось пойти на запад, преследуя слухи и банды, пересечь пустыню Ярамуке, пока он не добрался до пары маленьких городов, Урик и Кодеш, чьи соперничающие между собой предводители сражались за право контролировать торговые пути между Тиром и Джиустеналем.
Делегация из Урика встретила Хаману и его воинов, когда они были еще в нескольких днях пути от городов-соперников. Среди Урикитов были аристократы и фермеры, женщины и мужчины, бродячие торговцы и ремесленники — и даже несколько странных существ, которые родились от союза эльфов с людьми, первые полукровки, встреченные Хаману.
Предубеждение, которое он впитал с молоком матери, которое родилось в нем задолго до проклятое превращения в Доблестного Воина, поднялось в Хаману.
Он решил, что знает, что надо делать еще до того, как было произнесено хотя бы одно слово: разрушить Урик до основания за его нечистоту и пусть судьба этого города послужит уроком Кодешу. Тем не менее он решил их выслушать — бог должен слушать, или, по меньшей мере, делать вид, что слушает. Его рука — та самая, которой он держал в тайне от всех камень с молчаливой душой Виндривера — болела все время, пока он слушал тщательно обдуманные мольбы Урикитов не только на то, чтобы выгнать бандитов с их шайками из города, но и предложение навсегда сделать Урик его домом.
— Бессмертный волшебник правит в Тире, — объяснил предводитель Урикитов, — а другой в Джиустенале. Урик лежит между ними. Шайки бандитов не только пьют кровь из самого Урика, О Могучий Лев; они грабят караваны, которые идут из Тира в Джиустеналь и обратно. В результате живые боги этих городов угрожают нам за преступления, которые мы не может предотвратить. Мы просим вас покончить с бандитами и их предводителями, и остаться с нами, чтобы защитить нас от жадности и гнева соседей. Если мы должны жить под игом бога, мы бы хотели сами выбрать себе бога, а не бога Джиустеналя или Тира.
— Тир и Джиустеналь большие города, — сказал Хаману, игнорируя все остальное. Они искушали его, эти гордые, прагматичные люди, которые не видели разницы между тем, что работающий человек делает — и даже между различными расами — и стремились к безопасности всех жителей. — Что может Урик предложить мне такого, чтобы я захотел стать его богом?
Они рассказали ему, что Урик стоит на возвышенности и занимает прекрасный кусок земли. Он господствует над окружающей местностью и его легко защищать, потому что под городом есть неисчерпаемый источник воды, который может напоить во много раз больше народа, чем в городе живет сейчас.
Отдохнув на один удар сердца рядом с покрытой мхом статуей дракона, Хаману вспомнил серьезные лица Урикитов. В тот день они не сказали ему, что их соперники, Кодешиты, проложили свою собственную тропинку к этому же подземному озеру, и что Кодеш мертвой хваткой держит единственную приличную дорогу между их цитаделью и караванным путем Тир-Джиустеналь. Дорога была настолько широка, что на ней могли разъехаться двухколесные тележки. Эти пикантные подробности Хаману вытащил из их спутанных мыслей.
За те несколько лет, которые прошли после завершения войны с троллями, последний Доблестный Воин Раджаата стал настоящим мастером по выуживанию мыслей из человеческих сознаний. Тем не менее он очень удивился — и обрадовался — когда открыл, что эльфийская кровь никоим не образом не мешает этой весьма полезной способности.
В результате он принял предложение Урикитов, по меньшей мере в той части, которая касалась уничтожения банд и их предводителей, а решение вопроса с Кодешем отложил на потом. Оказалось, что это намного легче обещать, чем выполнить. Главари бандитов тоже были наслышаны о репутации Льва, и им хватило здравого смысла заключить с Кодешем договор против него, а потом и послать объединенную просьбу о помощи тирану Тира, Калаку.
Калак не был Доблестным Воином, ни тогда, ни потом. Он никогда не стоял под куполом Хрустального Шпиля белой башни Раджаата. Это был могущественный и безжалостный волшебник, захвативший Тирскую равнину, пивший из нее жизнь своими заклинания, оставлявшими землю бесплодной на многие поколения. В первый раз с тех пор, как он стал Доблестным Воином, Хаману нашел себе достойного соперника, сразившего с ним равном бою.
После чего уже не было и речи о возвращении в Кригиллы. К тому времени, когда пыль от воиска Калака направилась обратно в Тир, вопрос о короле Урика был решен. То, за что Лев сражался, он и сохранил в своей власти. Учитывая, что он может прочитать любые, самые низкие мысли, Хаману предложил медальоны тем, кто служил ему — ветеранам, бандитам и Урикитам, не делая между ними различия. В Урике не было предательства, зато был мир — его мир — и процветание.
Хаману нашел свой дом. Он сам короновал себя королем. Бесплодные, выжженные и заваленные золой поля, оскверненные Калаком, были очищены от золы. Свежая плодородная земля была привезена из далеких Кригилл. Однако сын фермера больше никогда не работал на земле сам. Вместо сева и сбора урожая теперь его фермерское сердце занимали только проблемы Урика.
В сердце фермера нет место для чувств, как и в сердце короля. Урик был чем-то похож на поле; его было нужно чистить, удобрять и вспахивать — а время от времени оставлять под паром, невозделанным, чтобы поддерживать равновесие между законами, налогами и здравым смыслом — чтобы он оставался по-настоящему продуктивным. А Урикиты были как стадо домашних животных. Их надо было кормить, защищать, а самое главное выбраковывать, по меньшей мере тех, чье поведение становилось совершенно нетерпимым. Он запускал к ним своих миньонов, глядел на свое поле своими собственными глазами, и выбраковывал свое стадо своими собственными руками. В результате, в точности как поля и стада, Урик и его жители были надежно защищены от хищников, которых появлялось в Центральных Землях все больше, по мере того, как Доблестные Воины Раджаата возвращались после своих Очистительных Войн.
Однако даже не угроза со стороны Тира или Джиустеналя, Галга или Раама вместе с Нибенаем заставила Хаману обнести город стенами и удобно устроиться в кирпичном дворце. Народ продолжал прибывать в его город на холме. Люди, по большей части, хотя Хаману не задавал вопросов иммигрантам, если они не выглядели как чистокровные эльфы или дварфы — единственные невычещенные расы, оставшие в Центральных Землях. Его пыльный маленький городок превратился в огромный сложный город, который, сам по себе, привлекал множество народу, по большей части честного народу, хотя встречались среди них и бывшие бандиты, предводители шаек и даже тираны других городов.
Хаману разрешал всем селиться в городе, но потом выдергивал сорняки, если они опять брались за свое. Когда город стал настолько велик, что он не мог заниматься всем сам, он обратился к тем мужчинам и женщинам, которые уже носили его медальоны на шее. После этого оставался только маленький шаг, и появились темплары, разбитые на три бюро и одетые в желтую одежду. А после появления темпларов стены и дворец выросли, можно сказать, сами собой.
Это были золотые годы Урика, ласковые дожди выпадали каждый год, когда солнце спускалось в надир[2] или поднималось в зенит. Это были годы перед тем, как Раджаат призвал их выполнить свой долг, прежде, чем Доблестные Воины восстали против своего создателя и Борс превратился в Дракона, чье безумие опустошило некогда зеленые Центральные Земли.
Когда Борс пришел в себя, он нашел Ур Дракс, в который поместил тюрьму Раджаата и принял на себя задачу хранить от него Атхас и особенно своих товарищей, Доблестных Воинов. План Борса работал на протяжении долгих тринадцати столетий — вечность, с точки зрения обычных смертных — но недостаточно долго с точки зрения Хаману.
Он опустил взгляд вниз и продолжил свой путь через трясину, заполнившую улицы пустынного города в молчании, запретив себе думать. Грязь стала тоньше. Когда Хаману подошел к разрушенным заклинанием стенам, которые отделяли дворец Борса от города, он оказался у границы непрерывного вихря, созданного Тихианом. Как и обещал Виндривер, порывы ледяного ветра чередовались с серными испарениями. Земля была скользкая, ненадежная, на ней ничего не росло.
Присев на цыпочки, чтобы создать себе хоть какое-либо укрытие, Хаману вынул бусинки с заклинанием из шкатулки. Он поднял их над головой, дав теплу своей руки растопить их, превратить в просвечивающее желе, которое потекло вниз по руке и телу. Хотя это и не делало его полностью невидимым, но больше он не был совершенной имитацией преданного высшего темплара, он стал незаметным и не привлекающим к себе внимания существом, ящерицей, как две капли воды похожей на ту ящерицу-критик, которая пожертвовала своей жизнью ради этого момента.
Он опять прислушался к окружающей местности и нашел путь, ведущий в сердце Ур Дракса и к лавовому озеру. С каждым шагом теплый туман становился все краснее и краснее. Было искушение списать все эти изменения на Принесшего-Войну, на настоящая причина была много проще: солнце начало опускаться, дневной свет гас.
Хаману выругался. Не везет! Он потерял слишком много времени в Серости. Ночь будет темной и густой, как смола. А если он хочет увидеть озеро лавы своими собственными глазами, придется идти на четвереньках. При этом он так близко от костей Раджаата, что сомнительно, что хоть что-нибудь в состоянии скрыть его. Идти вперед при таких обстоятельствах было глупостью, смертельной глупостью, по меньшей мере для смертных. Бессмертный Хаману пошел, шаг за шагом.
Он сделал около сотни осторожных шагов, оглушаемый громом Тихиана, но избегая света синих молний, которые скорее всего и вызывали гром, когда он опять приподнялся и сел на корточки, чтобы оценить ситуацию. Он был так близко к Черной Линзе, что было трудно ощущать что-либо другое, кроме ее пульсирующей силы. Хаману был настолько поглощен поисками тела первого волшебника силы под Черной Линзой, что вначале даже не заметил, что ее присутствие становится сильнее, хотя он сам не двигается.
Насколько Хаману мог понимать магию Раджаата, Черная Линза скорее была артефактом тени, чем чистой примитивной тьмы. Он была — или должна была быть — менее могущественной после солнечного заката, когда теней почти нет. Если не…
В голову Хаману пришла мысль, очень простая и тем не менее влекущая за собой такие последствия, что он опять опустился на четвереньки: сила Садиры идет из теней. Днем она ничем не уступала Доблестным Воинам, но ночью она была обыкновенной смертной волшебницей, колдуньей, скорее даже начинающей в выбранном ей искусстве. Что-то вроде Павека в друидстве. Ее собственные заклинания были мелкими и незначительными, простые трюки, она даже не могла летать, и конечно никогда не смогла бы справиться с бессмертным изобретателем волшебства.
Павек смог поднять стража Урика, но только тогда, когда страж хотел, чтобы его подняли. Могли ли заклинания Садиры связать Раджаата, если он не хотел быть связанным?
Хаману не сомневался, что волшебница из Тира искренне собиралась заточить Раджаата в могилу навсегда. Живой бог Урика в этом ошибиться не мог. Пять лет назад, когда они все стояли недалеко от этого места, он осторожно и аккуратно проверил сознание Садиры — ночью.
Живой бог Урика поменял мнение о самом себе.
По ночам Садира была свободна от волшебства, которое она получила от народа тени в Башне Пристин — белой башне Раджаата, в которой он создавал своих Доблестных Воинов. По ночам она искренне верила, что поместила как кости так и Черную Линзу в место, из которого их невозможно достать и использовать во зло Атхасу. Днем же, она, возможно, тоже верила в это, но днем у нее в руках была теневая магия Раджаата, и не исключено, что ее вера была вызвана желанием Раджаата.
Нет сомнения, что они застали первого волшебника врасплох в тот день, когда был убит Борс. Они сразились с ним и победили. Но когда Хаману и оставшиеся в живых Доблестные Воины дали Садире бросить Черную Линзу в лавовое озеро вместе с костями Раджаата, не исключено, что они все плясали под дудку Принесшего-Войну. Они бросили его в идеальное место для зализывания ран: тень Черной Линзы.
Прихоть Льва — его собственное благодушие может быть доказательством длительного воздействия Раджаата на него самого!
Теперь, с такими мыслями, горящими в сознании, не было ни малейшей необходимости рисковать и подходить ближе. Хаману хотел бы узнать побольше о Садире: что она видела и чувствовала пять лет назад, что она делала с того времени, но, находясь в Ур Драксе, ответы на эти вопросы не получишь. Начав медленное отступление, Хаману осознал, что теневые охранные заклинания, которые Садира оставила около озера, достаточно ослабели и давали возможность сущности Принесшего-Войну просачиваться из Пустоты в его кости, плававшие в озере лавы рядом с Черной Линзой.
Король-Лев стал как можно меньше и незаметнее, укрепил иллюзию ящерицы, когда очередная синяя молния Раджаат пронзила туман. Хаману был ближе к лавовому озеру, чем сам думал, настолько близко, что при свете от вспышки молнии смог заметить куски расплавленного камня, плавающего по темной поверхности озера, настолько близко, что с ужасом увидел, как обсидиановый осколок вынырнул из лавы и исчез в тумане.
Медленно и осторожно Хаману сделал следующий шаг назад. Влажный серный воздух прошептал его имя.
— Хаману. Лев Урика.
Голос не Раджаата… скорее Тихиана. Тихиан был узурпатором, чем-то совершенно незначительным, высшим темпларом Тира, червяком, дерьмом под ногами баарзага, который предал всех и вся, запутался в сетях собственной лжи.
— Раджаат сказал, что Хаману из Урика является ключом к новому Атхасу. Он сказал, что когда ты станешь Драконом, мир изменится. Борс из Эбе, сказал он, был только свечой. Ты станешь солнцем. А я говорю, что, если это правда, тебе нет необходимости красться, переодетым в ящерицу.
Тринадцать веков, немалый срок, во всяком случае за это время можно научиться понимать, когда тебе бросают вызов и когда тебе лучше его не принимать. Не очень приятно узнавать, что Раджаат делится мыслями с этим червяком, но жизнь и так не слишком баловала последнего Доблестного Воина, ничего нового, очередная неприятность.
— И я говорю, — продолжал ветер голосом Тихиана, — что Раджаат хочет преобразовать весь Атхас, и нужен Дракон, настоящий Дракон, способный остановить его. Я знаю, как создать его! Хаману, выведи меня отсюда. Я сыграю роль Борса. Я стану Драконом Тира. Мне этого вполне достаточно.
Хаману подавил приступ неожиданного смеха. Правда состояла в том, что внутренние качества смертного человека определяют силу бессмертного дракона, и, действительно, из этого червяка получился бы не самый сильный дракон. Но это не то, во что верил Тихиан. Трусливый дурак верил, что он получил безграничную силу; и еще хуже, он верил, что может запудрить мозги Хаману из Урика, и Лев поможет ему добиться этого.
Единственное, чего мог добиться этим Тихиан на самом деле — привлечь внимание Раджаата, и как раз теперь, когда Хаману был почти вне опасности.
Очень внимательный в почти непроницаемом тумане на скользкой предательской почве, Хаману продолжал идти. Ему надо выйти из кольца разрушенных стен дворца, прежде, чем он осмелится уйти в нижний мир. Стены были уже совсем близко, когда нытье Тихиана внезапно оборвалось. Хаману отбросил и илюзию и осторожность. Он побежал к периметру изо всех сил, когда ветер заговорил другим голосом, более громким и намного более угрожающим.
— Хаману, — промурлыкал Раджаат. — Иди ко мне, маленький Ману.
Наполненный влагой ветер поменял направление. Теперь он дул в лицо Хаману, толкая его в сторону лавового озера. Король опустил голову, вцепился в сырой мох черными когтями своих драконьих ног.
— Ты голодаешь, Ману. Так ты умрешь с голоду; ты и так уже тень того, каким был. Раньше ты был больше и лучше, Ману.
— Как только ты начнешь наполнять свое пустое сознание жизнью, ты не сумеешь остановиться, пока не избавишься от всех остатков твоей глупой человечности. Я ждал очень долго, Ману. Другие мои Доблестные Воины поднялись против тебя, Ману, — они никогда не любили тебя, они легко договорились. Они хотят дракона…. — голос Раджаата стал ласковый и доверительным: хищник играет со своей жертвой. — Ты никогда не говорил им, Ману; они думают, что ты как они.
— Три дня, Ману, три дня, и они сомкнут свое кольцо вокруг Урика так тесно, что Дракон должен будет родиться. И ты будешь служить, Ману. Ты выполнишь свое предназначение.
— Никогда! — выкрикнул Хаману в ответ, но в этот момент воздух вокруг него нагрелся так, что туман рассеялся, земля треснула и открылась неровная, наполненная лавой расселина, окружившая его со всех сторон.
В отчаянии он рассек воздух, открывая себе дорогу в Серость. Он был уже по лодыжку в расплавленном камне, когда нырнул в другой сорт тумана и темноты, цепляясь за надежду, что Раджаат должен был устроить ему ловушку только в материальном мире, чтобы заставить его превратиться в дракона.
Та же самая надежда была у него и в Урике тринадцать веков назад.
Серость сомкнулась вокруг него, знакомая и безопасная. А Хаману вспомнил тот судьбоносный день. Тогда он получил и проигнорировал два приглашения вернуться в белую башню. Раджаат лично пришел с третьим.
— Мир почти очищен, — сказал Раджаат в теперь запертой навсегда комнате дворца Хаману. — Остались только эльфы, дварфы и гиганты, и очень скоро их судьба будет написана. Борс запер последних дварфов в Кемалоке. Албеорн и Дрегош тоже побеждают. Пришло время для моего последнего Доблестного Воина начать последнюю чистку. Расы Возрождения оскверняли Атхас своей нечистотой только потому, что само человечество оскверняет этот мир. Забудь о троллях и огненных глазах — послужи мне как Дракон Атхаса.
Прежде чем Хаману пршел в себя от шока, вызванного как внезапным появлением Раджаата, так и его предложением, первый волшебник схватил его за запястья. Все его иллюзии испарились между двумя ударами сердца. Он увидел себя, тощего и длинного, с жесткой кожей и плотью, высоко поднятой над черными костями. Потом его тело стало распухать, а сознание закричало от смерти смертных, чьим единственным преступлением была близость к нему.
Хаману — и Урик — пережили этот день только потому, что Раджаат даже не представлял себе, что одно из его творений может сопротивляться не только ему, первому волшебнику, но и ярости дракона, живущей внутри него. Однако, на самом деле это оказалось не так то и сложно. Когда он почувствовал, что грязный экстаз рапространяется по его телу, Хаману использовал его для единственного взрывчатого заклинания. Он бросил себя в Серость, а оттуда в Кемалок, где, как Раджаат только что сказал ему, можно найти того единственного Доблестного Воина, которому можно доверять.
На этот раз уже не было ни Борса, ни Кемалока, бежать было некуда. Был только он сам, Хаману, и все еще стерегущий Черноту желтокожий гигант с золотым мечом и черной гривой льва.
Двенадцатая Глава
К тому времени, когда Хаману понял, что Раджаат не преследует его, он был уже далеко от Ур Дракса, далеко от Пустоты и Черноты, далеко от загадочного львиноподобного гиганта, и даже далеко от Урика. Учитывая скорость его побега и сосущее сердце ощущение, что опасность нависла над его драгоценным городом, Урик был бы последним местом в Центральных Землях, где он хотел бы оказаться. Однако, пока Хаману бесцельно плыл по Серости, никакое другое место в материальном мире не приходило ему на ум.
Он не мог представить себе, что ему захочется увидеть Галларда или Дрегоша, как ему захотелось повидаться с Борсом из Эбе в окрестностях Кемалока больше тысячи лет назад, а Иненек была дурой. Центральные Земли были домом для моножества гильдий могучих волшебников, друидов, псиоников и других хозяев магии. Хаману много знал об их истинных возможностях, знал о том, что они сами о себе думают, и был уверен, что никто из них не сумел бы зажечь и свечку на ветру Раджаата. Как Король-Лев Урика он тринадцать сотен лет пренебрегал любыми возможными союзниками; и сейчас, когда последний Доблестный Воин Раджаата, восставший против своего создателя, думал о трех коротких днях, оставшихся до смерти, не было никого, кто бы хотел — или мог — помочь ему.
Хаману надо было посидеть, подумать, проверить свои возможности, если у него они еще есть, разработать стратегию, которая, если и не принесет победу, сможет по крайней мере спасти город. Он представил себя на верхушке безмятежного холма, читающим ответы на свои вопросы на облаках, спокойно плывущих по небу. Хотя это было место было достаточно реально в сознании Хаману, но тем не менее недостаточно реально, чтобы вырвать его из Серости. Зеленые верхушки холмов и плывущие облака остались в прошлом Атхаса. А сейчас, в настоящем, все места вдали от Урика, о которых только мог подумать Хаману, принадлежали либо прошлому, либо его врагам.
Наконец его внутренний взгляд сосредоточился на одном месте, наполненом камнями того же цвета, что и нижний мир: руины домов троллей среди пиков Кригилл над Дэшем. Руины не изменились за те века, что он не видел их; он с легкостью нашел их из нижнего мира. Несколько стен упали, не осталось и следа от матрацев, которые юный Ману нашел под массивными кроватями троллей, но остальное было в точности таким, каким он его помнил.
Первые мысли Хаману после выхода из Серости были вовсе не о Принесшем-Войну. Его руки, по-прежнему с черными когтями и костями, задержались на совершенных и бессмертных дверях из серого камня, погладили их великолепные швы и соединения. Тролли ушли с поверхности Атхаса, но их дома были готовы приветствовать их, если завтра они будут в состоянии вернуться.
С человеческим жильем было совсем иначе. Отвернувшись от домов троллей, Хаману посмотрел на безжизненную долину под собой. Не война опустошила Кригиллы. Долина была совещенно невредима, когда Хаману ушел из нее. И ни один Доблестный Воин не ступал на ее плодородную землю, пока не пришел Борс, в облике дракона и с безумием дракона, и не выпил из нее жизнь.
Через сотню лет после того, как он насытился полностью и завершил свою трансформацию, Борс восстановил свое душевное здоровье, пришел в себя, но земля — земля не была так удачлива. Небо над долиной было постоянно затянуто красным туманом, туманом из пепла и золы. Пока этот червяк, Тихиан, не начал напускать на Урик свои мрачные ураганы, обыкновенный смертный видел дождь не больше одного раза за жизнь — к тому же дождь из грязных, мутных капель, даже близко не напоминающий приносящий жизнь небесный водопад из детства Хаману.
Дождь или нет, но ветер все еще дул в Кригиллах. Тринадцать веков постоянного обжигающего ветра похоронили долины под неровным, вечно волнующимся покрывалом серо-коричневой грязи. Сама земля под грязью была хороша, возможно даже лучше чем та тяжелая почва, которую помнил Хаману. Если дожди вернутся — и фермеры построят террасы, чтобы сохранить землю до тех пор, пока многолетние растения не пустят свои корни — долины опять зацветут. А пока только скелетоподобные ветки самых высоких деревьев торчали из своих могил.
От гибели долин пострадал главным образом весь Атхас, а не он, почувствовал Хаману, отводя взгляд. Не осталось ничего, что бы напоминало то, что он потерял: Дэш, Дорин, его собственная человеческая сущность. В его памяти было лицо, которое он называл Дорин, но если бы его Дорин вдруг появилась сейчас перед ним, он не был уверен, что узнал бы ее. И она никогда бы не узнала его. Тот юноша, который танцевал для нее, исчез. И его преобразившееся тело не в состоянии выполнять сложные танцевальные па.
Столетия прошли с того момента, когда Хаману в последний раз хотел плакать над своим погубленным прошлым и желать умереть вместе с ним. Не было никаких богов, которые могли бы выполнить желания Доблестных Воинов. Он никогда не заплачет снова, и он прожил слишком долгую жизнь, чтобы просто отбросить ее в сторону, как кусок грязи.
В своей естественной форме Хаману был выше любого тролля. Он посмотрел на находящиеся на уровне его глаз вырезанные в камне надписи, которые когда-то он изучал с земли, и порылся в памяти, стараясь вспомнить их значения.
— Ты в состоянии прочитать их? — спросил голос из-за его спины, голос Виндривера.
Хаману выдохнул воздух, который он вдохнул еще в Ур Драксе. Сейчас он не хотел быть один. Голос тролля был самым правильным голосом для этого места в этот момент.
— «Приди, благословленное солнце», — ответил он, водя пальцем по словам-символам и выговаривая перевод. — «Согрей мои стены и мою крыщу. Пошли твои лучи жизни через мои окна и мои двери». — Он остановился, с пальцем на последней группе символов. — Вот этот означает «проснуться», а следущая пара «камень» плюс «жизнь» — они здесь на каждом камне каждой стены. Разбуди мои камни? Разбуди мой народ? Я не уверен.
— «Встань, возродись опять». Мы верим, что духи наших предков живут в камне. Мы никогда не вырубаем камни, как дварфы. Мы считаем, что это осквернение. Мы ждем, когда камень вырастет. И чем ближе он окажется к солнцу — верим мы — тем ближе наши предки к моменту возрождения.
— И ты до сих пор веришь в это? — спросил Хаману. Он не ожидал ответа, и не получил его.
— Кто научил тебя читать наши надписи? — требовательно спросил Виндривер, как если бы это знание было сакральным, запретным для любых нетроллей, и особенно людей.
— Никто, я научился сам. Я приходил сюда с рассветом, когда мог сбежать от домашних дел, представляя себе, как это все выглядело раньше. Я глядел на надписи и спрашивал себя: что бы я написал здесь, если бы я был тролль, жил в этом месте и смотрел, как солнце всходит над моим домом. Через какое-то время я решил, что знаю.
Молчанье затянулось. Хаману решил, что Виндривер ушел.
На какое-то мгновение ему захотелось приказать троллю вернуться, причем так, чтобы он не мог не подчиниться, потребовать, что он признал его образованность. Он выучил эту письменность без помощи кого бы то ни было, и, за исключением этих двух символов, которые имели дела с верой, о которой он не имел ни малейшего понятия, он читал правильно. Но это был бы фальшивый, безвкусный триумф в месте, которое заслуживало лучшего. Погладив камень в последний раз Хаману повернулся, и обнаружил, что он не один.
Виндривер сказал что-то на языке, который Хаману слышал считанное число раз и никогда не понимал. У тролля не было субстанции, как в материальном мире, так и в Серости, и никакой мыслеходец не мог прочитать его мысли.
— Я сам научился понимать ваши надписи. Но я никак не мог научить себя произносить их на языке троллей. Если хочешь оскорбить меня, делай это на живом языке.
— Я сказал, что ты читаешь хорошо.
Король-Лев слишком хорошо знал своего пленника, чтобы поверить ему. — Когда мекилоты полетят, — ответил он с вызовом.
— Да, ты прав, я сказал кое-что другое, но ты действительно хорошо читаешь. Это правда. А что до остального, не все ли равно — на живом или мертвом языке?
— Благодарю тебя, — ответил Хаману. Он не хотел спорить, во всяком случае сегодня. Но похоже без одного вопроса все же не обойтись: лицо Виндривера скорчилось в такой ужасной гримасе, которую он никогда не видел раньше. — Неужели это так страшно? Мальчик приходит сюда — человеческий мальчик. Он представляет себе, что он тролль и расшифровывает ваш язык.
— Вот то, что я сказал: как я хотел бы повстречать этого замечательного мальчика.
Некоторое время Хаману изучал землю рядом со своей правой ногой. Он вспоминал внешность этого мальчика, его голос, и вопросы в его голове, когда он стоял среди этих камней. Память была иллюзией: ничего не возвращается обратно.
— Я тоже хотел бы этого. Но у нас не было ни выбора, ни шансов. Раджаат лишил нас этого еще до того, как я родился. И может быть еще до того, как родился ты. Судьба пересекла наши пути на поле боя, на вершине утеса, над мрачным океаном, под мрачным небом, далеко от тех мест, которые мы об знали. Один неверный шаг, любого из нас, и мы никогда бы не встретились.
— «Один неверный шаг»?
— И Очистительная Война закончилась бы намного хуже, чем это случилось на самом деле. Ты мог бы держать Мирона из Йорама в безвыходном положении еще много лет, но Раджаат все равно нашел бы другую человеческую глину и вылепил бы из нее своего последнего Доблестного Воина. Тогда не осталось бы ни дварфов, ни эльфов, ни гигантов… и конечно троллей… — он опять остановился и поднял голову, прежде чем добавить слова, которые он не говорил давным-давно. — Мой друг.
Очерченный серебряным светом силуэт Виндривера не шевелился в свете солнца. — Я верю тебе, — наконец тихо сказал он, не уточнив, во что именно он верит. — Наша раса была обречена.
Гляда на опущенные прозрачные плечи Виндривера, Король-Лев вспомнил, что такое сострадание. — Вы верили, что ваши мертвые живут в камне, ожидая возрождения. Однажды, когда ветер очистит эти камни, они превратятся в троллей. Тогда ты сможешь научить их вашему языку. — Он подумал о плоском булыжнике, вставленном в его предплечие. — Быть может и ты возродишься, ты сам.
Ужасные серебряные глаза встретили взгляд Хаману. — Если бы души наших мертвых действительно жили бы в камне, Принесший-Войну объявил бы войну камням. Он сделал бы Доблестного Воина, который мог бы пить жизнь из камня.
Что ж, в этом была своя правда, Принесший-Войну мог сделать и такое. Если бы в этих руинах спала жизнь, последний Доблестный Воин Раджаата мог бы уничтожить и ее. — Я не… не буду. Это не случится. Не через три дня. Никогда.
— Ты учишься, — сделал Виндривер неожиданный вывод. — Из всего вашего проклятого рода ты единстенный, кто учится на своих ошибках.
— Я научился от тебя. Но когда нет выбора, не может быть и ошибок. Когда Раджаат пришел ко мне в Урик и я сбежал от него, ты издевался надо мной…
— Ничего подобного, в тот день я не издевался над тобой.
— Ты ждал меня, когда я вышел из Серости около Кемалока. Ты очутился там первый, ты в точности знал, куда я пойду. Ты сказал, что если я сбегу — если я буду бегать без конца — Раджаат сделает нового Доблестного Воина, который заменит меня. Как много лет прошло к этому времени с того дня на утесе? За все это время ты не сказал ни одного слова — я даже думал, что ты не можешь говорить. Как человек, я был еще молод — но что я знал и умел? Сражаться и управлять. Ты был намного старше. И конечно я послушался тебя. «Подумай о том, чему Принесший-Войну научился от тебя!» Я никогда не забуду эти слова; я помню их так, как будто они были сказаны вчера. Я осознал, что совершенно недостаточно не подчиниться Раджату; я должен остановить его. Я должен остаться его последним Доблестным Воином. Чтобы никого не была за мной.
— Я поклялся не разговаривать с тобой. Но ты порвал с Принесшим-Войну. Я видел это, слышал это, но не верил в это. Ты отказался от того, что он тебе предложил. Тогда ты побежал к Борсу, и я испугался за тебя, моего врага, моего тюремщика, и я нарушил свою клятву, — сказал призрак тролля, печально и торжественно.
— Ты заставил меня задуматься до разговора с Палачом-Дварфов.
— Все, что сделано, к лучшему, Хаману. Все к лучшему, даже то, что было сделано много лет назад…
Борсу не слишком понравилось внезапное появление другого Доблестного Воина за линией осады Кемалока. Палач-Дварфов обрушил серию псионических атак на своего завернутого в иллюзию посетителя. Хаману отразил все, что обрушилось на него, не отвечая ударом на удары.
После короткого затишья, одинокая человеческая фигура вышла из лагеря осаждающих. Сегодняшний день был не самым лучшим временем для встречи с другим Доблестным Воином. Борс ясно дал это понять с самого начала.
Как объяснил Борс, десять дней назад он сразился в успешном, хотя и не решающем сражении с армией дварфов здесь, в Кемалоке. И он нанес их королю, Ркарду, смертельную рану — по меньшей мере Борс думал, что она была смертельной. Впрочем, Борс был не уверен. Добрая половина его злости проистекала именно из-за этого. Меч, которым Борс сражался в битве, был зачарованным. Раджаат дал его ему в тот самый день, когда сделал его тринадцатым Доблестным Воином. По идее любая рана от этого меча была смертельная для дварфов — и он воткнул его в Ркарда — но проклятому дварфу повезло.
Своим топором он ударил Палача-Дварфов так, что вырвал кусок мяса из его плеча. Обычного смертного такой удар рассек бы пополам, но даже Борсу пришлось несладко: он был потрясен, неспособен удержать меч в руках и упал, потеряв сознание. Его офицеры на руках вытащили его с поля боя, оставив меч в волосатой груди дварфа. Борс признался, что придя в себя он в ярости убил трех своих лучших людей, прежде сумел совладать с собственным гневом. Его собственной жизни не грозило ничего, но потеря меча была невосполнима.
Хаману терпеливо выслушал рассказ Палача-Дварфов и мудро не упомянул, что его собственная победа над троллями не зависела ни от какого волшебного оружия. Он подождал, пока другой Доблестный Воин не успокоился и не задал очевидный вопрос.
— Что случилось? Что ты хочешь? Кто послал тебя? Почему ты здесь? — выпалил Борс.
— Раджаат пришел ко мне в Урик.
— Это моя война, Сжигатель-Троллей, и я скоро завершу ее. Никто не должен вмешиваться в мое дело, в мое убийство. Если Раджаат что-то там прошептал тебе на ухо, это твоя проблема, не моя.
— Нет, — возразил Хаману. Он открыл свое сознание, чтобы показать свою встречу с их общим создателем, но Борс защитился от вторжения чужих мыслей. — Он сказал мне, чтобы я закончил твою войну…
— Никогда, — прорычал Борс и быстро сотворил еще одно заклинание. — Я предупреждаю тебя.
— и начал другую Очищающую Войну, на этот раз против самого человечества.
Тонкий как игла луч оранжевого цвета ударил из ладони Палача-Дварфов прямо в живот Хаману. Поднялись клубы маслянистого дыма, но Хаману тут же отклонил луч, подставив под него свою ладонь. Упав на землю, оранжевый луч прожег линию не меньше ста шагов в длину на и так заваленной пеплом и золой земле.
— Он показал мне, как это должно быть сделано, — сказал Король-Лев, — и дал мне предвкушение смерти человечества.
— Мы можем убивать кого угодно, — устало сказал Борс, как если бы он объяснял очевидные вещи ребенку-недоумку. — Убей всех в Урике, если тебе так хочется, но держись подальше от моих проклятых дварфов, и знай: если ты затеешь войну с человечеством, тебе придется сражаться со мной.
— Я выиграю.
— Когда мекилоты полетят, Хаману. Ты последний, и самый слабый. Ты, может быть, истребил троллей, но только потому, что они и так были уже на грани, когда Мирон потерял свой огонь. У тебя нет ни ума ни силы, чтобы сражаться с любым из нас. Возвращайся в Урик. И, кстати, будь поосторожнее — я слышал, что ты принимаешь полукровок. Только дай убежище хотя бы одному дварфу, и я нападу на тебя.
— Забудь о дварфах, — посоветовал Хаману. — Лучше подумай о том, что будет после победы. Что он пообещал тебе?
— Новое человеческое королевство в новом человеческом мире, чистом мире, без дварфов и прочих червяков, возникших в Возрождение. Я буду править в Эбе — или здесь, в Кемалоке — поке не отвоюю Тир у старого Калака. А потом, кто знает? Мы вовсе не должны быть врагами, Хаману. Мне кажется, что сейчас все это вполне реально.
— Мне казалось, что ты умнее. Я думал, что ты знаешь его получше, а ты веришь ему.
— Если бы Раджаат мог сам вычистить мир, никого бы из нас не было. Он Принесший-Войну, но не воин и не генерал на поле боя. Первый волшебник, но не король-волшебник. Он нуждается в нас больше, чем мы в нем.
— А ты смотрел на себя, Борс? — Хаману сбросил с себя иллюзию. Он был уже вдвое выше обычного человека. Челюсти увеличились, из них торчало множество похожих на клыки зубов, нос превратился в костяной гребень, который даже немного мешал зрению. Тот же самый гребень продолжался через уменьшившиеся лоб и череп. Похожие превращения произошли в каждой части его тела.
Сосредоточенный на том, что, как он надеялся, станет последней битвой человечества с Возродившимися дварфами, Борс вовсе не горел желанием говорить о чем бы то ни было с тем, который больше не был человеком. Бросив кусок ткани на землю, чтобы придать нужную форму заклинанию, Борс попытался снова надеть на Хаману привычную черноволосую и рыжевато-коричневую иллюзию.
— А теперь вон! — прорычал Палач-Дварфов из Эбе своим собственным голосом.
Хаману стряхнул с себя заклинание. С сотнями человеческих смертей, которые он все еще ощущал на своем драконьем языке, и насмешками Виндривера, все еще звенящих в его ухе, он умолял Борса, опять открыв свое сознание: — Дай мне показать тебе…
— Я видел достаточно.
Потеряв терпение и поняв, что спокойные уговоры — противные его природе — не приведут ни к чему, Хаману широко развел руки. Борс приготовил другое заклинание, но прежде, чем он успел применить его, Хаману выпустил на него свое заклинание. Воздух между худым королем Урика и белокурым человеком полыхнул ярчайшей вспышкой, когда Хаману обнаружил умирающих ветеранов, чью жизненную энергию Борс использовал для своего заклинания. Он аннигилировал их, тем способом, который ему показал Раджаат, и Борс почувствовал эхо их смертей. Когда свет погас, Палач-Дварфов стоял, держась рукой за грудь, а в его армии завывали гонги, подавая сигнал «опасность».
С рукой, все еще прижатой к сердцу, Борс отвернулся от Хаману и взглянул на свой встревоженный лагерь. — Я чувствовал, как они умирают и не мог остановить это. Если бы я попытался, ты бы выпил мою жизненную сущность, тоже. — Он опустил руку и повернулся к Хаману. — Что же ты такое?
— Последний Доблестный Воин Раджаата: Сжигатель-Троллей. Аннигилятор всего человечества. Я выиграю, — повторил Хаману свое более раннее утверждение. — Если начну войну. А если я не начну, он сделает другого, который начнет.
— Черная Линза? Ты делаешь это с ее помощью? Ты связан с ней как-то иначе, чем мы все?
— Я не спрашивал, а сам он меня не просветил. Может быть это Линза. Иногда я думаю, что это солнце. Это было во мне с самого начала, но до сегодняшнего дня я не знал, как использовать это.
Хаману в третий раз открыл свое сознание, и на этот раз Борс увидел, как Раджаат посещает Урик: сотни людей, аннигилированных в одно мгновение, с одним вздохом. От них не осталось ничего, даже пятнышка сажи или пепла на дворцовых полах.
Борс начал ругаться так, как ругаются ветераны: от всего сердца и совершенно бессильно.
Хаману прервал его. — Он сказал, что человечество должно быть вычищено, потому что мы все деформированы, испорчены. Он хочет вернуть очищенный Атхас халфлингам. Он сказал, что этот мир принадлежит им, не нам.
— Он безумен.
— Да-а, а потом он скорее всего вычистит и халфлингов, тоже. Единственный вопрос, который стоит того, чтобы его задать, можем ли мы остановить его? Я могу сопротивляться ему, неподчиняться ему, но я не могу остановить его, по меньшей мере в одиночку. Вот если бы мы все вместе напали на него…
— Ты то выживешь, — быстро ответил Борс, застарелое недоверие вспыхнуло в его глазах. — Ты будешь лежать и ждать, пока не останешься последним.
— И тогда он убьет меня, а потом найдет кого-нибудь другого, который аннигилирует человечество. А может быть и нескольких. Какую цену ты готов заплатить за это?
Борс не говорил и не двигался.
— Да начни же наконец думать, ты, Доблестный Воин. Он, скорее всего, уже ищет другого сына фермера, прямо сейчас. Может быть, что на этот раз он возьмет кого-нибудь из твоей армии. А может быть, что он уже выхватил бедолагу и ведет его по ступенькам в свою трижды проклятую белую башню.
— Нет, не может быть. Ты же сам видел, как это происходит. Он нуждается в нас…
— Нуждался.
Еще одно ругательство, потом Борс повернулся и взглянул на полуразрушенные башни Кемалока. — Пять дней. Если наше дело продлится дольше, коротышки разбегутся по щелям, осаду можно снимать.
Борс дал себе слишком короткое время для свержения Принесшего-Войну.
— Тебе придется быть очень убедительным, — сказал Хаману. — С кого ты начнешь?
— С Сильвы, — без колебания ответил Борс.
Хаману внутренне удивился. Лично он оставил бы красноволосую Кару-Фей и искусительницу Доблестных Воинов напоследок. Но он прошел так много только для того, чтобы заручиться помощью Борса, поэтому Хаману сохранил свое мнение при себе, пока Палач-Дварфов отдавал приказы своим высшим офицерам, объясняя им как продолжать осаду, пока его не будет.
С того дня, как Доблестные Воины выпили кровь друг друга в тени белой башни Раджаата, Сильва постоянно приглашала Хаману посетить ее убежище. Эти приглашения стали более частыми и более откровенными с того времени, как он покончил с троллями и занял место среди Доблестных Воинов, одержавших окончательные победы. Ее послания стали особенно настойчивыми с тех пор, как он завладел Уриком и начал преобразовывать пыльный маленький городок в столицу района.
Они соседи, писала Сильва на обыкновенных листах пергамента, которые ее миньоны приносили к воротам Урика, или шептала в загадочной, наполненной запахом мускуса тишине, которая время от времени возникла в самую полночь в разных уголках его скромного дворца. Они должны получше узнать друг друга. Они должны заключить союз, и тогда, обещала Сильва, они и их города будут непобедимы.
Хаману не обращал внимания ни на одну из ее попыток. Он не забыл противного сочетания страсности и презрения, с которой она когда-то глядела на него, в тот единственный раз, когда они стояли лицом к лицу. Он не хотел иметь ничего общего ни с ней, ни с ее приглашениями.
Однако у сына фермера отвисла челюсть, когда Борс привел его из Серости в алебастровый дворик, и он начал сомневаться, правильно ли он поступает, оставляя свой дворец скромным и неукрашенным. Музыкальные фонтаны, цветы, поющие птицы, изобилие людей, одетых в блестящие одежды из цветного шелка… он никогда даже не мог себе вообразить подобные вещи. Сильва очистила Атхас от фей, потом поселилась в древнем городе Ярамуке, где бесцельно проводила дни и года, управляя покорными гражданами из своего роскошного дворца. Хаману покачал головой и поменял свою внешность так, чтобы соответствовать окружавшей его роскоши — по меньшей мере он надеялся, что она соответствует.
Сильва приветствовала Борса тепло и фамильярно; Хаману без труда установил, что их знакомство была старым и интимным. Зато его она приветствовала как кес'трекела, только что свалившегося с трупа.
— Ты будешь пировать со мной? — спросила она, ее губы были около его уха, руки погладили его волосы.
Губы, уши, руки, волосы — даже крепкие мышцы на задней поверхности шеи Хаману — все было иллюзией, но даже под покровом этих иллюзий Доблестные Воины Раджаата оставались мужчинами и женщинами. Сам Хаману, по меньшей мере, знал, что он остался мужчиной. Он помнил все мгновения любви в руках Дорин; и в руках Джикканы, тоже; и редких других женщин в его смертные годы. После того, как Раджаат сделал его Доблестным Воином, он, на тяжком опыте, узнал, что существуют смертельные пределы для иллюзии. Здоровое бессмертие Сильвы увлекло его своими опасными возможностями.
Он оттолкнул ее, сильнее, чем намеривался. — Мы пришли поговорить о Раджаате…
— У тебя все еще манеры пожирателя грязи, Хаману, — прервал его Борс. — Постарайся вести себя так, как полагает Доблестному Воину.
Немногими словами и несколькими небрежными жестами двое более опытных бессмертных пробили защиту Хаману. Они ловко показали его неуклюжесть и необразованность, что, увы, не было иллюзией. Он был молод в сравнении с ними и мало чего знал. Да, он умел сражаться, но не знал, как надо сидеть посреди обилия подушек, окружавших праздничный стол Сильвы, какие из незнакомых деликатесов надо есть пальцами, а для каких требуется нож.
А что касается неотложного дела, приведшего Хаману в Кемалок, а потом их обоих в Ярамуке, Борс небрежно упомянул о нем между ягодами и пирожными с кремом.
— Кстати, ты знаешь, дорогая, что Раджаат не собирается останавливаться на расах Возрождения? — вскользь спросил он. — Он собирается сотворить еще одного Доблестного Воина, который вычистит Атхас от — представь себе — людей.
Сильва поставила на стол свой бокал с игристым вином. Ее иллюзия сохранила свою красоту, даже когда она нахмурилась, но ее внутренняя природа — сердце и сознание победившего Доблестного Воина — разоблачила себя. — А как же мы? И что с его обещаниями? Мы, что, должны будем править миром, наполненными зверями и халфлингами?
— Скорее всего, — ответил Борс, изучая взглядом ягоду с крапинками, беззаботно устровшуюся на кончике его ножа. Затем он взорвал ее своей мыслью. — Или он сотворит еще одного Доблестного Воина, который вычистит и нас, тоже.
— Его необходимо остановить.
— Согласен. Ты с нами? — спросил Палач Дварфов, повернувшись от Сильвы к Хаману, который как раз, в самый неподходящий момент, посадил пятно от ягоды на рукав туники.
Губы, красные как пятно на рукаве, разошлись в снисходительной улыбке. — У вас есть план? — спросила она Борса, не Хаману.
— Конечно, но требуется участие нас всех, всех до единого.
Темные глаза Сильвы сузились. — И тебе нужно знать, где находится каждый?
— Вряд ли я могу спросить об этом Принесшего-Войну, не правда ли?
— Или маленького Сача.
— К нему я обращусь в самую последнюю очередь, и приведу его силой, если понадобится.
— После того, как я скажу тебе то, что тебе нужно узнать?
— Я надеюсь, моя дорогая волшебница. — Борс положил свою ладонь на руку Сильвы.
Она вытащила свою руку из-под его. — А, ты всегда обещаешь, и твои обещания пусты, как и Раджаата. — Ее улыбка противоречила ее словам.
Слишком радушная, заметил себе Хаману, и адресованная только Борсу — и никакой признательности ему, а ведь без него они бы ничего не знали о планах Принесшего-Войну. Более старшие Доблестные Воины исчезли, оставив Хаману с шелками, рабами и остатками еды на столе — замечательное соседство! Когда они вернулись Сильва уселась на подушкам очень близко к нему, пока Борс стоял за дверью.
— Оставайся там, Хаману, — холодно сказал более старший Доблестный Воин.
Приказ, а не предложение, а Хаману не любил, когда ему приказывали, и не любил, когда к нему относились как к ребенку или рабу. Если Борс ничему не научился в Кемалоке, придется преподать ему урок прямо сейчас.
Внезапно воздух в пиршественном зале Сильвы застыл. Капли воды повисли в фонтанах, люди-рабы повалились на землю. Борс действовал; Хаману еще не сделал ничего, чтобы навредить им.
Когда он начал вставать, Сильва бросилась в ноги Хаману. Она запутала его в подушках. Огромный, прочный дворец задрожал, когда они упали друг на друга.
— Оставайся со мной, Лев из Урика, — потребовала она, пока они боролись, применяя ограниченные, но сильные заклинания.
Много лет назад офицеры Мирона из Йорама унижали его своим великолепным владением мечом. С того времени Хаману провел много лет, тренируясь в искусстве владения самым разнообразным оружием, только для того, чтобы быть уверенным, что такое никогда не повторится. Он думал, что поскольку он силен и отлично подготовлен к бою любым видом оружия, он победит в любом бою. А теперь выяснилось, что ему потребуется по меньшей мере несколько дней, чтобы понять коварные стратегии, при помощи которых по традиции сражаются женщины и побеждают. Сильва использовала его львиную силу против него самого. Она выпивала его заклинания с такой же скоростью, с какой он творил их, а потом схватила его руку и изогнула ее за спиной так, что, казалось, черные кости под иллюзией вот-вот треснут. Когда он признал свое поражение, она опять прошептал ему в уха своим хриплым соблазнительным голосом.
— Так будет лучше. Поверь мне.
Хаману был склонен доверять ей не больше, чем Раджаату.
— Я вернусь с другими и мы вместе займемся Принесшим-Войну, — сказал Борс от двери. — А тем временем ты, быть может, научишься чему-нибудь полезному.
Сильва отпустила свой захват, когда Борс исчез. Лев из Урика быстро оценил примущества трюков, которые она показала ему, постарался быстро выучить их, и в следующей схватке сумел заломить ее руку.
— А теперь, что ты собираешься делать, Лев из Урика, — спросила она. Ее голос донесся из-за ее плеча, в то время как лицо было воткнуто в подушку. — Ты быстрый и сильный фермерский парень, но этого недостаточно.
Позже Хаману проклинал искристое, переливающее на свету и неожиданное крепкое вино Сильвы. Но вино было не виновато; никакое количество вина не могло повлиять на него — ничуть не больше, чем любые деликатесы насытить его худое тело. Он был молод, с точки зрения бессмертных, но не так уж мало лет прошло с того момента, когда он в последний раз коснулся щеки женщины и не оставил на ней шрама или поцеловал ее в губы и при этом не пошла кровь.
Со временем Хаману научился создавать очень тонкие и изысканные иллюзии и мог обольстить любого, кого пожелает, а мог и тайно проникнуть в сознание смертного человека, чтобы исследовать мир с его точки зрения. Со временем он и королева Ярамуке опустились до постоянных ссор, которые закончились ее смертью и разрушением ее города. Но до того Сильва честно предлагала ему если не любовь, то очарование, и он предлагал тоже самое ей.
Лев из Урика был совсем другим человеком, когда через два дня Борс вернулся. Десять других Доблестных Воинов, один за другим, вышли из Серости вслед за Палачом-Дварфов. Хаману сохранил свой темперамент при себе и ничего не сказал, когда увидел, как уверенно Палач из Эбе взял на себя командование всеми Доблестными Воинами и объявил всем, что только он один знает, как освободиться от их общего создателя.
Частично Хаману оставался спокойным еще и потому, что видел, как они обошлись с Сачем Арала, сикофантом[3] Раджаата. На этот раз не было даже еле заметных цепей, связывавших Проклятие Кобольдов, но его глаза были выпучены и он не говорил ничего, если ему не приказывали Борс или Дрегош. Хотя Хаману не думал, что они в состоянии контролировать Короля Урика, как они контролировали Аралу, он не собирался рисковать и спорить с ними. Это и было самое большое изменение, которое Сильва сделала в нем: Лев из Урика не должен доказывать ничего другим, как только он доказал это самому себе.
Хаману уже мерялся силами с Борсом, но Палач Дварфов не Принесший-Войну. Если Борс желает быть знаменем их восстания, пусть будет, и флаг ему в руки. Хаману не будет ему в этом мешать. Заодно это дает ему самому возможность для другого восстания, если понадобится. Доблестные Воины Раджаата появлялись на свет с предательством в костях. Хаману не был исключением.
Когда полдень в Ярамуке плавно перешел в вечер, а их стратегия был полностью разработана, Хаману спокойно принял предписанную ему роль. Их идея была проста, хотя и рискована. Выйдя из Серости все вместе и как можно ближе к белой башне Раджаата, каждый из них сотворит отвлекающее, разрушающее заклинание. Ни одно из этих заклинаний не будет достаточно, чтобы преодалеть защиту первого волшебника, но все вместе они смогут отвлечь и занять его достаточно надолго, пока Дрегош, Борс, Пеннарин и Хаману — четверо воинов, гордившихся своей грубой силой — попытаются сразить своего создателя физическим оружием. Если у них этого не получится — и все четверо погибнут — остальные попытаются разрушить Черную Линзу Раджаата.
Лучше, решили они, жить без магии, которую они получали от нее, чем оказаться лицом к лицу с гневом Раджаата, подкрепленным существующей Черной Линзой.
Их простая стратегия приказала долго жить, когда они еще были в Серости. Дикие порывы ветра налетели на кучку Доблестных Воинов. Казалось, что они дули сразу со всех сторон и из каждого уголка нижнего мира. Ветер бил по ним с такой силой, что могучие волшебники ударялись друг друга или, наоборот, разлетались в разные стороны.
Слишком много Доблестных Воинов, слишком много неестественных созданий даже для этого неестественного места, подумал Хаману, пытавшийся сохранить ориентацию в этом хаосе.
Однако у Борса было менее благотворительное мнение на этот счет. Арала! Берегитесь Сача Арала — он позади нас!
Благоразумие заставило Хаману немедленно выпустить сине-зеленый огенный шар со своей правой руки, другие поступили также. В результате они ослепили друг друга, пытаясь остановить предательство Сача. Проклятие Кобольдов громко закричал, прося пощады, но ее не было, пока Дрегош не сообщил остальным что схватил предателя. Ветры немедленно прекратились. Доблестные Воины перегруппировались и продолжили свой путь к белой башне Раджаата, которая сияла в Серости как прядь чистейшего белого цвета.
В молчании Воины окружили маяк нижнего мира, а потом все разом вернулись в материальный мир, где в тенях лунного света поджидал их Раджаат Принесший-Войну.
Огненная пасть схватила Пеннарина прежде, чем он успел вымолвить хотя бы слово из приготовленного заклинания. Пасть сомкнулась, и первый Доблестный Воин Раджаата исчез.
Хаману вздохнул и выпалил свое заклинание: простое преобразование сухой, твердой как камень земли в болото, горячее и липкое, как расплавленная лава. Земля под ногами Раджаата начала светиться. Через суматоху и гул заклинаний и контрзаклинаний, Лев из Урика услышал, как Принесший-Войну выкрикнул его имя.
— Хаману… Хаману, ты следующий.
Темное, изломанное, наполненное болью заклинание полетело в сторону Хаману. Хаману показлось, что оно холодное и едкое, и предназначено для того, чтобы лишить его плоти, но медленно и постепенно, как тает лед. Но лучше было не проверять, Хаману согнулся и отослал медленную пытку Раджаата в Серость, где ему было некому вредить. Потом он выхватил свой золотой меч и бросился к своему создателю по земле, ставшей предательской из-за его собственного заклинания.
Похоже, стратегия Доблестных Воинов побеждала. Хотя они и не сумели застать Раджаата врасплох, как собирались, и с самого начала потеряли Пеннарина, Принесший-Войну был окружен. Борс уже брел к Раджаату через дымящееся болото даже впереди Хаману. Палач-Дварфов выташил свой меч, темное металлическое оружие, которое сверкало алым огнем в свете полуночных звезд. Это был не тот меч, который дал ему Раджаат; он специально заколдовал алый клинок, что бы тот стал оружием против Принесшего-Войну. Хаману не спорил. Он не собирался советовать другому Доблестному Воину, каким клинком надо сражаться во время восстания.
Дрегош возник слева от Хаману. Его называли Смерть Гигантов, и его оружием была простая каменная кувалда. Если и был один Воин и одно оружие, способное проломить череп Принесшего-Войну, это был Дрегош и его кувалда. Борс и Хаману согласились бить пониже и оставить Дрегошу отвратительную голову Раджаата.
Палач Дварфов ударил первым: сильный и точный удар ниже ребер Раджаата и клинок глубоко вонзился в его живот. Кровь, желчь и даже кишки Раджаата скользнули по темно-алому мечу. Принесший-Войну завыл; из его разинутого рта вылетела струя огня. Хаману наклонился, пропуская пламя над собой, и прыгнул вперед, ударив мечом в бок Раджаата. Золотой меч проскользнул между ребер первого волшебника, а потом остановился, как если бы ударился в что-то неподатливое, вроде камня. Хаману погрузил ногу с черными когтями в болото и надавил посильнее; меч опать начал двигаться.
Огонь обжег череп Хаману, потом боль пошла по спине. Каким-то образом он сумел удержать руки на рукоятке и заставить меч вонзиться еще глубже.
Хаману. Посмотри на меня, Хаману.
В словах Принесшего-Войну, псионически проникших в сознание Хаману, была какая-то сила, которой невозможно было сопротивляться, принуждение, которое заставило Льва из Урика поднять голову и встреть взгляд разных глаз своего создателя.
Возьми их, Хаману. Возьми их всех! У тебя есть сила.
Это была та самая сила, которую Раджаат предложил ему в Урике. Хаману отказался во второй раз.
— Никогда! — поклялся он.
Он собрал последние оставшиеся силы и с ревом надавил на меч. Раджаат упал на спину, в сторону Дрегоша, который как раз махнул своей кувалдой. Раздался звук, как если бы луны столкнулись, белая башня вздрогнула. Раджаат пополз, избегая завершаего удара Дрегоша. Болото заколебалось, Воины, стоявшие на его поверхности едва не упали, но в этот момент Раджаат потерял сознание и затих. Могучая магия, которой управлял непостижимый интеллект первого волшебника, дико зашипела и исчезла.
— Он мерт? — спросила одна из женщин.
— Нет, — вместе ответили Борс, Хаману и Дрегош, прежде чем Смерть Гигантов занес кувалду для нового удара.
Страшный удар разбил вдребезги выдающийся вперед лоб, но ответ не изменился.
— Он не может умереть, — сказал кто-то. — Не пока мы живы.
Никто не спорил.
— Что теперь? — это Албеорн, метаморфоза сделала его похожим на эрдлу. — Если мы не можем убить его, тогда что мы можем сделать?
— Давайте запрем его куда-нибудь. В какое-нибудь место, достаточно темное и глубокое, — предложила Иненек.
Галлард Погибель Гномов хмыкнул. — Глупо. Тень — источник силы Принесшего-Войну.
— Тогда в такое место, где будет настолько темно, что не будет никаких теней. — Я знаю несколько мест, где никогда не бывает света дня и вообще никакого света, — сказал Дрегиш со злобным смешком.
— Помести его туда, — возразил Галлард, — и он воспользуется Черной Линзой, чтобы сжечь нас всех.
Борс почистил свой сверкающий меч и убрал его в ножны, которые исчезли в его ноге. — Ну хорошо, Галлард, а что ты предлагаешь? — Он широко развел руки в преувеличенном поклоне, но его голова была поднята, а глаза не отрывались от лица Погибели Гномов.
— В центре нижнего мира, Серости, лежит Чернота, а под Чернотой…
— Серость вовсе не плоская, — прервал его Албеорн. — Если и есть Чернота в ее середине, это означает только то, что под ней есть еше больше Серости!
— Заткнись, хам!
Галлард послал заклинание в соперника. Воздух вокруг Убийцы-Эльфов засветился от охранного заклинания, потом он засветился вокруг всех. Долгие несколько мгновений никто не произносил ни слова. Наконец Сильва убрала свою зашиту.
— А под Чернотой? — спросила она, побуждая Галларда закончить свою мысль.
— А под Чернотой мы сделаем Пустоту, где не только не будет ни света, ни теней, но они и не смогут возникнуть.
— А что с Черной Линзой? — спросил Борс.
Галлард пожал плечами. — Пока Черной Линзе не надо будет ничего усиливать, она останется ничем.
— А не лучше ли разрезать его на части и взять себе по кусочку? — предложил Виан из Бодаха.
Хаману посмотел на Грозу-Пикси. Даже одетый в иллюзию Виан оставался маленьким, ничтожным созданием. Он уничтожил крошечную расу беззащитных, робких существ, поклонявшимся деревьям. При этом он даже не убил их, но превратил их божества-деревья в пепел при помощи волшебства. Пока Хаману спрашивал себя, как этот трус мог предложить разрезать их еще живого создателя на части и взять себе по куску кровавого мяса, другие Доблестные Воины уже шутливо переругивались, как надо резать Раджаата и какая часть кому достанется.
Их непристойные шуточки были внезапно прерваны, когда синяя искра промелькнула среди запекшейся крови, в которую превратилось лицо Раджаата.
— Он лечит сам себя. — Борс подтвердил то, что они все и так поняли.
Они все окружили своего создателя, и, громко ругаясь, наложили на него охранные заклинания.
— Этого недостаточно, — предупредил Галлард. — Заклинания сдержат его только до восхода солнце. Его собственные кости дадут ему тень. Или сегодня ночью мы поместим его в Черноту, или завтра мы присоединимся к Пеннарину.
Пеннарин. Где сейчас Пеннарин? Чернота, сказал Галлард. И откуда Галлард так много знает центре серости или о том, что лежит под ним? Кто научил Погибель Гномов, где он выучил все это? Зачем ему понадобилось выучить такие странные вещи? Кого он собирался запереть в этом странном, неизвестно где находящимся месте, где нет ни света ни тени, где не существует ни время ни пространство? Раджаата? Или Галлард собирался запереть там их самих, со временем?
Так много вопросом, но нет ни единой причины задавать их сейчас. Воины не могут убить своего создателя, но и не могут дать ему полностью вылечиться. Так что остаеется только Пустота Галларда под Чернотой. Хаману совсем не был в восторге от того, что придется довериться Галларду и идеям Галларда — но у него самого не был никаких идей, как и всех остальных.
— Не пора ли действовать? — спросил он, прерывая молчание, которое угрожало продлиться до утра.
Галлард усмехнулся, показав острые клыки, прятавшиеся за слабыми и толстыми губами. — Но мы нашли только один путь, не так ли?
И действительно, был только один путь: следовать указаниям Погибели Гномов, напрячь все их силы и опустошить Центральные Земли, выкачав из них необходимые элементы еще до рассвета, засыпав землю золой и пеплом, а потом доставить все нужное на верхушку белой башни Раджаата, где Галлард — и только Галлард — сидел в Хрустальном Шпиле перед Черной Линзой ожидая их и набираясь энергии. Положив склянку с дымящимся реальгаром[4] у ног Погибели Гномов, Хаману спустился по спиральной лестнице на землю. Вновь надев на себя свою человеческую иллюзию — которая всяко было более приятна, чем его настоящая худая фигура — он опять оперся на разрушенную стену. Доблестные Воины нуждались во сне примерно так же, как они нуждались в еде, но даже бессмертному сознанию надо несколько спокойных мгновений чтобы обдумать то, что произошло этим днем и ночью.
Большой Гутей исчез за горизонтом. На небе с тысячью звезд остался только маленький Рал. И ничто не сверкало так ярко, как охранные заклинания, наложенные слоями на тело Раджаата, и напоминавшие зеленые шелковые покрывала. Глядя на постоянно менявшийся рисунок заклинаний, Хаману потерял сам себя. Его мысли странствовали так далеко, что его сознание казалось пустым и почти миролюбивым. Глядя прямо перед собой он не видел ничего пока — с толчком возвратившегося сознания — он не заметил черную тень, которая разрезала охранные заклинания.
Он исцелился. Он ломает зашиту, подумал Хаману, холодный ужас стиснул его горло.
Но тень не была Раджаатом. Человек, склонившийся над телом Раджаата, отбрасывал тень; Хаману ясно видел ее. Человек, который был так занят снятием охранных заклинаний, что не услыпал легкие шаги другого Доблестного Воина за своей спиной, и не почувсвовал, как с его тенью смешалась другая тень, пока не было слишком поздно.
— Арала! — крикнул Хаману, схватив худую шею предателя и отрывая его от почти законченной работы.
Объекты, которые могли быть зубами Принесшего-Войну или костистыми пальцами торчали из руки Сача — за исключением того, что преступник не был Сачем Арала. За короткий момент, прежде, чем иллюзия соскользнула с облика врага, он узнал лицо Виана из Бодаха: того самого Виана, который раньше предлагал разрубить Раджаата на куски.
С руками и ногами в своей настоящей форме, Гроза Пикси выпустил когти, которые через иллюзию вцепились в настоящее тело Хаману. Лев зарычал, но крепко держал свою добычу, пока другой Доблестный Воин не появился, чтобы проверить что случилось. Неспособный отделить виноватого от невиновного, новоприбывший захлопнул заклинания вокруг них обоих. Ноги и руки Хаману стали тяжелыми, как пики Кригилл, но он все равно держал Виана. Еще одно заклинание — два, три, больше чем он мог сосчитать — окружили его. Рука, которая и так была тяжела, как гора, совершенно закостенела, когда поток заклинаний прекратился и Дрегош потянулся, чтобы освободить Виана.
— Он рассеял охранные заклинания! — объявил Гроза Пикси, когда настоящие пальцы Хаману больше не сжимали его горло. — Он осквернил Принесшего-Войну, осквернил его тело.
— Ты отрицаешь это? — Дрегош обратился к Хаману.
Тяжелый паралич ушел, Хаману согнул и разогнул мускулы, потом ответил. — Конечно отрицаю. Виан еще раньше сказал, что он хочет кусок тела Раджаата. Он описывает свое собственное предательство, не мое. Но вначале я подумал, что это Сач Арала. По ошибке я прокричал его имя.
Пар поднимался от носа Дрегоша, пока он переводил взгляд с Виана на Хаману и обратно.
— А где Сач? — спросил Албеорн, находившийся далеко справа от Хаману.
Он и все остальные быстро собрались. Некоторые вынырнули из нижнего мира, остальные из ночных теней. Среди них не было ни Сача Арала, ни Борса, ни, конечно, Галларда. Хаману осознал, что все смотрят на него, доверяя ему не больше, чем Виану, потому что он все еще был чужой в этой компании. Ему потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы совершенно точно вспомнить, что Борс сказал им, когда он с Сильвой развлекались в Ярамуке, прежде чем хриплый голос Сильвы прервал молчание.
— Сач с Борсом, где же еще? Он не часть этого дела — чем бы оно не было. И Хаману тоже. Если Лев из Урика сказал, что Виан собирался отрезать кусок от Раджаата, я верю ему, и я думаю, что мы должны дознаться почему прежде, чем Борс вернется.
Сильва была права насчет Хаману, хотя он знал, что она дорого заплатит за поддержку его. Быть может она права и насчет Сача, тоже. Быть может сикофант Раджаата не имел ничего общего с задуманным Вианом мрачным делом. Но сам Виан поклялся, что все обстоит иначе.
— Это все план Сача, — стоял на своем Гроза Пикси. — Он сказал, что все части тела Раджаата равноценны; он сможет восстановить себя даже по одной живой части, если поместить ее в бассейн под Черной Линзой. Он знал, что вы опутали его заклинаниями, так что он пришел ко мне, а я…
— А ты пришел к Раджаату. Ты устроил шторм в Серости, когда мы вышли из Ярамуке. Ты использовал его, чтобы незаметно слетать к Раджаату и обратно. Вот почему он ждал нас, вот почему погиб Пеннарин, — заключила Инесс, которая вычистила орков с поверхности Атхаса.
Это могло быть совершенно правильным объяснением. Один из них предупредил Раджаата — если волшебство Раджаата не была настолько могущественнее их, что он выследил их в Ярамуке, а они даже не заметили этого. Если сама Инесс не была предателем — когда один из Доблестных Воинов объясняет поведение другого, он — или она — сразу становится подозреваемым в глазах других. Хаману сам получил такую порцию несколькими ударами сердца назад. Но если и бывает выдержавшее испытание временем дружба среди Доблестных Воинов, она была между Инесс и Пеннерином, и к тому же они все предпочитали думать, что есть хоть какие-то границы для мощи их создателя.
Так что все подозрения падали на Виана, который перекладывал ответственность на Сача Арала, а этого здесь не было и защитить себя он не мог. По мнению самого Хаману события вполне могли происходить и без предательства Сача: Виан мог узнать все, что ему было нужно от самого Принесшего-Войну после того, как он пробежал всю Серость, чтобы предупредить его об опасности. Но Хаману мудро сохранил свои мысли о предателях при себе, не сказав ничего, когда Борс вернулся с двумя безупречными обсидиановыми сферами в руках, волоча на буксире Проклятие Кобольдов.
У Борса возникло другое подозрение: — Галлард, — крикнул он настолько громко, что белая башня, в которой Погибель Гномов готовил заклинание пленения, затряслась.
Галлард заворчал и отказался выйти. Воздух между Хрустальным Залом на верхушке башни и Борсом, стоящим на земле рядом с Раджаатом, заискрил синими искрами, пока они молчаливо спорили, сознание против сознания. Потом воздух успокоился и Галлард появился снаружи. Он поклялся, что не знает, о чем говорит Виан.
— И, если этот жалкий трус сказал правду, тем больше причин запереть Раджаата под Чернотой.
Борс не согласился. — Не в башне и не в бассейне. И не около Черной Линзы. Если она действительно в состоянии восстановить его.
Погибель Гномов сказал, что нет никакой опасности от заклинания, которое он собирается использовать. Хотя он и использует Черную Линзу, чтобы усились свое волшебство, тело Раджаата при этом останется там, где оно находится сейчас, достаточно далеко от белой башни и от загадочного бассейна с темной водой.
— Оставайтесь здесь и смотрите, — предложил Галлард с редкой щедростью, — или поднимайтесь наверх и смотрите, как я произношу заклинание.
Борс и Дрегош согласились, что половина из них будет с Галлардом в башне, а остальные останутся внизу, на земле. Иненек сделала шесть черных бусинок, для тех, кто останется с Раджаатом, и пять белых, для тех, кто поднимется по лестнице. Они вытащили бусины в порядке творения, включая Аралу и Виана, и прятали в своей ладони, пока Хаману не вытащил свою. Бусена Льва оказалась черной; а все остальные успели побелить свои.
— Кто-то сжулил, — запротестовала Инесс.
— А кто-то нет, — миролюбиво заметил Дрегош. — Я останусь вместе с Хаману. Мы разберемся с предателями позже, после того, как разберемся с Раджаатом.
Борс отдавал приказы с таким видом, как если бы он был всеми признанный вождь, но даже Палач Дварфов разговаривал вежливо и осторожно с Дрегошем. Смерть Гигантов был чем-то особым, уникальным, даже среди Доблестных Воинов: когда Раджаат нашел его, Дрегош уже был бессмертным и уже воевал с расой гигантов. В своей естественной форме он был огромным созданием, самым сильным из всех Воинов, и ближе всего к несущему смерть существу, которое смертные называли Драконом.
Когда Дрегош добровольно изменил цвет своей бусины, все остальные дружно решили, что нет никакой небходимости менять цвет их.
— Мы узнаем, если они попытаются обмануть нас, — сказал Дрегош, указывая на охранные заклинания над телом Раджаата.
Хаману, который вообще не понял, что имел в виду Дрегош, что-то неразборчиво пробормотал.
— И тебе тоже придется плохо, если задумаешь обмануть меня, — добавил Дрегош.
— У меня и мысли такой нет.
Было похоже, что Дрегош не услышал его слова. — Учти, Хаману, что на Атхасе нет места, куда бы ты мог сбежать, если бы попытался обмануть меня.
— У меня и мысли такой нет, — повторил Хаману. — Я не из тех, кто жульничает.
Третий Доблестный Воин нашел слова Хаману забавными, и негромко хихикал, пока в башне Галлард творил свое заклинание под Черной Линзой.
С течении многих лет, с того момента, как Хаману видел троллей, прыгающих с утеса, Хаману проводил свое время главным образом управляя непокорными людьми, а не изучая нижний мир. Он знал, что Серость была скорее тенью, чем субстанцией, а Чернота была чистой тенью и отсутствием субстанции. Но он не был уверен ни в том ни в другом. Тем не менее, он думал, что понял суть идеи Галларда, и ожидал, что окруженное заклинаниями тело Раджаата исчезнет из заливаемого лунным светом мира и окажется в пустоте, под другим местом, в котором нет ничего материального. И он более чем испугался, когда могучее заклинание Галларда не сделало ничего большего, чем запечатало тело первого волшебника в яйцевидный камень.
— Я мог бы вырезать дыру в любой горе Кригилл и поместить его туда, на дно, — пробормотал он.
— Интересно, — вот и все, что сказал на это Дрегош.
Хаману показалось, что огромный, испещренный крапинками камень совсем не то, что Галлард ожидал увидеть, когда привел публику под свет восходящего солнца. На какое-то мгновение зрачки Погибели Гномов стали белыми под радужной оболочкой, нижняя челюсть отвисла, но все это продлилось не больше одного удара сердца. К тому времени, когда начались вопросы и обвинения, Галлард или был честно уверен в своем заклинании, или был таким замечательным актером, каким Хаману не мог даже надеяться стать.
— Что-то необходимо сделать с этим веществом, — объявил он, давая проявиться своему беспокойству. — Я не в состоянии поместить это под Черноту. Это стало бы полным противоречием, недопустимым парадоксом. И никто не в состоянии предугадать, что тогда может произойти. Поэтому я оставил субстанцию здесь, пузырь в материальном мире. Но его сущность, уверяю вас, в Пустоте.
Борс положил свой кулак на камень. — Но если я попробую это взломать…
— Ты не сможешь, — прервал его Погибель Гномов.
— И тем не менее, если я это сделаю, я найду субстанцию Принесшего-Войну, и если я суну голову в эту твою Пустоту…
— Ты не захочешь это сделать.
— Но если я сделаю, я найду его сущность?
— Ну, в каком-то смысле да.
— В каком смысле? — Борс ударил по камню кулаком.
Хаману не видел, что случилось — он моргнул, как любой смертный дурак. Впрочем, не он один: глаза, например, Дрегоша еще были закрыты, когда Хаману открыл свои. Омываемый красным светом встававшего солнца, яйцеобразный камень Галларда был… камнем. Это не была пустота; кости Раджаата не бренчали внутри. Не было и трещин на том месте, куда ударил кулак Палача, не было и утечки волшебства.
— Все кончено, Борс, — устало сказал Галлард. — Он закован в Пустоте под Чернотой, навсегда.
— А мы должны вернуться к тому, что мы должны сделать, — потребовал Албеорн.
На этот раз в горло Виана вцепилась Инесс, крича, — Месть! Месть за Пеннарина! Смерть!
Но было легче угрожать смертью, чем на самом деле убить бессмертного Доблестного Воина. Без волшебства Раджаата никто из них не знал, как можно убить другого — пока. Подавляющие волю заклинания, вроде того, которое Борс использовал против Сача, был тяжелее для тех, кто их накладывал, чем для их жертв. И, в любом случае, Инесс не хотела безболезненного наказания или мгновенной смерти. Она хотела, чтобы смерть Грозы Пикси была самой худшей, какой только возможно; Хаману отчетливо видел это на ее лице, когда она глядела на Виана из Бодаха. И он видел также смертельную решимость на некоторых других лицах, включая Сильву.
Недоверие быстро превратится в убийство. Так что им всем придется всегда поддерживать защитные заклинания и не поворачиваться друг к другу спиной. Но Албеорн Убийца-Эльфов был вовсе не единственный Доблестный Воин, который хотел побыстрее покинуть белую башню. У Борса и Дрегоша были свои, еще не оконченные войны.
Заключение Раджаата вовсе не означало конца Очистительных Войн против эльфов, дварфов и гигантов, как смерть Мирона из Йорама не спасла троллей. Они спасали человечество, вот что было важно. Дети их собственных предков никогда не боялись армии, которую вел Доблестный Воин. И не считая Борса, который еле заметно кивнул, когда Лев из Урика посмотрел на него, никто из остальных не подозревал, насколько серьезна была опасность, нависшая над всем человечеством.
Виан и Сач получили отсрочку. Если они будут поумнее, они будут держаться как можно дальше от Центральных Земель, населенных людьми. Настолько далеко, насколько им разрешат солнце и луны. Когда Доблестные Воины отправились в свои места без пожелания «всего доброго» и прочих лживых обещаний, Хаману спросил себя, а не будет ли и для него более умным бросить Урик на произвол судьбы. Мир не кончается в Центральных Землях, за их пределами полным-полно места. Кое-что он уже видел, когда охотился на троллей. Безусловно мужчина — Бессмертный Доблестный Воин, умирающий от желания насладиться смертью человека — может найти себе соседей получше.
У Хаману не было возможности присмотреться к ним. Доблестные Воины напали друг на друга еще в нижнем мире, до того, как за ними исчезло сияние белой башни. Только сырая магия закрутилась вихрями в Серости. Хаману не знал, были ли атакующие заклинания направлены на него, или до него донеслось эхо сражения других между собой. Дорога через нижний мир была закрыта, все остальное не имело значения. Воспользовавшись секундным затишьем, он выскочил в материальным мир, правда в незнакомое место, оказавшись под лучами утреннего солнца. Упал, встал, соорудил себе иллюзию одежды и начал идти.
Четырьмя днями позже Лев из Урика вошел в ворота своего дворца. И не слишком удивился, когда обнаружил Галларда, поджидавшего его у колодца в одном из внутренних дворов.
— Мир. Договор. Любой, — быстро проговорил Галлард, сбрасывая с себя иллюзию слуги, протягивая вперед пустые руки и держа их ладонями вверх, чтобы показать, что он не держит в пальцах никакого волшебства. — Мы думали, что потеряли тебя.
Пока Хаману охлаждался и утолял свою жажду, Погибель Гномов рассказал ему, что произошло в Серости: кто напал на кого, и с каким успехом. Галлард мог бы рассказать ему и больше, но Хаману быстро оборвал его.
— Ваши войны и споры это ваше дело. Почему это должно меня заботить?
Погибель Гномов ответил быстро и неожиданно: — Потому что пока они сражались между собой, Сач Арала и Виан разбили камень.
Хаману, ливший воду из ведра прямо себе на голову, швырнул покрытое соломой глиняное ведро через весь двор, разбив его о стену. Раздался глухой звук, стена не выдержала и обрушилась на землю бесформенной массой.
— Он свободен?
Галларда передернуло. — Еще нет. Ты нам нужен, Хаману. Нам нужны все.
— Я должен опять взять реальгар? — Хаману поглядел в сторону тщательно закрытого хранилища, в котором он хранил свои компоненты для заклинаний.
— Для этого слишком поздно. Нам надо торопиться.
Доблестные Воины все еще не нашли способ убить друг друга, но безусловно приблизились к решению. Сач Арала и Виан, избитые до того, что их обоих стало невозможно узнать и отличить друг от друга, были привязаны тем, что казалось обычными веревками к колоннам по обе стороны ворот белой башни. За ними присматривала Инесс, с каменной кувалдой Дрегоша в руках. Они поступили бы умнее, если бы сбежали — но у них не было шансов.
Значительно больше, чем судьба двух более слабых Воинов Хаману беспокоил яйцеобразный камень, вокруг которого собрались семь других Доблестных Воинов. Зеленые толстые слои шевелящихся защитных заклинаний не могли скрыть огромных трещин. Пока Хаману глядел, отростки яркой, светящейся магии, длиной не меньше пальца, вылезли из одной из темной трещин. Они извивались как слизни, пока защитные заклинания не уничтожили их. Черная Линза была поблизости, так что Воины могли постоянно обновлять защиту. Дернув пальцем, почти не думая, Хаману добавил свое заклинание к куче. Но все это не могло держаться вечно, во всяком случае не против первого волшебника.
— А что с Пустотой под Чернотой? — спросил Хаману.
Борс взглянул на Галларда, который только покачал головой. — Слишком опасно даже приближаться, чробы взглянуть. Но она держит… должна! Если бы Пустота треснула, накакое заклинание не удержало бы тело в камне.
— Ну, и мы должны ждать, пока он освободиться, или что?
— Еще один камень, — посоветовал Албеорн. — Побольше, вокруг этого.
Хаману скептически изогнул бровь.
— У тебя есть мысль получше? — спросил Борс, поднимая кулак.
Лев из Урика не был большим специалистом по волшебству, по меньшей мере тогда, и хотя ему было нечего предложить, зато он мог поддержать и усилить любое действие, физическое и магическое, какое бы не предложили более опытные Доблестные Воины. Работая вместе, они построили второй камень вокруг первого. Им показалось, что новая тюрьма будет держать, но во время захода солнца на поверхности испещренного крапинками камня они заметили темные линии, а когда встала луна, на ней заиграли темно-синии искорки.
— Он исследует слабости между нами, — устало сказала Сильва.
Хаману пришел к тому же заключению, но золотоволосая королева Ярамуке высказалась раньше.
— Нам нужно сделать своего собственного Раджаата, прежде чем мы построим тюрьму для этого, — тихо предложил Борс.
Хаману думал, что Борс, который стоял перед ними в виде высокого, с толстой шеей и вооруженного как тролль Палача-Дварфов, был в своей естественной форме, но это была иллюзия, как всегда. Когда золотой свет заиграл вокруг него, Борс переделал себя. Его голова стала клином, наполненным клыками. Глоза засверкали кровавым солнечным светом. Руки и ноги вытянулись, изменили пропорции. Хотя он и остался стоять на двух ногах, было ясно, что из-за массивного торса ему будет намного более удобно поддерживать свой возросший вес при ходьбе на всех четырех.
— Я предлагаю себя, — Борс сформировал из своих слов заклинание, которое повисло над несовершенной тюрьмой. — Помогите мне закончить метаморфозу, и я сохраню Раджаата в Пустоте.
Дрегош зарычал, но он и близко не был таким драконом, каким уже был Борс. Так что его гнев показался всем слабым и бессильным.
— Подумай о риске, — сказал Хаману, думая о себе и своей собственной метаморфозе, которая угрожала ему. Он даже не заметил, что сказал это вслух.
Я уже думал, передал Борс в сознание Хаману. Мой риск не так велик, как мог бы быть твой. Я закончу с дварфами — а также эльфами и гигантами — но человечеству нечего бояться меня. Атхас будет нашим миром, миром людей и Доблестных Воинов, в котором Раджаат не будет иметь ни силы ни влияния.
— И я поверил ему, — сказал Хаману Виндриверу, когда они оба рассказывали друг другу о событиях, которые навсегда остались в их памяти.
Виндривер был около белой башни в ту ночь, когда Хаману и остальные Доблестные Воины создали дракона, при помощи Черной Линзы.
— Твои Воины всегда врут, — спокойно возразил Виндривер. — Тогда и сейчас.
Перед внутренним взором Хаману вспыхнуло одно из самых мрачных воспоминаний, хранившихся с сумрачном ландшафте его памяти: облако из мерцающего тумана окружает Борса. Облако растет и растет, пока на накрывает всю белую башня и угрожает проглотить всех Доблестных Воинов. Виан и Сач вместе вскрикивают, потом замолкают. Два маленьких темных шара вылетают из тумана и исчезают в ночи. Эти шары — отрубленные головы предателей, все еще наполненные бессмертной жизнью, потому что Борс оказался неспособен убить их, хотя и пожрал их тела. Инесс громко ликовала, а потом она закричала, тоже.
Борс не смог остановиться на предателях: он нуждался и во всех них. Они все недооценили, как далеко зашла метаморфоза Раджаата, как много жизни должно пожрать заклинание, прежде чем возникнет и утвердится Дракон. Содрагаясь от боли и бессмертного страха, Доблестные Воины бросились прочь от белой башни, спасая свою жизнь, но оставив за собой наполовину-рожденного дракона.
Сотню лет Борс рыскал по Центральным Землям, уничтожая все на своем пути, прежде чем закончил волшебную трансформацию, начатую рядом с башней Раджаата.
— Он не был Раджаатом, — сказал Хаману, что было половиной правды. — Он не был тем, чем я мог бы стать.
— Но ты не уверен, — мягко упрекнул его Виндривер.
— Я заглянул внутрь себя. Я увидел Дракона Урика, старый друг. Я уверен. Так что мы не сделали ошибку, старина, просто у нас не было выбора.
Тринадцатая Глава
Закат в Кригиллах: огненный шар, пронзенный черным зазубренными пиком, западный горизонт сверкает волшебными грязно-бурыми цветами, и, наконец, звезды, одна за одной, более яркие и крупные, чем они видны над пыльной равниной.
Хаману вытянул руку и набрал кусочек звездного света в руку. Он играл со светом, как ребенок — или танцор — может играть, наматывая сияющие серебряные нити на движущиеся пальцы. Внутри себя он слышал мелодию дудки, которая заглушала все остальные мысли, убаюкивала опасения и тревоги. Один, в мире с природой, он забыл даже о том, где находился, пока не услышал голос Виндривера.
— Мир простирается далеко за пределы Центральных Земель. Есть роскошные леса в Поющих Горах и кто-знает-что на дальних берегах Илового Моря. За горизонтом лежат чудеса, — заявил призрачный тролль, как если бы они были двумя старыми купцами, ищущими новых рынков.
— Оставить Урик своей судьбе? Без меня?
— Ты сам выбрал Урик своей судьбой. Но ты Хаману; у тебя есть твоя собственная судьба. Ты будешь всегда. Ты можешь выбрать что-нибудь другое, в другом месте.
Хаману подумал о львиноподобном гиганте, стерегущем Черноту и Пустоту под ней. — Хаману это Урик, а Урик это Хаману. — Он стряхнул капли звездного света со своих ладоней. — Если я уйду куда-нибудь далеко, за моей спиной останется слишком много. Я сам останусь за моей спиной.
— А что о тебе самом, Хаману? Борс мертв. Тюрьма Принесшего-Войну не в состоянии удержать его. Если ты можешь поверить в то, что он сказал — если — ты ничего не сможешь сделать, чтобы спасти Урик. А если он лжет — как он это обычно делает — то что эти человеческие Доблестные Воины сделают дальше? Есть ли страх сильнее, чем жадность такого Воина? Что если один из вас станет следующим великим Драконом и за век спалит Центральные Земли? И нет другого пути.
— Должен быть! И я найду его! — крик Хаману эхом отразился от стен гор. Облако бледной пыли поднялось в воздух над окрестностями. — Я найду способ спасти Урик и мир без Дракона и без Раджаата.
Виндривер слился с оседающей пылью. — Здесь ты ничего не найдешь. Уже тысяча лет, как Кригиллы умерли. Здесь нет ответов на твои вопросы, Хаману. Забудь прошлое. Забудь это место. Забудь Дэш и Кригиллы, твою женщину и меня. Думай о будущем. И подумай о другой женщине, Садире из Тира. Раджаат приложил руку к ее созданию, это верно, и он использовал ее, обманул и тебя и ее саму. Но она не Доблестный Воин. Ее изменения начинаются каждый день на рассвете и заканчиваются на закате. Оне не бессмертна. Она не привязана к Черной Линзе. Она не как ты, Хаману, совсем не как ты, но и у нее есть магия, только днем, но есть. Найди способ, чтобы ее заклинания работали и ночью, и может быть ты сумеешь сохранить Атхас без всякого Дракона или Принесшего-Войну.
— Садира дура. — Он ясно увидел ее мысленным взором: высокая, какими бывают полуэльфы, очень экзотически выглядящая женщина тогда, когда солнечная магия бросает тень на ее кожу.
Садира из Тира была прекрасна, хотя давно прошло то время, когда на решения Короля-Льва влияли хорошенькие ножки или высокая грудь; а предубеждение Раджаата относительно двоюродных родственников человечества он разделял задолго до этого. Эльфы, дварфы, даже тролли и другие расы, которые Раджаат не смог бы себе вообразить, были под кожей в сущности те же люди.
Они не были неудачниками, отверженными или какими-то изувеченными душами, обзаведшимися плотью и кровью; внутри они были личностями, бесконечное разнообразие индивидуальных сознаний. Он сам был человеком, и не призирал себя за это. Да, это было проклятие Раджаата — одно из многих. Первый волшебник презирал сам себя, и из-за ненависти к самому себе сотворил Доблестных Воинов и Очистительные Войны.
Безумие Раджаата ничего не могло сделать с мнением Хаману о Садире. — Она дура, очень опасная дура. — Или с его мнением об ее управляемым городским советом городе. — Они там все дураки.
— И ты был таким же, когда-то. Ее учителями были только дураки, разве не так? У тебя есть только три дня, Хаману. Это достаточно много, если использовать их с умом.
Виндривер исчез прежде, чем Хаману сумел сочинить подходящий ответ. Он мог бы призвать тролля обратно. Виндривер приходил и уходил только по молчаливому согласию Короля-Льва; его свобода была не менее иллюзорна, чем смуглая и черноволосая человеческая личина Хаману. Когда его хозяин хотел его видеть, раб должен был явиться, и не имело значения, где он сейчас находится и насколько далеко.
Хаману решил, что тролль отправился в нижний мир, но вроде бы его там не было. Как и пыль, поднявшаяся от голоса Хаману, Виндривер мог колыхаться, невидимый и неощутимый, среди старинных остатков домов троллей. Он мог оставаться так и тогда, когда Хаману разрезал воздух, шагнул в Серость и из горной долины вышел на равнину, на северо-западе от Урика.
Лев из Урика знал дорогу в Тир, самый старый город в Центральных Землях. Калак, ныне умерший тиран Тира, стал бессмертным еще до того, как начались Очистительные Войны. В отличии от Дрегоша, Калак отверг предложение Раджаата и никогда не был Доблестным Воином, хотя в хаосе, начавшимся после преобразования Борса в Дракона, он и нашел то, что осталось от Сача Аралы и Виана.
Тиран Тира подчинил себе лишенные сознания головы, заменив их воспоминания ловко придуманными унижающими их выдумками. Он убедил их, что он — не они — был источником магии Темной Линзы, которую он передавал темпларам Тира и которую они использовали в бесконечных войнах с своими соседями, Доблестными Воинами.
Если бы он постарался, Хаману мог бы наказать как Грозу-Пикси так и Проклятие-Кобольдов, но он даже не пытался. Предатели в конце концов служили интересам Урика, потому что Тир контролировал самые большие на Атхасе залежи железа, как Урик контролировал обширные обсидиановые копи около вулкана Дымящаяся Корона. С магией Черной Линзы, пусть и исходящей от предателей, Тир уверенно управлял копями и плавильными печами, и сохранял их от жадных рук настоящих Доблестных Воинов.
Хаману не хотел, а другие никогда не потерпели бы того, что Урик контролирует как железо, так и обсидиан. Они все объединились бы против него, как они сделали сейчас, и сам Борс повел бы их. В течении тринадцати веков Король-Лев чаще поддерживал Тирана Тира, чем воевал против него, пока этот слабоумный дурак не решил, что может стать драконом — соперником Борсу.
Именно эта монументальная глупость, сделанная пятнадцать лет назад, привела Хаману этим ранним утром на Железную Дорогу. Превратившись в потрепанного бродячего купца, король Урика медленно брел по утреннему холодку, спрашивая других купцов: — Где имение Астиклов? — в котором, согласно донесениям его шпионов, жила волшебница вместе с бывшими заговорщиками и бывшими рабами.
Ему указали утоптанную дорогу, которая вела мимо усадеб, ферм и орошаемых полей. Гутей пронес свои кольца над всеми Центральными Землями, не только над Уриком. Поля были роскошными и зелеными, хотя всходы были не так высоки, как в Урике. Негибкое Собрание Советников, которое горожане называли просто советом, не призвало ополчение для защиты возделываемых полей или для использования щедрости Гутея. Фермерам Тира пришлось ждать, пока их поля почти полность высохли, и только тогда они стали сажать. Впрочем Тир все равно соберет хороший урожай, хотя ничего похожего на то, что соберет Урик… если Урик все еще будет существовать через четыре дня.
Впрочем низкие урожаи были вызваны не только ошибками совета Тира. Тиряне страдали из-за своей неудачливой истории.
Несмотря на двухтысячелетнее правление Калак никогда не понимал, что мощь города измеряется не размерами его армии или великолепием его дворцов, но трудом его рабочих и фермеров. В хороший год Тир мог прокормить себя; в плохой ему приходилось покупать зерно в Урике или Нибенае.
Калак был человеком без широкого кругозора и воображения. В Урике жили свободные и рабы; вольные ремесленники и ремесленники, принадлежащие к гильдии; аристократы, жившие в своих имениях за стенами города, и аристократы, жившие как купцы около рыночных площадей. В Урике мужчины и женщины самых разных сословий могли найти приложение своим амбициям и предприимчивости. А в Тире народ был свободен, богат и знатен, или беден, порабощен и стоял на самом низу социальной лестницы. И в течении двух тысяч лет амбиции и предприимчивость считались уголовными преступлениями.
Впрочем мятежников Тира, чье безрассудство поставило Центральные Земли на уши, можно извинить, так они считали, что рабство является причиной всех их проблем. Намного проще увидеть страдающих рабов и освободить их, чем воскресить динамическое общество, страдающее от застоя. По меньшей мере управляемый советом город не стал жертвой буйной анархии, в отличии от Раама и Драя, которые до сих пор не могут придти в себя после смерти их королей-волшебников.
Садира и ее товарищи показали себя людьми — или полуэльфами — способными учиться на своих ошибках. Возможно Виндривер прав, и у Тира есть будущее в Центральных Землях.
Хаману сошел с утоптанной дороги. Он подошел к воротам, охраняемым двумя женщинами и стайкой детей, которые не могли бы удержать его даже в том случае, если бы он действительно был бродячим торговцем. И действительно, настоящей проблемой Короля-Льва было не попасть в поместье, а отбиться от любопытных женщин, которые хотели посмотреть и купить все его несуществовавшие товары. Осознав, что любопытство будет самым худшим из того, с чем ему придется столкнуться в поместье, Хаману подобрал несколько сухих листьев и булыжников, проходя через ворота.
— Для удовольствия вашей хозяйки, — объяснил он, показывая этот мусор сторожу у ворот.
Крошечное касание сознание — недостаточно сильное, чтобы пробудить чьи бы то ни было подозрения — и стражник увидел то, что он хотел увидеть.
— Я пришел, чтобы пожелать Садире удачи этим замечательным утром. Может быть мои безделушки развеселят ее.
Стражник хихикнул и потер руки, — Следуй за мной, добрый человек. Я уверен, что она захочет что-нибудь взять для Рикуса и Ркарда.
Хаману спросил себя, что именно увидел человек, но сохранил свой вопрос для себя самого, пока стражник вел его через последовательность коридоров и двориков в маленькую элегантную комнату, где — судя по горьковато-сладкому запаху воздуха — Садира из Тира предавалась маланхоличным мечтам.
Больше оставаться не нужно, внедрил Хаману мысль в сознание стражника. Я сам представлю себя твоей хозяйке.
Когда стражник скрылся за поворотом, Хаману стер всякое воспоминание о своем присутствии из памяти смертного. Потом переступил через порог и вошел в комнату Садиры.
— Дорогая леди-? — Он прервал ее так нежно, так немагически, как только смог, хотя помимо простой иллюзии бродячего торговца он никак не замаскировался, и Садира должна была узнать его немедленно.
Что она и сделала. — Хаману!
— Нет причин для тревоги, дорогая леди, — быстро сказал он, вытянув руки перед собой, ладонями вверх, хотя ему, как и ей, не надо было ни традиционных жестов ни традиционных источников, чтобы использовать магию. — Я пришел поговорить…
Прежде, чем Хаману успел сказать что-либо еще, чтобы успокоить ее, волшебница сотворила заклинание. Оно вырвалось из нее быстрее мысли, и какую бы цель оно не приследовало, единственным результатом стало мгновенное уничтожение маленького камня, который Хаману хранил между черными костями левого предплечья.
Дымящаяся дыра возникла внутри иллюзорного бродячего торговца. Горячая вязкая кровь полилась на пол, испортив изысканную мозаику. Физическая боль была не слабой, но она не шла ни в какое сравнение с остановившим сердце шоком, когда серый дым повалил из раны. Хаману хлопнул правой рукой по дыре. Дым обвился вокруг его пальцев и принял форму Виндривера.
— Наконец-то мы пришли к концу истории троллей.
— Нет. — Тихое, бессильное отрицание.
— Хаману, дай прошлому уйти. Время пришло.
Еще одно отрицание, такое же бессильное. Дыра в руке опустела. Виндривер был настоящий, и вот он уходит. Страшный нерассуждающий гнев поднялся в Хаману, и он начал пить жизнь вокруг себя.
— Оставь это, Хаману, — посоветовал Виндривер, его едва теплая, едва ощутимая рука легла на раненую руку Короля-Льва. — Я знаю все, о чем ты думаешь. Ты думаешь, что это не случайность. Ты думаешь, что это моя месть. Нет, Хаману, ты не прав. Тринадцать веков слишком большой срок для любой мести. Мы и так сражались слишком долго, Хаману. Лучше подумай о будущем. — Дымные пальцы тролля начали исчезть. — Я буду ждать тебя, Ману из Дэша. Я приготовлю место рядом с собой, где камень еще молод…
Четыре грязные полоски сажи на руке и большое пятно на полу было все, что осталось последнего и самого великого командира когда-то великой расы, которую люди называли тролли.
Садира встала со своего стула. Ее нога опустилась рядом с пятном.
— Назад! — предупредил Хаману.
Внутри него была сила смерти, и он хотел использовать ее. Она жива только потому, что Виндривер хотел, чтобы она жила. Хаману хотел бы уважить последнее желание тролля — если будет в состоянии. Но если он не разрешит ей жить, тогда ему самому придется расхлебывать последствия этого, очень страшные последствия.
Садира почувствовала опасность и отступила. — Что… — начала она, но затем поправила себя. — Кто это был? Еще один дракон?
Это был почти-честный вопрос. Полуэльфийка не имела понятия ни о троллях, ни о Сжигателе-Троллей. Вместо этого ее опыт связал Хаману с драконом. Он собрал свои разбежавшие мысли и попытался что-то сказать, но опоздал.
Садира неправильно истолковала его молчание. — Ты думаешь, что можешь придти сюда и испробовать твою лживую магию на мне? — высокомерно спросила она, а волшебство Раджаата уже бурлило в ее сознании. — Я знаю, как уничтожать драконов. Калак, Раджаат, Борс, ты — вы все на одно лицо. Вы уничтожаете наш мир. Атхас не будет в безопасности, пока жив хотя бы один дракон.
Клубок спутанных эмоций Хаману внезапно развязался. Гнев, который мог убивать мыслью, исчез, как холодный ветерок в полдень. Тоска и печаль, возникшие в тот момент, когда он остался один — совсем один — ушли. Он совсем забыл, по большей части, ради чего пришел, и о том, что обещанная Раджаатом смерть нависла над его городом. Остались железная воля, жестокость и эта девица-полуэльф, которая полностью заслужила его гнев.
Она была дура, и он собирался насладиться моментом, доказывая ей это.
— Ты слишком мало знаешь, Садира из Тира, если не видишь разницы между Калаком и Борсом, Борсом и Раджаатом, Раджаатом и мной.
— Нет никакой разницы. Вы все одинаковые. Зло. Выпивающие жизнь осквернители, — убежденно сказала она. — Я знаю, что ты черпаешь свою магию из Черной Линзы. Я знаю, что ты поработишь весь Атхас, если тебя не остановить. Я знаю все твои хитрости, всю твою ложь, ты уже говорил мне их в тот день в Ур Драксе, когда Ркард взял верх над Раджаатом. Ты, и другие детишки, вы восстали против вашего отца, но единственной причиной для этого была зависть. Вы хотели забрать его силу себе. Что еще я должна знать?
— Ты должна знать, что каждый дракон нечто совсем другое, и что Раджаат создал драконов тогда, когда создавал магию, и что это было задолго до того, как он создал Доблестных Воинов и развязал Очистительные Войны. Ты должна знать, что если волшебник живет достаточно долго, чтобы овладеть секретами Невидимого нижнего мира, этот бессмертный волшебник может превратить себя в дракона — но не в такого, каким был Борс. Борс не был волшебником, ставшим драконом; он был Доблестным Воином. Раджаат лепил своих Воинов из человеческой глины в своей белой башне. Он купал их в бассейне с темной водой и ставил в Хрустальный Шпиль под Черную Линзу. Дракон является частью природы Доблестного Воина — большей частью, неизбежной частью — но только частью, хотя и самой могущественной частью.
— Что-нибудь еще? — спросила Садира, притворяясь незаинтересованной.
Она притворялась назаинтересованной, так как у ней была своя черная кожа-броня и своя теневая магия, потому что она тоже погружалась в бассейн с темной водой и она тоже стояла внутри Хрустального Шпиля. Ее мысли выдавали глубокую тревогу, она не понимала силу, которую так свободно использовала. Черная Линза не была в своем настоящем месте, когда народ тени преобразовывал ее. И Раджаата не было там, к счастью, но теневой народ Башни стоял на стороне Раджаата, и они действовали по его приказам. Так что у Садиры был повод для беспокойства.
Хаману еще подогрел ее беспокойство.
— Борс был Доблестным Воином. Я — последний Доблестный Воин Раджаата, созданный для завершения Очистительных Войн. Калак не был Доблестным Воином, — начал Хаману.
— Скажи это его темпларам.
— Сач Арала и Виан Бодах, Доблестные Воины Раджаата, были защитниками и миньонами Калака — а также дураками и предателями. Они давали темпларам Тира магию. Они могли сделать это для кого угодно — особенно после того, как Тихиан нашел Черную Линзу.
— Тихиан, — вздохнула Садира. В Тире все разговоры рано или поздно возвращались к Тихиану.
— Тихиан хотел всего: заклинаний Раджаата, бассейн, башню, Черную Линзу. Он не думал о драконах. Он думал, что хочет стать королем-волшебником, но на самом деле хотел стать Доблестным Воином.
— Мог бы он, — волшебница не выдержала и уступила своему любопытству. — Мог бы Раджаат сделать из Тихиана кого-нибудь, вроде тебя или Борса? Раджаат охотился на королей-волшебников и убивал их, так что я не думаю, что он захотел бы сделать еще одного Доблестного Воина.
Силки были расставлены, жертва почуяла приманку, остались только меленький толчок и подножка. — Раджаат уже сотворил нечто новое: кое-кого получше, чем бессмертный Доблестный Воин, который так легко ускользает из-под контроля. Правда, это сделал не он сам, его миньоны выполнили за него всю работу в башне — с его разрешения, разумеется. Иначе они не вообще не смогли бы наделить ее магией. Она не может призывать Черную Линзу, не может передавать ее силу своим друзьям, потому что Ченой Линзы не было в Башне, когда ее делали. И, будучи смертной, она не сможет прожить настолько долго, чтобы стать драконом. Но она все еще служит его целям; она уже…
Садира закипела от гнева на своем стуле. Ее кожа была темной, как всегда, когда кровавое солнце еще было над горизонтом, и магия бурлила в ее крови, магия, которую она собиралась обрушить на него. Но последний Доблестный Воин Раджаата — и настоящий — уже спустил пружину своей ловушки. Ракрыв рот пошире Хаману сильно вдохнул. Все тонкое покрывало теневой магии слетело с ее кожи и подхваченное легких вихрем полетело к нему, а Садира с широко раскрытыми от ужаса глазами ничего не смогла сделать, чтобы остановить его.
— Вот, — сказал Хаману бледной и трясущейся волшебнице, — несколько фактов о тебе самой, которые ты, конечно, не знала.
Он сбросил с себя то, что еще оставалось от бродячего торговца, и стал своей любимой иллюзией: могучий человек со смуглой кожей и черной гривой волос. Его глазах стали цвета серы. А украденное покрывало ее магии плавало, извиваясь, вокруг его рук.
Тогда она попыталась использовать обычное заклинание. Хаману поднял палец, и отрезал ее от всех видов волшебствя. Дракон может сотворить заклинание, пользуясь жизненной силой, запасенной заранее; смертная волшебница не может запасать силу, чтобы использовать ее потом. Садира скрестила руки на груди.
— Почему ты пришел? Почему ты пришел сюда именно сегодня? Ты мог бы убить меня в любой момент.
— Но я пришел вовсе не для того, чтобы убить тебя, дорогая леди. Я пришел поговорить с тобой, но ты не захотела выслушать меня, и из-за этого никто больше не увидит тролля — серебряную тень тролля — опять.
Слова извинения закрутились на поверхности сознания Садиры. Она сглотнула их не произнеся, что было мудро, потому что ее извинения были не искренни. Ей не было дела до троллей; ее не волновали потери Хаману. — Ты пришел говорить, говори, — сказала она, ее мысли были смесью страха и отвращения.
— Мы будет говорить о волшебстве. Твоем волшебстве. Его надо усилить. Ты знаешь, — Хаману порылся в воспоминаниях Садиры. — Ты впервые узнала несколько заклинаний в двенадцать лет, когда Ктандео из Союза Масок пришел в, — он копнул глубже и нашел имя, — имение Мериклов, принадлежавшее Тихиану.
Брови Хаману поднялись. Он даже не подозревал о такой старой связи между волшебницей и узурпатором, между рабыней и ее хозяином.
Садира скорчилсь на своем стуле. Когда он улыбнулся, она просто заледенела. В ее сознании сменялись один за другим ужасные картины того, что он может с ней сделать; к ним примешивались и обычные женские опасения, совершенно бессмысленные в его присутствии. Более глупых мыслей трудно было и представить: Король-Лев не насиловал женщин с тех пор, как Борс стал Драконом Центральных Земель.
— Я здесь не для этого, — устало сказал он. — От Ктандео ты научилась красть жизненную энергию растений и использовать ее в своих заклинаниях. Ты узнала, что с обсидианом между тобой и твоим заклинанием ты можешь украсть жизненную силу из вообще любого живого создания. Черная Линза тоже разновидность обсиадиана, дорогая леди, но очень особая разновидность: она крадет от солнца, источника жизни всего Атхаса. Я не знаю, где Раджаат нашел ее, но он ее не делал. Он использовал ее чтобы создать Доблестных Воинов, но главным образом для того чтобы красть энергию, красть прямо от солнца, как ты когда-то научилась красть ее прямо от растений.
— А народ тени? Раджаат уже нашел путь красть от солнца, когда он делал Умбру, Кодара и других теневых гигантов?
— Принесший-Войну нашел этот путь задолго до этого, — Хаману вытянул руку. Теневая пелена перестала извиваться и опустилась на его смуглую кожу, накрыв ее темным покрывалом. — Но мой путь, напротив, был совершенно независимым. Я восстал, отказался от своей судьбы. В результате все мы, Доблестные Воины, восстали против него и заточили его в тюрьму под Чернотой. Множество веков Раджаат исследовал солнце и свет; в Пустоте он изучил тьму и тени. Вот тогда он и сделал народ тени, а народ тени сделал тебя. Но одна вещь остается верной независимо ни от чего: что бы Раджаат не делал, его волшебство всегда имеет цену, за все надо платить. Каждый раз, когда ты используешь дар, который теневой народ Раджаата дал тебе, усиливаешь ли ты свое заклинание, или спасаешь чью-то жизнь, ты все глубже соскальзываешь в тенета судьбы Раджаата.
Садира встала. Она стояла в ярком солнечном свете, лившимся через открытое окно. Ее мысли двигались далеко под поверхностью ее сознания. Хаману оставил ее одну. Если волшебнице стало холодно, свет согреет ее. Если она думает, что ее теневой дар восстановится, она будет жестоко разочарована. Ее черная кожа вернется только завтра, и никакие солнечные лучи ей не помогут.
— Я хотела бы знать, — сказала она так тихо, что никакое смертное ухо ее не услышало бы, но достаточно громко для Короля-Льва. — Я хотела бы знать, не стала ли я одна из них. Это неправда. Это не может быть правдой. А Хаману известный лжец и обманщик.
Хаману молчаливо встал за ее спиной и мягко положил руки ей на плечи. Она вздрогнула, как если бы мысль о сопротивлении возникла в ее сознании, а потом умерла.
— Дорогая леди, у меня нет ни желания, ни необходимости обманывать тебя. Волшебство Принесшего-Войну живет как в тебе, так и во мне. Оно накладывает свет и тени на наши мысли. Мы сами обманываем себя. — Немедленно перед его мысленным взором возникло озеро лавы. — И мы обманываем друг друга…
Садира резко оборвала его. — Я не такая, как ты. Я пришла в Башню Пристин только потому, что Дракон должен был быть уничтожен, и народ тени дал мне силу, чтобы уничтожить его.
Озеро исчезло; вернулась жестокая необходимость заставить ее страдать, заставить ее заплатить полную цену за исчезновение Виндривера. — Народ тени Раджаата! Народ тени Раджаата помог вам, потому что Борс был ключом к тюрьме Принесшего-Войну. Как только вы все уничтожили Борса, Раджаат освободился…
— Раджаата освободил Тихиан! У него была Черная Линза.
— Тихиану помогал тот самый народ тени, который привел тебя в Хрустальный Зал башни.
— Я сражалась с Раджаатом. Он убил бы меня, если бы Ркард не использовал солнце и Черную Линзу против него. Я сотворила заклинания, которые вернули его обратно под Черноту. Я опустила его кости и Черную Линзу на дно озера из расплавленного камня, и никто не сможет вынуть их оттуда. Да как ты мог осмелиться даже подумать, не то что сказать, что я творение Раджаата и служу ему!
Хаману обнаружил, что ему приятно трогать ее волосы. Как и у Ману много лет назад, у Садиры в руке были все разрозненные части головоломки, но она не смогла увидеть общую картину. Но в отличии от Ману, рядом с ней был кое-кто постарше и поумнее, который сможет сложить куски вместо ее. И он покажет ей, что получается, без всякой пощады.
— Дорогая леди — что такое обсидиан?
— Черное стекло. Куски черного стекла, которые добываются рабами на копях Урика.
— А перед тем, как они стали черным стеклом? — Хаману не обратил внимание на вполне предсказуемую провокацию.
Она не знала, и он сказал ей.
— Обсидиан — это лава, дорогая леди. Расплавленный камень. Если лаву очень быстро охладить, она превращается в обсидиан. Ты, дорогая леди — как ты и сказала — опустила кости Раджаата и Черную Линзу в озеро лавы. Почувствовала ли ты Черноту, дорогая леди? Она очень холодная, и Раджаат, дорогая леди, находится как под Чернотой, так и на дне озера лавы. Подумай о Черной Линзе, запечатанной в горе обсидиана. Подумай о Раджаате — или о Тихиане, если он тебе больше нравится — творящим заклинания.
— Нет, — прошептала Садира. Она упала бы, если бы его руки не поддержали ее. — Мое заклинание связало их.
— Когда ты была в Ур Драксе в последний раз? Давно? — Хаману передал прямо в сознание Садиры образ окруженного туманом озера. — Твои заклинания слабеют с каждым днем. — Ее пульс замедлился настолько, что стал биться в унисон с мрачным красным трепетом лавовой расселины. — Раджаат сейчас только тень того, чем он был, но у Принесшего-Войну тень — это сущность. Тихиан служит ему, как когда-то служил Сач Арала, и Урурпатор настолько ослеплен собственными амбициями, что даже не замечает, как он глуп. А иногда глупый враг — самый опасный из всех врагов…
Без предупреждения Хаману накинулся на сознание Садиры. Последний Доблестный Воин Раджаата обыскал всю память волшебницы, вытащил и подробно изучил все, к чему она была привязана, любое желание, которое она испытывала с детства, все, что только возможно, в поисках тени их общего создателя. Он был быстр и жесток; атака закончилась прежде, чем она успела вскрикнуть. Хаману забрал и ее голос, на всякий случай.
Садира извивалась в руках, держащих ее за плечи. Хаману освободил ее. Она закачалась и поплелась к окну, не удержалась на ногах, рухнула на пол и свернулась клубком, излучая ужас и несчастье. Глаза и рот были широко открыты, пальцы бессильно дрожали около бессловесного горла.
— Я должен знать, — объяснил он. — Я должен знать, на что ты способна.
Теперь Хаману знал, на что она способна — не только потому, что обыскал и перевернул вверх дном сознание женщины, но и потому, что сам внедрил в нее кое-что из своих тысячелетних воспоминаний о Виндривере. Теперь Хаману был уверен, что Виндривер не будет забыт женщиной, чье заклинание его как освободило, так и — в глазах Короля-Льва — убило. Что бы там Садира не помнила, командира-тролля она не забудет никогда. Это было грубое, злое правосудие: справедливость по Хаману, справедливость Льва, вообще не суд, а вина и наказание горем.
Волосы Садиры упали на лицо, пока она боролась с заклинанием Хаману. Пальцы глубоко зарылись в золотые локоны. Она вздохнула, громкий, судорожный вздох, руки и ноги остались прижатыми к полу. Тем не менее хоть какой-то звук. Волшебство Короля-Льва рассеивалось.
— Бояться нечего. И не надо кричать. Ты творение Раджаата, но у тебя есть свободная воля и ты не служишь ему.
Садира отбросила волосы с лица. Ее мрачные глаза отвергали с порога все слова Хаману. — Я скорее бы умерла, — прошептала она. — Я не творение Раджаата. Я бросила его кости и Черную Линзу туда, где, как я думала, они будут запечатаны навсегда. Вот если ты знаешь что-нибудь другое, тогда можешь меня проклинать. Я сделала то, то считала правильным. Если бы я была посильнее, — Она подняла голову и посмотрела в пол. — Убей меня и покончим с этим.
— Я здесь совсем не для этого. Я был около лавового озера и пришел за помощью. Через три…
Она хихикнула, странный, режущий ухо звук, который смогло издать ее помятое горло, пока она с трудом поднималась на ноги. — Помощь? Мою помощь? Да ты должен…
Садира мигнула. Ее глаза уставились на пятно сажи, все, что осталось от тролля. Появились воспоминания, но не ее. Холодный пот выступил на ее и без того бледном лице, и Садире пришлось опереться о стенку, чтобы не упасть. Хаману быстро взглянул в ее мысли. То, что он нашел там, был Дэш, а не Виндривер, и Дорин, какой она была после того, как тролли закончили с ней.
Хаману был большой специалист в обманчивом псионическом искусстве внушения и манипулирования памятью. Он не делал много ошибок; а если и делал, то бысто исправлял. Но воспоминание о Дэше зазвучало в сознании Садиры быстрее, чем он успел удалить его. Картина, детальная и застывшая, стала частью опыта самой женщины-полуэльфа. И как воспоминание, оно больше не было ложью.
— Кто она была?
Не последовало ни извинений, ни объяснений, ни просьбы о понимании или сочувствии; таким понятиям не было места в жизни Хаману. — Называй ее Дорин. Она моя… она была моей женой. — Он оторвался от воспоминаний, которое теперь у них было одно на двоих. Это было не просто, но он был Королем-Львом. — И я был обманут, как и ты. Раджаат не должен освободиться, — сказал он, как если бы Дорин все еще не истекала кровью внутри его. — В последний раз для этого нам понадобился дракон. На этот раз…
— Дракон? Вот почему ты здесь? Ты хочешь, чтобы я помогла тебе заменить Борса. Да ты ничем не отличаешься от Тихиана…
— Я очень отличаюсь от Тихиана и Борса, дорогая леди. Я хочу сохранить и защитить как мой город, так и твой. Я хочу — я должен — найти способ, как сохранить Раджаата в тюрьме, который не требует от меня — или кого-нибудь другого — превращения в Дракона Тира. И я хочу быть уверен, что мы достигли соглащения…
— Мы не достигли никакого соглашения! — выкрикнула Садира, и мигнула опять. Еще одно чужое воспоминание.
На этот раз Хаману не стал рыться в ее сознании. Может быть она увидела Виндривера, а может быть что-то еще, не менее ужасное, но уже стало ясно, что он грубо ошибся, вбив в ее голову свои воспоминания. Он не должен был делать это, и никогда не сделал бы, если бы его не душил гнев после того, что она наделала своим заклинанием. Да, его гнев мог бы и убить ее, если бы Виндривер не пожелал другого.
Но не было бы ни гнева ни желания, если бы он и Виндривер не перестали бы быть врагами. Теперь он был в Урике, совещаясь со своими темпларами и пытаясь спасти город.
— Тогда я сделал ошибку. Я воспользовался помошью друзей, — он мгновенно остановился: друзья, это слово было самой большой ошибкой. Доблестные Воины Раджаата не были друзьями ни для кого, и меньше всего друг для друга. Они не хотели иметь друзей, и никто другой не хотел иметь таких друзей. — Твои заклинания не достигли цели, дорогая леди. Сущность Раджаата совершенно свободно путешествует по миру. Он сказал, что Нибенай, Галг и Джиустеналь танцуют под его дудку. Он сказал, что они уничтожат наш мир, тот мир, который мы знаем и в котором живем, через три дня. Он лжет, дорогая леди. Принесший-Войну лжет. Я могу исправить твои заклинания или заменить их. Я установлю их правильно, и они должны будут сдержать его. Тебе нечего бояться…
— Бояться чего? — возмущенно спросила она. — Ты установишь мои заклинания правильно? Да ты ничего не можешь сделать правильно…
— Женщина! — выкрикнул Хаману. — Укороти свой язык, если ценишь свою жизнь!
Она не обратила внимание на его предупреждение. — Я видела, как ты все сделал правильно для Дорин.
Хаману не надо было никакой псионики, чтобы почувствовать оскорбление, когда оно еще было на кончике языка. Привычная жестокость Доблестного Воина прорвалась через маску вежливости. Он показал ей ее собственную слабость, а она в ответ насыпала ему соль на рану, и будет сыпать, пока он не убъет ее — и кто знает, скольких еще? Хаману уже слышал гонги, звеневшие по всему имению и топот ног, подбегавших все ближе. Услышав крики и стоны, половина поместья поняла, что волшебница и пришелец опасно беседуют между собой.
Рука Хаману перестала походить на человеческую. При свете солнца между ним и лицом Садиры сверкнули черные когти. Жест угрозы, конечно, но только угроза и только жест: он собирался прорезать щель в нижний мир и уйти отсюда до того, как как ему на самом деле станет о чем сожалеть.
Садира ответила ударом головы в живот. Независимо от никакой иллюзии, у Короля-Льва был вес и сила его преобразованного естества. Так что Садира не добилась ничего своей атакой — только усилила его гнев и растерянность. Он ударил ее в ответ, достаточно тихо по меркам Доблестных Воинов, но достаточно сильно, чтобы она перелетела через всю комнату, ударилась головой о дверь и осталась лежать без движения, с потолка и со стен посыпалась штукатурка.
Потрясенный, Хаману напряг слух, стараясь услышать удары ее сердца. Сердце билось, слабо, и еще слабее было ее дыхание. Один шаг, он оказался рядом с ней и опустился на колено. Иллюзия руки восстановилась, он осторожно прижал свои человеские пальцы к шее. Он нашел ее пульс и стал вслушиваться в него.
— Оставь ее в покое!
Все еще сосредоточенный на пульсе, Хаману не почувствовал, как кто-то прошел через дверь, пока не услышал мужской голос, на который не обратил внимания. Он пришел в имение Астиклов не для того, чтобы убивать кого бы то ни было; он не уйдет, пока Садира не придет в себя и не станет проклинать его опять.
— Я сказал: оставь ее в покое!
Хаману почувствовал, как всколыхнулся воздух, когда кулак ударил его. Удар был в висок, безусловно смертельный для любого человека, но приничинивший ему не больше вреда, чем удар Садиры, в который она вложила весь свой вес. Он поднял голову, и увидел человека-дварфа, мула, стоявшего в дверях.
— Я знаю тебя, — прошептал он.
Король-Лев не слишком хорошо умел общаться с детьми, а уж тем более совмещать внешний облик и свое внутренне восприятие их, а мулу, занесшему кулак для повторного удара, было еще несколько лет до совершеннолетия. Дети меняются, как тела так и мысли, но было только два мула, которые для Хаману ассоциировались с Садирой. Одним из них был Рикус, который был уже достаточно взрослый десять лет назад, и должен был бы знать получше, кто такой Король-Лев, когда повел когорту гладиаторов Тира в это идиотскую атаку на Урик. А вторым был еще совсем маленькой мальчик, который, тем не менее, обладал солнечной магией, которая позволила отделить сущность Раджата от его материальной тени.
— Ркард, — сказал Хаману, вытянув из памяти имя старинного врага Борса. — Ркард, уходи. Тебе нечего делать здесь.
Юноша мигнул и опустил свой кулак. На его приятном лице явственно читалось смущение. На какой-то момент Хаману показалось, что он сейчас сделает то, что ему сказали. Но момент прошел, и мул жестко толкнул Хаману в плечо.
— Отойди от нее. Я не знаю, кто ты и почему ты пришел сюда, но я сам позабочусь о Садире, и если окажется, что ты ранил ее… — Глаза юноши зажглись красным светом, когда он призвал кровавую энергию солнца.
Хаману осторожно опустил голову волшебницы на пол. Она, Рикус и все остальные горячие головы Тира воспитали этого молодого человека, который неприязненно глядел на него.
У Хаману мгновенно возникла очень правильная мысль о том, что произойдет, как только Ркард узнает его.
— Ркард, не делай этого.
Предупреждение запоздало. Три отдельные струи огня, одна оранжевая, вторая золотая, а третья цвета самого солнца, вылетели из обожженых солнцем рук юноши. Когда Ркард вскрикнул — солнечная магия брала свою цену и со своих жрецов — потоки огня слились вместе и в мгновение ока соединили Хаману и молодого мула огненным мостом.
Вот тогда вскрикнул и Хаману. Энергия солнца была совершенно реальна. Сейчас она сжигала только его иллюзорную плоть, и должно было пройти немало времени, прежде чем он будет серьезно ранен. Хаману мог сбросить с себя солнечную магию, но тогда она ушла бы в пол и, почти наверняка, обрушилась бы на беззащитное тело Садиры.
Он попытался воззвать к разуму мула и не нашел ничего другого, как произнести его имя, — Ркард…
Ркард вскрикнул опять: он призвал еще большую силу из своей элементали. Струи пламени стали ярче и горячее. Под действием солнечной магии иллюзия Хаману начала таять, он перестал походить на человека. Король-Лев отступил к открытому окну. Мул шагнул за ним, усмешка — глупая, наивная и ничего не понимающая — исказила его губы.
— Ркард, убери это, иначе кому-нибудь будет очень плохо.
Мул не мог говорить, пока он творил свое солнечное зклинание. Он дал говорить за него своим рукам, сжимая их в кулаки до тех пор, пока трехцветное пламя не стало раскаленным белым копьем, прижавшим к стене человека с смуглой кожей.
Хаману закрыл глаза. Тысяча лет испарилась, как будто ее и не было. Он опять был человеком, опять находился в клетке из ребер мекилота, и опять Мирон из Йорама глядел на него огненными глазами, а из глаз лилось пламя, но теперь он мог ударить в ответ. Солнца за его спиной, тень у его ног, они оба в его распоряжении. Все, что он должен сделать — открыть глаза, и его мучитель станет горсткой пепла.
И Хаману открыл глаза, но вместо того, чтобы произнести одно из мириада уничтожающих заклинаний, роившихся в его памяти, протянул руку к испепеляющему солнечному заклинанию Ркарда и обхватил его пальцами. Белый огонь мгновенно сожрал его иллюзию. Для того, чтобы сохранить кулак на том месте, где он должен был находиться, Хаману сложил свои деформированные и тонкие, похожие на веретено ноги под собой. Он сгорбил плечи и изогнул шею. Могучее усилие, и кровавая сила солнца стала пленником в кулаке Короля-Льва.
Хаману сжал посильнее. Боль была страшной, но он преодолел ее и… и нашел то, что искал там, где меньше всего этого ожидал.
Заклинания волшебства, формулы магии, которые открыл, усовешенствовал и передал всему Атхасу Раджаат задолго до того, как он решил очистить мир, должны были быть подготовлены, прежде чем произнесены. Чем-то надо было пожертвовать, прежде чем волшебство могло сдержать свое обещание. Перед любым волшебником, от самого строгого сохранителя из Союза Масок до последнего Доблестного Воина Раджаата, стояла дилемма — даже для самых простых заклинаний — чем пожертвовать, что уничтожить?
Сохранители прилагали все усилия, чтобы ограничиться немногими каплями жизненной силы из многих источников, главным образом растений, не уничтожая ни один из них; осквернителям было все равно. Те, кто могли, использовали обсидиан, чтобы подкрепить свои заклинания жизненной сущностью как животных, так и растений. Доблестные Воины могли запасать в себе энергию мертвых. Мало кто — Хаману, Садира и народ тени — использовали в заклинаниях солнечный свет, преобразовывая высшую сущность всей жизни в тень.
Черная Линза усиливала заклинания, но ни один волшебник — включая Хаману и Садиру — не мог использовать ее так, как Ркард использовал Черную Линзу против Раджаата: сначала сфокусировать кровавый солнечный свет внутри Линзы, а потом дать ему выйти наружу, поглощая тень Принесшего-Войну. Но теперь даже Ркард не смог бы повторить свой сверхъественный подвиг: Садира похоронила Черную Линзу и теперь Раджаат безусловно нашел для своей собственной жизненной сущности убежище получше, чем его тень.
Но сжав раскаленное белое копье и заключив солнечное заклинание Ркарда в кулак, Хаману обнаружил, что юный мул является живой линзой, которая может собирать и накапливать солнечную энергию до того, как заклинание будет произнесено. С Ркардом рядом с собой, Хаману мог запечатать кости Раджаата и Темную Линзу внутрь каменного холма или даже горы, размером с Дымящуюся Корону. Он мог противостоять всему, что бы другие оставшиеся Доблестные Воины не бросили на Урик, будь то заклинания, армии живых или армии немертвых. И в первый раз за тысячу лет в голову Хаману пришла шальная мысль, что, может быть, ему удастся даже остановить свою метаморфозу, превращение в дракона.
Но прежде всего Хаману должен освободиться от солнечного заклинания Ркарда, не самая простая задача, учитывая, что юноша полностью открыл себя силе солнца и не хочет — а может быть и не в состоянии — остановить энергию текущую через него. С красными, блестящими и застывшими глаза Ркард медленно приносит сам себя в жертву.
Хаману мысленно взмолился, псионически обратившись к молодому мулу.
Солнце сильнее нас обоих, Ркард. Вместе мы можем выковать заклинание, которое запечатает тюрьму Раджаата навсегда, но только в том случае, если ты сейчас отступишь. Будешь настаивать, и солнце сожжет тебя задолго до того, как уничтожит меня. Спасай себя, Ркард…
Никогда! Предатель! Обманщик! Ты умрешь первым, или мы умрем оба, вместе.
Хаману вспомнил себя на пыльной равнине, молодого человека, снедаемого ненавистью и стремлением достичь своей цели. Он открыл кулак. Солнечное заклинание обхватило его руку. Он — Сжигатель-Троллей. Грязная и непристойная радость огненных глаз угрожала поглотить его. Он восстановил кулак; опасность отступила, но не исчезла.
Солнечный свет, подумал Хаману. Если блокировать солнечный свет, и отбросить свою собственную тень на Ркарда, можно прервать заклинание. Он напряг ноги, а потом взорвал потолок и стены комнаты.
Где-то, за пределами белого огня, закричала женщина.
Все еще держа солнечное заклинание в кулаке, Хаману рванулся к окну. Ркард упал, когда край тени Доблестного Воин коснулась его. Белый огонь потемнел, стал бледно-желтым; крошечные язычки пламени заплясли на руках юноши. Пока Хаману колебался, Ркард пополз, пытаясь освободиться от тени. Солнечное заклинание опять побелело. Юноша не собирался сдаваться — не больше, чем собирался сдаваться Ману, тысячу лет назад.
Мечта Хаману, родившаяся несколько мгновений назад, разлетелелась на мелкие кусочки: шанс найти другого молодого мула, уже привычного к безжалостной мощи солнца — и найти его вовремя — был ничтожно мал.
Он приготовился сделать еще один шаг, побольше, после которого вся его тень закроет Ркарда и его солнечное заклинание, а сам Ркард вряд ли останется в живых.
Женщина крикнула снова, и на этот раз это было имя мула, — Ркард!
Золотоволосая полоса пролетела через тень Хаману. Она обхватила юношу, отбросила его в сторону и сбила на пол. Заклинание лопнуло, крохотное, не больше кулака солнце затрепетало в локте над мозаикой. В следующий удар сердца она начала усиливаться. Еще один удар, и Хаману бросился на него сверху. Земля содрогнулась. На мгновение черные кости Хаману остались без хозяина: Король-Лев вышел из своего тела. Мгновение прошло, и он вернулся в тело, заодно воссоздав безупречную иллюзию человека со смуглой кожей.
Садира ласкала голову и плечи мула на своих коленях. Он был истощен, не способен ни говорить, ни двигаться, но судя по всему невредим. Дух Хаману опять воспарил.
— Это можно сделать! Мы можем сделать это. Мы отправимся в Ур Дракс и исправим твои охранные заклинания. Мы спасем Урик… и Тир. Никто и ничто не сможет сопротивляться нам, если мы будем вместе.
Глаза волшебницы сузились. Она охватила руками Ркарда, как если бы хотела защитить своего ребенка. — Вместе с тобой? — Выражение ее лица сказал остальное: да я скорее убью его сама, прежде чем дам ему сражаться вместе с тобой.
Хаману попытался объяснить, что случилось, когда солнечное заклинание Ркарда ударило в него. Садира молча выслушала его; глядя в загадочные спирали ее мыслей, пока она обдумывала его слова, Король-Лев понял, что ничто из ее выводов не поможет ему спасти его гибнущий город.
— Я поглотил солнечное заклинание, впустил его в мое сердце и дух. Твоя теневая магия не в состоянии проникнуть так глубоко, — предупредил он. — Оно сьест тебя.
— Это ты так говоришь, но я тебе не верю. Драконы всегда лгут, а ты дракон. Ты обманываешь и предаешь нас. Пока хотя бы один из вас существует, Атхас никогда не станет свободным.
— Свободным, — пробормотал Хаману. У него были тысячи доводов против этой глупости, и ни один из них не убедит ее. Лучше всего дать ей самой выучить свой урок, пускай тяжело и опасно, ведь она может не пережить лекцию такого учителя, и нет никакой гарантии, что даже после этого Ркард захочет иметь с ним дело. — Ну что ж, ради Атхаса и твоей драгоценной свободы — слетай сама в Ур Дракс, только очень осторожно, посмотри своими глазами на то, что происходит на берегах лавового озера, в котором ты запечатала кости Раджаата и Черную Линзу. Посмотри, а потом приходи на рассвете в Урик, ровно через три дня. Я буду тебя ждать.
Четырнадцатая Глава
Энвер стоял в дверях штаба. — Ваше Всеведение, приближается гонец.
— Знаю, — уверил Хаману своего верного слугу.
Самое острое ухо смертного не смогло бы уловить звук сандалей, шлепающих по плиткам дворцовых коридоров, пока гонец приближался к концу своего пути. А Хаману знал о сообщении с тех пор, как свиток перешел из рук Джаведа в руки гонца в военном лагере, расположенном на юг от кольца рыночных деревень.
— Хорошие новости или плохие, Ваше Всеведение?
Хаману мимолетно улыбнулся. — Хорошие. Нибенай посылает их с нашим гонцом, живым и невредимым. Я верю, что он принял мои условия. И мы это узнаем через пару мгновений, не так ли, дорогой Энвер?
Энвер кивнул. — Совершенно точно, Ваше Всеведение. Наш посланник жив, это уже хорошая новость.
Жестко-упорядоченный ум дварфа принял как факт, что Король-Тень тоже живой бог, и что боги, равные во всех отношениях, совсем не всеведущи по отношению друг к другу. В его широко раскрытых глазах были уважение и почтение, когда покрытая пылью женщина-полуэльф остановилась рядом с ним. Она держала запечатанный черный свиток Галларда, очень осторожно и почтительно, обеими руками, как если бы это была живая вещь, которая могла бы сбежать или напасть на нее. Девяти лучевая звезда Нибеная, слабо отсвечивавшая на воске печати, высовывалась между ее пальцами.
Зная, что она несла, хотя и не сообщение внутри свитка, она загнала себя до предела и за него, как, впрочем, и все сменные гонцы, которые несли его.
— О Могучий, — выдохнула она вся дрожа от напряжения, со сведенными мышцами.
Энвер не дал ей сказать больше ни слово, поддержав ее за пояс своей могучей, с короткими сильными пальцами рукой. Свиток выскользнул их ее трепещущих пальцев и упал на пол.
— Дай его мне, — сказал Хаману, потянувшим за ним через стол с песком, на котором он воссоздавал Урик и его укрепления.
Полуэльфийка заколебалась на мгновение, и Энвер воспользовался случаем. Похоже, трепет — заразная болезнь; пальцы дварфа тряслись, когда он передал свиток Хаману.
— Обеспечь ее всем необходимым, дорогой Энвер, — сказал Хаману, отделываясь от них и от их смертного любопытства кивком головы.
Ага, предсказанная слабость его смертных слуг… пара остановилась, как только они решили, что он их не видит, и вскинули вверх руки в молчаливой отчаянной молитве: Хорошие новости. Хорошие новости. Прихоть Льва, пусть новости будут хорошими.
Хаману ковырнул пальцем восковую печать. Затвердевший воск треснул, и крошечный красный драгоценный камень покатился по песку туда, где стояла деревня Фарл. Никогда не верящий в пресказания и презнаменования Хаману поймал ее и сжал покрепче.
Только тебе. Через час после того, как солнце поднимется над восточным горизонтом, услышал он холодный и пустой шепот Галларда, вторгшийся в его сознание, — армии начнут свое дело. Я сотворю заклинание первым, потом Дрегош и Иненек. Делай то, что нужно сделать, и стены Урика еще будут стоять на закате. В этом я торжественно клянусь.
Король-Лев дал блестящей гемме опять упасть на песок. Сама по себе эта гемма стоит множество золотых монет, и вес каждой монеты не меньше веса красного камня. А сколько стоит торжественная клятва Доблестного Воина? По меньшей мере Галлард больше не несет чушь о заклинаниях, которые нужны чтобы предупредить безумие, овладевшее Борсом. Не считая этого клятва Галларда стоит не больше, чем клятва, которую сам Хаману дал бы в похожих обстоятельствах: мало, очень мало, не больше, чем песчинка в пустыне.
Хаману изучал стол с песком перед собой. Невысокие кучки песка и желобки имитировали холмы и рвы, а все вместе было очень детальной картой окрестностей Урика. Полоски шелка пересекали песок в разных направлениях: желтые, конечно, для сил города, зеленые — для Галга, красные — для Нибеная, а черные — для большой армии немертвых из Джуистеналя. Красные, зеленые и черные полоски находились именно там, где обещал Раджаат. Благодаря этой карте отсюда, из штабной комнаты в северной стене дворца, Хаману видел все вокруг. Битва будет завтра, и это будет такая битва, какой на Атхасе не видели со времен Очистительных Войн. А если битвы не будет, то будет жертвоприношение смертных, не меньшее, чем те, что были, когда Борс в облике Дракона бродил по Центральным Землям, а то и большее.
И где третья альтернатива?
Желтые шелковые пальцы окружали кучу песка, которая была рыночной деревней Тодек, на юго-запад от города. И они не противостояли никому, за исключением клубка синих ленточек. Синих, для армии Тира. Синий, для армии — союзника или врага — которая не появилась.
Веки Хаману закрылись. Он схватился за левое предплечье, где, под иллюзией, было пустое, незаполненное ничем место.
— Виндривер, — прошептал Лев. — Виндривер. Они придут, Виндривер?
Не армия. Армия ничего не изменит. Но двое, полуэльф и мул — даже один, один единственный мул с кровавой меткой солнца на лбу — это может изменить судьбу всего мира.
Виндривер не мог ответить. Ответа на было.
Как только он вернулся в Урик после своей кошмарной встречи с Садирой в имении Астиклов за Тиром, Хаману послал волшебнице предложение о мире: извинение Доблестного Воина — вещь, намного более редкая, чем железо или благодатный дождь в этом сжигаемом драконами мире. Он даже послал хлеб химали с золотой хрустящей корочкой, испеченный в собственной печи, потому что хлеб был символом мира, жизни и вообще всего хорошего в Кригиллах, и вместе с ними торопливо переписанаю копию истории, которую он написал для Павека, в надежде, что она поймет, почему он стал таким, каким он стал, и почему потеря Виндривера стала безмерной и невосполнимой утратой.
Он с удовольствием послал бы Павека. Павек был настоящий гений в деле очаровывания своих врагов. Как беглый темплар он очаровал друидов Квирайта. А как беглец и начинающий друид, он очаровал самого Короля-Льва. Если кто-нибудь и мог нейтрализовать ненависть, с которой к Хаману относились все в Тире после его визита в имение Астиклов, так Павек и только Павек.
Но для Хаману отослать Павека из Тира означало бы отослать свою последняя — если не единственную — надежду. Так что он обратился к волшебникам Союза Масок, поразив их до глубины души знанием их вождей, потайных мест и вообще всего, чего это знание влечет. Ради Урика, сказал он старой продавщице ветоши, которая возглавляла всех, занимавшихся незаконной магией. Хотя и неохотно, она послала адепта через Серость с его дарами.
Адепт благополучно прибыл. Дары были благополочно доставлены в поместье Астиклов. И без Виндривера, который был его ушами и глазами в этом защищенном сильными заклинаниями месте, больше Хаману не знал ничего, что, впрочем, само по себе было ответом. Волшебница не появится. То ли Раджаат сыграл незаметную мелодию на струнах Садиры, то ли она, как всякая обычная смертная женщина, была упряма как мекилот и не меняла своего мнения, как и он, когда был в ее возрасте. Эту дилемму Королю-Льву решить уже не удастся.
Последние два дня он вспоминал их сорвавшиеся переговоры не реже, чем проверял положение дел на песчаной доске. Он винил Садиру — главным образом Садиру — за ее неспособность выслушать чужое мнение, но он обвинял и Ркарда, и Раджаата, и Виндривера, особенно Виндривера, который первым зародил в нем семена надежды, семена, из которых выросли сорняки. И каждый раз проклинал их за свою неспособность завоевать помощь Садиры.
Вспоминая свои слова, он проклинал самого себя: за слепоту, предубеждение, за все побеждающее желание отвечать ударом на удар. И вот результат: синие ленточки связаны в клубок, гемма Галларда где-то около Кело, и никакие проклятия ничего не изменят.
— Ошибки, — сказал он отсутствующему Виндриверу, — я наделал кучу ошибок. У меня был выбор, и я сделал неправильный. И теперь я плачу за свою собственную глупость. Что ты думаешь, где бы ты ни был сейчас, старый друг, старый враг? Спасет ли Павек Урик при помощи своего друидского стража? Одолеет ли этот страж дракона, если я им стану? Будет ли этого достаточно? И сможет ли такой страж сражаться с первым волшебником?
Он махнул рукой по столу, разрушив холмы; разноцветные ленточки оказались зарытыми в песок.
— С того дня, как он сделал меня Доблестным Воином, он готовил меня для того дня, когда я выполню свое предназначение, встречу свою судьбу. За эту тысячу лет у меня были тысячи идей, но как раз на сегодня я не планировал ничего.
Одним мысленным усилием Хаману погасил фонари в штабе. Он вышел из комнаты и обнаружил Энвера, сидевшего на полу рядом с дверью.
— Ты слышал? — спросил Хаману.
Перекошенное от ужаса, бледное, с отсутствующим взором лицо Энвера ответило раньше, чем в его сознание появилась соответствующая мысль.
— Иди домой, дорогой Энвер. — Хаману помог своему управляющему подняться на ноги. — И оставайся там весь завтрашний день. Ты узнаешь, что надо делать.
Энвер покачал своей головой из стороны в сторону. — Нет, — прошептал он. — Нет…
Хаману положил руку на макушку лысой головы дварфа, как если бы он имел дело с ребенком. — Так будет лучше, дорогой Энвер. Может так случиться, что я не смогу защитить тебя и спасти тебе жизнь, а тот, кто придет после меня…
— Ваше Всезнание, для меня не будет никакого после —
— Совершенно верно. Я дам тебе питье, которое освободит тебя.
Дварф потряс головой, выскользнув из-под руки Хаману. Его фокус — специфическая особенность дварфов — который вел их при жизни и определял их судьбу после смерти, появился на поверхности его сознания, затмив все остальные мысли и образы. Это было лицо, которое Король-Лев с трудом узнал, хотя это был он сам, Хаману, как его представлял себе Энвер.
— Твой фокус будет выполнен, дорогой Энвер. Это я покину тебя, а не ты покинешь меня. — Он положил руку на плечо своего стюарта и слегка подтолкнул его от штабной комнаты. — Теперь иди домой. Время.
Энвер сделал несколько шагов на негнущихся ногах, потом повернулся, запечатлевая в сознании новый облик своего бога, потом повернулся опять. Быстрый яд, убивавший без боли и мучений, который Хаману пообещал всем своим слугам, был, на самом деле, самой обыкновенной предосторожностью, которая всегда была с ним, куда бы он ни вел свою армию. В конце концов Доблестные Воины Раджаата узнали, как убивать друг друга. Решение дварфа не использовать его было чем-то вроде скомканного плаща, про который он подумал, что надел на плечи. Хаману надеялся, что он передумает. Судьба всякого, кто был близок к Королю-Льву, будет не слишком приятной, когда Король-Лев уйдет из этого мира.
Хаману подождал, пока коридор перед ним не опустеет, и потом пошел по следам Энвера. Из штаба он направился в оружейную, а оттуда медленно пошел через все залы и комнаты дворца. За исключением помещений для рабов и слуг, в которые он не стал заглядывать, дворец Короля-Льва был пуст и тих. Всех, кого возможно, он отослал в лагерь Джаведа или к их собственным семьям.
Солнце село несколько часов назад. Рабы вставили факелы в сотни стенных канделябров, как это они делали на протяжении многих веков. Проходя мимо, Хаману гасил факелы один за одним, мыслью или движением руки. Наконец он вошел в тронный зал, в котором стоял его чудовищный трон; вот с этим ему будет не жалко расставаться.
Над троном висел светильник в виде головы льва, вечное пламя Урика. Хаману вспомнил день, когда он повесил его и зажег. Бессмертный не означает вечный. Он всегда знал, что придет день — или ночь — когда его уничтожат, но не этой ночью. Он оставил светильник гореть, и чувствовал взгляд его желтых глаз на спине, выходя из тронного зала, затем опять пошел по дворцу, по своим личным комнатам, закрывая двери и говоря «прощай», пока не дошел до своего убежища.
Его история, написанная на листьях пергамента, была там, рядом с ней стоял кожаный ящичек для свитков. Он не описал ничего из того, что произошло после последней битвы с Виндривером. Тысяча лет осталась неописанной, все эти войны с соседями, мятежниками, бандитскими шайками и дураками-отравителями. За исключением смерти, все эти войны были совершенно одинаковы. Если бы он стал описывать их, они бы все прочитали: Мы сразились. Я победил. Урик процветает. Урик живет дальше.
Больше писать было не о чем. Хаману собрал все листы вместе, свернул их, перевязал шелковой лентой и положил в ящичек, который поднял на плечо. Омываемые лунным светом стенные фрески с видами Кригилл состояли, казалось, только из себряного света и черных, как уголь, гор; они были настолько реальны, что их страшно было касаться. Орудия Павека стояли там, где он их оставил, прислоненные к стене маленького коттеджа. Новичок-друид восстановил сожженную землю. Он посадил зерно в землю, из него выросло растение, и Павек продолжал ухаживать за ним. Высокое, как предплечье человека, оно тоже серебрилось в лунном свете.
Хаману сорвал побег и прижал к носу. Он вспомнил запах.
Заперев двери своего убежища в последний раз, изнутри, Хаману привычным движением рассек воздух. Туман нижнего мира нежно обволок его тело. Наружу он вынырнул уже за воротами-башней дворца, в облике худого юноши-человека с черными волосами, несущего ящичек со свитками на узком плече.
Темпларская стража не обратила на него никакого внимания, как и все остальные. Улицы Урика были спокойны и тихи, хотя не так смертельно тихи, как дворец. Война была достаточно частым гостем в Урике во время правления Короля-Льва. Даже лагеря осаждающих за кольцом рыночных деревень не были чем-то новым — и обычные Урикиты не слишком переживали по этому поводу. Кроме того, магически-усиленные голоса ораторов постоянно напоминали им: Урик никогда не проиграл ни единой войны с тех пор, как Король-Лев возглавил его армии.
За пределами узкого круга советников и помошников Короля-Льва, настоящее положение города было мало кому известно. Сознание смертных, как давным-давно выяснил Хаману, было плохо приспособлено для длительных поединков с безысходностью. Пускай несут свою веру до конца, или к фонтану Короля-Льв в центре города, где, несмотря на ночь, при лунном свете и свете факелов собралась небольшая толпа.
Длинные узкие угри носились в нижних бассейнах фонтана. Днем они были серебряными полосами, ночью — темными тенями, но острые зубы были у них во рту в любое время дня и ночи. Когда Урикиты загадывали желание, им не нужно было ничего опасаться: несчастье поджидало любого вора, с самыми быстрыми пальцами, пытавшего достать керамические монеты со дна бассейна. Монеты принадлежали Королю-Льву, живому богу, который заботился о них, но не нуждался в них. Угри ели все, но их любимой пищей были пальцы рук, особенно большие пальцы рук.
Хаману какое-то время постоял в стороне, глядя как обычные женщины, мужчины и дети шепчут молитвы, бросая куски керамических монет в воду. Своим сверхъестественным слухом Хаману слышал все, что только бог может услышать. Большинство молилось за безопасность своих близких и любимых: мужей, жен, родителей или детей. Этой ночью пол-города находилось за стенами, пытаясь заснуть хоть ненадолго рядом со своим оружием. Остальная половина города молилась за их здоровье. Некоторые молились и за себя, чтобы не выглядеть трусом и не допустить ошибку перед глазами Короля-Льва, который видит, как всем известо, все. Некоторые молились за Урик, который, помимо всего прочего, был их домом. А один или два — к изумлению Хаману — молились за своего короля…
Дай ему привести нас к победе. Сделай его непобедимым перед лицом наших врагов. Верни нашего короля нам целым и невредимым.
Как если бы они знали, что Хаману, Лев Урика, совсем не бог.
Он не услышал дальнейшей молитвы, так как его дернули за край его простой иллюзорной рубашки, которую он надел.
— А что ты хочешь пожелать? — спросил маленький мальчик.
Мысль мальчика была о брате, о брате-гиганте, которого призвали во время второго набора пятую часть года назад, и о матери, сморщенной женщине на другой стороне фонтана.
Женщина улыбнулась смущенной беззубой улыбкой, когда Хаману взглянул на нее.
— Мой брат снаружи, — сказал мальчик. Как он, так и его мать не имели ни малейшего понятия, что никакие объяснения не нужны. — А у тебя тоже брат снаружи? Или сестра? Или еще кто-нибудь?
По меньшей мере тысячу лет у Хаману не было ни братьев ни сестер, но кое-кто — десять тысяч в желтом и еще множество штатских — был за стенами. — Да.
— Больше и сильнее чем ты, а?
Сегодня ночью — последней ночью в Урике — он был Ману, это казалось подходяще. А Ману не производил впечатление силача, хотя и не был таким тонким, как решил мальчик, сравнивая Ману со своим похожим на гору братом. Если бы он был настоящим, а не иллюзией, Ману спал бы сегодня за стенами; третий призыв забрал бы и его.
Мальчик опять дернул Хаману за рубашку. — Ты боишься? — И там, где в его мыслях был брат, были страх, боль и пустота: вот так ребенок воспринимал войну.
— Да, немножко, — Ману знал достаточно, чтобы не лгать ребенку.
— Я тоже, — согласился ребенок, и протянул грязную, в половину размера керамическую монету. — Может быть пожелаем вместе?
— И что бы мы хотели?
Мальчик прижал коротенький и толстый палец к губам. Хаману быстро кивнул. Он должен бы знать: желание — это тайна, которую знают только двое: тот, кто просит и Лев. Они бросили свои монетки вместе: два крошечных кусочка керамики блеснули в лунном свете. Даже бог не смог бы сказать, какой кусочек чей.
— Ну, как думаешь, будет все в порядке, а? — спросил мальчик, глядя на него. — Лев позаботится о нас, ну?
— Он попытается, — ответил Хаману.
Он удержался от того, чтобы сказать ребенку больше, когда мама мальчика позвала, — Ранси! — и протянула к нему руку.
— Прихоть Льва, — сказал Хаману тени мальчика, пока та бежала вокруг фонтана. — Он попытается спасти вас всех.
Король-Лев оставил фонтан за собой и побрел по улицам своего города. Из двери каждой таверны вырывались яркие лучи света, собравшийся там народ пришел то ли чтобы найти мужество, то ли потерять страх на дне кружки. Ни одна таверна не могла сделать хоть что-нибудь, чтобы успокоить нервы Доблестного Воина. Ничто из того, что он мог съесть или выпить, не сделало бы эту ночь короче. Ничто из того, что он мог себе представить, не сделало бы ее полегче.
Внезапно он вспомнил мысль Павека, которую он выудил из головы своего темплара пару долгих ночей назад: Конечно сегодня ночью мой король нуждается в друзьях. Хаману не хотел друзей той ночью, и не был уверен, что хочет этой. Но для начала он собирался вручить свою историю друиду-темплару, который — он вскинул голову, вслушиваясь в спутанный клубок мыслей толпы — был его другом.
Хаману пошел обратно к дворцу, а точнее к кварталу темпларов с его лабиринтом стоящих крест-накрест совершенно одинаковых красно-желтых фасадов, находившихся на одинаковых улицах. На протяжении всех веков правления Хаману, соперничество между темпларскими бюро Урика было не менее напряженно и смертельно, чем соперничество между Доблестными Воинами Раджаата.
Хаману ничего не мог по делать, чтобы положить конец этой вражде, но заставив всех темпларов ходить в желтом и всем жить в одинаковых домах в одном квартале города, он сделал все, что может сделать один человек, чтобы уменьшить ущерб, вызваный этим многовековым соперничеством.
Квартал темпларов был более занят, чем весь остальной город. Хотя военное бюро командовало всеми силами Урика — включая темпларов низких и средних рангов гражданского бюро, если город был в состоянии войны — их семьи и домашнии были освобождены от призыва в армию. Большинство из них тоже имели свои обязанности, которые на законных основаниях удерживали их внутри стен этой ночью. И так как это были темплары Хаману, то среди них были и такие, которые должны были быть совсем в другом месте, но, испуганные, подкупили всех, кого только могли, чтобы быть в безопасности, от греха подальше.
Они так надеялись.
Но и под своей худощавой иллюзией Хаману оставался Хаману. Его уши Доблестного Воина слышали через стены, пока он шел и на ходу выдергивал наиболее позорных из его сорняков-темпларов, проходя мимо их домов. Он наполнял их сознание отвратительным чувством вины и смертельными кошмарами; он пожирал их тревогу и страх, пока они умирали. Потом он успокоил свое мстительное сердце и постучал кулаком в дверь дома Павека.
Ему пришлось ударить дважды, прежде чем в доме послышалась какое-то движение по направлению к двери. Но даже и тогда он не был уверен, что женщина идет открывать ему дверь, или ищет ребенка, который носится по вестибюлю. Без всяких сверхъестественных чувств было понятно, что дом Павека был один из самых шумных в квартале темпларов. Хаману уже собирался достучаться до Павека через золотой медальон, когда, наконец, он услышал шаги по внутренней лестнице и дверь открылась.
Это была та сама женщина, шаги которой он слышал раньше, и, широко раздвинув ноги, она держала на руках мокрого и извивающегося ребенка. Она не была рабыней — Павек не держал рабов — но она не была и одной из тех служанок, которых Хаману нанял, чтобы привести в порядок дом прежде, чем Павек вернется в Урик из Квирайта. Она не была и друидом Квирайта, тоже; друидство оставляет особый отпечаток на тех, кто им занимается, как и занятия магией или Невидимым Путем — на ней ничего такого не было. Тихонько коснувшись ее мыслей, Хаману был поражен, обнаружив, что она самая обыкновенная женщина, чей муж был призван, вторым призывом, у ней не хватало средств, чтобы прокормить себя и своего ребенка, и она сделал судьбоносную ошибку, предложив себя в услужение человеку со шрамом на лице.
Судя по виду и звукам дома, она была очередным случайным человеком, которого Павек привел сюда.
— Я хочу поговорить с высшим темпларом, Павеком, — сказал Хаману.
Он приготовился направить ее мысли в нужное русло, если она не подчинится, но оказалось, что в этом нет никакой необходимости. Похоже, что незнакомцы стучали в эту дверь все время, а так как он, как Ману, был одет в одежду слуги, женщина решила, что он такой же посторонний в этом доме, как она.
— Лорд-темплар в атриуме. Я провожу тебя туда…
Хаману поднял руку, чтобы остановить ее. В этом месте было намного больше жизни, чем он хотел бы видеть вокруг себя сегодня ночью. — У меня есть кое-что для него. Если ты пригласишь его сюда, я отдам это ему и уйду.
Он пожала плечами и поправила малыша, ерзавшего чуть выше бедра. — Как тебя зовут?
Он заколебался, потом сказал, — Ману. Скажи Лорду Павеку, что Ману здесь и хочет увидеть его.
Это имя было достаточно частым в городе Хаману. Она повторила его вслух и исчезла, поднявшись вверх по лестнице, ведущей в жилые комнаты. Хаману закрыл дверь — работа раба, но в этом доме не было рабов — и в ожидании Павека уселся на скамью, предназначенную для бродячих торговцев.
Павек появился через несколько мгновений на верхушке лестницы. Он был один. Его правая рука была засунута под край туники, пальцы небрежно касались рукоятки стального ножа.
— Немного запоздалая предосторожность, Павек, — заметил Хаману не поднимая головы. — Пол-города может пройти через твою неохраняемую дверь. Остальная половина уже была здесь.
— Ману? — Павек спустился на несколько ступенек. — Ману? А тебя знаю? Немедленно выйди на свет.
Хаману подчинился. Его иллюзия была совершенна, как всегда, и хотя Павек не мог скрыть свою метку новичка-друида от одного из Доблестного Воинов Раджаата, не было совершенно ничего магического в ауре, окружавшей иллюзорного Ману. Вообще в облике этого Ману не было ничего, что Павек мог бы узнать, включая ящичек для свитков, сделанный из простой и крепкой, хотя и потертой кожи.
Детский мячик вылетел из двери за спиной Павека, а немедленно вслед за ним ребенок, его потерявший. Мячик запрыгал по ступенькам, остановившись только у ног Хаману. Павек не глядя вытянул руку, чтобы остановить ребенка, грязное маленькое существо неопределенного пола, возраста и расы. Он нагнулся и что-то прошептал в детское ухо. Потом было обьятие и громкий смешок, ребенок исчез, а Павек медленно спустился по лестнице к Хаману.
Некоторые мужчины просто рождаются отцами, и Павек был одним из них. Просто жаль, что у него самого нет детей. Но жалость исчезла, когда Хаману подумал о том, что будет завтра, и об огромном числе отцов, неспособных защитить своих детей.
Хаману поднял игрушку и протянул ее Павеку, когда тот встал на последнюю ступеньку. Их глаза встретились при свете факела. Глаза Ману были коричневыми, просто коричневыми — даже Дорин, которая любила любую часть тела Ману, говорила, что глаза у него самые обыкновенные, незаметные. Глаза Хаману, глаза, которые Раджаат дал ему, были обсидиановыми зрачками, плававшими в расплавленной сере. Когда Хаману создавал свои иллюзии, он всегда выбирал подходящие глаза, и тем не менее, когда Павек взглянул в его глаза и не отвел взора.
— Великий, — сказал он, пытаясь — неудачно — встать на колени на последней ступеньке входной лестницы собственного дома. — Великий.
Павек потерял равновесие. Хаману подхватил его, когда он уже падал, и держал до тех пор, пока ноги друида-темплара не перестали дрожать.
Где-то закричал ребенок, как умеют кричать только дети; в ответ раздался утешающий хор.
Помогая своему темплару Хаману отбросил мячик в воздух, где он и остался порхать. Хаману взглянул на него и внезапно решил остаться здесь на ночь. — В этом доме найдется комната еще на одного человека? — спросил он, опуская игрушку в руки Павека.
— Весь этот дом ваш, Великий. Все, что у меня есть…
— Ману, — сказал Король-Лев, хватая Павека за руку, чтобы тот не попытался опять грохнуться на колени.
Павек кивнул. — Как хотите, Великий… Ману.
Они поднялись по лестнице, вместе. Ребенок, который потерял игрушку ждал в холле вместе с двумя другими, один из которых был совершенно точно дварф, а еще один совершенно точно девочкой. Они тихо и вежливо поблагодарили, когда Павек отдал им мячик. А потом они унеслись прочь, завывая за гарпии.
— Ты что, собираешь всех отверженных и чужих Урика?
— Им некуда больше идти, Ве… — Павек прервал сам себя. — Я нашел одного… но никогда не бывает, чтобы был только один. Всегда есть сестра, или друг, или еще кто-то. — Он показал рукой на потолок. — Это место, оно очень большое. Как я могу сказать нет?
— Я не могу принять этого, Павек. Народ может подумать, что наши бюро называются иначе.
Павек бросил на Хаману такой же озабоченный взгляд, каким глядел на его Энвер по меньшей мере раз в день. Но Павек — по Прихоти Льва — всегда знал, когда король проверяет его чувство юмора.
— Не беспокойся… Ману. Соседи думают, что я откармливаю их, чтобы продать на рынке.
Они засмеялись. Смех накануне смерти — это как-то подбадривало. Ману, на голову ниже, чем Павек, размахнулся и влепил огромному улыбающемуся темплару дружеский, удар между лопаток, такой силы, что тот покачнулся и едва устоял на ногах. На удар сердца воцарилось молчание — слово сомнения в мыслях Павека — а потом он опустил на плечо Ману свою тяжелую руку и рассмеялся — испытующе — опять.
Холодный ужин был приготовлен в освещенном светом лун атриуме и несколько мужчин и женщин собрались, чтобы насладиться им. Хаману слегка удивился, увидев Джаведа сидевшего вместе со своей белокожей невестой. Король Урика имел все основания ожидать, что в ночь перед страшной битвой Герой Урика положит свои старые кости на твердую землю военного лагеря рядом со своими воинами. Но Джавед точно знал, перед лицом чего они стоят, и как мало его присутстие на поле боя окажет влияние на то, что случится завтра, а Матре, его невесте, было удобнее в этом доме, как ни в каком другом месте. Она практически жила здесь, когда он принадлежал Элабону Экриссару.
Хаману множество раз был в Доме Экриссара, вместе с сознаниями самых различных людей, но никогда сам, и никогда как Ману.
В голове Джаведа мелькнуло беспокойство, когда Павек представил Ману, писца с Золотой Улицы, оставшего без работы, когда его наниматель со всех ног убежал в имение своего родственника-аристократа, находившееся за стенами. Хаману без проблем соорудил псионическую стену, чтобы защититься от чрезмерного любопытства командора. Ему только пришлось слегка напрячься, чтобы подтвердить историю, которую скроил Павек.
Где-то в абсолютно честной груди Павека билось сердце мальчика, который вырос в темпларском приюте, где обман был матерью выживания. Хаману был уверен, что если бы у кого-нибудь в атриуме остались вопросы после рассказа их хозяина, ответы Павека были бы забавны и болезненно искренни. Но никто из них даже на секунду не удивился, когда их хозяин, высший темплар, привел очередного гостя.
Среди остальных гостей, помимо Матры и Джаведа, было восемь друидов Квирайта, включая юного полуэльфа, которого Хаману уже встречал раньше. Эти за-стенные-друиды, однако, были не единственными гостями Павека; за его столом сидели и Урикиты, причем совсем не подобранные на улице нищие: весьма уважаемый жрец земли помогал ему управиться с пригорошней высушенных ягод, а несколько купцов и ремесленников — большинство из которых не кивнуло бы друг другу, встретившись на улице при свете солнца — мирно сидели рядом с друг другом и негромко разговаривали. То, что они наивно говорили о недостижимом будущем, не уменьшало в глазах Хаману замечательной природы вечеринки, происходящей в красно-полосатом доме темплара высшего бюро.
Павек был замечательным человеком, сидевшим во главе своего стола — когда он сидел. Где-то в доме безусловно были слуги, но именно Павек наливал вино Ману и тем, кто просил об этом. Он приносил свежее мясо из буфета и уносил пустые блюда. По настоящему замечательный человек, решил Хаману, потягивая вино и удобно устроившись среди подушек. Настолько замечательный, что вполне способен призвать чудо.
На удивление дух Хаману был спокоен и оптимистичен с тех пор, как он ушел из Тира, что, странным образом, заставляло его думать не о том, где он или с кем, но о Виндривере. Оказавшись среди друзей, бессмертный Доблестный Воин обнаружил, что ему не о чем рассказать им, за исключением древнего тролля, но он нем он не заговорит никогда, и не имеет значения, что случится завтра. Он не мог помочь себе и из-за выбора иллюзии.
Он сделал себя Ману, таким Ману, каким тот был, когда жил в Дэше. Худощавый, с гладким подбородком, этот Ману казался на несколько лет моложе, чем все остальные гости Павека, собравшиеся в атриуме. Он был ребенком среди взрослых, и они смотрели на него сверху вниз. Хаману мог бы состарить себя: Ману был закаленным ветераном в тот момент, когда Мирон из Йорама извлек его из лап троллей на овражных землях. Гибкий и покрытый шрамами, он легко мог бы сойти за полуэльфа, если бы в те дни были полуэльфы и он не был бы так невысок, даже среди людей.
Но даже если бы, по ошибке, его и приняли за полуэльфа, вряд ли бы на этой вечеринке к Ману отнеслись бы более сердечно. И вряд ли бы он сам почувствовал себя более комфортно. Единственным полуэльфом за столом был Руари, самый молодой из друидов Квирайта, который от страха упал на пол почти без сознания несколько лет назад, когда Король-Лев спросил как его зовут. Окруженный близким по духу народом на дальней стороне стола, Руари не говорил ни с кем, и никто не заговаривал с ним. Все внимание Руари было посвещено его кубку с вином, который наполнялся слишком много раз.
Среди многочисленных легенд, которые пытались объяснить, как Атхас стал таким, какой он есть, было много рассказов об эльфах и людях. Половина рассказов утвержала, что эльфы — первые двоюродные братья человечества, самая старая из рас, появившихся в Возрождение. Другая половина, предсказуемо, говорила, что эльфы — самая молодая из рас, последняя из появившихся в Возрождение, и в сердце каждого эльфа живет страстное желание опять стать человеком. Все рассказы, однако, сходились между собой в том, что эльфы и люди находят друг друга намного более привлекательными, чем любую другую расу, а это неизбежно приводило к появлению отпрысков-полукровок.
Зачастую брошенные своими родителями, полуэльфы вели темную, одинокую и несчастливую жизнь. Достаточно было пройтись по рынку рабов, чтобы увидеть непропорционально большое число полуэльфов среди выставленных на продажу рабов, и они же охотнее всего шли в темплары в любом городе. Хаману всегда находил их восхитительными, и на этой вечеринке среди друзей Павека никто не был таким восхитительным, как Руари.
Аура Руари была закрыта, замкнута на самом себе, и при этом абсолютно проницаема для праздного любопытства Доблестного Воина. Не было ничего в жизни Руари, чего бы не извлек Хаману при помощи самого мягкого Невидимого проникновения. Юный полуэльф имел все особенности характера темплара: легко ранимое сердце, врожденную убежденность, что с ним всегда поступают несправедливо, склонность к мщению, а не к справедливости, а также резкий и жесткий характер. Он был в точности такой же, как и те, которые носили желтое и жили в этом квартале, а сейчас лежали на земле в военных лагерях за стенами города. Но Руари пошел другим путем. Его мать была эльфийка из племени тех вольных эльфов, которые странствовали по просторам пустыни, и когда она после изнасилования родила сына, то подбросила его в руки Телами, а не в руки торговцев живым товаром на Эльфийском Рынке.
Телами изменила судьбу Руари, направив все его симпатии на Атхас, и в конце концов сделала из него друида.
Она была уже очень стара, когда начала свою работу над Руари. Хаману с трудом узнал своего любимого архидруида на поверхности памяти Руари, но в глубине, ближе к сердцу полуэльфа, Телами была такая же, как и раньше. Быть может она бы не приуспела с одним из ее последних новичков, если бы не появился Павек и разрушил весь мир Руари до основания, прежде чем построить его заново.
Увы, все усилия Павека могут пойти прахом еще до того, как эта ночь окончится. Руари был так красив, так привлекателен, тени так красиво ложились на его медные волосы, кожу и глаза; а Виндривер по-прежнему был ноющей дырой в душе Хаману, которая еще не начала исцеляться; Хаману спрятал свои руки под подушками. Он срочно сделал себе человеческий кулак и спрятал только что родившиеся когти дракона в глубине ладоней.
Он должен увести Ману отсюда, лучше всего в поместье Лорда Урсоса, находившееся за стенами, где катарсис — особенно катарсис от боли и смертельного страха — повторяющийся каждую ночь ритуал.
Внезапное движение плеча Руари испугало как полуэльфа так и Короля-Льва. У полуэльфов вообще были особая привязанность к животным, а друидство Друари эту связь расширило и усилило. Домашняя ящерица-критик — измученная, без сомнения, детьми, которые решили, что это ярко-окрашенная игрушка, пряталась за медным занавесом волос Руари. Но присутствие Ману пробудило ее от сна. Оба юноши — Ману и Руари — взглянули на медленно потягивающуюся ящерицу и встретились глазами.
Уходи, быстро! посоветовал ему Хаману, но натренированное друидами сознание Руари не подчинилось Невидимому внушению.
Глаза Руари сузились, и он попытался остановить критика, который уже сползал вниз по его руке. Гнев, ревность и зависть немедленно возникли в сознание полуэльфа и отразились на его лице, привлекая к нему внимание всех остальных находившихся в атриуме. Павек, который один из всех знал, насколько горяч может оказаться огонь, с которым играет Руари и как он может его сжечь, попытался изо всех сил прервать волшебное притяжение, возникшее между ними.
Павек мог бы преуспеть. Критик не понимал, что такое магическая иллюзия. Критик видел то, что он видел, и его маленькие ножки направились туда, куда его влекло. Как только крохотная ящерица спустилась на стол и начала свое долгое путешествие к руке Ману, Хаману должен был перенести свое внимание на материю своей иллюзии, а не на полуэльфа, кипевшего от гнева и ревности.
Кто-то — возможно Джавед, Хаману не узнал голос — заговорил о тех путях, которыми ветераны укрепляют свой дух перед битвой, которая может стать последней.
— Я знаю, что бы сделал я, — резко вмешался Руари. Взгляд его суженных глаз все еще был направлен на Ману, которого он безусловно считал еще моложе и неопытнее, чем он сам. — Я нашел бы себе женщину и привел бы ее к себе в комнату.
Но на этом Руари не остановился. Он продолжал, описывая свои подогреваемые вином фантазии — и это были фантазии. Хаману посмотрел на поверхность сознания Руари — мальчишка развлекался, ничего большего. Павек приказал своему юному другу замолчать. Но уже было слишком поздно.
Слишком поздно, чтобы идти к Лорду Урсосу.
Слишком поздно для Руари.
Хотя Павек и пытался, постоянно маяча между ними, пока ужин, наконец, не закончился и гости один за другим не ушли. Руари остался последним, его ноги отказывались стоять, но он как-то совладал с ними. Наполненный вином, шатаясь и спотыкаясь на каждом шагу, он устремился к открытой двери, а оттуда к своей одинокой постели.
— Он горячий и совершенно безвредный, — настойчиво сказал Павек, а под его словами билась одна единственная мысль: Если вы хотите сожрать кого-нибудь, Великий, сожрите меня.
Это убило все надежды и намерения Хаману. Они были одни, за исключенением критика, который все еще балансировал на плече Хаману. Ящерица даже не вздрогнула, когда Хаману поменял иллюзию, став человеком со смуглой кожей и черными волосами, которого Павек знал — или думал что знает — лучше всего.
— На рассвете ты придешь к южным воротам.
Они стояли лицом к лицу. Сейчас Павек был ниже его, но на колени не упал.
— Я знаю.
Хаману передал ему ящичек со свитками. — Ради Урика. — Он сжал своими неестественно горячими руками руки Павека, державшие ящичек из потрепанной кожи. — Когда я уйду, ты поднимешь дух стража.
— Я попытаюсь, Великий.
— Ты не будешь пытаться. Ты сделаешь это. Ты поднимешь стража Урика. Ты призовешь любую силу, которой обладаешь, и ты уничтожишь меня, Павек. Это приказ.
— Я не знаю.
Раджаат, Черная Линза, Серость, Чернота и даже дракон для Павека были только слова. Он пытался расставить их по порядку в своем сознании смертного, но для него не было большей катастрофы, чем Урик без Короля-Льва.
— Ты узнаешь, Павек. Ты узнаешь, когда увидишь, кем я стану. Твоя совесть не помешает тебе.
— Но Раджаат, — запротестовал темплар. — Дракон защитит Атхас от Раджаата, разве не так? Разве это не то, что Дракон — Борс, Палач Гномов — делал на протяжении двух тысяч лет?
Раджаат не будет заботой Павека. О Раджаате должны будут позаботиться Садира и Ркард. Раджаат будет их наказанием за то, что они не сделали ничего, чтобы покончить как с Раджаатом, так и с драконами. Хаману ничего не скажет Павеку о Раджаате.
— Борс был Палач Дварфов, — мягко исправил Хаману своего высшего темплара, выбросив мысль о Принесшего-Войну из его головы. — Галлард был Погибелью Гномов, и он переменил имя на Нибенай после того, как Борс стал драконом, а это было тысячу лет назад, а не две тысячи.
— Но… — Павек получил образование в темпларском приюте; он знал только официальную историю города.
— Мы лжем, Павек. Мы все лжем, все Доблестные Воины. Когда войны закончились, Тир стал мерять год от одного дня Самого Высокого Солнца до другого, и это три сотни и семьдесят пять дней, но Драй и Балик имеряют год по их дням равнодействия. Так что их год вдвое короче. Албеорн — Андропинус Балика — не хочет, чтобы кто-то знал о том, что раньше его звали Убийца-Эльфов. А так как мы лжем, то мы выбросили настоящую историю, вместо нее сочинили кое-что другое, так чтобы смертные, которые могут помнить Очистительные Войны, никогда не подумали, что их вели мы. — Хаману сильнее прижал руку Павека к ящичку со свитками. — Здесь, и только здесь, написана правда. Надежно сохрани ее.
Павек нахмурился. Он машинально коснулся своего шрама и скривился от боли, которую почувствовал и Хаману.
— Ты должен дать мне исправить это.
— Еще одна иллюзия? Еще одна история, которую выбрасывают и на ее место ставят что-то совсем другое?
— Ты станешь симпатичным мужчиной. Женщины будут замечать тебя.
— Вовсе не мое лицо удерживает Каши далеко от меня, — честно сказал Павек.
И Хаману вынужден был согласиться. Он провел кончиком пальца по уродливому шраму… и оставил его таким, каким он был. — Прощай, Павек, Просто-Павек. Время пришло и я ухожу.
Павек начал кивок, но не закончил, его подбородок застрял в груди. — Мне будет нехватать вас, Великий, — его голос стал неразборчивым. — Если у меня будет сын, я назову его Хаману.
— Думаю, что Каши с этим не согласится, — сказал Хаману, поворачиваясь.
Он был на пол-пути к двери, когда Павек позвал его назад.
— Телами… — начал темплар. Его лицо просветлело, глаза заблестели. Он начал с начала. — Телами будет вас ждать.
Хаману приподнял бровь, не доверяя своему голосу.
— Когда… если… вы станете частью стража, Великий. Она так сказала. И она будет вас ждать.
Он не стал думать о том, что будет после; это дало ему силу повернуться и выйти из двери.
Пятнадцатая Глава
Руари воткнул себя в угол, в котором его узкая койка встречалась со стенами комнаты, самый лучший способ спасти койку и стены от беспорядочной тряски. Его веки была самыми тяжелыми частями его тела, но он не осмеливался дать им закрыться. Без отметок лунного света на стенах, которые могли бы сказать ему, сколько времени осталось до рассвета, ему казалось, что он падает назад, падает назад без конца и начала, до тех пор, пока его внутренности не начали тяжелеть в другом направлении.
Полуэльф знал это состояние, потому что с ним уже такое случалось, и не один раз, а целых два. Он сбросил свою неприятно пахнувшую одежду за комнатой и прополз последние расстояние до своей койки на четвереньках. Его голова работала не слишком хорошо, но казалось совершенно ясно, что он никогда раньше не чувствовал себя настолько больным, глупым и пьяным. Если бы ему дали выбрать между смертью прямо сейчас и поддерживанием стен и живота до рассвета, Руари без колебаний выбрал бы смерть.
Так что его вполне можно простить, когда он решил, что женщина, внезапно появившаяся в дверях его закутка, была приведением, которое пришло объявить ему о вечности.
— Сохраняй и зашищай, — пробормотал он, конец молитвы друидов, первые слова которой он забыл.
Уперевшись пятками в матрац, Руари толкнул себя назад, но его ноги были слишком слабы, а стены красно-желтого дома Павека были сделаны из обожженных кирпичей, а не сплетены из камышей, как стены его хижины в Квирайте. Смертельный ужас охватил Руари, когда она подошла к койке и положила удивительно теплую — для мертвых — руку ему на бедра.
Ужас был не тем, с чем пропитанный вином желудок Руари мог сейчас справиться. Он сделал отчаянный боковой выпад.
Смерть подхватила его прежде, чем он грохнулся на пол.
— Ты не должен пить так много, — упрекнула она его.
Смерть пригладила его мокрые волосы за ушами — жест, который Руари не оценил. Предполагалось, что уши должны быть одинаковы, но у него они не были. Одно из было более острое, более эльфийское, чем другое. Он попытался скрыть этот дефект; но она схватила его руку прежде, чем он схватил свои волосы.
— Расслабься, — сказала она, поднимая его руку. — Так ты почувствуешь себя лучше. — Она прижала свои губы к костяшкам его пальцев.
Очень теплые губы.
Очень теплые и расслабляющие губы.
Руари почувствовал себя легче, чем мгновение назад. Живот стал поспокойнее, комната больше не угрожала закрутиться, как бешенная, вперед или назад. Он запротестовал, когда она освободила его, но она сделала это только для того, чтобы расшнуровать свою сорочку. Он увидел серые круги вокруг ее щиколоток, открывающие мягкие линии, которые светились в лунном свете.
Руари встал на колени, легко балансируя на узловатом матраце. Когда он приветствовал ее, в его движениях не осталось и следа от пьяной неустойчивости.
— Если ты не смерть, — прошептал он ей в ухо, — то кто ты?
— Шшш-ш, — ответила она, заключая его в свои объятия.
Обхватив друг друга, они нырнули в объятия кровати.
Спустя какое-то время Руари показалось, что он летит высоко над городом.
Павек и не пытался заснуть, даже не пошел в кровать. После того, как пробил полночный колокол, и все его домочадцы наконец уснули, он взял лампу и ящичек со свитками Хаману, и отправился в атриум. Сев там, где сидел король Урика, замаскированный под юношу, Павек очистил место на заставленном едой столе и развернул свитки пергамента.
Отложив в сторону те, которые он уже читал, он начал с размашисто исписанных листов пергамента, о которых король сказал, что они содержат правду. Останавливаясь только для того, чтобы долить масло в лампу, когда ее свет начинал мигать, он прочитал, как Ману стал Доблестным Воином и как этот Доблестный Воин очистил Атхас от троллей. Воздух стал холодным и восточный горизонт начал слегка розоветь, когда Павек дошел до последних слов: ответственность за геноцид пала именно на меня, Хаману. Его сердце стало еще холоднее.
Не так давно, когда он перевязал руку Короля-Льва, Хаману сказал ему, что никакой смертный не может даже представить себе его внутренний мир и, тем более, осудить его. Когда он свернул последний лист пергамента и положил его в ящичек, Павек попытался сделать как то, так и другое, и не сумел. Он не смог представить себе силы, которые преобразовали молодого человека, почти мальчика, пришедшего вечером в его дом, в могущественного Доблестного Воина, который стоял и молчаливо смотрел, как последние тролли не говоря ни единого слов шли к смерти. И более того, он не мог вообразить, как этот мужчина — несмотря на листы пергамента Павек продолжал думать о Льве Урика как о мужчине, и даже больше, чем раньше — не сошел с ума.
А не зная этого, и не будучи абсолютно уверен, что Хаману нормален — по меньшей мере в том смысле, в каком смертные считают мужчину нормальным — Павек не мог судить своего короля, своего повелителя и — Прихоть Льва — своего друга. Он с полной уверенность мог судить о Раджаате, который был большим злом, чем все Доблестные Воины вместе взятые, но у него не было ни малейшего основания для осуждения Хаману.
Урик, гордость Хаману, был жестоким городом в жестоком мире. Никто не знал его оборотную сторону лучше, чем Павек, бывший темплар низкого ранга. Жизнь в Квирайте, единственном другом месте, в котором жил Павек, была намного более приятной. Но что из того, что жители крошечной деревушки по ту сторону соленой пустыни создали место получше? Павек без колебаний называл Телами хорошей женщиной, но Телами могла быть жестокой, как Король-Лев, когда она решала стать такой, да и она сама была возлюбленной и другом Хаману когда-то в прошлом. Телами, кстати, без колебаний пригласила Хаману в теневой мир, в котором живут аватары стража.
Восточное небо стало намного ярче, чем западное, когда Павек запечатал ящичек и встал на ноги. Золотой медальон стукнул ему по груди. Он достал его и внимательно осмотрел грозного льва, выгравированного на блестящей поверхности. Пока он носит медальон, все равно золотой или дешевый керамический, Павек остается темпларом. А темплар подчиняется своему королю и оставляет всякие суды стражу.
С лампой в руке Павек пошел из комнаты в комнату, поднимая друидов Квирайта, которых он просил присоединиться к нему у башни южных ворот. Уже дважды ему удавалось разбудить стража Урика и поднять его на поверхность из глубин Атхаса, чтобы защищать и сохранять. Хаману верил, что страж города может одолеть даже дракона Раджаата. Однако прочитав листы пергамента Павек стал намного меньше верить в это. В друидстве он был новичок, и его веру поддерживала только преданность городу и преданность Королю-Льву. Он попытается оправдать доверие Льва, но в любом случае не хочет стоять один на южной башне, когда появится Дракон Урика.
Семь из восьми друидов проснулись, когда Павек пришел их будить. Но заляпаная вином и плохо пахнувшая одежда Руари была брошена в беспорядке за дверью его комнаты. Учитывая как то, сколько хлипкий полуэльф выпил вчера вечером, так и то, что он был совершенно непривычен к вину и не знал его опасностей, Павек ожидал найти своего трудного юного друга свернутым клубочком на полу, не в состоянии ни встать, ни сесть. Вместо этого, когда он открыл дверь, лампа осветила совершенно пустую комнату.
Все белье на кровати было скомканно и растрепано. Изящные решетчатые ставни на окне не были открыты, они просто исчезли. А на полу рядом с койкой Руари валялась женская ночная рубашка.
Сунув руку в вырез своей рубашки и ухватившись за золотую цепочку медальона под ней, Павек выкрикнул имя Руари; ответа не было. Он перегнулся через высокий подоконник и выглянул наружу, внимательно вглядываясь в темный переулок двумя этажами ниже.
Никого. Тогда к нему присоединились все остальные друиды. Они быстро обыскали весь дом, тревожно поглядывая на разгорающийся горизонт. Ни единого следа пропавшего полуэльфа. Только в переулке под домом нашли разбитые ставни, и все. Зато во время поисков выяснилась, что к тому же еще пропала молодая женщина.
— Она встала в полночь, милорд, одела ночную рубашку и вышла за дверь, — объяснила какая-то девушка Павеку. — Я спросила ее, в чем дело, она не ответила. Мне показалось, что она вообще не услышала меня. Это было очень странно, милорд, но я не думала, что из-за этого может произойти что-нибудь плохое. Клянусь Прихотью Льва, милорд.
Так что никто не удивился, когда девушка уверенно сказала, что ночная рубашка, которую Павек держал в руке, принадлежит исчезнувшей женщине.
Действительно, Прихоть Проклятого Льва. Павек выругался длинной вереницей темпларских проклятий, так что у друидов Квирайта широко раскрылись глаза. Но прихоть льва была лучшим — и единственным — объяснением, которое он мог предложить пораженным гостям, но даже и тогда Павек не сказал им, почему и как полуэльф привлек к себе взгляд страшных желтых глаз.
— Он молод. Импульсивен и беспечен, — сказал один из друидов. — Он будет ждать нас здесь, когда мы вернемся.
— И все равно мы никогда не услышим, чем все кончилось, — добавил другой.
Павек взлохматил волосы и уставился на небо. С горечью в сердце он напомнил себе, что не ему судить Хаману из Урика и что одна юная жизнь — ничто по сравнению с преступлениями Хаману и достижениями Хаману, она не значит ничего. Просто эта жизнь принадлежала его другу, и он надеялся, что другой его друг будет уважать ее.
Друиды не нуждаются ни в чем, чтобы работать со своей магией, им не нужны ни магические компоненты или божественные амулеты, а только преданность объединенной силе живой силе Атхаса и вера в правоту своего обращения к ней. У Павека было кое-что с собой, пока он торопился вслед за своими товарищами по серым предрассветным улицам Урика, но самое последнее он оставил за собой: тонкую женскую рубашку, наброшенную на запечатанный ящичек со свитками, обтянутый потрепанной кожей.
За ночь положение Урика изменилось, и не в лучшую сторону. С башни южных ворот Павек видел крыши и дым из кухонь четырех рыночных деревень, бархатное полотно полей и ферм Урика, а за ними три грязных, освещенных факелами пятна, внутри которых армии Нибеная, Галга и Джиустеналя перегруппировывались в течении ночи. Армия Урика находилась за толстой черной линией, которая отделяла поля от врагов.
— Приказы, — сказал Джавед, когда Павек отошел от балюстрады башни. — Все двигались всю ночь. Все устали, а нам тесно, как рыбе в бочке. Нет места для боя. Ни нам, ни им. Мне кажется, битвы не будет.
Темнокожий эльф уставился на Павека, ожидая подтверждения или отрицания.
— Он приказал мне быть здесь на восходе, — вот и весь ответ Павека, но потом он — глупо — добавил, — Руари исчез. Прямо из кровати. И девушка.
Исключительно глупое замечание, особенно учитывая, что еще не родился чистокровный эльф, который будет симпатизировать полуэльфу. Вот если бы пропавшая девушка была эльфом, тогда это, может быть, и взволновало бы Героя Урика, но для Руари у Джаведа нашелся только вздох и неопределенное движение руки.
— Он уничтожил троллей, вплоть до последнего, — сказал коммандор, как если бы отчитался за судьбу Руари. — Он знает, что, будет или не будет сегодня битва, с поля боя ему не вернуться. Нет никакого способа вернуться обратно.
Герой Урика выполнял свои неприятные обязанности уже сорок лет. Еще в те времен, когда по Атхасу бродил Дракон Тира, каждые несколько лет он отводил большую партию рабов в пустыню и наблюдал за тем, что там происходило.
— Мы мясо, Павек, — сказал Герой Урика. — Меньше чем мясо. Немного жира, золы и костей. Это все, что оставалось от них после встречи с Борсом. Но я, как и ты, видел обсидиановые осколки. — Он покачал головой. — Мы умрем, пока Лев будет сражаться с Раджаатом. Я полагаю, что это справедливо, но я предпочел бы сразиться с Раджаатом сам.
За исключение стального медальона, который Джавед всегда носил на груди, командор не слишком доверял магии, будь то магия волшебников или друидов. Но именно магия заставила их всех опять прильнуть к перилам баллюстрады, когда сержант крикнул:
— Вот он!
Ворота были закрыты, и за башней не было никаких других зданий, где Хаману мог бы укрыться, пока он надевал на себя блистающие доспехи, его символ, в которых он вел в бой армии Урика уже тринадцать сотен лет. Да, это был он, одинокая фигура, сверкающая на свету, и пока кровавое солнце поднималось над горизонтом, Король-Лев пошел на юг, туда, где собрались его враги.
Павек хотел верить. Он хотел бы, чтобы его сердце наполнилось восхищением, благоговением или страхом перед настоящим Доблестным Воином. Он хотел бы испытать отчаяние от того, что абсолютно точно знал, что даже у Доблестного Воина нет шансов победить силу, против которой встал Король-Лев. Вместо этого он не чувствовал ничего, унылое, кислое ничего, потому что, забрав Руари, Хаману доказал, что он ничем не отличается от своих врагов, и нет никакой надежды для Атхаса.
Тем не менее он был не в состоянии отвернуться. Он смотрел, прикованный к месту, как сверкающая фигура становилась все меньше и меньше, пока совсем не скрылась из виду.
— Что теперь? — спросил один из друидов Квирайта. — Время призывать стража?
Павек покачал головой. Он уселся на пол, прислонился спиной к одному из фигурный столбиков южной балюстрады и спрятал лицо в руках. Солнце начало свой ежедневный подъем над восточным горизонтом. Небо изменило цвет, в воздухе уже чувствовались первые намеки на дневную жару. Павек поднял голову и взглянул на поднимавшееся светило. Судя по скорости, с которой шел Хаману, он уже был около одной из рыночных деревень. Павек опять опустил голову.
— Павек!
Он взглянул вверх. Голос был знаком. Сначал он подумал, что голос идет из его собственного сердца, а не из ушей — но другие тоже услышали его и сейчас смотрели на ступеньки.
— Павек!
Павек уже был на ногах, когда Руари преодалел последнюю ступеньку.
— Павек, ты никогда не поверишь тому, что случилось…
Юноша споткнулся. Джавед подхватил его — что само по себе было чудом, хотя и другого сорта — и поддерживал на ногах, пока сержант военного бюро не прибежал со стаканом воды в руках. Руари вздохнул, задохнулся, покачнулся и с трудом сделал еще один шаг по направлению к Павеку. Видно было, что до башни он бежал, бежал и по ступенькам вверх, и был почти без сил. Его волосы потемнели от пота и пыли, залепившей ему шею и плечи. Вся его одежда тоже потемнела, а пропитанная потом рубашка свисала с высоко поднятых плеч.
Павеку понадобилось еще одно мгновение, чтобы осознать, что рубашка была шелковой, по краям обшитой золотом; ничего подобного Руари не мог найти в красно-желтом доме в квартале темпларов.
Тогда он схватил Руари за запастья и жестко тряхнул. — Где ты был, Ру? Я тебя искал. Все тебя искали. Тебя не было в твоей комнате.
— Ты никогда не поверишь, — опять повторил Руари, который никак не мог отдышаться.
— Попробуй объяснить.
Они дали ему еще один стакан воды и усадили на стул.
— Я был пьян, Павек…
— Знаю.
— Я был настолько пьян, что подумал, что это Смерть, когда она вошла ко мне в комнату. Но она не Смерть, Павек, — Руари глотнул еще воды.
Павек ждал. На самом деле ему не надо было слышать больше. Вполне достаточно, что Руари остался жив после встречи с Королем-Львом, так как, без всякого сомнения, на нем рубашка самого Хаману. Он не хотел ничего больше, только схватить своего друга и посильнее прижать к груди, но Руари наконец-то отдышался и заговорил снова.
— Она была невероятно прекрасна, когда стояла, освещенная лунным светом. Я подумал — я подумал, что не бывает лучше, но потом мы полетели, Павек…
Павек начал было трясти головой не веря Руари, но потом остановил сам себя. Руари не было в его комнате; Руари был с Хаману — что бы там полуэльф не видел, не думал или не выбрал верить — и вполне возможно, что он летал. Это было хорошее объяснение шелковой рубашки.
— А потом я проснулся в огромной кровати — на крыше дворца. Крыше королевского дворца! Ты можешь это объяснить?
Павек кивнул.
— Ветер и огонь — я знал, что вы меня ищете. Я нашел какую-то одежду и выбрался оттуда так быстро, как только мог — я знал, Павек, что ты будешь сердиться. Я не сомневался. Но что это все значит?
— Прихоть Льва, — хором сказали сержант и друид.
— А что с девушкой? — спросил Павек.
Руари смутился; его и так раскрасневшаяся от жары кожа стала еще темнее, темнее чем кровавое солнце. — Я отправил ее назад, в твой дом — в сорочке, Павек. Я нашел там другую сорочку для нее и отправил ее в квартал темпларов.
Раздался смех, как мужской, так и женский. Лицо Руари опасно засветилось.
— А что еще я мог сделать? — обиженно спросил он.
— Ничего, Ру, — успокоил его Павек. — Ты все сделал правильно. — Он так крепко обнял своего друга, которого еще несколько минут назад считал мертвым, что у того затрещали кости. — Как ее зовут?
— Не знаю, Павек, но она прекрасна и, я думаю, любит меня, — прошептал Руари с ухо Павека, прежде чем тот выпустил его из своих могучих объятий. — Я думаю, это навсегда.
— Я уверен в этом. — Павек поставил Руари на расстояние вытянутой руки; юноша действительно казался одурманенным. Впрочем, это было не удивительно. — Я уверен, что вы будете счастливы вместе.
Своим внутренним взором он увидел их обоих вместе — Руари, прекрасную женщину и их прекрасных детей; у одного из них были желтые глаза. Раньше у Павека никогда не было видений; пророческий дар — не частo встречается среди друидов… и темпларов. Но он поверил тому, что увидел, и на сердце стало легче. Он опять обнял Руари, потом отпустил его и вместе они подошли к южной баллюстраде башни, но своим внутренним зрением он по-прежнему видел их обоих, вместе; он глядел на пустую дорогу, не видя ее, пока видение не потускнело.
— Рука тяжело опустилась на его плечо: Джавед, на его угрюмом лице непроницаемое выражение.
— Ману? — спросил командор-эльф.
— Да.
Рука Джаведа осталась на плече Павека. Потом она сжалась в кулак, который ударил в черную платину нагрудного панциря, прямо над сердцем командора: беспрекословное подчинение на протяжении всей жизни. Затем он глубоко вздохнул, на мгновение закрыв глаза.
— Он сильнее чем его природа. Еще есть надежда.
Павек кивнул. — Надежда, — согласился он.
Но не надолго. Пока оба мужчины глядели, там, где южная дорога уходила за горизонт, поднялось второе солнце. Оно светило также ярко, как и восточное, и было такого же кровавого цвета.
— Прихоть Льва, — выругался сержант; остальные не смогли сказать ни слова.
Спустя несколько мгновений стало еще хуже — все мужчины и женщины, носившие медальон со Львом, упали на землю. Павек обхватил руками голову; иначе его череп мог бы взорваться изнутри. Он ударился лбом о грубые доски пола башни. Это помогло, одна боль притушила другую. Кто-то наклонился над ним и сломал цепочку его золотого медальона; это помогло больше.
Но при все при том, не физическая боль держала его на коленях с лицом, прижатым к полу. Это было знание, несомненное знание того, что Король-Лев, который Невидимо присутствововал в его жизни начиная с возраста в пятнадцать лет, когда он получил свой первый, грубый керамической медальон, освободил его, бросил его, хотя и не уничтожил его.
Медленно, Павек выпрямил спину и сел на пятках. Джавед был перед ним; его губы кровили там, где он искусал их. У них не было слов, которыми они могли бы высказать то, что чувствовали, пока они с трудом вставали, держась за балюстраду. Потом они отвернулись друг от друга и опять посмотрели на юг, где второе солнце исчезло за — или внутри — огромной светящейся башни из пыли и грязи.
Один из низших темпларов, стоявший в воротах башни, начал было кричать, но крик немедленно умер внутри его горла. Никакому смертному уже не было дела до того, что случилось на юге, когда звуки смерти и волшебства достигли стен Урика.
Облачная башня росла до тех пор, пока не стала такой же высокой и могучей, как столбы дыма, отмечавшие извержения вулкана Дымящаяся Корона на северо-западе. Потом, как и те пепельные столбы, башня стала опадать, становясь ниже и шире. Дуги молний связали внешний край расширяющегося облака с землей; они били беспорядочно, а длились долго, даже дольше, чем синии стрелы Тирского Урагана.
Павек знал — они все знали, хотя никто из них не был погодной ведьмой — что молнии бъют из земли, а не из облака.
Темпларам Нибеная, Галга и Джиустеная повезло не больше, чем их коллегам-Урикитам. Их короли пожертвовали ими и остальными тремя армиями только для того, чтобы в кипящем и бурлящем столбе родился и обрел форму новый дракон.
Без всякого предупреждения облако распалось перед их потрясенным взглядом. Глубокий рев ударил в башню спустя несколько мгновений. Похожий на могучий кулак — кулак дракона — он бросил их всех на пол. Башня задрожала и покачнулась, мужественные мужчины и женщины завыли от позорного, нерассуждающего страха. Позади них, в самом Урике, крыши и стены домов задрожали и рухнули, гроход их падения добавился к суматохе продолжающегося южного взрыва. Павеку показалось, что эхо катастрофы не прекратится никогда.
— Мы следующие, — крикнул он. Он чувствовал свои слова в легких и на кончике языка, но никакой голос не мог достичь ушей его оглушенных товарищей.
И тем не менее один голос сказал, Гляди! Дракон Урика!
И другой голос, сразу после первого: Теперь, Павек.
Он подполз к балюстраде. Слабеющий дождь песчинок и грязи барабанил по его рукам, когда он схватился за перила. Павек встал, держась за перила, взглянул на юг. Все было тихо и спокойно, под светом единственного темного солнца. Облако исчезло — как будто его и не было. Три темных столба пыли, которые были на месте лагерей трех армий, тоже исчезли. Теперь эти места были бледными и такими же ослепительно белыми, как выбеленные кости в утреннем свете.
Но темная линия армий Урика все-еще окружала по-прежнему зеленые поля. Они выжили. Они все выжили. Их король на самом деле оказался сильнее, чем считали Раджаат и Доблестные Воины, он пересилил свою собственную природу.
Теперь Павек.Теперь, или никогда.
На южной дороге появилось черное пятно, быстро движущееся к ним. Намного меньшее, чем то чудовищное создание, которое Павек видел внутри облака, так что Павек не сразу осознал слова, повторяющиеся в его мыслях. Он не сразу понял, что эти слова исходят не от одного из бесновавшихся друидов Квирайта, а от самой черной точки, дракона, направлявшегося к стенам Урика.
Вся друидская магия, которой Павек научился от Телами, следовала одному и тому же образцу. Он встал на колени, уперся руками в пол, и послал образ своего заклинания глубоко в землю, призывая сущность стража Атхаса. Если слова и образ были правильны, а страж будет расположен к нему, магия придет. Он все сделал очень просто, аккуратно, и совсем по другому, чем тогда, раньше, когда Павек дважды поднимал совершенно особого стража Урика.
В сознании Павека не было воспоминаний или образцов, когда он призывал сущность стража, только необходимость — обжигающая, отчаянная необходимость.
Никогда, за всю историю Урика, не было большей необходимости, чем в тот момент, когда Павек простерся на полу, что призвать — выпросить и вымолить — помощь стража Урика. В других случаях страж не отказывался спасти несколько жителей Урика. Нет сомнений, что ему будет приятно спасти весь город.
Так думал Хаману, и, вложив всего себя в призыв, Павек верил и в Хаману и в стража, поровну. Страж был живой сущностью города, а Хаману — тот Хаману, которого знал Павек — только что умер за него. И никто не смог бы сделать больше, чем Лев…
Король выполнил свою часть, а Павек пытался, переливая всего себя в заклинание призыва, пока не стал абсолютно пуст и обессилен, а дракон уже был отчетливо виден: искрящее черное существо, выше, чем башня южных ворот, подходящее все ближе, но ничего — совсем ничего — не поднималось из глубины земли, чтобы остановить его.
Клубы тумана нижнего мира поднимались от роскошной шкуры дракона. Пока он приближался к башне, его форма постоянно изменялась. Было трудно следить за этими изменениями смертным взглядом, но старейший из друидов Квирайта уверенно сказал:
— Он не закончен, не полностью соображает, что происходит.
Павек вспомнил листы пергамента, вспомнил место о Борсе и о сотне лет, в течении которых незавершенный дракон рыскал по Центральным Землям, прежде чем пришел в себя.
— Он больше, чем Дракон Тира, — сказал Джавед, не обращаясь ни к кому в отдельности; он был единственный среди них, кто мог сравнивать. — Другой, хотя и очень похожий.
— Страж, Павек. — Голос Руари. — Где страж?
— Я не могу призвать его, — ответил он, в его голосе прозвучали отчаяние и поражение. — Они не могут быть в одном месте, Хаману и страж, одновременно.
Раздался хор ругательств, за ним стоны ужаса и отчаяния, и крик, когда один из друидов предпочел прыгнуть с башни и разбиться насмерть, а не оказаться лицом к лицу с Драконом Урика. Дракон был уже в сотне шагов от башни — сотне шагов Павека, восемьдесят Джаведа, около десяти дракона. Теперь они могли видеть его совершенно отчетливо, более отчетливо, чем кто-нибудь действительно хотел бы увидеть дракона.
Павек, который видел настоящую форму Хаману, мысленно сравнил их и решил, что, хотя в чем-то они и похожи, различий намного больше. Ноги с когтями были такие же, только намного больше, и глаза дракона были серно-желтые, глаза Хаману. Зато глаза были без век и покрыты радужными чешуйками, мерцающими на свету. А их зрачки были настоящие мечи, по форме и по размеру. Они казались не столько глазами, которыми дракон глядел на мир, сколько отверстиями в бездонное и мрачное пространство.
Чем больше Павек глядел в них, тем меньше они казались похожи на глаза Хаману, и тут дракон наклонил свою массивную голову.
— Он видит нас, — сказал Джавед. — Хаману знает, что мы здесь. Уходите, О Великий! Урик больше не ваш дом. Идите и сразитесь с Раджаатом!
Дракон наклонил свою голову в другую сторону. Павек — и им всем — на миг пришла в голову соблазнительная мысль, что есть надежда, что в драконе осталось что-то от Короля-Льва Урика, что-то, что сопротивляется безумию, которое в свое время держало Борса в плену около ста лет. Надежда исчезла, когда дракон зарычал и из его рта вылетела струя раскаленного песка, которая вдребезги разнесла массивные ворота прямо под ними.
Дракон шагнул вперед, расставив верхние лапы-руки так широко, что мог бы схватить мекилота, ядовитая пена капала с его обнаженных клыков. Сердце Павека заледенело под ребрами; он не смог держать глаза открытыми. Полуразрушенные, едва стоящие стены вздрогнули, а потом была вспышка света — золотого блесящего света, который ослепил всех, чьи глаза не было закрыты. Потом дракон заревел во второй раз, и в третий, а между ревом были слышны крики смертных. Воздух наполнился отвратительно пахнувшим паром.
Павек решил, что он сейчас умрет, вместе со всеми остальными, но смерть не взяла его, и, открыв глаза, он увидел, что и все остальные вокруг него остались живы. Те же, которые кричали, кричали от ужаса, а не от ран.
Дракон упал на землю. Он лежал на спине, потрясенный, но видимых ран на нем не было. На мгновение — очень короткое, так что Павек решил, что ему это почудилось — он показался человеком, ползущим к солнцу, знакомым человеком со смуглой, темно-желтой кожей и длинными черными волосами, а вовсе не драконом. Но это определенно был дракон, который вскочил на ноги и вызывающе заревел.
Стены Урика ответили еще одной золотой вспышкой, и дракон отступил.
— Короли-Львы! — закричал один из темпларов. — Глаза Королей-Львов!
Огромные хрустальные глаза, вырезанные и нарисованные на всем протяжении городских стен, сверкнули золотым светом в третий раз, заставив дракона отступить еще дальше.
— Страж, — поправил Павек темплара, смеясь и крича от радости.
Его веселье было заразным, но прожило недолго. Дракон не сдался, и хотя свет стража отгонял его каждый раз, когда он пытался пройти через стену, такое положение не могло продлиться долго.
И оно не продлилось. Задолго до полудня над южным горизонтом появился другой облачный столб. Они заговорили, обмениваясь именами врагов Урика, пока столб не стал достаточно большим и достаточно близким, и тогда они увидели синие молнии, бурлящие внутри.
— Тирский Ураган, — пришли все к единому мнению, но Джавед и Павек знали лучше.
— Раджаат, — сказали они друг другу.
— Они будут сражаться; Король-Лев победит, Дракон Урика победит, — продолжал Джавед.
— Не здесь, — возразил Павек. — Иначе они разрушат город.
— Может быть да. Может быть нет. Может быть он увидит, кто приближается и пойдет на юг, чтобы встретить его. Если бой будет достаточно далеко на юге, город не пострадает.
На какое-то время они стали самыми настоящими шутами, и, пока ураган Раджаата приближался к городу, бегали, прыгали вверх и вниз, кричали и размахивали руками, пытаясь привлечь к себе внимание дракона. Это было глупо и бессмысленно, так как он был безумен, не понимал их и не глядел на нового врага, приближающегося со спины.
Если — если Дракон Урика продолжал считать Раджаата врагом. Если в нем осталось достаточно от Хаману, чтобы ненавидеть своего создателя. Если он не стал последним Доблестным Воином Раджаата, предназначенным для того, чтобы уничтожить все человечество в Центральных Землях.
Страж вполне мог сражаться против безумного и безмозглого дракона, но не против вполне осмысленного безумия Раджаата.
Павек соскользнул вниз по лестнице башни. Он открыл заднюю дверь — охраняющее ее заклинание рассеялось, когда Хаману освободил медальоны — и побежал к дракону.
— Раджаат, — закричал он, хотя слова, которые он держал в уме были словами, которые написал Хаману, и в голове его роились образы, которые они вызывали. — Пришел Раджаат — он хочет уничтожить Урик.
Дракон шагнул вперед, широко раскрыв руки, чтобы добраться до Павека. Желтые глаза Короля-Льва отогнали его обратно.
Павек попытался опять: — Урик, Хаману — Раджаат хочет уничтожить Урик.
Еще один шаг, еще одна вспышка.
— Поля, Хаману. Он уничтожит поля, на которых растет пшеница!
На этот раз дракон остановился. Он склонил голову набок, как делал раньше, и выгнул свою длинную гибкую шею, чтобы видеть получше.
— Раджаат уничтожит поля, Хаману. Победа ничто, если зерно не взойдет.
Серный выдох пронесся над ним. Дракон выпрямился и повернулся. Он вытянул свою морду на юг, глядя на приближающийся шторм и на горизонт, потом посмотрел на восток и на запад, где — как надеялся Павек — были видны зеленые поля. Наконец дракон зарычал и начал идти — а потом бежать — на юг.
Синий шторм бушевал над черным драконом, и дракон бушевал в ответ. Битва не была сознательной целью их обеих, но инстинкт был силен, а ненависть еще сильнее — особенно в драконе, который сражаясь, постоянно двигался, сначала на юг, а потом на юго-восток. Когда они достигли Илового Моря, они подняли в воздух столько ила, что затмили солнце на три дня, которые им понадобились, чтобы достигнуть острова, на котором другой дракон построил город вокруг тюрьмы.
Раджаат, Принесший-Войну, первый волшебник — создатель первого дракона, построившего город, и этой беспощадной бестии, приведшей ощетинившийся синими молниями ураган обратно к месту своего рождения — использовал самое могучее заклинание, какое только видел Атхас, в безуспешной попытке воскресить сознание в черном драконе, Драконе Урика. Если бы он сумел найти мысли Хаману, Раджаат мог бы манипулировать ими, даже из своей двойной тюрьмы — Пустоты под Чернотой и со дна наполненного лавой озера. Если бы Раджаат сумел найти Хаману внутри дракона, он сумел бы повлиять на сына фермера, обмануть его и восстановить контроль над своим творением; его сила была, с любой точки зрения, невообразимо больше.
Если бы в материальном мире у Раджаата было больше, чем крошечная точка опоры, он мог бы сокрушить черного дракона, как он сокрушил Борса. Но у него был только Тихиан и ураганы Тихиана, а они были абсолютно бесполезны. А он потерял и Тихиана, тоже, вскоре после того, как черный дракон вошел в Ур Дракс, так как смертельные враги Тихиана из Тира высадились на краю лавового озера и загнали своего прежнего короля обратно в Черную Линзу.
Это расчистило путь, которым дракон вошел в расплавленный камень. Он ревел; он выл и стонал, потому что даже его твердая шкура горела от невероятного жара. Из-за страшной боли у него даже появились мысли, на мгновение.
Надежда Раджаата возродилась; он сплел могучее заклинание и послал его из Пустоты, обещая исцелить все раны своего сбившегося с пути Доблестного Воина и выполнить все его желания.
А взамен я бы хотел только твои кости, твое сердце и твою тень.
Дракон выскочил из лавы; огонь стелился за ним. Он выгнул спину и нырнул под кипящую поверхность. Недостижимый ни для заклинаний, ни для просьб, он нырнул на дно, где лава стала камнем, а то, что осталось от тела Раджаата, стало хрустальным яйцом вокруг Черной Линзы. Раздробив хрусталь, он собрал осколки в руки. Линзу он оставил смертным: они могут разбить ее, или использовать, как они захотят; это просто артефакт, ни добрый ни злой. Потом, из последних сил, он бросил себя в каменное сердце Атхаса.
Атхас принял черного дракона в свои объятия. Он освободил его от тяжело доставшихся сокровищ; проглотив остатки вещества Принесшего-Войну, он надеждно запечатал самого дракона в могиле, которая начала уменьшаться и сжиматься. Потом, когда от дракона ничего не осталось, Атхас восстановил сознание Хаману, вернув ему рассудок, но оставил его заключенным в камне. Он был все еще бессмертным: он не мог умереть, даже без водуха, воды и еды, даже когда весь мир давил на него своей тяжестью.
Это не был конец как самого Хаману, так и его воспоминаний. Атхас ударял и полировал его, живой камень, медленно двигавшийся через каменное нутро мира. Он прожил вновь каждое мгновение своей жизни. Он страдал. Он сожалел. Он стойко переносил боль и пытки, вызванные решениями, которые он принимал на протяжении тринадцати сотен лет; потом Король-Лев Урика вернул его к жизни.
Опять Атхас сделал с Хаману все, что хотел, а потом выплюнул его.
Хаману ничего не ощутил, когда упал на землю с высоты. Онн тяжело приземлился на плечи и перекатился на бок, не в состоянии понять, где он находится, живой ли он или это просто очередное воспоминание.
Медленно, ощущая себя хрупким и слабым, каким он никогда не помнил себя в жизни, Хаману обнаружил, что у его тела есть мышцы, сухожилия и кости. Он обнаружил свои ноги, а затем и руки, при помощи которых встал. Мир под его пальцами был гладкий, твердый и горячий, а его собственное тело — сильнейшее потрясение, от которого он едва не потерял равновесия и не упал — совершенно без иллюзий. Плоть, которую он ощущал, была его собственной, уязвимой, давно забытой плотью. Где бы он не оказался, Дракон Урика остался за спиной Хаману. Его желания не имели силы, а боль в плече, оставшаяся после падения с непонятно какой высоты, не исчезла, хотя он и попытался исцелиться мыслью.
С некоторым опозданием Хаману нашел свои глаза и открыл их; после стольких лет в камне вместе со своими воспоминаниями, он забыл, что такое свет; мир, который был гладкий, твердый и горячий, заодно светился, посылая мягкий золотой свет на ладони юноши, руки юноши, ноги и торс юноши. Весь мир был залит светом, он стоял на поверхности света. Он подвигал руками, раздвигая свет, в поисках дыры, через которую он должен был вывалиться в этот мир, но ничего не нашел.
— Тебе понадобилось очень много времени.
Звук испугал Хаману и он полуприсел, приняв стойку борца. Легкость движения тоже испугала его, но, обернувшись на голос, он увидел то, что испугало его по-настоящему: залитое светом помещение было невозможно измерить глазом. Оно могло быть сотню шагов в поперечнике, а могло быть и тысячу, квадрат, в центре которого на полу стоял его собственный парадный, крайне неудобный трон, только намного более высокий, чем раньше. А на троне сидела фигура, которую он очень хорошо помнил, получеловек-полулев, та самая фигура, которую его работники рисовали на стенах города, с черной львиной гривой и обнаженным золотым мечом на боку.
Король-Лев Урика, который спас Хаману в Серости, когда он погрузился чересчур глубоко и грубо ошибся, чересчур близко подойдя к Черноте.
Страж Урика.
В первый раз за всю свою жизнь — если он действительно жив — у Хаману не нашлось слов. Он перевел взгляд с Короля-Льва на руку, свою собственную руку, руку Ману, которая вернулась к нему благодаря волшебству, глубину которого он не мог измерить, и по причинами, о которых он не смел догадываться. Миллионы вопросов роились в его сознании; ответы подождут, кроме одного.
— Почему я никогда не мог найти тебя?
Король-Лев спустился с трона. Казалось, что он не выше и не сильнее Хаману, но Хаману помнил о силе иллюзии и не дал себя обмануть.
— Я искал стража моего города. Ты мог бы открыться мне, — сказал ныне смертный человек. — Ради Урика, ты должен был открыться мне.
— Мой дух — дух Урика, которого ты возродил — был здесь с самого начала. Я открывался тебе тысячу раз, десять тысяч раз, в самых разных местах. Но ты всегда глядел не туда, Ману. Ты стал великим королем — и великим человеком — но ты слишком лелеял свое прошлое, и оно оставалось с тобой до тех пор, пока ты не стал готов расстаться с ним.
Хаману открыл рот и… закрыл его опять. Он был гордый человек, но за свою долгую жизнь не лелеял никого… никого после Дорин. Он не умер тогда, но жил текушим днем, изо дня в день, пока Раджаат не сделал его Доблестным Воином. И, как Воин, он выиграл войну, управлял громадным городом и в конце концов стал Драконом Урика. И, уже как дракон, он сам заточил себя в камень под лавовым озером, а там он вспоминал всю свою жизнь больше раз, чем мог сосчитать. И вот теперь, в глубине своего существа, он понял, что больше не лелеет никого.
Так что Король-Лев, страж Урика, сказал правду, а Хаману никогда не спорил с правдой. Вместо этого он опять стал изучать свою смертную руку.
— Сколько времени? — спросил он.
— Тысяча лет в камне, — ответил страж. — Тысяча лет, чтобы понять самого себя.
— Тысяча лет, чтобы избавиться от заклинания Раджаата, — возразил Хаману. — Тысяча лет, чтобы вернуться к началу, в Урик. Выжил ли мой город?
— Твой город! Неужели ты не научился ничему, Ману? Не хочешь ли вернуться в камень еще на тысячу лет?
— Тысяча лет или десять тысяч. Какая разница?.. Раскаяние не изменило мои воспоминания, наказание тоже не изменит. Невозможно уничтожить то, что я сделал. Засунь меня в камень рядом с Виндривером до тех пор, пока солнце и ветер не выбелят наши проклятые кости — но ответь на мой вопрос. Выжил ли мой город?
Страж откинул назад свою львиную голову и засмеялся. — Мой город, Ману, мой город. Он никогда не был твоим. Никакой человек — даже могучий волшебник и бессмертный Доблестный Воин — не может владеть городом.
Хаману опять был смертным, у него было не больше силы, чем у него было давным давно, на пыльной равнине, когда он стоял лицом к лицу с Мироном Сжигателем-Троллей. И он стал сражаться со стражем, как он сразился с Сжигателем-Троллей, вооруженный только своим быстрым умом и природным упрямством.
— Это мой город, потому что я построил его. Я дал ему силу противостоять тому, во что превратился Атхас, тому, что Раджаат сделал со мной и всеми остальными. Мой город, потому что без меня ты был бы духом — стражем подземного озера. Я дал этому городу форму и содержание, отдал собственную силу. Ты — мое создание, а Урик — мой город.
Страж перестал смеяться и обнажил клыки Короля-Льва. Его серные глаза вспыхнули, полохнули огнем, потом успокоились. — Ты говоришь слишком много, Ману. Твой рот может убить тебя… со временем. Ладно, наш город, Ману. Наш город выжил. Вглядись в свет, и ты увидишь, каким стал наш город.
Занавес из света появился между ними. На мгновение он превратился в ковер, карту Урика, каким тот стал за тысячу лет, с того момента, как Хаману-дракон ушел от него. Потом занавес стал ярче и образы на нем растаяли.
— Пройди через него, — скомандовал страж. — Тебе больше нечего делать в этом мире. Твое предназначение выполнено: Урик выжил. Урик будет жить дальше.
Он свободен. После тысячи лет жизни и тысячи лет в камне, Хаману пришел к концу своего пути. Он свободен, и может шагнуть в свет.
Послышалась музыка: кто-то играл на палочке из тростника. Женщина приветствовала его.
А потом они нашли водопад, вместе.