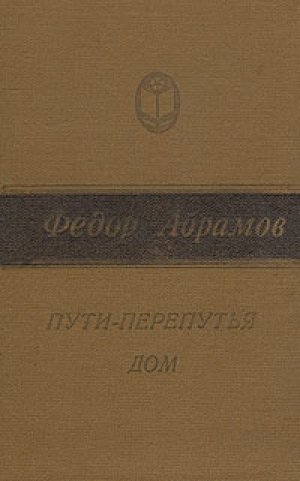
© Абрамов Ф.А., наследники, 2012
© Крутикова-Абрамова Л.В., послесловие, 2012
© ООО «Издательство «Вече», 2012
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Сайт издательства www.veche.ru
Книга третья
Пути-перепутья
Часть первая
Глава первая
Все, все было как наяву, все до последнего скрипа, до последнего шороха в заулке врезалось в память…
Ночью они с Иваном спали крепким, спокойным сном, и вдруг топот и грохот в сенях, будто стадо диких лошадей ворвалось с улицы, потом с треском распахнулась дверь, и на пороге – Григорий, бледный-бледный, с наганом в руке. «Вот он, вот он! – закричал Григорий. – Хватайте его!» И Ивана схватили. Петр Житов (так и заверещал немазаный протез), Федор Капитонович, Михаил Пряслин… А она, жена родная, не то чтобы кинуться на защиту мужа – слова выговорить не могла…
– Ну и приснится же такое, господи! – Анфиса перевела дух и первым делом заглянула в кроватку сына: у Родьки прорезывались зубы, и он уже который день был в жару.
В мутном утреннем свете – в окна барабанил дождь – она увидела долгожданную улыбку на лице спящего сына, услыхала его ровное дыхание, и блаженная материнская радость залила ее сердце.
Но радость эта продолжалась недолго, считанные секунды, а потом ее снова сдавила тоска, страх за мужа.
Ивана вызвали в райком на совещание три дня назад, и вот – небывалое дело – не то что его самого, весточки никакой нет. Она все передумала за это время: заболел, уехал в показательный колхоз (есть такой возле райцентра, возят туда председателей), укатил на рыбалку с Подрезовым (второй год у Ивана какая-то непонятная дружба с первым секретарем райкома)… Но сейчас на все это она поставила крест. Сейчас, после того как ей приснился этот страшный сон, она была уверена: с Григорием поцапался Иван.
– О, господи, господи, – расплакалась вдруг Анфиса, – да кончится ли это когда-нибудь?
Шестой год она живет с Иваном, Родька скоро на ноги встанет, а она все еще Минина и Родька Минин…
Она еще как-то понимала Григория, когда тот отказывал ей в разводе попервости, – где сразу обуздаешь свое самолюбие? Но теперь-то, теперь-то чего вставать на дыбы?
И вот они с Иваном порешили: еще раз по-хорошему поговорить с Григорием, а ежели он и на этот раз заупрямится, подать в суд. И пускай Григорий срамит ее на весь район, пускай на всех перекрестках чешут языками.
Покормив проснувшегося сына, Анфиса встала, затопила печь и, посмотрев на часы, дала себе слово: ежели Ивана не будет до двух часов, она позвонит в райком.
Стук копыт под окошками раздался в третьем часу (у нее не хватило духу позвонить в райком), и Анфиса, не помня себя, выскочила на улицу – босиком, без платка, как молодка.
Мимо проходила старая Терентьевна – подивилась такой горячности. Но Анфиса и не думала обуздывать себя. Она так истомилась да исстрадалась за эти дни – обеими руками обняла, обвила мужа.
– С ума сошла! Грудницу схватить захотела? – заорал Иван и даже оттолкнул ее: стужей, осенней сыростью несло от его намокшего, колом стоявшего дождевика. И эта забота, эта любовь, выраженная чисто по-мужицки, откровенно, дороже всякой ласки была для Анфисы.
Прикрывая руками полуголую грудь, она одним махом взлетела на крыльцо.
– Родька, Родька! Папа приехал!
Она быстро вынесла в сени деревянное корыто и короб с настиранным бельем, подтерла вехтем пол (первое это дело – порядок в избе), собрала на стол, а потом и сама заглянула в зеркало – нельзя ей растрепой, хватит с нее и того, что Родька высушил.
Иван вошел в избу в одних – шерстяных – носках, без дождевика, даже ватник в сенях снял. Но от него все еще несло холодом, и он, прежде чем подойти к кроватке сына, растер руки, размял плечи.
– Ну, как он без меня? Не получше?
– Получше, получше. Только вот заснул – все жил, отца дожидался. Зуб хотел показать. Хорошая кусачка выросла. Матерь давеча за грудь цапнул – я едва не взревела.
– Постой-ко, у меня ведь что-то для него есть. – Лукашин на носках вышел в сени и, к великому удивлению Анфисы, вернулся оттуда с шаркунком – маленькой берестяной игрушкой в виде кубика с камешком внутри.
– На, господи, – развела она руками, – люди с пожни привозят шаркунки, а ты с района? – И пошутила: – На совещаниях, что ли, нынче игрушки делают?
– Почему на совещаниях? Я тоже на пожне был. Всю Синельгу объехал. От устья до вершины.
Теперь ей понятно стало, отчего Иван весь в колючей щетине и раскусан комарами.
– Представляешь, с полубуханкой на Синельгу? – начал рассказывать он, присаживаясь к столу. – Два с лишним дня на таком пайке.
Анфиса не выказала ни удивления, ни сочувствия. Она не любила этих мальчишеских выходок мужа. Его ждут-ждут дома, убиваются, места себе не находят, а он, на-ко, ехал-ехал, да пришла в голову Синельга – и поскакал. Как будто сквозь землю провалится эта самая Синельга, ежели туда на день позже выехать.
– Нельзя, – неохотно буркнул Иван, перехватив ее сердитый взгляд. – Подрезов на всех страху нагнал. Установка такая – заприходовать все частные сена.
– Колхозников? – выдохнула Анфиса.
Лукашин ничего не ответил. Он ел. Ел жадно, с ужасающей прожорливостью. Тарелку грибного супа, полнехонькую, вровень с краями, выхлебал, крынку пшенной каши, какую они и вдвоем не съедают, опорожнил, молока холодного, с надворья, литровую банку выпил, и все мало – кусок житника[1] отвернул.
– Да, вот что! Знаешь, кого я в районе видел? Илью Нетесова.
– Ну как он? Держится? – Анфиса ширнула носом и по-бабьи сглотнула слезу: у Ильи Нетесова на одном году смерть дважды побывала в дому. Сперва умерла дочь Валя, которую отец больше всего на свете любил, а потом – не прошло и полугода – отправилась на погост Марья: тоской изошла по дочери.
– Держится. Только на уши жалуется. Плохо слышать, говорит, стал.
– Это смерть Валина да Марьина у него на уши пала, – по-своему рассудила Анфиса. – Бабу бы ему какую надо. Где уж одному с ребятами маяться.
– Насчет бабы разговору не было. А вот насчет дома был. Подумывает возвращаться…
– Куда возвращаться? В колхоз?
– А что? В колхозе не люди живут? – Иван даже стеклянной банкой пристукнул по столу. И она уж молчала, не перечила, хотя что же сказала такого? Разве ему объяснять, как нынче живут в колхозе?
Иван первый пошел на попятный, с испугом взглянув на кроватку:
– Ладно, выкладывай, что тут у вас. Жать начали?
– Нет кабыть.
– Почему?
– Да все потому. Погодка-то сам видишь какая.
– Погодка, между прочим, вчера стояла подходящая. Весь день на Синельге было сухо. Или тут у вас, в Пекашине, другой бог? А как те? – Иван круто кивнул в сторону заднего окошка. Но она и так, без этого кивка, понимала, кого имеет в виду муж. Плотников. Бригаду Петра Житова, которая на задворках, у болота, строит новый скотный двор. – Чего молчишь? Я ехал по деревне – что-то не больно слыхать ихние топоры.
Анфиса решила ничего не утаивать: все равно узнает.
– Пароходы вечор пришли…
– Ну и что? – опять зло спросил Иван. Спросил так, будто она-то и есть главный ответчик за все.
А кто она такая? Какая у нее власть? Разве не по его милости она, бывшая председательница, стала рядовой колхозницей? Чтобы не кивали люди при случае вот, мол, семейственность в колхозе развели.
И она, с трудом сдерживая себя, ответила:
– Ну и то. Грузы привезли.
– Так, – сказал Иван, – все ясно. На выгрузку укатили.
Он посидел сколько-то молча, неподвижно, все больше и больше распаляя себя, и вдруг встал – решился. И бесполезно было сейчас говорить ему: постой, Иван, одумайся! Это все равно что в огонь дрова подбрасывать. Но, с другой стороны, очень уж это серьезное дело – сено колхозников. Отнять, заприходовать его нетрудно. А что же дальше? Как же дальше-то он будет ладить с людьми?
И Анфиса, подавая мужу сухой ватник – наконец-то на улице проглянуло ясное солнышко, сказала осторожно:
– Сено у нас и раньше подкашивали для себя. Ведь уж как, чем-то свою корову кормить надо.
– А колхозных не надо? Колхозные воздухом сыты будут, да? Сколько каждую весну падает от бескормья? Нет, я не я буду, ежели не обломаю им рога. Ха! Они веревки из меня вить будут… Наставили себе сена и плевать на все, что хочу делаю. Видел я на Синельге – под каждым кустом стожки…
– Ну, смотри, Иван, – уже прямо сказала Анфиса, – дерево срубить недолго, да как поставить обратно. Кабы у того же Ильи Нетесова своя корова была, да разве он уехал бы на лесопункт?
Иван, чего с ним никогда не бывало раньше, с размаху хлопнул дверью.
От шума проснулся и заплакал в кроватке Родька.
Анфиса подхватила сына на руки и быстро подбежала к окну.
Иван отвязывал от изгороди Мальчика. Передохнувший жеребец начал было игриво перебирать густо забрызганными грязью ногами, задирать оскаленную морду, но Иван – все еще не остыл – наотмашь ударил жеребца кулаком по храпу, и тот сразу остановился, успокоился.
Дальше все было знакомо. Старые, визгливые воротца на задворках, тропинка вдоль картофельника, баевская баня – тут муж отпустит жеребца. Намотает на голову повод, даст легкий пинок под зад, и трясись себе на конюшню.
И, тем не менее, Анфиса глаз не спускала с мужа. Она ждала, куда пойдет Иван от баевской бани. Ежели повернет назад, домой, то, считай, на этом и кончится ихняя размолвка – сын примирит с матерью, а ежели повернет на дорогу…
Никогда сроду не отличалась набожностью Анфиса, но тут начала шептать про себя молитву – до того ей хотелось, чтобы муж повернул домой. И, в конце концов, даже не ради того, чтобы водворился мир в ихнем доме. Бог уж с ним, с этим миром. Не впервой они ссорятся. Ей хотелось этого ради самого Ивана. Потому что, поверни Иван на дорогу, куда же он сейчас пошастает, как не под гору – к баржам, к мужикам? А из этого такое может выйти, что и не расхлебать потом.
Иван повернул на дорогу.
Глава вторая
Новый коровник в Пекашине заложили два года назад, и ох какая радость была у людей! К новостройке у болота пролегли тропы чуть ли не от каждого двора, ребятишки перенесли туда свои шумные игры, прохожие и проезжие приворачивали. В общем, все, все истосковались за эти годы по звону топора да по щепяному духу.
Стены поставили быстро, за весну и осень. А дальше – стоп. Дальше заколодило. Сперва из-за плах для пола и потолка – в Пекашине все еще не было своей пилорамы, потом из-за гвоздей – нет в продаже, хоть пальцы свои забивай, а потом вот из-за нынешней страды. Мокрядь. Сеногной. Сухие, ведреные деньки наперечет. А обычно так: с утра жара, рубаха мешает – золото день, а только за грабли взялся – и потянуло из сырого угла. Ну и что было делать? Пришлось плотников бросить на сенокос.
Но, конечно, все эти помехи и задержки – и плахи, и гвозди, и нынешняя погода – все это больше для районного начальства, для отчетов. А сам-то Лукашин понимал, в чем главная загвоздка. В мужиках.
Когда, с какого времени сели топоры у мужиков? А с прошлой осени, с той самой поры, когда в Пекашине – который уж раз – до зернышка выгребли хлебные сусеки.
И все же, говорил себе Лукашин, выходя на деревенский угор, такого еще не бывало. Первый раз плотники не вышли на стройку днем.
Орсовский склад у реки, огромная хоромина под светлой, еще не успевшей почернеть крышей, походил на крепость, окруженную белыми валами из мешков с мукой, из ящиков со сладостями и чаем, из бочек с рыбой-морянкой.
Все это добро было предназначено для рабочих Сотюжского леспромхоза (в Пекашине у него перевалочная база, выстроенная в прошлом году), а колхозникам – ни-ни, килограмма не достанется. Ибо у колхозников своя снабженческая сеть – сельпо, а сельповская сеть, известно – всегда пуста. Вот мужики и стараются урвать из орсовских богатств хоть малую толику во время выгрузки. Тут уж орс не жмется, щедро платит и натурой, и деньгами.
Судя по тому, что под складом не было видно ни одного буксира, разгрузка сегодня всего скорее была закончена, и поостывший немного Лукашин начал было подумывать, а не повернуть ли ему назад. Мужики сейчас по случаю завершения работы наверняка пьяны, а с пьяными мужиками какой разговор? А потом, уж если на то пошло, он не хуже своей многомудрой женушки понимает, из-за чего удрали мужики на выгрузку. Когда, в каком месяце он выдавал колхозникам хлеб? В июне, перед страдой. А сегодня какое у них число?
Нет, приказал себе Лукашин, надо все-таки спуститься, а то, чего доброго, они и завтра удерут. У нынешнего мужика совести хватит.
Лукашин не ошибся: грузчики выпивали. На вольном воздухе, возле костерка, а чтобы огонь не мозолил глаза их женам (те под вечер каждый раз высматривают своих пьяниц с деревенской горы), прикрылись сверху брезентом. Сообразили! А у скотного двора два года не могут поставить самого ерундового навесишка, от каждой тучи к кузнице бегают.
Ефимко-торгаш, зав перевалочной базой, с ног до головы перепачканный мукой (так сказать, из самого пекла хлебной битвы вышел), заплясал перед Лукашиным как черт: чует свою вину. И у Михаила Пряслина с Борисом Саловым, молодым парнем из вербованных, которого в прошлом году привела в колхоз с лесопункта доярка Маня Иняхина, совесть заговорила: оба взгляд отвели на реку.
Ну а Петр Житов не смутился. Лихо, в упор глянул на председателя своим рыжим, уже хмельным глазом и для полной ясности смачно хлопнул по протезу – с меня-де взятки гладки.
На остальных можно было не смотреть: что Петр Житов скажет, то и они. Да и какой от них толк вообще? Самая что ни на есть нероботь: один кривой, другой хромой, третий еле видит. Даже в лес им ходу нету – вот и околачиваются в колхозе, пьют да делают бабам ребятишек.
По распоряжению Ефимка для Лукашина быстро раздобыли граненый стакан, поставили ящик из-под конфет (Петр Житов и сам Ефимко сидели на таких ящиках), и пришлось сесть. Не будешь же рубить с ходу!
– Чугаретти, а ты какого хрена? Особое приглашение надо?
Только теперь Лукашин заметил своего шофера Анатолия Чугаева, прозванного так с нынешней весны. Правда, попервости его окрестили было по созвучию имени Тольятти, и простодушный и простоватый Чугаев, когда ему растолковали, кто такой его знаменитый «тезка», от радости был на седьмом небе. Но Петр Житов, человек, по местным масштабам весьма искушенный в политике, сказал:
– Не. Не пойдет. И рылом не вышел, и автобиография не та.
– Ну тогда пущай хоть Чугаретти, что ли, – предложил Аркадий Яковлев. – А то вознесли человека на колокольню и хряп вниз башкой.
– А это можно, – милостиво разрешил Петр Житов.
Так вот, Чугаретти, которому Лукашин строго-настрого, уезжая в район, наказал день и ночь возить траву на силос, сейчас в своем диковинно красном берете стоял возле полуторки у ворот склада и искоса, воровато, что-то ковыряя сапогом, поглядывал на своего хозяина.
В один миг с Лукашина слетели все обручи, которые он с таким трудом набивал на себя, шагая сюда.
– Я тебе что, что говорил? Калымить?
– Да ты что, понимаешь, товарищ Лукашин, – обиженно забухал Ефимко. – Что значит калымить? Должна же быть у советского человека сознательность…
– Заткнись со своей сознательностью! Сознательность… Я сознательностью твоей коров зимой кормить буду, да?
Чугаретти, виновато горбясь, начал заводить железной рукояткой мотор грузовика. Но тут уж за обиженного вступилась вся шарага: дескать, как же это так? Человек ишачил-ишачил как проклятый, а тут, выходит, напоследок и душу согреть нельзя. Да стограммовка еще в войну прописана нашему брату. Самим наркомом прописана.
Заступничество товарищей едва не довело чувствительного Чугаретти до слез: толстые губы у него завздрагивали, а большие коровьи глаза навыкате налились такой тоской и печалью, что, казалось, во всем мире не было сейчас человека несчастнее его.
– Ладно, – буркнул Лукашин в сторону покорно выжидающего Чугаретти, – заправляйся да уматывай поскорей, чтобы глаза мои на тебя не смотрели.
Выпили. Кто крякнул, кто сплюнул, кто полез ложкой или прямо своей пятерней в котелок со свиной тушенкой.
Веревочку-выручалочку бросил Филя-петух, щупленький, услужливый мужичонка со светлым начесом над бельмастым глазом, но очень цепкий и тягловый, как говорят на Пинеге, и страшный бабник. Филя, явно тяготясь молчанием, сказал:
– Иван Дмитриевич, а чего это, говорят, у нас опять вредители завелись?
– Какие вредители?
– Академики какие-то. Русский язык, говорят, вроде хотели изничтожить…
– Язык? – страшно удивился Аркадий Яковлев. – Это как язык?
– Да, да, – живо подтвердил Игнатий Баев, – я тоже слышал. Сам Иосиф Виссарионович, говорят, им мозги вправлял. В газете «Правда»…[2]
– Ну вот, – вздохнул старый караульщик, – заживем. В прошлом году какие-то космолиты заграничным капиталистам продали, в этом году академики… Я не знаю, куда у нас и смотрят-то. Как их, сволочей, извести-то не могут…
– А ты думаешь, всякие черчилли зря хлеб жуют?..
– Обруби концы! Кончай разговорчики! – вдруг заорал как под ножом Ефимко-торгаш и встал.
– Ты чего? – Петр Житов повел своим грозным оком. Ни дать ни взять Стенька Разин. Да для пекашинских мужиков он, по существу, и был Стенькой. Потому как умен, мастер на все руки и характер – каждого под себя подомнет. – Ты чего? – грозно вопросил Петр Житов.
– А то! На моем объекте политику не трожь, ясно? Чтобы никаких разговоров про политику…
– Мишка, своди-ко его на водные процедуры. – Петр Житов вытянул руку в сторону реки.
– Можно, – ответил, усмехаясь, Михаил и с радостью начал расправлять свои широченные плечища.
Ефимко – недаром торгашом прозвали – не стал дожидаться, пока Михаил встанет на ноги да примется за него, а живехонько, с ловкостью фокусника извлек откуда-то новую бутылку и поставил перед Петром Житовым.
После повторной стограммовки всех потянуло на веселье. Караульщик Павел, постукивая березовой деревягой, притащил из своей избушки обшарпанный голубой патефон. Но завести его не удалось: куда-то запропала ручка.
Тогда Петр Житов, скаля свои желтые, прокуренные зубы, сказал:
– Чугаретти, ты чего притих? Валяй хоша про то, как спасал Север. В разрезе патриотизма…
– Ты разве не слыхал? – удивленно спросил Чугаретти и покосился на Лукашина.
– Я не слыхал! – воскликнул Филя-петух. Разудало, с притопом, исключительно в угоду Петру Житову, потому как в Пекашине все – и старый и малый – знали про подвиги Чугаретти в минувшей войне.
– Давай, давай! – по-жеребячьи загоготал Петр Житов. – Где ты оказался на двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого?..
Чугаретти вытолкали вперед, Ефимко-торгаш уступил ему свое место, и Лукашину – дьявол бы их всех забрал! – пришлось еще раз выслушать хорошо знакомую небывальщину.
– Значит, так, – заученно начал Чугаретти, на двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого я оказался не так чтобы близко от родных мест, но не так чтобы и далеко. На энском объекте в районе железной дороги Мурманск – Петрозаводск.
– В лагере? – уточнил Филя.
– Ну, – неохотно кивнул Чугаретти.
Все знали – опять же по рассказам самого Чугаретти, – за что он попал за колючую проволоку. За лихачество. За то, что перед войной две машины угробил за год: одну утопил, переезжая осенью за речку по первому, еще не окрепшему льду, а другую разнес по пьянке – не понравилась изба, которая не захотела свернуть в сторону. И вот, хотя ни для кого не было тайн в биографии Чугаретти, ему под ухмылки и веселые перегляды товарищей пришлось рассказать и про это.
– …Ну, сидим, значит, у себя, загораем – только что Беломорканал отгрохали, имеем право? – Радуемся, однем словом, солнышко пригревать стало. А то, что кругом война, немцы да финны на нас прут, мы и понятия не имеем… Ладно, сидим греемся на солнышке – выходной день дали. И вдруг в один прекрасный момент видим: начальство едет. Не наше, не лагерное, а сам командующий Севером генерал Фролов. Вот так… Ну, нас, зэков, понятно, сразу по баракам – не порть картину. «Стой! – кричит Фролов. Это нашим-то фараонам. – Стой, так вашу мать! Я с ними говорить буду…»
– С характером дядя, – заметил кто-то с усмешкой, но Чугаретти, только что начавший входить в раж, даже бровью не повел.
– Да-а, сказанул нам Фролов – вывернул и потроха, и мозги наизнанку. «Ребята, говорит, в доме у нас воры». Мы глаза на потолок – какие еще воры, когда тут самое-распросамое жулье собралось. Со всего Советского Союзу. «Чужие воры. Немцы. Их выкуривать надо, поскольку внезапно залезли в наш священный огород…» Понятно… Выходи на рубежи и спасай Россию, поскольку, значит, армия еще не подошла. Ну, ребятки у нас быстренько шариками крутанули: «Чего дашь?»
– Торговаться, сволочи, да? – устрашающе заскрежетал зубами Ефимко-торгаш. Он был уже вдребезги пьян, но насчет бдительности не забывал. Сработал моментально.
Ефимка быстро успокоили, потому как здесь-то и начинался самый гвоздь рассказа.
– «Да, чего дашь?» – спрашивают Фролова зэки. – Тут Чугаретти даже привстал немного, чтобы с большей впечатляемостью передать решающий разговор генерала с зэками. – «А перво-наперво, говорит Фролов, дам хлеба». И достает вот такой караваище.
– Не худо, – хмыкнул Аркадий Яковлев.
– «А еще чего?» – еще больше возвысил свой голос Чугаретти. – «А еще, говорит, дам сала». И вот такую белую кусину достает. Ну и в третий раз спрашивают зэки: «Чего дашь?» И тут Фролов помолчал-помолчал да и говорит: «А еще, говорит, дам вам, ребята, нож». И вот такую филяжину достает из-за голенища.
Развеселившийся Филя-петух заметил:
– У тебя, Чугаретти, генерал-от как урка. С ножом за голенищем ходит.
– Ладно, – продолжал Чугаретти. На комариный укус Фили он, конечно, и внимания не обратил. – Ладно, харчи в брюхе, перо за голенищем – вперед на воров и смерть фашизму! Немцы, понятно, думают – мы от большевиков драпаем как пострадавши. Приняли. Жратвы дали, шнапсу этого ихнего дали, по плечу похлопывают: «Гут, гут, рус». Хорошо, значит. А мы, что же, едим да пьем: у зэка брюхо дна не имеет. А потом команда: в ножи!.. Н-да-а, чистенько сработали. Своих пять убитых да два раненых, а ихних набили – как баранов по всему полю. Ну дак уж Фролов потом не знает, как нас и благодарить. Каждого обнимает, у самого слезы. «Ну, говорит, ребята, спасибо. Родина вас не забудет…»
Последние слова Чугаретти произнес со всхлипом, вытирая своей черной ручищей мокрые глаза. Но это на мужиков не произвело решительно никакого впечатления, ибо все они, за исключением разве Михаила Пряслина, сами побывали на войне. Наоборот, Чугаретти – так это кончалось всегда – дружно стали уличать во вранье, требуя разных уточнений, вроде того, например, где располагался ихний лагерь, далеко ли от границы? Или какие такие чудодейственные ножи были у зэков, что им и немецкий автомат нипочем?
Лукашин – он не забыл, зачем пришел, – одним дыхом выпалил:
– А у нас тоже воры завелись. – При этом слово «воры» он произнес точь-в-точь как Чугаретти, с ударением на последнем слоге.
Петр Житов вопросительно поднял бровь:
– У нас воры? Где у нас воры?
– В колхозе. Я вот только что по Синельге проехал – кто-то в колхозные сена к нам залез.
Лукашину нелегко дались эти слова, ибо он знал, не хуже своей жены знал, что колхозники на дальних сенокосах всегда подкашивают для себя. И так делается во всех колхозах. Но раз уж замахнулся – бей. И он закончил:
– Чуть ли не под каждой елью стожок!
Петр Житов – совсем не похоже на него – как-то неуверенно поглядел на своих притихших мальчиков, как он часто называл своих работяг, затем примирительно сказал:
– Что-то путаешь, товарищ Лукашин. Кто полезет в колхозные сена…
Мстительная, прямо-таки головокружительная радость охватила Лукашина – настала его пора торжествовать. Хватит, помотали они ему нервы, посмотрим, какие нервы у вас.
Он поднял высоко голову, сказал:
– Ничего не путаю, товарищ Житов. На днях пошлем специальную комиссию.
Сзади, за спиной Лукашина, громко всхрапывал, булькая горлом, вконец упившийся Ефимко – всегда одним у него кончается, – и Лукашин не к его храпу прислушивался вдруг каким-то обострившимся в эту минуту слухом. Он прислушивался к реке, к ее спокойным, затихающим всплескам внизу, за увалом, кажется, хороший день будет завтра, – прислушивался к ровному гудению костра, на который караульщик только что бросил несколько жарких сосновых полешек, и еще он прислушивался к шагам на лугу. Кто-то – скорее всего жена одного из этих мужиков – шел сюда. И мысленно он уже представлял себе, какой сейчас концерт у них начнется, – крепко выдают бабы своим мужьям за эти выпивки на берегу. Потому что иной раз мужиков так закрутит, что не то чтобы домой какой рубль принести, а еще в долг залезают.
Из-за штабеля мешков с мукой вышла Анфиса.
Лукашин понимал, зачем притащилась его благоверная: ради него. Ради того, чтобы он не наломал дров, не разругался совсем с мужиками. И вообще, все эти пять лет, что они живут вместе, он только и слышит дома: «Иван, полегче? Иван, потише! Иван, не наступай, бога ради, на больные мозоли людям…»
Но дома – пускай: жена. Да еще и жена неглупая – сама сколько лет колхозом правила. Но она ведь и на людях стала наставлять его.
В прошлом году он застукал на молотилке двух баб – в валенки жита насыпали. ЧП. По существу, под суд надо отдавать, а она, только начал он их пушить, тут как тут со своей заступой: «Давай дак, председатель, зерно не солома. Большую ли ему щель надо, чтобы закатиться». В общем, подсказала бабам, как вывернуться, а его самого просто в дураках оставила.
То же самое в этом году. Пустяк, конечно, – рукавица семян, которую Клавдия Лобанова отсыпала на поле во время сева. Но ведь не прижать как следует Клавдию – весь колхоз растащат! Не дала. Запричитала насчет голодных ребятишек – вой кругом поднялся. «Да пойми ты раз навсегда, – втолковывал он ей дома, – в какое ты меня положение ставишь! Ведь я в глазах колхозников зверем выгляжу – этого тебе надо?» – «Что ты, что ты, Иван! Да я ни в жисть больше ничего не скажу».
И вот пожалуйста – явилась. С приветливой улыбочкой – никаких свар там, где я, – а чтобы он не мог придраться к ней, на руке короб с бельем. Полоскать иду.
И именно эта-то неуклюжая хитрость – нитками же белыми шита! – больше всего и взбесила его сейчас. Так взбесила, что в кармане ватника карандаш попался – в куски изломал. Ну а для житовской шараги ее приход – праздник. Все вскочили разом на ноги, заорали:
– Анфиса, Анфиса Петровна!.. – Как будто для них и человека дороже ее на всем свете нету.
Петр Житов – тот еще артист! – широким, просто-таки княжеским жестом указал на ящики справа от себя: любой выбирай. Так-то мы почитаем тебя!
– Нет, нет, Петя, не буду. Какое мне сидение – полоскать иду. Я это нарочно крюк дала, думаю: мужик-то у меня где?
– Да, дело к вечеру, – игриво ухмыльнулся Петр Житов.
– Да не мели ты чего не надо, – в том же игривом духе ответила Анфиса и даже хлопнула его по спине. – Вы мне председателя-то испортите – все с вином да с вином…
– Ладно, иди куда пошла, – как можно спокойнее сказал Лукашин и, тоже невольно переходя на язык игры, добавил: – А насчет вина мы уж сами как-нибудь разберемся.
Анфиса тут так вся и просияла, с резвостью молодой девки подняла с земли короб с бельем.
– Постой, – сказал Петр Житов. – Раз посидеть не хочешь, выпей на прощанье.
– Нет, нет, не буду. Какое мне питье – ребенка кормлю.
– Ясно. Пить с ворами не хочу…
– Чего, чего, Петя? С ворами? С какими ворами?
Анфиса медленно огляделась вокруг, пытливо посмотрела на мужа.
– В газетке одной недавно вычитал. Один руководящий товарищ колхозников так назвал…
Лукашин не успел ответить Петру Житову – его опередил Михаил Пряслин. Михаил заорал вне себя:
– Чего тут в прятки играть? Руководящий товарищ… В газетке вычитал… Председатель свой так сказал. – И то ли совесть заговорила в нем вдруг, то ли Анфису ему жалко стало, добавил: – Ладно, заводи, Чугаретти, своего рысака. В гору попадать надо.
Петр Житов – камень человек! – не пощадил Анфису. Требовательно глядя ей в глаза, спросил:
– Хочу знать твое мненье на этот вопрос… Как бывшего председателя. В разрезе какой нынче линии колхозники: хозяева или воры?..
Все примолкли – нешуточно спросил Петр Житов.
Лукашин не глядел на жену. Он зажал себя – кажется, под пыткой не проронил бы ни единого слова. Пускай, пускай повертится! Его проучил Петр Житов, так проучил, что до гробовой доски помнить будешь, но пускай и она сполна почувствует, как мужики умеют приголубить.
Анфиса усталым голосом замученной, заезженной бабы сказала:
– Какие вы воры… Воры чужое тащат, в чужой дом залезают, а вы хоть и возьмете когда чего, дак свое.
Глава третья
У колхозной конторы Михаил спрыгнул с машины вместе с нижноконами[3].
Петр Житов – он сидел, развалясь, в кабине – зарычал:
– Мишка, ты куды от дома на ночь глядя?
Михаил даже не оглянулся – только покрепче зажал под мышками ржаные буханки. А чего, в самом деле? Разве Петр Житов не знает, куда он идет? Первый раз, что ли, с буханкой к Ставровым тащится?
Было еще довольно светло, когда он вошел в ставровский заулок, и высокая сосновая жердь торжественно, как свеча, горела в вечернем небе.
У Михаила эта жердь, торчавшая посреди заулка, каждый раз вызывала ярость. В темное время тут не пройдешь – того и гляди лоб раскроишь, а когда ветер на улице – опять скрип и стон, хоть из дому беги. В общем, будь его воля, он давно бы уже свалил ее ко всем чертям. Но Лизка уперлась – ни в какую! «Егорша вернется из армии – разве захочет без радио? Нет, нет, хозяин поставил, хозяин и уберет, коли надо».
Но если в этой проклятой жердине был хоть какой-то резон (пищали после войны кое у кого трофейные приемники), то в затее свата Степана, кроме старческой дури, он ничего не видел.
Всю жизнь, четверть века, стоял ставровский дом под простым охлупнем[4] без конька и так мог бы стоять до скончания века: крыша хорошая, плотная, в позапрошлом году перебирали, охлупень тоже от гнили не крошится – чего надо по нынешним временам? – До конька ли сейчас? – А главное – ему ли, дряхлому старику, разбираться с такими делами?
Не послушался. Весной, едва подсохло в заулке, взялся за топор. Самого коня из толстенной сосны с корнем – с ним, с Михаилом, зимой добывали из лесу – вытесал быстро, за одну неделю. И какой конь получился! С ушами, с гривой, грудь колесом – вся деревня смотреть бегала. Ну а с охлупнем дело не пошло. Отесал бревно с боков, погрыз сколько-то теслом снизу и выдохся.
И вот сколько уж времени с той поры прошло, месяца три, наверно, а новой щепы вокруг бревна по-прежнему не видать. Только свежие следы. Топтался, значит, старик и сегодня.
Степана Андреяновича он застал – небывалое дело! – на кровати. За лежкой.
– Чего лежишь? – по привычке пошутил Михаил. – А мне сказали, сват у тебя накопил силы, к сену[5] укатил.
– Нет, не укатил. – Степан Андреянович сел, опустил ноги в низких валенках с суконными голяшками. – Помирать скоро надо.
– Давай помирать! Ничего-то выдумал. Пятнадцать лет до коммунизма осталось.
Старик многозначительно вздохнул.
– Точно, точно говорю. Сталин это дело еще в сорок шестом подсчитал. Я, говорит, еще при коммунизме пожить хочу, а ты на много ли его старше?
– Нет, Миша, не знаю, как где, а у нас моя пороща[6] не заживается. Смотри, кто из моей ровни остался. Трофим помер, Олексей Иванович, уж на что сила мужик был, двухпудовкой, помню, крестился, помер…
– Ерунда! – Михаил положил буханки на стол и сел на прилавок к печи, напротив света. – Я недавно роман один читал – «Кавалер Золотой Звезды»[7] называется. Ну дак там старик не ты. По-боевому настроен. Сейчас, говорит, мне только и пожить. Правда, у них в колхозе – о-хо-хо-хо! – насчет жратвы там или в смысле обутки с одеждой, у них об этом и думушки нету. Скажи, как в раю живут…
С улицы в избу вползла вечерняя синь. От печного тепла, от однообразного постукиванья ходиков Михаила стало клонить ко сну – две ночи не спали на выгрузке, да и выпивка сказывалась, – и он, широко зевая и потягиваясь, пересел на порог, приоткрыл немного двери, закурил.
Разговор, как и в прошлый и в позапрошлый раз, в конце концов перешел к сену – о чем же еще нынче говорят в деревне? Лето сырое, дождливое, сена в колхозе выставлены наполовину – достанется ли сколько на трудодень?
Тут, кстати, Михаил рассказал о недавней стычке мужиков с Лукашиным, о том, как председатель назвал их ворами и как грозился забрать у них сено на Синельге.
– Так что дожили, – невесело заключил он. – Может, сей год и рогатку под нож. В войну я, парнишко, вдвоем с матерью Звездоню кормил, а теперь сам мужик, Лизка баба да вы с матерью как-никак граблями скребете – и все равно не можем вытянуть четыре копыта…
Старик все эти сетования принял на свой счет, что вот, дескать, он виноват, он в этом году ни разу на пожню не вышел, и Михаил не рад был, что и разговор завел. Поди докажи старому да больному человеку, что ты и в мыслях не имел его.
На его счастье, со скотного двора вернулась сестра.
Весть о своем возвращении Лиза подала еще с улицы – пальцами прошлась по низу рамы. И что тут поднялось в избе!
Степан Андреянович, еще недавно собиравшийся умирать, живехонько соскочил с кровати, кинулся в задоски наставлять самовар. Загукал в чулане Вася – этот точно, как по команде, просыпается вечером, в ту минуту, когда забарабанит в окошко мать. Мурка спрыгнула с печи – и она, тварь, обрадовалась приходу хозяйки.
Все это давно и хорошо было знакомо Михаилу, и если он кому и удивлялся сейчас, так это себе. Тоже вдруг встряхнулся. Во всяком случае, сонливости у него как не бывало, а руки, те просто сами зашарили по столу, разыскивая лампешку.
Спичка вспыхнула как раз в ту минуту, когда Лиза появилась на пороге. И неизвестно еще, от чего больше посветлело в избе – то ли от пятилинейки[8], то ли от ее сверкающих зеленых глаз.
– Ну-ну, кто у нас в гостях-то! Не зря я сегодня торопилась домой. Чуяло мое сердце.
За одну минуту все сделала: разулась, разделась, сполоснула руки под рукомойником, вынесла из чулана ребенка.
Вася к дяде не пошел, заплакал, закапризничал, и это немало огорчило Михаила, потому что, по правде говоря, он и сестру-то дожидался, чтобы племянника на руках подержать.
– Дядя, ты нас порато-то[9] не ругай, – как бы извиняясь за сына, сказала Лиза. – Нам тоже нелегко. Мы ведь теперь материного молока не едим, да, Васенька?
Она походила-походила по избе, убаюкивая ребенка, и так как тот не успокаивался, села на переднюю лавку и дала ему грудь. На виду у брата и свекра. Чего стесняться – свои.
Степан Андреянович неодобрительно покачал головой: не дело, мол, это. С таким трудом отнимала ребенка от груди, а теперь сама приучаешь. Да разве против Лизки устоишь?
– Что ведь, – сказала она на замечание деда, – пускай уж лучше матери худо, чем ребенку.
А матери было-таки и в самом деле худо. Она морщилась от боли, закусывала сухие, обветренные губы и под конец, когда явилась с вечерним молоком Татьянка, накинулась на брата. Из-за коровника. Из-за того, что Петр Житов с Игнашкой Баевым, как сообщила Татьянка, распьянехонькие бродят по улице. А раз распьянехонькие – какая завтра работа?
И вот не успел он и рта раскрыть, как Лизка начала выдавать и строителям, а заодно с ними и ему:
– Пьяницы окаянные! Сколько еще пить будете? Есть ли у вас совесть-та? Коровы опять зимой будут замерзать, а у вас только одно вино и на уме. С коровника на выгрузку удрали – где это слыхано?
Михаил сперва отшучивался, ему всегда забавно было, когда Лизка за колхозных коров заступалась, – просто на глазах сатанела, дуреха, – а потом, когда в разговор встрял старик, начал понемногу и сам заводиться.
Степан Андреянович, давно ли еще вместе с ним судачивший о сене, принял сторону невестки (что бы та ни сказала, всегда заодно с ней), и Михаил почувствовал, что должен, обязан разъяснить им что и как. Ведь легче всего попрекать мужиков стопкой. А разве за стопкой бегут на выгрузку? Вот за этой самой буханкой, которую они сейчас кромсают. Может, врет он, неправду говорит?
Конечно, он, Михаил, немного хватил через край – сестру и свата вроде как попрекнул: не забывайте, мол, чей хлеб едите, – а на самом-то деле у него этого и в мыслях не было. Просто допекли его, вот он и брякнул не подумавши.
Шумно, с излишним усердием пили чай и молчали. У Васи, все еще терзавшего грудь матери, один глаз уже закатился, а другой устало, с прижмуром, как у отца, смотрел на дядю.
Михаил кое-как допил стакан и опрокинул кверху дном: все, домой пора. Но разве Лизка отпустит брата вот так, со сдвинутыми бровями?
– Давай так, дядя, посиди с нами, – заговорила она нараспев от имени сына. – Успеешь домой. Покури. Нам, скажи, все равно надо привыкать к дыму. Скоро папа вернется – ведь уж не будет выходить из избы. Есть ли у нас, татя, сколько табаку-то? – обратилась Лиза к свекру. Она почитала старика за отца. Может, безо всего, с голыми руками приедет. Да и вина бы бутылки две не мешало раздобыть. Ведь уж нашего папу не переделаешь, да, Васенька? С мокрым рылом родился.
Сколько раз Михаил наблюдал за сестрой, когда та начинала говорить о Егорше, а все равно не мог привыкнуть! Лицо вмиг разгорится, разалеется, глаза заблестят, а про голос и говорить нечего – соловей запел в избе.
Он тысячу раз задавал себе вопрос: чем взял ее этот кобель? За что она его так любит? Неужели за то, что предал ее на другой же день после свадьбы?
Да, послушать Егоршу, так в армию его взяли потому, что у него-де льгота перестала действовать. Из-за женитьбы. Поскольку новый человек в семье появился. А при чем тут женитьба? Лизка была не в летах, не было ей еще восемнадцати, когда он ее захомутал, так что годик-то наверняка можно было покантоваться дома.
Михаил щадил сестру и никогда не говорил с ней об этом, но сам-то он знал, ради чего женился Егорша. Ради того, чтобы взвалить на нее, дуреху, старика. Чтобы самому быть вольным казаком…
У Васи уже закатился и второй глазок – запьянел, видно, с непривычки от материного молока, а сама матерь все еще мыслями со своим разлюбезным, и Михаил, еще минуту назад радовавшийся отходчивому сердцу сестры, вдруг ужасно разозлился на нее.
Он круто вскочил на ноги и, не сказав никому ни слова, выбежал из избы.
…Вот и первая звезда заблестела в луже – кончается лето. И под горой, у реки, не белеет больше рожь – августовская темень задавила хлебный свет в поле.
Осень, осень подходит к Пекашину. Самое распоганое время, ежели разобраться. Налоги всякие – раз, обутка да одежонка – два (то ли дело летом: ребята босиком и сам что ни надел – лишь бы ногу не кололо). Потом это сено распроклятое, корова… Эх, да мало ли еще каких забот разом обрушивается на тебя осенью!
А ведь была, была у него возможность на всем этом поставить крест. Давалась в руки и ему большая жизнь.
Главврач районной больницы как увидел его во всей живой натуре, без прикрытий, даже привстал. Мелкий, худосочный народишко собрался на призывном пункте – война пестовала. Ну и, конечно, не мудрено в таком лесу сойти за дерево. И уж он, главврач, повертел его! И так и эдак поставит, в грудь постукает, в рот заглянет, пробежку даст – ни одного изъяна. Даже скрип в коленях куда-то пропал.
– Редкий экземпляр! В любой род войск. Ну, говори, куда хочешь. Во флот? В авиацию?
– Льгота у него, – сказал райвоенком, а сам глазом так и буравит его, Михаила: «Ну, Пряслин, решайся!» (Два часа перед этим уламывал: не беспокойся, семья не пропадет.) И как же ему хотелось сказать: да!
Но глупая – пряслинская – шея сработала раньше, чем губы: нет…
Что ж, вот и ишачь себе на здоровье, думал Михаил, шагая по вечерней деревне. Дураков работа любит – не теперь сказано. И он уже не осуждал сейчас с прежней решительностью и беспощадностью Егоршу. Черт его знает, может, тот и прав. Будет хоть по крайности чем вспомнить свою жизнь. А он, Михаил? Чем вспомянет потом свою молодость? Как корову кормил? Как кусок хлеба добывал?
В школе у Якова Никифоровича был свет – единственный огонек на весь околоток. И кто-то шел оттуда – похрустывал мокрый песок на тропинке, и что-то яркое и блестящее вспыхивало в желтых отблесках.
Михаил, заинтересованный (кто с таким блеском ходит в Пекашине?), остановился.
Раечка Клевакина – у нее резиновые сапожки с радугой.
– Рай, здравствуй!
Встала, замерла. Просто как диверсант какой затаилась в темени. А чего таиться, когда от самой так и шибает духами?
– Здорово, говорю.
Раечка сделала шаг в сторону.
Ого! Райка от него рыло воротит. Так это правда, что у нее шуры-муры с учителем?
Он решительно загородил ей дорогу, чиркнул спичку.
Холодно, по-зимнему глядели на него большие серые глаза. Губы сжаты – проходи!
Да, вот когда он понял, что она дочь Федора Капитоновича.
Он выждал, пока спичка в его пальцах не превратилась в красный прямой стерженек (хорошая погода завтра будет), усмехнулся:
– Дак вы теперь на пару сырую картошку лопаете?
Яков Никифорович, как человек приезжий, ужасно боялся северной цинги и все ел в сыром виде. Он даже воды простой не пил – только хвойный настой.
Раечка вильнула в сторону, но Михаил вовремя выставил вперед ногу, и она вмиг забилась у него в руках.
Нет, врешь, голубушка! С сорок третьего каждую молодягу, каждую кобылку и жеребца, в колхозе обламываю, так неужели с тобой не справиться? И он резко, с силой тряхнул Раечку, так что она охнула, потом поставил на ноги, притянул к себе и долго и упрямо терзал своими сухими и жесткими губами ее стиснутый рот.
Выпуская из рук, сказал:
– Через два часа выйдешь на задворки против себя. К соломенным ометам…
– Зачем? Чего я там не видела?
– Затем, что я приду. Потолковать надо…
Петр Житов хвастался своим житьем. Ему, дурачась, тоненьким бабьим голоском подпевал Игнашка Баев, и, судя по малиновым огонькам, которые то и дело вспыхивали возле бани Житовых, там был и еще кое-кто.
Решили добавить, догадался Михаил, всматриваясь в темноту житовского огородца с дороги. Это всегда так бывает, когда мужики заведутся. Обязательно прут к Петру Житову. Олена, жена Петра Житова, терпеть не может этих пьяных сборищ в своем доме, и вот придумали: с осени прошлого года обосновались в бане. Стены да крыша есть, коптилку соорудили, а больше что же надо?
Михаил, не очень-то охочий в другое время до мужичьих утех (карты, анекдоты, трепотня), сейчас вдруг пожалел, что он не может сегодня присоединиться к своим товарищам. Нельзя. Сам же сказал Райке: выйди к ометам на задворках.
Он встряхнулся, пошагал домой. Однако, пройдя дома три, он остановился. Постоял, поглядел вокруг, словно бы заблудился, и подошел к полевым воротам с новым белым столбом, который сам же на днях и ставил, – по нему-то он и узнал в темноте ворота.
Нет, ерунда все-таки получается, думал Михаил, наваливаясь грудью на изгородь возле ворот. Покуда он был с Райкой – ух как лихорадило! А только отвернулся – и хоть бы и вовсе ее не было. Не то, не то. Совсем не то, что было с Варварой.
Сколько пережито за все эти пять лет, что они в разлуке, сколько бабья всякого побывало у него в руках – сами лезом лезут, – а увидал нынешним летом Варвару в районе, не говорил, не стоял рядом, только увидел издали – и шабаш: никого не знал, никого не любил…
В клубе произносили речи – на совещание механизаторов приезжал, – потом было кино, потом выпивка была в чайной, а спроси его, кто выступал, какое было кино, с кем сидел за столом в чайной, – не сказать. Вот какая отрава эта Варвара…
На лугу, под горой, пофыркивали, хрустя свежей отавой, лошади, мигал солнечный огонек у склада, где хозяйничал теперь караульщик, и там же бледными зарницами отливала река. А вот хлебного света, сколько он ни вглядывался туда, в подгорье, не увидел. Задавила темень.
Глава четвертая
Утро было росистое, звонкое, и коровы, только что выпущенные из двора, трубили на всю деревню.
Проводы скота в поскотину Лиза любила превыше всего. Ну-ко, семьдесят коров забазанят в одну глотку – где еще услышишь такую музыку? А потом, чего скрывать, была и гордость: выделялись ее коровки. Чистенькие, ухоженные, бок лоснится да переливается – хоть заместо зеркала смотрись.
– Ну уж, ну уж, Лизка, – качали головой бабы, – не иначе как ты какой-то коровий секрет знаешь.
Знает, знает она коровий секрет, и не один. Утром встать ни свет ни заря, да первой прибежать на скотный двор, да наносить воды вдоволь, чтобы было чем и напоить скотинку и вымыть, да днем раза три съездить за подкормкой на луг, а не дрыхнуть дома, как некоторые, да помыть, поскоблить стойла, чтобы они, коровушки-то, как в родной дом с поскотины возвращались… Вот сколько у нее всяких секретов! Надо ли еще сказывать?
В это утро Лиза не успела насладиться проводами коров. Ибо в то самое время, когда только что выпустили их из двора, прибежала Татьяна.
– Иди скореича… Михаил велел…
– Зачем? Очумели вы – такую рань! Я ведь не у Шаталова на бирже работаю…
– Иди, говорят. Те прибежали…
– Кто – те? Ребята?! – ахнула Лиза.
Петьку и Гришку нынешней весной с великим трудом удалось запихать в ремесленное училище – Михаил из-за них только в городе больше недели жил. Сперва придрались к годам – семи месяцев не хватает до шестнадцати, а потом годы уладили (Лукашин без слова выписал новую справку) – в здоровье дело уперлось. Не подходят. Больно тощие. А с чего они будут не тощие-то…
И вот, рассказывал Михаил, пообивал он пороги. Туда, сюда, к одному начальнику, к другому, к третьему – в городе, не у себя в районе: нет и нет. Рабочий класс… Надо, чтобы была сила…
Спас Пряслиных Подрезов. Сам окликнул на улице, когда Михаил с ребятами уже на пристань шел. Просто как с неба пал. «Пряслин, ты чего здесь околачиваешься?»
И вот, рассказывал Михаил, никогда в жизни не плакал от радости, а тут заплакал. Прямо в городе, среди бела дня. И Лиза тоже каждый раз плакала, когда, при случае вспоминая городские мытарства старшего брата, доходила до этого места.
Всплакнула она и сейчас, хотя тотчас же вытерла глаза: не за тем, не слезы лить зовет ее брат.
Голос Михаила она услыхала еще с крыльца. Шумно, на выкрике пушил двойнят. И еще из избы доносился лай Тузика. Неужели и он, бестолковый, на ребят навалился?
Лиза быстро поправила на голове платок, взялась за железное кольцо в воротах.
Так оно и есть: хозяин летает по избе, как бык разъяренный, и собачонка неотступно за ним. Хозяин кричать на ребят, и она на них лаять. А те, несчастные, ни живы ни мертвы. Сидят на прилавочке у печи, возле рукомойника, как будто они и не дома – глаз не смеют поднять от пола. И хоть бы кто-нибудь за них, за бедняг, заступился! Матерь, правда, та не в счет – та век старшему сыну слова поперек не скажет. Да Татьянка-то что в рот воды набрала? Сидит, в окошечко поглядывает, будто так и надо. Да и Федька, на худой конец, мог бы что-нибудь промычать, а не брюхо гладить: немало его братья выручали.
Лиза сказала:
– Давай дак ладно. Что поделаешь, раз у них счастья нету…
– Счастья? – Михаил выпрямился – полатница над головой подскочила. – Какое им еще счастье-то надо? Худо им было на всем на готовеньком, да? Вишь, домой захотели… По дому соскучились…
– Дак вы это сами? Вас не выгнали? – Кровь отхлынула от лица Лизы. Жалости к братьям как не бывало. – Да вы что, еретики, с ума посходили?!
Михаил снял с вешалки свой рабочий ремень с ножом на медной цепочке, опоясался.
– Возьмешь к себе. Чтобы духу ихнего здесь не было. Да сегодня же отправь обратно. И не вздумай денег давать. Раз домой дорогу нашли, найдут и из дому.
– Может, хоть денек-то им можно пожить дома? – подала наконец свой голос мать. И то невпопад: разве об этом теперь надо думать?
Дверь хлопнула. Михаил ушел на работу, даже не попрощавшись с ребятами. Те заплакали.
– Ну еще! – прикрикнула на них Лиза и даже ногой притопнула. – Сами виноваты, да еще и плачете… Одевайтесь! Живо у меня.
Чтобы не мозолить людям глаза (никогда не лишня осторожность), она повела братьев подгорьем.
– Ну вот, – заговорила, когда спустились босиком к озеру. – Смотрите, по дому соскучились! А чего скучать-то? Всё тут – и поля, и огороды, никуда не убежали. Нет, я бы на вашем месте не скучала. Вон ведь как вас одели да обули. Пальта матерчатые, башмаки, фуражки со светлым козырьком… Да вы как буржуи. Кто у нас, в Пекашине, так ходит? И кормили, наверно, – не помирали с голоду?
– Нет.
– Грамм-то пятьсот всяко, думаю, давали.
– Восемьсот…
– Чего? – Лиза остановилась пораженная. – Восемьсот грамм хлеба на день? Вам? На каждого? Ну вот Михаил-то и выходит из себя. Устраивал-устраивал вас, сколько время потратил, а вы на-ко что надумали – домой. Да где у вас голова-то? Ведь уж надо потерпеть – попервости завсегда человеку на новом месте муторно, а потом привыкают. Я бы еще не удивилась, кабы Федька деру дал, а то вы…
Лиза нагнулась, подняла с земли хворостину, погрозила Тузику – тот с самого начала, едва они вышли из дому, провожал их лаем, а теперь надрывался где-то на угоре, возле амбара, там так и перекатывался черно-белый клок шерсти. Нет, хоть и хвалят у них этого псишку, а бестолковый, не будет из него дельной собаки. Потому что разве дело это – на своих лаять?
– Вон ведь вы что натворили! – принялась опять совестить братьев Лиза. – Тузко и тот дивится…
– А он и вчерась на нас лаял… Мы это подходим вечор с задворья к дому, а он нас не пускает… – И Петька и Гришка вдруг горько разрыдались.
– На вот! Нашли из-за кого убиваться. Маленькие! Тузко их не пускает…
– А мы его еще не видели… Нам Таня написала – у нас собачка хорошенькая есть…
– Да вы, может, из-за этой собачки хорошенькой и домой-то прибежали?
Ребята еще пуще разрыдались. И Лиза больше уже не распекала и не стыдила их. Она вдруг поняла, что они ведь еще дети.
– Татя, смотри-ко, каких гостей веду. Узнаешь ли?
– О, о! – неподдельно удивился Степан Андреянович. – Петр да Григорий. Сватушки…
– Домой вот прибежали, – сказала Лиза, прикрывая дверь за братьями. – А знаешь, зачем прибежали? – Она рассмеялась. – Тузка смотреть. На-ко, из города, за четыреста верст Тузка смотреть. – Она опять рассмеялась. – А Тузко, глупый, и к дому их не подпустил, лай на весь заулок поднял.
– Ничего, – сказал старик ребятам. – Не вы одни из-за собаки бегали. Я, бывало, постарше вас был, в работниках уж жил, а до того скучал по собачонке прежнего хозяина – Жулькой звали, – что хоть плачь…
– Неуж, татя? – страшно удивилась Лиза.
– Да, да, было такое дело.
– Ну, ребята, тогда не расстраивайтесь. Не у вас одних заворот в мозгах вышел.
Двойнята пробыли у сестры почти целый день, и Лиза все сделала, чтобы скрасить им неласковый прием дома. Первым делом она накопала молодой розовой картошки, целый чугун наварила – ешьте досыта! Почему вы такие-то худющие, ведь когда война кончилась. Потом вымыла их в бане – что и за дом, когда в бане не побывал? Потом – не поленилась – сбегала к своим за Тузиком: Вася, мол, шибко капризит, может, с собачонкой успокоится.
Принесла в кузове за спиной, на пол вывалила – вот вам тот, по ком скучали!
В общем, не худо двойнята погостили у сестры, а уж с Тузиком-то наползались да наигрались сколько хотели.
Единственно, с чем плохо в этот день было – с попутной машиной. Так этих попуток сколько хочешь ныне – леспромхозовских, колхозных, каждый час мимо ставроского дома катят то в район, то из района. А сегодня Степан Андреянович часами дозорил возле дороги – и ни единого колеса.
В конце концов Лиза решила до Нижней Синельги подбросить братьев на лошади – благо ей за подкормкой ехать надо, – а там, может, попадется какая машина, а ежели нет, то до Сыломы, большой деревни, где теперь стоит пароход, добегут и сами: недалеко – одиннадцать – двенадцать верст.
Степан Андреянович стал было уговаривать ее оставить ребят до утра – ничего, мол, не случится, ежели и позже на день прибудут в свое училище, – но она и слышать об этом не хотела. Что она скажет в ответ Михаилу, как поглядит ему в глаза, ежели тот узнает о самоуправстве? – Не посчиталась она со старшим братом только в одном – насчет денег. Дала по двадцатке каждому на дорогу, потому что на попутке проедут и бесплатно, а на пароходе как? Хватит, натерпелись они страху, когда вперед попадали с пятеркой в кармане на двоих.
Ехали неторопко. Мазурик был в оглоблях – самая распоследняя коняга в колхозе.
У болота, в сосняке, кричали и улюлюкали ребятишки – не иначе как за молодой белкой гонялись, а со стороны новостройки, как на грех, тоже ребячий крик, да со смехом, с визгом, – похоже, Петр Житов шуганул бездельников. И, видно, очень уж горько от всего этого стало двойнятам – затаились позади сестры на телеге и ни слова.
Лиза попыталась развеселить их, вызвать на разговор об ученье, об их будущей жизни – раньше двойнята любили такие разговоры.
– Смотрите-ко, ребята, как вам повезло, – говорила она. – Во всей семье у нас ни у кого сроду не было паспорта, а у вас скоро целых два будет. Краса! Потом где захотел, там и живи – хоть в деревне-матушке, хоть на городах. Не зазнавайтесь только. Меня, может, потом и признавать не захочете, да?
Ребята не откликались.
Мазурик тащился еле-еле. Он и в молодости-то резвостью не отличался бывало, навоз возишь, не одну вицу обломаешь, а теперь, в старости, и вовсе от рук отбился. И особенно трудно было сладить с ним под вечер, да еще когда надо от дому ехать. И Лиза невольно подумала: вот лошадь, тварь бессловесная, к своей конюшне привязана, а что же говорить о Петьке да Гришке? Уж кто-кто, а она-то знает, как с родным домом расставаться. Не забыла еще, как отвозил ее брат в лес, на Ручьи.
Наконец добрались до Синельги.
Лиза торопливо, не глядя в глаза, обняла братьев – одного, другого, подтолкнула сзади:
– Чёсайте.
И не выдержала – расплакалась, когда двойнята, перебежав мост, вдруг оглянулись и замахали ей руками.
С запада надвигалась туча, темная, лохматая, откуда только и взялась – всю дорогу было светло. Осинки у моста залопотали, задрожали на ветру, серая россыпь прошлогодних листьев полетела по песчаной дороге… Да что же это такое? Кто же глядя на ночь отсылает ребят в дорогу?
– Стойте, окаянные! Куда это полетели?
Двойнята остановились, затем нерешительно вернулись к сестре.
– Из училища-то не выгонят, ежели ночь переночуете у меня?
– Не…
– Не! Как – не? Кто вас, летунов, держать будет? Кому вы такие нужны?
– Не, мы ведь не сами… Нам на неделю разрешено…
– Вы опять за свое! – Лиза уже слышала это от братьев. Рассказывали ей эту сказку еще днем: будто не самовольно убежали, а воспитатель отпустил. – Чего из вас выйдет-то – с таких годов врете? На вот – опять слезы… Плакать-то раньше надо было… Ладно, возьму грех на душу. Бежите ко мне обратно. Да о реку, а не дорогой. И дома у меня, как мыши, замрите, чтобы никто не видел. А то Михаил узнает – голову с меня снимет…
Был поздней вечер. Луна, которая еще недавно помогала ей управляться в потемках с коровами, скрылась за облаками, и темень стояла кромешная, августовская – Лиза два раза натыкалась на изгородь.
И вдруг, когда она подошла к своему дому, увидела в заулке свет, да такой яркий, что двойнят, сидевших за столом, хоть на карточку снимай.
Да что же это такое? Мало она натерпелась страхов за сегодняшний вечер – это ведь не шутка, ежели из-за тебя ребят выгонят из училища! – так еще свекор огонька подкидывает…
Все разъяснилось мигом, когда она вбежала в избу. Письмо, письмо от Егорши пришло!
– Когда пришло? Не в сутеменках?
– В сутеменках, в сутеменках, – живо закивал Степан Андреянович. Тоже и он весь рад. – Я как раз с лучиной вышел овцам подать – Окся-почтальонша воротца открывает…
И тут Лиза подивилась верности примет. Ведь именно в то самое время, когда начало темнеть (она как раз доить собралась), у нее зачесался нос. Правда, по этой примете ей выходило пить вино, но раз она вина не пьет, должна же быть замена! И такую замену она с радостью принимала: больше двух месяцев не было от Егорши письма.
К столу села чистая, намытая, гладко причесанная, с пылающими щеками письма Егорши всегда зажигали у нее кровь, с сыном на руке – это уж обязательно.
«Здравствуй, дорогой и многоуважаемый дед Степан Андреянович, а также жена Лиза. С боевым солдатским приветом к вам ваш внук и муж Георгий Суханов…»
– А Васе опять привет написать забыл, – заметила, хмурясь, Лиза. – Не знаю, что за отец такой – про сына забывает. – Она перевернула листок, заглянула в конец письма. – Ну да, опять как нищему через заднее окошко: «Привет сыну Васе…»
«Во первых строках сообщаю, что наша… энская часть… – Лиза посмотрела на свекра, на ребят: это еще что? – …наша энская часть была на боевых ученьях, то есть на маневрах, а поэтому письма написать не имел, ибо международный накал и обстановка такая, что, пожалуй, нашему брату не до писем. Данное международное положение происходит потому, что империалисты всех мастей и международный жандарм Америка…»
Лиза покачала головой, усмехнулась:
– Вот как он у нас, татя, высказывается. Как с трибуны. В котором письме уж про эту международную обстановку… Приедет домой, может, и на тракторе работать не захочет, портфельщиком станет… Ну, почитаем дальше.
«Боевые ученья прошли успешно, то есть на большой, дали, как говорится, кое-кому прикурить, на всю катушку развернули огневую мощь Советской Армии, и я за это от лица командования имею благодарность. А кроме того, на днях меня вызывали к начальству и был разговор в части сверхсрочной. Обещают сразу же присвоить воинское звание старшины, а также хорошее довольствие и жилищные условия…»
Лиза всхлипнула, посмотрела растерянно на улыбающихся двойнят, на свекра и вдруг по-бабьи заголосила:
– Татя, да он ведь не приедет к нам… Там останется… В армии…
Глава пятая
Лукашин вышел из правления на крыльцо и заслушался. Бах, бух, бах… топоры пели у болота. Вот песня, которую он готов слушать сутками напролет.
Потом, когда он выбежал к амбарам на задворках, увидел и саму стройку.
Не ахти какое сооружение колхозный коровник, не из-за чего тут приходить в телячий восторг, но ежели каждое дерево ты добывал с бою, ежели для того, чтобы зимой выкроить лошадь для вывозки леса, ты всякий раз до хрипоты ругался с районом – лесозаготовки же! – ежели плотничья бригада у тебя полтора мужика, а остальные так себе, для счету, можно сказать, тогда, пожалуй, и на колхозный коровник станешь молиться.
Плотники, завидев, верно, председателя, поживее задвигали руками, и вот как он въелся в стройку – издали, на слух начал угадывать, кто как работает.
С ревом, с рыком врубается в дерево Михаил Пряслин – не щадит себя парень, не умеет работать вполсилы. Старается сегодня Филя-петух. Трень-звень – как на балалайке наигрывает. А вот Игнатия Баева не мешало бы при случае почесать против шерсти. Стук-стук – и встали. Инвалид – кто отрицает? – но ведь топор-то не в больной ноге держит, а ручищи у него – дай бог каждому.
Волнами накатывался смоляной настой. Свежая щепа, напоминавшая больших белых рыб, плавающих вокруг желтого бревенчатого сруба, сверкала на солнце…
Да, подействовал все-таки позавчерашний прижим с сеном, думал Лукашин, а вот теперь ему надо своими руками прикрывать стройку. Ничего не поделаешь: жатва подошла, первую заповедь выполняй[10], а кроме того, снова берись за косу, раз вёдро началось.
Плотники один за другим спустились с лесов, подошел, громко визжа своим протезом, Петр Житов – он сколачивал крестовину стропил на задах, и теперь Лукашину понятно стало, почему он не расслышал голоса его топора.
– Ну дак что будем делать-то, мужики? – заговорил Лукашин по-свойски, хотя и не совсем своим голосом, когда уселись на бревна и закурили. – Первая заповедь подошла. Придется нам эту стройку коммунизма на время прикрыть, а?
– А энто уж дело хозяйское, – сказал Петр Житов.
– Хозяйское? А я думал, вы хозяева.
– Один баран тоже думал, что зимой в шубе ходить будет, а его взяли да и остригли…
Так, поговорили по душам, обсудили всем коллективом, как жить и что делать.
Лукашин подождал, пока не затих смешок, сказал:
– Ну, раз вы бараны, тогда верно – баранов не спрашивают. – И уже совсем голосом команды: – Яковлев Аркадий – на сенокос. Филипп, ты около дома жать будешь. Пряслин – на Копанец…
– А мне и здесь не худо, – огрызнулся Михаил и взгляд исподлобья, как будто он, Лукашин, его первый враг.
Пришлось поднять все ту же незримую председательскую палку – ничего другого не оставалось:
– К обеду чтобы был там. Понял?
– И не подумаю.
– Тогда за тебя подумают.
– Кто? Может, в дальние края, на выселку?
В соседних колхозах за эти годы кое-кого выслали в Сибирь. За невыработку минимума трудодней и нарушение колхлзной дисциплины. Был такой закон, с сорок восьмого года применяли. Но в «Новой жизни» этот закон никого не коснулся – так за что же его упрекать?[11]
Вопрос звучал вызовом. В соседних колхозах за невыработку минимума трудодней и нарушение колхозной дисциплины кое-кого ставили на место.
У Лукашина, однако, хватило выдержки. Он пощадил самолюбие парня, тем более что в это время к коровнику подъехал на полуторке Чугаретти, и ему вдруг пришла в голову одна мысль.
– Житов, Аркадий, – он с треском оторвал штаны, вставая (опять, черт подери, на смолистое бревно сел!), – вы остаетесь на новостройке. Вас не будем трогать. – И крикнул вылезавшему из кабины шоферу: – Заправься поскорей. В район поедем. Живо!
Подрезова в райкоме не было – с утра уехал в Саровский леспромхоз.
– Неважно у нас нынче с зеленым золотом, Иван Дмитриевич. Опять много недодали родине…
Помощник секретаря мог бы и не говорить об этом – кто не знает, что район уже третий год лихорадит с лесозаготовками. Но разве ему, Лукашину, от этого легче?
– Какой у вас вопрос, Иван Дмитриевич? Может, Милий Петрович поможет?
Лукашин посмотрел на дверь третьего секретаря райкома, тощую, обитую дешевенькой клеенкой, да и то полинялой, и невольно перевел взгляд налево, туда, где, затянутая в черный дерматин, пухлая, как стеганое одеяло, жарко сверкала медными шляпками дверь подрезовского кабинета. Но он все же решил зайти.
О Фокине, вернее о том, как тот стал секретарем райкома, ходили самые невероятные слухи – больно уж круто взмыл человек. Прямо из курсантов областной партшколы да в секретари!
Одни говорили, что Фокину просто повезло – на какой-то экзамен в партийную школу вдруг заявился сам хозяин области и будто бы ему так понравился ответ Фокина, что он сказал: «Нечего тут штаны протирать. В район».
По другим рассказам, Фокина подняли за его выступление на каком-то теоретическом совещании в области – всех покрыл, всех посадил в лужу, даже преподавателей, у которых учился.
Лично Лукашину более правдоподобной казалась третья история, та, которую он сам слышал от Митягина, заместителя председателя райисполкома.
По словам Митягина, все началось с болезни жены Фокина, у которой неожиданно открылся туберкулез легких. В городе оставаться нельзя – врачи категорически запретили. Что делать? Куда податься? И вдруг, на счастье Фокина, в область приезжает Подрезов. На какое-то совещание.
Фокин к нему в гостиницу: так и так, Евдоким Поликарпович, выручай крестника! А Фокин действительно у Подрезова в районе боевое крещение получил: одно время комсомолом командовал, потом начальником лесопункта был и особенно отличился на сплаве – по суткам мог вместе с мужиками не спать.
– Да, – говорит Подрезов, – крестника выручить надо. А какую бы ты работенку хотел? Ну-ко, дорогие товарищи, подскажите.
Это Подрезов к секретарям райкомов обращается, которые в ту пору в номере у него сидели. А секретарям – что? Какое им дело до какого-то Фокина? Слава богу, своих забот хватает.
– Ну а язык как у тебя? Подвострил тут в школе? – спрашивает Подрезов.
– Да вроде бы ничего, – отвечает Фокин. – Кроме пятерок, других оценок покамест не имею.
– А мне не оценки твои нужны, а то, как ты с народом будешь разговаривать. Секретарь тебя устраивает?
Фокин, понятно, сразу скис – невелика должность быть партийным вожаком в каком-нибудь колхозе или лесопункте. Какие это масштабы для человека, который в партийной школе учился?
– Охота бы, – говорит, – Евдоким Поликарпович, поближе к районной больнице, поскольку у меня жена больна…
– Да уж куда ближе, – говорит Подрезов, – от райкома до районной больницы. Непонятно? Секретарем по пропаганде будешь.
Тут, конечно, все секретари за столом так и подскочили:
– Как, Евдоким Поликарпович, ты серьезно это? Да кто тебе позволит в области шуровать как у себя в районе?
– А это уж моя забота, – отвечает Подрезов. – Неделю на сборы хватит? – Это опять Фокину. – Ну а насчет всяких бумажек и прочих формализмов не беспокойся. Я завтра же договорюсь с кем надо.
Вот так и стал Фокин третьим секретарем райкома, если верить, конечно, Митягину. А Лукашин верил: больно уж все это походило на Подрезова. Любил Подрезов показать себя, свою силу, особенно на людях. А кроме того, ему в то время действительно нужен был третий секретарь (прежнего забрали на повышение), и мог, мог он сам подыскивать для себя подходящего человека. Потому что с кем с кем, а уж с ним-то, чуть ли не первым лесным тузом в области, наверху считались.
Лукашину за эти два с лишним года, что работает в райкоме Фокин, не раз приходилось слушать его выступления и на районных совещаниях и у себя в колхозе, и, в общем-то, ничего плохого о третьем секретаре он сказать не мог. Речист. Людей не боится – сам прет на них. И ловок, конечно, – знает, где можно прижать человека, а где надо приласкать. Но на этом его знакомство с Фокиным, пожалуй, и кончалось, ибо по всем сколько-нибудь серьезным делам председатели колхозов шли к Подрезову – он был всему голова в районе.
В то время, когда Лукашин переступил за порог кабинета, жаркого, душного, выходящего окнами на юг, Фокин разговаривал по телефону.
На мгновенье вскинул черные прямые брови – не ожидал такого гостя! – но тут же заулыбался, закивал на стул возле стола и даже подтолкнул свободной рукой пачку «Беломора»: кури. Это уже совсем по-подрезовски. Подрезов любил угощать своих подчиненных табачком, особенно в командировках – специально возил с собой курево, хотя сам и не курил.
Разговор у Фокина был с областью – Лукашин сразу это понял по той особой, можно сказать, государственной озабоченности на его молодом румяном лице и по тем особым словечкам, которые употребляют лишь в разговоре с высоким начальством: «Так, так… вас понял… будет сделано… не подведем…» Зато уж когда повесил трубку, дал себе волю: наверно, с минуту прочищал легкие шумно, как конь после тяжелой пробежки.
– Первый мылил, – с улыбкой сообщил Фокин. – Насчет первой заповеди… А как у тебя? Начал жать?
– Начал.
– И сенокос не забываешь?
– Кое-кого отправил на Синельгу.
Фокин кивнул за окно на солнце.
– Надо не кое-кого. Не прозевай. Бог для тебя специально не будет это колесо выкатывать. А как коровник? Покрыл?
До сих пор Лукашин отвечал и слушал как бы по обязанности: секретарь. Положено интересоваться. А тут вскинул голову: откуда Фокин такие подробности знает про ихний коровник? Вспомнил, как его, Лукашина, в прошлом году на бюро райкома песочили за то, что он сорвал обязательство, не закончил коровник к сроку?
– Ну-ну, по глазам вижу, – подмигнул Фокин своим черным хитроватым глазом. – Приехал насчет техники клянчить, так?
Лукашин только плечами пожал: Фокин ну просто читал его мысли! Именно за этим, насчет жатки, тащился он в район, ибо, раздобудь он эту самую жатку, меньше людей потребуется на поля, а раз меньше – значит можно не прерывать работы на коровнике…
– Смотри, смотри, товарищ Лукашин, – сказал Фокин и кивнул на дверь, в сторону кабинета Подрезова, – с огнем играешь. До самого дойдет, какие ты художества в период уборочной вытворяешь, не поздоровится. В деле Евдоким Поликарпович отца родного не пощадит. – Это уже намек на его, Лукашина, близость с первым секретарем.
Солнце било Фокину в глаза, жарило черноволосую голову, синий китель застегнут на все пуговицы, да еще от раскаленного стекла на столе поддавало, а он только зубы скалил от удовольствия – белые, крепкие, какие не то что на севере, а и на юге не часто встретишь.
– Мне бы жатку, Милий Петрович, раздобыть, – вдруг заговорил напрямик Лукашин. – Вот бы что меня выручило.
Фокин ухмыльнулся:
– У тебя губа не дура, товарищ Лукашин. Только где же сейчас жатку возьмешь?
– Я думал, что, поскольку у меня строительство, райком пойдет навстречу…
– Ты думал!.. Сколько этой весной нам жаток завезли, знаешь? Пять. Из них четыре мы дали самым отстающим, а одну нашему показательному.
– Вот показательному-то можно было не давать. И так все добро туда валят.
– Ну, это ты с Евдокимом Поликарповичем толкуй, ежели такой смелый… Опять намек на его близость с Подрезовым.
Фокин прошелся по кабинету, тяжело, по-подрезозски ставя ногу в ярко начищенном хромовом сапоге, затем решительно взял телефонную трубку:
– Барышня, дай-ко мне «Красный партизан». Да побыстрее… Товарищ Худяков? Здравствуй. Вот не думал, что ты в правлении загораешь. – Фокин по-свойски подмигнул Лукашину. – Почему не думал-то? Да погодка-то, видишь, не конторская вроде. Косой надо махать… Чего-чего? Все давно смахал? Верно, верно, я и забыл. Слушай-ко, Аверьян Павлович, пожурить тебя хочу… За что? – Фокин опять подмигнул Лукашину. – А за то, что ты соседа своего обижаешь… Какого? Соседа-то какого? А того, у которого великая стройка… Да, да, у болота, – захохотал Фокин. – Ладно, ладно, не прибедняйся. Жатку ему надо. Да, да… Нету? Брось, брось – нету… Откуда? А оттуда, что у тебя все косилки на полях. Правильно? А у него сенокос, сенокос в разгаре… Понял? Понял, говорю?
Фокин еще несколько минут, то весело похохатывая, то наседая на Худякова, разговаривал по телефону, а когда кончил, сказал:
– Поезжай. У твоего соседушки всякой всячины толсто. Да присмотрись хорошенько. Худяков – замок с секретами…
Лукашин крепко, с чувством пожал протянутую короткопалую руку в черном волосе. Все-таки это была помощь.
– Да, – окликнул его Фокин, когда он был уже у дверей, – с осени тебе дадим комиссара…
– Парторга?
– Да. Негоже приход без попа. Есть решение райкома: у вас теперь будет освобожденный парторг.
– А кто он?
– Парторг-то? А вот это покамест секретец. – У Фокина во все полное румяное лицо просияли белые, молочные зубы. – А в общем, пройдись по райкому, он тутошний…
Чугаретти просто взвыл от радости, когда узнал, что они едут к Худякову:
– Вот это путёвочка!
Затем, когда сели в кабину, пояснил:
– У меня там шуряга проживает, значит. Давно в гости зовет. А второе, конечно, Худяков…
– Тоже родня? – спросил Лукашин.
– Почему родня? Никакая на родия. Разве что на одном солнышке портянки сушили. А поглядеть на Худякова кто же откажется? Ведь этого Худякова, я так понимаю, и человека на свете хитрее нету.
– А чем же он так хитер?
– Чем? – Чугаретти страшно удивился. Он даже на какое-то мгновенье баранку выпустил из рук, так что машина круто вильнула в сторону и впритык прошла рядом с жердяной изгородью на выезде из райцентра. – Ну, Иван Дмитриевич… Чем Худяков хитер? А цыгана кто облапошил? Не Худяков? Не слыхали? Ну, после войны дело было. Цыган, вишь, вздумал поживиться за счет «Красного партизана». «Давай, говорит, лошадями меняться, хозяин». А Худяков – чего же? «Давай». Ну, сменялись. Цыган пять верст от деревни отъехал – подохла кобыла, а у Худякова коняга тот и сейчас жив. Во как! Да чего там, – Чугаретти коротко махнул рукой, – у него даже сусеки в амбарах не как у всех. С двойным дном.
– Какие, какие? – живо переспросил Лукашин.
– С двойным дном, говорю.
– Это зачем же?
– А уж не знаю зачем. Затем, наверно, чтобы на зуб себе завсегда было. Их доят, доят, а они все с хлебом…
Лукашин захохотал: нет, неисправим все-таки этот Чугаретти. Начнет вроде бы здраво, а кончит обязательно брехней и выдумкой. А жаль. Хотелось бы ему поговорить об Аверьяне Худякове. Сосед. Да и мужик больно занятный. По сводкам – сдача мяса, молока, хлеба – всегда впереди, а не любит языком трепать. На районных совещаниях его не увидишь на трибуне, только разве вытащат когда, пробубнит несколько слов, а так все помалкивает и сидит не на виду, а где-нибудь в сторонке, сзади.
Лукашин давно уже хотел познакомиться с этим человеком поближе. Да, оказывается, не так-то просто это сделать, хоть он и твой сосед. Летом с ходу к нему не попадешь – за рекой живет, – а на председательских «собраниях», которые иногда бывают в районе после совещаний, его тоже не увидишь: то ли потому, что расходов лишних избегает, то ли оттого, что не пьет.
– Так, говоришь, сусеки у Худякова с двойным дном? – развеселился вдруг Лукашин.
Чугаретти – коровьи глаза навыкате, ноздри в гривенник – яростно накручивал баранку.
Машина подпрыгивала как шальная, ветер завывал в кабине, но Лукашин ничего не говорил – пускай порезвится, дурь свою повытрясет: они теперь лугом ехали.
Благоразумие к Чугаретти вернулось за мостом – с грохотом пролетели. Он задвигал дегтярной кожей на лбу, захлопал глазами, а потом начал виновато поглядывать на своего хозяина.
– В следующий раз за такие фокусы выгоню, – предупредил Лукашин.
– А чего и не верите. – Чугаретти по-ребячьи, с обидой ширнул носом. – Я, что ли, выдумал про эти сусеки? Поди-ко послушай, что говорят про этого Худякова.
– Кто говорит?
– Народ. У них ведь, в «Красном партизане», что было до Худякова? А такой же бардак, как у всех протчих. А Худяков пришел – ша! Дисциплинка – раз и два – на лапу. «Я, говорит, научу вас землю рыть носом, но что полагается – дам, голодом у меня сидеть не будете…» Во как сказал Худяков на собранье, когда его в головки ставили.
– Ну и дал? – спросил Лукашин.
– А то! Худяков да не дал. Его, бывало, твердым заданием обложили, смолокурня у отца была: врете, поклонитесь еще Аверьяну Худякову! Ну и поклонились. На лесозаготовки загнали в Вырвей, в самую глухоту, а он и оттуда на свет вырубился. Первым стахановцем стал – во как! Правда, – сказал Чугаретти, подумав, – народишко в Шайволе не как у всех протчих. Дружный. Горой друг за друга. И вообще у Худякова такой порядочек: что народ решит, так тому и быть. Про Манечку-то небось слыхали? Ну, как он с дочерью родной разговаривал… Нет? Да это ж у нас ребенка малого спроси – знает!
Чугаретти опять начал горячиться. Это не по нему – рассказывать вполголоса. Он уж так: ежели возносить человека, то возносить до небес.
– Ну и ну! – воскликнул Чугаретти и помотал головой. – Да вы, я вижу, про Худякова ни бум-бум. Ну а насчет того, как в город веники возил продавать… Чтобы пятаками разжиться?
У Лукашина вдруг что-то вроде ревнивой зависти шевельнулось в груди, и он сказал:
– Ты давай сперва про эту самую… Манечку…
– А-а, это насчет дочери-то. Ну, так, значит, было. Приходит Манечка, младшая дочь, к отцу: «Папа, дай справку. Я учиться поеду». – «А ты разве не знаешь, дочи, какой у нас порядок?» Это отец, Худяков, значит, спрашивает. А порядок у них такой: никого из колхозу. До семилетки учись, не препятствуем, а дальше – стоп. Работай. Вот такой порядочек. Сам Худяков завел. Ну а девка у Худякова отличница круглая да и не робкого, видать, десятка – заявление. Прямо на общее собрание адресовалась: так и так, хочу учиться. Отпустите.
Тут Чугаретти сделал небольшую передышку – специально, конечно, для того, чтобы дать Лукашину все как следует прочувствовать.
– Ладно. Собралось в назначенный час собранье. Вопросы: итоги на посевной, а также протчее в разном. Ладно. Дал Худяков картину по первому вопросу, все как полагается. «А сейчас, говорит, дело такое, что мне, говорит, лучше в сторону. Одним словом, семейный вопрос, передаю собранье своему заместителю». Ну, выслушали заявление. Сколько-то, может, помялись, потужились, а решенье вынесли единогласно: разрешить ученье Марии Аверьяновне Худяковой, как отлично окончила школу. Первое, конечно, то, что дочь председателя надо же уважить человека, раз столько для колхоза сделал, а второе – пятерки Манечкины. Кому охота талант живьем зарывать. Не звери же – люди сидят… И вот тут-то в это самое время поднимается Худяков. – Чугаретти аж всхлипнул – до того расчувствовался. – «Никакой учебы для Худяковой. Как отец – за, а как председатель – нет». То есть вето. Как в Объединенной Нации. Однем словом, запрягайся, Манечка, в колхозные сани. Все у нас одинаковы…
За открытым окном кабины косматился иссиня-зеленый рослый ельник, белые березки вспыхивали на солнце. Потом Лукашин увидел ягодниц – двух беленьких девчушек с берестяными коробками – и сразу понял, что они подъезжают к Шайволе.
– Ну и чем кончилась эта история? Так и не отпустил Худяков дочку?
Чугаретти удивленно вытаращил глаза: какое, мол, это имеет значение?
Лукашин не настаивал. Ведь то, что рассказывал Чугаретти про Худякова, скорей похоже на легенду, чем на житейскую историю, а легенде разве до подробностей и до мелочей всяких?
Пинега под Шайволой не уже и не мельче, чем под Пекашином, но перевоза нет, и Чугаретти увидел в этом еще одно подтверждение мудрости Худякова.
– Вот так, – сказал он многозначительно. – Мало того, что он рекой от начальства отгородился, дак еще и всю связь ликвидировал.
Однако связь была. Не успели они спуститься с крутого увала к воде, как с той стороны, из-за острова, выскочила длинная узконосая осиновка с белоголовым подростком, который, как выяснилось, уже с полчаса поджидал Лукашина.
– К правленью-то дорогу без меня найдете? – спросил парень, когда они переехали за реку. – А то бы мне за травой надо съездить.
– Мотай, – сказал Чугаретти и вдруг страшно обиделся: – Да ты что, понимаешь, Чугаретти не знаешь? Чей будешь?
– Ивана Канашева.
– Чувак! А за дорогой от вас кто проживает? Кого ты видишь каждое утро из своего окошка в белых подштанниках?
Парень захохотал:
– Олексея Туголукова.
– Олексея Туголукова… – передразнил Чугаретти. – Шуряга мой. Где он сейчас? На Богатке?
– Не, дома кабыть. Ногу порубал – к фершалице ходит.
Чугаретти пришел в восторг:
– Вот это да! Везуха! С моим шурягой можно кашу сварить.
Шайвола раскинулась на пологой зеленой горушке, примерно в полуверсте от реки, и Лукашину с Чугаретти пришлось сперва идти лугом, на котором уже стояли зароды, а затем полями.
Луг был небольшой, гектаров восемь от силы, и Лукашин спросил у Чугаретти, есть ли еще домашние покосы у шайволян, то есть покосы возле деревни.
– Нету. Всё тут. О, кабы у них были такие сена, к примеру, как у нас, Худяков раздул бы кадило. А то у них за пятьдесят верст ехать надо, да и то какие это сена – кот наплакал. Ну, Худяков нашел выход. Раньше у них сено гужом добывали да зимой – чистый разор. Просто съедали лошади колхоз. А Худяков пришел: «Не будем возить сено к скоту. Скот погоним к сену». Мой-от шуряга круглый год живет на Богатке, телят кормит. Там у них дело поставлено…
За лугом, при выходе с поля, Чугаретти свернул налево – шурин его жил в нижнем конце деревни, – и Лукашин вздохнул с облегчением. Он любил ездить с Чугаретти – не соскучишься, но сколько же можно – Худяков, Худяков…
День был теплый, безветренный, душно и сытно пахло нагретой на солнце рожью, через которую шла дорога.
Рожь была неплохая, но и не лучше, чем у них в Пекашине. Капустник под самой горушкой тоже не удивил Лукашина – кочаны как кочаны, – а вот деревня его поразила.
Ни одного заколоченного дома (по крайней мере в середке, которой он проходил), а главное, и жилые-то дома выглядят как-то иначе, чем в других деревнях. У них, к примеру, в Пекашине какие дома уделаны? Те, где живет мужик. А на вдовьи хоромы, а их большинство, и смотреть страшно: как Мамай проехал.
Тут же вдовья нищета и обездоленность не бросались в глаза, и Лукашин, хоть и не без некоторой ревнивости, должен был признать, что это дело рук председателя. Его, Худякова, заслуга.
Присмотрелся Лукашин и к конюшне, которая встретилась на пути. Сперва показалось диким – грязь и базар посреди деревни, чуть ли не под самыми окнами правленья (спокон веку хозяйственные постройки в колхозах на задворках), а потом подумал и решил: здорово!
Лошадь зимой, когда все тягло на лесозаготовки забирают, на части рвут, нигде не бывает столько ругани и скандалов, как на конюшне. А тут, когда председатель под боком, много не поскандалишь, не покричишь. Да и конюх всегда на прицеле – поопасется самоуправничать.
Худяков встретил его у колхозной конторы.
– Долгонько, долгонько, товарищ Лукашин, пропадаешь, я уж, грешным делом, едва не маханул в поле. – Худяков указал рукой куда-то на задворки, очевидно, там были тоже поля. – Как насчет чаишка? Не возражаешь? Солнце-то, вишь, где на обед сворачивает.
Лукашин не стал возражать – он теперь, как истый северянин, не меньше трех раз на дню пил чай, – и Худяков повел его домой.
Ничего особенного Лукашин как раньше не находил в Худякове, так не нашел и сейчас. Мужик как мужик. Правда, сколочен крепко и надолго. Ему уж было за пятьдесят, а в чем возраст? В глазах? В походке? Ногу в кирзовом сапоге ставит неторопко, твердо – хозяин идет. Да и вообще по всему чувствовалось – корневой человек. Вагами[12] выворачивать – не вывернуть… Глубоко, как сосна, в земле сидит.
Лукашин все время думал, кого же напоминает ему Худяков, и, только когда тот стал расспрашивать его о райкоме, решил – Подрезова. Вот у кого еще самочувствие и хватка хозяина.
Раскаленный самовар стоял уже на столе, когда они вошли в избу.
Лукашин поздоровался со старухой, сидевшей за зыбкой, и посмотрел на хозяина. Тот отвел глаза в сторону, и Лукашин понял: его ребенок, а не дочери или сына, который был в армии.
М-да, с новым удивлением посмотрел Лукашин на хозяина, у него везде жизнь на полном ходу…
Закуска к водке (Худяков выставил непочатую бутылку) оказалась самой обычной, по сезону: молодые соленые грибы и лук – свежие головки с пером, только что выдернутые из грядки, – зато житник, пестрый, мягкий, хорошо пропеченный, был на славу.
Лукашин, с аппетитом уминая его за обе щеки, подмигнул:
– Поучил бы, Аверьян Павлович, как такой хлеб делать.
– А это уж к хозяйке надо адресоваться. Она у меня мастерица.
– Да хозяйка и у меня не без рук, – сказал Лукашин. – С хозяином загвоздка.
– У нас на Севере, товарищ Лукашин, всему голова – навоз. Наши пески да подзолы без навоза не родят… И я первым делом, когда встал на колхоз, взялся за навоз…
– Ну, у меня навоз тоже не валяется. Но живем вприглядку. Хлеб видим, покуда он на корню…
– Везде порядки одинаковы, – уклончиво ответил Худяков и посмотрел на старинные ходики, висевшие на печном стояке, за зыбкой, потом для полной ясности взглянул за окошко, в поле.
Лукашин нисколько не обиделся: к делу так к делу – он и сам был не очень-то рад, что в такой день сидит за рюмкой. И потому начал прямо, без всяких подходов: выручай, мол, Аверьян Павлович, соседа. У тебя сенокос закончен, вся техника брошена на поля – чего тебе стоит дать одну жатку хоть на недельку?
Худяков махнул рукой:
– Ну, это пустое дело. Давай об чем-нибудь об другом.
– Да почему пустое? – загорячился Лукашин.
– А потому. Коня отдай соседу, а сам пешком – так, что ли? Да меня за такие дела колхозники со свету сживут. Скажут: из ума выжил старый дурак…
Лукашин попробовал припугнуть райкомом – разве не звонил ему только что Фокин? Получилось еще хуже: Худяков посмотрел на него с откровенной усмешкой: неужели, мол, ты это всерьез?
– Не по-соседски, не по-соседски, Аверьян Павлович, – заговорил другим голосом Лукашин. – Вон я недавно кино видел – «Кубанские казаки» называется. Так там, понимаешь, дружба у председателей – не разлей водой.
Худяков рассмеялся:
– А председатели-то кто там – забыл? Мужик да баба…
Шутка, видно, размягчила немного прижимистого хозяина. Он стал заметно разговорчивее и даже раза два выразился в том смысле, что помогать надо, без подмоги не прожить, а после того как Лукашин сказал, что он не задаром просит жатку, заплатит что положено, Худяков и вовсе запоглядывал весело.
– Ну, а что бы ты, к примеру, мне отвалил, а? – спросил он. – Я ведь такой купец: деньгами не беру.
– А чем же берешь? Натурой?
Худяков кивнул.
– Ну насчет натуры извини. Сами вприглядку живем.
– Есть у тебя натура, – сказал Худяков. – Та, которая на лугах да на пожнях растет.
– Сено? – удивился Лукашин. – Нет, Аверьян Павлович, плохо ты районку читаешь. У меня сенокос, знаешь, на сколько выполнен? На шестьдесят пять процентов.
– Знаю. Да я не сено у тебя прошу. Ты мне покосишко какой уступи. К примеру, озадки на Марьюше. У вас они все равно под снег уйдут.
В общем-то, это верно – невпроворот у пекашинцев всяких сенокосов, в то время как Шайвола испокон веку обделена ими. Но легко сказать – уступи. А что скажет райком? Разбазаривание колхозных земель – так это называется?
– Ты бывал на войне? – спросил Худяков, глядя прямо в глаза. – Забыл, что там без риска не только дня, а и часу одного не проживешь?
– То на войне.
– Ну, как хочешь. – Худяков опять посмотрел на ходики. – А я тебе вот что скажу: чистеньким на нашем месте – не выйдет. А что касаемо этих самых покосов, то я их каждый год покупаю у соседей. И в районе, кому положено, знают это…
В конце концов Лукашин принял условия Худякова – другого выхода у него не было.
– Жатка у меня на той стороне, на вашей, – сказал Худяков, – хоть сегодня забирай. Только без шуму. Не к чему на весь район звонить.
Глава шестая
Августовский день был на исходе. Над главной улицей райцентра из конца в конец стояло красное облако пыли, поднятое возвращающимися из поскотины коровами, овцами и главной скотинкой районного люда – козами.
Лукашину с Чугаретти пришлось остановиться возле школы.
– У нас мужики тоже подумывают об этих бородатых коровках, – заговорил Чугаретти. – Петр Житов подсчитал это дело: кругом выгода. Корму в обрез раз, и два – никаких налогов…
Лукашин вылез из кабины.
– Жди меня у Ступиных.
Это дом, где он обычно останавливался.
Чугаретти закивал головой – даже он понимал, что к райкому лучше не подъезжать на машине. Да и чего тут мудреного! Страда, председатели вкалывают на поле да пожне за первого мужика, а тут на-ко, второй раз на дню в райком. Уборщица увидит, и та руками разведет.
Гулко запели деревянные мостки под ногами, потянулись знакомые дома, конторы, потом впереди на повороте замаячил райком – пожар в окнах от вечернего солнца, а Лукашин все еще не решил, говорить ли ему с Фокиным о том, что рассказал Чугаретти, на тот случай, конечно, если нет в райкоме Подрезова.
Чугаретти – дьявол его задери! – довел Лукашина до белого каления. Ему было строго-настрого сказано: не напивайся у шурина, не забывай, что тебе за рулем сидеть, – а он явился к реке – еле на ногах держится. Ну и что было делать? Лукашин загнал его в воду и до тех пор полоскал, пока тот не посинел от холода, пока зубами не застучал.
За реку ехали молча – Чугаретти дулся и чуть не плакал от обиды. Но разве он может долго молчать?
Только сели в машину – заскулил, как малый ребенок:
– Вот и служи вам после этого. Я, понимаешь, все секреты про Худякова вызнал, а вы меня как последнюю падлу…
– Ладно, – сказал Лукашин, – можешь оставить свои секреты при себе, а я тебя последний раз предупреждаю, Чугаев. Понял?
Чугаретти не унимался. Он опять стал пенять и выговаривать, а потом вдруг бухнул такое, что у Лукашина буквально глаза на лоб полезли: у Худякова на бывшем выселке по названию Богатка, где работает его шурин, не только телят откармливают, но и сеют тайные хлеба…
– Какие, какие хлеба? – переспросил Лукашин.
– Потайные. Которые налогом не облагают…
– Как не облагают?
– А как их обложишь? Какой уполномоченный пойдет на ту Богатку – за восемьдесят верст, к черту на рога? Нет, – сказал убежденно Чугаретти, – люди зря не будут говорить про сусеки с двойным дном…
Лукашин, никогда до этого не принимавший всерьез россказни своего шофера, тут поверил сразу. Каждому слову.
«М-да, – думал он, – вот так Худяков!.. А я-то еще час назад ломал голову, как он умудряется концы с концами сводить. А оказывается вон что – потайные хлеба…»
Лукашин высунул голову из кабины. Они сворачивали к шайвольской мызе, где по записке Худякова он должен был получить у бригадира жатку.
– Поворачивай обратно! – вдруг распорядился он. – В район поедем.
Чугаретти всполошился:
– Только, чур, Иван Дмитриевич, меня не выдавать. Хо-хо?
– Хо-хо, хо-хо, – сказал Лукашин.
Вот так он и оказался второй раз на дню в райкоме.
Сперва, когда он услыхал про тайные хлеба, он так вскипел, что на все махнул – и на жатку, и на коровник, и на дом (только бы на чистую воду вывести этого ловкача Худякова!), а сейчас, подходя к райкому, он уже не ощущал в себе первоначального мстительного запала. И даже больше того: глядя на чистое, в вечернем закате небо, он жалел о потерянном дне.
Подрезов был у себя, к нему была очередь: зампредрика, редактор районной газеты, директор средней школы – все народ крупный, не обойдешь, и Лукашин, чтобы не терять понапрасну времени, побежал цыганить, то есть клянчить по учреждениям и магазинам всякие строительные материалы – гвозди, олифу, стекло, замазку – и конечно же курево.
С куревом с этим была беда, в сельпо не купишь – только на яйца да на шерсть, и вот приходится председателю добывать не только для себя, но и для мужиков – иначе и на работу не дождешься. Теперь, правда, после выгрузки у пекашинцев было что дымить, но раз уж оказался в райцентре, надо побегать: кое-какой НЗ завести разве плохо?
В последнее время Лукашина частенько выручал председатель райпотребсоюза, с которым он познакомился близко на сплаве, но сегодня ничего не вышло – все служащие райпотребсоюза, в том числе председатель, были на уборочной в показательном колхозе.
Лукашин думал-думал, ломал-ломал голову и вдруг кинулся за дорогу, в орс леспромхоза. Не важно, что не Сотюжский леспромхоз система та же. И ему по всем статьям обязаны выплачивать калым. Во-первых, за землю – разве не на пекашинской земле стоит орсовский склад? А во-вторых, кто разгружает орсовские баржи?
И вот выгорело. Сорок пачек махры отвалил начальник орса да потом еще по собственной доброй воле накинул десять пачек «Звездочки». Это уж исключительно для него, Лукашина, чтобы он, как добавил, смеясь, начальник, не слишком притеснял Ефимко-торгаша.
В общем, через каких-нибудь полчаса Лукашин притащил к Ступиным, где его поджидал с машиной Чугаретти, целую охапку разного курева. А кроме того, в кармане у него лежала еще накладная на десять килограммов гвоздей – тоже из начальника орса выбил.
Гвозди нужны были позарез – вот-вот начнут крыть коровник, и потому Лукашин тотчас же послал Чугаретти на базу к реке – авось еще застанет там кладовщика.
– Я, кажется, задержусь немного, – сказал на прощанье Лукашин. – А ты на всех парах домой да по дороге, ежели не совсем темень будет, прихвати жатку. А то утром за ней скатайся, пока то да се…
Окрыленный удачей, Лукашин от Ступиных направился в милицию, вернее к Григорию. Рубить ихний узел.
Григорий замучил их до смерти. На развод с Анфисой не соглашается – хоть ты башку ему руби. Это милиционер-то, страж законности! Затем – сколько еще разводить канитель вокруг дома? Ни тебе, ни мне. Ни я вам свою половину не продам, ни вашу не куплю. Живите в полузаколоченном доме! Давитесь от тесени в одной избе.
Как все-таки это хорошо, что на свете есть показательные колхозы! Всю жизнь клял их за иждивенчество, за то, что на чужом горбу едут, а сейчас, когда ему в милиции сказали, что Григорий с Варварой и двумя милиционерами на уборочной в показательном колхозе, он чуть не подпрыгнул от радости. Надо, вот как надо покончить с этим делом, но если можно отложить хотя бы на недельку разговор с Григорием, то он за то, чтобы отложить.
В приемной Подрезова, куда впопыхах примчался Лукашин – он все боялся опоздать, – по-прежнему томились редактор районки и директор средней школы.
– Евдоким Поликарпович знает, что вы здесь, – тихо и вежливо сказал помощник.
Лукашин поблагодарил и подсел к редактору – у того в руках был «Крокодил».
Редактор знал его – раза два был в Пекашине по поводу строительства коровника и даже чай пил у него, – но тут, в райкоме, на виду у портретов, которые взирали на них с двух стен, счел невозможным такое занятие, как совместное разглядывание веселых картинок в журнале, и, отложив его в сторону, стал расспрашивать, как поставлена в колхозе политико-воспитательная работа в связи с развертыванием уборочных работ на полях.
Лукашин отвечал в том же духе, в каком спрашивал редактор: политико-воспитательная работа поставлена во главу угла… политико-воспитательной работе уделяется большое внимание… политико-воспитательная работа – основа основ успеха, – а потом вдруг встал: вспомнил давешний разговор с Фокиным про парторга.
Интересно, интересно… Кого Фокин решил дать ему в комиссары?
Лукашин прямо прошел в инструкторскую – не пошлют же в колхоз кого-нибудь из завотделами!
Тут было людно, в инструкторской: целая бригада сидела молодых, здоровых мужиков, каких сейчас – по всей Пинеге проехать – ни в одном колхозе не найти. Одеты все одинаково – полувоенный китель из чертовой кожи и такие же галифе. Крепкая материя. Один раз схлопотал – и лет десять никаких забот.
Лукашин поздоровался, вытащил начатую пачку «Звездочки» – мигом ополовинили. Тоже и они, низовые работники райкома, до сих пор ударяют по «стрелковой».
Лукашин курил, перекидывался шутками – тут никто из себя номенклатуру не корчил, – присматривался потихоньку, но так и не решил, кого из этих молодцов прочит ему в комиссары Фокин. Народ все был малознакомый, новый, подобранный Фокиным: тот как-то на районном активе заявил, что все парторги на местах должны пройти выучку в райкоме.
– А где у вас Ганичев? – спросил Лукашин. – В командировке?
– Нет, собирается еще только.
Лукашин пошагал в парткабинет: где же еще искать Ганичева, раз на носу у него командировка?
Ганичев на этот счет придерживался железного правила: прежде чем заряжать других, зарядись сам.
«А как же иначе? – делился он своим опытом с Лукашиным, когда тот еще работал в райкоме. – Не подработаешь над собой – всю кампанию можно коту под хвост. Так-то я приехал однажды в колхоз. Бабы плачут, председатель плачет – тоже баба. У меня и получилось раскисание да благодушие… А ежели, бывало, подработаешь над собой, подзаправишься идейно как следует, все нипочем. Плачь не плачь, реви не реви, а Ганичев свою линию ведет».
Память у Ганичева была редкая. Он назубок знал все партийные съезды, все постановления ЦК, он мог свободно перечислить всех сталинских лауреатов в литературе, сказать, сколько у кого золотых медалей, и, само собой, чуть ли не наизусть выдавал «Краткий курс». С ним он не расставался, всегда носил в полувоенной кожемитовой сумке на боку, и, смотришь, чуть какая минутка выдалась – присел в сторонку и началась работа над собой.
Сейчас Ганичев один сидел в парткабинете, склонившись над столом с керосиновой лампой под зеленым абажуром, а что делал, не надо спрашивать: штурмовал труды товарища Сталина по языку.
Вся страна теперь была занята изучением этих трудов[13]. Они появились в центральной «Правде» в самый разгар сенокосной страды – Лукашин как раз в то время был на Верхней Синельге. И вот приехал нарочный: срочно на районное совещание. Всех председателей вызывают.
Бабы подняли переполох: не война ли грянула? И он, Лукашин, тоже всю дорогу строил самые невероятные догадки и предположения: ведь не будут ни с того ни с сего собирать председателей в такую горячую пору! Думал о переменах в налоговой политике – не первый год уже поговаривают о снижении налогов, думал о том, что в магазинах снова, как до войны, будут свободно торговать хлебом, сахаром, махрой, и конечно же думал о том, что превыше всего беспокоило баб, – о войне.
Сорок семь верст он проехал верхом почти без передышки, сменил двух коней, в районный клуб вошел, хватаясь руками за стены, – до того отхлопал зад.
Зал был забит до отказа, некуда сесть. И он уцепился обеими руками за спинку задней скамейки, на которой сидели такие же, как он, запоздавшие работяги, да так и стоял, пока Фокин кончил свой доклад.
А Фокин хоть по бумажке читал, но читал зажигающе:
– Товарищи! Труды товарища Сталина… мощным светом озаряют наш путь… идейно вооружают весь наш советский народ…
Последние слова докладчика Лукашин расслышал с трудом – они потонули в шквале аплодисментов, – да ему теперь было и не до них. Хотелось поскорее в парткабинет, хотелось самому своими глазами почитать.
Прочитал. Посмотрел в окно – там шел дождь, посмотрел на портрет Сталина в мундире генералиссимуса и начал читать снова: раз это программа партии и народа на ближайшие годы, то должен же он хоть что-то понять в этой программе.
Несколько успокоился Лукашин лишь после того, как поговорил с Подрезовым.
Подрезов словами не играл. И на его вопрос, какие же выводы из трудов товарища Сталина по языку нужно сделать практикам, скажем, им, председателям колхозов, ответил прямо: «Вкалывать». И добавил самокритично, нисколько не щадя себя: «Ну а насчет всех этих премудростей с языком я и сам не очень разбираюсь. К Фокину иди».
К Фокину, третьему секретарю райкома, Лукашин, однако, не пошел – страда на дворе, да и самолюбие удерживало, – а вот сейчас, когда он увидел за сталинскими работами Ганичева, решил поговорить: Ганичев – свой человек.
– Ну что, Гаврило, грызем? – сказал он.
Ганичев поднял высоко на лоб железные очки, блаженно заморгал натруженными голубенькими, как полинялый ситчик, глазами:
– Да, задал задачку Иосиф Виссарионович. Я по-первости, когда в «Правде» все эти академики в кавычках стали печататься, трухнул маленько. Думаю, все, капут мне – уходить надо. Ни черта не понимаю. А вот когда Иосиф Виссарионович выступил, все ясно стало! Нечего и понимать этих так называемых академиков. Оказывается, вся эта писанина ихняя – лженаука, сплошное затемнение мозгов…
– А как же допустили до этого, чтобы они затемняли мозги?
– Как? А вот так. Сволочи всякой у нас много развелось, везде палки в колеса суют…
Лукашин вспомнил, как мужики на выгрузке толковали про сталинские труды.
– Слушай, Гаврило, а у нас поговаривают: вроде как диверсия это. Вредительство…
– А чего же больше? Ожесточение классовой борьбы. Товарищ Сталин на этот счет ясно высказался: чем больше наши успехи, тем больше ожесточается классовый враг. Смотри, что у нас делается. Даже в естествознании вылазку сделали, против самого Лысенко пошли…
Тут зазвонил телефон – Лукашина вызывали к Подрезову, – и разговор у них оборвался.
Ганичев сразу же, не теряя ни минуты, опустил со лба на глаза свои железные очки, и больше для него никого и ничего не существовало – он весь, как глухарь на току, ушел в свою зубрежку. И Лукашин с каким-то изумлением и даже испугом посмотрел на него.
Все в том же неизменном кителе из чертовой кожи, как четыре и восемь лет назад, когда Лукашин впервые увидел его, и дома у него худосочные, полуголодные ребятишки – все шестеро в железных очках, и сам он тоже в прошлом не от хорошей жизни маялся куриной слепотой. Но какой дух! Какая упрямая пружина заведена в нем!
Эта самая куриная слепота на Ганичева обрушилась летом в пяти километрах от Пекашина, на Марьиных лугах. И он всю ночь пробродил по росяным лугам, пока, мокрый, начисто выбившись из сил, не натолкнулся на колхозный стан. Но что сделал Ганичев после того, как взошло солнце и он снова прозрел глазами? Приказал скорей отвезти его в районную больницу? Нет, пошагал дальше, в дальний колхоз, где создалось критическое положение с сенокосом.
Над Ганичевым смеялись и потешались кому не лень, и сам Лукашин тоже не помнит случая, чтобы он расстался с ним без улыбки. А сейчас, в эту минуту, когда он смотрел на Ганичева, занятого самонакачкой, как шутили в райкоме, он не улыбался. Сейчас непонятная тоска, щемящее беспокойство поднялось в нем.
Подрезов стоял у бокового итальянского окна, как бык, упершись своим крепким широким лбом в переплет рамы, – верный признак того, что не в духе. А почему не в духе – гадать не приходилось.
С заготовкой кормов в районе плохо, строительство скотных помещений сорвано, план летних лесозаготовок завален. По всем основным показателям прорыв! А раз прорыв – значит тебя лопатят на всех областных совещаниях и даже в печати расчесывают твои кудри. Каково? Это при его-то гордости да самолюбии!
Правда, в самом главном – в лесном деле – у Подрезова было оправдание: район переживал период реорганизации – от лошади переходили к трактору, от «лучка» к электрической пиле, словом, внедряли механизацию по всему фронту работ.
Но реорганизация реорганизацией – об этом можно иногда напомнить первому секретарю обкома, да и то когда он в хорошем настроении, – а срыв государственного плана есть срыв. И когда? В какое время? Два года подряд…
– Что скажешь?
То есть какого дьявола разъезжаешь по району, когда дорог каждый час? Вот как надо было понимать вопрос Подрезова.
– Насчет жатки хлопочу.
– А Худяков что? Не дал? – Подрезов уже знал про поездку Лукашина в Шайволу.
– Худяков вроде дает, да только за калым.
– Ну насчет калыма говорить не будем. Здесь райком, а не базар, – отрезал Подрезов. Это означало: договаривайтесь сами, а меня не вмешивать.
Ладно, подумал Лукашин, и на том спасибо.
– Сенокос гонишь? – Подрезов уже отошел от окна и, твердо ставя массивную ногу в запыленном, туго натянутом на мясистых икрах сапоге, зашагал по кабинету, красному от вечерней зари.
Лукашин доложил коротко, как обстоят у него дела, и вдруг ужасно разозлился. И на себя, и на Подрезова.
Его не первый раз вот так принимает Подрезов, и благо бы на народе – тогда чего обижаться. Секретарь. Надо вожжи в руках держать. А то ведь он и наедине удилами рот рвет.
И вообще, что у них за отношения? Приятелями их не назовешь – Подрезов всегда стену ставит, – но и делать вид, что он, Лукашин, для Подрезова только председатель колхоза, тоже нельзя. Не каждому председателю позвонит первый секретарь: «Ну, как живешь-то? Заглянул бы, что ли…»
Лукашин заглядывал, они целую ночь пропадали на рыбалке, ели из одного котелка – казалось бы, свои в доску.
Черта лысого!
Через неделю, через две, когда Лукашин приезжал в райком на очередное совещание, Подрезов едва узнавал его, а уж колхоз пекашинский разделывал под орех…
Однажды после такого разделывания Лукашин месяца три не заходил к Подрезову в кабинет. И не только не заходил, но и всячески избегал прямых встреч с ним вплоть до того, что, завидев на улице хозяина района, демонстративно сворачивал на другую сторону.
Подрезов первый пошел на примирение. Да как!
Раз вышел из райкома со своей свитой – кто там такой храбрый шагает по мосткам на той стороне и не здоровается?
– Лукашин, ты?
– Я.
– А чего не подходишь?
– А чтобы не подумали, что подхалимничаю.
– Хорошо, – сказал Подрезов. – Раз ты не подходишь, я подойду.
И что же? Пошлепал через грязную дорогу на виду у всей свиты – здороваться с председателем колхоза…
– Ну, как Худяков? Видел хозяйство? – спросил Подрезов.
Лукашин молчал, хотя об этом-то он и собирался говорить. Не сплетничать, не доносить – это попервости только ему хотелось как следует причесать своего соседа, – а разобраться прежде всего самому: как хозяйничает шайвольский председатель? Насколько верны эти россказни насчет тайных полей?
В кабинет вошел сияющий помощник Подрезова.
– Телеграмма, Евдоким Поликарпович. Приятная.
Подрезов быстро развернул протянутый листок, пробежал глазами.
– М-да, род Подрезовых пошел в гору. У сына дочь родилась, так что я теперь дважды дед. – Он горделиво, по-молодецки вскинул свою большую умную голову и кивнул Лукашину: – Есть предложение двинуть ко мне. Как ты на это смотришь?
Лукашин замотал головой: нет. Он по всем статьям должен ехать домой, да и надоели ему эти перепады в подрезовском настроении. Но разве Подрезов отступится от своего?
– Нет, нет, пойдем. Да ты у меня еще и не бывал, так?
Потом вдруг снял трубку, сам позвонил в Пекашино: передайте Мининой – муж задерживается на совещании…
Подрезов жил недалеко от райкома в небольшом желтом домике с красным, пестро разрисованным мезонинчиком.
Кроме этого мезонинчика, у дома была еще одна достопримечательность – кусты черемухи и рябины, посаженные тут еще старым хозяином, доверенным знаменитых пинежских купцов Володиных. Но Подрезов кусты эти основательно поукоротил – он любил, чтобы жизнь била в его окна.
Света в верхнем этаже, где жил Подрезов, несмотря на поздний час, не было, но сам Подрезов нисколько не удивился этому.
По крутой лестнице высокого, на столбах, крыльца они поднялись наверх, вошли в сени.
Подрезов чиркнул спичку. На той стороне длинных сеней обозначились зыбкие переплеты черной рамы, дверь сбоку с большим висячим замком.
– Иди туда. Замок это так, вроде пугала. А я сейчас.
Лукашин по-ребячьи, совсем как в далеком детстве, вытянул вперед руки с растопыренными пальцами, пошагал в темноту, потом долго шарил по стене, отыскивая замок.
Яркий свет ударил ему в глаза, когда он наконец открыл дверь. Подрезов с лампой в руке встречал гостя у порога.
– Устраивайся. А я буду хозяйничать. Женку не трогаю. Она у меня нездорова.
Запели, заходили половицы под ногами увесистого хозяина, захлопали двери – Подрезов раза три выходил в сени. На столе, накрытом старенькой клеенкой, появилась квашеная капуста, соленые грибы, редька.
– Тебя упрекал как-то – без рыбы живешь, а у меня тоже небогато. Тоже на лешье мясо[14] больше нажимаю. А надо бы рыбки-то достать… Чего все глазами водишь? Непривычно?
Лукашину действительно было непривычно. Столярный верстак, рубанки, фуганки, стамески, долота… Самая настоящая столярка! И у кого? У первого секретаря райкома.
– Не удивляйся, – сказал Подрезов, – я ведь, брат, по специальности столяр. Не слыхал? Да и столяр-то, говорят, неплохой. Поезжай в верховье района – там и теперь шкафы моей работы кое у кого стоят. Мне двенадцать, что ли, было, когда меня отец стал с собой по деревням таскать… И вот когда в райком запрягли, специально это хозяйство завел. Хоть для разминки, думаю. Черта лысого! Забыл, как и дерево-то под рубанком поет. А ведь когда-то я с закрытыми глазами на спор мог сказать, что в работе – елка там, сосна или береза… По звуку…
Подрезов налил гостю, себе, чокнулся, выпил. Потом, смачно хрустя капустой, смущенно подмигнул:
– Ну, еще какие вопросы будут? В разрезе автобиографии первого? Образование – начальное, семейное положение – женат. Старший сын – техник. Ребенком вот обзавелся. Дочь – учительница. Замужем. И тоже с приплодом. Так что я по всем статьям дед.
– А сколько же этому деду лет?
– Мне-то? А как ты думаешь?
– Ну, думаю, лет на пять, на шесть меня старше, не больше.
Подрезов довольно захохотал, слезы навернулись на его голубых, с бирюзовым отливом глазах.
– Ты с какого? С девятьсот шестого? Так? Так. Подрезова, брат, не надуешь. Всех своих коммунистов знаю. А в войну и лошадей по кличкам знал. По всему району, во всех колхозах. Бывало, к примеру, твоей Анфисе звонишь. «Нету, нету лошадей, Евдоким Поликарпович!» Как так нету? А Туча где у тебя? А Партизан? А Гром? Мининой и крыть нечем.
– А все-таки сколько же тебе лет? – спросил Лукашин.
– Хм… Нет, я тебя маленько помоложе. По годам, – как бы мимоходом бросил Подрезов. – С девятьсот седьмого. Знаю, знаю – старше выгляжу. Не ты первый удивляешься. Я, брат, рано жить начал – в этом все дело. Знаешь, сколько мне было, когда я первый раз женился? Семнадцать. – Подрезов смущенно заулыбался. – А жене моей двадцать один, и я ее ученик…
Заметив недоверчивый взгляд Лукашина, ухмыльнулся:
– Думаешь сказки рассказывает Подрезов? Нет, правды не пересказать. Выру, речку, знаешь? Приток Пинеги? Ну дак я белый свет, а вернее, ели да сосны на этой самой Выре впервой увидел. Там моя родина. Выселок. За девяносто верст от ближайшей деревни. Беглые солдаты когда-то, говорят, скрывались. Школы до революции, понятно, не было – двадцать домов население. И вся твоя академия Псалтырь да Библия, да и то по вечерам, когда ты уж лыка не вяжешь. Я с восьми лет стал за верстак, а в десять-то я уже рамы колотил… И вот когда мне повернуло уж на семнадцать, приезжает к нам учительница. Первая. Культурную революцию делать. В одна тысяча девятьсот двадцать четвертом году…
– Памятный год, – сказал Лукашин.
– Слушай дальше! – нетерпеливо перебил Подрезов и так разошелся, что даже кулаком по столу стукнул. Как на заседании. – Ты когда город впервые увидел? Не помнишь, поди, такого? Ни к чему. А я до шестнадцати лет не то что города, а и человека-то городского не видел. Понимаешь, что такое был для меня приезд Елены? – Подрезов налил в стакан водки, жадно выпил. – Да-а… А школы-то в Выре нету – где делать культурную революцию? Ну, я ребят кликнул – с этого и началась моя общественная деятельность: построили к осени школу. И вот где пригодилось мое столярство! Старики на дыбы – не надо школы, под старину подкоп, зараза мирская: староверы все у нас были… Меня дома братья да отец дубасят – из синяков не вылезаю. Но и я упрямый. Даром что пенек лесной, а сообразил: нельзя без школы. В общем, построили школу – пятистенок на два класса да еще горенка для учительницы. Да-а… – Подрезов широко улыбнулся. – Школу-то мы построили, а первое сентября подошло – ни одного ученика. Не пустили родители: «Мы без школы жили, и дети проживут». Ну, я опять пример подал: пришел, сел за парту – учи. В общем, весной результаты такие: у меня на руках свидетельство за начальную школу, а у Елены брюхо…
– Способный ученик!
– Ну, ты! – Подрезов свирепым взглядом полоснул улыбнувшегося Лукашина. – Знай, где губы распускать. Девка одна-одинешенька. Как среди волков… Матрена у нас была. Старуха. Ни разу в мир за свою жизнь не выезжала. Чтобы святость соблюсти, с никонианами[15] не опоганиться. Дак эта Матрена, знаешь, что сделала? Ночью школу соломкой обложила да жаровню живых угольков притащила… Ладно, не сердись. Когда человека топят, разве он разглядывает, какое бревно под руку попало? Да я, уж если на то пошло, и бревно-то не последнее был. Лес на школу под выселок приплавил – никто лошади не дает. И помощнички у меня – соплей перешибешь. Я один среди них жернов. В дедка. Тот у нас в восемьдесят лет изгонял дьявола из плоти. Дак что я сделал? На себе, вот на этом самом горбу, перетаскал от реки бревна. Она, Елена, в жизни своей такого не видала. А история со стеклом была! О-хо-хо!.. Все готово: пол набран, потолок набран, окна окосячены, рамы сделаны, одного не хватает – стекла. А стекло за девяносто верст, в деревне, и навигация на нашей Выре только ранней весной да поздней осенью, когда паводки. А так порог на пороге – в лодке не проехать. И вот я ждал-ждал дождей да и пошел камни в порогах пересчитывать. Привез стекло. Через сто десять порогов и отмелей протащил лодку. Вот какая у меня любовь была! Дак разве она могла устоять перед такой силой?
Подрезов взялся рукой за свой тяжелый, круто выдвинутый вперед подбородок, мрачно уставился в стол.
Ничего-то мы друг про друга не знаем, подумал Лукашин и, прислушиваясь к шумно прогрохотавшей под окном машине (не Чугаретти ли опять загулял?), спросил:
– А Елена твоя… Что с ней?
– Нету. В тридцать первом отдала концы… – Подрезов помолчал, махнул рукой: – Ладно, кончили вечер воспоминаний…
Однако Лукашина так взволновал подрезовский рассказ, что он не мог не спросить, отчего умерла Елена.
– От хорошей жизни, – буркнул Подрезов. – Можно сказать, я сам ее зашиб. Ты знаешь, сколько во мне тогда этой силы лесной, окаянной было? Жуть! Я как вырвался на просторы из своей берлоги – мир, думаю, переверну. В восемнадцать председатель сельсовета – ну-ко, поставь нынешнего сосунка на такое дело! В двадцать председатель коммуны… Потом дальше – больше. Первая пятилетка, коллективизация – вся жизнь на дыбы. Меня как бревно в пороге швыряло. Сегодня в лесу, завтра на сплаве, послезавтра в колхозе… По трем суткам мог не смыкать глаз. Лошади подо мной спотыкались да падали, а тут городская девчонка… Пушинка… Да чего там – дубы пополам ломались, а она уж что…
– Да, было времечко, – с раздумьем сказал Лукашин. – Ух, работали!
– Еще бы! – подхватил Подрезов. – Мир воздвигался новый. Социализм строили. Сейчас сколько у нас в лесу техники, тракторов, узкоколейку делаем… А ты знаешь, что в начале тридцатых годов мы лошадкой да дедовским топором миллион кубиков давали! Миллион! Одним районом. Вот ты у Худякова сегодня был. Какой, думаешь, у него рекорд в тридцатые годы был? Сто двадцать кубов в день при норме в три… Вася Дурынин с ним соревновался – на войне мужика убили. Прочитал это в районке, аж заплакал от расстройства. «Ну, говорит, черева из меня вон, а достану Худякова…»
– Кстати, насчет Худякова, – сказал Лукашин. – Что это у него за тайные поля?
Подрезов рывком поднял свою гривастую голову, по-секретарски сдвинул брови:
– Это еще что такое?
– Говорят. На Богатке телят откармливает и хлеб сеет. А налоги с того хлеба не платит…
– Ерунда!
– Ничего не ерунда.
– А я говорю, ерунда! – рявкнул Подрезов.
Лукашина начала разбирать злость. Чего глотку показывать? Где они? На бюро райкома? Он вовсе не хотел бы наговаривать на Худякова (избави боже!), но раз Подрезов делает вид, что ему ничего не известно, – молчать?
– А откуда же у него, по-твоему, хлеб в колхозе, а?
– Откуда?
– Да, откуда?
– А оттуда, что он работать умеет. Хозяин!
– Ах, вот как! Хозяин. Работать умеет. А другие не работают, другие баклуши бьют. Так?
– Да! – рубанул Подрезов. – Ты который год свой коровник строишь?
Это был удар ниже пояса. Лукашин вскочил на ноги, выпалил:
– А ежели так будет дальше… ежели так выгребать будут… еще десять лет не построю!
– Ты думаешь, что говоришь? Кто это у тебя выгребает?
– А ты не знаешь кто? За границей живешь?
– Советую: не распускай сопли! – опять с угрозой в голосе сказал Подрезов. – А то смотри – схлопочешь…
– Когда печать колхозную сдавать? Сейчас? Или на бюро райкома сперва вызовешь?
Подрезов медленно отвел голову назад, наверняка для того, чтобы получше разглядеть своего гостя. Но разглядеть его он не успел – Лукашин уже громыхал половицами в коридоре.
Глава седьмая
Вышли из дому рано – ни одного дымка еще не вилось над крышами, серебряными от росы. И было прохладно, даже зябко. А когда добрались до болотницы да начали в тумане пересчитывать ногами старые мостовины, Лизе и вовсе стало не по себе.
Но Степан Андреянович был весь в испарине, как если бы они шли в знойный полдень, и шагал тяжело, шаркая ногами, с припадом.
И Лиза опять в который уже раз сегодня спрашивала себя: а правильно ли она делает, что больного старика одного отпускает на пожню?
Степан Андреянович первый заговорил с ней о дальнейшей жизни. Так и спросил вечор, когда она вернулась с коровника: как жить думаешь, Лизавета?
Она заплакала:
– Какая у меня теперь жизнь…
– А я твердо порешил: как ни вздумаешь жить, а передние избы твои. Я и бумагу велю составить…
Вот тут-то она и разглядела своего свекра, поняла, каково ему. Ведь не только ее переехал Егорша – переехал и деда своего. На-ко, ждал-ждал внука домой, думал хоть последние-то годы во счастье поживу, а тот взял да как обухом по старой голове: на сверхсрочной остаюсь…
– Татя, да ты с ума сошел! Какие мне передние избы? Ты что – порознь со мной хочешь?
– Да я-то что…
– Ну и я что… Вот чего выдумал: передние избы тебе… Да у нас Вася есть… Васю растить надо… Нет уж, как жили с тобой раньше, так и дальше жить будем…
Степан Андреянович слезами умывался от радости: нет, нет, не хочу заедать твою молодую жизнь. А сегодня встал как до болезни – о восходе солнца – и на Синельгу. На пожню. Нельзя, чтобы Вася без молока остался!
И Лиза сама помогала старику собираться, сама укладывала хлебы в котомку…
– Ты, татя, почаще отдыхай, – наставляла она сейчас шагающего сзади нее свекра. – Никуда твоя Синельга не убежит. Всяко, думаю, к полудню-то попадешь. Да сегодня не робь – передохни. Ведь не прежние годы…
Через некоторое время, когда стали подходить к Терехину полю – тут век прощаются, когда на Синельгу провожают, – она опять заговорила:
– Да Васе-то какой-никакой шаркунок сделай. А время будет, и коробку из береста загни. Побольше, чтобы солехи с бору носить. Нету у нас коробки-то, та, старая, лопнула… А я все ладно, скоро проведаю тебя. Да не убивайся, смотри у меня. Иной раз и днем полежи на пожне. Хорошо на вольном-то воздухе, полезно… А без коровы не жили – как-нибудь и вперед прокормим. Ведь уж Михаил не допустит, чтобы Вася без молока остался…
Она передала старику ушатик, котомку, бегло обняла его и не оглядываясь побежала домой: боялась, что расплачется…
От завор[16] Лиза пошла было болотницей, той самой дорогой, которой шла со свекром вперед, да вдруг увидела на новом коровнике плотников – как самовары по стенам наставлены – и круто повернула налево: сколько еще избегать людей? Ведь уж как ни таись, ни скрытничай, а рано или поздно придется выходить на народ.
И вот заставила себя пройти мимо всех бойких мест – мимо колодцев, мимо конюшни (тут даже с конюхом словцом перекинулась: когда, мол, лошадь дашь за дровами съездить?), а дальше и того больше – подошла к новому коровнику да начала на глазах у мужиков собирать свежую щепу.
Петр Жуков жеребцом заржал со стены:
– Лизка, мы с тебя за эту щепу натурой потребуем…
И она еще игриво, совсем как прежде, спросила:
– Какой, какой натурой?
Все-таки щепу она не донесла до дому – рассыпала возле большой дороги у колхозного склада. Потому что как раз в ту минуту, когда она задворками вышла к складу, из-за угла выскочила легковушка с брезентовым верхом, точь-в-точь такая же, на какой, бывало, шоферил Егорша, и, не останавливаясь, шумно, с посвистами прокатила мимо, а она так и осталась стоять – возле дороги, накрытая вонючим облаком пыли и гари.
После этого Лиза уже не храбрилась. Шла от склада к дому и глаз не вытирала. Только когда вошла к себе в заулок да увидела Раечку Клевакину, начала торопливо заглатывать слезы.
Не любила она при Раечке выказывать свою слабость. При ком угодно могла, только не при Раечке. И дело тут не в том, что та дочь Федора Капитоновича, которого Пряслины с войны терпеть не могут. Дело в самой Раечке, в ее изменчивом характере.
Сохла-сохла всю жизнь по Михаилу, вешалась-вешалась на шею, а тут подвернулся новый учитель – и про все забыла, за легкой жизнью погналась. Вот за это и невзлюбила Лиза Раечку. Невзлюбила круто, исступленно, потому что нравилась она ей, и уж если на то пошло, так лучшей жены для брата Лиза и не желала.
– Что, невеста? Скоро свадьба? – спросила Лиза, подходя к крыльцу, возле которого стояла Раечка. (Только о свадьбе ей и спрашивать теперь!)
Раечка полной босой ногой ковыряла песок под углом – для Васи насыпан. Большую ямку проковыряла. Да и вообще вид у Раечки был несвадебный. Хмуро, с затаенной тоской глянула ей в лицо.
– Зайдем в избу, – предложила Лиза. – Чего тут под углом стоять?
Зашли. А лучше бы не заходить, лучше бы оставаться на улице. Все разбросано, все расхристано – на столе, на полу (сразу двоих собирала – и старого, и малого), – неужели и у нее теперь такая же жизнь будет, как эта неприбранная изба?
– Райка, у тебя глаз вострый. Посмотри-ко, нет ли у меня какой сорины в глазу? – схитрила Лиза.
Она потянула Раечку к окошку, к свету, а у той, оказывается, у самой на глазах пузыри.
– Вот тебе на! Да у тебя сорина-то, пожалуй, еще больше, чем у меня.
Раечка ткнулась мокрым лицом ей в грудь, глухо застонала:
– Меня тот до смерти замучил…
– Кто – тот? Учитель?
– Ми-и-и-шка-а-а…
– Михаил? – удивилась Лиза. – Наш Михаил?
– Да…
– Ври-ко давай…
– Он… Тут который раз встретил вечером… Выйди, говорит, к ометам соломы…
– Ну и что?
Раечка жгла ей своими слезами голую шею, грудь, но молчала. Котлом кипела, а молчала. Потому что дочь Федора Капитоновича. Гордость. И Лиза, уже сердясь, тряхнула ее за плечи:
– Ну и что? Чего у вас было-то?
– Он не пришел…
– Куда не пришел? К ометам, что ли?..
– Да…
– И только-то всего? Постой-постой! – вдруг вся оживилась Лиза. – А когда это было-то? Не в тот ли вечер, когда он с мужиками на выгрузке был? Вином-то от него пахло?
– Пахло…
Лиза с облегчением улыбнулась – наконец-то распутался узелок:
– Ну дак он не мог прийти в тот вечер. Никак ему нельзя было.
Раечка недоверчиво подняла голову.
– Правда, правда! У нас в тот вечер ребята прикатили – Петька да Гришка… Подумай-ко, устраивал, устраивал их Михаил в училище, а они взяли да домой. По Тузку соскучились… Что ты, было у нас тогда делов. И теперь еще не знаем, что с ними. Как на раскаленных угольях живем…
У Раечки моментально высохли глаза, она стала еще красивее, а Лиза смотрела-смотрела на нее и вдруг ужасно рассердилась на себя: зачем, кого она утешает? Какое горе у этой раскормленной кобылы?
Она резко встала и сама удивилась жестокости своих слов:
– Худо тебя припекло, за жабры не взяло. Скажите на милость, как ее обидели! Час у омета вечером выстояла. Да когда любят по-настоящему-то, знаешь, что делают? Соломкой стелются, веником под ноги ложатся… А ты торгуешься, как на базаре, все у тебя расчеты… Насыто, насыто плачешь – вот что я тебе скажу… Михаила она испугалась! Да Михаил-то у нас копейку возьмет, а на рубль вернет… Слыхала это?
Раечка мигом просияла. На улицу выбежала – и горя, и слез как не бывало.
Лиза сняла со стены зеркало, присела к столу. Не красавица – это верно. Не Раечка Клевакина. И скулья выпирают, и глаза зеленые, как у кошки. Да разве только красивым жить на этом свете? А то, что она три года, три года, как собака верная, ждет его, служит ему, – это уж ничего, это не в счет? А в прошлом году приехал на побывку на два дня, потому что, видите ли, дружков-приятелей в городе и в районе встретил, сказала она ему хоть словечушко поперек? Наоборот, стала еще от деда и брата защищать: хватит, мол, вам человека мылить. Хоть и погуляет сколько – не беда, солдатскую службу ломает…
В избе она не стала прибирать – первый раз в жизни махнула на все рукой. Да, по правде сказать, и некогда было – на коровник пора бежать.
Никогда в жизни не ездила Лиза больше трех раз за травой на дню, а сегодня съездила четыре и поехала еще – пятый. Поехала для того, чтобы выреветься.
И она ревела.
По лугу ходил вечерний туман, яркая звезда смотрела на нее с неба, а она каталась по мокрой некошеной траве, снова и снова терзала себя:
– За что? За что? За какую такую провинность?
За эти два дня и две ночи она перебрала все, припомнила всю свою жизнь с Егоршей – как и что делала, когда и какие слова говорила (можно было припомнить, немного они и жили – две недели) – и нет, не находила за собой вины. Не в чем ей было каяться. А уж если и винить ее в чем, так разве только в молодости. Тут она виновата. Выскочила семнадцати лет, зелень зеленью – какая же из нее жена?
В кустах жалобно горевала какая-то птаха (тоже, может, брошенка?), а на деревне кто-то веселился – лихо наяривал на гармошке…
Лиза села, начала перевязывать намокший от травы платок.
Никто еще не знал, не ведал о ее беде. Она даже брату слова не сказала. А ведь узнают, придет такой день – начнут перемывать косточки.
– Слыхала, страсти-то у нас какие?
– Какие?
– Лизку Пряслину Егорша бросил.
– Ври-ко?
– А чего врать-то? Правды не пересказать.
– Да за что бросил-то? Месяца не жили…
– А уж это ты у его спроси. Ему лучше знать…
И Лиза мысленно уже представляла себе, с каким пакостным любопытством присматриваются к ней при встречах бабы: есть, есть какой-то изъян, раз муж бросил…
Нет, нет! Не будет этого. Не будет!
Она решительно вскочила на ноги, без тропинки, напрямик побежала к Дуниной яме.
Об этой Дуне, какой-то разнесчастной пекашинской бабе или девке, утопившейся в застойном омуте возле берега, Лиза думала еще днем. Кто она такая? Из-за чего нарушила себя? Может, и ее муж кинул?
Мокрая трава била ее по коленям, мокрые кусты хлестали по лицу, по глазам… Остановилась, когда из-под ног комьями посыпалась в воду глина.
Густой белый туман косматился над Дуниной ямой, и холодом, ледяным холодом несло из ее черных непроглядных глубин…
Господи, да как же она, окаянная, о своем Васе-то забыла? С ребенком-то что будет? А свекор? Он-то как, старый старик, будет один маяться без нее?
Лиза пошла назад. Сперва тихонько, еле переставляя ноги, а потом побежала бегом: коровы уж час добрый как пришли из поскотины – чем они-то виноваты?
Глава восьмая
Анфиса торопилась. Солнышко сворачивало на обед, и вот-вот должен явиться Иван с Подрезовым, а у нее еще и пол не мыт.
Подрезов задал им сегодня работы. Ввалился утром с шумом, с грохотом:
– Встречайте гостя!
Ну и как было не встречать. Барана зарезали (ох, вспомнят они про этого барана, когда время подойдет мясной налог платить!), мукой белой разжились – она нарочно к реке, на склад к Ефимке-торгашу, бегала. А как же иначе? Не простой гость, не деревенский – чего сунул, и ладно. Хозяин района. Хоть разорвись, хоть наизнанку вывернись, а сделай стол.
И она делала. Варила свежие щи, тушила баранину с молодой картошкой, опару для блинов заранее растворила – чтобы без задержки, с жару с пылу подать на стол.
Но надо правду говорить: без радости все это делала. Не нравилась ей эта дружба Ивана – ни раньше не нравилась, ни теперь. Она еще как-то понимала съездить вместе на рыбалку, при случае посидеть вдвоем за бутылкой, а как понять, к примеру, сегодняшний фокус Подрезова? Пяти часов не прошло, как расстались, а он уж катит к ним. Дети, что ли, они – друг без дружки жить не могут? А потом, как же это председателю с первым секретарем дружить? А ежели у тебя в колхозе завал, а ежели ты своим колхозом весь район назад тянешь, тогда как?
Нет, она на этот счет думала без затей: секретарь к председателю зашел чаю выпить, пообедать – это нормально, это спокон веку заведено, а председателю ходить на дом к секретарю незачем. И даже нельзя. Потому что слух разнесется: ты любимчик у секретаря, ох, нелегко жить будет.
Обо всем этом Анфиса хотела поговорить с мужем сразу же, как только тот на рассвете приехал от Подрезова, но не решилась. Надо сперва хорошенько подумать, прежде чем со своим мужем разговаривать, – вот до чего у них дошло.
Размолвки меж ними, само собой, случались и раньше – как же без этого в семье? – но размолвки только до ночи. А ночь примиряла их. Ночь сводила их воедино и душой и телом – они любили друг друга со всем пылом людей, не успевших израсходовать себя в молодости.
Теперь они спали врозь.
Первый раз Иван лег от нее отдельно в тот вечер, когда вышла эта история у орсовского склада.
Она знала: нельзя ей туда ходить. Ивану и без того на каждом шагу чудится, что она в его дела вмешивается, его наставляет. И все-таки пошла. Пошла ради самого же Ивана. Думала: мужики пьяные, Иван в судорогах – долго ли разругаться в пух и в прах? А вышло так, что хуже и придумать нельзя… А через день у них с Иваном опять была ссора. И ссора снова из-за того же Петра Житова.
Петр Житов приперся к ним на дом: нельзя ли, дескать, травы за болотом, напротив молотилки, пособирать – женка присмотрела?
– Нет, – буркнул Иван, – ты и так пособирал.
Это верно, поставили Житовы стожок на Синельге воза на два, да разве это сено для коровы на зиму?
Она решила замолвить за Петра словечко – как не замолвишь, когда тот глазами тебя ест?
– Давай дак, председатель, не жмись. Не все у нас с одной ногой.
Сказала мягко, необидно, а главное, с умом: любой поймет, почему Петру Житову разрешено.
Нет, глазами завзводил, как будто она первый враг его. А Петр Житов тоже кремешок: раз ты так, то и я так. Ищи себе другого бригадира на коровник, а я отдохну.
– Смотря только где отдохнешь, – припугнул Иван.
Анфиса только руками всплеснула: ну разве можно так разговаривать с человеком?
Хорошее дело сделал Иван[17]: в редком колхозе не высылали людей в Сибирь, и ему тоже предложили парочку нерадивых колхозников командировать в холодные края. Чтобы дисциплину в колхозе подтянуть.
А он: нет. Никакой высылки. Не будет второго раскулачивания в Пекашине. Лучше меня с председателей снимайте. И колхозники радовались: вот какой у нас председатель! Не побоялся против властей пойти. И надо бы дорожить этой славой – самому же легче работать, а он взял да сам же ее и растоптал.
– Ну, довольна? – заорал на нее Иван, когда Петр Житов ушел от них. – Опять мужа на позор выставила? Вот, мол, какая я, мужики, заступница ваша, а то, что мой муж делает, это не моя вина…
Она смолчала, задавила в себе обиду.
Хозяин с гостем пришли не рано, во втором часу, так что Анфиса все успела сделать: и обед приготовить, и пол подмыть – праздником сияла изба, – и даже над собой малость поколдовать.
Платье надела новое, любимое (муж купил!) – зеленая травка по белому полю, волосы на висках взбила по-городскому и сверх того еще ногу поставила на каблук: наряжаться так наряжаться.
В общем, распустила перья. Подрезов, привыкший видеть ее либо на работе, либо за домашними хлопотами, не сразу нашелся, что и сказать:
– Фу-ты черт! Ты не опять взамуж собралась?
Но Подрезов – бог с ним: посидел, уехал, и все. Муж доволен был. Вошел в избу туча тучей – не иначе как Подрезов только что мылил (вот ведь как дружбу-то с таким человеком водить), а тут увидел ее – заулыбался.
Анфиса сразу повеселела, молодкой забегала от печи к столу.
– Ну как, Евдоким Поликарпович, наше хозяйство? – завела разговор, когда сели за стол. – Где побывали, чего повидали?
– Хозяйство у вас незавидное. А знаешь почему?
– Почему?
Она ждала какого-нибудь подвоха – уж больно не по-секретарски заиграли у Подрезова глаза, – но поди угадай, что у него на уме!
А Подрезов шумно, с удовольствием втягивая в себя носом душистый наваристый пар от щей – она только что поставила перед ним большую тарелку, подмигнул, кивая на Ивана:
– А потому что больно часто его мясом кормишь. Не в ту сторону настраиваешь.
Шутка была обычная, мужская, и ей бы тоже надо от себя подбросить огонька – вот бы и веселье получилось за столом, а ее бог знает почему повело на серьезность.
– Нет, Евдоким Поликарпович, – сказала она, – не часто нынче едят мясо в деревне. В налог сдают. И мы не едим.
– А это что? Из бревна варено? – Подрезов размашисто ткнул пальцем в свою тарелку. Он все еще шутил.
– А это я овцу свою недавно зарезала.
– Для меня? – Подрезов сразу весь побагровел.
Иван стриганул ее глазами: ты в своем уме, нет? А ее как нечистая сила подхватила – не могла остановиться:
– Да чего на меня зыркать-то? Евдоким Поликарпович без меня знает, как в деревне живут. А ежели не знает, то сам глаза завесил.
– Кто завесил? Я?
– А то нет? – Поздно было уже отступать. Разве закроешь сразу плотину, когда вода хлынула? – Я-то не забыла еще, как ты в сорок втором году к нам приехал. Помнишь, Новожилов помер и тебя первым назначили? Ну-ко, вспомни, что ты тогда нам говорил?
– Есть предложение выпить, – сказал, чеканя каждую букву, Иван. Специально для нее, чтобы одумалась.
– Нет, обожди, – сказал Подрезов. – Пускай уж до конца говорит.
– А чего говорить-то? – Анфиса тоже начинала горячиться: муж рот затыкает, словно она невесть что мелет, гость набычился – вот-вот рявкнет. – Разве сам-то не помнишь? «Бабы, потерпите! Бабы, после войны будем досыта исть…» Говорил? А сколько годов после войны-то прошло? Шесть! А бабы все еще терпят, бабы все досыта куска не видели…
Анфиса, покамест говорила, нарочно не глядела в сторону мужа, чтобы все высказать, что на сердце накипело, зато когда отбарабанила – озноб пошел по спине. Нехорошо, ох, нехорошо получилось. Подрезов у них гость, и разве такими речами гостя угощают? А насчет мяса так она и вообще зря разговор завела. Кто поймет ее как надо?
Подрезов не ел, муж не ел – она не глазами, ушами видела это. И она кусала-кусала свои губы, ширкала-ширкала носом, как простуженная, и – только этого и недоставало – вдруг расплакалась.
– Ты уж не сердись на меня, Евдоким Поликарпович. Сама не знаю, как все сказала. Может, оттого, что я ведь тоже не со стороны на все это глядела… Я ведь тоже бабам так говорила…
– Но здесь не бабы! – отрезал Иван.
Она хотела встать – чего давиться слезами за столом, – но рука Подрезова властно удержала ее.
– Анфиса, мы с тобой когда-нибудь пили?
– Вино?
– Да.
– С чего? Я ведь у тебя в любимчиках не ходила. Ты меня все годы в черном теле держал…
– Так уж и держал?
– Держал, – сказала Анфиса. – Чего мне врать?
Подрезов налил граненый стакан водки. Полнехонький, с краями, воплавь, как говорят в Пекашине. Поставил перед ней.
– Выпей, Анфиса, со мной. Только не отказывайся, ладно?
Вот так именитого-то гостя принимать: то сивер на тебя нагонит, то жар. Ну а как своя, домашняя гроза?
Выпей! – приказал глазами Иван.
Анфиса голову вскинула по-удалому, по-бесшабашному: сама коней в топь завела, сама и на зелен луг выводи.
– За такого гостя можно выпить.
– Нет, не за гостя, – сказал Подрезов.
– А за кого же?
– За кого? А ни за кого. За то, что мы с тобой тут, на Пинеге, фронт в войну держали…
Выпила. По уму сказал слова Подрезов. Чуть не половину стакана опорожнила, а потом и того хлестче: дно показала. Иван виноват. Сказал бы – стоп, и все. А то не поймешь, чего и хочет. Выпей, а как выпей – все или только пригуби? А Подрезов – известно: покуда на своем не поставит, не слезет. «Выпей! Докажи, что зла на меня не держишь…»
И вот Анфиса глубоко вздохнула, набрала в себя воздуха, как будто в воду нырнуть хотела, прислушалась (как там сын в задосках?) и – будем здоровы.
Минуты две, а то и больше никто не говорил – не ждали такого, и в избе до того тихо стало, что она услышала, как в своей кроватке зевнул во сне Родька.
Первым заговорил Подрезов:
– Дак, значит, я обманщик, по-твоему, Анфиса? Да?
«Так вот ты зачем меня вином накачивал! Чтобы выпытать, что о тебе думают. А я-то, дура, уши развесила, думала – он труды мои вспомнил».
– А сам-то ты не знаешь! – сказала Анфиса и прямо, без всякой боязни глянула в светлые, пронзительные глаза Подрезова. – А по мне, дак человек, который слова не держит, обманщик. Вот ты по колхозам ездишь. Не стыдно в глаза-то людям глядеть? А мне дак стыдно…
– Ты опять про свое? – цыкнул Иван.
– А про чье же еще? – Она и на него глянула во все глаза.
– Да пойми ты, дурья голова, от секретаря все зависит? Думаешь, он всему голова?
– А кто же? Разве помимо евонной воли каждый год у нас выгребаловку делают? Чьи – не его уполномоченные с утра до ночи возле молотилок стоят?
– Правильно, Анфиса, мои, – сказал Подрезов. – Только покамест без этой выгребаловки, видно, не обойтись. Про войну забываешь.
– Ничего не забываю. А только докуда все на войну валить? Чуть кто вашего брата против шерсти погладил – и сразу война. Да ведь войны-то и раньше бывали. После той, Гражданской, уж на что худо было. Гвоздя не достанешь, соли не было – кислое молоко в похлебку клали. А года два-три прошло – ожили. А теперь карточки уж который год отменили, а деревенскому человеку все в лавке хлеба нету, только одним служащим по спискам дают. Долго это будет? А скажи-ка на милость, трава каждый год под снега уходит, а колхознику нельзя для коровенки подкосить – тоже война виновата?
– Ну, села на любимого конька…
– Села! – с запалом ответила мужу Анфиса. – И тебе это говорю: не умеешь с народом жить, все войной, все войной на людей, за каждую охапку сена калишь…
– Да если их не калить, они колхозное стадо без кормов оставят! И так ни черта не работают.
– А по мне, дак больно еще хорошо работают. За такую плату…
Иван выскочил из-за стола, забегал по избе, а она, Анфиса, и глазом не повела. Бегай!
Как-то она стала Петра Житова совестить (Олена попросила): зачем, мол, ты, Петя, все пьешь? «А затем, чтобы человеком себя чувствовать, – ответил ей Петр Житов. – Я, когда выпью, ужасно смелый делаюсь. Никого не боюсь». И вот, наверно, вино и в самом деле смелости прибавляет. Сейчас она тоже никого не боялась – ни мужа, ни Подрезова.
Правда, Подрезов сегодня вроде и не Подрезов вовсе. У нее крепы в голове и в горле лопнули – чего ни наговорила, как его ни разделала, в другой раз и подумать страшно, что было бы. А сегодня сидит, слушает и чуть ли еще не оправдывается.
– Я тебе только одно скажу, Анфиса, – заговорил Подрезов, когда Иван снова сел за стол. – Не у нас одних трудно. В других краях и областях не лучше живут. Это я тебе точно говорю.
– Больному не большая радость оттого, что его сосед болен, – сказала Анфиса.
И опять ее стало подмывать, опять потянуло на разговор – вот сколько накопилось всего за эти годы!
Но тут Иван напомнил Подрезову, что им пора ехать.
– Куда? – удивилась Анфиса.
– На Сотюгу думаем, – сказал Подрезов. – Надо сено там у вас и у водян посмотреть, а заодно и рыбешки пошуровать. – Покосился на нее мужским взглядом и весело добавил: – Чтобы ты его посильнее любила.
– А я и так мужа своего люблю. Без рыбы! – с вызовом ответила Анфиса и, чего никогда не бывало с ней на людях, потянулась целовать его.
Иван, конечно, осадил ее – нож по сердцу ему всякие нежности на виду у других, – но она выдержала характер, чмокнула в нос, а потом запела: вот когда по-настоящему вино заходило.
– Чем людей-то пугать, сходила бы лучше за лошадями.
– Нет, давай уж сами! – захохотал Подрезов. – Ей сейчас и конюшни не найти.
– Мне не найти? – Анфиса вскочила на ноги, лихо стукнула кулаком по столу – только стаканы звякнули. – Нет, врешь! Найду!
Ее качнуло, она ухватилась за спинку кровати, но у порога выровнялась и на улицу вышла с песней.
Когда в прошлом году Анфиса смотрела кино под названием «Кубанские казаки», она плакала. Плакала от счастья, от зависти – есть же на свете такая жизнь, где всего вдоволь!
А еще она плакала из-за песни. Просто залилась слезами, когда тамошняя председательница колхоза запела:
Это про нее, про Анфису, была песня. Про ее любовь и тоску. Про то, как она целых три долгих военных года и еще почти год после войны ждала своего казака…
И вот сейчас она шла, пошатываясь, по дороге и выводила свою любимую. Во весь голос.
Из коровника выбежали скотницы – кто поет-гуляет? Строители перестали топорами махать, тоже вкогтились в нее глазами, ребятишки откуда-то налетели видимо-невидимо…
А ладно, смотрите на здоровье. Не часто Анфиса гуляет. Кто видал ее хоть раз пьяной после войны?
Конюха на месте не оказалось – за травой уехал или лошадей под горой перевязывает, но кто сказал, что ей помощник нужен? Всю войну по целым страдам с кобылы не слезала, так уж заседлать-то двух лошадей как-нибудь сумеет!
Она широко распахнула ворота конюшни, смело прошла к стойлам – лошадь любит, когда с ней уверенно обращаются, – вывела сперва Мальчика, затем Тучу.
Туча – смирная, сознательная кобыла, и она быстро ее оседлала, а Мальчик как черт: крутится, вертится, зубами лязгает – не дает надеть на себя седло.
– Стой, дьявол! Стой, сатана!
Она взмокла, употела и ужарела, пока подпругу под брюхом затянула, а потом конь вдруг взвился на задние ноги – все полетело: и привязь Ефимова полетела – чего со старичонки требовать? – и она сама полетела. Прямо в песок перед воротами конюшни, в пыль истолченный конскими копытами.
– Мальчик, Мальчик, куда?
Она вскочила, побежала вслед за конем туда, к старому коровнику, где громом небесным стонала земля.
Только добежала до коровника – Мальчик обратно: тра-та-та-та… Чуть не растоптал. Пролетел, мало сказать, рядом – брызгами залепил лицо.
Сколько заворотов он сделал от конюшни до скотного двора? Может, десять, а может, двадцать. Седло съехало под брюхо, сам от пыли гнедой стал (это Мальчик-то, черный как смола!), а она все бегала, месила горячий песок между конюшней и коровником. До тех пор, пока его, окаянного, не перехватила Лизка. У колоды с водой возле колодца.
Анфиса кое-как подняла с брюха на спину седло, затянула подпругу, попросила Лизу:
– Отведи его, бога ради, лешего, к нам, а я сейчас. Она стряхнула с себя пыль – до слез жалко было нового платья, – заправила назад потные, растрепавшиеся волосы, пошагала к коровнику – к мужикам. Напрямик, не дорогой, по свежераспаханному песку.
Подошла к стене, задрала кверху голову, бросила:
– Сволочи, нелюди вы! Вот кто вы такие!
А кто же как не сволочи? Самые разнастоящие сволочи! Она, баба, целый час моталась за конем по жаре, по песку, и хоть бы один из них пошевелился. Расселись по стене туесами да знай ржут, скалят зубы – весело!
Петр Житов закричал:
– Лукашина! – Знает, когда как называть. – Остановись! Дай тормоза…
Не остановилась. И не оглянулась даже.
Всю жизнь она за людей своих горой стояла. С начальством из-за них всегда лаялась, мужа постоянно пилит из-за них: «Иван, полегче! Иван, дай людям жить!» А они-то сами дают Ивану жить?
Нет, худо еще давит вас Иван. Худо. Нынешний мужик без погоняла палец о палец не ударит. А как же председателю-то быть? Председатель-то не может, как они, плюнуть да махнуть на все рукой.
Хмель совсем вышел из головы. Она заторопилась, побежала домой. Где Родька? Как Иван уедет без нее?
Глава девятая
За Пекашином, как только спустишься с красной глиняной горы да переедешь Синельгу, начинаются мызы и поскотина.
Поскотина – еловая сырь, заболоть с проклятой ольхой да кочкарником, где все лето изнывает комар, – справа, вдоль Пинеги. А мызы – по левую руку, на мохнатых лесистых угорах.
Мыз в Пекашине десятки – они тянутся чуть ли не на пять верст, вплоть до Копанца, и у каждой мызы свое название: по хозяину, по местности, по преданию – поди-ко запомни все.
Местному жителю легче. Местный житель с детства незаметно для себя постигает эту лесную грамоту. А каково приезжему? Как запомнить названия навин – там на сотни счет? Как разобраться с покосами? Синельга Верхняя, Синельга Нижняя, Сотюга, Вырда, Нырза, Марьюша… Одиннадцать речек! И по каждой речке пожни: иссады, бережины, мысы, наволоки, чищанины, ламы… – сам черт ногу сломит.
Лукашин за пять лет овладел этой лесной грамотой вполне. Он знал почти все названия на очень сложной и путаной пекашинской карте. И вздумай, к примеру, сейчас Подрезов устроить ему экзамен, он бы запросто перечислил и самые мызы, мимо которых они проезжали, и те предания, которые у пекашинцев связаны с ними.
Но Подрезов молчал. Сидел в седле, покачивал своей крупной головой в такт поступи коня и изредка посматривал по сторонам – то на Пинегу, серебряно вспыхивающую справа в просветах между елей, то на угоры, щедро расшитые красными узорами поспевающей брусники.
Мальчик – а Лукашин уступил ему своего коня – был уже в испарине. Нелегко, видно, привыкать к новому седоку. Да Подрезов по сравнению с ним и грузен был. Жиру лишнего вроде нету, а увесистый – то и дело всхрапывает конь от натуги.
Заговорил Подрезов, когда поравнялись с высоким старым пнем, на который гордо, как петух, вылез ярко-оранжевый, в белую крапину мухомор.
– Грибов много наносил?
– Раза два ходил с женой.
– А я ни разу. Не ел в этом году лесовины от своих рук.
За Согрой, узеньким, но беспокойным ручьем, стало светло и весело: пошли легкие, лопочущие осинники по угорам, березовые рощицы с зелеными лужайками справа, за дорогой. Лошади сами, без всякого понукания перешли на рысь.
Стали попадаться кое-где пустоши – заброшенные поля.
Дико: в войну бабы да ребятишки распахивали эти поля, а после войны забросили. И так было не в одной только «Новой жизни». Так было и в других колхозах. Председателей мылили, песочили, отдавали под суд – ничего не помогало: пустошей становилось больше год от году.
Копанец начался полевыми воротами с засекой, или, по-местному, осеком, который отгораживает его от поскотины.
Но была у Копанца сейчас и еще одна примета – грохот жатки, который Лукашин услыхал за километр, а может, и за два.
– Ты езжай, Евдоким Поликарпович, я догоню. Мне к Пряслину надо заглянуть.
– К Михаилу? Это он наяривает? – Подрезов указал на рослый березняк, из-за которого доносился шум.
– Он.
– Валяй. Я тоже гляну.
Росстань[18] на Копанец – торная, широкая, но только до Михейкиной избы, вернее, до старого пепелища, до груды камней и чащобы крапивника, где стояла когда-то изба.
Михей Харин, хозяин этой избы, первый из пекашинцев раскопал поля на Копанце и лет за пять стал самым богатым человеком в деревне – вот какая тут земля. Черная, жирная, без навоза родит.
Зато уж попадать на этот Копанец с машиной – всю матушку со всей России соберешь, как говорят в Пекашине. И небольшая бы канава, в засушливое лето даже не напьешься, да грунт тут такой, что не только лошадь – человека не держит.
В первые годы после войны пекашинцы каждый год строили мост, а потом отступились. Потому что вороватые водяне (они тут рядом, за рекой) все, что ни построй, разберут и увезут на дрова.
И вот единственный выход – крепкий мужик.
У Михаила Пряслина на берегах Копанца произошла целая битва: кустарник, жерди, кряжи, наваленные в канаву, измочалены до белого мяса.
Лукашин и Подрезов спешились у канавы, привязали к кустам лошадей и пошли пешком на треск и грохот жатки, которая как раз в это время появилась на закрайке поля, возле канавы.
Михаил спокойно, даже равнодушно смотрел на выходившего из кустов Лукашина, но, когда увидел сзади него Подрезова, мигом вытянул шею, привстал, а потом бух-бух – напрямик через несжатый ячмень навстречу.
Сперва поздоровался с ним, с Лукашиным, но бегло, на ходу и без всякой радости, зато уж с Подрезовым – снимай кино: руки вытер о штаны, рот до ушей и куда девалась всегдашняя хмурь!
Лукашин понимал: кому не лестно – первый секретарь райкома на поле к тебе пожаловал! Рассказов и воспоминаний хватит на год. Но было обидно. Он вчера специально гонял на Копанец Чугаретти – отвезти табак Михаилу, и даже пачку «Звездочки» накинул, от себя урвал, а Михаил даже спасибо не сказал.
– Ты совсем как отец стал. Понял? – сказал Подрезов. – Только у того волос посветлее был. А насчет этого ящика, – Подрезов крепко кулаком стукнул парня по смуглой, мокрой от пота груди, внушительно проглядывавшей из расстегнутого ворота старой солдатской гимнастерки, так что звон пошел, – а насчет этого ящика ты, пожалуй, даже перещеголял отца.
Михаил заулыбался, закрутил запотевшей на солнце головой.
– Учти, председатель, такого богатыря в других колхозах у нас нема.
Подрезов сказал это не без умысла, он любил и умел похвалить нужного человека. Молодежь в колхозах после войны не держалась, а если и попадались где изредка парни, то их не скоро и от подростков отличишь: худосочные, мелкорослые, беззубые – одним словом, военное поколение.
Михаил Пряслин тоже был с военными отметинами. Лоб в морщинах-поперечинах – поле распаханное, не лоб. Карий глаз угрюмый, неулыбчивый – видал виды… Но все это замечаешь, когда хорошенько всмотришься. А так – залюбуешься: дерево ходячее! И сила – жуть. Весной на выгрузке по два мешка муки таскал, а один раз, на похвал, – Лукашин сам видел – даже три поднял.
Подбодрив Михаила словом, Подрезов пошел к жатке, чтобы самому сделать круг. Это уж обязательно, это его правило: не только перекинуться словом с рабочим человеком, но и залезть в его, так сказать, рабочую шкуру. Хотя бы на несколько минут. Тем более что Подрезов все умел сам делать: пахать, сеять, косить, молотить, рубить лес, орудовать багром, строить дома, ходить на медведя, закидывать невод. И надо сказать, людей это завораживало. Лучше всякой агитации действовало.
Так было и сейчас.
Объехав два раза поле, Подрезов остановил лошадей возле Лукашина и Михаила, слез с жатки, растер руки – надергало с непривычки вожжами.
– Ничего колымага идет, – сказал он, кивая на жатку. – Сколько даешь?
– В день? – спросил Михаил. – Гектара три.
– Мало, – сказал Подрезов. – Четыре можно.
– Ну да, четыре, – недовольно фыркнул Михаил и заговорил с секретарем как равный с равным: – Больно жирно! Сколько тут одних переездов, поломок!..
Подрезов и не подумал обижаться. Когда речь заходила о работе, он не чинился. Наоборот, любил, чтобы с ним спорили, возражали, доказывали свою правоту.
– Ты знаешь, на чем проигрываешь? Круги маленькие делаешь. Заворотов много.
– Ерунда! Как большие-то круги делать, когда тут кругом межи да пни?
– А вот это уж председателя надо за штаны брать. Долго ваши пни выкорчевать? Видимость одна. Когда тут расчистки делали? Лет тридцать – сорок?
Лукашин мог на это возразить: до корчевки ли теперь здесь, на Копанце, когда у них рядом, под боком, зарастают кустарником поля? Но Подрезов уже пошагал к шалашу.
Шалаш стоял на открытой веселой поляне, под пушистой елью, густо осыпанной розовой, налитой смолой шишкой. Крыша двойная: и собственное перекрытие, и сверху еще навес из еловых лап. Никакой дождь не страшен.
Отмахиваясь от комарья, Подрезов заглянул в шалаш, выстланный свежим сеном.
– Тут ночуешь?
– Иной раз тут, – ответил Михаил. – Коней-то не все равно за пять верст гонять.
Подрезов кивнул на Тузика, не спускавшего с него глаз, – казалось, и тот разбирался, кто тут главный.
– Ну, с таким зверюгой не страшно. У тебя все в порядке? – И сразу же предупредил: – Насчет фуража не говори. Мне и Анфиса всю плешь переела. Да и вообще сам знаешь: пока первую заповедь не выполним, никакой речи быть не может.
Михаил, казалось, проникся государственной озабоченностью хозяина района, по крайней мере, принял его слова как должное.
– Ну так что же? Есть ко мне вопросы? – повторил Подрезов.
Михаил поглядел на Тузика, зажавшего меж лап берестяное корытце, из которого его кормили, покусал губы: что бы такое спросить, чтобы и Подрезова не поставить в неловкое положение и чтобы в то же время было важно для него, Михаила?
Вспомнил!
– Да, вот что, Евдоким Поликарпович! У меня тут сопленосые – братишки, значит, натворили… Помните, еще в училище ремесленное помогали мне их устраивать?
– Помню. Как же!
– Ну дак не знаю, что теперь с ними. Тут недавно домой прибежали. Вишь, по этому шпингалету соскучились… – Михаил кивнул на Тузика. – Не видали, без них завел. Ну, я, конечно, дал им задний ход, сразу отправил. А вот письма нету больше недели. Может, уже отчислили?
– Ладно, вернусь с Сотюги – позвоню в обком. Там поговорят с кем надо. Думаю, все будет в порядке. – И Подрезов крепко, по-бульдожьи сомкнул челюсти, словно зарубку у себя в голове сделал.
Михаил до самой канавы провожал их.
Уже выехав на дорогу, Лукашин оглянулся назад. Михаил все еще стоял на берегу Копанца, высокий, широкоплечий, с ног до головы вызолоченный мягким августовским солнцем, и улыбался.
Самый красивый бор, какой знал Лукашин на Пинеге, это Красный бор. Между Копанцем и Сотюгой.
Лес – загляденье: сосняк да лиственница. Это со стороны Пинеги. А на север от дороги, там, где посырее, – ельник, пекашинский кормилец.
Всего полно в этом ельнике. В урожайные годы грибов да ягод – лопатой греби. В прошлом году, например, Лукашин с Анфисой на каких-нибудь пять-шесть часов выезжали, а привезли домой ушат солех, ушат брусники да корзину обабков[19].
Само собой, была на этом бору и дичь. Осенью, когда по первому морозцу едешь, то и дело вспархивают стайки пугливых рябчиков, а иногда, случается, и самого батюшку глухаря поднимешь – просто пушечный выстрел раскатится по гулкому лесу.
Но самое удивительное, самое незабываемое, что видел на этом бору Лукашин, – олени.
Было это два года назад. Он возвращался домой с Сотюги, с покосов, рано утром, когда только-только поднималось над лесом солнце. Спал он в ту ночь мало, от силы часа три, и ехал шагом, дремля в седле. И вдруг какой-то шорох и треск в стороне от дороги.
Он поднял отяжелевшую ото сна голову, и у него перехватило дух – алые олени. Летят во весь мах к нему по белой поляне и солнце, само солнце несут на своих ветвистых рогах…
Олени эти оказались вещими. Дома, когда он подъехал к крыльцу, его встретила Анфиса неслыханной радостью: у них будет ребенок.
До войны такие боры, как Красный, шумели по всей Пинеге. А война и послевоенная разруха смерчем, ветровалом прошлись по ним. Стране позарез нужен лес, план год от году больше, ну и что делать? Как не залезть с топором в приречные боры, когда и древесина тут отборная и вывозка – прямо катай в реку?
Выжить Красноборью в эти тяжкие времена, как это ни странно, помогла его бесхозность и ничейность. Дело в том, что на Красный бор издавна претендовали две деревни – Пекашино и Водяны. Одно время, чуть ли не сразу после революции, бор принадлежал водянам – деревня их тут рядом, за рекой. Потом Красноборьем снова сумели завладеть пекашинцы. Да не просто завладеть, а на этот раз закрепить свои права в государственном акте о колхозных землях.
«Не согласны!» – сказали несговорчивые водяне и, не долго думая, послали бумагу прямо в Москву.
И вот это-то бесхозное положение Красного бора и отводило от него до сих пор топор. Иной раз, кажется, уже все – капут красноборскому сосняку, а потом вдруг вспомнят про бумагу, которая где-то по Москве гуляет, – и ладно, давай поищем что-нибудь другое.
У Лукашина улыбка заиграла, как только они въехали в бор: сразу два белых гриба. Красавцы такие в беломошнике возле самой дороги стоят, что хоть с лошади слезай.
– Надо будет на обратном пути прочесать немножко этот лес, – кивнул он Подрезову.
Подрезов не ответил. Его тяжелое, массивное лицо, еще недавно такое живое и веселое, сейчас было хмуро и мрачно, как озеро, на которое вдруг налетел сиверко.
Что ж, подумал Лукашин, Сотюжский леспромхоз (а он был не за горами) – это и есть для первого секретаря сиверко. План по лесозаготовкам не выполняется второй год, рабочая сила не задерживается, строительство железной дороги – сам черт не поймет, что там делается… А кто в ответе за все? Первый секретарь.
Когда за рекой на угоре засверкали белые крыши новых построек сотюжского поселка, Подрезов, не оборачиваясь (он ехал впереди), направил своего коня к перевозу, и в этом, конечно, ничего особенного не было: как же хозяину не заскочить на такой объект? Ведь и он, Лукашин, не проехал мимо Копанца. Но почему не сказать, не предупредить его, как это водится между товарищами? В конце-то концов не на бюро же райкома они! И Лукашин, сразу весь внутренне ощетинившись, съязвил:
– Показательные работы здесь тоже будут?
Подрезов покачал головой:
– Нет, показательных работ здесь не будет. – Потом помолчал и со свойственной ему прямотой признался: – В этом-то вся и штука, что я не могу здесь показательные работы развернуть. Там, где бензин, я пасую. Я только в тех машинах разбираюсь, которые от копыта заводятся. Понял?
Они переехали вброд за Сотюгу, медленно поднялись в гору.
Бывало, когда тут заправлял еще Кузьма Кузьмич, у самой речки встречали самого – каким-то нюхом угадывали приезд. А сейчас директор леспромхоза вышел к ним только тогда, когда они подъехали к конторе и слезли с лошадей.
Вышел молодой, самоуверенный, светловолосый, и никакого заискиванья, никакой суеты. Лукашин оказался к нему ближе, чем Подрезов, и что же – обошел его, к первому секретарю кинулся? Ничего подобного! Сперва его руку тиснул, а потом уже протянул хозяину.
Инженер Зарудный сейчас был самым популярным человеком в районе. О нем говорили повсюду – на лесопунктах, в райцентре, в колхозах. Во-первых, должность. Шутка сказать – директор первого механизированного леспромхоза в районе, предприятия, с которым связано будущее всей Пинеги. А во-вторых, он и сам по себе был камешек, из которого искры сыплются.
Три директора было на Сотюге до Зарудного, и все три ходили навытяжку перед Подрезовым. А этот, сосунок по годам, два года как институт окончил – и сразу зубы свои показал.
Вызвал его однажды Подрезов к себе на доклад да возьми и уйди на заседание райисполкома. И вот Зарудный посидел каких-то полчаса-час в приемной, а потом вырвал листок из блокнота, написал: «Товарищ первый секретарь! У меня, между прочим, тоже государственная работа. А потому прошу в следующий раз назначать время точно».
Записку передал помощнику Подрезова, а сам, ни слова не говоря, обратно. На Сотюгу.
Конечно, выкинь такой номер кто-нибудь другой, из своих, местных, Подрезов устроил бы ему сладкую жизнь. Но что сделаешь с человеком, которого прислали из треста? Прислали специально для того, чтобы поставить на ноги Сотюжский леспромхоз.
– Ну как ты, со мной пойдешь или к своим заглянешь? – спросил Подрезов Лукашина.
Судя по тону, Подрезову явно не хотелось, чтобы он присутствовал при его разговоре с директором леспромхоза.
И Лукашин сказал:
– Пожалуй, к своим.
– Добре. Тогда в твоем распоряжении полтора часа.
Лукашин не был в поселке на Сотюге больше года и теперь, идя по нему с лошадью в поводу, просто не узнавал его. Развороченный муравейник! Все разрыто, везде возводятся новые дома, ремонтируются и отстраиваются старые. Стук и грохот топоров, десятков четырех, не меньше (не то что в Пекашине!), заглушал даже звон молотков и наковален в кузнице, а она стояла сразу за поселком, возле ям с водой, из которых когда-то брали глину.
Илья Нетесов выбежал из кузницы, когда Лукашин еще и людей-то в ее багряных недрах как следует не разглядел. Выбежал в парусиновом, до блеска залощенном фартуке – и с ходу обнимать.
Раньше Илья жил неподалеку от кузницы в просторном брусчатом домике, а сейчас привел его в какую-то живопырку, где размещалась не то кладовка, не то сушилка.
Тесень была страшная, и, наверно, поэтому ребята – два диковатых черноглазых мальчика и девочка – кувыркались на широкой железной кровати, которая занимала почти всю комнату.
Лукашин полюбопытствовал:
– За какие это грехи ты в немилость попал?
Илья заморгал своими добрыми голубоватыми глазами – не расслышал.
– За что, говорю, тебя в такую каталажку закатали?
– А-а, нет, не закатали. Это у нас уплотнение теперь по всем линиям. Я-то еще хорошо. А есть по две, по три семьи вместях. Сам директор в конторе живет.
– Да ну?!
– Так, так. Видишь, навербовали людей отовсюду – с Белоруссии, с Украины, со Смоленщины, а жилья не подготовили. Сам знаешь, много ли у нас бараков. Тесень, тесень… В бане уж которую неделю не моемся – и там люди живут. А многие в соседних деревнях приютились – мотаются взад-вперед. Не продумали. С самого начала леспромхоз на живу нитку тачали…
– А почему? – Лукашину давно хотелось хоть немного разобраться в сотюжских делах, о которых теперь даже в областной газете пишут.
– А потому, перво-наперво, – начал с обычной своей рассудительностью объяснять Илья, – что леспромхоз затеяли, а леса вокруг вырублены. Значит, выход какой – железная дорога. А она у нас еще на десятой версте…
– Ну а как новый директор?
– Евгений-то Васильевич?
Илья и тут подумал – не из тех, кто попусту сорит словами.
– Характеристику со всех сторон не дам, меньше году человек работает. Да и часто ли его я вижу из своей кузницы? Ну а против прежних директоров – чего говорить? Голова. Все знает, во всем разбирается. Трактор, к примеру, поломался – механики копаются-копаются, все ничего, покуда директор сам не возьмется. Ну и об людях заботу имеет. Мы тут до него месяцами зарплату не получали, банк все какие-то тормоза ставил как предприятие, не выполнивши план, а Евгений Васильевич живо порядок навел. И в столовой с кормежкой получше стало…
С улицы донеслось тревожное ржанье и перебор копыт. Лукашин высунулся из открытого окошка, погрозил неуемным бесенятам Ильи, которые конечно же вились вокруг Тучи, привязанной к сосне.
– А я про самовар-то и забыл, – спохватился вдруг Илья, но Лукашин наотрез отказался от чая и снова стал пытать Илью про сотюжское житье-бытье.
– А я думаю, ежели Евгений Васильевич по молодости не сорвется да кое-кто не обломает ему рога, дело будет.
Лукашин вопросительно скосил глаз:
– А кто ему может обломать рога? Подрезов? Да, скучать нам, кажется, не придется. Ну а сам-то ты как, Илья Максимович? Не раздумал насчет переезда?
– Нет, решено – на зиму домой. В думках-то хотел еще к уборочной, да, вишь, Зарудный, Евгений Васильевич, стал упрашивать: постучи, говорит, еще недельки две в кузнице…
Лукашин, кажется, впервые за все время, что сидел у Ильи, вздохнул полной грудью. Его всегда занимали сотюжские дела, он с неподдельным интересом расспрашивал Илью про молодого директора, но если говорить начистоту, то затаенная мысль его все время, пока они разговаривали, вертелась вокруг самого Ильи: не передумал ли? Вернется ли в Пекашино? И дело было не только в том, что Илья – кузнец каких поискать. У Лукашина во всем Пекашине не было человека ближе его. Первая опора во всяком деле. Уж на него-то можно положиться. Не за Петром Житовым пойдет – за ним.
Все же Лукашин решил прямо и честно предупредить Илью:
– Не знаю, Илья Максимович, может, тебе и не стоит спешить. Леспромхоз против колхоза – сам знаешь…
Илья ничего не ответил. Он только тяжело вздохнул и посмотрел в красный угол, туда, где у верующих висят иконы. У него там висела увеличенная фотография покойной дочери. Под стеклом, в еловом веночке, перевитом красной лентой.
Лукашин обвел глазами другие стены.
– Нету Марьиной карточки, – сказал Илья. – Всю жизнь прожила, а так ни разу и не снялась…
Да, подумал Лукашин, вот она, жизнь человеческая. Будет, будет сытно в Пекашине, обязательно будет, может, рай даже будет. А только будет ли счастлив в этом раю Илья Нетесов? Без Вали, без жены…
– Ну, ладно, Илья Максимович, завтра к вечеру буду в Пекашине, зайду к твоим на могилы. Что передать?
Илья опять ничего не ответил.
Глава десятая
Веселая, речистая река Сотюга.
Ясным страдным вечером едешь – заслушаешься: на все лады поют, заливаются пороги. А сегодня сколько километров отмахали – и полная немота. Захлебнулись пороги. Начисто. Как в половодье.
– Может, повернем обратно? – сказал Лукашин. – Какая уж рыбалка в такую воду…
Подрезов вместо ответа огрел коня плеткой.
Они гнали вовсю. До Рогова, старых лесных бараков, где их ждала лодка и сетки, оставалось еще километров восемь, а солнце уже садилось – красной стеной возвышался на той стороне ельник.
– Поедем мысами, – предложил Подрезов, когда впереди на голой щелье замаячила сенная избушка. То есть той дорогой, которой в страду ездят косари, – вдвое ближе.
Лукашин махнул рукой: согласен. Правда, ехать мысами – значит, раз десять пропахивать вброд Сотюгу, но что делать? Ведь если они и смогут добраться до Рогова засветло (а в темноте там и лодки не найти), то только этим путем.
Первый брод – под Еськиной избой – проскочили легко, только воду взбурлили, за второй тоже не плавали, а под Лысой горой едва не утонули. И все, конечно, из-за упрямства Подрезова.
Лукашин ему доказывал: выше брод, у черемушника, там, где две колеи сползают в речку, а Подрезов – нет и нет, везде под Лысой горой брод.
Коня вздыбил, на стремена привстал – Чапай да и только, – а через минуту пошел пускать пузыри, в самую яму втяпался.
– Ноги, ноги высвобождай! – заорал что есть силы Лукашин и, ни секунды не раздумывая, кинулся на помощь.
Деликатничать было некогда – он схватил первого секретаря за шиворот и просто стащил с коня.
После этого Мальчик быстро выбрался из ямы, а кобыле Лукашина пришлось туго: двух человек вытаскивала одна.
О том, чтобы ехать дальше, не могло быть и речи: вымокли до нитки, и надо было немедля разводить костер.
На их счастье, дрова разыскивать не пришлось: березовый сушняк белым частоколом стоял в покати[20] холма, напротив брода. А вот насчет огня хоть караул кричи. Спички у обоих превратились в кашу, изба сенная, где наверняка последними ночлежниками по обычаю Севера оставлен коробок со спичками, за рекой.
Снова стали перебирать и выворачивать карманы, и вот повезло – у Подрезова в пиджаке оказалась светленькая зажигалка: давеча, когда ехал в Пекашино, взял у шофера из любопытства – новая, – да и сунул по рассеянности к себе в карман.
Руки у обоих ходили ходуном, стучали зубы – от сырости, от вечернего холода, а еще больше от страха: а вдруг и зажигалка подведет.
Нет, есть, есть Бог на свете: проклюнулся огонек. С первого щелчка.
Подрезов прямо в руки Лукашина – он пытал счастье – начал совать берестяные ленточки, и скоро забушевал огонь.
Первым делом они просушили одежду – наверно, целый час два голых мужика скакали вокруг жаркого костра в алом березовом сушняке, – потом принялись за обогрев изнутри. Крутым пуншем – полкружки горячего, с огня, чая и полкружки водки.
Подрезов мало-помалу стал приходить в себя. Еще недавно белое, как береста, лицо его раскалилось докрасна. Громовые раскаты появились в голосе.
– Жалко, что здесь застряли, – сказал он. – А то бы мы сегодня с рыбой были.
– А по-моему, нечего жалеть, – возразил Лукашин. – Кто по такой воде за рыбой ездит?
– Вот именно что по такой. Курью под Роговом знаешь? Старое речище? Ну дак в такую воду, как нынешняя, рыба просто лезом лезет в эту курью. На зеленку. Ты только сетью горло перегороди – и вся с тебя забота.
В вечернем тумане на мысу задорно и чисто вызванивал подзвонок, который Лукашин перед выездом из поселка повязал своей кобыле, урчала и причмокивала вода в Сотюге, потом вдруг над их головой со свистом разорвался воздух похоже, утиная стая пронеслась мимо.
Лукашин с живостью поднял голову, посмотрел на розовый от костра круг в черном небе, а Подрезов не пошевелился. Сидел грузно на коряге, помешивал палкой в огне: должно быть, все еще не мог примириться с постигшей их неудачей.
Лукашин дососал подсушенную на огне папироску, встал. Ночь предстояла длинная, холодная, и надо было сходить за сеном: рискованно в такое время на голой земле лежать.
Стог был поблизости, за кустарником справа (тут, на Сотюге, Лукашин был как у себя дома), и он быстро обернулся.
Подрезов все так же сидел, склонившись над огнем, но без рубахи, точь-в-точь как солдат на фронте, когда того донимала шестиногая скотинка.
Лукашин пошутил, бросая на землю охапку сена:
– У нас сегодня по всем линиям война…
– Тебе весело, да? А у меня по всему телу красные пятна. – Подрезов вдруг смутился и начал натягивать на себя рубаху. – Иной раз бюро, пленум, надо мозгами ворочать, а я как в огне. Мне кричать, драться хочется, все крушить к чертовой матери…
– А медицина что?
– Медицина… Медицина, известно: надо солнце, надо морские купанья, спокойную жизнь… В позапрошлом году я был на курорте – год человеком жил, а нынче разве выберешься…
Над костром огромным снопом взметнулись искры – это Подрезов сгоряча бросил в огонь целый березовый кряж.
После молчания он вдруг сказал:
– А в общем-то, я обманщик… Права твоя Анфиса…
– Чего права? Это ты все насчет того давешнего разговора? Брось! Мало ли чего наскажет пьяная баба…
– Нет, – покачал головой Подрезов, – правильно она сказала. Накормить людей досыта – это всем задачам задача. Посмотри ведь, что у нас делается. Подрезов начал загибать пальцы. – Сорок первый, сорок второй, сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый… Четыре года войны… да шесть после войны… Итого десять лет. Десять лет у людей на уме один кусок хлеба…
Лукашину теперь понятно стало, почему так мрачен сегодня первый секретарь. Не только, оказывается, из-за Сотюжского леспромхоза, который камнем висит у него на шее, но и из-за того разговора, который у них был перед поездкой на Сотюгу.
Он подбросил сена Подрезову – садись по-человечески! – сказал:
– Так будем хозяйничать, еще десять лет не накормим.
– А ты, между прочим, тоже хозяин. Почему плохо хозяйничаешь?
– Я хозяин? Ну-ну! Видал ты такого хозяина, который за одиннадцать копеек валенки продает, а они ему, эти валенки, обошлись в рубль двадцать? А у меня молоко забирают – так за одиннадцать копеек, а мне оно стоит все два рубля.
– А кто у тебя забирает-то? Государство?
– Ты меня на слове не имай! – Лукашин рывком вскинул голову. – Ну и государство. А что? Ленин после той, Гражданской, войны как сказал? Надо, говорит, правильные отношения с деревней установить, не забирать у крестьянина все подряд…
– После Гражданской войны, между прочим, был нэп[21], – отрезал Подрезов. – Может ты и нэп прикажешь ввести?
– Так, – сказал сквозь зубы Подрезов. – Еще что?
– А уж не знаю что, – отрезал Лукашин. – Только по-старому нельзя. К примеру, меня взять… хозяина… – Лукашин натянуто усмехнулся. – Я ведь только и знаю что кнутом размахиваю. Потому что, кроме кнута да глотки, у меня ничего нет. А надо бы овсецом, овсецом лошадку подгонять…
– Да так-то оно так, – промычал неопределенно Подрезов и поглядел по сторонам.
И Лукашин поглядел. Жутковато было – непривычные речи говорили они. А с другой стороны, думал Лукашин, кого бояться? Ночного ельника, лошадей, которые то и дело пучили на них из розового тумана свой огромный лошадиный глаз, костра?
Костер пылал жарко. Он заражал своей яростью. А потом, полезно, черт побери, первому секретарю знать, о чем думает народ. В Пекашине уж который год про это говорят. И тут хочешь не хочешь, а закрутишь шариками, полезешь в красные книжки сверять сегодняшнюю жизнь с Лениным…
– На брюхе плохая экономия, – сказал Лукашин. – Да и какой, к дьяволу, голодный – работник! У нас, бывало, в деревне Иван Кропотов… Кулак… Но в экономике толк понимал, будь здоров! Так он что говорил своей женке, когда утром вставал? Скупая, жадная была баба! «Корми работников досыта». Это у него первый наказ с утра был. Потому как понимал: сытый работник горы своротит, а от голодного один убыток…
– Все правильно, – сказал Подрезов, – но ты не забывай, что у нас война была.
– Ну, войну не забудешь, даже если бы захотел. Об этом, по-моему, нечего беспокоиться.
Лошади подошли к самому огню.
Лукашин схватил какую-то хворостину, замахнулся на них.
– Медведя, наверно, чуют, – сказал Подрезов. – Тут, на Сотюге, их полно, а теперь темные ночи пошли – самое им раздолье. А я, знаешь, первого медведя когда убил? В двенадцать лет. Вернее, не я убил, а дедко меня капкан взял смотреть…
На севере любят рассказывать всякие были и небывальщины про медведей, и Лукашин любил их слушать, но сейчас он не поддержал Подрезова. Сейчас ему было не до медведей. У него все так и ходило, и кипело внутри. Шутка сказать, такой разговор завели!
Они долго молчали, оба уставившись глазами в костер.
Наконец Подрезов сказал:
– М-да-а… Разговорчики у нас… Ели и те, наверно, головой качают…[22] – Потом встал, секретарским голосом подвел черту: – Ладно, хватит ели да березы пугать. Давай лучше еще по кружечке чайку дернем – и спать, раз уж мы здесь застряли.
Утром встали на рассвете.
Туман. Костерик чадит еле-еле. Лошадиные морды устало смотрят на них из тумана – должно быть, и в самом деле где-то поблизости разгуливал ночью медведь.
Сходили на речку, сполоснули лицо, навесили чайник.
Все время молчавший Подрезов заговорил после выпитой кружки чая:
– Есть предложенье заняться делом, а свиданье с рыбой отложить до следующего раза. Не возражаешь?
– Нет, – сказал Лукашин.
– Тогда я поеду в леспромхоз. Этому молокососу пора дать по рукам.
– Кому? Зарудному?
Подрезов вместо ответа спросил:
– А ты что намерен делать?
– Мне на Синельгу надо. К сеноставам.
– Добре. – Подрезов помолчал немного, посмотрел на Сотюгу, где в белесой толще тумана всходило багряное солнце. – А на то, что говорили ночью, наплевать. Понятно? А то с этой мутью в голове далеко не уедешь…
Тут он первый раз за утро взглянул прямо в глаза Лукашину. Потом покусал-покусал губы и начал топтать мокрыми сапогами костерик, который и без того дышал на ладан. Мало этого. Будь его воля, он наверняка бы и ели, и березовый сушняк, свидетелей ихнего ночного разговора, растоптал. Во всяком случае, так подумалось Лукашину, когда он увидел, как Подрезов, тяжело, со свистом дыша, своим разгневанным оком водит по сторонам.
Он уехал не попрощавшись. В утренней росяной тиши гулко рассыпалась дробь лошадиных копыт, а Лукашин, опустив голову, еще долго смотрел на чадившие у его ног головешки – остатки ночного костра.
Глава одиннадцатая
Тузик извел его за эти дни – с раннего утра до позднего вечера надрывается в кустарнике, в озеринах.
Поначалу Михаила это забавляло и даже радовало: хорошая собака будет, а он, Михаил, с детства мечтал об охоте…
Однако вскоре это безмерное усердие щенка встало ему поперек горла. Никакой работы! Только сядешь на жатку, только приладишься, лошадей направишь – слезай. Тузик залаял. И бесполезно звать, подавать свист: до тех пор будет глотку драть – все равно на кого: на ворону, на корову, случайно забредшую на Копанец, на лося, вышедшего на водопой, – пока хозяин не подойдет.
Вот и сегодня раз пять Михаил шлепал к дуралею, делал внушения – не помогло: опять принялся за свое.
– Тузко, Тузко, ко мне!
Лай в ольшанике, там, где были остатки старых переходов за канаву, не смолк. Наоборот, он разгорелся еще пуще.
Михаил, зверея, соскочил с жатки, на ходу выломал здоровенную черемуховую вицу – ну, задам я тебе сейчас, гаденыш! А когда подошел совсем близко, вдруг почувствовал себя охотником. Пригнулся, ногу на носок, а потом и того больше: затаил дыхание, осторожно раздвинул кусты, скользнул прищуренным глазом по прыгающему внизу черно-белому клоку шерсти, зыркнул туда-сюда и едва не расхохотался: Райка.
Стоит на той стороне у переходов, смотрит как завороженная на скачущую у своих ног собачонку и ни с места.
– Рай, какими судьбами? А ну, брысь ты, окаянный! Перейдешь сама?
Раечка в один миг перемахнула к нему, вспыхнуло на солнце красное, в белую полоску платье. И духами вокруг запахло. Это уж завсегда. Бывало, зимой встретишь – вкусно, будто первым июльским сенцом тебя опахнет.
Михаил заглянул в берестяную коробку на ее полной загорелой руке – ни одного гриба, посмотрел на босые ноги – так не приходят на поле снопы вязать.
Раечка сама объяснила причину своего внезапного появления в его лесном царстве:
– Пестроху ищу… Где-то корова у нас запропала…
– А-а, то-то же! – улыбнулся Михаил. – А я уж было подумал, не рыжики ли солить пришла? – На местном языке это означало целоваться.
Он был доволен собой: ловко сострил.
– Ну что – в гости ко мне пойдем, так?
Тузик первый построчил к шалашу, а Михаил за ним. И вот пока одолел пеструю, в белой ромашке полянку, спустил с себя семь потов. И не от жары, нет. А оттого, что какая-то муха укусила его – начал для Раечки торить дорогу. Шел и старательно уминал своими тяжелыми кирзовыми сапогами траву на тропинке, как будто и в самом деле не деревенская девка к нему в гости идет, а какое-то неземное, сказочное диво.
Чайник с водой стоял у него в холодке за шалашом, под ватником, и он осушил его наполовину – до того у него вдруг пересохло в горле.
– Не хошь? – предложил своей гостье.
Раечка покачала головой.
– Верно. Вода не вино – много не напьешь… А Пестроха-то у вас когда потерялась? Такая смирная корова…
– Вчерась…
– А отец тоже ищет?
– Ищет…
– А у пастухов-то спрашивали?
– Спрашивали…
– И поля перед Копанцем обшарили? Там коровы любят шлендрать…
Тьфу! – вдруг выругался про себя Михаил. Он старается, старается, с той стороны зайдет, с другой, а она все «да» да «нет». Уж ежели не о чем говорить, то хотя бы рассказала, что в деревне делается. Он два дня не выезжал с Копанца.
Нащупав рукой пачку «Звездочки» в кармане, он вытащил папиросу, сел в тень возле шалаша, стал разминать ее пальцами.
– Садись. Я еще не медведь – не ем заживо.
Раечка не села – только с ноги на ногу переступила.
Он скошенным взглядом обежал ее полные красивые ноги с налипшими мокрыми травинками, воровато, ящерицей юркнул под подол.
Захмелевшее воображение живо дорисовало то, что скрывал от глаза ярко-красный ситец, но он владел собою. До тех пор владел, покуда не напоролся взглядом на крутые, торчмя торчавшие груди. А тут обвал произошел, все запруды и плотины лопнули в нем, и он с быстротой зверя вскочил на ноги.
Раечка не сопротивлялась, и даже когда он опрокинул ее на землю, не стала отпихивать его – только отворачивала от него лицо, как будто и в самом деле что-то решал сейчас поцелуй.
Он выпустил ее из рук – какого дьявола обнимать мертвую колоду! И к тому же запрыгал и забесился Тузик – нашел время свое усердие хозяину выказывать.
– Вставай! – зло прохрипел Михаил. – Я еще в жизни никого нахрапом не брал.
Раечка встала, пошла, как большая побитая собака. Даже не отряхнулась и ворот платья не застегнула.
– Коробку-то забыла!
Раечка обернулась, слезы светлыми ручьями катились по ее побледневшим щекам – только этого и не хватало, – потом вдруг схватилась руками за голову и побежала. По той самой тропинке, которую он еще каких-нибудь полчаса назад старательно мял для нее.
Тузик с лаем бросился за ней.
– Тузко, Тузко, не смей!
Тузик нехотя повернул назад, а он смотрел-смотрел на большое мотающееся тело на тропинке, на алую ленту в темно-русых волосах и вдруг все понял: да ведь это для него, болвана, надела она и праздничное красивое платье и вплела алую ленту в волосы – кто же в таком наряде ищет корову в лесу!
– Рай, Рай, постой!
Он догнал ее уже у переходов, крепко обнял и тотчас же почувствовал увесистую пощечину.
– Рай, Рай…
А может, и в самом деле это его рай? – пришло ему в голову. Чем худа девка!
– Рай, Рай… – Он с радостью, с каким-то неведомым раньше наслаждением называл ее так. – Потерпи немножко. Вот развяжемся малость с полями, и я к тебе по всем правилам… Со сватами… Хочешь?
– Но, но! Давай, давай! Пошевеливайся!
Ликующий голос Михаила звучно, как весенний гром, раскатывался по вечернему лесу. Лошади бежали – цок-цок-цок: умята, утоптана высохшая дорога не то что три дня назад, когда он нырял со своей жаткой в каждой рытвине. А ему все казалось – тихо, и он, привстав на ноги, постоянно крутил над головой сложенными петлей вожжами.
Тузик строчил рядом с жаткой, задрав хвост. Рад, дурак. А чего ему-то радоваться? Не все ли равно, где глотку драть. На Копанце даже лучше. Дома заулок, от передних воротец до задних – и все твое царство, а на Копанце просторы – ай-ай! И дичь – не старуха, проковылявшая мимо дома по дороге, а в перьях, в меху. Да, есть уже у Тузика одна белка на счету: облаял давеча днем, когда та вышла на водопой к Копанцу.
Нет, уж если кому радоваться, то радоваться ему, Михаилу. Во-первых, отмытарил на Копанце – это всегда праздник, а во-вторых, даешь новую жизнь! Хватит, поколобродил он за свои двадцать два года. Пора и на прикол вставать. А чего ждать? Кого еще искать?
Его любили и бабы, и девки, и он из себя монаха не строил. Но такого еще у него не было – чтобы вот так, среди бела дня, пришла к нему девка. Сама! Да еще девка-то какая!
Лошади бежали – тра-та-та, сыроег, маслят возле дороги навалом. Гнездами, ручьями красными и желтыми разбежались. Вот когда пошли по-настоящему – когда землю солнышком прогрело. А по угорам меж осин бабы красные шали развесили: брусника крупная, сочная, с ребячий кулак кисти.
Да, в этом году он пойдет за красными[23] с Раечкой. Да и вообще – зачем было отпускать ее вчера? Какого лешего в прятки играть, раз все решено! Вот бы и не выл он сегодня всю ночь напролет. А то ведь до самого рассвета не смыкал глаз. Лежал в шалаше и перемигивался со звездами…
Мимо, мимо летят телеграфные столбы, сверкают на солнце зеленые и белые чашечки изоляторов… Эх, и побито же было этого добра в свое время, когда он с мальчишками пас коров! Самое это любимое занятие у них было – сбить камнем чашечку с телеграфного столба…
А вот и столица нашей родины, как любил, бывало, говорить Егорша, когда они подъезжали к Пекашину, – красный глиняный косик в году, а на горе знакомый аккуратненький домик…
Лошади выбежали к искрящейся на вечернем солнце Синельге, жадно потянулись к воде.
Михаил спрыгнул с железного сиденья, пошел, буравя ногами светлый ручеек, спускать у лошадей чересседельник и вдруг словно споткнулся: дым. Дым над крышей Варвариного дома…
Нет, дым был у Лобановых. От бани, которая стоит на задворках, в покати.
Но что перечувствовал, что пережил он, пока рассеялся его обман!
Все вспомнил. Вспомнил, как белыми ночами ездил к Варваре с Синельги, вспомнил, как под прикрытием ночного тумана крался к ее дому, карабкался по углу на поветь-сеновал, жадно иссохшими губами припадал к ее сочному податливому рту…
И еще бог знает почему вспомнил, как провожал вчера на Копанце Раечку. Перевел по переходам за канаву, подмигнул как-то по-дурацки, по-Егоршиному, и помахал рукой. Ну разве так бы он прощался с Варварой!
Михаил поехал не по деревне – болотницей: хуже всякой пытки проезжать сейчас мимо Варвариного дома.
…Что такое? С задворок, от воротец вся семья бежит к нему навстречу: матерь, Лизка, Татьяна… Однако Федюхи не видно. Может, с ним, с бандитом, какая беда стряслась?
– Ну, слава богу, дождались, – запричитала мать. – А малого-то не видел?
Михаил терпеть не мог паники. Он завернул лошадей на лужайке возле воротец – тут всегда стоят у него в страду косилка и жатка, когда он дома, – слез с сиденья и только тогда спросил:
– Чего у вас? Где я должен видеть малого?
– Миша! Миша! – со слезами бросилась к нему Лиза. – Татя болен. Мы за тобой только что Федюху верхом послали… По деревне поскакал…
Вот теперь уже кое-что ясно.
– Где он? – спросил четко.
– Татя-то? Да на Синельге, у своей избы… Один… Который уж день…
– Порато, порато болен. Иван Митриевич только вот приехал…
Михаил с яростью зыркнул на сестру, на мать: всегда вот так! Начнут молотить обе сразу – ни черта не поймешь.
Полную ясность, как всегда, внесла Татьяна – даром что девчонка:
– Иван Дмитриевич только что с Синельги приехал. Приезжаю, говорит, к избе – где старик? А старик в сенцах лежит – пошевелиться не может. Левая половина отпала. Дак я, говорит, в избу затащил, а теперь пускай Михаил за ним едет…
Михаил все-таки ничего не понимал: почему старик на Синельге? Как туда попал?
– Я, я виновата… – зарыдала Лиза. – Ведь я-то знала, что его нельзя было отпускать…
– А раз знала, дак за каким дьяволом отпустила?
– Да как не отпустишь-то? Тот письмо прислал – мы с татей с ума сошли…
– Кто – тот? Какое письмо?
Лиза спохватилась, заширкала носом, запоглядывала по сторонам, но разве скроешь от своего брата? Давясь слезами, призналась:
– Тот… Егорша письмо прислал… В армии хочет остаться…
Мать завсхлипывала – и она ничего не знала про Лизкино горе.
Михаил рявкнул – как кнутом стеганул. Потому что, ежели распуститься с ними, вой поднимут на всю улицу.
– Мати! На конюшню! Сани запряги. (На телеге на Синельгу не попадешь.)
– Да есть сани. Я уж схлопотала…
Михаил начал распрягать лошадей, попутно отдавая распоряжения:
– Веревку несите. Да одежонку какую. Живо! Чего стоите? Не за бревном – за человеком еду.
Он торопился. Солнце уже садилось за крыши, а до Синельги самое малое час трястись. Ну разве есть время слезы точить да причитать?
Глава двенадцатая
В эту ночь Лиза не сомкнула глаз и на минуту.
Сперва, вернувшись со скотного двора, мыла пол в избе – хотелось, чтобы больной свекор попал в чистоту (старик любил опрятность), – потом стала перебирать его постель да увидела клопа на стене возле кровати – начала лопатить весь стариковский угол. Все перемыла, перескоблила: стены, кровать, голбец кипятком ошпарила, а потом уж заодно и перину перетряхнула. Чего больной человек будет маяться на старых соломенных горбылях? То ли дело свежее сенцо! И мягко, и дух приятный, луговой.
Вот так со всеми этими делами – с мытьем пола, с приборкой стариковского угла, с перебивкой перины – она и проваландалась до двух часов ночи, а там уж и спать некак: надо печь топить, какую-то еду для больного сообразить, Васю к своим отнести (насчет коров она договорилась еще вечор с Александрой Баевой).
Лиза привыкла начинать свой трудовой день с первыми дымами, на деревне такая уж работа у доярки, но сегодня она и того раньше выскочила из дому, а к матери прибежала – та еще в постели.
– Чего всполошилась такую рань? Попей хоть чаю – я сейчас согрею.
Лиза только рукой махнула. До чаю ли сейчас! Неужели матери родной надо объяснять, что у нее на душе делается?
Утро было холодное, сырое. Кустарник возле дороги поседел от росы, и ох же пополоскало ее в одном платьишке – привыкла по утрам носиться сломя голову.
Но на ходу все-таки потеплее, а каково стоять? А Лиза, наверно, с час или с два коченела у Терехина поля. И все прислушивалась, все ждала: вот-вот раздастся конская ступь и из березняка выедет Михаил.
Но Михаил не ехал.
Лиза начала волноваться. Что там могло случиться? Со стариком плохо? Везти нельзя?
И как только ей пришла в голову эта мысль, она уж больше не томилась у Терехина поля. Сама побежала навстречу. По грязной лесной дороге, четко разутюженной накануне полозьями.
Встретила она брата возле темной еловой рады[24] – не меньше версты прошлепала по грязям.
Сидит, качается на запаренной кобыле, настегивает ее вицей, а старика она сперва и не увидела. Сено, показалось, везет на санях брат. С ног до головы обложил старика сеном, чтобы грязью не заляпало да комар не беспокоил, только для дыханья дыра оставлена.
– Татя, татя, – запричитала на весь лес Лиза, – да что же это такое? Разве так возвращаются люди с покоса?
– Не ори! – коротко бросил Михаил. Он слез с кобылы, устало подошел к саням, приоткрыл лицо старика. – Ну как? Жив? Не вытрясло совсем душу?
Ни единого звука не услышала Лиза в ответ, и она с ужасом перевела взгляд на брата:
– Чего с ним? Пошто он не говорит?
– Выходной взял! – свирепо рыкнул Михаил и вдруг заорал на нее: – Чего стоишь, как столб? Не знаешь, как отца встречают?
Лиза и в самом деле стояла как-то в стороне, на отшибе, и, поняв это, поспешно кинулась к саням, к дыре в сене, откуда чуть заметно шел парок.
– Татя, татя… – Она встала на колени прямо в грязь возле полоза, судорожно обхватила руками старика, вернее, охапку сена, потом срыла сено с груди в ноги – какое теперь комарье, когда к дому, можно сказать, подъехали? Да и она зачем тут? Разве не может веткой отгонять?
Степан Андреянович узнал ее.
– Ы-ы-за-а… – чуть слышно сказал он, но так, что и она, и Михаил – оба услышали, затем на его старых, испугом налитых глазах навернулись слезы.
– Ну, это ты хорошо, старик, надумал, – сказал Михаил и от радости похлопал сестру по плечу. – А то я вчерась приезжаю к избе – покойник покойником. И сегодня, сколько ни кликал, не мог докликаться. А тебя, вишь, с первого слова услыхал…
Разлад в теле у Степана Андреяновича начался еще тогда, когда он шел с невесткой полями. Хорошее, свежее было утро, ветерок прыскал, а он обливался потом, на великую силу тащил стопудовые сапоги.
Лиза что-то щебетала, давала наказы, советы, а он только и думал о том, как бы добраться до Терехина поля да поскорее распрощаться с невесткой, – не хотелось ее пугать, посреди дороги разлеживаться.
И вот когда наконец Лиза осталась позади, он дотянул кое-как до березняка за полем, ткнулся горячим потным лицом в мокрую, еще не высохшую от утренней росы траву и так долго лежал.
Потом эти лежки пошли у него чуть ли не у каждого муравейника, не у каждой кокоры.[25]
В этот день он с косой, конечно, не разбирался: догреб, доплелся до своих старых владений на Синельге, заполз в избушку, и все – не ел, не пил, до утра лежал, зарывшись в какую-то старую сенную труху, во всей одежде, в сапогах.
Но назавтра он встал молодцом. Легко, без всякой шаткости вышел из избушки, будто и хворости не было, а когда увидел траву в поклоне, густую, тучную, белую от росы, руки сами потянулись к косе.
И покосил.
В одну сторону прошелся, в другую, пьянел от травяных запахов, и как же радовалась стариковская душа! Вот, думалось, не зря ем хлебы. Есть, есть еще от него польза. Будет у Васи молоко…
После утренней напористой косьбы Степан Андреянович поел с аппетитом, попил чаю с дымком всласть, а потом вздумалось ему сходить на свою старую расчистку – посмотреть, что там делается, нельзя ли сколько-нибудь травы потюкать для себя.
И вот с этой-то расчистки все и началось – не нашел он своей пожни.
Все на месте: Синельга на месте, мыс на месте, старые стожары[26] на месте, только расчистки нет, только пожни нет. Кусты всколосились, ольха да осина вымахали. Из края в край. По всей бережине. И Степан Андреянович сел, охнув, на старую валежину и заплакал.
Господи, на что ушла его жизнь? Двадцать лет он убил на эту расчистку. Двадцать… Первые кусты начал вырубать еще при царе Горохе, и, помнится, вся деревня тогда потешалась над ним. Кустарник страшный, двум комарам не разлететься, топором не взмахнуть, а ели – боже мой, впору на небо лезть. Ну какой же тут покос?
А он на этот-то кустарник как раз и возлагал все свои надежды: уж ежели ольха да береза так вымахали, то трава и подавно будет.
И он не ошибся. Перед колхозами по тридцать возов самолучшего сена снимал со своих Ольшан – вот каким золотом обернулся для него непролазный кустарник вдоль Синельги.
Правда, он уж и работал – жуть!
Избушка от расчистки далеко ли? За речкой, напротив, четверти часа ходу не будет, а он и эти четверть часа жалел. Тут, на расчистке, спал. Под елью, возле огня. Да и спал ли он вообще в те годы? Кто, разве не он корчевал пни по ночам при свете костров?
Эх, да только ли он себя одного рвал? А Макаровну? Уж ей-то досталось, бедной, она-то, верно, до последнего вздоха помнила эту расчистку. Потому что тут, на расчистке, родила своего единственного сына. Шастала, шастала возле него, оттаскивала в сторону сучья, потом вдруг уползла в кусты, к ручью, а вышла оттуда уже с ребенком на руках. Белая-белая, как береза…
И вот все напрасно. Напрасно надрывался сам, напрасно жену в три погибели гнул, сына малолетнего мучил напрасно – снова кусты. По всей пожне кусты. Как сорок лет назад. И комары. Даже сейчас, в конце августа, вой стоял от них в воздухе…
Степан Андреянович вяло обмахивался березовой веткой, смотрел на буйно разросшийся кустарник за ручьем, и жизнь, прожитая им, представлялась вот такой же запущенной и задичавшей расчисткой. Да и вообще он давно уже не понимал, что происходит вокруг. Люди в колхозе годами считай что работают задаром – почему? А почему добрая половина пекашинцев не имеет коровы? Каждый год трава уходит под снег, а мужик не смей косить – под суд…
Все-таки Степан Андреянович нашел чистую травяную полянку и даже помахал немного косой.
Лиза помогла. Вспомнил про нее, свое солнышко, подумал, сколько у нее радости будет, ежели он поставит воз-другой сена, и пошла коса, заходили руки…
Да, да, удивлялся Степан Андреянович: вот как обернулась жизнь. Родной внук отвернулся, под самое сердце саданул, а эта, чужая кровь, родней родной стала. «Да что ты, татя, куда я от тебя? Как жили вместях, так и дальше жить будем…»
Он плакал. Плакал ночью, перед выходом на Синельгу, плакал сейчас, помахивая косой. За всю жизнь не слыхивал слов радостнее этих…
Степан Андреянович выкосил полянку, нарезал бересты для коробки и шаркунка для Васи – как было забыть про наказ Лизаветы! – а на обратном пути, когда он уже вошел в сенцы избушки, с ним и случилась беда.
– Степа, Степа! – услышал он зовущий голос Макаровны.
Он обернулся – как тут очутилась жена, которая давно умерла? – и вдруг яростный гром грохнул над головой, задрожала, закачалась земля под ногами – и он упал…
Речь к Степану Андреяновичу вернулась на третий день, и первое, что попросил он, было: властей позовите.
– Что? Что? Властей? – Михаил, ничего не понимая, посмотрел на сестру, на мать. – Зачем тебе власти-то? Тебе не о властях думать надо, а как бы на ноги встать.
– Властей… Быстрее…
Не посчитаться с больным человеком нельзя, и пришлось посылать за председателем мать, которая вскоре вернулась с Анфисой Петровной: Лукашин с утра уехал в район.
В избу вошла Анфиса Петровна уверенно, не по-бабьи. Есть практика. В войну все похоронки на себя принимала, первой являлась в дом, куда смерть приходила.
– Ну что, сват? Какую кашу с властями варить надумал?
– Бумагу… хочу… дом…
– Ну, насчет дома не беспокойся. Егорша у тебя есть, никакой бумаги не надо…
Степан Андреянович помолчал, видно набираясь сил, и вдруг четко выговорил:
– Лизавета – хозяйка… Лизавете дом…
– Чего? Чего? Лизавете дом хочешь отписать?
– Да… Весь…
Среди старух, бог знает когда набравшихся в избу, пошли шепотки, пересуды: всем в удивленье было, почему старик решил отписать дом невестке. Разве у него родного внука нету?
Лиза, давясь слезами – она стояла в ногах, у старика, – протянула к нему руки:
– Татя, ты ведь неладно говоришь. Какой мне дом? Что ты… На веку не слыхано, чтобы невестке дом отписывали…
– Верно, верно, сват, – поддержала Анфиса. – У тебя внук родной есть и правнук есть. Лизавета тебе как родная, всяк знает, а только порядок есть порядок…
В том же духе говорили старику мать, Марфа Репишная, Петр Житов и особенно с жаром убеждал Михаил, потому что, отпиши старик дом Лизке, разговоров не оберешься: а-а, скажут, оболванили старика, вот он и твердит без памяти Лизавете…
Ничто не помогало. Степан Андреянович стоял на своем: весь дом и все постройки при доме – Лизавете. Одной Лизавете…
В конце концов что было делать? Села за стол колхозная счетоводша Олена Житова, и скоро все услышали: «Я, такой-то и такой-то, в полной памяти и здравом рассудке завещаю свой дом со всеми пристройками невестке моей Пряслиной Елизавете Ивановне, в чем собственноручно и подписуюсь…»
Степан Андреянович расписался сам, потребовал, чтобы приложили руку свидетели, и лишь после этого облегченно вздохнул и закрыл глаза.
Он завершил свои земные дела.
Часть вторая
Глава первая
Егорша, тягуче зевая, продрал глаза и аж подскочил: половина десятого! А потом увидел желтенькие, с детства памятные цветочки на старомодных ходиках с белым потрескавшимся циферблатом и, успокоенный, откинул голову на подушку: он дома.
Голова трещала: страсть сколько выпито было за вчерашний день. Первую бутылку за помин деда они раздавили еще на аэродроме с Пекой Черемным и Алексеем Тарасовым.
Пека Черемный, диспетчер районного аэродрома, – старый калымщик, и как минуешь его? Просто клещом вцепился, когда он, Егорша, вывалился из самолета. А вот Алексей Тарасов его удивил. Сам приехал. Специально. Это инструктор-то райкома! Правда, инструктор он особенный – за тот же самый овечий хлев когда-то бегал, что и он, Егорша, – ихние дома в Заозерье впритык друг к дружке, но все-таки, что ни говори, шишка.
И вот помянули деда – прямо в райкомовском «газике». А дальше известно: заехали к Алексею на квартиру чайку попить – помин, в Марьюше на председателя колхоза наскочили – помин, а под Шайволой райтопа встретили – как было не открыть бутылку?
В общем, набрались.
В Пекашино приехали – не знаешь, как и из машины вылезти. Правда, он-то, Егорша, сам, без посторонней помощи выкарабкался, а Алексея Тарасова, того, как архиерея, под руки вывели.
– Эй, кто дома?
Никто не отозвался на его голос. Ни в избе, ни в чулане.
Солнце начало припекать его светловолосую голову. Он повернулся на бок, лицом к медному пылающему рукомойнику в заднем углу и стал припоминать, как очутился тут, на полу, на жаркой, набитой оленьей шерстью перине, – в бриджах, в нательной рубахе, босиком.
Он все помнил, что было поначалу. Помнил, как подъехал к дедовскому дому – народу жуть, вся деревня, похоже, собралась, – помнил, как, подхваченный Мишкой, шел по заулку под окошками и плакал даже, помнил, как Мишка на ходу разъяренно шептал ему на ухо: «Нажрался, гад! Не мог потерпеть». (Да, такими вот словами встретил его закадычный друг и приятель!)
Потом, конечно, запомнил встречу с дедом. Он просто упал, просто рухнул на колени, когда увидел деда в белом сосновом гробу – маленького, ссохшегося, какого-то ветошного против прежнего.
Да, деда он запомнил, на всю жизнь запомнил, а дальше, как говорится, пшенная каша в голове: красное, распухшее лицо Лизки, плач, рев, гнусавый старушечий «святый Боже, святый крепкий», постоянные подталкивания Мишки сбоку: «Стой прямо!..»
Нет, еще ему припоминается, как, возвратясь с кладбища, сели за поминальный стол. Анфиса Петровна – век бы не подумал – такую речь толкнула, до пяток прошибло: «Труженик… пример… никогда не забудем…»
А потом до вина дело дошло – что такое? Из наперстков за такого труженика? Подать стаканы! Ну, и он, Егорша, конечно, жахнул первый: не кого-нибудь – деда родного похоронил…
Вот после этого стакана у него в голове и загуляли шестеренки в разные стороны…
Егорша поднялся с постели, прошел за занавеску, зачерпнул ковшом воды из запотелого ведра.
Водица была что надо – холодная, утреннего приноса, и у него немного поосело внутри. Потом он опохмелился: какая-то добрая душа на самое видное место выставила неполного малыша. Лизка?
Егорша глянул на ходики уже без всякого усилия: хорошо теперь работали шейные подшипники. Одиннадцатый час. Самое бы время ей возвращаться со своего коровьего предприятия…
Блаженно, до хруста в плечах, потягиваясь, он вышел на крыльцо, спустился на землю и рассмеялся: колется землица – вот что значит долго не ходить по ней босиком. А вообще-то у них, у Ставровых, не земля, а шелк – по всему заулку зеленый лужок. Это еще от бабки. Бабка Федосья любила травку-муравку под окошками.
Ничего не изменилось в заулке за его отсутствие, если не считать, конечно, дедовской деревянной кровати с матрасом, выставленной на солнце у изгороди. Та же мачта белая посреди заулка, которую он поставил перед уходом в армию, те же ушаты под потоками, то же тяжелое, высеченное из толстенного выворотня било, на котором гнут полозья, и даже роса в тени у изгороди возле нижней жерди та же.
Нет, новое в заулке было – охлупень. Огромное, стесанное с обоих боков бревно, уложенное на березовых слегах вдоль стены двора.
Сам охлупень уже потемнел, и, судя по всему, к нему дед не притрагивался с весны, а вот над конем трудился недавно: и затесы свежие, и щепа на земле белая.
Егорша все-таки дал течь. Не у охлупня, нет, – насчет этого охлупня он ясно писал деду: не надрывайся, ни к чему. И уж, конечно, не оттого, что увидел дедовскую кровать с матрасом: такой обычай – всегда все сушат да проветривают после покойника.
Разревелся он, как баба, когда напоследок заглянул в сарай да увидел, как шевелятся, шелестят белые стружки от гроба. А ему вдруг почудилось, что дед с ним разговаривает. Ну и брызнул. Обоими шлюзами брызнул. И только потом, когда вспомнил, что он солдат, сумел ликвидировать эту позорную аварию.
Солнце разгулялось вовсю. Даже в том городе, где стоит их энская часть, не всегда так припекает в данную пору. А ведь этот город с энской частью, в которой он три года служил верой и правдой родине, где, в каких краях? В тех самых, про которые поется в песне: «Зацветали яблони и груши…»
В общем, здорово! Хорошо подставить свою ряху пекашинскому солнышку. Просвечивает насквозь. Как рентгеном.
Его можно просвечивать. Бриджи под коленками в обтяжечку, из офицерского шевиота, сапожки хромовые – смотрись заместо зеркала, подворотничок свеженький – белая каемочка, ну и соответственно ремешок со звездой. Блеск, одним словом. Офицер не каждый так ходит.
Ну а вы чем, братья славяне, похвастаетесь? Какие у вас за три года достижения?
У Василисы, постной Пятницы, двор разломан наполовину, у Баевых на усадьбе тоже строительство – второй угол у боковой избы-зимницы кромсают на дрова. А что с теремом Кузьмы Павловича? В каких боях-сражениях инвалидность получил с двух сторон костылями подперся?
Да, вздохнул Егорша, хорошо тут заканчивают первую послевоенную пятилетку. Намного превзошли довоенный уровень…
Нет, он не Мишка, не сох по этим пекашинским развалюхам. В первый же час, в первую же минуту, как только переступил порог казармы, из головы вон выбросил. А как же иначе? За этим в армию призывают? В ихней роте и без него хватало мокрых тюфяков, у которых глаза выворачивались от тоски по дому. Жуть что делалось попервости! Какая-нибудь дубина-бревно под потолок, а сидит в уголку, как мышка, да точит слезу. По мамочке, видите ли, скучает. А одного у них лба даже к профессору водили, гипнозом лечили…
Первый день в армии, первые развороты-повороты по-военному… Разве забудешь когда-нибудь, как их первый раз в военном обмундировании выстроили?
Ух, видик! Командир роты старший лейтенант Терещенко идет вдоль строя качается, зубами скрипит: не солдаты, а чучела огородные. У того гимнастерка до колен, у того портки как бабья юбка, у третьего ремень обвис, как шлея на худой кобыле… И вдруг просиял – его увидел.
– Как фамилия?
Егорша отрапортовал по всем правилам – еще в войну с деревянной винтовкой начал проходить боевую подготовку. Вытянулся, щелкнул каблуками:
– Рядовой второго отделения третьего взвода первой роты Суханов-Ставров.
– Во как! Суханов, да еще и Ставров? Сразу две фамилии. Как у барона.
– Так точно, товарищ старший лейтенант.
– Образование?
– Семь классов. – Егорша всегда немножко округлял для краткости.
– Почерк хороший?
– Хороший, товарищ, старший лейтенант.
– Выйди из строя. Будешь писарем роты.
Вот так! Сразу, с первого утра, на командную должность – все только ахнули. А из-за чего? Почему? Грамотой всех шибче? Ничего подобного! После подсчитали: двадцать гавриков у них со средним образованием да еще три лба с высшим. А взяли его, с незаконченной семилеткой. Потому что у этой незаконченной семилетки чердак шурупит, обстановку учитывает.
Покамест его товарищи глаза друг на дружку лупили, да пол в казарме мерили, да письма домой строчили (это в первый-то день в армии!), он что сделал, когда три часа свободных дали?
Прежде всего разведал у вольнонаемного персонала, где тут поблизости можно бабу разыскать, которая иглой ковыряет. Потому что чего ждать, когда очередь до тебя дойдет в батальонной обшиваловке?
Разыскал. К бабе вошел, как и все, куль кулем, а от бабы вышел – шаровары на нужном месте, гимнастерка вподруб, подворотничок беленький… Солдат, одним словом.
Вот старший лейтенант Терещенко и заприметил его сразу. Понял, что этот парень не лаптем щи хлебает.
Но, понятно, воинская служба не коврижки-коржики с медом. Были, понятно, и у него эпизоды – шагом арш!
Раз к ним в ротную канцелярию – он, Егорша, только-только начал в курс входить – вкатывается командир батальона. Злой как черт – язва в брюхе и женка, говорят, на сторону копытом бьет. Вкатывается – то не так, это не так, а потом увидел его:
– Кем на гражданке работал?
– Шофером, товарищ капитан.
– Шофером? Старший лейтенант Терещенко, разве вы не знаете приказ – всех шоферов направлять в АХЧ? (Административно-хозяйственная часть.)
Направили. И вот тут он хлебнул солдатского лиха по самые ноздри. Четыре месяца возил уголь на старом грузовике. Утром вскакиваешь по подъему в пять тридцать, лезешь в грязные шаровары, гимнастерка тоже колом от грязи, на кухне чего-то плеснули – шрапнели (каши, значит) в железную миску кинули: за руль, ребята!
Жуть! Войну добром вспомнишь. За день этим угольком так прокочегаришься черти в аду и те тебя чище. Самая последняя лахудра рожу от тебя воротит. Но больше всего Егорша страдал из-за алюминиевой ложки. Другие – как так и надо. Скидал в рот, что тебе сунули, – и за голенище сапога до следующей заправки. А он никак не мог привыкнуть к этому.
Кто знает, сколько бы он в этой АХЧ мытарил. Может, все три года, до скончания службы, да, на его счастье, заболел шофер у командира дивизии. Ну, тут уж он крутанул своими шариками как следует, чтобы временную прописку в генеральском ЗИСе сделать постоянной…
…Пусто в Пекашине. За все время, что Егорша шел от своего дома до правления, ни одного пекашинца не встретил – ни малого, ни старого: все, видать, на поле. В правлении его тоже не большое веселье ждало – замок в пробое.
Он пошел в магазин сельпо – как раз в это время продавщица начала греметь дверями, должно быть, с обеда возвратилась.
Продавщица по нынешним временам важная птица в деревне. Она да председатель колхоза, можно сказать, жизнь в своих руках держат, и Егорша чертом влетел в магазин: самое это главное в мужском деле – с ходу взять бабу, ошарашить.
Но кого он вздумал ошарашивать? На кого порох тратил? На Ульку Яковлеву, она, оказывается, была продавщицей. А Улька Яковлева еще до войны трясла головой, как старая кобыла, – так разве ей на солнце глядеть?
А потом, было бы ради чего выворачиваться. На хлебных полках шаром покати, сахаром-конфетами тоже не пахнет, а в мясной отдел и заглядывать нечего. Там как до войны: наглядное пособие – схема, как разделывать коровью тушу. Все расчерчено-разлиновано. От зада до переда. По научному. Только мяса нет.
От магазина Егорша двинул на задворки – на колхозные объекты. Может, там больше повезет?
Ни черта не больше. Старый коровник заперт (где только Лизка? Неужели задворками домой уперлась?), а на новом скотном дворе тоже, похоже, безлюдье.
Лизка ему в каждом письме про эту пекашинскую новостройку докладывала, так что он знал, как говорится, всю автобиографию коровника, но все-таки не поленился: обошел коровник кругом и даже внутрь заглянул. Надо! А вдруг где-нибудь на командных высотах зайдет разговор – глазами прикажете хлопать?
Работенка неплохая, углы сшиты – хоть воду лей (сразу узнаешь почерк Петра Житова), но когда же он думает сдать в эксплуатацию свой объект? Окна окосячены наполовину, дверей нет, потолок не набран… А потом, ведь нужны стойла, перегородки, всякая другая хреновина.
Егорша поднял с земли толстый обрубок от гладко выстроганной потолочины, размашисто написал плотничьим карандашом – тут, среди инструмента, нашел: «Солдатский привет ударникам великой стройки коммунизма!!!»
Обрубок поставил на чурку (прямо наглядная агитация получилась), потом подумал-подумал и на обрубок насыпал горку «беломорин» – весь портсигар вытряхнул, только одну для себя оставил.
К тещиному дому Егорша подошел с тыла, то есть с задворок.
Сперва надулся: что это такое – жена не показывается все утро? Домой он приехал или куда? А потом за воротца скрипучие перешагнул, да шарахнуло по ноздрям свежим коровьим навозом из открытого настежь двора, да зажужжали, завыли вокруг мухи – и начало, и начало травить.
Все вспомнилось. Война вспомнилась, ихняя дружба с Мишкой вспомнилась, первый выезд в лес в сорок втором году вот в это же самое время… И даже Звездоня, покойница, вспомнилась. Мишка уже тогда разорялся насчет кормежки для нее. В первый же день, как только они приехали на Ручьи, потащил его на болото траву смотреть…
Старенькое, кособокое, основательно изрубленное ребятишками крыльцо проскрипело шатучими ступеньками: здравствуй!
– Здравствуй, – улыбнулся Егорша.
А вообще-то не мешало бы перебрать крыльцо, или у Мишки всегда, до самой смерти так будет: в колхозе мнем до беспамятья, а дома дядя сделай?
В сенцах у Пряслиных не лучше – всю жизнь в слепака играют. Руки отпадут два-три раза топором хлопнуть да какой-нибудь осколок стекла в дыру воткнуть?
Наконец Егорша, шаря рукой по двери, еще с незапамятных времен обитой для тепла рваной-перерваной мешковиной, нащупал железную скобу, постучал.
Стук вышел дай боже: дятлом рассыпался сухой, как кость, сосновый косяк, но разве тут понимают по-культурному?
Закипая злостью, Егорша изо всей силы рванул на себя дверь, перешагнул за порог да так и застыл: сын… Его сын…
Сколько он тут, на пекашинской земле? Сутки без мала. Туда, сюда сходил, то, это посмотрел, а про своего гвардейца и не вспомнил. А он – вот он: как штык стоит посередке избы. Вернее, не штык, а ухват сухановский – у них в отцовском роду у всех смалу ноги кренделем, и у него самого, сказывала мать, такие же были.
Егорша присел на корточки, протянул руки:
– Ну, шлепай ко мне. Не узнаешь?
Вася нахмурился – с характером мужик! – а потом вдруг улыбнулся и тяп-тяп, к нему, к отцу…
И тут бог знает что сделалось с ним. В горле пересохло, в коленках дрожь, а когда он сграбастал обеими руками сына да прижал к груди, то тут и вообще ерунда началась…
К счастью, в избу в это время вошла теща.
Глава вторая
Старый коровник, поставленный еще в первые дни колхозной жизни, разваливался на глазах. Стены у него изнутри выгнили, проросли белыми погаными грибами, в скособоченных окошках торчали соломенные и травяные затычки, а крыша местами так провалилась, что, того и гляди, кого-нибудь задавит.
Страх всем внушал и племенной бык Борька. Борька нынешней весной размял в поскотине молодую коровенку, и с тех пор его на волю не выпускали. И вот днем, когда рядом с ним не было ни коров, ни доярок, бык просто из себя выходил: ревел, гремел цепями, каждую минуту мог вылететь на улицу.
Сегодня, к великому удивлению Александры Баевой, Борька молчал.
Кто-то из наших там, подумала Александра. Но кто же?
Две дурехи есть у них на скотном дворе, которые готовы день и ночь убиваться из-за колхозных буренок, – она, Александра, да Лизка. Но Лизку она сама давеча, уезжая за травой на луг, отправила домой: та, видите ли, после дойки вздумала чистоту в стойлах наводить, это на другой-то день после возвращения мужа из армии!
– Иди, иди, глупая! – сказала она ей. – Да ни о чем не думай: ни о коровах, ни о подкормке. Все сделаю.
Наскоро привязав лошадь, Александра вбежала в коровник, заглянула в избу, прошлась между стойлами – никого.
И все-таки не зря у нее сердце сжималось: был человек в коровнике. И человек этот – Лизка. В самый темный угол забралась – в отсек с травой, так что если бы не белый платок, то она бы и не заметила ее.
– Лиза, Лиза, что с тобой? – закричала Алексадра, обмирая от страха.
Лизка, слава богу, была жива. Она лежала, уткнувшись лицом в пахучую траву, и навзрыд рыдала.
– Господи, да что ты тут делаешь? Разве слезы тебе точить сегодня? Муж приехал – скакать надо от радости… Вставай, вставай!
Александра подняла давящуюся от слез подругу, крепко прижала к себе, села рядом.
– Ну, чего стряслось? Чего не поделили?
– Ни-че-го…
– Как ничего!.. Из-за ничего-то не убегают от молодого мужа в такой день.
– Да не я убегала… Он от меня…
– Что, что? – неподдельно удивилась Александра. – Егорша от тебя убежал? Ну уж, нет, не поверю. В жизнь не поверю!
– Чего не верить-то? Не я ему писала: меня домой не жди, на сверхсрочной останусь…
– Домой не жди? Да когда он это писал?
Александра еще долго так пытала зареванную Лизу, и та наконец толком рассказала о своей беде.
– Ничего, ничего, – начала успокаивать ее Алексадра, – не страшно. А я уж думала, бог знает что у вас вышло…
– Да разве не вышло? Я ждала, ждала его – не то что дни, часы высчитывала, а он и не думал обо мне… – И Лиза снова зарыдала.
Александра молча подняла ее на ноги, отвела в избу, умыла под рукомойником, причесала.
– А теперь иди.
– Куда? – Страх, растерянность и робкая надежда мелькнули в мокрых зеленых глазах Лизы.
– Домой иди. К счастью своему иди. Глупая, разве нашему брату капризить теперь, когда кругом одни юбки? Да и было бы из-за чего хвост поднимать. Из-за какого-то письма, из-за того, что Егорша чего-то не так написал… Ох, девка, девка… Меня, бывало, муженек-покойничек редкий божий день не бивал. Как разминку себе делал. Все не так, все не эдак… Даже в том я виновата, что у меня здоровья воз. А сказали бы мне сейчас – у тебя Матвей жив, да господи, до Москвы бы до самой на коленцах сползала… – Тут Александра сама коротко всплакнула, потом притянула к себе Лизу, обняла. – Иди, иди! Бери свое счастье. Нынче вперед заглядывать не приходится – днем живем…
Лиза выскочила из старого темного коровника и подивилась сияющей красоте дня. Солнышко, небо синее – без единого пятнышка. И ее будто на крыльях подняло – такая вдруг небесная, ликующая радость хлынула ей в душу.
Домой, домой!
Самой короткой дорогой – мимо кузницы, мимо старой закоптелой пивоварни, у которой еще года четыре назад Егорша своим трактором своротил угол, к колхозному складу напротив ихнего дома…
Сердце у нее билось у самого горла, щеки пылали полымем: что сейчас ее ждет? Как встретит Егорша?
Вечор, по правде сказать, она его и не разглядела как следует. Да и не хотелось, если честно говорить, и разглядывать. Она в эти дни распухла, угорела от слез и рева, Михаил ходил как в воду опущенный, а он, внук родной, единственный, пьяный приехал, лыка не вяжет. Да не один, а с Олегой Тарасовым.
Олега из Заозерья, сосед, может, родственник еще дальний, Олега – власть, в райкоме сидит, но кому не ведомо, что он пьяница зарезной?
Ну и скандал. Старушонки перед выносом гроба затеплили ладан, запели «святый Боже, святый крепкий…», а он на всю избу: «Цыц, старые вороны! Нету Бога. С Богом у нас еще в семнадцатом году покончено».
Что было бы дальше, даже и подумать страшно. Может, он, дьявол бессовестный, и похороны все разогнал бы, да спасибо мужикам – не сробели: вытащили вон. А там в машину, дверцы на запор – уматывай.
Надо остановиться, надо прибрать волосы – куда же растрепой на деревню, на люди?
А ноги бегут, ноги не хотят останавливаться… Потому что глупые. Потому что головы не слушаются…
Все-таки у воротец перед заулком она остановилась – забрала власть над ногами. И даже сердце немного утихомирила.
По заулку, мимо окошек, пошла шагом, лицо нахмурила – не дам потешаться над собой, но разве рассчитаешь все заранее? Из-за угла неожиданно брызнул Васин смех, и вот уж она про все свои запреты, которые только что сама на себя наложила, позабыла – козой взвилась.
Самую желанную, самую радостную картину увидела она: сын и отец. И оба за работой. Вася, довольнехонький, слюнки радужным пузырем на губах, крутит руками маленькую меленку, или самолет, как теперь называют, а рядом отец – еще одну меленку мастерит, побольше.
Лиза, конечно, сразу заметила непорядок: на лучшее красное одеяло расселись, прямо на голой земле разостлали, но ей и в голову сейчас не пришло попрекать за это своих растяп – таким счастьем, такой радостью вдруг дохнуло на нее с этого красного одеяла.
– А-а, гулена наша пришла! Ну что, сынок, постегаем немножко ремешком маму – для вразумления?
Лиза все про себя отметила – и «маму», и «сынка», и то, как смотрел на нее Егорша, – но все-таки огрызнулась хоть для видимости:
– Хорошему сынка учишь – маму стегать. Мама-то не на плясах была – на работе.
– Разговорчики! А ну марш к шестку – мужики проголодались!
Лиза побежала в избу. В шутку, конечно, подавал команды Егорша, но правда-то на его стороне. Куда это годится – человека до такой поры голодом морить! Да, правду сказать, она и сама теперь хотела есть.
Самовар шумит, стол накрыт, перина, на которой валялся Егорша, вынесена в сени. Еще чего?
Она то и дело воровато из глубины избы посматривала на заулок. Сидят. Все сидят. И о чем-то, кажется, разговаривают – Егорша даже палец большой поднял. Наверно, что-то внушает сыну, как положено отцу.
Вася ее удивлял немало. Нелюдимый ребенок. Кроме матери да Татьянки, никого не хочет признавать. Даже к дяде Мише, даром что тот его хлебом магазинным да сладостями постоянно подкармливает, и к тому с ревом иной раз идет. А вот с отцом дружба с первого взгляда. Кровь родная сказывается? Или уж такой у них отец – кого угодно околдует с первого взгляда, стоит ему только свой синий глаз с подмигом навести?
Солнце рылось в Егоршином золоте на голове. Золота в армии заметно поубавилось – не налезают больше волосы на глаза, плечи раздались, а в остальном, ей казалось, Егорша и не изменился: та же тонкая, чисто выстриженная на затылке мальчишеская шея, тот же чуть заметный наклон головы набок и та же привычка ходить дома босиком, в нижней нательной рубахе.
Смятение охватило Лизу.
Она подняла глаза к божнице в красном углу, вслух сказала:
– Татя, что же мне делать-то? Надо бы спросить его сразу, как он жить думает, а я и спросить чего-то боюсь…
Дробью застучала дресва по стеклам в раме – Егорша бросил: поторапливайся, дескать.
– Сичас, сичас! – И Лиза кинулась в чулан переодеваться: не дело это – в том же самом платьишке, в котором коров обряжает, дома ходить.
Платьями она, слава богу, не обижена. Степан Андреянович на другой же день после свадьбы повел ее в амбар и всю женскую одежду, какая осталась от Макаровны и Егоршиной матери, сарафаны, кофты, шубы, платки, шали – передал ей: перешивай, дескать, и носи на здоровье.
И Лиза не стеснялась: и себе шила, да и Татьянку с матерью не забывала – где им взять, когда в лавке для колхозника ничего нет?
Солнце из чулана уже ушло, но пестрая копна платьев, развешанных в заднем углу, напротив печки-голландки, все еще хранила тепло, и от нее волнующе пахло летними травами.
Она выбрала кашемировое платье бордового цвета – и не яркое (как забыть, что только что схоронили деда!), и в то же время не старушечье.
– А-а, вот ты где!..
Лиза быстро обернулась: Егорша…
– Уйди, уйди! Бога ради, уйди… Я сичас…
Она испуганно прижала к голым грудям кашемировое платье, попятилась в угол.
Егорша захохотал. Его синие припухшие глаза вытянулись в колючие хищные щелки.
– Не подходи, не подходи… – Лиза лихорадочно обеими руками грабастала на себя платья, юбки.
Егорша улыбался. А потом подошел к ней и с шумом, с треском начал срывать с нее платья. Одно за другим. Как листки с настенного календаря.
И она ничего не могла поделать. Стояла, тискала на груди кашемировое платье и не дыша, словно завороженная, смотрела в слегка побледневшее, налитое веселой злостью Егоршино лицо.
Глава третья
У Ставровых началась великая строительная лихорадка, с утра до позднего вечера Егорша гремел топором.
Работал он легко, весело, как бы играючи, так что не только ребятишки, бабы постоянно вертелись возле ставровского дома.
Первым делом Егорша занялся крыльцом у передка. Старые, подгнившие ступеньки заменил новыми, вбил железную подкову на счастье, а потом разошелся – раз-раз стамеской по боковинам, и вот уж крыльцо в кружевах.
Точно так же он омолодил баню, жердяную изгородь, воротца в заулке.
Но, конечно, больше всего охов да ахов у пекашинцев вызвал охлупень с конем, который Егорша поднял на дом.
Лиза, когда вернулась с коровника да увидела – в синем вечернем небе белый конь скачет, – просто расплакалась:
– Дед-то, дед-то наш был бы доволен! Все Михаила перед смертью просил: «Ты уж, Миша, коня моего подыми на дом, всю жизнь хотел дом с конем»… А тут и не Миша, внук родной поднял…
– Но, но! – басовито, по-хозяйски оборвал жену Егорша. – Разговорчики!
Ему нравилось быть семейным человеком. Он с радостью, с удовольствием возился с сыном, его не на шутку увлекала новая, почти незнакомая до этого роль мужа.
Сколько через его руки всякого бабья прошло! И ничего себе штучки были, не заскучаешь. А все же такого, как с Лизкой, у него еще ни с кем не было – это надо правду сказать. Утром проснешься, уставилась на тебя своими зелеными, улыбается: «Я не знаю, с ума, наверно, сошла… Все глежу и глежу на тебя и нагледеться не могу…» А с коровника своего возвращается – ух ты! Вся раскраснелась, застыдилась – как, скажи, на первое свидание с тобой пришла…
Заскучал Егорша на седьмой день.
В этот день у него с утра заболел зуб, ну и как лечить зуб в деревне? Вином. А потом – вино не помогло – взял аршинный ключ от амбара, пошел в амбар – там у бабки, бывало, целое лукошко стояло со всякими зельями и травами.
И вот только он открыл, гремя ключом, дверь – увидел свою тальянку на сусеке. Вся в пыли, в муке, как, скажи, сирота неприкаянная.
Он взял ее, как своего ребенка, на руки, смахнул пыль рукавом рубахи, а потом уселся на порожек – ну-ко, голубушка, вспомним былые денечки! В общем, хотел заглушить боль в зубе – рванул на всю катушку, просто вывернул розовые мехи, а получился скандал. Получилось черт знает что!
– Ты с ума, что ли, сошел? Что люди-то о нас подумают? Скажут, вот как они веселятся – рады, что старика схоронили…
Егорша на самой высокой ноте осадил гармонь, резко сдвинул мехи. А потом глянул на приближавшуюся к нему по тропке Лизу, и у него впервые при виде возвращающейся со скотного двора жены зевотой свело рот.
Зубы заговорила Марина-стрелеха. Зачерпнула ковшом воды из ушата, пошептала что-то над ним, дала отпить, и полегчало вроде. Во всяком случае, Егорша вышел от нее, уже не держась за щеку.
Была середина дня. За рекой на молодых озимях шумно горланили журавли – не иначе как проводили общее собрание по случаю скорого отлета в теплые края…
Куда пойти?
Домой ему не хотелось. От дома пора взять выходной – это он хорошо понял сегодня. К теще податься? Так и так, мол, угощайте зятя. Что это за безобразие – вот уж неделя, как он дома, а у тещи еще и за столом как следует не сиживал.
Егорша пошагал в колхозную контору: вспомнил – председатель на днях с Лизкой наказывал зайти.
Лукашин был в правлении один – сидел за своим председательским столом и играл на костяшках.
– Все дебеты и кредиты сводим? – нашел нужные слова Егорша.
– Да, приходится.
– Ну и как?
– Подходяще! – Лукашин сказал это бодрым голосом, но распространяться не стал, полез за папиросами. Очень удобная штука эти папиросы для начальства: всегда есть предлог оборвать нежелательный разговор.
Егорша, слегка развалясь на старом деревянном диванчике, памятном ему еще с войны, с любопытством присматривался к этому человеку. Он всегда вызывал у него интерес. Ведь это же надо – добровольно, по своей охоте к ним на Пинегу пришлепать. В бабьи сказки насчет любви и всего такого Егорша никогда не верил. Анфиса, конечно, баба видная, но уж не такая она ягодка, чтобы ради нее на край света ехать. Из-за карьеры?
Признаться, попервости он, Егорша, так и думал: в такой глухомани, как ихняя, умный человек быстрее выдвинется. Но сколько лет прошло с тех пор, как у них Лукашин? Четыре-пять? А воз, как говорится, и поныне там. Как потел в колхозных санках, так и теперь потеет.
– Так, так, Суханов, – сказал Лукашин, закуривая, – отломал, говоришь, три годика, выполнил свой патриотический долг…
– Примерно. На месяц раньше демобилизовали. По причине семейных обстоятельств.
– Да, старик мог бы еще пожить. Рано отчалил к тем берегам. Зимой нас крепко выручал – всю упряжь чинил…
Егорша со скорбным видом принял соболезнования, даже папиросу вдавил в пепельницу (все та же щербатая тарелка, как три года назад), вздохнул.
– Ну а какие планы? Как жизнь устраивать думаешь?
– Покамест недоработки стариковы по дому ликвидировал, а вообще-то надо подумать.
– А по-моему, и думать нечего, – сказал Лукашин и начал загибать пальцы: – Жена у тебя в колхозе – раз, дом – вон какой, с конем! Прямая дорога к нам. Видел, какой мы дворец для наших буренок отгрохали?
– Видел.
– Ну тогда чего же тебя агитировать! Подключайся к Житову. Веселый народ, не заскучаешь.
– Так, – сказал Егорша. – Насчет веселья вопросов не имею. А как насчет энтого самого? – Он на пальцах показал, что имеет в виду.
– Насчет энтого самого… – Тут Лукашин прямо-таки дымовую завесу поставил между собой и им. Не иначе как для того, чтобы собраться с мыслями.
В конце концов, кашляя и чихая, признался, что трудодень у них нежирен. С голоду, дескать, не помираем, но и закрома от излишков не рвет.
– Понятно, – усмехнулся Егорша. – В общем, раскладка не та.
Лукашин вопросительно посмотрел на него.
– Это в части у нас повар был, Иван Иванович. Толстый, такой жирный боров – как баба беременная. Но мастер – во! Генералу с начальством готовил. И вот этот Иван Иванович, как только, бывало, выедем за город на пикник, – Егорша старательно выговорил последнее слово и посмотрел на Лукашина: знает ли? – …начнет вздыхать да охать: ах, в деревню хочу, ах, на природу-кустики желаю… Ладно. Демобилизовался. Уехал в деревню. А ровно через полгода возвращается обратно. Худющий, как, скажи, чахоткой заболел. Без паспорта и не узнать. Ну, все-таки до генерала допустили – такие повара на улице не валяются. «Так и так, товарищ генерал-майор, желал бы снова вернуться во вверенную вам часть». – «А как же с деревней, с природой, Иван Иванович? – спрашивает генерал. – Не понравилось?» – «Понравилось, товарищ генерал. И даже очень понравилось. Только раскладка не та…»
– Ну, и взял генерал этого повара обратно? – спросил Лукашин и как-то невесело, скорее для приличия, улыбнулся.
– А то как! Такого повара да не взять.
– Зря, – сказал Лукашин. – А кто же будет деревню поднимать?
Вопрос уже был обращен к нему, Егорше, и он подумал, что, пожалуй, перегнул немного насчет этой раскладки. Но с другой стороны – что это такое? Ничего не спросил: где, как, кем служил, – полезай на угол. Маши топором. Даже грузовик колхозный не предложил. И вообще, разозлился вдруг Егорша, чего он свой руль задирает? Дворец этот самый, которым он тут хвастался, когда готов будет? Когда буренки от холода околеют? Так? А другие колхозные показатели? Что-то он, Егорша, не помнит, чтобы Лизка и Мишка взахлеб писали ему по поводу этих самых показателей. Да он и сам не слепой. Не с одного КП просмотрел Пекашино за эту неделю…
Однако Егорша и виду не подал, какой закрут у него внутри. На кой хрен ему ссориться с головкой своей деревни!
И кончил миролюбиво, по-свойски, с улыбкой:
– Погоди маленько с работой, товарищ Лукашин. Дай человеку прийти в себя. У меня ведь как-никак дед родной неделю назад помер. А кроме того, отпуск. Согласно закона о демобилизации…
Лукашин вздохнул, но ничего не сказал.
Сперва полверсты отшагал вдоль болота, потом пересек болото, а точнее, проплясал его по вертлявым замшелым жердинам и бревнышкам, потом продирался мокрым кустарником – плакали хромовые сапожки и гимнастерка шерстью обросла, пришлось даже с себя снимать, чтобы отчистить, потом еще сколько-то поблуждал-покрутился на пустошах и только тогда увидел главного колхозника.
Нет, товарищ Лукашин, сказал мысленно Егорша, подождем немного. Суханов-Ставров не прочь помочь своим землякам – когда бежал от трудностей? Но и ишачить за вас – нет, извините, дураков нема. За три года, что он служил в армии, куда страна в целом шагнула? А в Пекашине что? У вас какой оборот по части прогресса?
Три года назад этой самой пустоши, на которой он сейчас стоит, на пекашинской карте не было – он точно это помнит, потому что как раз перед самым отъездом в армию они с дедом в этом квадрате рубили дрова и дед еще, когда проходили мимо поля, очень разорялся насчет ржи. Дескать, плохая рожь ноне на поле, землю навозом не удобряют, а вот у него в старые времена рожь была такая, что хоть топором руби…
Мишка напоминал Егорше глухаря на току. Глухарь, когда весной свою любовную песню заведет, ни черта не слышит и не видит, охотник под самую сосну подходит, чуть ли не колом сшибает. Вот так и Мишка. Егорша вышел на обочину поля, как верстовой столб встал. А Мишка рядом, в двух шагах, проехал – не заметил. Сидит себе, качается в своей железной люльке и, похоже, совсем очумел от треска и хлопанья граблей – с открытыми глазами слепой.
Да, усмехнулся Егорша, хорошо, что он все это увидел в голой натуре. А то ведь он размяк, разнежился на домашних пуховиках – о чем стал подумывать в последние дни? А о том, чтобы пополнить собой колхозные кадры, тут, в Пекашине, на постоянный причал встать…
Егоршу обнаружил Тузик.
Тузик плелся сзади жатки, без всякой радости, просто так, по собачьей обязанности путался в ржаных валках. А тут увидел незнакомого человека, загремел на все поле, а потом еще того чище – на него бросился.
Вот тогда-то Мишка и соизволил поднять свои карие.
Сели на солнышке, на скос старой, давно высохшей канавы, густо заросшей брусничником.
Таких канав великое множество в пекашинских навинах – точь-в-точь как старые, отслужившие свое окопы, в которых веками, из поколения в поколение, велись сражения с лесом да с болотом. Иной мужик вроде его деда треть жизни своей выстоял в этих самых канавах-окопах. Вот каким трудом добыта каждая пядь пахотной земли на Севере! А теперь что?
Мишка все же уважил гостя: сам сел на ягодник, а ему, Егорше, бросил ватник.
– Что-то не вижу у тебя бабсилы, – сказал Егорша, окидывая своим цепким глазом ржаное, наполовину выжатое поле.
Мишка, конечно, не понял с первого слова, что такое бабсила, – пришлось растолковывать, на какой тяге едет ихний колхоз.
– В лес женки укатили, – буркнул Михаил. – Вишь, какое тепло стоит. Хотят последние грибы взять…
– Ясно, – подвел политическую подкладку Егорша, – частный сектор наступает на пятки общественному.
Мишка – всегдашняя опора и любимец пекашинских баб – завелся сразу:
– Частный сектор, частный сектор!.. А этот частный сектор должен чего-нибудь жрать, нет? В прошлом году по триста грамм на трудодень отвалили, а в этом году сколько?
Егорша скорехонько вытащил из брюк белоголовку, две луковицы с зелеными перьями, потому что Мишкины разговоры по этой части он знает с сорок второго года, и, ежели его вовремя не остановить, будет кипеть и яриться часами.
– Стакана у Ульки-продавщицы не привелось, а домой не заходил, – сказал Егорша, – так что придется вспоминать счастливое детство…
Однако тут не сплошал уже Мишка: быстро выхватил из ножен свой клинок, срезал с молодой березы ленту тонкой бересты с золотистой изнанкой, загнул два угольника – чем не посуда?
– Ну, рассказывай, как у тебя на петушином фронте, – сказал Егорша, когда выпили.
– На петушином? – удивился Мишка (совсем мозга не работает!). – Это еще что?
– А это такой фронт, на который все с полным удовольствием… Без погоняла… Солдатик один у нас в отпуск ездил. Домой к себе, в колхоз. Ну, съездил как положено. Без чепе. В срок явился, доложил. А через девять месяцев семь заявлений: просим с такого-то Сидорова-Петрова взыскать алименты. Ну, насчет алиментов – сам знаешь: какие с солдата капиталы? Главное, политико-воспитательная работа минус. Майор, замкомандира по политчасти, вызывает Сидорова-Петрова: что ты наделал, такой-разэдакий? «Виноват, товарищ майор, а только никак иначе нельзя было». – «Почему?» – «А потому, что когда кур полный курятник, а петух один – что петуху делать?»
– Да, – рассмеялся Михаил, – а ведь действительно петушиный фронт.
– Вот я и спрашиваю, как у тебя дела на петушином фронте. Перешагнул за поцелуйные отношения с Раечкой?
– Раечка – девка.
– Все когда-то были девками.
Мишка махнул рукой – всегда на этом месте буксует. Подумаешь, секреты государственные у него выспрашивают! Пробурчал:
– У нас чего – известно. Ты лучше про городских. Как они?
– Да все так же. Существенных расхождений не наблюдается. Ни в рельефе местности, ни в натуре. Первым делом хомут на тебя стараются надеть. – Егорша помолчал немного и блаженно улыбнулся. – У меня хохлушечка одна была, пухленькая такая курвочка, черные очи… Ну, умаялся. Я так, я эдак – из себя выхожу. Всё мимо, всё за молоком. А ей, видишь, по-хорошему хочется. Чтобы на семейную колею, значит… Ладно, хрен с тобой – получай обещание – поженимся. Ну и понятно, первый угар прошел – она счет: женись. Э-э, нет, говорю, коханочка (это у них навроде нашей дролечки), ежели ты, говорю, хотела, чтобы я женился на тебе, надо было подол покрепче в зубах держать. «А как же, говорит, честное слово ты давал?» Ну, говорю, ты еще с быка, когда он корову увидел, честное слово возьми. Солдат, говорю, одной присяге верен, понятно тебе, а всякие там слова и обещания для него не в счет…