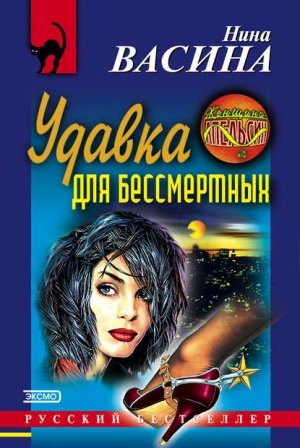
Часть I
Мужчины: классификация видов, способы приручения, содержания и употребления, или Игры в прятки со смертью в период долларизации всей страны
…дело упрощается в том смысле, что женщины существуют только двух видов. Их классификация не требует особых исследований, подбора терминов и условного определения. Поэтому в отношении мужчин, разнообразие которых говорит как о высокой организованности, так и о примитивном начале, можно применить простейший способ классификации. Для удобства и привлечения воображения тех женщин, которые относятся к Утешительницам (Плакальщицы более игривы и самостоятельны в своих фантазиях), обратимся к миру животных и начнем с особей благородных, но слабых.
К примеру, Бык …
Лето 1984
Я перевожу solace, pleasure и comfort как удовольствие. Женщину, обремененную в рукописях такими определениями, смело называю «получающей удовольствие». Ким требует конкретики, одного слова, он терзает меня по телефону больше часа, к одиннадцати вечера я сдаюсь, потому что под ложечкой начинает подсасывать: я жду Су. Я соглашаюсь поменять «удовольствие» на «утеху» и выдавливаю из себя благодарственное бормотание. Скрепя сердце я черкаю на листке сначала одной линией, потом раздраженно замазываю «получающую удовольствие», пока бумага не продирается насквозь, и пишу сверху этой дыры… «Думайте, милочка. Это же естественное слово, оно такое русское, такое родное». Ладно. Сomforter или concoler будет утешительница. Вместо поздравления – в трубке вздох облегчения. Но второе определение не идет. Я почти жалею, что согласилась переводить этот бред. На том конце телефонного провода натужно и нервно дышит в трубку восьмидесятитрехлетнее тело, в судорогах бессонницы проклиная нерадивую ученицу.
– Ким, я тебе утром скажу.
– Вы счастливы, имея возможность определять свое творчество принадлежностью к времени или погоде!
Мне некогда вдумываться в его иезуитский бред, я вздыхаю и говорю, что просто жду человека. Он тут же обыгрывает мое раздражение и заводит разговор минут на десять о том, почему неизвестный нам автор так примитивно разделил женщин всего на две категории. «Одну из них мы выстраданно перевели, а вот вторая вам пока не дается».
– Ким, я, правда, нервничаю. Я ждущая Утешительница.
– Побойтесь бога! – кричит он в трубку, – You a cheat!
Нашел плутовку! Бросил трубку без затяжной церемонии прощания. Я подхожу к окну и смотрю в теплую ночь. Далекие цепочки огней с нанизанными кое-где светящимися высотками. Weeping cheat… – to mourn… Плутовка-плакса, плачущая бестия. Пять минут первого. Ключ в замке. Она пришла.
– На улице идет маленький дождь. Я принесла молоко. Что ты переводишь? Это Ким дал? Поедешь со мной, у меня встреча? Кто это – Утешительница? – Су садится у стола и не собирается снимать плащ.
– Та, кто помогает получать удовольствие. А как ты назовешь одним словом плутовку, которая плачет по ком-то?
– С помогающей получать удовольствие переведено не очень верно. Чересчур прилично получается. Утешительница – это что-то строгое, набожное.
– Ким так хотел. Он выдавил из меня это слово.
– Плакальщица.
– Что?
– Плутовка, которая по ком-то плачет, – Плакальщица. Нанятая рыдать у могилы.
Пока я, бессмысленно таращась в пространство, соображаю, почему это я не «получающая удовольствия» – по Киму, – а «рыдающая у чьей-то могилы плутовка», Су монотонно развивает тему, кроша в вазочке тончайший сухарик черного хлеба. Я перебиваю ее:
– А к какой категории ты бы причислила меня?
Су смотрит оценивающе, качает головой, словно не соглашаясь с навязанными условиями игры, и интересуется:
– А еще кто есть?
– Больше никого. Женщины по Кумусу делятся только на две категории, – я киваю на листы возле пишущей машинки.
– Когда он жил, этот Кумус?
– Ким сказал, что Кумус вечен, а книга его по фактуре бумаги, способу обработки кожи и архаичности языка относится приблизительно к семнадцатому веку.
– Ты, конечно, не Утешительница, это понятно, – Су оценивающе оглядывает меня и чуть улыбается. Я поплотнее заворачиваюсь в халат. – Но насчет Плакальщицы – не знаю, не знаю. Пойдем со мной.
– Не пойду.
– Пойдем, ну пожалуйста. Ты должна его увидеть.
– Покажи, что у тебя в сумочке.
Су вздыхает, опускает длиннющие ресницы и почти с наивным удивлением вытаскивает из сумочки пистолет.
– Мать, ты совсем опухла от пьянства? – Я смотрю на оружие с каким-то мазохистским удовлетворением, честно говоря, мне не понравились ее расширенные зрачки, я надеялась всего лишь на легкий наркотик. – Ну и как ты это объяснишь?
– Необходимостью самообороны.
– С чего бы?
– У меня в квартире поставили микрофоны. Я точно знаю когда. Когда Дални приехал в первый раз. Если бы это были родные служаки из органов, они бы волоком утащили меня в контору и все бы выведали и так. Получается, что это сделал либо сам Дални, либо люди, от которых он прячется. Я хочу, чтобы ты его увидела. У тебя интуиция.
– Сколько раз тебя задерживали?
– Два.
– Предлагали сотрудничество?
– Нет.
Я меряю шагами комнату и крепко стискиваю зубы, чтобы не заорать на эту идиотку с лицом заблудившегося ангелочка.
– Знаешь, – выцеживаю я из себя медленно, – в каком разделе скорей всего лежит твое досье?
– Знаю. Тунеядство.
– Валютная проституция!
– Будешь читать мораль, или прокатимся? Тут недалеко, посмотришь на него.
Я сбрасываю халат и выкидываю все с полки на пол, расшвыривая нижнее белье по комнате.
– Похотливая сучка… – шепчу про себя. Я давно поняла, что Су делает это всегда, везде и с самыми немыслимыми представителями мужского рода.
– А ты фригидная жирафа, – Су собирает с пола трусики и колготки и запихивает их на полку.
Желание надавать ей пощечин нестерпимое. Су чувствует это и отходит подальше.
– Да почему ты за это еще и деньги берешь?! – кричу я в бессильной злобе, хотя умом понимаю, что если бы Су каждое свое похождение обставляла как очередное мимолетное страстное увлечение, наступила бы неотвратимая эра плутовства и лжи.
– Потому что я хочу покупать дорогое белье. И чтобы ты увидела Париж, прежде чем… И потому что не хочу давиться в автобусах, а предпочитаю такси! И потому что я всегда ХОЧУ, но этого тебе уже не понять!
Она добилась своего: мне стало стыдно. На улице у подъезда ждет такси. В машине Су прижимается ко мне и моментально превращается в маленькую провинившуюся девочку. Некоторые люди от сильных переживаний или потрясений впадают в спячку, некоторые – в истерику либо бессонницу, а Су впадает в детство. Она совершенно искренна в этом, может даже, забывшись, засунуть большой палец в рот и с бессмысленным видом его пососать. Мужчины рядом просто стонут.
– Несколько вопросов, – я решительно отдергиваю ее руку от лица, – что ты сделала с этим микрофоном?
– Ничего. Их три, по крайней мере. Никого теперь у себя не принимаю, когда мне надо незаметно уйти, включаю магнитофон и вылезаю из коридорного окна на крышу голубятни и во двор. Сегодня, например, с шести вечера у меня девчонка соседская сидит, на фортепиано занимается. Бедняжка, у девочки почти нет слуха, – Су вздыхает и потягивается. – Часов шесть, говорит, просидит, не меньше! – добавляет она мечтательно. – А потом перемотает ленту в магнитофоне и запустит свои упражнения по новой.
– А как все это прекратить?
– А вот для этого ты должна посмотреть на Дални. Надо уезжать. И поскорей.
Я не улавливаю связи, Су снисходительно объясняет:
– Надо линять за границу путем скоропостижного брака с иностранцем! Дални – самый подходящий вариант, он при мне даже дышать боится от восторга. Присмотрись к нему, муж – это на всю жизнь, как и лучшая подруга.
Мы доехали быстро. Дом – шестнадцатиэтажка, освещенных окон еще много, район – спальный, улицы – темнющие, а воздух – роза ветров.
Бык . Размеренность, надежность и скрытое желание быть обманутым. Все сексуальные и личностные игры Быка основаны на необходимости стать жертвой. Верит всему легко, в период разоблачений впадает в меланхолию, граничащую с помешательством, проводит активные поиски новой Плакальщицы, благодаря крупному и красивому сложению быстро находит новую желающую его обмануть. Привязанностей к определенному внешнему типу женщин не имеет, любовь понимает как приятную вариацию обмана, дружбу – как вариант выхода с честью из ситуации заведомого предательства, но сам никогда не прибегает ни к обману, ни к предательству – категорически честен и вынослив в трудностях. Очень удобен в моменты жизненного напряжения, умом не блещет, но обладает мощнейшей интуицией. Это тип мужчины, с которым никогда, ни при каких странных или неожиданных обстоятельствах не бывает «неудобно». Энергетически – донор. К семейной жизни не приспособлен, поскольку любое размеренное благополучие заставляет его скучать и искать новые возможности страдать и обманываться. Сексуально необычайно вынослив, в любовных играх консервативен.
Клиент, как говорится, готов. Он обеспокоен длительным отсутствием Су, он выпил весь кофе и, выпучив глаза, завороженно слушает по радио новости. По его обалдевшей физиономии я догадываюсь, насколько трудно понять иностранцу весь этот бред, эти постановления о категорическом местонахождении на рабочем месте в рабочее время, эти интервью счастливых женщин, которые непостижимым образом успевают строго в обеденный перерыв посетить и парикмахерскую и магазины, эти устрашающе-вкрадчивые объявления об увольнениях опоздавших на работу больше чем на семь минут, а чего стоят горячие репортажи с посевной! Он неуверенно улыбается, как человек, который все слова в отдельности перевел, но поверить в получившийся бред не может.
Я все еще взвинчена и нервно интересуюсь, где же это Су познакомилась с таким обаятельным мужчиной? Дални многозначительно хмыкает и достает пачку фотографий. Су садится на ручку его кресла. На всех фотографиях – Су. Она смеется на фоне замков и фонтанов, у автомобилей, рекламно-ненормальных, как все «там». Су всегда улыбается, когда ее фотографируют. На детских снимках шестилетка Су трагично-грустна, девятилетка Су насмешливо-ехидна – чуть прищуренные глаза уже осознающей свою красоту стервы и неуверенно приподнятый уголок рта, а вот лет с двенадцати рот ее радостно открыт в застывшем смехе.
Цветные осколки от поездки Су во Францию сыплются сначала на толстые колени Дални, потом на ковер. Я рассматриваю, пользуясь случаем, пухлые пальцы, небольшую лысину, очки в тонкой оправе, тут он поднимает голову, и я вздрагиваю от растерянного незащищенного взгляда. Он почувствовал неладное, осторожно косит сбоку на Су. Су расслабилась, успокоилась и ведет себя вполне естественно: она склоняется к Дални и внимательно его обнюхивает, прикрывая иногда глаза для лучшего усвоения запаха. Я улыбаюсь:
– Вы не волнуйтесь, это Су вас обнюхивает.
Он неуверенно улыбается, встает и оглядывается вокруг. Наклонившись, заглядывает под стол и под кресло.
– Что-нибудь не так? – Я тоже наклоняюсь и смотрю на него снизу. Он достаточно высок, что скрадывает полноту.
– Так-так. Это я сделал поиск! Су – это кошка?
– Су – это я! – Су потягивается и встает. – Это половина моего имени.
– А кто есть Анна?
– А это вторая половина моего имени. И обе вместе – это я.
Она уходит на кухню, мы провожаем ее глазами, потом смотрим друг на друга. Дални чуть улыбается и поправляет очки указательным пальцем, я киваю в сторону кухни:
– Вы остаетесь?
– О да! Анна – прелесть. Это… Она такая не-под-следственная. Я правильно говорил?
Я киваю, не сводя с него глаз:
– Будем надеяться.
Я ухожу. Мне здесь нечего делать: он обаятельный, восторженный, одним словом – «добрый и толстый парниша». Радостно сообщил, что неплохо говорит по-русски и с удовольствием попрактикуется в разговорной речи. Он искренне предлагал мне остаться и поужинать вместе, потому что у него много «съедобности» и еще потому, что я – «тоже умрупочтительная…». Я ограничилась скромным советом не употреблять сложных прилагательных.
Капитан госбезопасности Виктор Хрустов полулежит в кресле, закинув ноги на журнальный столик, и лениво просматривает бумаги из тонкой папочки, а майор Корневич – непосредственный начальник Хрустова, сидит напротив, зевает, слушает пленку с записью и в некотором оцепенении рассматривает огромные подошвы ботинок над темной полировкой.
– И как долго это продолжается? – Корневич судорожно дергает головой от каждого звука невидимых клавиш. – Я спрашиваю, сколько уже часов насилуют Чайковского?
– Так, ты здесь минут сорок… Восьмой час пошел, – Хрустов посмотрел на часы, потом в потолок, потом в изумленное лицо начальника.
– Не может быть.
– Я тоже так думаю. Есть сильное подозрение, что вот этот чих и последующее высмаркивание я уже один раз слышал. Часа три назад. Есть еще интересный момент. Она не берет телефон. Он звонит, а она не берет трубку. Потом включается лента записи, что-то щелкает, и на английском языке звонившему предлагается высказать свои пожелания за сорок пять секунд промотки ленты.
– Автоответчик! Моя тетка тоже так делает. Она никогда не берет трубку, пока звонивший не начнет говорить. Удобно, скажу я тебе.
– Корневич, подойди к этому объективно. Никакая женщина не может долбить так непрофессионально по клавишам девять часов подряд!
– Она пришла домой от подруги в восемь вечера. Я видел это собственными глазами.
– Сколько ей лет?
Корневич посмотрел на Хрустова с раздражением и качнул стол, брезгливо дернув рукой. Хрустов опустил ноги.
– Вникни, Хрустов! Я чувствую охоту, понимаешь, большую охоту. А ты третий раз спрашиваешь, сколько ей лет!
– Жрать охота, – проигнорировал Хрустов раздражение начальника. – И голос у нее пискливый, и мордочка какая-то… целлулоидная! Кстати, о подруге. Вот она хороша. Низкий тембр, надменный профиль, – он развернул веером фотографии на столе и щелчком выдвинул темный прямоугольник с четко вырисованным на фоне освещенного окна строгим профилем молодой женщины.
– Целлулоид? Ты китайский фарфор видел когда-нибудь?! – Корневич усмехнулся снисходительно, не глядя на фотографию. – Это ты на нее вблизи не смотрел, а я смотрел!
Хрустов заявил, что в жизни не интересовался посудой, и, конечно, не смог припомнить нежную матовость тонкого полупрозрачного древнего фарфора, сочетания белизны, всасывающей в себя свет, и синего с перламутром, он также не знал, что если сунуть в такую вазу палец, то он будет светиться сквозь тонкие стенки, проступая горячим пятном разбавленной в молоке крови, – он только смотрел, приоткрыв рот, на вдохновенно размахивающего руками Корневича, а когда тот стал просто заглатывать воздух, не находя больше слов, обозвал его извращенцем.
Корневич резко замолчал, поморгал белесыми ресницами и кивнул:
– Да. Я люблю, когда девочки еще нежные.
– Какая она девочка, ей двадцать пять, и она валютная проститутка?!
– Скучно мне с вами, офицер Хрустов.
– Виноват.
В наступившем молчании стал слышен спокойный ход настенных часов, перезвон трамвая за окном. На полу стоят несколько пустых бутылок из-под вина и валяются вчерашние газеты. Хрустов прищуривается, напрягая воспаленные от недосыпания глаза, пока число и год – 1984-й – не проступают четко, потом трет веки пальцами. Он знает, что холодильник пустой, если не считать бутылки с молоком неизвестного происхождения, потому что она уже была там неделю назад, когда он, установив «жучки» в соседней квартире, вошел в эту – «для служебного пользования» и привычно оглядел новую мебель, грязные стекла окон без занавесок и пыльный паркет. Хрустову тридцать шесть лет, но он этого еще не понял ни телом – крупным, сильным и не причиняющим ему никаких беспокойств, ни умом – жизнь все еще нравилась. Как-то увидел себя в зеркале, когда ему было двадцать три, посмотрел случайно, потому что был на первом задании, и дернулся всем телом на собственное отражение. Несколько секунд неузнавания, а потом странное удовольствие и гордость от того, что увидел, хотя паренек в зеркале с напряженным лицом и пистолетом в руке выглядел в богато украшенном ресторанном зеркале как-то обреченно. И потом, когда Хрустов представлял, как он может выглядеть со стороны, или думал о себе в третьем лице, он был всегда тем, двадцатитрехлетним из зеркала.
Корневич моложе Хрустова, но, как он всегда подчеркивает при знакомствах, чуть тряхнув головой, «стар с детства». Корневич не борется с полнотой и с выпадением волос, из спиртного предпочитает красное крепленое, к работе относится с исступленным азартом, тщеславен, но напарник отличный, несмотря на выстраданный чин. Иногда Хрустов думал, что от Корневича давно бы постарались избавиться из-за излишней интеллигентности, если бы не присущая ему тончайшая интуиция. В самом ординарном и бессмысленном происшествии он мог учуять невероятную интригу и всегда угадывал.
В коридоре пикает невидимое радио и встряхивает тишину гимн. Шесть утра. Корневич достает из кармана пиджака начатую пачку печенья. Они молча жуют и смотрят в окно. За окном лето. У окна стоит большой круглый стол с аппаратурой. Хрустова гипнотизирует крутящаяся бабина с лентой, глаза закрываются сами. Корневич топает ногой, отстукивая в паркет секунды, которые отслеживает по часам, Хрустов дергается и тоже смотрит на часы, потом они смотрят друг на друга, потом опять – злорадно – на часы, не сводя с них глаз, встают и идут в коридор.
– Две тридцать три… Тридцать пять… Сорок!
Два звонка в дверь. Коротких. Корневич смотрит в «глазок» и щелкает замком.
– Това-ва-рищ майор, – вваливается запыхавшийся сержант.
– Две минуты сорок две секунды опоздания, – подводит итог Хрустов.
– Так ведь лифт же, товарищ майор!..
Корневич отпускает два звонких щелбана в потный лоб с зачесанным русым чубом.
Хрустов подхватывает с пола свою сумку и дает последние наставления сменщику:
– Как только что-нибудь конкретное про шведа, любая информация, найдешь нас из-под земли. А сорок две секунды – это почти минута, – он целится ровно в середину лба сержанта, тот обреченно закрывает глаза и крепко жмурится.
На улице Корневич тащит Хрустова к служебному входу в магазин «Сыры», они роются в карманах, потом стучат в железную дверь и кричат: «Милиция!» От мусорных контейнеров взлетают потревоженные голуби, небо светится сквозь молодую зелень листьев невыносимой голубизной.
– Если я не посплю хотя бы пару часов, я труп, – Хрустов вглядывается в сумрак магазинного коридора. На ящиках скорчившимися гномами сидят ночные грузчики.
– Двести двадцать граммов, – полная женщина в грязном халате протягивает на толстой – почти картон – бумажке нарезанные тончайшие прямоугольники желтого сыра. Она берет деньги с некоторым удивлением, достает из кармана мелочь и ссыпает в ладонь Корневича двадцать три копейки сдачи. – Что ж вы, и без хлеба?
Хрустов не видит ее лица, один из грузчиков достал папиросы, и Хрустову надо быстро уйти подальше от звука чиркнувшей спички и от первого дымка: он решил бросить курить, но в дни с затяжной усталостью его легко можно соблазнить.
На улице Корневич предлагает съесть сыр культурно, и они садятся на лавочку во дворе.
– Я так долго не протяну, – вздыхает Хрустов, – хроническое недосыпание. И сколько мы будем записи гонять, когда-нибудь же вычислят, что мы своевольничаем? Лейтенант, опять же, скоро задумается, почему это начальник отдела дежурит ночами на прослушке.
– Потому что задание особой важности, – Корневич отщипывает от сыра маленькие кусочки и сосет их, чмокая и раздражая Хрустова, моментально проглотившего свою долю. – Ему приказано строго хранить тайну. Но в чем-то ты прав. Пора форсировать события.
Хрустов фыркает. В Москве в этом году зарегистрировано четырнадцать валютных проституток высокого класса. Из них восемь работают почти что легально: окончив престижные вузы, дали себя завербовать осведомителями. Еще трое находятся под постоянным осторожным наблюдением из-за интересующих госбезопасность клиентов, а три девочки так квалифицированно играют в прятки, изображая добропорядочных гражданок, что проще и дешевле иногда дергать их по каким-то мелочам, чем поймать с клиентом «при исполнении». Одну из этих трех на прошлой неделе почти застукали со шведом, который очень интересует КГБ. Девочку пожурили за «провоцирующую форму одежды» и отпустили, начальство разрешило несколько дней послушать ее и понаблюдать, но потом пришло к выводу, что связь эта была случайной, наблюдение сняли, а Корневич, который столкнулся с объектом наблюдения, так сказать, лицом к лицу, прийти в себя не мог до сих пор. Тайком от руководства отдела он оставил квартиру с прослушкой, отсиживая долгие часы напряженки сам или с Хрустовым, который поверил в его интуицию.
– Тут уговорами не обойтись, как ты понимаешь!
Хрустов понимал. Высшее образование – филфак МГУ, три языка. Метр шестьдесят восемь, что для ночной бабочки маловато, но такую соразмерность форм он видел только в музее.
– Это была Психея с бабочкой, – сказал он вдруг и закрыл глаза от резкого солнечного света. – Я подумал: ночная бабочка, потом просто бабочка, потом Психея с бабочкой, такая вот логическая цепочка.
Корневич с некоторым недоумением уставился на почти сползшего со скамейки засыпающего Хрустова и бессердечно ткнул его локтем в бок.
– Да ни хрена! Ты подумал, где еще ты увидишь такое совершенство, эту нежную плавность и тонкость древнего фарфора, эту кожу?! А грудь? Ты обратил внимание на грудь? – Корневич, сопя, доставал из кармана пиджака фотографии. Просыпались крошки печенья, и воздух вокруг взметнулся голубиными крыльями. – Черт-те какие птицы непуганые, вот! Вот эту посмотри. Здесь лучше всего видно. Кыш!
Хрустов к груди Сусанны Глебовны Ли не проявил никакого интереса. Он тронул Корневича за рукав:
– Как зовут ее подругу? Ну, эту…
– Вера.
– У тебя нет фотографии ее груди?
Корневич длинно и осуждающе вздохнул.
– Интересуешься, значит, только приличными женщинами, да? Знакома мне эта брезгливость.
– Брезгливость здесь ни при чем, это раз. И ты не знаешь, приличная ли женщина эта Вера. Они учились вместе. Год работали вместе. Это, сам понимаешь, будет два.
– Проверено, – буркнул Корневич.
– И характеристику с места работы прислали, да?
– Да, прислали и характеристику и хвалебные отзывы. Отличный переводчик эта Вера.
– Полный наивняк, – не сдавался Хрустов. – Дважды в разговоре с подругой Сусанна Ли упоминала имя шведа, они обе отовариваются в «Березке», это что, на зарплату переводчика в издательстве?
Корневич не ответил. Взгляд его сделался сонным, движения вялыми.
– Девять часов Чайковского, говоришь?
Хрустов медленно повернулся на звук затормозившего автомобиля. Из подъехавшего такси выскочила Сусанна Глебовна – обладательница нежнейшей маленькой груди и фарфоровой кожи – и вбежала в подъезд. Медленно и спокойно вышла из машины ее подруга – высокая Вера с лебединой шеей и манерами благородной институтки. Она огляделась и влипла глазами в Хрустова. Хрустов встал, засунул руки в карманы и стоял, покачиваясь с пятки на носок. Шесть часов тридцать две минуты солнечного утра.
В четыре часа – ночи? утра? – я услышала, как в моей двери осторожно ковыряются ключом. Надо сказать, что к этому времени я как раз смогла задремать в старом высоком кресле, я уселась в него в последней надежде хоть ненадолго погрузиться в сон, я редко в него сажусь: я берегу запах моего мужчины – это было его кресло, но этой ночью я согласилась бы даже на его дурацкие мысли, забытые в складках обивки. Мир совершенно забытых понятий всплывает со слабым запахом табака, я вслушиваюсь в идиотское слово «дифрактометр», «корреляция», потом идут одно за другим – бусами – «разработка», «программа», «экстинкция», «дифракция» и завершает все это последняя бусина – опасное слово «интерфейс». В этот момент в моей двери осторожно поворачивают ключ. Очень осторожно. А дверь на предохранителе – хорошая, укрепленная дверь, а вот ключи я постоянно теряю, сразу же всплывают сцены из субботнего ленкомовского спектакля – там вор, забравшийся в квартиру, всю ночь вел с хозяином беседы и оказался вообще страшно интересным человеком…
Я на цыпочках подхожу к двери. Стараясь не дышать, отвожу «веко» «глазка» и таращусь в дырочку. Вот она – дырочка в другой мир! Я разглядываю Су, она стоит, опустив голову, словно прислушиваясь, прекрасная и неотвратимая Су. Может, это было предчувствие, иначе почему я подумала «неотвратимая»? Если бы я сейчас спала, а она не открыла бы дверь, то не стала бы меня будить и звонить в квартиру, я и сейчас вижу, как Су думает «будить – не будить?». И она ушла бы в ночь и сама отыскала место своего последнего убежища и исчезла бы там незаметно и навсегда. А я бы искала и искала ее, нагромождая новые переживания на границе моих ощущений и внутренности кресла. Но я открываю дверь, и Су обрадованно бросается ко мне: «Ты так и не заснула, какое счастье!»
Она ходит по квартире, заламывая руки, я смотрю на изгиб ее кистей и розовый лак ноготков, я почти ненавижу ее сейчас и плохо слушаю, о чем она говорит. Дождавшись паузы, я начинаю истерически подхихикивать, но Су не замечает этого и с упорным исступлением продолжает рассказывать свой страшный сон. В этом сне она бежит за шведом Дални по лужайке, там еще цветут одуванчики (ну какая прелесть!), а потом бедняга Дални исчезает, а когда – «…пять, я иду искать!» – игра в прятки окончена, то Дални обнаруживается, но без головы.
В этом месте моя бессонница внезапно сдалась, обозначив свой отход судорогами нескончаемых зевков, глаза стали слипаться, я упала в кресло и делала знаки руками, но Су впала в настоящую истерику и не замечала моих предупреждений. Тем хуже для нее: я немедленно засыпаю.
– Во сне я почувствовала, как из моих рук что-то укатывается, это была его голова! Вера, ну не спи, как ты можешь?!
Как я могу, вот вопрос?!
– А где он? Они?..
– Ну кто они, кто они? Господи, да проснись! Ты что, издеваешься?!
– Дални и его голова, где они сейчас?
Кино – мощнейшая вещь. Вопрос на засыпку: что смотрела недавно Су – любительница Феллини? Я пытаюсь объяснить, что ее подсознание откликается на эстетический садизм этого маразматика итальянца, но она не слушает, она продолжает объяснения, а руки ее словно держат перед собой невидимый воздушный шар, и смотрит она на эту условность в своих руках с ужасом. По-моему, она уже катает голову Дални туда-сюда по ковру.
Образ девочки-дьявола у Феллини слишком реален, она у него задумчива, хитра и притягательно-невинна, как и подобает настоящему дьяволу. Су с ее гримасой ужаса начинает меня раздражать. Я, повысив голос, еще раз спрашиваю, где в данный момент находится упитанный добряк Дални, и узнаю, что он лежит на кровати в той самой квартире, где я их оставила часа четыре назад, но совершенно не дышит и совсем холодный.
– А голова? Где его голова? Что ты с ней сделала? – Я начинаю просыпаться.
– Господи, Вера, это же образ, это был сон! Ты что, меня не слушала?
Конечно, она имеет полное право путать сны и реальность, потому что делает это грациозно и вдохновенно, она всегда так восхитительно лжет! И ее еженедельные спектакли, которые она обычно начинает словами «…Ой, а что тут со мной было!..», а потом оказывалось, что это было во сне, меня уже даже не раздражали: экстравагантная пантомима, моноспектакль на грани шока и удовольствия. Но почему-то сейчас она хочет моего участия в этом спектакле, а я, как на грех, сплю на ходу.
Я должна поехать в эту квартиру, которую Су сняла для… своих мимолетных платных влюбленностей (это перевод одного русского слова, такого емкого, такого родного!), посмотреть, что случилось с Дални, и вообще принять решение. В прошлом году в припадке патриотизма, замешенного на жесточайшей депрессии, она сдавала кровь как донор и ходила на курсы медсестер. Я немедленно представляю, как Су делает искусственное дыхание голове Дални.
– Пульса не было. Судя по температуре тела, когда я проснулась от этого кошмарного сна, смерть наступила…
Ну все. С меня хватит. Я демонстративно сдергиваю с вешалки плащ и выталкиваю ее в коридор с твердым намерением очутиться как можно быстрей возле кровати с бездыханным? безголовым? шведом. И, только оглядевшись в сером пространстве двора в четыре сорок утра, окончательно просыпаюсь и начинаю понимать, насколько все это глупо и малоосуществимо.
– Такси!.. – пискнула Су. И в арку вплыли желтые огни автомобиля. Самое настоящее такси с шашечками. Что ж, так тому и быть. В результате подобного везения через двадцать минут я увидела на предельно близком расстоянии первый в своей жизни труп, а еще через полчаса у дома Су обнаружила, что смотрю на двух мужчин в штатском, не имея при себе удостоверения личности.
Я иду к подъезду на почти негнущихся ногах. Это двое могли ведь просто так с утра пораньше отдыхать на скамейке в костюмах и при галстуках. Еще один шаг. Никакого движения с их стороны. Сумрак подъезда. Я стою несколько секунд, осторожно выглядывая, потом бегу, перескакивая через ступеньки, на второй этаж.
Су первым делом показывает мне крошечный микрофон в люстре. Я делаю ей знаки молчать и сажусь думать. Я думаю, пока она вытряхивает свой запас «зеленых» из толстенного тома энциклопедии, тщательно упаковывает в полиэтиленовый пакет паспорт, водительские права и книжки на предъявителя, потрошит альбом с фотографиями и отбирает некоторые осколки своего детства и юности – черно-белые и несколько цветных, – законсервированные кусочки жизни. Я смотрю на все это отрешенно, как на немое кино.
– Бесполезно, – говорю я, когда она, отбраковав из толстой пачки родных денег трешки и рубли, засовывает купюры покрупней в карманы обтягивающих джинсов.
– Вера, думай! Думай, Вера!
Я должна срочно придумать, как нам выбраться из квартиры и где спрятаться. Я смотрю в окно. Эти двое допрашивают шофера такси. Тот из них, который полный и какой-то неряшливый, размахивает руками. Высокий смотрит на меня в окно. Я беру Су за руку и тащу в ванную. Она не сопротивляется, только таращит глаза.
– Оберни все это тряпками, – я показываю на деньги и документы в руках Су. Су не понимает. – Что-нибудь из нижнего белья. Отнеси своей соседке. Девочке без слуха. Скажи, что это пакет для подруги, что подруга придет за ним завтра-послезавтра, а тебе надо уехать.
– Вот так взять и все отдать?..
– Ну не так. Запихни в жестяную банку от чая. Ту, килограммовую. Сверху насыпь чай.
Мы идем в кухню. На банке цветут чудные попугайчики. Они сидят на искривленных синих ветках и пьют лиловое солнце на фоне китайских пагод. Нежный аромат засушенных листьев. Я глубоко вдыхаю и слушаю пульсацию крови у себя в висках. Подчиняясь странному чувству, останавливаю руки Су и отбираю у нее паспорт. Кладу на стол. Су пожимает плечами, но не перечит.
Во дворе ничего не изменилось. Двое в штатском стоят у такси. Такси ждет нас, как и договаривались. И тут я цепенею. Надо было отпустить это такси и взять другое, когда мы вышли из квартиры, где тихо-тихо, совсем неслышно лежал на спине Дални с приоткрытыми глазами. Сказать ей, что нас арестуют через несколько минут, или подождать? А вдруг таксист забыл адрес? Такая глупость: нас обеих трясло, и мы попросили его проводить до дверей квартиры. Так или иначе, все кончено. Су уходит к девочке-соседке, не закрыв дверь. Желание броситься бежать очень сильное. Какая это, интересно, будет статья? Соучастие в убийстве. Отчего он умер? Сердечный приступ? Такая банальная смерть в постели валютной проститутки. Вот я и сказала это. Именно так будет озвучено на суде, записано в папочках протоколов. Как интересно: такси уезжает. Высокий что-то доказывает неряшливому, а к подъезду подъезжают две черных «Волги» и одна милицейская мигалка. Как все быстро. Я смотрю в проем открытой двери, вижу входящую Су, становлюсь под люстрой, задираю голову и говорю в нависшие висюльки чешского хрусталя:
– Швед Дални умер сегодня ночью. Мы не знаем отчего, но просим прислать кого-нибудь из милиции, поскольку боимся выйти из квартиры, чтобы это не восприняли как побег.
Су отступает, пока не упирается спиной в стену, потом она оседает вниз, глядя на меня не со страхом, а обеспокоенно: она думает, что я рехнулась.
– Мы… Мы остаемся здесь? – Она шепчет и тут же зажимает себе рот рукой.
– Да, – декламирую я в люстру, – мы остаемся здесь, нам нечего бояться, мы ничего плохого не сделали. Мы подождем представителей власти, а лучше сразу позвонить в милицию. Да. Сразу. Где у тебя телефон?
По адресу, названному шофером, выезжает опергруппа, вызванная Корневичем по рации. Приказано дверь не ломать, вскрыть грамотно. Хрустов не одобряет, но терпелив: не говорит ни слова. Когда рация пискнула, он как раз решил обойти дом с той стороны: у него тоже иногда бывают предчувствия, а эта женщина Вера смотрела как загнанный зверек. Второй этаж: беги – не хочу! Во двор влетела знакомая «Волга» начальника отдела по контрразведке и милицейский «уазик», и за дом пробежкой бросились мальчики в форме. Хрустов очень удивился, а Корневич подошел к подъезду и закрыл вход собой. Его больно ткнули указательным пальцем в грудь и назидательно объявили:
– В снятой гражданкой Ли квартире обнаружен труп гражданина Швеции. Так что, майор, уйди с дороги.
Корневич ничего не сказал, удивления по поводу сведений о снятой Сусанной Глебовной Ли квартире не высказал, а дождался, пока из подъехавшей второй «Волги» не вышел его начальник при полном параде. Пискнула рация. Сержант из квартиры с прослушкой передал срочное сообщение. Корневич тактично отошел в сторону и оставил начальников переругиваться, но был потребован в самом начале беседы. Хрустов, усмехнувшись, выслушал, как майор докладывает о полном контроле над ситуацией: его подчиненный только что передал информацию о смерти клиента гражданки легкого поведения Ли, которую он предполагает использовать с максимальной пользой. Да, это была его личная инициатива – продлить слежку за Ли. На что он надеялся? На то, что девушка оступится и будет им завербована как осведомитель, в частности, поможет выяснить цели приезда в СССР гражданина Швеции, а также двух граждан США – поставщиков оборудования по обработке хлопка, у которых совершенно случайно были обнаружены на машине антирадары и системы слежения, доселе нашим безопасникам неизвестные. И все эти иностранные граждане стараются не пользоваться услугами платных проституток, а привозят с собой телефончик надежной красавицы-москвички. Как уж они передают этот телефончик друг другу «там», возможно, существует целая служба доверия, но факт: самые дорогие те девочки, которые приличные, а встречи за обеденным столом в присутствии родителей, поездки на дачу и «встреть меня возле университета после лекций» – пароль благонадежности. Этим девочкам не платят, а дают деньги на: необходимую срочную операцию дедушке, которую могут сделать только в Швейцарии, на скульптуру нагробного памятника для бабушки-актрисы, на обмен (покупку) квартиры, чтобы не было стыдно встречаться в коммунальной норе («ты же знаешь, это был наш дом, а после революции стала коммуналка на двадцать комнат!»). Игра должна быть не просто разыграна, а быть предельно достоверной, то есть и дедушка, и бабушка, и дом купца Крупенина должны иметь место, а это уже просто определенным образом повернутая жизнь – не игра.
Через две минуты между начальниками разных отделов была достигнута договоренность, что случается крайне редко. Силовиков уберут. В квартиру пойдет Корневич с напарником – и тихо. Сутки на вербовку гражданки Ли. Хрустов медленно шел по ступенькам и еще издалека увидел открытую дверь квартиры. Все это было очень странно. Он вошел за Корневичем в коридор и бесшумно прикрыл дверь. Пахло дорогой косметикой. Женщина, сидевшая на полу, встала и попросила оказать помощь своей подруге, та, оказывается, нездорова, поэтому лучше сразу вызвать психушку с санитарами.
– Нервный срыв, понимаете! Я завалилась к ней ночью со своей бедой, вот нервы и не выдержали, отправьте, пожалуйста, ее в больницу.
На Хрустова снизу смотрели прозрачно-желтые глаза кошачьего разреза, крошечный рот был так искусно вырисован, что приоткрытым напоминал причудливый цветок, молочно-голубоватая кожа детского лица, черные густые брови, дрожащий подбородок, слезы в ресницах.
– Сусанна Глебовна Ли, – проговорил Корневич, подходя к окну и делая руками знаки служивым под окном, что они свободны, – вы задержаны до выяснения обстоятельств смерти гражданина Швеции Даниила Скуверта. Знаком вам гражданин Скуверт?
– Шкубер, – Су быстро-быстро кивала головой, – его зовут Дэниэл Шкубер. Знаком. Только позвоните, чтобы Веру забрали, пожалуйста. Она ни при чем.
– Виктор Степанович, – Корневич осмотрел диван и устроился поудобней в углу, – заберите, пожалуйста, гражданку Веру, как вас по отчеству?
– Что?.. А, Павловна.
Служебные машины разъехались. Двор опустел.
– Веру Павловну. Заберите, окажите помощь. Сусанна Глебовна опасается нервного срыва.
– Нас арестовывают?
Хрустов видел, что женщина, стоящая перед ним, с трудом сдерживает дрожь. Он внимательно посмотрел на Корневича. Корневич ответил сонным взглядом полуприкрытых глаз. Хрустов пожал плечами: значит, сегодня майор хочет быть плохим жестоким дядей, а его выход утешителя и вытирателя соплей будет позже. Вопрос: куда девать Веру Павловну?
– Ваши документы, – он взглянул в лицо с легкой россыпью веснушек.
– Я… Мы… Дома. Мои документы дома. Я не взяла с собой.
– Ваш адрес? Придется проехать для выяснения личности.
– Это недалеко. Вы меня арестуете? Вы наденете наручники?
– В сорок минут уложитесь? – спросил Корневич.
Хрустов понял. Майор выделил себе на обработку Сусанны Глебовны сорок минут. Веру пришлось взять за руку, она неуверенно сделала первый шаг, словно приросла за это время к полу. В дверях он пропустил женщину вперед и удивился сильному запаху ее волос.
– А я нашла микрофоны, – не выдержала Су молчания. – Я вам магнитофон включала, извините.
– Закрой дверь, цыпка, и не мельтеши, – сказал Корневич, зажал ноздрю большим пальцем и сморкнулся на ковер. – Забодала ты нас своей музыкой!
Олень. Отличается красотой и глуповатым благородством (глупое благородство – не путать с благородной глупостью – отягощено множеством условностей и ритуалов поведения, взвешиванием всех возможностей выйти из ситуации бескровно, не теряя надменности и напускной отрешенности, даже если придется драться). Хотя некоторые стычки предусмотрены, но они должны быть условно определены как брачные. Такой мужчина в спорах за женщину либо за семейную территорию выставит перед собой свой самый великолепный отросток, например – рога (ум, эрудицию, мускулы, спортивные достижения и так далее – по воображению. Красноречие Оленям не свойственно), и согласится вступить непосредственно в выяснения отношений, только когда ему продемонстрируют что-то подобное. Молчалив, немного тугодум, в основном выбирает Утешительниц и с удовольствием пользуется их упорством в достижении цели и оптимизмом. Трудно приручаем Плакальщицами, но при наличии у женщины хитрости и азарта может стать надежным спутником жизни из тех, которых с удовольствием демонстрируют днем и используют по собственному усмотрению ночью. Редко выходит из себя, надежен в защите, дисциплинирован. Вынослив в неприятностях, если есть рядом человек, способный оценить вслух его усилия, в одиночестве впадает в хандру и запои. Энергетически – донор. В сексуальных играх консервативен, встречаются однолюбы.
Наше время. Февраль. Дожди
В понедельник группа «Антитеррор» обнаружила склад взрывчатки в таком месте, что начальник группы, которому информацию передали анонимно, некоторое время после звонка стоял в замешательстве. Почти полторы тонны в крематории. Неужели ехать в крематорий с транспортом, роботами и добровольцами-камикадзе? Он рискнул, поехал и нашел. С отчетом застрял, но через полчаса унылых раздумий написал, что, по его мнению, это был склад, хотя в одном месте находились и взрывчатка и детонаторы. Основания для такого вывода: крайняя малолюдность. Последние восемь месяцев в Москве взрывали только жилые дома, кинотеатры, школы, рассчитывая на максимальное количество жертв. Что из этого следует? Что отрапортовавшие по успешным разминированиям найденных в разных местах города смертельных заделов работники спецслужб, успокоившие народ, дескать, все заложенные бомбы найдены, а новые закладывать некому, были не правы.
При Управлении делами президента легализировалось подразделение по спецразработкам. Почти три года анонимности, а тут пошли интервью в газетах, надменные физиономии спецов по организации и предупреждению беспорядков в нужных точках. Управление внутренних дел не осталось без ответа. Люто ненавидя спецразработчиков за вседозволенность, они заявили во всеуслышание, что предложение аналитиков при МВД и ФСБ о создании бригады «С» – тщательно подобранных специалистов всех уровней, которые должны противостоять коррумпированной милиции и разведке, взято к сведению и исполняется, хотя это предложение и было отвергнуто Думой. Газетчики взвизгнули от радости, предвкушая интереснейшую возню по обнаружению этих самых избранных специалистов, поскольку легально те оставались на прежних рабочих местах в органах. Вспомнили некоторые потуги борьбы с коррупцией в органах прошлых лет, всплыли «Белые погоны», команда «Сурок», но ответить на важнейший вопрос, кто будет финансировать новую бригаду, не смогли, даже «поставив на уши» всех своих тайных осведомителей.
Ева Николаевна просматривала газеты на экране, листая их нажатием клавиши. Она теперь смотрела газеты по вечерам на компьютере, обессиленная и уставшая до степени полного равнодушия. С утра это было категорически противопоказано. С утра, а вернее, еще затемно, Ева Курганова, майор Федеральной службы безопасности, двадцати девяти лет, разведенная, выезжала на отстрел. Хотя сегодня, к примеру, стрелять не пришлось, надо было правильно установить систему «антиснайпер», слепившую лазером снайперский прицел. Ни о какой бригаде «С» Ева не знала, прочтя об этом, хмыкнула, допивая остывший чай. В ее конторе психологические разработки велись военными специалистами, а вот психолог индивидуальной направленности, специалист по контактности в коллективах с повышенной опасностью, кандидат медицинских наук, спала сейчас в соседней комнате, как всегда – на спине и рассыпав по лицу желтые прямые волосы. Будить Далилу жалко: первый час ночи. Оставить записку? Ева на случай своего непредвиденного отсутствия быстро черкает на листке бумаги: «Посмотри файл „пресса“, сделай короткий анализ, потому что я слышу об этом впервые», выделяет то, что написано о создании бригады «С», остальную информацию в девяти газетах и журналах стирает, с листка отдирает закрывающую липучку полоску, шлепает его на дверь в ванную. Она выключает свет в коридоре и осторожно приоткрывает дверь детской. У окна в кроватках спят близнецы, на тахте – Муся со своим сыночком. Ева прислушивается к спокойному дыханию, в окно стучит ледяная крупа – застывшая к вечеру февральская морось, – и закрывает дверь. В комнату, где спят мальчики – Илия и сын Далилы, она не заглядывает, а только слушает, прислонившись головой к двери. Она чувствует, как в груди, почти задушенный за день тяжелой работой и физическими нагрузками, шевелится страх. Странно, но она не чувствовала ничего подобного, в смысле беспричинно, даже когда близнецы были беспомощными, а как только они пошли и залопотали, как только начали обращаться к ней, она испугалась. Глядя на своих детей или на любых других, а детьми для нее теперь были и детсадовская группа, и усатые студенты-первокурсники, она бледнела и пугалась до тошноты.
«Посетите психолога. Прочтите отчеты опросов населения. Народ перепуган в целом по стране до желания удрать любым путем за границу, а в Москве в частности, до исступления погромов и мести. Поэтому работникам всех отделов, а особенно отделу аналитических разработок, предписано посетить психолога. Снайперам второй и третьей категории, фактурщикам и криминалистам-патологоанатомам отчитаться о посещении и предоставить выписку».
В два часа сорок минут ночи пиликнул телефон, вырвав Еву из беспокойного сна.
– Запиши номер, – сказал в трубку голос Карпелова, – перезвони из автомата.
– Иди ты к черту! Какой еще автомат?!
– У тебя есть у метро. Не ори.
– Минутку. Мне надо будет работать?
– Разве что по специальности, – Карпелов хмыкнул.
Ева массирует живот, делает несколько упражнений на ковре, но лениво, стараясь не напрягать еще сонный организм. Она натягивает шерстяное тонкое белье и комбинезон. «Аптечка первой помощи» – дорожная сумка – всегда наготове. Подумав, она берет еще и личное оружие, надевает наплечную кобуру, потом обтягивающую черную шапочку, ветровку и кроссовки. У дверей квартиры достает пистолет, а потом минуты три стоит, прислушиваясь, когда замок щелкнет за спиной. Внизу, на лестнице спуска в подвал, четвертый день живет бомж. Ева бесшумно спускается по ступенькам, обходит лифты и заглядывает вниз. Бомж спит у батареи, завернувшись в одеяло, из темного кокона торчат подошвы кед. Ева задерживает дыхание, и натужный хрип старика медленно отсчитывает время, словно старые часы скрипят изношенным организмом, угрожая вот-вот остановиться.
Улицы пусты, но у метро дежурит наряд. Два здоровяка в пятнистой форме с автоматами долго изучают удостоверение Евы и отпускают ее почти с сожалением: сумка притягивает взгляды. У них строжайшее предписание проверять ночью все крупные предметы, переносимые гражданами, но в удостоверении этой женщины штамп неприкосновенности.
– Говори, – Ева старается не прижимать трубку к щеке.
– Надо подъехать минут на тридцать-сорок. Назови какое хочешь оружие, – Карпелова плохо слышно.
– Свое, – отвечает Ева.
– Это понятно, только работа трудная. Расстояние.
– Ты что, нашел в Москве открытое место больше, чем на километр?
– Уважаю, – Карпелов почти отдает честь по телефону: открытое место и на километр, это значит, Ева все поняла и прихватила с собой снайперскую винтовку. – Заверни за метро. Третья машина от киоска, старый «Москвич» серого цвета, ключи в зажигании. Забери меня на повороте с Таганки на Рогожский.
У машины Ева достает сканер и краем глаза видит, что два здоровяка с удовольствием наблюдают за ее действиями. Машина чистая, она заводит мотор и делает им на прощание ручкой.
– А я бы все-таки заглянул в эту сумку, – с сожалением говорит один, провожая взглядом огни машины на пустой улице.
– А я бы пощупал, что у нее под мышкой, – вздыхает другой.
– Набирай номер справки. Курганова Е. Н. Номер машины запомнил?
– А как же. Я и глазищи запомнил. Такие синие… твою мать! – Здоровяк огляделся, вздохнул и объяснил свое возмущение: – Не люблю баб на войне.
– Не люблю безобъяснительных прогулок, – заявила Ева ввалившемуся на заднее сиденье Карпелову.
– Тут недалеко проехать, минут семь. Все сама и увидишь.
Семь минут едут молча. Ева разглядывает в зеркальце усталое усатое лицо Карпелова. Второй месяц он дежурит в спецнарядах МВД, второй месяц в Москве количество уголовных преступлений сведено до фантастического минимума: вчера милиционеры его отдела пили «за сутки без трупака», а идиот, повесившийся в своем туалете и чуть было не испоганивший им этот праздник, конечно, не в счет. Москва затаилась и ждет смертей повальных, массовых.
– Приехали.
Ева, прищурившись после затемненных улиц, всматривается в яркие огни оцепления. Около десятка «Скорых», милицейские мигалки, кран «спасателей» и черный дым над огромной необозримой воронкой. К ним подбегает пожилой мужчина в синей униформе, стучит по окну грязными руками и требует шприцы. Ева достает из «бардачка» аптечку, он разочарован, ругается матом, но аптечку берет. Ева выходит медленно, Карпелов вылезает, сопя, они молча оглядывают ряд тел, закрытых полиэтиленом и брезентом – большие и маленькие, на мокрой холодной земле.
– Не трогай! – кричит Ева, когда Карпелов приподнимает мокрую тряпку над самой маленькой кучкой. – Мы опоздали? – спрашивает она в машине.
– В какой-то мере да, – вздыхает Карпелов. – Смотри бумаги. Меня они убедили.
– Это был ребенок? – Ева протянула руку за пакетом, не поворачиваясь, и посмотрела на Карпелова в зеркало.
– Голова мужчины. Десять минут тебе, не больше, на ознакомление.
Сначала Ева ничего не понимает. Отчеты участкового милиционера, постановление суда о прекращении дела, номер и марка машины, адреса квартир, копия удостоверения помощника депутата Госдумы, фотографии, фотографии…
– Скажи сам, – она нервно отбрасывает от себя фотографии.
– Это один из десяти корректировщиков по взрывам в Москве. Пристрели собаку, я тебя очень прошу. Можешь задавать вопросы, только имей в виду, из меня эмоции, конечно, прут. Ты сейчас видела остатки девятиэтажки. Час назад рванули. Еще репортеры не успели набежать. Я боюсь, что к утру его – человека семейного – обязательно дернут и могут даже задержать до выяснения обстоятельств. Но через какое-то время отпустят как благонадежного, а потом я его уже не найду!
– Нам на собраниях говорят, что корректировщики засланы специально для управления террористическими актами, а этот человек с набором документов живет в Москве не первый год, так?
– Так-то оно так, но имей в виду: по всем паспортным проверкам мы не нашли ни одного засланного. Такую мелкую сошку потрошим, смотреть на убогеньких жалко. Я думаю, что корректировщиками стали люди из московской диаспоры. Сами или по принуждению. По логике думай, Ева Николаевна, ну как внедрят они в Москву засланных? Их же зарегистрировать надо, на работу устроить, поселить, вживить в легенду! Проще дернуть имеющихся и поставить перед фактом «помощи своему народу».
– Где ты взял эти документы? Есть хоть что-нибудь конкретное?
– Документы получил по почте. А конкретика тут такая. Кстати, ты еще ничего не получала по почте? – Карпелов смотрит внимательно, как Ева отрицательно качает головой, – глаза в глаза через узкое зеркальце. – У корректировщика нельзя найти взрывчатку или явный компромат. Я его слушал два дня. Он перебрасывал людей по городу, называл им адреса, двоих уберег от задержания. Вчера вечером он обедал с заместителем прокурора, а перед этим участвовал в съемке передачи о благонадежных чеченских семьях в Москве. Один из его убереженных снял офис в этом доме, – Карпелов кивнул на близкие огни. – Когда я услышал на дежурстве сводку, когда назвали адрес взрыва, меня словно кипятком обварили!
Ева завела мотор.
– Говори, куда ехать. Устала.
Карпелов назвал адрес.
– Я даже не пытался, ты пойми! Куда мне. У него ведь охрана, и зона такая, не подойти, и снайпер я проблемный, а можно будет сделать только один выстрел, если хочешь успеть смотаться, уж я-то своих ребят знаю, про федералов и не говорю! Здесь поверни. Еще раз направо. Приехали, Ева Николаевна.
Они проходят на стройку, Ева медленно оглядывает снизу вверх стрелу башенного крана. Жужжа «молнией», раскрывает сумку и начинает собирать винтовку. Движения ее словно замедленные, на руки она не смотрит, а смотрит на стоящие через полосу деревьев высотные дома элитного района.
– Значит, Киреев? – Она перекидывает ремень через плечо и поудобнее пристраивает винтовку на спине. Карпелов видит, как от тяжести комбинезон стягивается в складку. Ему не по себе, но предложить дотащить на высоту тяжеленную винтовку не решается. Однажды он протянул ей руку, чтобы помочь перелезть через ограждение, на что получил в ответ убийственный взгляд и пронаблюдал двойной прыжок с переворотом с места.
– Киреев, – он становится на перекладины крана и ползет за Евой.
– Александр?
– Ну да, как же. Алихан! Алихан Алиевич. Но в паспорте да, Александр.
На первой площадке они останавливаются передохнуть. Карпелов, шумно дыша, оглядывает редкие зажженные окна. Ева стоит, закрыв глаза, и медленно вдыхает холодный воздух.
– А мне говорили, что наши сделали такую винтовку, которая сама отсчитывает скорость ветра и корректирует полет пули, – Карпелов достает платок и вытирает потное лицо.
– Знаю. Стреляла. «Взломщик» называется. Пули разрывные, любую броню пробить могут запросто. Но эту дуру ты уж точно сам бы сюда волок. Я – пас. Огромная, как противотанковое ружье сорок третьего года.
– Твоя-то тоже ничего себе. Я это… Может, поднесу наверх?
– Нет. Это моя ноша. Она не тянет. Подарок. Ты постой, успокой дыхание. Я полезу, а то холодно стоять, мне еще долго устраиваться наверху.
– С третьей площадки самое то, – Карпелов смотрит вверх. Ева быстро перебирает руками в тонких кожаных перчатках. С рифленых подошв кроссовок на его лицо падает мокрая грязь, он трясет головой и перестает наблюдать плавные движения обтянутых комбинезоном ягодиц и ерзающий над ними приклад светлого дерева.
На третьей площадке Карпелов достает бинокль и показывает Еве окна спальни на четырнадцатом этаже. Ева смотрит в оптический прицел. Света в окнах нет, невидимым коридорным ночником слабо подсвечена кухня. Они лежат рядом, Карпелов на боку, стараясь унять нервную дрожь, Ева – никак не может устроиться на животе, чертыхается и встает. Становится на колени, укладывает дуло винтовки на металлическую перекладину площадки. Над ними нависает темным чудовищем кабина крана, ветер швыряется мокрой крупой.
– Давай план действий, – Ева говорит тихо, глядя в прицел и выдерживая интервал вздохов-выдохов.
– План такой. Я звоню. Он берет трубку. Должен включить свет, должен! У него телефон с определителем высвечивает номер, должен включить ночник, чтобы глянуть, кто звонит. Если трубку возьмет жена, я позову к телефону Алихана. Разбудит она его или нет, но свет включит.
Ева поворачивает голову, задумчиво смотрит на Карпелова и достает из нагрудного кармана металлический футляр. Настроив прибор ночного видения, она рассматривает в неестественном свете размытые контуры спальной мебели, огромную кровать и рогатую голову оленя над ней.
– Он один в кровати. Спит. Можешь не звонить. Хотя подожди. Мне не нравится оттенок стекла.
– Только не это, – стонет Карпелов, – пуленепробиваемые стекла?!
– Нет, скорей просто укрепленные. Мойщику окон, к примеру, из пистолета не прострелить. Звони. Пусть приподнимется. Окно-то я пробью, но прицельный расчет может быть нарушен из-за сопротивления стекла.
Ева оттаскивает винтовку от металлической перекладины, кладет ее осторожно на мокрое железо, присаживается на корточки возле Карпелова, снимает перчатки и начинает расстегивать на нем куртку. Карпелов удивлен, но помогает с заевшей «молнией». Потом она задирает свитер и расстегивает пуговицы рубашки, приподнимает его руки в стороны и вкладывает свои холодные ладони ему под мышки.
– Руки опусти, рот закрой, – она с трудом сдерживает смех, глядя в близкое лицо с удивленно приоткрытым ртом. – Мой товарищ по работе носит с собой валенок-грелку для ног на батарейках. Перед выстрелом засовывает туда руки, а пока ждет клиента – ноги. Удобно.
– Я потею, – нервно замечает Карпелов, зажав ее ладони опущенными руками.
– Я тоже, – пожимает плечами Ева, – но руки отмерзли, к работе непригодны.
Минуты две молчания, Карпелов больше не выдерживает. Он сдвигает ноги, садится и интересуется, где Ева Николаевна греет руки, когда на работе одна? Ева таращит близкие глаза, смеется и сообщает, что греет у себя между ног. Карпелов опускает глаза и старается дышать спокойно.
Нагретые ладони Ева прячет в рукава, прыгает несколько раз на месте, но площадка начинает угрожающе постанывать и качаться.
– Начали, – говорит она, устроившись.
Карпелов набирает на мобильном телефоне номер. Ева разглядывает размытые светящиеся контуры человеческого тела, подгадывает и вовремя закрывает глаза и сдергивает металлический обод с прибором ночного видения на лоб: в комнате зажгли ночник. Карпелов, не дыша, смотрит, как тонкий ухоженный палец ласкает курок, ему кажется, что собачка утопилась сама собой. Он влипает глазами в бинокль. Окно раскрошилось на тысячи мельчайших осколков и осыпалось раздавленным льдом вниз. В откупоренном пространстве комнаты, подсвеченном ночником, Карпелов не сразу определил, куда попала Ева: труп отбросило к противоположной стене, и раздробленная голова сливается с красками дорогого ковра.
Женщина рядом повернула к нему лицо. Карпелов дернулся от отсутствующего застывшего взгляда. Постепенно глаза оживают, вот она уже чуть насмешливо прищурилась, что всегда волновало Карпелова.
– Мы ждем твоих или моих? – Ева встала на ноги. Карпелов с ужасом обнаружил, что не может двинуться. Ему даже показалось на мгновение, что он примерз телом к площадке. Ева протянула руку, Карпелов покачал головой и, сопя от напряжения, встал на ноги сам.
Она подгоняла его, пока спускались, – Карпелов сказал, что первым полезет он. По правде говоря, он все еще не доверял своему телу, словно застывшему в обморочном оцепенении, и не хотел свалиться на женщину.
Ева паковала оружие в сумку, когда на той стороне парка послышались сирены милицейских машин.
– Мои уже приехали, – вздохнул Карпелов.
– А вот и мои, – вздохнула Ева, разворачивая машину. Стройка осветилась бегающим мощным прожектором: вверху натужно стрекотал вертолет. Они доехали до моста и сбросили машину в воду. Прошли два переулка по пустой улице, сели в машину Карпелова и через пятнадцать минут подъехали к ночной закусочной у вокзала. Карпелов подмигнул и вытащил из багажника клетчатую пластмассовую сумку огромных размеров – любимую тару челноков. Сумка с винтовкой вошла туда как родная. Клетчатую сумку в закусочную теперь поволок Карпелов. Услужливо застыв в дверях, он пропустил ее вперед, удерживая плечом сопротивление крепкой пружины, Ева округлила глаза.
– Тока после вас, дядечка! Отвыкла я оставлять мужчину за спиной.
– Ходи быстро, а то дверью зашибет!
Они вместе отпрыгнули, уважительно покивали головами на страшнейший хлопок хищной двери и окунулись в тяжелый сигаретный дым и гомон. Почти все столики были заняты.
– Ты думаешь, это приезжие? Как бы не так, – Карпелов без намека на брезгливость собрал в кучу одноразовую использованную посуду, грязные салфетки, остатки еды и закинул это в урну. – Пасажиры сидят, затаившись, в залах вокзала. Это Москва по ночам общается. Народу – страшно. Вон там, у стойки, мужик в галошах. Говорил я с ним вчера. Доктор наук. Знаешь, с кем он водку пьет? С женой. Тоже академическая дама. Не можем, говорят, дома спать. У них погиб кто-то под блоками дома в прошлом месяце. Сюда даже посты редко заходят: проверяли, проверяли, потом бросили. А вон те двое молодых с гитарой могут иногда и спеть. Отлично поют. Кофе здесь плохой, девчонка из банки «Нескафе» чистое «Пеле» насыпает, а вот глинтвейн отменный.
– А этого знаешь? – Ева показала на огромные ноги в мокрых кедах – сверху бахромой нависли истрепанные брюки.
– Нет, – Карпелов почти незаметно скользнул взглядом по длинной сутулой фигуре у стойки и напрягся, – что-то не так?
– Наверное, показалось. Ну что, давай глинтвейн? И «Пеле» давай, черт с ним. И вон те два куска с кремом, – она показала на разрезанный торт под стеклянной крышкой. – Бутерброды с рыбой тоже можно, да-да! – это она сказала уже уходящему Карпелову, когда он, не веря, обернулся. Как только Карпелов перенес все это по частям на столик, она поинтересовалась: – А ты не проголодался?
– Что это значит – не проголодался? Не хочешь же ты сказать…
– Все съем! – объявила Ева и начала с торта.
Карпелов откинулся на спинку пластмассового стула и смотрел на жующую женщину. Он чувствовал, как холодный тяжелый комок у него в желудке постепенно подтаивает слабыми позывами голода, пил маленькими глотками горячее вино, жевал попавшую в рот корочку лимона, постепенно начинал слышать отдельные голоса людей, а не просто чужой гомон постороннего присутствия и, наконец, провел по лицу сверху вниз ладонью, чтобы раздробленное выстрелом стекло перестало сыпаться перед глазами и закрывать осколками льда теплую пульсацию жизни вокруг.
– Стекло было укрепленное, – кивнула Ева, переходя к бутерброду с рыбой, – ты не поверишь, но у меня уже не бывает простых пуль. Только специальные. Тонкий металл, укрепленное стекло, а если с близкого расстояния, возьму и бронированное.
– Ты всегда… – Карпелов замялся и показал себе пальцем чуть повыше брови.
– Всегда, – оборвала Ева его вопрос. – Только в голову. Голова – самое слабое место, защитить трудно. Ты вот что скажи. Зачем ты потащил меня смотреть взорванный дом? Ты думал, что я не поеду с тобой вот так, с ходу, стрелять?
– Честно говоря…
– Честно – не честно здесь ни при чем. Сколько мы знаем друг друга?
– С тех пор, как я протянул тебе руку. Ты тогда сидела на земле у машины, захватив Января, а я тебя уговаривал, – объяснил Карпелов, видя удивление Евы.
– Я взяла тогда твою руку, чтобы подняться. Это со мной редко бывает. Обычно я встаю с любого места сама. А ты сейчас на кране не взял мою.
– Ну оставь мне хоть немного самолюбия, я тебя прошу!
– Самолюбие здесь ни при чем, и честность тоже. Ты не взял мою руку, потому что я за секунду перед этим на твоих глазах размазала по стенке беззащитного мужика. А на взрыв ты меня потащил, потому что боялся, что стану анализировать, расспрашивать, кого я должна и почему. Ты бы мужчину, своего коллегу, например, потащил бы перед этим на взрыв? Показал бы ему трупы под полиэтиленом?
Карпелов молчал.
– Так вот. Ты ошибся. Знаем мы друг друга давно, но плохо, – Ева вытащила из своей сумки большой конверт и бросила ему через стол. – Я не знаю, откуда ты получил свою информацию на этого человека, а я ее получила по работе. Вот тебе мой рабочий распорядок на ближайшие две недели.
Карпелов в полном изумлении читал мелко напечатанный список. Девять имен. Под каждым – несколько строчек общей информации: адрес, описание привычек, члены семьи, знакомые, марки автомобилей, время посещения некоторых мест – работа, спортивные залы, рестораны. Четыре из них зачеркнуты. Киреев А. А. шел шестым. Еве стало жалко майора, когда он поднял на нее глаза. Но остановиться она уже не могла.
– Да, все так и есть. Я должна была еще немного поработать по нему, но раз ты уже выдернул меня из постели, да еще оттащил на взрыв, чтобы, значит, хорошенько подготовить впечатлительную бабенку!..
– Да я!.. – попробовал перебить Карпелов, но Ева выдернула у него список и стукнула по столу ладонью.
– Оружие он предлагает, вы только подумайте! Какое, значит, хочешь, исполнительная ты моя?! А если не захочу просто так поехать и пальнуть? Лучше сразу отвезти на показательные жертвы. Я все думала там, у взорванного дома, покажешь ты мне парочку детских трупов или нет?
– Все не так, – Карпелов изловчился, схватил ее нервную горячую ладошку и сжал, запрятав в своей большой ручище. – Все совсем не так, но ты меня сделала сегодня, майор. Сделала вчистую. Я обалдел, когда ты его… Что-то во мне оборвалось, когда женщина рядом, механически, буднично вот так! А оказывается, что я, дурак, обмирая от страха и сомнения, отвез тебя на твое собственное задание!
– Пусти. Больно, – Ева пошевелила освобожденными пальцами. – Ты на меня как на инопланетную рептилию смотришь еще с того раза, когда я оделась проституткой и пришла освободить твоего заложника.
– Три выстрела за две секунды, – кивнул Карпелов, успокаиваясь, – а ведь мы с Январем просили тебя лечь на пол и откатиться в сторону. Ладно, давай сделаем вид, что любим друг друга.
– Давай. Можешь съесть мой кусок торта, – Ева толкнула бумажную тарелку через стол. Карпелов улыбнулся, задержав ее рукой. – А теперь ты говори, какие ты получил инструкции?
– По почте. Анонимно, я уже говорил.
– Сколько человек в твоем списке?
– Два.
– Мне нужен конверт.
– Нет конверта. Я его сжег, как приказывалось. Могу отдать сами бумаги. Да, это еще не все, – Карпелов наклонился, и Ева почувствовала его дыхание на своем лице. – Ты заработала! – зеленые сотенные бумажки Карпелов шмякнул прямо в лужицу кофе. – Тысяча твоя, это половина, но я ведь все подготовил и нашел этот кран, так ведь? Ты как собиралась его, а?
Ева, оторопев, смотрела на доллары.
– Кто-то играется с нами, – сказала она.
– То-то и оно, майор. Я, конечно, когда получил все бумаги, завелся с пол-оборота. Два дня по двадцать часов слушал, искал, платил! Все сходится. А тут этот взрыв!..
– Почему ты сжег конверт?
– Потому, – прошипел Карпелов, склонившись к ней еще ближе, – что на нем было написано «Кому: следственному исполнителю бригады „С“ майору Карпелову П.П. От кого: Координационный совет». Вот так-то!
– Я заберу деньги и бумаги. У нас в отделе отличная техника, вытащим из них что можем.
– Свои можешь хоть на молекулы расщепить, а мои – извини. Две сотни я раздал осведомителям, сотню своему начальнику, еще за грязную машину, еще залог за оружие, если бы оно понадобилось. Кстати, второй, который в моем списке, в твоем уже зачеркнут. Это как понимать?
– Он вчера зачеркнулся. А ты получил письмо несколько дней тому назад.
– Плохо, однако, у этого координационного совета с информацией. Нет, ну почему я?!
– Потому что кто-то знает, что ты исполнительный дурак.
– Спасибочки тебе. А ты не поинтересовалась у своего начальства, зачем тебе надо отстрелять таких хороших дядей, исполнительная умница?! – Карпелов в сердцах лупанул по списку Евы рукой.
– Мы три месяца в нашем отделе разработку на них делали. И тут не обойтись тремя сотнями на осведомителей. По полной программе, уж будь уверен! И когда какой-то эмвэдэшник вот так, напором вытаскивает меня из постели, везет на взрыв, потом на отстрел, а мы – шесть человек – четвертый день отрабатываем место и время?! Впечатляет.
– Лучше нам на сегодня расстаться, – заметил на это Карпелов, – а то я тебе ноги повыдергиваю, честное слово, ты меня очень заводишь.
– Самоуверенная дубина! – фыркнула Ева, сгребла со стола бумаги и деньги и не дала ему взять сумку с пола.
– Ну не сходи с ума! – крикнул он, когда, расплатившись, выбежал в холодный сумрак и оглядывался, не обнаружив ее у своей машины.
Но Ева, даже не кивнув на прощание, остановила такси и уехала.
1984
Орел. Мужчина-воин. В еде, в одежде, в привязанностях совершенно неприхотлив. Пользуется тем, что попадается. Легко расстается с любыми увлечениями ради основного – войны. Мужчина этого типа может долго и терпеливо ждать востребования своих основных качеств, он может жить нормальной скучной жизнью и обзавестись семьей (для семьи выбираются только Утешительницы), занимать самое примитивное положение в обществе и в силу своего немногословия и внутреннего благородства не создавать впечатления ждущего. Те же, кому придется пользоваться услугами Орла-воина, могут положиться на него во всем. Никто из воинов-Муравьев, Лисов, Волков или Воронов не достигает совершенства Орла в умении воевать. Для расслабления, временных утех и военной дружбы выбираются Плакальщицы. Орел позволяет собой командовать в случае, если желающий иметь Орла в подчинении превзойдет его способности и умения хотя бы в чем-то (лучше стреляет или плавает, переносит боль, может зашить самому себе рану так, чтобы не занести инфекцию, и так далее). Энергетически – донор. В сексуальных играх особого смысла не видит, они должны максимально полно и быстро удовлетворить потребности отдыхающего воина в половых нуждах. И для Плакальщиц и для Утешительниц любые интересы и привязанности к Орлам противопоказаны. К первым Орлы относятся либо как к проституткам, либо как к воинам, а вторых бросают не задумываясь, как только прозвучит армейская труба.
Все случилось совершенно неожиданно для Хрустова. Они поднялись вдвоем по грязной лестнице. Вера за всю дорогу не проронила ни слова и не удивилась, что Хрустов, не спрашивая адреса, привез ее домой. У двери в квартиру она судорожно копалась в карманах плаща. Хрустов смотрел сбоку на тонкий профиль, на отливающие шелком волосы, зачесанные за уши и собранные сзади в хвостик. Ключ нашелся, но в замок не попадал. Хрустов подумал, что нервничающие женщины всегда заводят его, отнял ключ, прикоснувшись к холодной дрожащей руке, открыл дверь и даже сделал было приглашающий жест, чтобы пропустить Веру вперед, но она, побледнев до синевы, закатила глаза и свалилась на его руку в обмороке.
Затащил женщину в коридор, захлопнул дверь, толкнув ее ногой, подержал, прижимая к себе неподвижное тело, и отнес Веру в комнату в огромное кресло. Туфли сняты, нашатырь не найден, паспорт лежит в выдвижном ящике письменного стола, судя по мусору и грязному белью в ванной, она живет одна. Прошло уже минут десять, а женщина не подает признаков жизни. Хрустов набрал в рот воды из-под крана, подошел к Вере и поднял ее упавшую голову за подбородок. Посмотрел на удлиненное спокойное лицо, проглотил в два глотка воду и в каком-то странном беспамятстве захватил ее губы своими. Он не помнит точно, когда она задышала быстрей – но все еще не открывая глаз – и обхватила его за шею руками: когда он поднял ее и прижал к себе или когда отнес на кровать в смежную комнату. Хрустов быстро стаскивал пиджак, стоя над женщиной на коленях, снял кобуру и расстегивал рубашку, а она все не открывала глаз, кусала губы и быстро дышала. Когда он прикоснулся к пуговицам на ее блузке, глаза вдруг распахнулись с такой силой, словно кто-то невидимый схватил и потянул сзади за волосы. Рукой Вера зажала себе рот и замычала, вскочив. Хрустов лег на спину и слушал, как ее тошнит в ванной. Через пять минут он сел, вздохнул и подошел к скорчившейся над раковиной женщине.
– Раздевайся.
– Прошу вас, не надо, я… Э-э-а-а!..
На голубой эмали раковины сгусток слюны и желчи.
– Раздевайся, я тебе помогу, – Хрустов открыл кран с холодной водой и приготовил душ.
– Я не понимаю, я давно не ела, я не могу остановиться, боже-э-э-а-а!..
Он расстегнул «молнию» на юбке и стащил ее вниз вместе с трусиками. Не обращая внимания на сопротивляющиеся руки, расстегнул и снял блузку. Рвотные потуги уже превратились в конвульсии, когда он поднял ее и поставил в ванну. Взял душ и направил на голову. Вера взвизгнула и присела на корточки, обхватив колени руками. Он смотрел на длинный изгиб позвоночника. Переход боковых линий спины в ягодицы вылеплен просто гениально.
– Хватит, ну хватит! – Женщина подняла руки и закрыла ладонями голову. Мокрые ее волосы стали почти черными, а ведь он отметил еще в квартире Сусанны Ли отблеск темной меди на гладком шелке. Опять же веснушки. Хрустов выключил воду и кивнул, стараясь не смотреть долго на низ живота, когда она выпрямилась: ну ясно, рыжая.
– Прошло? – Он развернул полотенце.
– Спасибо. Извините меня, я…
– Это бывает. Это нервное, как тик.
– Спасибо. Можете выйти, я оденусь?
Конечно, он может выйти. Вот только обольет голову холодной водой. Нет, у него нет тика, но ей действительно лучше одеться.
Она вышла из ванной и еще раз двадцать сказала «спасибо», пока переодевалась за дверцей шкафа, пока пыталась поставить чайник на кухне, собрать рассыпавшийся по полу чай, потом осколки сахарницы. Хрустов загрустил, застегнул рубашку на все пуговицы, подтянул галстук и уже надевал наплечную кобуру, глядя в окно, когда почувствовал на плечах ее руки. Ничего не изменилось в его лице, просто руки, задержавшись на секунду, начали отстегивать кобуру, оттягивать галстук, нащупывать пуговицы. На шестой – он почему-то стал считать – он услышал, как женщина проводит пальцами по ремням кобуры, он напрягся и прижал ее ладонь локтем, когда маленькая рука близко подобралась к оружию. Развернувшись, Хрустов понял, что оружие ее мало интересует – глаза были полузакрыты, голова опущена, лицо спрятано за мокрыми волосами. Он взял ее на руки и осторожно укладывал на кровать, когда зазвонил телефон. Хрустов встал и смотрел на трезвонивший аппарат, застегивая рубашку. Он показал жестом взять трубку, но Вера покачала головой – не хочет. Она пришла в себя и растерянно оправляла халат. Тогда Хрустов снял трубку, послушал натужное далекое дыхание и почти неслышное – выдохом – «Вера!», поднес телефон к кровати и насильно заставил ее взять трубку.
Она услышала голос Су – лицо ее изменилось. Хрустов смотрел, как привычным жестом заправляются волосы за уши, как легкая полуулыбка сменяется изумлением, а потом так знакомой ему по лицам других людей гримасой страха. «Не-е-ет», – простонала Вера в трубку и упала навзничь. Хрустов еще не почувствовал беспокойства, только не понимал, почему звонит девочка, а не Корневич, а Вера уже обещала приехать, уговаривала успокоиться и просто сесть и ждать. Затем она сняла халат, не обращая на него внимания, повторяя в трубку «да… да… да!», потом, выбросив вещи из ящиков на пол, выбрала нижнее белье и, уходя в ванную, отодвинула Хрустова в сторону, словно мешающий предмет.
– Что это было? – поинтересовался Хрустов, схватив ее за запястье.
Она внимательно осмотрела его пальцы на своей руке, вгляделась в лицо. Сначала неуверенно, потом словно оценивая. Хрустов даже подумал было, что, пожалуй, еще раз расстегнет рубашку, но Вера ровным голосом произнесла:
– Су пристрелила этого, который остался у нее брать показания, и просит помощи.
Представить, что томная кошечка – произведение искусства по Корневичу – может вот так запросто пристрелить его начальника, Хрустов не мог, но уже имел некоторую практику вмешательства нелепостей и парадоксов, когда случай побеждает умение. Поэтому в машине он занервничал, достал радиотелефон. Сначала сам набрал номер, потом приказал позвонить по связи через отдел. Квартира Сусанны Ли молчала. Вера забилась на заднем сиденье в угол и дрожала, почувствовав его беспокойство. Он затормозил на светофоре, повернулся к ней и улыбнулся:
– Разберемся.
– А можно, я одна войду? Можно, чтобы вас не было? Понимаете, у нее это бывает, она страшная выдумщица, она иногда не в себе…
– И часто она звонит, что кого-то пристрелила?
Вера замолчала, закрыла глаза. Хрустов понял, что она больше не заговорит – они снова по разные стороны, но его это устраивало, разговаривать особо не хотелось.
Перед дверью Сусанны Ли он заставил Веру стать сзади и достал оружие. Вера всхлипнула и зажала рот ладонью. Хрустов толкнул дверь, она открылась. В темном коридоре – никого, он удерживал Веру сзади рукой, пока не увидел Сусанну на полу в кухне.
– Где он? – спросил, глядя в безумные желтые глаза. Сусанна трясущейся рукой показала в комнату, Вера бросилась к ней, а Хрустов шагнул в комнату и первое, что увидел – вспучившуюся животом тушу своего начальника на ковре. Он подошел поближе, приоткрыл его пиджак, приложил пальцы к шее, убрал пистолет. Достал из кармана Корневича носовой платок, посмотрел на него с сомнением, затолкал обратно и снял накидку с кресла. Ее хватило как раз, чтобы закрыть голову начальника и верх живота. Подумал и заправил руки под накидку.
– Помогите, – прошептала Вера в дверях.
– Да, девочки, – Хрустов снял пиджак, – влипли вы по полной. Ставьте чайник.
– За-зачем? – Вера стискивала пальцы до посинения.
– Раствор делать. Будем труп в ванной растворять. Надо много кипятка.
Она с трудом удержалась за притолоку. Хрустов стал говорить быстро, чтобы у нее не было возможности подумать:
– Где оружие? Ты подруге пощечин надавала? Куда она дела оружие? Надеюсь, не выбросила в окно? Приведи ее в чувство, кофе, коньяк, водку, давай, давай!
Вера дернулась и пошла в кухню. Позвала его через минуту. На столе лежал «вальтер». Хрустов осмотрел оружие, понюхал дуло, вынул и заложил обратно патроны. Всего два.
– Сколько раз пальнула?
Сусанна смотрела, не понимая.
– Ты что, его расстреливала? Сколько раз нажимала на курок? Сколько было патронов?
– Я? Один раз. Один раз, а он упал. Он… Понимаете, это было, как в страшном сне. Он сначала сморкался на ковер, потом повыдергивал все «жучки», их было три. Они у него в кармане. «Теперь – все! – спрятал эти приборчики и смотрит, как людоед: Никто теперь нас не слышит!» Потом орал на меня нена… ненра… ненормированной лексикой. Потом говорил, что сгноит в тюрьме, а потом вдруг вон там в кресле… – Су захотела пройти в комнату, чтобы показать, но Хрустов удержал ее, – вот так сел, ногу на ногу закинул и на прекрасном французском!..
– Ну?! – Хрустов не выдержал тишины и застывшего взгляда женщины. – Ну, где кофе? Вера, давай, где спиртное?
– Что? – вскинула глаза Су.
– Ты сказала, что он тебе на французском?..
– Может быть, всего этого не было? – жалобно спросила Су. – У меня так бывает, я увлекаюсь, когда что-нибудь представляю, он не мог ведь заговорить на французском, да? Подождите… Он и на русском, он стихи вдруг начал, это было так страшно. Не надо этого, я не буду пить!
– Пей! – крикнули Вера и Хрустов одновременно.
– Не кричите, я не сошла с ума. Если он – не реален, то я никого не убила и нечего мне трястись. Когда он сказал все, что обо мне думает на русском языке, он начал совершенно другим голосом… Же ву при, – Су махнула рукой, как будто отгоняла от лица плохой воздух, – сказал, что я – порожденье сатаны, забытый сон отцветшей вишни… Потом сказал, что «..как невеста я тиха» и что «надо мною взор кровавый золотого жениха». Что это было? – Она скривилась, собираясь заплакать, и Хрустов замер: вместо истерики или плача – засунутый в рот большой палец и испуганный взгляд ребенка.
– Это Гумилев – «Невеста льва», – прошептала Вера.
– Что? – Хрустов почувствовал, что жутко устал и уже плохо соображает, где он и что вообще делает. Одно он понял точно: его начальник явно перестарался с психологической контрастной атакой.
– Это стихи Гумилева, а про порожденье сатаны – это похоже на хайку, – шепотом сказала Вера.
– При чем здесь хайку, когда на французском? Он бы на японском и говорил, – вытащила изо рта палец Су.
Хрустов подумал, знает ли его начальник японский? Наверное, нет, а то бы блеснул, это точно.
– Это как – на французском? – Вера повысила голос.
Сусанна что-то залопотала, сглатывая напряжение. Хрустов уставился на ее рот, налил себе рюмку из шикарной бутылки.
– Пэрдрэ са флёр – это не «отцвести»! Это – «лишиться девственности», – возмутилась Вера. – Вишня должна быть fletrie!
– Как? – поинтересовался Хрустов, наливая вторую.
– Не надо вот этого! – Су машет указательным пальцем, Вера отняла у Хрустова рюмку и залпом выпила. – Не надо, Верочка. Де флёри – fletrie – это «увядшая»! Увядшая и отцветшая вишня – это разное. Он все правильно сказал, он сказал просто восхитительно, и это было ужасно!
– Тогда надо перевести как забытый сон вишни, потерявшей девственность! – не сдавалась Вера.
– Научись, наконец, с ходу и переводить конгруэнтно и подавать поэтично! Забытый сон отцветшей вишни!
– Где ты взяла пистолет? – заорал Хрустов и стукнул по столу рукой, что вернуло ему ощущение реальности.
– Купила, – прошептала Су, обхватив горло ладонями.
– Этот швед, который… Который у тебя умер, он делал подарки? – Хрустов с удивлением обнаружил, что слегка пьян. Это с одной-то рюмки. Надо срочно поесть.
– Не-ет. Он понимал, что удобнее деньги. Хотя в прошлый раз он подарил мне Библию.
– Почему Библию? Какую?
– Ветхий завет. Небольшая такая книжка. Толстая. Переплет дорогой. Я сама попросила.
– Вот так вот и попросила, да? Что тебе привезти, дорогая? Может, норковую шубку или золотой браслетик? Нет, милый, привези мне Библию. Я ее буду читать на ночь!
– Вы что, не знаете, что золото трудно провезти через границу, его надо декларировать? – Су рассердилась и моментально успокоилась.
– Библию тоже надо указывать, насколько я знаю! Это по перечню – запрещенная литература.
– Как вас зовут? – вдруг спросила Вера, и Хрустов с удивлением уставился в близкие глаза. Коричневые, почти черные. Цвет крепкого кофе.
– Виктор Степанович, – он кивнул головой. – Который час?
Все трое уставились на настенные часы. Половина девятого. Народ вовсю стучал дверью подъезда, спеша на работу или в магазины. Хрустов потер глаза.
– Где у тебя в доме мусоропровод?
– Что? – не поняла Су.
– Отставить растворение в кислоте. С кипятком проблема.
– А за… Зачем для растворения в кислоте нужен кипяток? – прошептала побледневшая Вера.
– Долго объяснять. Короче, чтобы даже коронок от зубов не осталось! – Когда в беседе наступала пауза, Хрустов начинал двигать рюмки на столе, шаркать ногами, потягиваться со стоном. Как только женщины застыли в ужасе, уставившись друг на друга после его объяснения, он с удовольствием потянулся еще раз и объявил: – Посему сделаем так. Мусор во дворах уже вывезен. Дом у тебя старый. Где, ты сказала, мусоропровод?
– В подъезде, – еле слышно прошептала Су.
Вера судорожно глотнула. Наверняка ведь подумала, что предстоит расчленение и выброс в мусоропровод. Хрустов забеспокоился, что у нее опять начнутся рвотные конвульсии, и быстро объяснил, что собирается упаковать труп своего начальника в мусорный бак во дворе, закидать его имеющимся мусором, а он потом подгонит фургон, заберет сразу контейнер целиком и вывезет на свалку. И все это надо сделать очень быстро.
– Почему? – почти неслышно прошептала Вера.
– Потому что утром народ не особо бдительный.
– Почему вы это делаете? – повысила она голос, впившись в его лицо испуганными глазами.
– А как ты думаешь? – Хрустов нагло осмотрел ее. Вера покраснела. Он с сожалением оторвал взгляд от ее опущенного лица и уставился в желтые глаза Су. – Сейчас поможете мне с выносом. Потом сразу поедете к Вере. Поешьте, отдохните. Вечером ты, – он ткнул пальцем, Су дернулась и закрыла глаза, – вернешься сюда. Ночевать будешь здесь. Если позвонит кто-нибудь из заграничных клиентов, сразу сообщишь. У меня есть сильное подозрение, что шведа убили долгодействующим ядом, тебе тоже может угрожать опасность.
– Я… Я не могу здесь ночевать! Я боюсь.
– Ничего, почитаешь Библию перед сном. Все. Встали!
Женщины вскочили. С грохотом упали табуретки.
– Ну?! – крикнул Хрустов. – Чего ждем? Спускайтесь во двор и подкатите к подъезду любой более-менее пустой контейнер. Потом поможете его вынести. А уж кровь с ковра любительница Библии смоет ночью.
Он смотрел в окно, как женщины катят мусорный контейнер и жестикулируют, ругаясь. Он не пошел в комнату, где лежал Корневич, а порылся в холодильнике и с наслаждением заглотал впопыхах плохо прожеванный кусок копченой колбасы. Последний глоток пришелся на момент появления в квартире женщин.
– Не стойте, у нас мало времени. Ты – за одну ногу, ты – за другую.
– Не-е-ет, – простонала Су.
– Давайте я одна помогу, – решилась Вера, – не надо ее, ей станет плохо.
– А станет плохо – надаем по щекам! Быстро взяли!
Хрустов захватил Корневича сзади под мышки и приподнял, разглядывая небольшую лысину на голове, упавшей на грудь. Вера взялась за ногу дрожащими руками, но захватила хорошо, а Су отвернула голову и взялась тонкими пальчиками за брючину, стараясь не прикасаться к щиколотке.
– Так и понесем по лестнице? – вскинула Вера глаза на Хрустова, когда они, топчась, еле выбрались из квартиры на лестничную клетку.
– Чем меньше предосторожностей, тем больше вероятность естественного разрешения проблемы, – изрек Хрустов. – Вот так просто и понесем. Просто, но быстро.
Внизу он положил Корневича животом на край контейнера, потом перекинул ноги, отчего его начальник грохнулся на дно, слегка закиданное мусором. Удачно брошенная у подъезда связка макулатуры счастливо разрешила проблему прикрытия: не пришлось выгребать мусор из других контейнеров и засыпать им неподвижное тело, которое женщины по странному импульсу древнего садистского любопытства осмотрели напоследок. Они ушли к метро «Университет», вцепившись друг в друга и не оглядываясь, а Хрустов попросил закурить у спешащего худого человека с портфелем, тот оставил ему спички, и раскуривание долгожданной сигареты превратилось в неожиданное медленное удовольствие. Первая затяжка. Из контейнера воняет. Подошла неопрятная женщина в черном халате. Она начала что-то визгливо доказывать Хрустову, он не сразу понял, а оказывается, ему не надо было подтаскивать контейнер к подъезду, чтобы выбросить пачку газет, оказывается, это делают только недоношенные кастраты, кто теперь будет отвозить контейнер на место? Он смотрел на ее ноги. Затягивался, прикрывая глаза. Шерстяные носки и галоши. Мордва? Татарка? Она открыла дверь в мусоросборник, все так же крича, вытащила оттуда коробку с мусором, что нападал из мусоропровода, и уже собиралась высыпать ее, когда Хрустов показал пальцем на медленно вставшего в контейнере Корневича:
– Вот он оттащит, не беспокойтесь.
Корневич сначала молча надувался бешенством, потом, когда отлепил с живота обертку от маргарина, долго и виртуозно объяснял, что такое конкретно кастрат и отчего случаются недоношенные дети. Хрустов выбросил сигарету и поплелся по лестнице на второй этаж. Пока Корневич отмывал с простреленного пиджака подозрительные пятна, Хрустов ополовинил колбасу и нагрел чайник.
– Ну и как это называется! – сопел Корневич, расстегивая рубашку и снимая накладки облегченного бронежилета. – Ты что это со мной вытворяешь, капитан Хрустов?!
– Обработка будущего осведомителя, товарищ майор.
– Ты что, не мог ее просто увести из квартиры?! – Майор шипел, потрясая накладками, от него попахивало гнилью.
– Фактор достоверности – основной в организации запугивания. Твои слова, майор. Скажи лучше, зачем и как ты довел ее до выстрела, я не очень понимаю?
– И не собирался! – орал Корневич. – Я к ней с определенным подходом, поразить хотел. Слышал, как я ее сразу подготовил: Скуверт! Я фамилию шведа прочел, как участковый с незаконченным средним: латинские буквы русским звучанием. Сначала изобразил милицейского дебила, а потом стал читать стихи! Она на меня уставилась, думал – в ноги кинется, я ведь хорошо читал. А она спокойно встала, взяла свою сумочку и с улыбочкой так медленно, спокойно – шарах! Какой бог меня охраняет, не знаю: я с ночного дежурства совершенно случайно оказался в бронежилете. А представь только, что с нею остался ты! Голенький! Валялся бы сейчас тут дохлый! – Корневич показал пальцем на ковер. Хрустов поднял указательный палец, достал из холодильника томатную пасту. Банка была открыта, верхний слой покрылся плесенью, Хрустова шатало от усталости, он сел и тщательно размешал в стакане пасту с водой.
– Сморкался на ковер?
– Ну сморкался! Я еще и народным языком ей объяснял, кто она такая есть и что с ней надо сделать, и спокойно пережила, не дрогнула. А когда я перешел от конкретики к лирике!.. Ты только посмотри, она ведь точно в сердце целила, – он потряс бронежилетом.
– Я едва услышал, подумал, что она тебя – из твоего пистолета. Ты на звонки не отвечал, я ехал прощаться. А потом такое облегчение наступило, честное слово. Привык я к тебе, майор, оказывается.
Корневич поднял табуретку и тяжело сел, принявшись выковыривать пулю.
– Коньяк хлещешь, сволочь, беседу ведешь, а я там чихнуть боюсь! – Он щелкнул пальцем по бутылке и отпил из горлышка.
– Да ладно, сопел, как крот! – Хрустов сходил в комнату, вылил густой томатный сок на ковер, растер его рукой и тщательно вымыл стакан. – Хорошо еще, что такая истеричка попалась. Вера – та поспокойней, я все боялся, что она очнется, рассмотрит тебя или раной поинтересуется. – Хрустов разлил остатки из бутылки по рюмкам, задумчиво посмотрел на Корневича. Голый по пояс, тот бросил бронежилет на пол и вытирал лицо грязным носовым платком. Они выпили молча, потом Хрустов поинтересовался, знает ли Корневич японский.
– Только романские языки! – заявил майор. А когда Хрустов нахмурил брови, обдумывая ответ, пояснил: – Немецкий, французский и английский, а в чем дело?
– Красивый язык этот французский, – покачал головой Хрустов, – по-английски ведь наверняка было бы просто трахнутое дерево, так? Ну-ка скажи! Скажи про дерево, потерявшее девственность.
– Конкретно про вишню? – поинтересовался заплетающимся языком Корневич. – Давай я тебе скажу лучше, отчего умер швед. Диабетическая кома. А теперь – стихи!
Снайпер Курганова
Близнецы проснулись, как всегда, в половине седьмого. Ева слушала возню в соседней комнате, потом дверь приоткрылась, они подбежали к ее кровати, шлепая босыми ножками, заползли, уселись и стали осторожно трогать лицо, шею и руки.
– Вы замерзли. Лезьте под одеяло, – прошептала она, не в силах открыть глаза.
– Откуда я без трусов? – поинтересовался маленький Сережа, зажигая ночник.
– Ну-ка говори быстро, откуда ты такой? – Ева поймала визжащее тельце и проснулась.
– Соломи его! Соломи! – прыгала маленькая Ева. – Изигуда покышка!
– Перестань так разговаривать! – Ева погрозила девочке пальцем.
– Не ану! Закуда!
– А Муся уходит, – Сережа пытался встать на голову, закидывая вверх согнутые ножки. Он говорил удивительно чисто. Ева придержала его спинку и посмотрела на Еву-маленькую.
– Пипуха чуханая-я-а-а! – заныла та вдруг, немедленно обнаружив на длинных ресницах тяжелые слезинки. – Не очу!
Вошла Далила в длинной ночной рубашке.
– Ну ты, пипуха, опять бузишь? – Она легла рядом с Евой и посадила девочку на себя. – Куширла локо? – спросила она. Ева-маленькая перестала плакать, сползла на пол, цепляясь за кружева рубашки.
– Да! – кричала она, отшлепывая начало дня звонкими пятками. – Да! Да!
– Вы что тут теперь все так разговариваете? – осуждающе уставилась на Далилу Ева. – Прекрати немедленно, ты же сама говорила, что не надо ей потакать!
– А пол любит голые пятки? – поинтересовался Сережа.
– А что я сейчас сказала? – Далила помогала слезть мальчику.
– Ты спросила, хочет ли она молока. Но зачем так?
– А как ты поняла, что я сказала?
– Не знаю. Что-то такое, потом – «локо». По созвучию, наверное.
– Слушай меня. У нас сплошной каверлак завелся и горюха, пока тебя не было. Пока ты бузонила по тверлыкам. Кстати, где ты ночью швырлилась?
– А ты запоминаешь все эти слова или просто так с ходу придумываешь? – Ева повернулась на бок и подозрительно осматривала припухшее ото сна лицо рядом.
– Иногда я записываю то, что говорит девочка, – зевнула Далила. – Пипуха, кстати, – это ласкательно-ругательное.
– Сколько тиков? – спросила Ева, потягиваясь.
– Почти семь.
– Что у вас случилось? Что это за каверлак и горюха?
– Найди время. Нам нужно поговорить.
В коридоре – сопение и визги. Пятясь, в комнату вползла Ева-маленькая, она из последних сил тащит на себя мягкую зеленую гусеницу. За гусеницу прицепился Сережа, он еще в коридоре, его не видно. Девочка не выдерживает, выпускает игрушку из рук и падает на спину.
– Зюка куханая! – визжит она и стучит кулачком в пол.
– Не смей ругаться! – повышает голос Далила.
Выходит Илия, его глаза закрыты, он нащупывает на полу Еву-маленькую, берет на руки и говорит, прижимая к себе:
– Не плачь, латушечка, пошли поищем исуню.
– Вы все тут с ума посходили? – возмутилась Ева. – А меня только два дня не было! Куда он потащил ребенка? – Она, не веря, поворачивается к Далиле, потом в ужасе наблюдает, как длинный подросток выходит на балкон с девочкой на руках.
– Не мешай. Они исуню ждут.
– Что это такое – исуня? – Ева срывается с постели и, ухватив за пижаму, вытаскивает Илию с балкона. Он укоризненно замечает, что ему мешают проводить с ребенком оздоровительные воздушные ванны. Ева выходит в темноту, обжигая ступни холодом балконной плитки. Перед ней светится утренними окнами город, ледяной ветер взметает волосы, она закрывается рукой, задохнувшись. Зима. Не день и не ночь, а только перепутавшая время зима – никакого намека на исуню. До исуни еще месяца два.
– Останься дома, – говорит Илия, заметив, что Ева торопливо собирает сумку, – я сам отведу малышню в ясли.
Близнецов вторую неделю отводили в частные ясли до обеда. Для общего развития и налаживания контактности, как заметила Далила. Ева точно не знала, помогла ли группа в семь человек общему развитию близнецов, но насчет контактности все было ясно: трое воспитательниц уже стонали – все дети заговорили на непонятном языке.
– Я отведу, – Ева выглянула из комнаты и увидела, что дети, сопя, сами одеваются в прихожей, а Илия непостижимым образом уже одет.
– Нет уж, ты останься. Тебе же сказали: проблемы у нас. Останься. Отключи свой телефон и поговорите втроем. Если чего не поймешь, я приду через час – разъясню.
Ева нашла глазами глаза Далилы. Та отвернулась и закрыла лицо рукой.
– Что, так серьезно? – Ева села на кровать и отвела руку. Далила молча плакала.
– Не плачь, – громко сказала Муся, появляясь в дверях комнаты, – а то уж и я зареву! Когда ты плачешь, у меня сердце переворачивается.
– Эй, девочки, да что происходит?! – повысила голос и Ева.
– Уезжаю. Спасибо вам, – Муся подошла к кровати, встала на колени, удержавшись рукой за спинку, наклонилась и взялась рукой за ступни Евы. Ева оцепенела. – Спасибо тебе за доброту и доверие, Ева-красавица, – она склонилась еще ниже и приложилась лбом к ногам, Ева дернулась, – ты мне детей своих доверила, я люблю их как родных. И тебе, Далила-умница, – Муся приподнялась и поцеловала Далиле руку, та заплакала в голос. – Ты мне поверила сердцем, а по учености своей не должна была. Ну вот, я все сказала, а вещи уже собраны, – Муся села на пол, расставив ноги в стороны, и уставилась в пол.
– Маруся, не уходи, – прошептала Ева. Она решила ничего не выяснять, а пока просто уговорить женщину остаться. Потом разберется. – Я к тебе приросла внутренностями. Ты детей моих вскормила. Не уходи, мы ведь родные уже!
– Пришла я к вам прямо из своей беды, – начала Маруся-Муся, покачиваясь, – у меня тогда как раз первый ребеночек умер, я, если бы к себе деточку какую-нибудь не прижала, и грудью бы воспалилась, и умом повредилась. Люшка нашел меня на вокзале, я никуда из вокзала не отходила, потому что больше туалетов не знала в Москве, а сцеживаться надо было раза по три-четыре. Вы мне поначалу показались дурными – кто же чужих детей берет, да еще сразу по двое, не умея запеленать правильно?! А потом я ничего, приняла вас, потому что вы добрые и не жадные. На еду не жадные, на деньги и на доброе слово. Только так теперь получается, что надо мне уходить. Пришла пора. Нельзя моему ребеночку оставаться с вашими. Злой он. Он нас всех пересилит и мир сожжет. Нельзя.
– Что с твоим ребеночком? – прошептала Ева. – Он болен?
– Я любую болезнь заговорю и вылечу. Нет, он не болен.
– Он не ходит до сих пор, я думала, это болезнь, – Ева с трудом подняла сопротивляющуюся голову Маруси и попыталась заглянуть ей в глаза. На нее глянули бездонные голубые озерца боли. – Ты же сказала, что сама разберешься?! Я же предлагала врачей, любое обследование, – ты сказала, чтобы тебя и его не трогали!
– Не болезнь это, – Маруся убрала руку Евы и задержала в своей, – когда захочет, он пойдет. Когда захочет – заговорит. Он пока не хочет, так ведь это и к лучшему. Ты суетливая очень, не видишь ничего рядом.
– Чего я не вижу?!
– Скажи ей ты, я по-научному не умею, – кивнула Муся Далиле.
– Чего тут говорить. Наука здесь ни при чем, – Далила встала, вытерла щеки и подошла к сидящей Мусе. Глядя на Еву, она расстегивала шерстяную кофточку, а потом бюстгальтер кормящей матери с пуговицами впереди, – смотри сама и делай выводы.
Ева дернулась, зажимая рот ладонью, чтобы не крикнуть: соски Муси были словно изжеваны, зажившие раны темнели кровоподтеками чуть выше по груди, свежие – сочились сукровицей, смазанные какой-то мазью. Ева сглотнула и вдруг почувствовала, что сейчас тоже заревет. Она помнит эту большую красивую грудь, с тех пор как Муся появилась рядом с нею и детьми. Она помнит, как маленькая сытая Ева играла с розовым соском и строила ему глазки, как счастливо засыпал сытый Сережа, собственнически уложив растопыренную ладошку на нежнейшую кожу с прожилками, она помнит запах – переевшие дети срыгивали, и этот запах чужого лишнего молока был запахом жизни.
– Это… Это делает твой мальчик? – прошептала Ева, зажмурив глаза и не в силах смотреть. Теплые слезы потекли по щекам.
– Ну, сейчас все заревем, – застегивается Муся.
– Зачем ты его кормишь так долго? Ему ведь уже больше двух лет! Сколько ему? – Ева нервно хватает Далилу за руку. – Сколько ему? Почему она до сих пор не говорит, как его зовут? Конечно, у него зубы уже! Он Мусю кусает, потому что зубы режутся!
– Он меня грызть будет столько, сколько захочет. И молоко у меня будет прибывать столько, сколько он захочет его пить. – Муся поднялась с пола, вынула шпильки из волос, и Ева заметила седые пряди.
– Маруся думает, что ее сын – дьявол, – глухо произнесла Далила. – Она не хочет, чтобы он жил рядом с нашими детьми. Она боится. Она одна хочет отвечать за все, что он сделает.
Боль в глазах Евы сменилась ожесточением. Прищурившись, Ева оглядела сначала Марусю, заплетающую косу и укладывающую ее на голове, потом Далилу, потерянную и зареванную.
– Ну вот что, подружки мои сердечные. Вы тут совсем без меня свихнулись? Неси ребенка! – кричит она вдруг. Маруся дернулась и уронила шпильку.
– Не надо, – тихо просит Далила.
– Чуть что – орать. Привыкла, конечно, на работе главная теперь, звание получила, – бормочет Маруся и заново укладывает волосы.
– Ребенка неси, я сказала! Я вам покажу дьявола! Что она читает? – Ева бросилась к телевизору в большой комнате. – Что она смотрит? Это – чье? – в ноги Далиле полетели кассеты: разинутый в крике рот, скрещенные ножи, крест, надпись «Омен». – Ты хочешь, чтобы она не свихнулась, просматривая такие фильмы? У нее молоко течет уже три года, кто хочешь умом тронется с таким кино! Кто читает «Парфюмер»?! Кто читает Кортасара? – кричит Ева, скидывая на пол книжки с полки у телевизора.
– Кеша читает «Парфюмер», а я читаю Кортасара, – Далила остановилась в дверях, сложив руки на груди. – Перестань орать, пожалуйста. Все серьезней, чем ты думаешь. Поговори с Илией.
– Да работать надо, книжки нормальные читать, спать больше, гулять, а телевизор вообще разбить!
– Разбей это все! – Далила разводит руки в стороны и кричит: – Мир – это только то, что ты видишь и трогаешь, разбей предметы, занавесь окна. Ты не можешь ее понять, потому что все время ходишь рядом со смертью. А для нее смерть – это конец, понимаешь? Для тебя – начало, а для нее – конец. Она робеет перед смертью, а ты убиваешь за деньги, – закончила Далила почти шепотом.
– Ну и кто тут дьявол? – зловеще поинтересовалась Ева. – Здесь одна смертельная угроза – это я, а детям нельзя смотреть порно, надеюсь, это понятно? Нельзя человеку смотреть это, пока он это не делает!
– Здесь нет никакого порно.
– Эти кассеты и твои книжки – это чистая порнография смерти. Нельзя неподготовленному человеку касаться такого. Нельзя подростку читать «Парфюмер»! Нельзя кормящей матери смотреть, как младенец кого-то убивает!
– Не ругайтесь, – Маруся появилась неслышно с ребенком на руках, – ты как дома бываешь, так или орешь, или спишь.
– Почему, – завелась Ева, – я иногда для разнообразия стираю, играю с детьми в перерывах в стрельбе, готовлю еду, позавчера суп сварила и курицу запекла с лимоном, по-моему, тебе понравилось. – Она подошла к Марусе, продолжая говорить, взяла под мышки черноволосого кудрявого мальчика и потянула к себе. Мальчик вцепился в кофту Маруси и отвернулся, прижавшись головой к шее матери. – Я еще по вечерам иногда песни детям пою, – сказала Ева, сглотнула, успокаиваясь, и стала говорить тише и медленнее: – На лугу гуляет лошадь очень редкой красоты, лучше нам ее не видеть, лучше нам ее не слышать, лучше нам ее не трогать, я так думаю, а ты?
Мальчик поднял голову и посмотрел искоса. В черноте радужной оболочки терялись зрачки.
– Если эту лошадь тронуть, столько вдруг произойдет!.. – Цепкие пальцы отпустили кофту, рот приоткрылся. – Солнце в омуте утонет, ракушка себя зароет, – Ева забрала к себе мальчика, уставившегося на ее рот, – и волчица вдруг завоет, и багровый снег пойдет. Мы не тронем эту лошадь, мы не слышим эту лошадь, мы не будем и смотреть, эта лошадь – это?..
– Смерть, – отчетливо произнес мальчик в полнейшей тишине.
Маруся схватилась за грудь слева, Далила побледнела, Ева осторожно села, прижав к себе ребенка. Он вцепился ей в руки сильными пальцами.
– Он разговаривает! – Далила протянула руки к Марусе.
– Лучше бы он молчал, – перекрестилась Маруся. – Прости, господи, за его первое слово, прости неразумное дитя.
Ева, сжав зубы, смотрела, как из-под маленьких ногтей, проткнувших ей кожу, выступает кровь. Она с силой отцепила одну ручку и поднесла к лицу, разглядывая. Мальчик засопел и дергал рукой с растопыренными пальцами, стараясь достать близкую щеку. Еву поразили его ногти: твердые и острые, словно подточенные злым маникюрщиком.
– Пойдем мы, что ли? – Маруся неуверенно приблизилась к дивану и протянула руки сыну. Теперь он вцепился в одежду Евы, не желая уходить.
– Нет, – сказала Ева, отдирая его вторую руку, – подождем Илию. Я хочу знать, что он скажет. Я не отпущу тебя без него. Он тебя привел, пусть он тебя и уводит. – Ева смотрела, не двигаясь, как Маруся забрала ребенка и уносит его, дергающегося и воющего, защищая лицо от острых ногтей. – Я знаю, что ты ходила с Мусей к психиатру, – она глазами нашла застывшую у окна Далилу. – Как давно это у нее началось?
– Что именно?
– Такое отношение к ребенку. Такая болезнь.
– Подождем Илию.
– Ты же медик в какой-то степени!
– В какой-то степени, – вздыхает Далила.
Они слушают, как входит в квартиру Илия, как возится он в коридоре, вот он уже стоит в комнате, потирая замерзшие руки.
– А, мамаши, переживаете? И зря. Все нормально. Я понимаю, конечно, что труднее всего сейчас вам объяснить, что на самом деле все нормально. Все так и должно быть. Будем есть?
– Что тут нормального? – не выдерживает Ева его спокойной улыбочки. – У Маруси от постоянного трехлетнего притока молока мозги повредились, она никому не показывает ребенка, не дает ему играть с двойняшками, спит с ним в одной кровати и не спускает с рук, а потом объясняет все это мистическим бредом!
– Слушай, я попробую тебе объяснить, но в кухне. Муся! – кричит Илия. – Пойдем чай пить.
– Может, поговорим здесь? – Ева не знает, как разговаривать при Мусе.
– Вот твоя ошибка номер один. Когда ты в лесу садишься под кустик по-маленькому, ты стесняешься этого кустика? – Илия ставит чайник и достает тарелки со вчерашними бутербродами.
– Какой кустик, в чем дело вообще?
– Люшка меня очень любит, – улыбается Маруся, усаживаясь на свое место в самый угол.
– Маруся – она всегда и везде, как кустик, как воздух, – кивает Илия. – Что у тебя с руками?
Ева прячет руки под стол и сообщает тихо:
– Люди, я вас очень люблю, но жить в таком дурдоме не могу.
– Да ты и дома-то не бываешь, – замечает Далила, занявшись заварным чайником.
– Бываю – не бываю, но вы – все, что у меня есть.
– Да ты не нервничай, мамочка, – Илия достает ее руку, кладет на стол и гладит.
– Не называй меня мамочкой!
– Ты официально моя мамочка с позапрошлого года.
– Я в деревню поеду, – объявляет Муся, разрезая батон и намазывая хлеб маслом, – возле воды и деревьев всякая смуть проходит, – она кладет на масло сыр, потом колбасу, потом шпротины из банки. – Ешь! – многослойный бутерброд движется на Еву, Ева, наблюдавшая в оцепенении процес его изготовления, дергается, очнувшись, и отказывается. Муся вздыхает, пожимает плечами и начинает медленно закладывать край бутерброда себе в рот. – Как странно жизнь повернулась, – не прожевав, говорит она, – я когда тебя первый раз увидала, не поверила, что такая красота бывает. Потом, конечно, понятно стало, что не все же сразу. Бог дает что-то одно. Чутьем он тебя обидел. Ты не слышишь, как земля дышит. Ты не веришь в мои рассказы.
– Я не верю, что у тебя ребенок от паровоза. Это какой-то фольклор деревни Рыжики, – быстро проговорила Ева, словно защищаясь. – Если все так, как вы говорите, хоть это и полный бред, а я – нечувствительная реалистка, то все упрощается. Реалистам, как правило, мало надо: самого идиотского доказательства, но только на уровне. Я понятно говорю?
– Так ведь где твой уровень, а где мой! – назидательно заявила Муся. – Не сговоримся мы. Не поймемся.
– Ты что скажешь? – Ева нашла глаза Далилы и дождалась, пока та не опустила ресницы.
– Я верю Марусе. Пусть она делает так, как считает нужным.
– Значит, пусть она отвезет ребенка в богом забытую деревню, где жителей – пять человек и то летом, пусть воспитывает его в полной уверенности, что родила антихриста, не показывает людям, пусть он ее сожрет, да?! Почему бы тебе не объяснить все это психозом матери-одиночки, зациклившейся на собственном ребенке до помешательства и самоистребления?!
– Пошли, – вздыхает Илия и встает, – покажу тебе доказательства.
– Ты лицо заинтересованное, – качает головой Ева, – ты сам ходячая аномалия – третий год застрял в пятнадцатилетии, а еще и гипнозом балуешься!
– Я честно, – шепчет подросток, прикладывает указательный палец к губам и осторожно приоткрывает дверь в комнату Маруси.
Черноволосый мальчик спит, Ева слышит его спокойное дыхание, в утреннем сумраке комнаты разметавшееся тельце беззащитно, Ева сжимает зубы: ну надо же быть такой идиоткой! Отпуск, что ли, взять, отнять ребенка, гулять с ним, читать стихи и петь песни, катать его на пони в зоопарке, валяться в снегу! Ведь выкормила же Муся ее двойняшек, неужели вот так отпустить ее в безумие? Она уже набирает воздуха, чтобы сказать это Илие, но тот смотрит, грустно улыбаясь, и качает головой: нет. Ева чувствует, что он опять все понял до слов, и смотрит покорно на его действия. Илия показывает ей ладонь, проводит по ней другой ладонью, словно фокусник, который доказывает, что все чисто – без обмана. Потом жестом – глаза закрыты, голова набок – показывает, что ребенок спит. Он вытягивает руку так, что ладонь расправлена как раз над головой мальчика, закрывает глаза, нащупывает в воздухе какое-то ему одному понятное место и кладет ладонь Евы на свою. Они стоят, застыв, несколько секунд, потом Илия убирает свою руку. Ева дергается и кусает губу, чтобы не закричать: в первое мгновение ей кажется, что к ее ладони поднесли свечу. Она не отдергивает руку, застыв в прострации, и чувствует, как горит кожа, а потом облегчение угасшего огня: Илия подставил свою руку под ее.
Ребенок беспокойно пошевелился, Илия нахмурился и показал, что надо уйти. Он ведет ее в ванную, открывает кран и намыливает волдырь на неразгибающейся ладони.
– Ты чего сразу не убрала? Пришла в себя?
Ева кивает и вспоминает, что можно дышать.
– Что он еще делает, когда спит? – Ева говорит шепотом, поглаживая тыльную сторону ладони. Илия обливает холодной водой себе лицо.
– Предметы может передвигать. Он очень силен. Ты только не заводись, я прошу. Никакими лабораториями и обследованиями тут не поможешь. Только навредишь. У Муси на тебя большие виды. Ты – ее надежда.
– Что я должна сделать, чтобы ты вернулась? – спрашивает Ева, забинтовывая руку в кухне.
– Не пропусти главного, – встает и улыбается Муся. – Человеку почему в конце жизни кажется, что он что-то упустил? Потому что упустил. Было, было главное рядом, а он не заметил. Ты увидишь самую главную тайну жизни. Не ошибись тогда.
– Ты меня утомила, – Ева, прижав руку к груди, смотрит, как Муся одевается, – главная тайна, не очень главная тайна! Какая тайна главней? Куда ты пойдешь вообще? Давай вызову такси!
– Ты сразу поймешь, – улыбается Муся. – Ты детей любишь, ты поймешь. Все. Пошла. Я на автобусе лучше. Привычней, и чужого человека не буду беспокоить.
Илия выносит укутанного мальчика. Муся крестит всех по очереди, кланяется, берет ребенка и уходит.
– Мне нужно позвонить на работу, сказать, что я не приду, – Ева достает из сумки телефон.
– Подожди еще пару минут, – задерживает Далила ее руку. – Мне нужно кое-что тебе сказать.
– Хватит на сегодня, а?
– А когда мы еще увидимся? Ты приходишь – я сплю, я ухожу – ты спишь.
– Теперь, вероятно, я буду женщиной домашней и постоянно присутствующей. Потерпи пару дней. Мне надо написать рапорт об уходе: няни у детей больше нет.
– Не сочиняй, – вздыхает Далила. – Спорим, Илия за десять минут тебя уговорит оставить детей на него или отдавать на полный день в ясли. Я как раз по этому поводу и хотела поговорить. По поводу Илии.
– Это нечестно! – кричит Илия из комнаты.
– Честно, честно! – заводится Далила и вываливает на устало присевшую в коридоре Еву: – Твой сынуля курит травку и ходит к проституткам.
– Ну, знаешь, – качает Ева головой, – решила меня добить, да? Не верю. Я не верю, что он ходит к проституткам!
– Как-то это странно, тебе не кажется? – Далила нервничает и начинает скручивать в жгут желтые прямые волосы. – Ты только послушай! Тебя не волнует, что он станет наркоманом?! Травка, значит, тебя не интересует, ты беспокоишься о естественных проявлениях его организма, а о наркотиках не беспокоишься?!
– Все это враки, – заявляет Илия, садится рядом с Евой на тумбочку с обувью и начинает не спеша надевать ботинки. – Это у тебя, Далила, от безделья. Хватит за мной следить. Займись сыном, работой, заведи мужчину, в конце концов, а не этого малолетнего страдальца! Что ты шпионишь за мной днем и ночью?
– Не смей так разговаривать! – кричит Далила.
– Кто это – малолетний страдалец? – интересуется Ева.
– Заткнись! – взрывается Далила.
– Я заткнусь, – ласково говорит Илия, – а ты перестань шарить в моем столе, подслушивать разговоры по телефону и подсовывать мне презервативы. И ты не беспокойся, – он повернулся к Еве. – Я покуриваю иногда слабенькую марихуану, честно говорю, с семи лет балуюсь, но с моими внутренними черными дырами ничего сравниться не может. Вы не там ищите, мамочки.
– Куда ты собрался? – шепотом спрашивает Ева, у нее нет сил пошевелиться.
– В библиотеку я иду. В библиотеку! Мне нужны книги по древнеславянскому, греческому, хинди и так далее. Кстати, вам бы это тоже не помешало. Не буду пугать, но наша девчонка говорит все эти смешные глупости на разных языках. У нее проскальзывают словечки из разных языковых групп и времен. Но это я так, просто для общего сведения. Не надо тебе уходить с работы. Что толку? Тебя все равно будут дергать, когда понадобишься. Я действительно справлюсь с детьми. Я – хорошая нянька. Пока, мамочки.
Через десять минут тишины Далила встала и закрыла дверь на второй замок.
– Что это за день такой несусветный? – бормочет Ева. – Ты одна осталась, давай, добей меня, подружка.
– Он звонит платным женщинам, в фирмы по сексуальному досугу, я проверяла по телефону, – шепчет Далила, опустив голову. – На нашем телефоне можно отследить все номера, которые набирались за день. Он звонит за день в среднем в шесть-десять мест по объявлениям из газет. У него в комнате воняет, я знаю этот запах.
– И я знаю этот запах, – Ева тоже говорит шепотом, – я сама на первом курсе покуривала перед дискотеками, так же, как многие богатенькие московские девочки.
– Я предпочитала ЛСД, – вздыхает Далила и садится рядом с ней.
– Ты наркоманка? – интересуется на всякий случай Ева.
– Все по-разному привыкают, не ехидничай.
– Ладно. Остался последний вопрос.
– Это мое личное дело, с кем я провожу досуг, – устало вздыхает Далила.
– Да нет, я хотела попросить у тебя записи психиатра по поводу Маруси. Твой досуг, который ты проводишь с юношей Мишей, меня мало интересует. Не думаю, что ваши игры со взломами секретных файлов разных организаций имеют серьезные последствия, иначе бы вас давно вычислили и отстрелили. Это я как профессионал говорю, заметь.
– Мы подготовили писателю Пискунову эротический роман, подделывая мои отчеты по группе женщин с сексуальными патологиями. Мы влезли в национальный американский банк! – не выдержала и похвасталась Далила.
– Да это ерунда, вы только в какой-нибудь наш не влезьте. Миша Январь своими дурацкими играми обвалил рубль, знаешь это? Такое устроил, что даже отстрелить его некому: никто не верит. Мне еще тогда Карпелов говорил, что Январь взломал коды некоторых банков и подделал отчеты по продаже облигаций госзайма. Быки узнали, дернули свои связи, разбудили федеральную службу, и те кинулись на банкиров. Банкиры начали скупать доллары. Наступило зловещее семнадцатое. Ладно, если уж он после этого остался жив!.. А ведь в нашем отделе лежит полная разработка по делу, и все это правда, хоть и выглядит как сказка про злого хакера. Кстати, я тебе оставила записку на двери в ванную, что ты думаешь по этому поводу?
– Я думаю, что нет никакой бригады «С». Журналисты балуются.
– Это было бы слишком просто, – вздыхает Ева, встает и потягивается. – Если у тебя есть серьезные обоснованные рассуждения на этот счет, запиши, пожалуйста, и дай мне в двух экземплярах.
– Иди, – говорит Далила, вытягивает ноги и прислоняется спиной к одежде на вешалке, – иди на работу, я до шести вечера дома. Заберу детей.
– Мама! – кричит Кеша из комнаты, женщины дергаются и испуганно смотрят друг на друга. – Ну мама, ну ты же опять меня не разбудила! Я проспал все на свете, ну что это за жизня такая!
Разогревая во дворе мотор машины, Ева смотрит в светлеющее небо, в зажженные в высоте окна. Они живут в новом доме недавно, Ева скучает по невысоким домам в центре, по старым улицам, по проходным дворам, аркам и по гаражам, на крышах которых она прыгала в детстве. Покатые спины «ракушек» ее раздражают, здесь нет проходных дворов, здесь машину надо ставить или на газон, выслушивая ругань перво– и второэтажников, или на платную стоянку, так ведь до нее идти и идти! Здесь лифты дергают внутренности скоростными обвалами вниз, Ева долго искала квартиру в новостройках и не очень высоко, чтобы не пользоваться лифтами. Она воспринимает лифт как вполне определенную ловушку.
– Да я вообще ненавижу эти лифты, – бормочет она, включая зажигание. – Черт!
Время идет к девяти, на работу она подъедет уж точно после полдесятого, это значит, что шесть человек из ее отдела будут сидеть и ждать начальника, любовно прохаживаясь по ее «непредвиденным обстоятельствам» и «особенностям профессиональной и личной жизни».
Она не превышает скорости, подгадывает зеленые светофоры, а когда не подгадывает, то отстраненно смотрит в близкие лица других водителей, которые так же отстраненно смотрят на нее сквозь стекла, подтекающие влагой теплого нутра машины. Понемногу она успокаивается и начинает думать только о работе, образ Маруси растворяется в ее дыхании, пойманном февралем и превращенном в белое облачко.
В девять двадцать две Ева подъехала к «Информационно-аналитическому центру», поставила машину на стоянку и прошла позади неприметного здания к черному ходу. На отлично укрепленной двери табличек не было, а на стене рядом – старая и затертая надпись прямо на стене: «Лаборатория». Ева набрала код, привычно оглядев через плечо пустой мокрый дворик, и вошла в теплый коридор, подсвеченный лампочками у пола. Она уже открывала дверь своего кабинета, когда почувствовала тишину и безлюдие. Бросила сумку и куртку, пробежалась к «пионерской комнате», как все здесь называли небольшой – на двадцать мест – коференц-зал со стеклянной звуконепроницаемой стеной, экраном и оборудованием для фильмов и слайдов. Пусто. Вернулась к своему кабинету и прочла информацию на стендах. Первый – «Непредвиденные обстоятельства» – черными строгими буквами – был весь заколот бумагами и бумажечками, но Ева помнила почти все эти сообщения и сдернула последние: «Ранена легко, рапорт напишу в среду, операция провалилась. Юна», «Кургановой: кто такие Карпелов и Январь? Посмотри файлы „менты“, если знаешь, см. код 078 54 – „неопознанные угрозы“. Скрипач». «Фактурщикам и снайперам! Срочно пройти психологические тесты на агрессивность! Вы одни остались, не лишайте отдел премии. Псих».
Другой стенд – «Особенности профессиональной и личной жизни» – крупным курсивом с наклоном, буквы украшены цветочками и птичками, сообщений там меньше: поздравительные открытки, два билета на послезавтра в театр – кому-то не понадобились, несколько отчетов интимного плана. «Семь раз, а ты не верила! Физик». «Мышка по ночам играет в казино, Ева шляется в центре города с крупногабаритной сумкой, Скрипач снимает по две проститутки сразу, Доктор проводит время в центральном городском морге (с 00.20 до 3.56), Юна накачивается спиртным – исключительно американское виски, а еще патриотка! Психа опять видели на геевской дискотеке. Коллеги! Попробуйте для разнообразия отсыпаться, когда нет авралов! Вы плохо выглядите. Аноним». Ева качает головой и отрывает этот лист. Она спускается на два пролета вниз и попадает в огромный зал.
– Ну ты, аноним! Где все?
Худой длинноносый мужчина за пультом страдальчески морщится и снимает наушники.
– Ладно, я наврал. Ты всегда выглядишь улетно. Выспалась? Как ты меня вычислила?
– Я умею считать до шести. Ты перечислил пятерых. Сегодня ночью было твое дежурство. Колись, Физик.
– Я ни при чем. Вот сводки по городу. Смотри сама.
Ева листает клавишей срочные сообщения. Ее код и имя указаны в затребованной информации на общую городскую службу. Интересовались патрули. Информация и внешние данные подтверждены.
– Где данные по неопознанным угрозам?
– Директория «отстрел».
– Сколько же за этих милиционеров дают? – Ева всматривается в таблицу. – Так, Карпелов П.П., Январь М.Ю. По две тысячи за морду. Оригинально. И что, на составителей этого заказа невозможно выйти?
– Есть подозрение, что эта директория что-то вроде справочника для одноразовых киллеров. Смотри, – Физик открывает другие файлы, – к примеру, я хочу, чтобы убили кого-нибудь, но не хочу нанимать профессионала, потому что это дорого. Я отправляю свое пожелание в «жизнь понарошку». Что у нас тут добавилось со вчерашнего дня? «Пропал котеночек». «Вернись, гадина, и я прощу. Лорик». «Не люблю жену. Советы по номеру…» Так, а вот, например, это: «Моя подружка залетела, а я не хочу детей». Видишь, эти четыре цифры – код. Определить, кто послал сообщение, невозможно. И желающий помочь тоже пишет свой код. Посмотрим… «Я большой пушистый котеночек…», «Стерилизуйся, идиот!» «Лорик, удавись членом». А вот по коду о нелюбимой жене стоит просто номер. Набираем номер. Пожалуйста! – Физик нажал клавишу и крутанул кресло, отворачиваясь от экрана. – «Отстрел»? – поинтересовался он у Евы.
– Отстрел, – Ева покачала головой, разглядывая заставку: отлично снятый старинный револьвер, похваставшись деревянной рукояткой, раскрутился, превращаясь по мере торможения в кисть скелета, грозившую указательным пальцем. – Допустим, – сказала она, – я случайный человек, который умеет стрелять, и мне нужны деньги. Я нахожу объявление, оставляю свой код. Дальше что?
– По этому коду заказчик, если еще не передумал, посылает тебе фото и адрес. Цены, как видишь, не мировые.
– А как я получу деньги?
– Отдел 316, – быстро проговорил Физик.
– Что это значит? Это в нашей организации? Постой, 316 – это анализ условных преступлений.
– Вот они этим и занимаются. Пока не могут ничего выяснить.
– То есть сидит группа, которая конкретно работает по определению физических лиц через коды Интернета?
– Да. И начали именно с этого вопроса: каким образом киллер может получить деньги? Потому что, естественно, именно этот момент является критическим: можно выйти и на киллера и на заказчика.
– И что, есть успехи?
– Ноль, – доложил Физик. – Хотя, скажу тебе, для того чтобы узнать, как получить деньги, не надо работать целому отделу. Деньги можно переводить по счету в банке.
– Зайди в «отстрел».
– Слушаюсь!
– Набери сообщение. Так: «Беру Карпелова и Января. Апельсин». – Ева протянула руку, подвинув Физика плечом, и набрала четыре цифры.
– Круто, – покачал головой Физик, – только когда вас вызовут в 316-й, меня не вспоминать.
– Когда появился заказ на них?
– Посмотрим. В шесть сорок утра. Москва.
– Ладно. Давай работать. Где все?
– Собрались, посидели семь минут, вас не было – разбрелись кто куда. Дернуть?
– Зови. Кстати, про тебя, секс-гиганта, все ясно, Юна могла у себя в квартире громко сообщить, что пьет именно виски, Скрипач тоже мог шуметь в своей квартире с двумя женщинами, но откуда ты знаешь про Мышку в казино?
– Есть некоторые секреты. Обязательно колоться?
– Подожди, – Ева села рядом и всмотрелась в его усталое лицо. Физик услужливо изобразил клоунской мимикой участие и интерес, – а где я была с крупногабаритной сумкой ты тоже знаешь?
– Нет, – он быстро помотал головой, – да ни за что!
– Так. Насчет Доктора и Психа, это?..
– Все верно. Потому что они страшно взбесились. Кричали о неприкосновенности личной жизни и искали на одежде «жучков».
– Представляю. Если вздумаешь провернуть такие вещи со мной…
– Да я же не идиот. Лучше я вам тогда сразу код пошлю в «отстрел». «Клоун Физик просит Апельсинку застрелить его как собаку. Бесплатно». Честно говоря, я это для вас оставил на стенде сообщение. Конкретно.
– Ты перестарался, – Ева встала и смотрела на своего подчиненного с легкой брезгливостью. – И про азартные игры Мышки, и про сексуальную ориентацию Психа я знала с самого начала, но не думала, что об этом надо знать всем. Сейчас я понимаю, что ты в чем-то прав. Только со Скрипачом у тебя прокол вышел. По мелочи слежку засветил: подумаешь, проститутки! Он теперь будет настороже, а ведь он самый загадочный и непредсказуемый. С ним ты – зря.
– Я ведь мог или со всеми, или ни с кем!
– Тоже верно. Сходи к Психу на тесты, ты же у нас фактурщик. Заодно и поговоришь, почему тебе вдруг захотелось вот так всех засветить. Тебя мама в детстве не запирала в темной комнате, когда к ней приходили мужчины? – спросила Ева шепотом, склонившись над взлохмаченной макушкой. – За девочками в раздевалке подглядывал? Краснеешь, семиразовый ты мой. А для тебя есть работа. Вот бумаги и доллары. Вытащи все, что сможешь. Отпечатки, фактура бумаги, где делали, где хранили, чем пахнут. Кого в помощь берешь?
– Мышку, – вздохнул Физик.
В лаборатории Физик провел час двадцать в одиночестве и еще полтора часа с Мышкой – миниатюрной бесцветной блондинкой. Пообедали они вместе в ближайшем кафе. Мышка еще была рассержена, Физик применил некоторые усилия и изобразил страшнейший интерес к азартным играм. Мышка достала колоду карт и показала несколько фокусов, а потом предложила сыграть по-маленькому, в результате чего Физик заплатил за обед, а все оставшиеся у него деньги – триста четыре рубля – перекочевали в кошелек к Мышке. После этого Мышка отошла и за компьютером уже сидела без страдальчески-сонного выражения. Они отослали запросы, поставили чайник. Мышка подумала-подумала и решила пойти к начальнику отдела с предварительными результатами. Физик был против, но особо не настаивал. Когда она ушла, он лег на диван в лаборатории и заснул.
В четыре двадцать Мышка доложила Еве, что деньги, переданные ею на исследование, по всей вероятности фальшивые, но такой отличной выработки, что это трудно назвать фальшивкой.
– Все дело в фактуре бумаги, – сказала Мышка. – Мы сейчас попробуем выдернуть все дела по таким фальшивкам. Уже всплывали деньги, сделанные идеально, которые без тест-анализа на состав бумаги совершенно настоящие.
– Сегодня справитесь? – поинтересовалась Ева, она как раз составляла для начальства отчет о ночной операции и застряла с объяснениями выбора места, задумавшись, как сделать, чтобы не упоминать Карпелова. Вздохнула. Набрала номер телефона.
– Попробуем. Нам нужна информация из Штатов, а там другое время. Если пойдут навстречу, пришлют.
– Возьми код, через пять минут все пришлют, – Ева набросала несколько цифр на бумажке.
– Слушаюсь.
– Этот код… Ты потом его забудь, а если не сможешь (у Мышки была феноменальная память), без моего разрешения не пользоваться.
– Слушаюсь. Кофе есть?
Ева показала рукой на шкаф, зажала трубку, дождалась, пока Мышка с банкой уйдет, и сказала:
– Ну, сладкая парочка, как жизнь? – подумала и подожгла бумажку над блюдцем.
На том конце провода Аркаша и Зоя, главные аналитики ФСБ, слушали ее и разговаривали одновременно. После восклицаний, упреков, вопросов они оба замолчали, и Ева спросила:
– Конверты получали?
Недоумение и ленивый интерес. Они ничего не знают. Ева отчиталась о ночном выстреле, поговорила еще минут пять на общие темы – работа в норме, дети здоровы, Муся сошла с ума и уехала в деревню, старший курит и развратничает – и, пока говорила, решила не писать начальству рапорт об участии Карпелова в ночном убийстве человека диаспоры. Не было Карпелова. Она положила трубку и добавила в списке неотложных дел: «Карпелов. Фальшивые доллары. Отложить до полного выяснения обстоятельств получения».
Она прошла в кабинет Доктора, оторвала его от микроскопа, усадила перед собой, заставила сдернуть очки и трясла за плечи, пока он не вник в смысл ее вопросов, близоруко щурясь и потирая глаза пальцами. Да, он ездит иногда ночью в морг при Первой градской, там работают бывшие коллеги, они с удовольствием пользуются его присутствием для выявления особо интересных и непонятных случаев смерти, а как еще он может оттачивать свое мастерство патологоанатома и не потерять квалификацию? Что он им говорит по поводу своей новой работы? Да абсолютно ничего, он же фактически на пенсии, этакий сбрендивший старый хирург, который по ночам шастает в морг резать трупы.
– Ну вот что, Даниил Карлович, – заявила Ева, – пенсионер вы наш, снимите с руки часы и кольцо. И очки надо иметь другие, у этих золотая оправа.
– Очки мне подарили на пятидесятилетие, – вздернул вверх острую бородку Доктор, – я их давно ношу. А насчет часов, обижаете, Ева Николаевна. В морг я «Ролекс» не надеваю. Там вообще желательно иметь пустые пальцы и запястья. Ночью я пользуюсь своим старым саквояжем для инструментов, карманными часами «Слава» и потрепанным костюмом. Чем заслужил недоверие?
Еве пришлось извиниться.
– Я заметил, что вы не носите украшения, – Доктор надел очки и укоризненно посмотрел на нее. – И зря. Золото, серебро и достойные красивой женщины камни могут значительно улучшить ваше самочувствие.
– Нет! – уверенно заявила Ева. – Простите, долго объяснять, но к золоту и бриллиантам у меня идиосинкразия. Особенно если сразу надеть килограммов восемь того и другого. Полное отвращение.
– Восемь килограммов! – присвистнул Доктор.
– Ну, может, семь. С половиной, – уточнила Ева, – но с каждой минутой это становилось все тяжелее и тяжелее.
– Что же это за украшение было, позвольте поинтересоваться?
– Это была одежда, корона, наручники, – почти мечтательно вздыхает Ева.
– Подумать только, – покачал головой старик. – Да. Я что хотел сказать, – он снял с мизинца массивный серебряный перстень, – в этой одежде серебра не было?
– Нет. Только золото и бриллианты.
– Прекрасно. Возьмите на счастье. Берите, берите. Можете не носить, просто держите у себя на память. Вот, смотрите, как раз на ваш средний.
– Доктор, – Ева сжала руку в кулак, разглядывая странный рисунок-печатку, – дайте совет профессионала. Не буду спрашивать, сколько трупов вы осмотрели за свою практику, скажите, что вы думаете насчет необъяснимых аномалий?
– Вы имеете в виду два сердца, один глаз?
– Нет. Легенды о дьяволе, о зле в человеке как-нибудь подтверждаются внешними признаками? Встречались ли вам трупы, у которых уродства подтверждали некоторые условности носителей зла? Копыта, ногти, хвост? Что-нибудь в мертвых телах вызывало у вас ужас?
– Ужас? Уродства никогда не ужасали. Правда, мне встретился один труп, который до сих пор меня преследует. Это факт. Но он вполне приличный труп, без аномалий. Если, конечно, можно считать отсутствием аномалий сам факт подобной живучести трупа.
– А-а-а… вы прошли тестирование у психиатра? – на всякий случай поинтересовалась Ева.
– В обязательном порядке, – Доктор резко отвернулся, потеряв интерес к беседе.
– Обиделись? – вздохнула Ева.
– Нет. Сказал лишнее, старый дурак.
Смеркалось предвечерними сумерками – не день и не вечер, ощущение потерянного времени, когда уже зажигают фонари, а ты только что пообедал. Физик вышел из конторы, поднял воротник поношенной дубленки и побежал к машине, уворачиваясь от резких порывов ветра. Он открыл дверцу и доставал «дворники».
– Фактурщик Уваров? – спросил рядом спокойный голос.
Физик повернулся и стал вглядываться в раскрытое удостоверение.
– Документы с собой? Оружие есть? Поднимите руки, я посмотрю.
Физик поднял руки и только удивился, что его ощупывают сквозь дубленку, только собрался сообщить, что он боится щекотки – не хохма, а действительно необходимое предупреждение, потому что однажды уже был глупо ранен после судороги от прикосновения к подмышечным впадинам, – как ойкнул, дернулся, вглядываясь напоследок в спину уходящего человека, и упал лицом в мокрый асфальт.
Еву позвала Мышка.
– «Скорая» приезжала во двор, констатировали смерть, – лопотала она, едва поспевая за Евой, – газетчик из Центра вышел на улицу, думал, что это их сотрудник, посмотрел удостоверение, позвонил нам в дверь. Мы его занесли в лабораторию, сейчас ребята раздевают.
– Какой код объявила? – Ева толкнула от себя дверь, на ходу схватила пакет с перчатками.
– Наружных повреждений нет, огнестрельных ран нет. Я набрала 49-СА – случайная смерть агента.
– Позови Психа в лабораторию, пусть он делает фотографии, помоги завязать, – Ева натягивала длинную полиэтиленовую распашонку.
– Ева Николаевна, – строго объявил Доктор – сверкнули стекла очков на полоске открытого лица, – не приближайтесь к столу без полной спецодежды!
Мышка помогла спрятать волосы под колпак. Вошел Псих с камерой, вбежала запыхавшаяся Юна и стала за стеклянной перегородкой, покусывая губы.
Тело Физика было еще теплое. Доктор монотонно бубнил в прищепку-микрофон результаты осмотра тела. Ева помогала переворачивать, поднимать руки и ноги, но добавить к сказанному Доктором ей было нечего. Мышка осмотрела через лупу кисти рук и голову, провела отсосом по лицу, волосам и тыльным сторонам ладоней. Скрипач собрал одежду и тщательно упаковал каждый предмет в отдельный пакет. Доктор все бубнил, Юна зажала рот рукой, чтобы не зареветь. Ева подошла и толкнула ее легонько плечом. Юне было всего девятнадцать.
– Начинаю вскрытие, – объявил Доктор и посмотрел на зрителей за перегородкой.
Ева отошла, стащила перчатки, сняла шапочку и повязку:
– Я буду у себя.
Через двадцать три минуты ей сообщили причину смерти Физика. Сердечный приступ. Скрипач прихватил личное дело и медицинскую карту, перед тем как пойти доложить результаты вскрытия, поэтому Ева тут же смогла убедиться, что на сердце Физик никогда не жаловался, результаты последнего медосмотра были просто отменными.
– Мышку и Психа ко мне срочно! По одному.
Вглядываясь в перепуганное личико миниатюрной Мышки, она ощутила жалость. Еву всегда раздражали эти театрально-замедленные жесты, вороватый взгляд исподлобья, неуместные улыбки, но сейчас перед ней стояла просто перепуганная женщина.
– Твои соображения.
– Нет соображений, – пожала плечами Мышка. – Он не врал про семь раз за ночь, это точно. Я не знаю, как реагирует мужской организм на такой износ.
– Ты проиграла ночью?
– Выиграла, – подняла голову Мышка. – Мы с ним помирились еще в обед, ты что?
Далила советовала Еве не брать женщин, когда та набирала рабочую группу. Она говорила, что даже если предположить, что все особи женского пола будут смотреть на Еву, не комплексуя по поводу своей внешности, то сама Ева все время будет искать в недоговорках и неопределенных взглядах раздражение и зависть, то есть постоянно напрягаться. Еве повезло: Юна смотрела на нее всегда с придыханием восхищения, а Мышка с исследовательским интересом, как на редкую бабочку. Волнуясь или обижаясь, Мышка переходила на «ты».
– Во что играла?
– Покер.
– Сколько?
– Две тысячи, – опустила Мышка глаза, и за секунду до этого Ева поняла, что та соврет. Это была не совсем ложь: если бы Ева спросила «чего», она бы ответила: «долларов», но Ева подыграла ей и не спросила.
– Брось все свои дела и займись только фальшивыми долларами, потому что помощника я тебе дать не смогу.
Пиликнул сигнал звонка с улицы. Приехали коллеги из Службы. Они упаковали тело в мешок, уложили на носилки и поделились своими познаниями в подобных делах, хотя никто и не спрашивал. Шесть человек, провожающих Физика, узнали, что: сердечные приступы у людей «нашей профессии», конечно, происходят, но если человек погибает недалеко от работы или от места жительства, то есть совсем в двух шагах, то дело по убийству в девяти случаях из десяти можно заводить и до вскрытия.
Псих, изучая лицо Евы с маниакальностью специалиста по физиогномике, сообщил, что в принципе он не считает себя категорическим гомосексуалистом, потому что иногда развлекается и с женщинами. Он опять напомнил, что где-то живет разведенная жена и воспитывает его сына. А посему считать Физика своим врагом из-за глупой записки на стенде не собирался. Ева заметила, что иногда мужчины очень болезненно реагируют на обнародование их пристрастий. На что получила смутивший ее ответ: в мужской паре он, Псих, всегда «она», и уже исходя только из этого не надо навязывать ему банальных предположений. Его отстраняют от работы? Нет? Тогда милости прошу на тестирование. Кстати, там можно будет и поговорить более обстоятельно, поскольку обстановка в ее кабинете, а еще когда она сидит, а он стоит, совсем не располагает к доверительной беседе. Теперь она одна не прошла тестирование. И если это кого-то интересует, то самые плохие показатели у Скрипача. Далее последовала лекция на тему особенностей мужского климакса. Ева схватилась за голову.
– Возьми, посмотри при мне. Это не то чтобы срочно, но для меня болезненно, – она протянула Психу заключение о Марусе.
Псих быстро прочел вывод незнакомого коллеги, хмыкая и покачивая головой. Ева смотрела на него с надеждой, но, когда он поднял на нее насмешливые глаза, надежда отступила.
– Смешно, да? – Она уговаривала себя воспринимать все, что он скажет, отстраненно.
– Ничего смешного. Страшно, вот как бы я охарактеризовал этот отчет. Итак, первое. Никогда не полагаюсь на мнение других специалистов в этой области, если это не мой друг. Мне нужно видеть объект и самому проводить обследование. Но, исходя из предоставленного материала, могу сказать с уверенностью, что моя теория о возникновении малообъяснимых аномалий в эпоху страха и неуверенности в себе и завтрашнем дне подтверждается. Если я смогу получить подробный рассказ обследуемой Муруси Л. о ее взаимоотношениях с паровозом, то это облегчит диагноз. Маруся Л. утверждает, что у нее ребенок от этого мало кому видимого объекта, движущегося регулярно по рельсам в районе одной подмосковной деревни и категорически похожего на старый поезд – паровоз, несколько вагонов, дым, звук. На вопросы доктора о своих детских страхах отвечает уклончиво, это можно принять за основу исследования. Почему меня взяли в службу безопасности, знаешь? – спросил он вдруг, не меняя интонации.
– Только то, что официально в документах.
– Я угадывал, отчего и с какого момента человек начинает отстраняться от реальности. Проводил своего рода следствие по фактам детских воспоминаний, особенностям поведения и находил спрятанные места. По конкретному случаю могу сказать, что особенно запомнилось: рожденных нежеланных детей обычно представляли как последствия изнасилования волком, медведем, инопланетянином, речным змеем, домовым и так далее, в соответствии с русским фольклором и особенностями, так сказать, национальных бедствий. Фантазии зарубежных жительниц по этому поводу мало отличаются от фантазий русских матерей-одиночек, с той разницей, что женщиной чаще овладевала река или дерево. Паровоза не было, это точно. Одно могу сказать с уверенностью: излечиваемость подобных перерожденных фантазий крайне затруднена, и самый лучший способ спасти ребенка от давления свихнувшейся матери – это изоляция. Кстати, года четыре назад в Калифорнии был подобный случай, когда мать, в полной уверенности, что в ее сына вселился дьявол, несколько раз пыталась убить ребенка. Она наносила себе увечья, уверяя, что это сделал младенец, еще не умеющий ходить. Излечение было настолько нестандартным, насколько и действенным. Ей продемострировали процесс «изгнания дьявола», после чего ребенка изолировали – по сценарию изгнания он унесся очищенный к богу. Женщина абсолютно вылечилась, родила здоровую дочь и почти не вспоминает о сыне.
– А что с мальчиком? – вздохнула Ева.
– Не понял.
– Я спрашиваю, знает ли кто-нибудь, что произошло с мальчиком?
– Лечили женщину, отчет посвящен ей.
Ева поднимает правую руку и показывает Психу ладонь, осторожно отодрав лейкопластырь. Псих подходит ближе, осматривает руку и удивленно смотрит на Еву.
– В таком месте трудно обжечься: углубление. За что схватилась?
– Провела ладонью над головой спящего сына Маруси.
– А-а-а! – обрадовался Псих. – Подошли к главному! При чем здесь вообще ребенок? Я занесу тебе завтра журналы, там подробно описывается, как человек самостоятельно, пользуясь только самовнушением, способен себя истребить. Если твоя подруга не в силах тебе помочь профессионально, я найду лучшего психоаналитика в Москве, поскольку, как ты сама знаешь, лечить коллег по структуре не имею права. Только обследования.
– Она в силах.
– Ладно, расскажи все своими словами. Как только ты споткнешься, задумаешься или не сможешь подобрать нужного слова, я отмечу и проанализирую. Одно условие. Ты говоришь не про свою няню. Ты говоришь про себя, про свои проблемы. Итак?
– Три… четыре года назад я вывезла из турецкого публичного дома мальчика-подростка. Это было… по договоренности, вроде сделки. Обмен. Некоторые компрометирующие бумаги поменяла на мальчика. Два с половиной года назад я усыновила близнецов. Дети моей бывшей сослуживицы, умершей при родах. – Ева, задумавшись, подняла глаза на Психа и чуть улыбнулась его изумлению. – Дети маленькие, с кормлением были проблемы, мой старший сын нашел женщину, у которой только что умер младенец, привел в дом, она стала нашей няней.
В этом месте Псих нащупал стул и сел, поводя головой, словно не веря своим ушам. А Ева встала и нервно прошлась по кабинету:
– Ты так не смотри, я не совсем сумасшедшая. Я поинтересовалсь, почему у нее умер ребенок. И мне рассказали совершенно потрясающую историю про деревню Рыжики, где по рельсам ездит паровоз, от которого можно запросто забеременеть. Я не буду все пересказывать, потому что сразу начинаю нервно подхихикивать, но это был красивый фантастический бред. Далила по этому бреду написала статью в «Психологию», по-моему, номер третий за прошлый год. Так или иначе, мы прожили все вместе счастливые годы, мои близнецы подросли и окрепли, а Муся родила от этого… паровоза еще одного сыночка. Я особенно не вникала в выяснение подробностей зачатия, ну погуляла женщина, а мужика называть не хочет. А теперь оказывается, что ребенок обладает дьявольской силой, обжег мне во сне ладонь, ну и ты все сам прочел. Она ушла.
– Это же определенно клиника! – задумчиво протянул Псих.
– Что, так плохо?
– Не то слово! Занесем нашу беседу в счет тестирования. Один вопрос: не хотелось ли тебе завести собственного ребенка?
– С такой работой, да? Привести детей в этот мир, в то, в чем мы живем?
– Клиника! Почему с чужими детьми можно работать на такой работе, а со своими нельзя?!
– Потому что я просто помогаю им выжить, понимаешь? У меня нет комплексов родной матери, я не давала им жизнь! И раз уж кто-то другой побеспокоился об этом, вытолкнул их в наш мир, не спрашивая, не оценив свои силы, не смог, не выжил!.. я постараюсь помочь. Не более того. Я, может быть, потому и взяла няню с улицы, поверив мальчику-подростку, что брала не своим, родным! Повезло. Мне вообще в жизни везло.
– Считаю тестирование проведенным, – встал Псих. – Должен тебя предупредить. Я на Скрипача написал по результатам беседы отрицательный отзыв. Ну а про тебя не знаю, что и сказать. Считай, что ты не прошла тестирование. Результат категорически отрицательный.
– Я думала, тебя интересуют мои страхи, проблемы, контактность, «период восстановления после приведения в исполнение приговора» – так, кажется у нас написано по инструкциям?
– Я и получил информацию по страхам, проблемам, контактности и так далее.
– Знаешь, ты кто?
– Я дипломированный специалист, стажировавшийся в лучшей калифорнийской клинике у профессора Муна и в самой страшной психушке на станции Столбовой, я десять лет в психиатрии и еще четыре года в группе психоаналитиков закрытого отдела ФСБ, моя диссертация была посвящена восстановлению контактности и привязке к реальности космонавтов, подводников и преступников c длительными сроками заключения. Конкретно по тебе: потеряна самоотстраненность, а это первый признак того, что личность подчинена суевериям, страхам и воображению. Извини, что в приватной беседе воспользовался твоей откровенностью для заключения по тестированию. На этом разрешите откланяться.
– Хочешь кланяйся, хочешь нет, но ты – гад.
Пришла Юна и поставила на стол бутылку виски. Позвали всех, спустились в конференц-зал. Скрипач запустил ленту, потушили свет, и на небольшом экране ехидный Физик, кривляясь, объяснял особенности мышления людей разных профессий. Он несколько раз произнес название своей диссертации, дело было именно в этом конференц-зале, собравшаяся тогда на вторую встречу группа еще чувствовала себя неуверенно, но он всех завел, и вот уже хором, нараспев, они повторяют набор непонятных пугающе-красивых слов и аплодируют сами себе, а камера профессионально выделяет глаза, носы и губы всех по очереди. Ева вышла и прикрепила на стенде «Непредвиденные обстоятельства» записку: «У нас первая смерть», а на стенде «Особенности профессиональной и личной жизни» – «Я умер. Физик».
Она уехала первой, потому что хотела найти Карпелова и выяснить, почему его имя в «отстреле» стоит рядом с именем его бывшего опера – Января, давно ушедшего из органов. А все остались допить бутылку, и Псих, заботясь о собственном здоровье и благополучии, уже поучаствовавший в двух автокатастрофах, благоразумно спустился в метро. Повиснув на поручне, он закрыл глаза, удивляясь, как много народу ездит поздно вечером, его кто-то обходил сзади и обхватил подмышку. Псих чуть посторонился, хотел посмотреть из-под руки, но вскрикнул и с удивленным лицом свалился на сидящих.
Отдел Кургановой узнал о смерти Психа только на следующее утро.
1984
Лис. Мужчина-воин. Изнежен, утончен, чаще всего очень красив (красота из тех, что называют «породой» – завораживающие манеры, веками передаваемое в поколениях благородство черт и линий, почти не задевающая надменность и изящная ирония в суждениях), несостоявшиеся воины-Лисы чаще всего становятся актерами. Болезненно переносит уродство, склонен к самоистязанию, умудряется даже в самых неприглядных обстоятельствах выглядеть изысканно, в нищете он напоминает заблудившегося короля, а именно этот вариант мужских страданий так любят Утешительницы, в богатстве – человека, презирающего деньги, свободного от обязательств и привязанностей, что особенно заводит Плакальщиц. Плакальщицы по натуре своей – игроки, любую позу Лиса, кроме самопожирания и самобичевания, они тут же согласны обыграть с азартом воина. Это самый яркий тип политика, но скрытого, именно Лисы вершат судьбы государств, по тонкости ума понимая, что лучше остаться живым и непризнанным серым кардиналом, чем быть похороненным в известной дорогой могиле правителя. Они вдохновенно занимаются и образованием, и сутенерством, и работорговлей, всегда незримо присутствуя рядом с известнейшими завоевателями, президентами и королями. В напряженные моменты по концентрации сил и воли не уступают Орлам, только их одних признавая равными себе воинами, но изящной игрой и хитрыми уловками там, где Орел добивается всего силой, воздвигли преграду дружбе и даже взаимопониманию: Лис без особого беспокойства предаст Орла, зная, что тот вынослив в пытках, а Орел с удовольствием пристрелит раненого Лиса. В отношениях с женщинами – а ведь именно это и должно нас заботить более всего – Лис почти недосягаем. Из всех доступных видов сексуального наслаждения он предпочитает наслаждение с себе подобными, либо с Хорьками, либо с представителями Змей, но всегда – с мужчинами. Энергетически – вампир. В сексуальных играх предельно извращен.
Предельно извращен. Я укладываюсь на пол и смотрю в потолок. Я пытаюсь представить себе предельно извращенного мужчину. У меня ничего не получается. Верх моей изобретательности – это изнасилование упитанным здоровяком домашнего тапочка. Я звоню Киму и говорю только одно слово. Я говорю: «Плакальщица». Он говорит тоже только одно слово. Он говорит: «Браво!» Мне грустно, ведь Плакальщицу придумала Су. Я одурманена снотворными таблетками: предметы мебели стали плоскими. Они словно вписаны в холст комнаты не совсем умелым рисовальщиком. Черт возьми, я не могу представить себе мужчину-Лиса, как ни пытаюсь. Наступило утро, а мебель еще не выступила выпукло из холста, она условна, я даже вижу саму себя на ковре – расплывающееся пятно жизни на Матиссе, красно-желто-зеленом, нереальном и до боли знакомом одновременно. Если перекатиться на живот и упереться лбом в пол, то есть в ковер, центр тяжести в голове перемещается ближе к глазам и под крепко зажмуренными веками начинают разворачиваться фантастические картинки калейдоскопа. Теперь – опять на спину. Я рассматриваю небольшой предмет рядом с собой, протягиваю руку. Маленькая гантель. Ну да, я же села на ковер, потому что делала зарядку. Совершенный идиот придумал это – делать зарядку спросонья. Предельный извращенец. Хотя, если подумать, то уже половина одиннадцатого, а в двенадцать мне надо нести в редакцию рукопись. Руко-пись. Не руко– и не – пись, а трудяга «Ятрань», отстреливающая всяческое вдохновение пулеметными очередями электрических внутренностей. А если рукопись, то я должна была три часа назад перестать царапать отточенным пером грубую бумагу при слабом свете свечи, закрыть чернильницу, посмотреть на луну и… Я разглядываю гантель, приблизив к глазам. А Су упражняется с чугунной женщиной-эскимоской. У нее есть такая статуэтка, сидящая женщина с лунообразным лицом и раскосыми глазами. Су ее очень любит, эту эскимоску, она ею обманывает. Никто из новых гостей ни разу не миновал статуэтки, с умилением бормоча что-то о туземке из черного дерева, пытались взять женщину двумя пальцами, потом ладонью, потом роняли ее на пол, страшно пугаясь. С эскимоской ничего не случалось, паркет, правда, этого не переносил. Подумать только: Су – убийца. Неприятное сочетание букв. Су-у-убийца. Гантель выдернута из холста, она объемна. Я встаю на четвереньки и определяю для себя кресло. Кофе, кофе, кофе… Лучше вообще не спать, чем спать два часа. Ключ в двери. Су-у-у… пришла. Выглядит ничего. Как только что очищенный от пыли и поэтому особенно бледный манекен. Кофе?
Пузатая турка шумит, я подсыпаю еще две ложки, дожидаюсь вспухшей пены и выключаю газ. Су садится за стол в кухне и безмятежно смотрит перед собой. Провожу рукой перед ее лицом. Пожалуй, можно пойти в ванную облиться холодной водой, пока и Су не стала плоской – акварельный набросок фарфоровой китайской куколки на фоне веселеньких цветочков моющихся обоев.
Выхожу из ванной. Так и сидит. Кофе отстоялся, мне уже лучше, я трогаю ее безжизненную руку, Су моргает.
– Он жив, – произносит она совершенно бесцветным голосом.
Я – замедленные движения руки с туркой над двумя чашками, вся такая мягкая, уютная, в махровом халате, с мокрыми волосами – только что вылупившаяся живая субстанция из плоской цветной картинки прошедшего дня, изображаю полное равнодушие. Мне это хорошо знакомо, этот отстраненный взгляд – предвестник истерики или слабоумия, если начинаешь задавать вопросы. Мне на все плевать. Отличный кофе. «Арабика» – два часа в очереди в магазине на Кирова. Вчера, досидев вместе с Су в ее квартире до сумерек, оттерев пятно на ковре и выхлестав полпузырька валерьянки (бутылка коньяка оказалась пустой, и Су совершенно не помнит, выпил ее кагэбэшник после того, как сморкался на ковер, или она после того, как его пристрелила), я вышла во двор и оказалась сразу в машине Виктора Степановича, и все это при абсолютном молчании, словно и он и я исполняли заведомо оговоренный ритуал.
– Он жив, – это Су, еще раз и тем же голосом.
Совокуплялись мы с ним в моей квартире два раза напряженно, словно не веря в происходящее и постепенно привыкая друг к другу, и два раза в полной расслабленности, подстерегая друг друга и оттягивая последние моменты в странной игре «догонялки-опережалки». В четыре часа ночи он ушел, а я села за перевод, не в силах справиться с подаренной мне энергией.
– Я пришла в магазин утром, а он выходил из машины. Делали оцепление, он был в том же отвратительно сшитом костюме. Я не поверила, подошла совсем близко. Хотела окликнуть.
– А кто это – он? – поинтересовалась я.
– Этот, как его… Корневич. Да, Корневич, которого мы загрузили в мусорный контейнер, чтобы его напарник вывез на свалку. Не знаю почему, но я не позвала его. Дефлорированная вишня. Я поехала за ним на такси. Он вошел в свою контору на Дзержинской. Он встретил знакомого, они дубасили друг друга в грудь и по животам, а потом договорились встретиться вечером в кафе на «Тургеневской». Я знаю это кафе. В восемь вечера. Пойдем со мной.
– Нет, – я категорична, – хватит с меня того, что я волокла его вниз по ступенькам и закидывала в мусорный бак. Наплюй.
– Не могу, – качает головой Су. – Я проснулась сегодня утром и подумала, чего мне хочется больше всего на свете? Ты только представь! Пирамиды Египта, ты знаешь, как там пахнет? Этот запах незабываем, словно перемолотая веками пыль забивает ноздри. Или водопад. Я обожаю водопады, вуалевые разводы брызг в радуге полдня. Так нет же! Больше всего на свете сегодня утром я хотела, чтобы он был жив! Этот отвратительный и нереальный толстяк, читающий стихи на французском.
– А! – вздыхаю я с облегчением. – Так это последствия очередной фантазии?
– Вроде того, – пожимает плечами Су.
Я смотрю на ее профиль с завистью. Мне бы такое невероятное везение исполнения фантазий. Су никогда не сойдет с ума. Потому что она в уме-то толком и не находится. У нее непробиваемая сила воображения, вытаскивающая из любой неприятной ситуации. А заест депрессия – просто так, вдруг, так вот вам, пожалуйста! Открывай табакерку сумасшествия и засовывай в ноздри пыль пирамид. Чихай на здоровье!
– Что ты сказала? – спрашивает Су, вдруг обнаружив меня рядом с собой за столом.
– Я сказала, чихай на здоровье. Это про пыль в ноздрях. Что-нибудь не так?
Она смотрит задумчиво, словно прощаясь, но я не реагирую. Знакомый взгляд, знакомое подсасывание внизу живота, смотри, сколько хочешь, ты больше не обманешь меня этими условными прощаниями навек, этими всхлипами «ты мне не веришь?!». Ну не верю, а что это меняет?
– Я пойду, – встает Су, прощально-роковой взгляд сменяется удивлением. – Что-то с тобой не так.
– Я тоже пойду. Мне надо в редакцию.
– Мне нехорошо, – бормочет Су, обхватив горло рукой.
– Если хочешь успокоиться и прийти в норму, не ходи сегодня вечером никуда. Что изменится? Ты обнаружишь в кафе человека, похожего на этого Карловича…
– Корневича.
– Корневича, какая разница, и начнешь убеждать мужика, что вчера застрелила его в своей квартире, а потом закинула в мусорный контейнер.
– Я только подойду поближе и посмотрю, как он отреагирует на меня.
– Да как вообще все на тебя реагируют?! Су, ну давай сделаем так, как договорились. Давай отдохнем, а вечером встретимся и все подробнейшим образом обмозгуем, ну ты же сама сказала, что должно пройти время, чтобы осознать этот бред, а?!
– Давай.
– До вечера?
– Хорошо. А почему его напарник так поступил? Почему нас не посадили?
– Мы договорились – вечером.
– А, да. А про чихание ты хорошо сказала. Смешно… Вера!
– Ну что, наконец?
– Я тебя люблю.
В редакции застряла до шести, с завистью поглядывая в открытое окно. Там шевелило занавески лето. А когда спускалась по ступенькам, прощаясь с учеными дамами, увидела Хрустова у дверцы машины. Стоит, оперешись на локоть, ноги скрещены. Рубашка белая, брюки белые, туфли – белые! Молчаливый ритуал усаживания в машину. О, да он пахнет! Пока ехали, напряженно думала, почему я хочу именно этого мужика? Не случилось ли со мной какой неприятности на фоне длительного воздержания, чтобы вот так, без сопротивления с моей стороны и видимости ухаживания с его, затаив дыхание наблюдать, как он, торжественно дыша, расстегивает пуговицы на рубашке?! Завораживающее зрелище. А что у нас на рукавах? Запонки. Вытаскиваю запонку – это мы уже в моей квартире, в коридоре, мы застряли здесь с расстегиванием рубашки, рассматриваю прозрачный камушек и засовываю в рот. Одеколон его мне не нравится, но я молчу, потому что под мышками и внизу живота он пахнет так же, как ночью. Я вообще молчу до тех пор, пока не зазвонил телефон. Я молчала бы и дальше и просто выдернула бы вилку из розетки, но голый мужчина берет трубку, я катаю во рту запонку. Он ничего не говорит, только слушает, потом молча протягивает мне трубку. Голос безликий, как рассвет в тумане.
– Вера? Ты меня слышишь? Я его опять застрелила.
Я дергаюсь и оборачиваюсь к Хрустову, закрыв рот ладонью.
– Что? – ритуал молчания нарушен. Он смотрит на меня снизу, лежа на спине. – Ну говори, что случилось?
– Я проглотила твою запонку.
– Какую запонку? – кричит Су в трубку. – Что с тобой? Я сказала, что опять его застрелила! Он лежит там же, в комнате на ковре, из груди у него течет, а в прошлый раз не текло. Приезжай, пожалуйста. Мне как-то не по себе.
– Да ерунда, не нервничай. Мы с Хрустовым сейчас подъедем, а ты подтащи пока мусорный контейнер к подъезду.
– Хорошо, – покорно говорит Су.
– Это шутка, – объясняю я на всякий случай, но она уже положила трубку.
– Зачем подтаскивать мусорный контейнер? – интересуется Хрустов. Я медленно сползаю с кровати.
– Звонила Су. Она опять пристрелила твоего начальника Корневича. У себя в квартире.
Он садится, я наблюдаю плавное перемещение мускулов на животе. Класс. Взгляд немного странный, даже, можно сказать, ненормальный, а вообще, конечно, – класс. Очень быстро одевается.
– Я могу съездить сама. Это у нее нервное.
Оделся, выбегает из квартиры. Я думала, уехал, а он ждет у подъезда. Оказывается, он оставил в машине телефон и пульт связи, чтобы нам никто не мешал. Выбегал звонить. Квартира Су не отвечает. Сообщений по городу на «02» по ее адресу нет.
– Знаешь что, – я не сажусь, а смотрю на него в открытую дверцу, – свидание закончено. У меня дела. Извини, с подругой случилась неприятность, надо помочь.
– Я подвезу, – на меня не смотрит, сжимает зубы. – Будет гораздо быстрей, ведь так?
Еще бы, конечно, быстрей. Я спокойна, а у него течет по виску капля пота. Спустя пятнадцать минут у дверей в квартиру Су я наблюдаю, как он достает пистолет и старается закрыть меня собой. Это уже было. Немое кино абсурда. Пленку заело. Но в этот раз приходится звонить в дверь, потому что дверь заперта. Су, появившаяся в проеме, жует бутерброд, молча показывает жестом в комнату и запирает за нами замки.
– Сморкался на ковер? Стихи читал? – спрашиваю я шепотом, став на цыпочки и разглядывая из-за ее плеча, как Хрустов становится на колени, замирает над распростертым телом и поворачивает ко мне бледное напряженное лицо.
– «Скорую» вызывала? – шепотом кричит он.
– Нет, – пожимает плечами Су, – я подкатила к подъезду контейнер, это было трудно, он не совсем пустой, и поставила на газ ведро воды.
Хрустов бросается к телефону в коридоре. Я подхожу к лежащему на спине большому мужчине и тоже становлюсь на колени. Приоткрываю полу пиджака. На левой стороне груди большое красное пятно. Ладно, хватит с меня этого цирка. Я решительно беру его за запястье. Тонкой ниточкой изредка дергается в тяжелой руке жизнь.
– Иди сюда, – я подзываю Су, – примени навыки медика.
После этих слов Су кивает и примерно идет в ванную мыть руки.
– Что делать? – спрашивает она, присев рядом.
– Ну я не знаю, подними веко, посмотри на зрачок! Послушай пульс, в конце концов.
Без всякого страха и брезгливости Су осматривает зрачок, считает еле слышный пульс.
– Жив пока! – заявляет она с удивлением. В ее бессмысленных глазах начинает просыпаться удивление и страх. – Он жив! – кричит она Хрустову в коридор. Хрустов приносит одеяло и накрывает Корневича, медленно поворачивает к Су лицо, над сжатыми крепко зубами играют желваки.
– Где оружие? – Он изо всех сил старается говорить спокойно.
Тонкая рука показывает в сторону кухни:
– Там же.
На столе лежит тот же «вальтер». Я смотрю на Хрустова, стоя сзади, и на расстоянии чувствую его ярость и отчаяние. Он достает оставшуюся последнюю пулю. Поворачивается. Лицо, словно у заблудившегося в страшном лесу мальчика-с-пальчик.
– Я не помню, – это опять шепотом, вглядываясь в меня. Я опускаю глаза. – Я не помню, я что, не убрал из этой чертовой квартиры оружие?! Как это может быть?
В дверь звонят. Двое заносят носилки и, не осматривая, уносят тело. Рука падает вниз, Хрустов заправляет ее и жестом приказывает нам не выходить. Он возвращается через полчаса, по очереди осматривает нас, словно прикидывая, сразу убить или сначала переломать все кости, потом цепляется взглядом за пятно крови на ковре и закрывает лицо ладонями.
– Можно выключить ведро, если кипяток уже не нужен? – интересуется Су.
Мы идем на кухню. Вода кипит давно, открываем окна настежь, чтобы избавиться от духоты и пара. Су садится, подпирает голову рукой и начинает говорить без всякого выражения, монотонно и тихо:
– Я пошла в кафе на «Тургеневской», хотя ты и просила туда не ходить. Ты всегда права, а я всегда не права, но я туда пошла, этого уже не вернуть, это фатально. Я сразу его увидела, сначала села подальше, у стойки, потом и он меня заметил. Уставился, занервничал, а когда увидел, что я смотрю на него в упор, подмигнул. Я уже изрядно выпила, мне было все равно. Он подошел через полчаса, заказал коктейль, спрашивает, сколько я стою за ночь. Сама не знаю почему, но меня это обидело. Я стала рассказывать, как проснулась утром, как могла бы представить себе растертые временем в пыль сандалии египетской царицы или водопад, но я представила себе только, что он должен быть жив, и он оказался жив. Он стал задавать вопросы. Про двух американцев, помнишь Джека и Стива? Они приезжали два месяца назад. Это было так уныло! Мы поехали ко мне. Он говорит: «Неужели ты меня застрелила, вот просто так взяла и застрелила?» Я как раз открывала дверь квартиры. Нет, говорю, не просто, а после стихов на французском. А сама я уже точно не помню, было это или не было? Он говорит: «Тебе не нравится Гумилев?» – Су замолчала и уставилась на Хрустова. – Понимаете? Он меня спрашивает, нравится ли мне Гумилев!
– Ну и что? – не выдержал ее удивления Хрустов. – Что тут такого странного?
– Я не могу объяснить, если вы не понимаете, тут уж ничего не поделать.
– Не надо ничего объяснять, просто излагай факты! – повысил голос Хрустов.
– Он спросил, где именно я его застрелила. Я сказала, что в комнате. Он вошел в комнату, я пошла на кухню. Он крикнул: «Здесь, что ли?» Я взяла со стола «вальтер», подошла к двери, сказала «да» и выстрелила ему в спину. Он упал. Я пошла в кухню, поставила ведро воды, чтобы был кипяток. Вы в прошлый раз говорили, что надо много кипятка. Все. Я изложила все факты. Если вы меня не будете арестовывать, то я пойду спать. Ковер отмою потом, – Су махнула рукой в сторону комнаты. – Будете уходить, захлопните дверь, – она встала и, пошатываясь, пошла по коридору, выключая по дороге свет. Мы с Хрустовым остались сидеть в темноте. Минут десять полного уединения и тишины. Я смутно видела его лицо, он положил подбородок на руки и смотрел на меня.
– Что скажешь? – спросила я шепотом.
– Хреново.
Понятно, значит, ничего не скажет.
– Паспорт! – Он повысил голос.
– Что?
– Дай мне ее паспорт, и побыстрей.
Этот паспорт, который мы не стали заталкивать в банку с попугайчиками, так и лежал на столе. Я подвинула его пальцем, Хрустов встал и долго перелистывал странички, освещенные слабым светом фонаря с улицы. Потом он положил паспорт и «вальтер» в пакет.
– Считай, что у нее подписка о невыезде. Я забираю паспорт и запрещаю ей покидать эту квартиру. Завтра позвоню. Предупреди, что, если Корневич умрет, ей придется отсидеть какое-то время. Я постараюсь помочь, но какое-то время она отсидит.
Он ушел, и липкие ладошки беды вцепились в меня с неистовством брошенного ребенка. Мое оцепенение длилось еще десять минут, а потом за окном взвизгнули тормоза. Четыре человека вышли, поговорили, показывая на окна Су, я дернулась за занавеску, хотя видеть они меня не могли. Двое остались во дворе перед входом в подъезд, двоих я рассмотрела из окон спальни Су. Они расположились с другой стороны дома. Су спала, засунув в рот большой палец. Во сне она была прекрасна.
Через полтора часа неподвижности я стала терять ощущение реальности. Мне показалось, что где-то звонят печальным звоном колокола. На часах – одиннадцать сорок, далекие колокольца подстроились под пульсацию крови в висках. Су пошевелилась и села.
– Позвонить надо, – сказала она. – Надо просто позвонить в больницу и узнать, жив ли Корневич. И все определится.
Я набирала номер, а она спрашивала. Сначала по городской справочной, потом нам с трудом согласились дать номер больницы, куда его отвезли, потом там долго не отвечали, потом интересовались, кем она приходится раненому, потом сказали, что Корневич А. А. скончался в одиннадцать пятнадцать. Поскольку по данному факту заведено уголовное дело, то тело забрать в ближайшие дни будет нельзя, но прийти посмотреть на него можно.
– Хочешь пойти на него посмотреть? – поинтересовалась я.
Су неопределенно пожала плечами.
– А я хочу. Я хочу убедиться, что он мертв. Я хочу знать это наверняка. Я не живу эти два дня, а болтаюсь в бессмыслице, я…
– Я тоже хочу знать наверняка, – перебивает меня Су. – Только все это бесполезно. Он завтра будет ходить по городу, пить в кафе коктейль. Потому что утром я обречена подумать о нем. Это утомительно и даже отвратительно. Клянусь всем на свете, как только я его завтра увижу, я ни за что не поведу его домой, ни за что больше не выстрелю!!
– Ты и не сможешь, – злорадно замечаю я, – во-первых, тебе нельзя выходить из дома и отслеживать мертвого Корневича на улице, во-вторых, дурак Хрустов наконец-то унес оружие. Там еще оставалась последняя пуля, но он унес и оружие, и твой паспорт, а под окнами стоят топтуны, и я не знаю, будут ли они стрелять на поражение, когда ты отправишься за подтверждением своих невероятных утренних способностей на улицу, или просто пойдут следом!
– Что же делать?
– Сесть и все обдумать.
– Бесполезно, – вздыхает Су. – Я уже сидела и думала, потом лежала и думала, потом ходила и думала. Я не могу объяснить, что происходит, но могу сказать наверняка, что им всем от меня надо.
– Давай определим что, – вяло предлагаю я. – Хрустов спрашивал про подарки. Можно поразмышлять на эту тему. Где Библия, которую тебе подарил Дални?
– В его квартире, – она проговорилась и быстро старается объяснить: – В смысле в квартире, которую он купил мне.
– Сколько у тебя таких квартир? Которые ты якобы снимаешь.
– Одна квартира, которую он купил. Кроме этой, еще одна.
– Зачем ему покупать в Москве квартиру, если он собрался тебя отсюда вывозить? – Я начинаю кипятиться, как всегда, когда узнаю про ее вранье.
– Он купил ее как бы для себя. Он сказал, что только у нас можно делать нормальные деньги, а там, у них, очень строгие законы. Мы бы приезжали сюда, – Су вздыхает, собирается засунуть палец в рот, но потом передумывает и добавляет объяснение для дураков: – Как иностранцы.
Мне не хочется с ней говорить, мне вообще ничего не хочется, но я интересуюсь:
– А что он понимал под этими словами – «делать деньги»?
– Я не знаю.
– А если знаешь? А если они думают, что знаешь? Одевайся.
– Зачем?
– Поедем в квартиру, которую ты… Которая твоя, найдем голову Дални и пришьем ее намертво! Короче, надо провести небольшой обыск и выяснить, что такого страшного этот швед притащил туда. – Я решительно встаю, не зажигая света.
– Не выдумывай, – повышает голос Су, – там же наверняка все опечатано, это будет нарушение закона.
– Правильно, никогда не нарушай закон и девять заповедей. Конечно, опечатано. Только какое это теперь имеет значение? Хрустов сказал, что тебя посадят. Чем бы ни кончился суд, ты окажешься в тюрьме. Теперь они с тобой будут договариваться так: больший срок на меньший, если честно все расскажешь. Не думаю, что тебя оставят сидеть приманкой с подпиской о невыезде.
– Перестань говорить всякие ужасы!
– Это не ужасы. Вот мертвый Корневич – это действительно ужас.
– Я же сказала, что больше не буду так делать, чего тебе еще от меня надо?!
Прислоняюсь к притолоке и смотрю на силуэт Су в темноте.
– Одевайся.
– Я одета.
– В таком виде по крыше не полезешь. Оденься нормально и в темных тонах. И мне, пожалуйста, выдели одни из твоих шести джинсов.
Су, очнувшись, размышляет, что на меня налезут разве что резинки.
– Ну что, – спрашиваю я, – если не получится, ты сможешь неподвижно просидеть часов шесть?
– Ты приходи быстрей, если не получится.
– Проводи меня, что ли, – мы обнимаемся напоследок, я иду к балкону. Су задвигает занавеску, я прикрываю за собой балконную дверь. Замираю, привыкая к темноте. Если она не придет ко мне в ту квартиру, придется самой копаться в вещах.
Внизу никого не видно. Я смотрю на застывшие в теплой ночи деревья, потягиваюсь и начинаю медленно переносить ногу на соседний балкон. А вот и мальчики проявились. Две темные фигуры выбежали со стороны детской площадки и что-то друг другу кричат. Еще один балкон. После третьего будет угол дома. И двор, огражденный решеткой. Один сообразил, резко развернулся и бежит в противоположную сторону, а второй, открыв рот – с этой стороны дома улица освещена, я вижу его злое, поднятое вверх лицо, – в каком-то ступоре наблюдает, как по ту сторону решетки я сползаю по чужому балкону вниз, держусь несколько секунд на руках и падаю вниз, перекатившись по земле.
– Стоять! – кричит он, вцепившись в прутья решетки. Со стороны улицы подбегает второй. Я примерно стою, обнаружив в себе непробиваемое равнодушие.
– Не надо в меня целиться, – я поднимаю руки повыше, – и стрелять не надо, у меня есть документы, и вообще вы должны сначала сделать предупредительный выстрел в воздух.
Тот, что за решеткой, притопывает на месте от нетерпения, пока его напарник достает из кармана моей ветровки паспорт. Я слышу копошение чужих пальцев у груди и отворачиваю лицо от запаха изо рта.
– Царева Вера Павловна. По какой причине прыгали с балкона квартиры гражданки Ли?
– По причине, чтобы было незаметно. Уйти надо было незаметно. Су так сказала. Уйдем, говорит, незаметно.
– И где же гражданка Ли в данную минуту? – интересуется злорадно из-за решетки более молодой, он взял у напарника мой паспорт и делает вид, что в кромешной тьме сравнивает фотографию с тем, что я сейчас имею на месте лица.
– Она в данную минуту, вероятно, ушла незаметно, как того и хотела. Когда вы побежали за мной, она скорее всего прыгнула и побежала в другую сторону.
Немая сцена. Я осторожно опускаю руки, потому что, вероятно, стрелять в меня больше никто не хочет, и пытаюсь забрать паспорт. Тот, что за решеткой, паспорт не отдает, набирает воздуха и кричит что есть силы:
– Обратно бегом марш! – потом нащупывает на груди свисток и пронзительно свистит.
В последнюю секунду – я тяну паспорт к себе, он не выпускает – я делаю сильный рывок и вытаскиваю паспорт. Он мгновение думает, схватившись за металлический прут, потом разворачивается и бежит во двор к балкону, я бегу к остановке и, только ворвавшись в полупустой ярко освещенный троллейбус, пугаюсь.
Четверка слежки и охраны обежала дом вокруг, потом получила разрешение и открыла дверь в квартиру Ли отмычками. Были осмотрены все комнаты, ванная и туалет, пространство под тахтой, ящик на балконе, навесные полки над входной дверью, кухонные столы и даже стиральная машина. Все это с особой тщательностью, подогреваемой исступленной злостью. Сусанну Ли в квартире не обнаружили. Холодильник осматривался последним. Сыр и коробку конфет унесли с собой, наблюдение было снято. Сусанна выждала минут десять после хлопка дверью и осторожно вышла из квартиры. Она поднялась на третий этаж, открыла окно и прыгнула на крышу голубятни. Зажимая нос, сидела, пока не успокоился птичий переполох. Тихо. Спустилась по металлической лесенке вниз и через пару минут уже останавливала такси.
Приказано было сначала немедленно написать рапорт, потом «отставить рапорт!», Хрустова пригласили в кабинет начальника, там были представители всех структур, они все хотели узнать только одно: что именно такого секретного искал Корневич у девушки Сусанны Ли. Хрустов заплетающимся от усталости языком в который раз объяснял особенности интуитивного мышления Корневича. Беседа была записана на пленку. Хрустов не знал, что эта пленка будет потом тщательно храниться и передаваться из одного отдела в другой: из экономических преступлений – в разведку, потом обратно – в валютные нарушения, потом – когда КГБ уже не станет и Хрустов, получив чин, уйдет из органов, эту пленку выкрадут в суматохе переселений и продадут, после чего она будет уничтожена. Сам Хрустов, прослушав ее на следующий день, только покачал головой, тупея от полного абсурда.
Вопрос: Сколько времени прослушивалась квартира гражданки Ли?
Хрустов: Два дня официально, после того как данная гражданка вступила в контакт со шведом, и четыре дня без разрешения начальства. Незаконное использование аппаратуры. Майор Корневич сказал, что запишет эти дни на скрытое наблюдение. Швед проходил у нас в прошлом году по перевозке драгметаллов.
Вопрос: Объяснения Корневича на этот счет?
Хрустов: Два месяца назад в Москве были хлопковики из Штатов, они проходили у нас по условной наружной слежке, были зарегистрованы их встречи с гражданкой Ли, тогда, можно сказать, первый раз засветившейся. Когда Ли встретилась со шведом, Корневич моментально вспомнил это дело, он, вероятно, решил, что эти трое иностранцев связаны друг с другом, раз они имеют одну и ту же информацию на женщину для услуг. Она же не работает официально, только, так сказать, семейно, для узкого круга.
Вопрос: Почему следили за хлопковиками?
Хрустов: Единственная компания в Америке, которая интересуется выработкой таджикского хлопка, и не просто выработкой, а всем – от места высадки до условий полива и сборки урожая. Представители этой компании приезжают третий год регулярно – в сезон сева и в сезон сбора, у них своя передвижная лаборатория. Интерес свой объясняют закупкой экологически чистого сырья для детской медицины. Договор в порядке. Мы их проверяли досконально, ничего не нашли, проверять перестали, но в последний приезд в их машине были случайно обнаружены антипрослушки и радары таких разработок, каких у нас нет. Корневич завелся, но найти ниточки не смог. Решил подождать до следующего приезда, когда будет сбор хлопка. Отследили все их связи в Москве. Ничего. В Таджикистане, да, они поддерживают деловые знакомства. А в Москве – музеи, рестораны, ночные развлечения только с одним человеком. Сусанна Ли. Поэтому, когда Ли встретилась со шведом, Корневич решил эту тройку через нее соединить.
Вопрос: Поподробней с элементами вербовки гражданки Ли.
Хрустов: С элементами вербовки произошла накладка. Не предупреждая меня, майор Корневич решил разыграть сцену с нападением. Он спровоцировал нападение на него Сусанны Ли. После чего я разыграл сцену с вывозом трупа. Все это получилось вполне достоверно еще и потому, что в этот день в квартире Ли умер от приступа диабета тот самый гражданин Швеции. Женщина была, как это сказать… предварительно готова для психологической обработки.
Вопрос: Поподробней, пожалуйста, с вывозом трупа.
Хрустов: Достаточно запугав женщин – Ли и ее подругу Цареву, я с их помощью оттащил тело майора Корневича на улицу и забросил в пустой контейнер для мусора, который для этих целей был подтянут к подъезду. Когда женщины ушли и майор выбрался из контейнера, был разработан план психологического запугивания Сусанны Ли и способы подписания ею документа о сотрудничестве. Она была нужна майору как раз на август – сентябрь – время приезда хлопковиков. Ну а дальше произошла накладка. Сусанна Ли увидела живого Корневича на следующий день, это произошло случайно, у нас была операция на Дмитрия Ульянова, это рядом с Ленинским, где она живет. Корневич руководил. Она проследила его, встретила вечером в кафе. Корневич напросился на визит к ней домой, вероятно, чтобы объясниться, Ли выстрелила в него опять. Разрешите предположение? Я думаю, после условного убийства Корневича ей была необходима психологическая помощь и отдых. Ни того ни другого не было, нервы сдали, когда она увидела Корневича живым, разум повредился, она не совсем понимала, что делает.
Вопрос: Оружие?
Хрустов: «Вальтер» был приобретен на Даниловском рынке. Предположительно у Сопатого или Шуги, они оба пока на свободе, и именно они предпочитают продавать мелкое. Мною была допущена непростительная халатность: после первого выстрела в бронежилет Корневича я не забрал оружие из ее квартиры. Что дало возможность гражданке Ли воспользоваться им вторично.
Вопрос: Объяснения вашей халатности?
Хрустов: У меня есть объяснения, но даже если они будут вполне убедительными, прошу принять у меня рапорт об отставке, поскольку считаю именно себя виноватым в смерти майора Корневича. Дело в том, что начальник не посвятил меня в свои планы. Я даже думаю, что майор действовал экспромтно, как он любил выражаться, то есть без предварительной разработки, наугад, по обстоятельствам. Я увидел первый раз в квартире, что он притворяется, расслабился, воспринял все как игру и забыл про оружие. Виноват.
Вопрос: Ваше мнение об участии Сусанны Ли в убийстве майора госбезопасности Корневича А.
Хрустов: Нелепая случайность.
Вопрос: Ваше мнение об участии Сусанны Ли в смерти Шкубера Д., гражданина Швеции.
Хрустов: Поскольку смерть наступила в результате приступа болезни и вскрытие это подтвердило, считаю гражданку Ли невиновной.
Через полтора часа совещания Хрустова вызвали еще раз в кабинет начальника Комитета, где сообщили, что его отставка не принимается. Дело об убийстве майора Корневича поручают офицеру из отдела внутренних расследований, Хрустова просят на время следствия из Москвы не отлучаться, а текущие дела передать на это же время дополнительно указанным сотрудникам не позднее завтрашнего дня. На вопрос Хрустова, кто будет вести разработку по гражданке Ли и ее связям, ему ответили, что займутся этим делом только после появления в Москве интересующих Комитет иностранцев, не ранее, поскольку на данный момент, в связи со смертью шведа, это дело стало бесперспективным.
После этих сообщений Хрустов почувствовал настолько сильное беспокойство, что немедленно, отложив в сторону передачу дел, поехал в опечатанную после смерти шведа квартиру Сусанны Ли. Он обнаружил печать сорванной. Поработав перочинным ножичком, понял, что замки просто так не открыть, решил воспользоваться удостоверением и позвать слесаря. Спускаясь по ступенькам вниз, остановился на секунду и поправил «развязавшийся» шнурок. Двумя этажами выше кто-то был. Кто-то осторожно выглядывал на лестницу и непрофессионально громко двигался. Хрустов вышел из подъезда, досчитал до десяти, вошел, придерживая дверь, чтобы не хлопнула, и взлетел, стараясь не шуметь, на площадку третьего этажа. Женщины к этому моменту перестали шепотом обсуждать проблему сорванной печати и достали ключи. Поэтому без долгих объяснений Хрустов заставил их открыть дверь, после чего затолкал в темный коридор, а сам постоял несколько секунд, прислушиваясь к звукам снаружи.
– Можно я зажгу свет, тут что-то не так, – прошептала в темноте Су.
– Что не так?
– В коридоре лежит что-то большое, а у меня здесь ничего раньше не лежало.
Зная, что это грубейшее нарушение, Хрустов сам включил свет, потому что после этих слов женщины он мог предположить только одно. Все трое зажмурились, Хрустов вздохнул с облегчением: это был ворох одежды. Су ойкнула и схватилась за щеки: квартира была вывернута наизнанку. Ступить было некуда – пол забросан одеждой, посудой и книгами. Со стен свисали полотнища обоев. Су села сразу на тот ворох, о который споткнулась, вытаращила глаза и медленно обвела взглядом пространство, которое высветило бра в коридоре.
– Что эт-то? – Она вскинула глаза сначала на Хрустова, потом на Веру.
– А это что? – повысил голос Хрустов и ткнул ее в плечо. – Что это тут сидит и выпучивает глаза?! Что это такое – тупое, ему говорят сидеть дома, а оно бегает по городу?! А это? Это просто обыск, лапочка моя, обыск на предмет обнаружения чего-то ма-а-аленького такого и плоского. Есть соображения? Нет соображений, глазки сразу опускаем, изображаем полную идиотку. Вставай, – он дернул Су за руку, – ты, можно сказать, удачно мне попалась. Раз уж мы изображаем недоумение и ужас от такого разгрома, давай быстренько прошвырнемся по вещичкам и выясним, что именно пропало. Раз уж мы не знаем, что здесь могли искать! – закричал он в близкое отворачивающееся лицо. – Десять минут тебе. Можешь зажечь свет, но через десять минут убегаем быстро и без вопросов. Шевелись!
Су отстранила Хрустова пальчиком, сохраняя на лице выражение недоумения и брезгливости, прошла в комнату, откидывая ногами все, что мешало проходить. Она внимательно осмотрела пустые полки, перевернутые кресла, пружины изрезанного дивана. По странному наитию нашла в разоренной комнате альбом с фотографиями, вытащила из него несколько снимков, потом, покопавшись в куче одежды, выдернула кожаную куртку. Выбрала из сумок наименее поврежденную, сложила туда куртку, фотографии, статуэтку божка из черного дерева, две пары туфель – за одной туфлей пришлось залезть под диван, оттуда же выкатился шар – замок в прозрачном стекле в ворохе плавающих снежинок, шар тоже был отправлен в сумку, набор косметики – зеркальце разбито, два флакона духов – нетронутые. Вера и Хрустов, застыв в дверях, наблюдали эти спокойные сборы.
– Вера, зайди, пожалуйста, в спальню. Там у кровати на полочке лежала Библия.
Я медленно иду в спальню, там погром не такой, наиболее сильно пострадала кровать. Библия валяется сразу у двери, но я задерживаюсь, осматривая место смерти Дални. Чувствую, что в книге что-то лежит, открываю. Закладкой оказывается иностранный паспорт Су. Засовываю паспорт себе в карман. Библию забирает Хрустов. Су уже на кухне, она, оказывается, хочет забрать еще фарфоровую чашечку, блюдце и сахарницу – все, что удалось купить из какого-то царского сервиза, эти вещи ее греют. Сахарница разбита. Обыскивающие явно спешили, не стали высыпать сахар на стол, а просто бросили ее на пол и грубо разгребли потом ногой кучку осколков и песка. А чашка с блюдцем целы, я стараюсь не смотреть на серьезную Су, заворачивающую сокровища в белье, я боюсь сорваться и грохнуть реликвии на пол рядом с сахарницей.
– Что здесь было? – Хрустов показывает аккуратно вскрытые сбоку обложки Библии. – Здесь что-то лежало, что?
Су пожимает плечами не глядя, она очень занята упаковкой.
– Сядь и слушай. Дело хуже, чем я думал. Как вы выбрались из квартиры? – это вопрос ко мне. Я рассказываю про прыжок с балкона.
– А она?
– Я осталась в квартире, дождалась, пока они ее осмотрят и уедут, потом вышла через дверь, – монотонно объясняет Су.
– Это как понимать, наблюдение сняли? – Хрустов очень озадачен.
– Наверное, – Су пожимает плечами и оглядывает кухню в поисках еще чего-нибудь, что ее греет.
– Как же это тебя не нашли в квартире?
– У нас есть тайник.
Она говорит «у нас». Я хмыкаю. Хоть в чем-то она права: идея сделать тайное убежище была моя, мы обнаружили это место случайно во время ремонта.
– А если бы в квартире оставили пост? – Хрустов задумчиво трет подбородок.
– По обстоятельствам, – Су совершенно откровенно сдерживает зевок. – Тогда Вера одна бы зашла в эту квартиру.
– Что было в корешках Библии?
– Не знаю!
Она врет, я это вижу, она нервничает и повышает голос.
– Слушай, куколка, ты приговорена. Знаешь ты или нет, что здесь искали, но ты приговорена, попробуй это понять. Мне приказано больше твоим делом не заниматься. После убийства Корневича я попал под внутреннее расследование, а с тебя сняли даже наблюдение! Ты не задержана, не допрошена, понимаешь, что это значит?
– Что? – спрашивает Су, она в этот момент стоит на табуретке и пытается снять расписную тарелку со стены.
– Что ты труп. Тебя больше нет. Это дело нескольких часов.
– И если я скажу, что было в Библии, это меня спасет? – интересуется Су, вытирая тарелку и укладывая ее в сумку.
– Если они нашли все, что хотели, то нет. Не спасет. А вот если ты успеешь сказать, что знаешь еще что-то, то это серьезная заявка на отсрочку.
– Еще что-то? – задумчиво смотрит на меня Су, а я в это время стою сзади сидящего у стола Хрустова и замахиваюсь бутылкой.
Чтобы он не упал на пол, прислоняем его к стене и подпираем стулом. Потом мы с Су начинаем двигаться очень быстро и как-то слаженно. Так, например, не говоря ни слова, мы выходим из подъезда и движемся к метро, смотрим друг на друга в ярко освещенном пространстве пустого вестибюля и едем в больницу. Су тащит свою сумку, я один раз открываю рот и предлагаю сумку бросить. В ответ – полный недоумения и боли взгляд. Ладно, еще не время. Морг находится рядом с родильным отделением. Пока я, впав в философские размышления по этому поводу, замираю в больничных запахах, Су дает санитару деньги, и, вероятно, больше, чем он ожидал, потому что нам предлагают поговорить с врачом, непосредственно констатировавшим смерть: тот как раз сейчас и дежурит. Мы движемся по коридору, потом на лифте – вниз, от санитара ужасно пахнет, чем-то неестественным и опасным. И вот – зажжены лампы в длинной комнате без окон и сдернута простыня чуть пониже груди с трупа на каталке. Су ставит сумку на пол и склоняется над лицом Корневича. Потом над дырочкой под левым соском.
– А вы уверены, что он умер? – вопрос к санитару. Тот высоко поднимает брови и приоткрывает рот.
Су берет руку Корневича, держит ее и опускает осторожно на место.
– Холодная… А где, вы говорите, врач?
Хирург Менцель. Драит щеткой руки над раковиной, черные волнистые волосы из-под зеленой шапочки, зеленые же штаны и фартук неопределенного цвета в пятнах. Он начинает тщательно вытирать палец за пальцем, его растопыренная кисть торжественно торчит перед породистым лицом в очках.
– Родственники убитого?
– А вы еще не делали вскрытие? – спрашивает Су. Вопрос вызывает у доктора замешательство, вероятно, это не тот вопрос, который обычно задают родственники. – Как вы определили, что он действительно умер?
Я незаметно дергаю ее сзади за кофточку.
– Это неприятная процедура, – задумчиво говорит доктор, подходя поближе и оглядывая Су. – Вот, например, я могу показать вам, как я определяю, что вы еще живы. Пульс, разрешите? И язык покажите заодно.
Ее кисть безвольно свисает из большой и, вероятно, очень чистой руки. Красивая форма ногтей у этого доктора.
– Пульс повышен, глаза воспалены, дыхание сбивается. Вы, несомненно, живы, но перепуганы и устали. Боитесь трупов? Откуда такие вопросы?
– Я только хочу знать, когда вы будете делать вскрытие? Вы же должны это делать для определения причины смерти?
– Хотите присутствовать на вскрытии? – тычет доктор указательным пальцем.
– А можно?
Мне становится плохо. Я не предполагала, что сегодня нам грозит еще и вскрытие. Пожалуй, это чересчур для одного дня.
– Не думаю, не думаю, – теперь доктор обходит Су вокруг и удовлетворенно качает головой: отличный экземпляр, что и говорить. – Анемией страдаете?
– Что?
– Люди с таким цветом и тонкостью кожи обычно страдают анемией.
– Я не знаю, а что это такое?
Я опять дергаю Су. У нас очень мало времени.
– Прекрасно, прекрасно, вот отличный ответ, просто бальзам для врача. Так, что там у нас насчет вскрытия, – он на секунду подносит пальцы к виску. – Да! Не думаю, что родственникам можно будет присутствовать, поскольку при составлении протокола вскрытия будет патологоанатом из их организации. Так полагается. Все вопросы к ним.
Мы уже почти вышли из ординаторской, когда Су резко останавливается и протягивает доктору сумку.
– Возьмите, пожалуйста.
– Это не ко мне, это в морг распорядителю.
– Не для похорон. Здесь его вещи. Если вдруг так случится…. – она подыскивает слова, зажмуривает глаза и неопределенно взмахивает рукой в воздухе, – если он вдруг окажется все-таки живым, отдайте ему эту сумку. Скажите, что это ему.
Пока я открываю рот и хватаюсь за притолоку двери, чтобы не упасть, доктор ставит диагноз:
– Детка, у вас не анемия. У вас маниакально-депрессивный психоз. Это бывает после смерти близкого человека.
– Да-а-а, – неуверенно соглашается Су, – наверное. Это же я его пристрелила.
После больницы воздух вдыхается с жадностью самоубийцы, мне кажется, что я могу по запаху распознать каждое дерево, но тополя, конечно, со своими липкими листьями вне конкуренции. Первый час ночи, мы останавливаем такси, Су называет вокзал. Потом шепотом, склонив голову мне на плечо: «Ты взяла мой паспорт?» Я киваю и интересуюсь, почему этот вокзал? Су знает, что с этого один за другим поезда уходят ночью в Ленинград. А если не будет билетов? Су отстраненно смотрит на меня, и я потом понимаю почему. Она не идет к кассам вообще, она идет сразу к проводникам, интересуется сначала, часто ли останавливается поезд. Она минует «Стрелу», из этого я делаю заключение, что нам нужен тот, который останавливается везде.
Верхние полки полутемного пустого купе, мы ложимся друг против друга, я вижу, как мерцают глаза Су в отблесках перронных фанарей, я не знаю, куда мы едем и почему, и думать об этом нет сил. Я закрываю глаза, и плавный толчок поезда, и его медленное движение по скользким рельсам мне почти что почудились во сне.
Кто-то трогает мою руку, прикосновение отдаленное, как будто я со стороны наблюдаю сцену с посторонними людьми: аккуратно зачесанные и напомаженные волосы у мужчины с тонкими усиками над сочными губами, моя не очень чистая рука, которую осторожно гладят, запах горького одеколона, шепот и перезвон стекла.
– Прошу прощения, но вы стонете во сне. А мы как раз решили посидеть при свечах, не составите компанию, раз уж сон так тяжел?
Еще несколько секунд я не могу поверить в реальность происходящего и не понимаю, где нахожусь. Внизу на столике подтекает свеча, пристроенная в горлышке бутылки, еще одна бутылка с коньяком, баночки, стаканы, нарезанный хлеб. Мужчина с усиками услужливо улыбается, четвертый пассажир раскладывает салфетки на столе.
– Проснулись? Прекрасно, что хорошего в страшных снах. Присоединяйтесь.
– Где я? – спрашиваю и тут же понимаю нелепость вопроса.
– Мы в поезде, – терпеливо, как сиделка у буйнопомешанного, объясняет разбудивший меня мужчина, помогая спуститься. – Мы едем в Ленинград, сейчас полпятого утра, или ночи, как вам больше нравится. Вы стонали, разбудили нас, мы решили посидеть и поговорить, раз уж вы все равно не даете спать. А потом подумали, почему бы не поговорить втроем? Знакомиться будем?
– Можно, – я неуверенно пожимаю плечами.
– Это хорошо сказано: можно! Это хорошо.
– Да, неплохо, – соглашается второй мужчина, я рассматриваю с некоторым удивлением его совершенно обритую голову, плечи атлета – он в черной открытой майке и спортивных брюках, – массивную шею, потом поднимаю глаза вверх: тяжелые веки и раздвоенный подбородок грубо вылепленного лица. Глаз не видно, глаза он прячет. – Неплохо сказано, потому что можно знакомиться, а можно и наоборот. Знаете, это расслабляет. Такие вот ни к чему не обязывающие знакомства в поездах. Столько всего можно про себя рассказать! Без страха и стыда, потому что случайному человеку – все равно что ни-ко-му. Позвольте ножку.