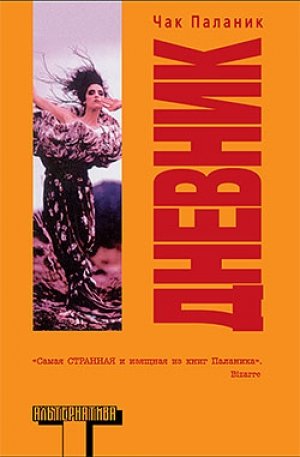
Моему деду, Джозефу Тэлленту, который сказал мне быть всем, чем я хочу.
1910-2003
21 июня – Луна на три четверти
СЕГОДНЯ ЗВОНИЛ КАКОЙ-ТО МУЖЧИНА из Лонг-Бич. Он оставил длинное сообщение на автоответчике: бормотал и кричал, говорил торопливо и медленно, ругался и угрожал вызвать полицию, чтобы тебя арестовали.
Сегодня самый долгий день в году, хотя нынче – все дни такие.
Погода сегодня – нарастающее переживание с порывами ужаса.
Этот мужчина, звонивший из Лонг-Бич, говорит, что у него пропала ванная.
22 июня
КО ВРЕМЕНИ, когда прочтешь это, ты будешь старше, чем себя помнишь. По-медицински твои печеночные пятна называются гиперпигментированными лентигинами. Морщинка по-анатомически называется ритида. А эти складки в верхней части лица, ритиды, избороздившие лоб и кожу вокруг глаз, – это динамическая морщинистость, называемая также гиперфункциональными линиями лица, вызванная движением мышечного слоя. Почти все морщины в нижней части лица – статические ритиды, возникшие из-за солнца и силы тяжести.
Давай глянем в зеркало. Внимательно посмотри на свое лицо. Рассмотри свои глаза, свой рот.
Все, что ты привык считать самым знакомым.
Кожа твоя делится на три основных слоя. То, чего можно коснуться, называется stratum corneum, слой гладких, мертвых клеток кожи, подкрепляемый новыми клетками снизу. То чувство, при касании, чувство чего-то жирного – это кислотный покров, покрытие из сальных масел и пота, защищающее тебя от грибков и микробов. Ниже – твой дермис. Под дермисом – слой жира. Под жиром – твои лицевые мышцы.
Может, ты помнишь все это из курса анатомии человеческой фигуры. Опять же – а может, и нет.
Когда подтягиваешь верхнюю губу – когда обнажаешь тот верхний зуб, который сломал охранник музея – в работе мышца levator labii superioris. Мышца недовольства. Представим, что ты унюхал застарелый запах отстоявшейся мочи. Вообразим, что твой муж только что наложил на себя руки в семейном авто. Представь, что тебе приходится идти и собирать губкой его ссанину с водительского кресла. Вообрази, что тебе еще предстоит ехать в этой вонючей ржавой куче металлолома на работу, а все всё видят и все всё знают, потому что другой машины у вас нет.
Никаких ассоциаций?
Когда нормальная женщина, одна нормальная ни в чем не повинная женщина, которая, черт побери, заслуживала куда большего, – когда она возвращается домой после целодневного обслуживания столиков, и обнаруживает, что ее муж задохнулся в машине, что у него потек мочевой пузырь, и она кричит – это всего лишь ее мышца orbicularis oris натягивается до предела.
Глубокие впадины от уголков твоего рта к носу – это носогубная складка. Иногда называемая «кармашек недовольства». С возрастом круглые подушечки жира у тебя в щеке, которые по-анатомически называются скуловыми жировыми прослойками, опускаются ниже и ниже, пока не пристраиваются у носогубной складки, придавая лицу выражение постоянного недовольства.
Это – просто маленький курс повторения. Маленький обзор шаг за шагом.
Теперь нахмурься. Это твоя треугольная мышца тянет вниз уголки orbicularis oris.
Представь, что ты – двенадцатилетняя девочка, которая любила отца до безумия. Ты маленькая девочка, почти подросток, которой папа нужен как никогда раньше. Которая ждала, что отец всегда будет рядом. Представь, что ты каждый вечер ложишься в кровать в слезах, зажмурив глаза так сильно, что набухают веки.
Текстура твоего подбородка в виде «апельсиновой кожуры», эта «зыбь», вызывается мышцей mentalis. Мышцей, которая помогает «дуться». Хмурые морщины, которые ты замечаешь каждое утро, которые становятся глубже, сбегая от уголков рта к краю подбородка, называются марионеточными линиями. Морщинки между бровей – это складки надпереносья. Провисание твоих опухших век именуется «птоз». Боковые кантальные ритиды – «лучики» у твоих глаз – все глубже с каждым днем, а тебе всего двенадцать сраных лет, прости Господи.
Не притворяйся, что не знаешь, о чем речь.
Это твое лицо.
Теперь улыбнись – если еще можешь.
Это твоя главная скуловая мышца. Каждое сокращение тянет плоть в стороны, как растяжки открывают шторы у тебя на окне гостиной. Будто канаты раздвигают театральные кулисы: каждая твоя улыбка – как начало вечернего спектакля. Будто премьера. Ты распахиваешь свой занавес.
Теперь улыбнись так, как улыбнется престарелая мать, когда ее единственный сын наложит на себя руки. Улыбнись и погладь по руке его жену и юную дочь, и скажи, чтобы они не переживали – все в конце концов обернется к лучшему. Улыбайся себе и закалывай булавкой длинные седые волосы. Сходи поиграть в бридж со старушками-подругами. Припудри нос.
Ужасный огромный комок жира, который, видишь, висит у тебя под подбородком, этот зоб, с каждым днем все растущий и рыхлеющий, – это платизмальная кайма. Весь медленный оползень на лице, подбородке и шее вызывает сила тяжести, которая тянет вниз твою подкожную мышечно-аневротическую систему.
Знакомо звучит?
Если сейчас ты немного смущен, успокойся. Не переживай. Усвоить тебе нужно одну вещь: это твое лицо.
Все, что ты привык считать самым знакомым.
Три слоя твоей кожи.
Три женщины в твоей жизни.
Эпидермис, дермис и жировая прослойка.
Жена, дочь и мать.
Если ты это читаешь – добро пожаловать в реальный мир. Вот куда весь тот славный, безграничный потенциал юности привел тебя. Все твои неисполненные обещания. Вот оно – то, что ты сделал из своей жизни.
Тебя зовут Питер Уилмот.
Усвоить тебе нужно одну вещь: ты оказался сплошным сраным разочарованием.
23 июня
ЗВОНИТ ЖЕНЩИНА из Сивью, и сообщает, что у нее пропала бельевая кладовка. В прошлом сентябре в ее доме было шесть спален и две кладовки для белья. Она уверена в этом. А теперь у нее только одна. Она прибывает открыть на лето пляжный домик. Выезжает из города с детьми, няней и собакой, и вот они здесь, с кучей багажа, – а ни одного полотенца нет. Все исчезли.
Оп.
Канули в Бермудский треугольник.
По ее голосу на автоответчике, с нарастающими нотками визга, которые все выше, которые звучат сигналом воздушной тревоги к концу каждого предложения, нетрудно догадаться, что ее дико трясет, но в основном от страха. Она говорит:
– Это такой розыгрыш? Умоляю, скажите, что вам за это заплатили.
Ее голос на автоответчике просит:
– Умоляю, я не стану вызывать полицию. Только верните все, как было, ладно?
Позади ее голоса, тихонько, на заднем плане, слышен голос мальчика:
– Мам?
Женщина говорит в сторону от телефона:
– Все будет хорошо, – говорит. – Ну-ка, давайте без паники.
Погода сегодня – крепчающая склонность к отрицанию.
Голос на автоответчике просит:
– Только перезвоните мне, ладно?
Она оставляет номер телефона.
Просит:
– Умоляю…
25 июня
ПРЕДСТАВЬ, КАК маленький ребенок нарисует рыбью кость, – скелетик рыбы, на одном конце которого череп, а на другом – хвост. Посередине длинный позвоночник, который расчерчивают ребра. Такой рыбий скелетик, который в мультиках свисает у кота из пасти.
Представь, что эта рыба – остров, застроенный домами. Представь такие дома-дворцы, которые нарисует маленькая девочка, живущая в трейлерном парке: каменные домины, на каждом лес печных труб, на каждом горная цепь разных карнизов, крыльев, башенок и фронтонов, все они тянутся выше и выше, к самому громоотводу на вершине. Шиферные крыши. Причудливые чугунные ограды. Сказочные дома, которые топорщатся от эркеров и слуховых окон. Повсюду вокруг – прекрасные сосны, сады роз и мощеные красным кирпичом тротуары.
Буржуазные полуденные грезы несчастной, грязной, оборванной белой малышки.
Весь этот остров был именно той вещью, о которой ребенок, растущий в некоем трейлерном парке – скажем, на помойке вроде Текумеш-Лэйк, штат Джорджия – станет мечтать. Этот ребенок погасит свет во всем трейлере, пока ее мамочка будет на работе. Уляжется на спине на потертый оранжевый ворсистый ковер в гостиной. Ковер воняет так, будто кто-то вступил рядом в собачью кучу. В оранжевом проплавились черные пятнышки от сигарет. Потолок в пятнах сырости. Она сложит руки на груди и вообразит жизнь в тех краях.
Будет как раз то время – поздняя ночь – когда уши тянутся, пытаясь уловить хоть один звук. Когда с закрытыми глазами видно больше, чем с открытыми.
Рыбий скелет. С первого раза, когда взялась за карандаш – она не рисовала ничего кроме этого.
Все время, пока росла наша малышка, ее мамы, кажется, никогда и не было дома. Папу она никогда не знала, а мама ее вроде бы трудилась на двух работах. Одна на паршивеньком заводе по производству стекловолоконной изоляции, одна на готовке баланды в больничном кафетерии. Конечно же, наша малышка мечтала о краях вроде этого острова, где никто не работает, только ухаживает за домом, собирает дикую голубику и шатается в праздности. Вышивает на носовых платках. Складывает цветы в букеты. Где каждый день не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.
Она воображала эти дома, – каждый дом, каждую комнату, резной край обшивки на каждом камине. Узор на каждом паркетном полу. Брала все с потолка. Изгиб каждого крана или крепления фонаря. Она представляла себе каждую черепицу. Воображала поздно ночью. Каждый узор на обоях. Каждую кровлю, лестницу и водосточную трубу она рисовала пастелью. Раскрашивала мелками. Каждый мощеный кирпичом тротуар и живую самшитовую изгородь – зарисовывала. Закрашивала красной и зеленой акварелью. Она видела все это, воображала, мечтала обо всем этом. Как ей всего этого хотелось.
С тех пор, как впервые взяла в руки мел, рисовала она только это и ничего кроме.
Представь, что череп этой рыбы направлен к северу, а хвост – к югу. Спину пересекает шестнадцать ребер, которые тянутся на запад и на восток. Череп – поселковая площадь, сюда приходит и отсюда отплывает паром, из гавани, из рыбьего рта. Глаз рыбы – это гостиница, а ее окружают бакалейная лавка, скобяная лавка, библиотека и церковь.
Она рисовала улицы, где лед покрывает голые деревья. Она рисовала их, когда возвращаются птицы, и каждая приносит пляжную траву и сосновые иголки, чтобы построить гнездо. Потом с цветущей наперстянкой выше человеческого роста. Потом с подсолнухами, – они даже выше. Потом с кружащим листопадом, земля под которым усыпана орехами и каштанами.
Она видела все так ясно. Она могла вообразить каждую комнату, в каждом доме.
И, чем лучше она представляла себе остров, тем меньше нравился ей реальный мир. Чем лучше представляла себе тех людей, тем меньше ей нравились настоящие люди. Особенно ее мамочка-хиппи, вечно усталая, пахнущая французской зажаркой и сигаретным дымом.
Дошло до того, что Мисти Клейнмэн забросила попытки казаться счастливой. Все было криво. Все было косо и как-то… неправильно.
Ее звали Мисти Клейнмэн.
На случай, если ее не будет рядом, когда ты прочтешь это – она была твоей женой. На случай, если ты и правда не придуриваешься, твоя бедная жена – урожденная Мисти Мария Клейнмэн.
Когда наша несчастная дурочка рисовала костер на пляже, она чувствовала вкус кукурузных початков и вареных крабов. Рисуя травы в палисаднике у дома, она ощущала аромат розмарина и тимьяна.
И вот, чем лучше рисовать у нее получалось, тем хуже становилось жить – вплоть до того, что в реальном мире ничто ей не годилось. Дошло до того, что ничему вокруг она не принадлежала. Дошло до того, что никто не казался достойным, достаточно ясным, достаточно подлинным. Ни мальчики в школе. Ни другие девочки. Ничто не было таким настоящим, как ее вымышленный мир. Дошло до того, что она отправилась на студенческие подкурсы и принялась таскать деньги из маминого кошелька на покупку травы.
Чтобы люди не считали ее свихнувшейся, она посвятила жизнь художеству, а не видениям. А на самом деле ей просто нужно было мастерство, чтобы зафиксировать их. Чтобы делать воображаемый мир более и более точным. Более реальным.
И на худфаке она повстречала парня по имени Питер Уилмот. Она встретила тебя, парня с острова под названием Уэйтензи.
И, когда видишь этот остров впервые, кажется, будто ты умерла. Умерла и попала в рай, в вечный покой.
Рыбий позвоночник – Центральная авеню. Ребра рыбы – улицы, начиная с улицы Акаций, кварталом южнее от главной площади. Потом Буковая улица, улица Вязов, улица Грабов, Дубовая, Еловая, улица Жимолости, Заболонная, все по алфавиту, вплоть до улицы Платанов и Рябиновой, у самого хвоста рыбы. Южный конец Центральной авеню превращается там в гравий, потом в грунтовку, а потом теряется среди деревьев Уэйтензийского мыса.
Вполне точное описание. Именно так выглядит гавань, когда ты впервые прибываешь на пароме с континента. Узкая и вытянутая, гавань напоминает рыбий рот, готовый поглотить тебя, как в библейской притче.
Можно прошагать по всей длине Центральной авеню, если в запасе целый день. Позавтракать в Уэйтензийской гостинице, а потом пройти квартал на юг, минуя церковь на улице Акаций. Минуя дом Уилмотов, единственный дом на Восточной Буковой, где шестнадцать акров газона спускаются прямо к воде. Миновать дом Бартонов на Восточной Кедровой. И густые посадки дубов, скрученных и высоких, как замшелый изгиб молнии.
Небо над Центральной авеню летом зелено от густых волнующихся сводов кленовых, дубовых и вязовых листьев.
Приезжаешь сюда впервые, и кажется, будто сбылись все твои надежды и грезы. И жить тебе отныне долго и счастливо.
В смысле, для малышки, которая сроду обитала только в доме с колесами, все это казалось особым, уютным краем, где она будет жить, навеки окруженная любовью и заботой.
Для малышки, которая, бывало, усаживалась на ворсистый ковер с коробкой мелков или цветных карандашей и рисовала картинки этих домов, – домов, которые никогда не видела. Просто их картинки из воображения, с балконами и мозаичными стеклами. Для маленькой девочки, однажды увидеть эти дома в жизни. В точности эти дома. Дома, которые она, как ей казалось, всегда лишь выдумывала…
С первого раза, как смогла рисовать, маленькая Мисти Мария знала жидкие тайны каждой выгребной ямы за каждым домом. Знала, что проводка внутри стен – старая, изолированная тканью и продетая в фарфоровые трубочки и клеммы. Она могла нарисовать внутреннюю сторону каждой входной двери, где семьи островитян ставили пометки с именами и ростом каждого ребенка.
Даже с континента, с причала парома в Лонг-Бич, через три мили соленой воды, остров напоминает райские кущи. Сосны темны до черноты, волны разбиваются о коричневые скалы, – ей будто ни о чем другом и не мечталось. Убежище. Покой и уединение.
Нынче остров таким же видится многим людям. Многим богачам-незнакомцам.
Для нашей малышки, которая сроду не купалась ни в чем, кроме бассейна трейлерного парка с мутной от избытка хлорки водой, – для нее поездка на пароме в Уэйтензийскую гавань, когда пели птицы, а солнце отражалось от многих рядов окон гостиницы. Для нее слышать, как океан разбивается о край волнореза, и чувствовать тепло солнечных лучей, и ясный ветер в волосах, чуять аромат роз в цвету… розмарина и тимьяна…
Наша бедненькая девочка-подросток, которая сроду не видела океан, уже рисовала отмели и утесы, нависавшие в вышине над скалами. И угадала их в точности.
Бедная маленькая Мисти Мария Клейнмэн.
Эта девушка прибыла сюда в роли невесты, и все население острова вышло ее приветствовать. Сорок, пятьдесят семей, все улыбались и ждали очереди пожать ей руку. Пел хор ребятишек из начальной школы. Швыряли рис. В отеле был грандиозный ужин в ее честь, и все чокались с ней шампанским.
С холма над Лавочной улицей, из окон Уэйтензийской гостиницы, с каждого из шести этажей, из череды окон и застекленных балконов, из ломаных линий слуховых окошек покатой крыши, все наблюдали ее прибытие. Все смотрели, как она приезжает, чтобы поселиться в одном из больших домов в тенистом, обрамленном деревьями рыбьем брюхе.
Один взгляд на остров Уэйтензи, и Мисти Клейнмэн решила, что ради этого стоило послать к черту трудягу-мамочку. Собачьи кучи и ворсистый ковер. Она поклялась, что ноги ее больше не будет в трейлерном парке. Она решила повременить с планами стать художницей.
В смысле, когда ты ребенок, даже чуть повзрослевший, пускай даже под двадцать лет, и тебя берут на худфак, ты не знаешь ничего о реальном мире. Тебе хочется верить человеку, когда тот говорит, что любит тебя. Что хочет жениться на тебе и забрать жить домой, на райский остров, только и всего. В большой каменный дом на Восточной Буковой улице. Говорит, мол, он просто-напросто хочет дать тебе счастье.
И – нет, честное слово, он не собирается замучить тебя до смерти.
И бедная Мисти Клейнмэн сказала себе, что ей никогда и не хотелось карьеры художника. Ей на самом деле хотелось лишь одного: дома, семьи и покоя.
Потом она прибыла на остров Уэйтензи, где все было так правильно.
А потом оказалось, что она думала неправильно.
26 июня
ЗВОНИТ МУЖЧИНА с континента, из Оушн-Парк, и жалуется, что у него пропала кухня.
Вполне естественно первое время не замечать. Где не живи как следует долго – в доме, в квартире, в стране – везде станет тесно.
Оушн– Парк, Ойстервилль, Лонг-Бич, Оушн-Шоз -это городки с континента. Женщина с исчезнувшей кладовкой. Мужчина с пропавшей ванной. Сообщения всех этих людей на автоответчике, людей, которым провели небольшую перепланировку дач. У тебя дом с девятью спальнями, и ты видишь его только две недели в году, и может пройти несколько сезонов, пока ты заметишь, что части не хватает. У многих из этих людей есть как минимум полдюжины домов. Это ненастоящие дома. Это вложения средств. У них есть квартиры и кооперативные жилища. У них есть апартаменты в Лондоне и Гонконге. Новая зубная щетка ждет в очередном временном поясе. Груда грязного белья на очередном материке.
Голос, который жалуется в автоответчике, рассказывает, что у него была кухня с газовой плитой. Двойная духовка в стене. Большой двухдверный холодильник.
Слушая, как он нудит, твоя жена, Мисти Мария, кивает, мол, да, многое меняется в этих краях.
В свое время сесть на паром можно было, только показавшись рядом. Он ходит каждые полчаса, на континент и назад. Каждые полчаса. А теперь стоишь в очереди. Ждешь, когда наступит твой черед. Сидишь на стоянке в толпе незнакомцев в сверкающих спортивных машинах, которые не воняют мочой. Паром приходит и уходит три-четыре раза, прежде чем тебе найдется место на палубе. А ты сидишь все время под палящим солнцем в этом запахе.
Целое утро уходит на то, чтобы выбраться с острова.
В свое время можно было зайти в Уэйтензийскую гостиницу и запросто получить столик у окна. В свое время на острове Уэйтензи не видать было мусора. И потока машин. И татуировок. Колец в носу. Шприцов, которые выносят на пляж волны. Липких использованных презервативов в песке. Рекламных щитов. Корпоративных эмблем.
Мужчина из Оушн-Парк сказал, что стена в его столовой представляет собой лишь безупречную дубовую панель и обои в голубую полоску, не более. Плинтус, узоры, и побелка тянутся неповрежденными, без единого шва, от угла до угла. Он простучал стену, и она оказалась сплошным гипсовым простенком на деревянном каркасе. В середине этой безупречной стены, как он клянется, когда-то была кухонная дверь.
Мужчина из Оушн-Парк говорит по телефону:
– Может, я ошибаюсь, но в доме ведь должна быть кухня? Разве нет? Это ведь указано в законах о строительстве, или где-то там?
Дама из Сивью заметила пропажу бельевой кладовки только тогда, когда недосчиталась чистых полотенец.
Мужчина из Оушн-Парк рассказал, что взял из буфета в столовой штопор. Пробуравил дырочку в том месте, где на его памяти была кухонная дверь. Достал из буфета столовый нож и чуть расширил отверстие. У него на брелке маленький фонарик, и он прижался щекой к стене и глянул сквозь проделанную им дыру. Он скосил глаза, а внутри оказалась комната, стены которой были вдоль и поперек исписаны фразами. Он скосил глаза, дал им привыкнуть, и смог прочесть лишь обрывки:
«…ступите на остров и умрете…», – гласили слова. – «…бегите оттуда со всех ног. Они убьют всех детей Божьих, если это значит спасти их собственных…»
Там, где должна была оказаться его кухня, говорилось:
«…всех вас на бойню…»
Мужчина из Оушн-Парк советует:
– Вам бы приехать да глянуть, что я нашел, – говорит его голос на автоответчике. – Уже сам почерк стоит поездки.
28 июня
СТОЛОВАЯ в Уэйтензийской гостинице именуется Древесно-золотой, из-за ореховой отделки и золотой парчовой обивки. Здесь камин, обитый резным орехом, с полированными латунными решетками. Огонь приходится поддерживать даже тогда, когда ветер дует с континента: при этом дым шарахается назад и выкашливается клубами спереди. Рвется сажа и дым, доходит до того, что приходится вытаскивать батарейки из всех противопожарных детекторов. После этого вся гостиница чуть отдает пожаром.
Каждый раз, когда кто-нибудь закажет девятый или десятый столик, который у камина, а потом берется скулить, жалуясь на дым и жару, и требует другой столик, сделай пару глотков. Возьми да отхлебни того, что есть. Для твоей бедной толстой жены сойдет и столовое шерри.
Вот очередной день в жизни Мисти Марии, королевы среди рабов.
Еще один самый долгий день в году.
Это игра, в которую может играть каждый. Это всего-навсего личная кома Мисти.
Пару глотков. Пару аспирина. И еще раз.
В Древесно-золотой столовой, напротив камина – окна с видом на береговую линию. Половина обожженной мастики окаменела и осыпалась, поэтому внутрь со свистом задувает холодный ветер. Окна потеют. Влага в помещении оседает на стекле и сбегает струйками, собираясь в лужу, пока не пропитывает пол; и ковер воняет как кит, выброшенный на берег в последние две недели июля. За окном весь горизонт утыкан рекламными щитами, все теми же торговыми марками, – фаст-фуда, солнечных очков, теннисных туфель, – такие же отпечатаны на мусоре, обозначающем линию прибоя.
В каждой волне видны плывущие окурки.
Каждый раз, когда кто-нибудь просит четырнадцатый, пятнадцатый или шестнадцатый столик, который у окна, а после жалуется на сквозняк и вонь чавкающего промокшего ковра, когда они ноют и требуют другой столик, нужно сделать глоток.
Священный Грааль этих летних людей – идеальный столик. Кресло власти. Положение. Место, где они сидят, никогда не сравнится с тем, где их нет. Сколько тут народу, – просто пересечь столовую уже значит получать тычки в живот локтями и задницами. Шлепки сумочками.
Прежде, чем мы пойдем дальше, тебе, быть может, стоит одеться чуть потеплее. Быть может, стоит запастись витамином В. Может, и вспомогательными мозговыми клеточками. Если ты читаешь это на публике, остановись, пока не наденешь лучшие и самые качественные трусы.
И, все равно, перед этим тебе стоило бы стать где-нибудь в очередь на пересадку печени.
Сам видишь, к чему все идет.
Вот к чему пришла вся жизнь Мисти Марии Клейнмэн.
Есть бесчисленное множество способов покончить с собой, не умирая до смерти.
Всякий раз, как явится кто-то с континента с группой друзей, которые все худые, загорелые, и все вздыхают, глядя на резное дерево и белые скатерти, на хрустальные цветочные вазы, полные роз и папоротника, и всю серебрянно-посудную антикварную роскошь, – каждый раз, когда кто-нибудь заявляет – "уф, вам бы подавать тофу[1] вместо телятины", – сделай глоток.
С каждой из этих худых женщин, быть может, по выходным ты увидишь и мужа, низкорослого и полного, потеющего так обильно, что черный лак, которым он красит волосы на лысине, стекает по его загривку. Густые черные реки черной грязи, пачкающей сзади воротничок рубашки.
Всякий раз, как входит одна из местных старых кошелок, теребя жемчуг у иссохшей глотки, пожилая миссис Бартон, миссис Сеймур или миссис Перри, когда она видит одну из худеньких загорелых летних женщин за собственным персональным любимым с 1865-го столиком, и произносит:
– Мисти, как ты могла? Ты же знаешь, что я всегда здесь постоянная клиентка в полдень по вторникам и четвергам. В самом деле, Мисти… – тогда нужно сделать два глотка.
Когда летние люди требуют кофейных напитков с молочной пено й, хела тного серебра, цератониевых лимонниц или блюд на соевой основе – сделай еще глоток.
Если они не дают чаевых – сделай еще один.
Эти летние женщины. Так мажут глаза тушью, что кажется, будто на них очки. Носят темную губную подводку, а потом едят, и внутренняя помада стирается. И остается столик, занятый кучкой худеньких девочек, у каждой грязное кольцо вокруг рта. С длинными крючковатыми ногтями цвета пастели «иорданский миндаль».
Когда на дворе лето, а тебе все равно приходится топить дымный камин, сними предмет одежды.
Когда идет дождь, и окна дребезжат от ледяного сквозняка, надень предмет одежды.
Пару глотков. Пару аспирина. Еще раз.
Когда входит мать Питера с твоей дочерью, Тэбби, и ждет, что ты будешь обслуживать собственную свекровь и дочь как личная рабыня, сделай глоток. Когда они обе усаживаются за восьмой столик, и бабуля Уилмот говорит Тэбби:
– Твоя мать стала бы знаменитой художницей, если бы только попыталась… – сделай глоток.
Когда летние женщины, в бриллиантовых кольцах, сережках и теннисных браслетах, бриллианты в которых мутные и жирные от крема против загара, – когда они просят тебя спеть им «С Днем рождения», сделай глоток.
Когда твой двенадцатилетний ребенок поднимает взгляд и называет тебя «мэм» вместо «мам»…
Когда ее бабушка, Грэйс, говорит:
– Мисти, дорогая, у тебя стало бы куда больше денег и достоинства, если бы ты вернулась к картинам…
Когда это слышит вся столовая…
Пару глотков. Пару аспирина. Еще раз.
Всякий раз, когда Грэйс заказывает роскошную подборку бутербродов к чаю со сливочным и козьим сыром и орехами, растертыми в пасту без комков и намазанными на тоненький тост, а потом надкусывает пару раз и бросает остатки, а потом включает в счет это, и чашку чая «Граф Грей», и кусок морковного пирога, и записывает все на твой счет, а ты даже не знаешь, что она делала так, пока на чековой книжке у тебя осталось всего семьдесят пять центов на все про все, и спустя несколько недель ты уже должна Уэйтензийской гостинице деньги, и в итоге ты понимаешь, что ты издольщица, которая застряла в Древесно-золотой столовой, скорее всего, на всю оставшуюся жизнь, – тогда сделай пять глотков.
Всякий раз, когда в столовой битком, и каждый стул с обивкой из золотой парчи занят женщиной, местной или с континента, и все они зудят насчет того, что парома ждать приходится очень долго, и на острове не хватает стоянок, и что раньше никогда не нужно было заранее заказывать столик на ланч, и с какой стати некоторые не могут посидеть дома, потому что тут уж очень, уж слишком много; и все локти с капризными, резкими голосами спрашивают, как проехать туда-то и где достать молочный порошок не на сливочной основе и летние платья 2-го размера, а камин все равно должен пылать и пылать, потому что это гостиничная традиция, – тогда сними еще один предмет одежды.
Если на этот момент ты не пьяная и не полуголая – значит, плохо стараешься.
Когда помощник официанта Рэймон перехватывает тебя в морозильной комнате, когда ты прикладываешься к бутылке шерри, и говорит:
– Мисти, cario. Salud![2]
Когда это случается, салютуй ему бутылкой, со словами:
– За моего мужа без мозгов! За дочь, с которой я никогда не вижусь! За наш дом, который скоро отойдет католической церкви! За мою чокнутую свекровь, которая грызет сыр бри и канапе с зеленым луком… – потом прибавь:
– Te amo[3], Рэймон.
Потом отхлебни еще.
Всякий раз, когда очередная коростовая бронтозавриха из доброй семьи островитян принимается объяснять, что она Бартон, но ее мать была Сеймур, а отец был Таппер, а его мать была Карлайл, и каким-то образом это делает ее твоей троюродной сестрой через поколение, – а потом шлепает ледяную, мягкую, иссохшую руку на твое запястье, пока ты пытаешься отчистить грязные салатницы, и спрашивает:
– Мисти, почему ты больше не рисуешь? – а ты видишь, что все стареешь и стареешь, и вся твоя жизнь несется по стоку в помойную яму, – тогда сделай два глотка.
На худфаке не учат тому, что никогда и ни за что нельзя рассказывать людям, что ты хотела стать художницей. Просто чтоб ты знала: всю оставшуюся жизнь окружающие будут изводить тебя рассказами про то, как ты в молодости любила рисовать. Любила писать картины.
Пару глотков. Пару аспирина. Еще раз.
Просто на заметку: сегодня твоя бедная жена роняет нож для масла на пол гостиничной столовой. Когда она за ним наклоняется, на серебряном лезвии отражение. Каких-то слов, написанных снизу крышки шестого столика. Встав на четвереньки, она приподнимает край скатерти. На дереве, среди засохших жвачек и козявок из носу, нацарапано – «Не дай им снова тебя надуть».
Надпись карандашом гласит – «Выбери любую книгу в библиотеке».
Чье-то самодельное бессмертие. Остаточный эффект. Как жизнь после смерти.
Просто на заметку: погода сегодня местами пропитана переменными вспышками раздражения и отчаяния.
Послание под шестым столиком, выцветшая карандашная надпись, подписано – «Мора Кинкэйд».
29 июня – Новолуние
В ОУШН-ПАРК мужчина отпирает входную дверь, в руке у него винный бокал, заполненный бледно-оранжевым вином по указательный палец на стенке. На нем белый плюшевый халат с меткой «Энджел», вышитой на рукаве. На нем золотая цепочка, запутавшаяся в седых волосах на груди, и от него пахнет гипсом. В другой руке он сжимает фонарик. Мужчина отпивает вино до уровня среднего пальца, и у него отекшее лицо под темной щетиной на подбородке. Его брови до того отбелены или выщипаны, что их почти не видно.
Просто на заметку: вот так они повстречались, Энджел Делапорт и Мисти Мария.
На худфаке учат, что у картины Леонардо да Винчи, у Моны Лизы, нет бровей, потому что те были последней деталью, которую добавил художник. Он клал сырую краску поверх сухой. В семнадцатом веке реставратор спутал растворитель и стер их навсегда.
Куча чемоданов свалена прямо у двери, чемоданов из натуральной кожи, а мужчина указывает фонариком в руке мимо них, вглубь дома, со словами:
– Передайте Питеру Уилмоту, что правописание у него чудовищное.
Всем этим летним людям Мисти Мария рассказывает, мол, плотники всегда оставляют надписи внутри стен. У каждого мужчины возникает все та же мысль – написать свое имя и дату, прежде чем запечатать стену гажей. Иногда оставляют сегодняшнюю газету. Есть традиция оставлять бутылку вина или пива. Кровельщики пишут на досках настила, прежде чем покрыть их рубероидом и гонтом. Строители пишут на толе, прежде чем покрыть его обшивной доской или штукатуркой. Свои имена и дату. Некую частичку себя, которую может обнаружить кто-то в будущем. Возможно, какую-то мысль. Мы здесь были. Мы это построили. Какое-то напоминание.
Зовите это обычаем, предрассудком или «фен шуй».
Что-то вроде милого домотканого бессмертия.
По истории живописи учат, что папа Пий V попросил Эль Греко зарисовать несколько обнаженных натур, выполненных Микеланджело на потолке Сикстинской Капеллы. Эль Греко согласился, но с условием, что ему позволят перерисовать весь потолок. Учат, что Эль Греко стал знаменит только благодаря астигматизму. Именно поэтому он искажал человеческие тела, – поскольку неправильно видел, вытягивал руки и ноги, и прославился благодаря драматическому эффекту.
От знаменитых художников до подрядчиков-строителей, все мы хотим оставить свою подпись. Собственный остаточный эффект. Жизнь после смерти.
Мы все желаем самовыразиться. Никто не хочет быть забытым.
В этот день в Оушн-Парк Энджел Делапорт демонстрирует Мисти столовую, деревянную обшивку и обои в голубую полоску. В одной стене посередине пробита дыра, обрамленная завитками рваной бумаги и гипсовой пылью.
Каменщики, рассказывает она ему, замуровывают оберег, священную медаль на цепочке, чтобы та висела в трубе и не давала злым духам спуститься по дымоходу. Средневековые каменщики, рассказывает она ему, заключили бы в стены нового здания живую кошку, чтобы та приносила удачу. Или живую женщину. Чтобы дать зданию душу.
И Мисти разглядывает бокал вина. Она обращается к нему, а не к собеседнику, следит за ним глазами, в надежде, что это заметят и предложат ей выпить.
Энджел Делапорт прислоняет отекшее лицо, выщипанную бровь, к отверстию, и произносит:
– "…люди острова Уэйтензи убьют вас так же, как убивали всех до этого…" – крепко прижимает фонарик к голове, чтобы тот светил во тьму. Ощетинившаяся связка медных и серебряных ключей свисает ему на плечо, сверкает, как костюмное украшение. Он говорит:
– Вам бы увидеть, что здесь написано.
Медленно, как ребенок, который учится читать, Энджел Делапорт всматривается во тьму и произносит:
– "…теперь я наблюдаю, как моя жена работает в Уэйтензийской гостинице, убирает комнаты и превращается в жирную сраную чушку в розовой пластиковой униформе…"
Мистер Делапорт продолжает:
– "…она приходит домой а ее руки воняют как латексовые перчатки которые она носит когда подбирает ваши пользованные резинки… ее светлые волосы сереют и воняют как говно которое она чистит ваших толчках когда она забирается в постель рядом со мной…"
– Гм-м, – говорит он, отпивая вино до уровня безымянного пальца. – Здесь пропущен предлог.
Читает:
– "…ее сиськи висят спереди как пара дохлых карпов. У нас не было секса три года…"
Становится так тихо, что Мисти пытается выдавить смешок.
Энджел Делапорт убирает фонарик. Отпивает бледно-оранжевое вино до мизинца, покоящегося на стенке бокала, и кивает на дыру в стене, со словами:
– Сами почитайте.
Его связка ключей так тяжела, что Мисти приходится напрячь мышцы, чтобы поднять фонарик, и когда она прикладывает глаз к темной дырочке, то видит слова на противоположной стене, гласящие:
«…вы умрете проклиная день когда направились…»
Недостающая бельевая кладовка в Сивью, пропавшая ванная в Лонг-Бич, общая комната в Ойстервилле, где бы люди ни ковыряли стены, они находили все то же. Всегда все те же Питеровы припадочные излияния.
Все те же твои старые припадочные излияния.
«…вы умрете и мир станет лучше для…»
Во всех домах на континенте, где работал Питер, во всех вложениях средств, все та же написанная и запечатанная грязь.
«…умрете крича в ужастных…»
И Энджел Делапорт замечает, стоя позади:
– Передайте мистеру Уилмоту, что слово «ужасных» он написал неправильно.
Всем этим летним людям бедная Мисти говорит, что мистер Уилмот был не в себе последний год или где-то так. У него была опухоль мозга, о которой он не знал – и мы без понятия, насколько долго. Все прижимаясь лицом к дырочке в обоях, она сообщает нашему Энджелу Делапорту, мол, мистер Уилмот поработал в старой Уэйтензийской гостинице, и вот номера комнат стали перепрыгивать с 312 на 314. В том месте, где была комната, остался только безупречный гладкий коридор, стулья у стены, плинтус, новенькие штепсельные розетки через каждые шесть футов, – работа высшего качества.
А этот мужчина из Оушн-Парк взбалтывает вино в бокале и говорит:
– Надеюсь, номер 313 в тот миг был не занят.
Снаружи, в ее машине, есть лом. Они могут снова выломать дверной проем за пять минут. Это всего лишь простенок – и все, говорит она мужчине. Всего лишь сумасшествие мистера Уилмота.
Когда она просовывает нос в дыру и втягивает воздух, обои пахнут миллионом окурков, отправленных сюда на смерть. В дыре можно учуять запах корицы, пыли и краски. Откуда-то из темноты доносится шум холодильника. Тикают часы.
По стенам кругами написаны все те же тирады. Во всех домах для отдыха. Выведенные большой спиралью, витки которой начинаются у потолка и спускаются к полу, так что приходится стать посреди комнаты и читать, поворачиваясь, пока не закружится голова. Пока не затошнит. В свете брелка с ключами слова:
«…убиты невзирая на ваши средства и положение…»
– Смотрите, – говорит она. – Вон ваша плита. Точно в том месте, где вы говорили, – и она отступает назад, передавая ему фонарик.
Каждый подрядчик, рассказывает Мисти, подписывает свой труд. Метит территорию. Отдельщики пишут на накате, прежде чем постелить поверх твердый паркет или ковровое покрытие. Пишут на стенах перед обоями или обивкой. У всех внутри стен такие вещи: подборка картинок, молитв, имен. Дат. Временная капсула. Или еще хуже, можно обнаружить свинцовые трубы, асбест, токсичный раствор, плохую проводку. Опухоли мозга. Часовые бомбы.
В доказательство того, что любое вложение не останется твоим навечно.
Всего, что не хочешь знать никогда в жизни, но не решаешься забыть.
Энджел Делапорт читает, притершись лицом к дыре:
– "…я люблю свою жену и люблю своего ребенка…", – читает. – «…я не собираюсь наблюдать как вы сталкиваете мою семью дальше и дальше в пропасть недоразвитые паразиты…»
Он пригибается к стене, выворачивая лицо у отверстия, и замечает:
– Какой прозрачный почерк. В его написании буквы "р" в словах «направились» и «жирная сраная чушка» верхний изгиб высоко выдается и нависает над остальной частью слова. Это значит, что в жизни он очень любящий, заботливый человек, – говорит. – Видите "б" в слове «убьют»? То, как удлинена верхняя палочка, говорит о том, что он чем-то обеспокоен.
Выкручивая лицо у отверстия, Энджел Делапорт разбирает:
– "…остров Уэйтензи убьет всех и каждого из детей Божьих если это значит спасти наших собственных…"
Рассказывает, что тонкая вытянутая заглавная "У" говорит о том, что у Питера утонченный острый разум, но он до смерти боится матери.
Ключи звенят, когда он водит туда-сюда фонариком и читает:
– "…я танцевал с вашей зубной щеткой торчащей в моем грязном очке…"
Его лицо отдергивается от обоев, и он говорит:
– Угу, там моя плита, точно.
Допивает остатки вина, громко полоща им рот. Глотает со словами:
– Я же знал, что у меня в этом доме была кухня.
А бедная Мисти просит прощения. Она вскроет дверной проем. А мистеру Делапорту, скорее всего, не помещает сегодня вычистить зубы. И потом еще сделать прививку от столбняка. А может, вколоть и гамма-глобулина.
Мистер Делапорт касается пальцем заметного сырого пятна у отверстия в стене. Прикладывает ко рту бокал и, скосив глаза, обнаруживает, что тот пуст. Он трогает темное влажное пятно на голубых обоях. Потом корчит гримасу отвращения и вытирает палец о полу халата, говорит:
– Надеюсь, мистер Уилмот хорошо обеспечен и застрахован.
– Мистер Уилмот в последнее время лежит в больнице без сознания, – отвечает Мисти.
Вытаскивая из кармана халата пачку сигарет, он вытряхивает одну и интересуется:
– И вы теперь заведуете его ремонтной фирмой?
А Мисти пытается выдавить смех.
– Я жирная сраная чушка, – говорит она.
А мужчина, мистер Делапорт, переспрашивает:
– Пардон?
– Я миссис Питер Уилмот.
Мисти Мария Уилмот, подлинное гнусное скотское чудище во плоти. Она говорит ему:
– Я работала в Уэйтензийской гостинице сегодня утром, когда вы позвонили.
Энджел Делапорт кивает, глядя на пустой бокал. Запотевшее стекло захватано пальцами. Он поднимает бокал между ними и предлагает:
– Хотите, принесу вам выпить?
Смотрит туда, где она прижалась щекой к стене столовой, где не удержала слезу и запачкала его обои в голубую полоску. Влажный отпечаток ее глаза, лучиков у глаза, ее orbicularis oculi за решеткой из них. По-прежнему держа в пальцах незажженную сигарету, он берет в другую руку белый плюшевый пояс халата и трет пятно от слезы. И говорит:
– Я дам вам книгу. Она называется «Графология». Ну, знаете, анализ почерка.
А Мисти, которая в свое время искренне считала, что дом Уилмотов, шестнадцать акров на Буковой улице, означает долгую и счастливую жизнь, спрашивает:
– Не хотите снять место на лето? – смотрит на его винный бокал и продолжает:
– Большой старый каменный дом. Не на континенте, а на острове?
А Энджел Делапорт оглядывается на нее через плечо, на бедра Мисти, потом на ее грудь, обтянутую розовой униформой, потом на лицо. Щурится, покачивает головой и говорит:
– Не переживайте, волосы у вас не такие уж серые.
Вся его щека и лоб вокруг глаза присыпаны белой гипсовой пылью.
А Мисти, твоя жена, тянется к нему, раскрыв пальцы. Держит руку ладонью вверх, – кожа покрасневшая, покрыта сыпью, – и предлагает:
– Слушайте, если вы не верите, что я это я, – говорит она. – Можете понюхать мою руку.
30 июня
ТВОЯ БЕДНАЯ ЖЕНА носится из столовой в музыкальную комнату, хватая серебряные подсвечники, позолоченные часики, дрезденские статуэтки, и заталкивая их в наволочку. Мисти Мария Уилмот, отработав утреннюю смену, теперь обчищает большой дом Уилмотов на Буковой улице. Будто чертов грабитель в собственном доме, ворует серебряные портсигары, шкатулки и табакерки. Собирает с каминных полок и тумбочек у кроватей солонки и безделушки резной слоновой кости. Таскает туда-сюда наволочку, тяжелую и гремящую позолоченными бронзовыми соусницами и расписными фарфоровыми блюдами.
По– прежнему одетая в розовую пластиковую униформу с влажными пятнами пота в подмышках. К ее груди приколот именной значок, по милости которого каждый незнакомец из гостиницы зовет ее Мисти. Твоя бедная жена. Она работает по той же паршивой общепитской специальности, что и ее мамочка.
И жили они долго и несчастливо.
После этого бежит домой паковать вещи. Скачет туда-сюда со связкой ключей, которая гремит, как якорная цепь. Со связкой ключей, которая напоминает гроздь железного винограда. Тут короткие и длинные ключи. Резные ключи с причудливыми желобками. Медные и стальные ключи. Несколько полых ключей, пустых внутри, как ствол оружия, – некоторые из них размером с пистолет, который взбешенные жены прячут в подвязке, чтобы пристрелить идиота-муженька.
Мисти сует ключи в замочные скважины, проверяя, повернутся ли они. Пробует замки на шкафах и закрытых дверях, Пробует ключ за ключом. Ткнуть-покрутить. Сунуть-провернуть. И, всякий раз, когда замок отщелкивается, она сваливает внутрь наволочку: часы в золотой оправе, серебряные кольца для салфеток и компотницы свинцового хрусталя, – и запирает дверь.
Сегодня день переезда. Еще один самый долгий день в году.
Все в большом доме на Восточной Буковой по идее должны паковать вещи, да как бы не так. Твоя дочь спускается по лестнице, не захватив практически никакой одежды на всю оставшуюся жизнь. А твоя ненормальная мать продолжает уборку. Она таскает где-то по дому старый пылесос; стоя на четвереньках, выбирает нитки и комки пуха из ковров и скармливает их шлангу. Будто оно чертовски важно – как выглядят ковры. Будто семья Уилмотов когда-нибудь поселится тут снова.
А твоя бедная жена, наша глупая девочка, которая прибыла сюда миллион лет назад из трейлерного парка где-то в Джорджии, не знает за что хвататься.
Не скажешь, что семье Уилмотов это не светило давно. Не бывает так, что просыпаешься однажды утром и обнаруживаешь, что фонд доверия пуст. Что все семейные средства исчезли.
Сейчас только полдень, и она старается отложить второй глоток. Второй никогда не сравнится с первым. Первый – такое совершенство. Просто передышка. Вроде компании для нее. Осталось всего четыре часа до момента, когда съемщик придет за ключами. Мистер Делапорт. Когда им придется освободить помещение.
На с амом деле, смысл вовсе не в том, чтобы напиться. Один бокал вина, и она отхлебнула всего раз, ну два. И все же – просто знать, что он под рукой. Просто знать, что бокал еще как минимум наполовину полон. Это утешение.
После второго глотка она примет пару аспирина. Еще пара глотков, еще пара аспирина – и так она сможет прожить сегодняшний день.
В большом доме Уилмотов на Восточной Буковой улице, тут же, на внутренней стороне входной двери, можно обнаружить что-то вроде граффити. Твоя жена таскает туда-сюда наволочку с награбленным, когда замечает это: слова, нацарапанные на внутренней стороне двери. Там карандашные пометки по белой краске, имена и даты. Начиная с уровня колена, заметны темные горизонтальные штрихи, а вдоль каждого – имя и число.
«Тэбби, пять лет».
Тэбби, которой уже двенадцать, у которой боковые кантальные ритиды вокруг глаз от постоянного плача.
Или – «Питер, семь лет».
Это ты в семь лет. Крошка Питер Уилмот.
Кое– где в царапинах -"Грэйс", «шесть лет», «восемь лет», «двенадцать лет». Они поднимаются до «Грэйс, семнадцать лет». Грэйс с висячим зобом подбородочного жира и глубокими платизмальными складками на шее.
Знакомо звучит?
Никаких ассоциаций?
Карандашные пометки, гребень прилива. Годы: 1795… 1850… 1979… 2003. Древние карандаши были тонкими палочками из смеси сажи и воска, обмотанными ниткой, чтобы не пачкать руки. А до них – просто зарубки и инициалы, вырезанные по толстому дереву и белой краске двери.
Некоторые другие имена на обороте двери не опознать. Герберт, Каролина и Эдна, куча незнакомцев, которые жили здесь, росли и исчезали. Младенцы, потом дети, подростки, взрослые, потом покойники. Твои кровные узы, твоя семья, но незнакомые люди. Твое наследие. Ушедшие, но не ушедшие. Забытые, но оставшиеся здесь, чтобы быть обнаруженными.
А твоя бедная жена стоит прямо у двери, глядя на имена и даты последний разок. Ее имени среди них нет. Несчастной белой оборванной Мисти Марии, с сыпью на покрасневших руках и розовой плешью, просвечивающей сквозь волосы.
Вот вся история и традиции, которые, как она ждала, принесут ей уют. Укроют ее навеки.
Это не типично. Она не пьяница. На случай, если кто забыл – у нее большой стресс. Ей сорок один сраный год, и она теперь без мужа. Без диплома колледжа. Без настоящего опыта работы – если не считать чистку унитазов… нанизывание гирлянд из клюквы для новогодней елки Уилмотов. У нее есть только дочь и свекровь на содержании. Сейчас полдень, и у нее четыре часа на то, чтобы упаковать все ценности в доме. Начиная с серебряной посуды, с картин, с фарфора. Со всего, что они не могут доверить съемщику.
Твоя дочь, Тэбита, спускается по лестнице. Ей двенадцать лет, а она несет лишь один маленький чемоданчик и обувную коробку, перев язанную резинками. Не захватив никакой зимней одежды и обуви. Она упаковала только полдюжины летних платьев, несколько джинсов и купальник. Пару сандалий и теннисные туфли, в которые обута.
А твоя жена хватает древнюю щетинистую модель корабля с иссохшими пожелтевшими парусами и тонкими как паутина снастями, и говорит:
– Тэбби, ты же знаешь – мы не вернемся.
Тэбита пожимает плечами, стоя в парадном холле. Возражает:
– А бабуля говорит – вернемся.
Бабулей она называет Грэйс Уилмот. Ее бабушку, твою мать.
Жена, дочь и мать. Три женщины в твоей жизни.
Пихая в наволочку хлебницу из серебра с пробой, твоя жена орет:
– Грэйс!
Ни звука, кроме гудения пылесоса где-то в доме. В гостиной, а может – на террасе.
Твоя жена перетаскивает наволочку в столовую. Хватая хрустальную вазочку, твоя жена орет:
– Грэйс, нам нужно поговорить! Сейчас же!
Имя «Питер» на обороте двери карабкается до той высоты, которую помнит твоя жена, чуть выше, чем она может дотянуться губами, встав на носки черных туфель на высоком каблуке. Там надпись, гласящая – «Питер, восемнадцать лет».
Другие имена, «Уэстон», «Дороти» и «Элис», тускло виднеются на двери. Затертые прикосновениями, но не закрашенные. Реликвии. Бессмертие. Наследие, которое ей предстоит бросить.
Ворочая ключом в замке чулана, твоя жена откидывает голову и орет:
– Грэйс!
Тэбби спрашивает:
– Что не так?
– Да чертов ключ, – говорит Мисти. – Не работает.
А Тэбби просит:
– Дай я гляну.
Говорит:
– Успокойся, мам. Этим ключом заводятся дедушкины часы.
И отдаленный шум пылесоса утихает.
Снаружи по улице катится машина, медленно и тихо, – водитель в ней навалился на баранку. Подняв солнечные очки на лоб, он тянет голову, высматривая место для парковки. На борту его машины выведено под трафарет – «Силбер Интернешнл – ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЫТИЯ СОБОЙ». Ветер приносит с пляжа бумажные салфетки и пластиковые стаканчики с глухими толчками барабана и словом «бля», положенным на танцевальную музыку.
У входной двери стоит Грэйс Уилмот собственной персоной, источая запах лимонного масла и вощеного пола. Ее прилизанная седая шапка волос кончается чуть ниже того роста, который был у нее в пятнадцать лет. В доказательство того, что она усыхает. Можно взять карандаш и сделать пометку у ее макушки. Можно подписать – «Грэйс, семьдесят два года».
Твоя бедная расстроенная жена смотрит на деревянную коробку в руках Грэйс. У коробки из светлого дерева под пожелтевшим лаком, с медными уголками и шарнирами, потускневшими почти до черноты, есть ножки, которые раскладываются с двух сторон, чтобы из нее вышел мольберт.
Грэйс протягивает коробку синеватыми бугорчатыми руками, и говорит:
– Тебе они понадобятся.
Она трясет коробку. Внутри гремят засохшие кисти, старые высохшие тюбики краски и битые пастельные мелки.
– Чтобы взяться за рисование, – продолжает Грэйс. – Когда придет час.
А твоя жена, у которой нет времени для истерик, говорит только:
– Брось.
Питер Уилмот, от твоей матери толку – с хер.
Грэйс улыбается и широко распахивает глаза. Она приподнимает коробку выше, со словами:
– Разве не об этом ты мечтала? – ее брови подняты, работает складочная мышца, она продолжает. – Со времен, когда ты была маленькой девочкой, не всегда ли хотела ты рисовать?
Мечта любой девочки с худфака. Где изучают восковые карандаши, анатомию и морщины.
Зачем Грэйс Уилмот вообще занялась уборкой – Бог ее знает. Им нужно только паковать вещи. По всему дому: по твоему дому: столовая посуда из серебра с пробой, вилки и ложки размером с садовый инвентарь. Над камином в столовой висит портрет Какого-То-Мертвого Уилмота, написанный маслом. В подвале отблескивает ядовитый музей ископаемого варенья и повидла, древних домашних вин, окаменелых староамериканских груш в янтаре сиропа. Липкий отстой богатства и праздности.
Из множества бесценных вещей, оставшихся позади, достается нам только это. Эти артефакты. Памятки. Бесполезные сувениры. Ни один из которых нельзя пустить с молотка. Шрамы, оставленные счастьем.
Вместо того, чтобы собрать что-нибудь ценное, годное для продажи, Грэйс притащила эту коробку красок. У Тэбби обувная коробка с бижутерией, с одежными украшениями, брошками, кольцами и ожерельями. Слой рассыпавшихся поддельных самоцветов и жемчужин катается по дну обувного коробка. Коробка острых ржавых булавок и битого стекла. Тэбби стоит у руки Грэйс. Позади нее, вровень с макушкой, дверь сообщает – «Тэбби, двенадцать лет», и дату нынешнего года, отмеченную розовым флуоресцентным маркером.
Бижутерия, украшения Тэбби, принадлежала когда-то этим именам.
Все, что собрала Грэйс – ее дневник. Ее дневник в красной коже, и немного летнего белья, в основном пастельные свитера ручной вязки и плиссированные шелковые юбки. Дневник – в красной потрескавшейся коже, он закрывается на медный замочек. Золотое тиснение на обложке гласит – «Дневник».
Наша Грэйс Уилмот постоянно наседала на твою жену, чтобы та вела дневник.
Грэйс говорит. «Вернись к картинам».
Грэйс говорит. «Давай. Чаще выбирайся и посещай больницу».
Грэйс говорит. «Улыбайся туристам».
Питер, твоя бедная хмурая жена-людоед смотрит на твою мать и дочь, и произносит:
– В четыре часа. Мистер Делапорт придет за ключами.
Это больше не их дом. И твоя жена добавляет:
– Если к тому времени, когда большая стрелка будет на двенадцати, а маленькая – на четырех, что-то будет не заперто или не упаковано, вы никогда больше это не увидите.
В бокале Мисти Марии осталось еще как минимум пара глотков. И, когда видишь его на столе в столовой, он выглядит как ответ. Он выглядит как счастье, покой и комфорт. Так же, как в свое время выглядел остров Уэйтензи.
Стоя на том же месте, у входной двери, Грэйс говорит с улыбкой:
– Ни один из Уилмотов не покинет этот дом навсегда, – заявляет. – И ни один из прибывших извне здесь не задержится.
Тэбби смотрит на Грэйс и спрашивает:
– Бабуль, quand est-ce qu'on revient[4]?
А ее бабушка отвечает:
– En trois mois[5], – и гладит волосы Тэбби. Твоя бестолковая старая мать отправляется дальше кормить пылесос пухом.
Тэбби берется открывать входную дверь, чтобы отнести чемодан в машину. В ту ржавую груду металлолома с душком мочи ее отца.
Твоей мочи.
А твоя жена спрашивает ее:
– Что тебе только что сказала бабушка?
А Тэбби оборачивается и оглядывается. Закатывает глаза и говорит:
– Боже! Мам, успокойся. Она просто сказала, что ты сегодня утром хорошо выглядишь.
Тэбби врет. Твоя жена не дура. Нынче она уже в курсе, как выглядит.
Непонятному можно придать любой смысл.
Потом, снова оставшись в одиночестве, миссис Мисти Мария Уилмот, которую никто не видит, твоя жена, становится на цыпочки и тянется губами к обратной стороне двери. Ее пальцы накрывают годы и предков. У ее ног – коробка с засохшими красками, а она целует грязное место под твоим именем, где, как ей помнится, были твои губы.
1 июля
ПРОСТО НА ЗАМЕТКУ: Питер, выходит полная фигня с твоей стороны, когда ты всем рассказываешь, мол, твоя жена – гостиничная горничная. Да, может быть, пару лет назад она и была горничной.
А теперь она, представьте себе, младший контролер обслуживания столовой. Она «Сотрудница года» Уэйтензийской гостиницы. Она твоя жена, Мисти Мария Уилмот, мать твоего ребенка, Тэбби. Она почти, чуть было не, едва не получила диплом по изящным искусствам. Она голосует и платит налоги. Она – королева среди сраных рабов, а ты – безмозглый кусок мяса с трубкой в заднице, ты в коме, прицепленный к уйме дорогущих приспособлений, которые поддерживают в тебе жизнь.
Дорогой милый Питер, ты не в том положении, в котором можно звать кого-то жирной сраной чушкой.
У таких жертв комы, как ты, сокращаются все мышцы. Сухожилия натягиваются туже и туже. Колени подтягиваются к груди. Руки плотно складываются у живота. В ногах сокращаются икры, пока пальцы ног не оказываются направлены жутко строго вниз, так, что больно смотреть. В руках пальцы подворачиваются, и ногти врезаются в запястья. Каждый мускул и сухожилие становятся короче и короче. Мышцы спины, спинные выпрямляющие, стягиваются и тянут назад голову, пока она почти касается задницы.
Ты чувствуешь?
Ты весь скручен и связан, и этот клубок приходит проведать в больнице Мисти, проведя три часа за рулем. Не считая еще поездки на пароме. Ты клубок, за которым Мисти замужем.
Худший момент ее дня – записывать все это. Именно у твоей матери, Грэйс, возникла потрясающая идея – чтобы Мисти вела дневник комы. Так когда-то делали моряки и их жены, сказала Грэйс, вели дневники каждого дня разлуки. Это хранимая старинная традиция мореплавателей. Золотой древний обычай острова Уэйтензи. После долгих месяцев разлуки, при встрече, эти самые моряки и жены менялись дневниками и наверстывали пропущенное. Как росли дети. Какой была погода. Заметки обо всем на свете. То рутинное дерьмо, которым вы с Мисти нагружали бы друг друга за ужином. Твоя мать сказала, мол, это окажет тебе пользу в процессе выздоровления. Когда-нибудь, с Божьей помощью, ты откроешь глаза, обнимешь и поцелуешь Мисти, твою любящую жену, – а тут как раз подоспеют все потерянные годы, записанные в умилительных тонкостях: подробно о том, как рос твой ребенок, а твоя жена ждала и жить не могла без тебя, – и ты сможешь присесть под деревом со стаканом доброго лимонада и отлично провести время, наверстывая все это.
Твоей матери, Грэйс Уилмот, стоило бы пробудиться от собственного случая комы.
Дорогой милый Питер. Ты чувствуешь?
У каждого своя личная кома.
Что ты запомнишь из прошедших времен – никто не знает. Есть вероятность, что твоя память стерлась. Канула в Бермудский треугольник. У тебя ведь поврежден мозг. И ты родишься совсем другим человеком. Иным, но все тем же. Перерожденным.
Просто на заметку: вы с Мисти познакомились на худфаке. Ты сделал ей ребенка, и вы оба съехали жить к твоей матери на остров Уэйтензи. Если ты уже знаешь все эти вещи, пропускай. Пробегай глазами.
На худфаке не учат тому, что беременность может положить конец всей твоей жизни.
Есть бесчисленное множество способов покончить с собой, не умирая до смерти.
И, на случай, если ты забыл – ты трусливый ублюдок. Ты самовлюбленный, недоделанный, безвольный кусок дерьма. На случай, если не помнишь – ты завел сраную машину в сраный гараж и пытался удушить свою провинившуюся жопу выхлопными газами, – но нет же, ты даже с этим не справился. Обычно не мешает сперва наполнить бак.
Просто чтобы ты знал, как плохо выглядишь – состояние любого человека, пребывающего в коме больше двух недель, врачи называют устойчивым растительным. Лицо пухнет и краснеет. Выпадают зубы. Если тебя не переворачивать каждые несколько часов, у тебя будут пролежни.
Сегодня, когда твоя жена записывает все это, – сотый день комы.
И тебе ли звать груди Мисти парой дохлых карпов.
Хирург вживил трубку для питания тебе в желудок. В твою руку вставлена трубочка, чтобы мерить кровяное давление. Она же замеряет уровень кислорода и двуокиси углерода в твоих артериях. В шее у тебя еще одна трубка, которая измеряет кровяное давление в венах, возвращающих кровь в сердце. У тебя катетер. По трубке между легкими и грудной клеткой сливаются любые жидкости, какие бы там не скопились. К твоей груди прилеплены небольшие круглые электроды, следящие за сердцем. Наушники на голове посылают звуковые волны, чтобы стимулировать ствол мозга. Трубка, вставленная в нос, накачивает в тебя воздух от аппарата искусственного дыхания. Другая трубка, воткнутая тебе в вены, подает по капельнице лекарства и питание. Твои глаза заклеены, чтобы не высыхали.
Чтобы ты был в курсе, чем за все это платишь – Мисти обещала дом Сестрам Милосердия. Большой старый дом на Буковой улице, все шестнадцать акров, – в секунду твоей смерти во владение им вступает католическая церковь. Сотня лет твоей драгоценной семейной истории – отправляется прямо им в карман.
В ту секунду, когда ты перестанешь дышать, твоя семья останется без дома. Но не нервничай – при аппарате искусственного дыхания, трубке питания и медикаментах – ты не умрешь. Тебе не умереть, даже если захочешь. Тебя будут держать живым, пока ты не превратишься в иссохший скелет, через который машины все прокачивают и прокачивают воздух и витамины.
Дорогой милый глупый Питер. Ты чувствуешь?
Кстати, когда говорят насчет «выдернуть вилку», то это просто оборот речи, и не более того. Тут все, похоже, запаяно намертво. Плюс тут вспомогательные генераторы, бесперебойные сигналы, батареи, десятизначные цифровые коды, пароли. Нужен специальный ключ, чтобы отключить аппарат искусственного дыхания. Нужно распоряжение суда, отказ от обвинения в преступных намерениях, пять свидетелей, консилиум из трех врачей.
Так что располагайся поудобнее. Никто не станет выдергивать вилок, пока Мисти не найдет выход из того дерьма, в котором ты ее оставил.
Просто на случай, если ты не помнишь, в каждый визит к тебе на ней одна из тех старых поддельных брошек, которые ты ей дал. Мисти снимает ее с кофты и открывает острие булавки. Оно стерилизовано, протерто спиртом, естественно. Боже упаси, чтобы у тебя остались шрамы или микробы. Она протыкает булавкой старой волосатой броши – медленно, очень медленно, – мясо твоей ладони, ноги или руки. Пока та не наткнется на кость или не выйдет с другой стороны. Если появляется кровь, Мисти ее вытирает.
Какая ностальгия.
В некоторые из визитов она снова и снова протыкает тебя иглой. И шепчет:
– Ты чувствуешь?
Речь не о том, что тебя никогда не тыкали булавкой.
Она шепчет:
– Ты еще жив, Питер. Как насчет?
Ты, который прихлебывает лимонад, читая это под деревом дюжину лет спустя, – сотню лет спустя, – ты должен знать, что лучшее в этих визитах – погружать булавку.
Мисти ведь отдала тебе лучшие годы своей жизни. Мисти ничего тебе не должна, кроме большого жирного развода. Ты, глупый дешевый пидор, хотел бросить ее наедине с пустым топливным баком, как всегда, в твоем духе. Плюс, ты оставил послания ненависти повсюду в стенах. Ты обещал любить, превозносить и заботиться. Ты сказал, что сделаешь Мисти Марию Клейнмэн знаменитой художницей, но бросил ее в бедности, нелюбви и одиночестве.
Ты чувствуешь?
Ах ты, дорогой милый глупый лжец. Твоя Тэбби шлет папочке поцелуи и объятия. Через две недели ей исполнится тринадцать. Она станет тинэйджером.
Погода сегодня – переменный гнев, временами припадки ярости.
На случай, если ты не помнишь, Мисти принесла шерстяные ботинки, чтобы у тебя не мерзли ноги. На тебе обтягивающие ортопедические носки, заставляющие кровь оттекать к сердцу. Она бережет твои выпавшие зубы.
Просто на заметку: она все еще тебя любит. Она бы не стала мучить тебя, если бы не любила.
Ах ты, мудак. Ты чувствуешь?
2 июля
НУ ЛАДНО, ЛАДНО. МАТЬ ТВОЮ ТАК.
Просто на заметку: большая часть всей этой каши – вина Мисти. Бедной маленькой Мисти Марии Клейнмэн. Маленькой затворницы, продукта развода и почти полного отсутствия родительницы в доме.
Все в колледже, все ее подруги на курсе изящных искусств говорили ей:
«Не смей».
«Нет», говорили ей друзья. Только не Питер Уилмот. Только не «пидор ходячий».
Восточная школа искусств, Академия изящных искусств Мидоус, Художественный институт Уилсона – ходили слухи, что Питера Уилмота выперли из них из всех.
Тебя выперли.
На какой бы худфак в одиннадцати штатах не поступил Питер, он не посещал занятия. Он ни минуты не проводил в студии. Уилмоты наверняка были богаты, потому что он проучился почти пять лет, а его портфолио все еще был пуст. Питер круглые сутки только и делал, что флиртовал с женщинами. У нашего Питера Уилмота были длинные черные волосы, и он носил эдакие растянутые грязно-синие свитера, вязанные кабельным узлом. Шов вечно расползался на плече, а подол свисал в промежности.
Полные, худые, молодые или пожилые женщины, – Питер надевал дрянной синий свитер и весь день шатался по кампусу [6], флиртуя с каждой студенткой. Мерзкий Питер Уилмот. Подруги Мисти однажды указали ей на него в свитере, распускавшемся на локтях и в подоле.
На тебя в свитере.
Единственной разницей между Питером и бездомным экс-пациентом психушки с ограниченным доступом к мылу были его украшения. А может, нет. Это были всего лишь странные затертые старые брошки и ожерелья из поддельных самоцветов. Усыпанные фальшивым жемчугом и самоцветами, эти большие древние поцарапанные грозди цветных стекляшек свисали спереди Питерова свитера. Большие бабушкины броши. Новая брошка каждый день. Иногда – большое кольцо поддельных изумрудов. Следом – снежинка из вырезанных из стекла бриллиантов и рубинов, проволочные части которой позеленели от его пота.
От твоего пота.
Бижутерия.
На заметку, впервые Мисти встретила Питера на художественной выставке первокурсников, когда она и ее подруги разглядывали картину с домом из нетесаного камня. С одной стороны дом открывался в большую стеклянную комнату, в набитую пальмами оранжерею. Сквозь окна можно было разглядеть пианино. Рассмотреть читающего книгу человека. Крошечный персональный рай. Ее подруги говорили, как мило он выглядит, гамма и все такое, а потом кто-то сказал:
– Не оглядывайтесь, но сюда направился пидор ходячий.
Мисти переспросила:
– Как-как?
А кто-то ответил:
– Питер Уилмот.
Еще кто-то добавил:
– Глаз не поднимать.
Все подруги говорили – Мисти, не давай ему даже повода. Всякий раз, когда Питер входил в помещение, каждая женщина припоминала причину выйти. От него вроде и не воняло, но все равно все пытались спрятать руки за спиной. Он не пялился ни на чьи буфера, но почти все женщины все равно складывали руки на груди. Глядя на любую женщину, говорящую с Питером Уилмотом, можно было заметить, как ее мышца frontalis собирает лоб в складки – в знак того, что она боится. Верхние веки Питера бывали полуопущены, что было больше похоже на обозленность, а не на поиски любви.
А потом, тем вечером в галерее, друзья Мисти разбежались.
И тогда она осталась наедине с Питером с его немытыми волосами, свитером и старой бижутерией, и он перекатился на каблуки, уперев кулаки в бедра, и посмотрел на картину, со словами:
– Так что?
Не глядя на нее, спросил:
– Собираешься струсить и сбежать со своими друзьишками?
Он говорил это, выпятив грудь. Его верхние веки были полуопущены, а челюсть двигалась взад-вперед. Зубы скрипели друг о друга. Он развернулся и привалился к стене с такой силой, что картина позади него перекосилась. Он откинулся назад, расправив плечи по стене, сунув руки в карманы джинсов. Питер закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Медленно выдохнул, открыл глаза, глядя на нее, и спросил:
– Так что? Твое мнение?
– Насчет картины? – переспросила Мисти. С домом нетесаного камня. Она потянулась и выровняла ее.
А Питер глянул вбок, не поворачивая голову. Перекатил глаза, чтобы посмотреть на картину у плеча, и сказал:
– Я вырос в доме по соседству с этим. Тип с книгой – это Брэтт Питерсен.
А потом он громко, чересчур громко, объявил:
– Мне нужно знать, выйдешь ли ты за меня замуж.
Вот так Питер сделал предложение.
Так ты сделал предложение. Впервые.
Он был с острова, рассказывали все. Остров Уэйтензи, целый музей восковых фигур, куча эдаких старых добрых семейств, живущих со времен Мэйфлауэрского[7] пакта. Эдакие древние родовые древа, где все всем двоюродные родственники через поколение. Где никто не приобретал новое столовое серебро уже лет двести. С каждым блюдом они ели что-нибудь мясное, и всем парням оттуда вроде бы полагалось носить все те же потертые старые украшения. Что-то вроде традиции местной моды. Старинные крытые гонтом каменные дома, которые высятся над Дубовой, Каштановой, Заболонной улицей, омытые соленым ветром.
Даже их чистокровные охотничьи псы по происхождению были кузенами.
Люди говорили, что на острове Уэйтензи все своеобразного музейного качества. Кособокий старинный паромчик, вмещающий шесть машин. Три квартала зданий красного кирпича по Лавочной улице: бакалейщик, старая библиотека с городской часовой ратушей, магазины. Старая дощатая обивка и террасы, опоясывающие древнюю закрытую Уэйтензийскую гостиницу. Уэйтензийская церковь, вся из витражей и гранита.
Тогда, на худфаковской выставке, на Питере была брошь в виде кольца грязно-синих поддельных самоцветов. Внутри был круг фальшивого жемчуга. Некоторых синеньких камешков на месте не было, и пустые ячейки скалились острыми зубками. Металлические части были из серебра, но погнутые и почерневшие. Острие длинной булавки торчало сбоку и вроде было покрыто ржавчиной.
Питер, держа в руках большой пластиковый стакан пива с оттиском какой-то спортивной команды, сделал глоток. Он сказал:
– Если ты не станешь рассматривать предложение выйти за меня, то мне нет смысла приглашать тебя на ужин, так?
Глянул в потолок, потом на нее, и пояснил:
– Я обнаружил, что такой подход позволяет каждому сберечь хренову кучу времени.
– Просто на заметку, – сказала ему Мисти. – Этот дом не существует. Я его выдумала.
Сказала тебе Мисти.
А ты ответил:
– Ты помнишь этот дом, потому что он по-прежнему в твоем сердце.
А Мисти сказала:
– Откуда ты, бля, можешь знать, что в моем чертовом сердце?
Большие каменные дома. Мох на деревьях. Волны океана, которые шипят и бьются об утесы коричневых скал. Все это было в ее белом грязном оборванном сердечке.
Может быть потому, что Мисти осталась стоять рядом, а может потому, что ты решил – она толстая, одинокая и убегать не станет, ты глянул на брошку на своей груди и улыбнулся. Глянул на нее и сказал:
– Нравится?
А Мисти спросила:
– Сколько ей лет?
А ты ответил:
– Много.
– А из каких она камней? – спросила она.
А ты ответил:
– Из синих.
Просто на заметку: нелегко было полюбить Питера Уилмота. Тебя.
Мисти спросила:
– Откуда ты?
А Питер легонько встряхнул головой, ухмыляясь в пол. Жуя нижнюю губу. Оглядел немногих оставшихся в галерее, сузив глаза, посмотрел на Мисти и спросил:
– Обещаешь не кривиться, если я тебе кое-что покажу?
Она оглянулась через плечо на друзей: те ушли к картине, висевшей на противоположной стене, но продолжали наблюдать.
А Питер сказал шепотом, все еще привалившись задницей к стене, склонился к ней и прошептал:
– Чтобы создать настоящее искусство, нужно страдание.
Просто на заметку, однажды Питер спросил Мисти, чем ей нравится та живопись, которая нравится. Почему, например, жуткая батальная сцена вроде «Герники» Пикассо оказывается прекрасной, а картина с двумя целующимися единорогами в цветущем саду кажется дерьмом.
Кто– нибудь вообще отдает себе отчет, почему ему что-то нравится?
Почему люди что-то делают?
Там, в галерее, где подглядывали ее друзья, должна была висеть и картина Питера, так что Мисти согласилась:
– Ну. Покажи мне свое настоящее искусство.
А Питер сербнул пива и вручил пластиковый стакан ей. Сказал:
– Помни. Ты обещала.
Он схватил двумя руками полураспущенный подол свитера и потянул его вверх. Подъемом театральной кулисы. Как занавес. Под свитером показался его впалый живот с произрастающей посередине дорожкой волос. Потом пупок. Показались волосы, торчащие в стороны между двух розовеющих сосков.
Свитер приостановился, укрыв лицо Питера, и один сосок вытянулся за кончик далеко от груди, красный и заскорузлый, прицепленный к изнанке старого свитера.
– Смотри, – произнес изнутри Питеров голос. – Брошка заколота сквозь сосок.
Кто-то коротко вскрикнул, и Мисти рывком оглянулась на друзей. Пластиковый стакан выскользнул у нее из рук, шлепнувшись на пол с пивным взрывом.
Питер опустил свитер и напомнил:
– Ты обещала.
Это была она. Ржавая булавка входила в сосок с одной стороны, пробивала под ним дорогу и торчала из другого края. Кожа вокруг нее измазана кровью. Слипшиеся и прилизанные от засохшей крови волосы. Это была Мисти. Кричала она.
– Я каждый день прокалываю новую дырку, – сказал Питер, нагибаясь за стаканом. Пояснил:
– Так я каждый день чувствую свежую боль.
Теперь, если присмотреться, было видно, что свитер вокруг брошки присох и потемнел от пятна крови. Хотя, дело-то было на худфаке. Она видела вещи и похуже. А может, нет.
– Ты, – сказала Мисти. – Ты псих.
Без причины, быть может, из-за потрясения, она засмеялась и пояснила:
– В смысле – ты монстр.
Ее ноги в сандалиях липли и хлюпали от пива.
Кто знает, почему нам нравится то, что нравится.
Мисти оглянулась на друзей, а те смотрели на нее, подняв брови, и были готовы прийти на выручку.
А она глянула на Питера и представилась:
– Меня зовут Мисти, – и протянула руку.
А Питер, медленно, не отрывая взгляда от нее, потянулся и отщелкнул булавку под брошкой. По его лицу пробежала дрожь, каждая мышца на миг напряглась. Его глаза плотно зажмурились, покрывшись морщинками, и он вытащил булавку из свитера. Из собственной груди.
Из твоей груди. Испачканной твоей кровью.
Он защелкнул булавку и положил брошку ей на ладонь.
Он спросил:
– Так ты выйдешь за меня?
Он сказал это как вызов, будто затевая драку, будто швыряя перчатку к ее ногам. Как посягательство. Дуэль. Его глаза обшарили ее всю, – прическу, грудь, ноги, руки и ладони, будто Мисти Клейнмэн была всем, что оставалось ему в жизни.
Дорогой милый Питер, ты чувствуешь?
И маленькая дурочка из трейлерного парка взяла брошь.
3 июля
ЭНДЖЕЛ КОМАНДУЕТ СЖАТЬ руку в кулак. Говорит:
– Вытяните указательный палец, как если бы хотели прикоснуться к кончику носа.
Берет руку Мисти с вытянутым пальцем и держит ее так, чтобы кончик пальца слегка касался черной краски на стене. Водит ее пальцем так, чтобы тот повторял след, нанесенный черной краской из баллона, обрывки предложений и каракули, кляксы и потеки; и Энджел спрашивает:
– Что-нибудь ощущаете?
Просто на заметку: они, мужчина и женщина, стоят рядом в темной комнатушке. Они пробрались сюда сквозь дыру в стене, а снаружи ждет хозяйка. Просто чтобы в будущем ты знал этот факт – на Энджеле облегающие штаны коричневой кожи, которые пахнут как обувная вакса. Как кожаные сиденья машины. Как пахнет пропитанный потом кошелек, извлеченный из заднего кармана после дневных разъездов в машине. Запах, который Мисти притворялась, будто терпеть не может – вот как пахнут его штаны, прижатые к ней.
Каждые две секунды стоящая снаружи хозяйка пинает стену и требует:
– Вы мне можете сказать, что вы двое там затеяли?
Погода сегодня солнечная и теплая, присутствуют рассеянные облачка и заявление какой-то хозяйки с Плизент-Бич, мол, обнаружилась ее пропавшая обеденная ниша, и кое-кому лучше бы прийти увидеть это немедленно. Мисти позвонила Энджелу Делапорту, и они встретились на палубе парома, чтобы ехать вместе. Он принес фотоаппарат и сумку, набитую пленкой и объективами.
Энджел, если ты помнишь, живет в Оушн-Парк. Вот подсказка: ты замуровал ему кухню. Он говорит, что твое написание букв "м", при котором первый изгиб выше второго, показывает, что ты ставишь собственное мнение выше общественного.
А то, как ты выводишь прописные "п", отчеркивая последним штрихом низ изгиба, говорит о том, что ты никогда не ищешь компромиссов. Это графология, и эта наука не врет, говорит Энджел. Увидев слова в своей пропавшей кухне, он попросил осмотреть другие дома.
Просто на заметку, он утверждает, что твое написание прописных "д" и "у", с уклоняющимся влево нижним завитком, показывает, что ты очень привязан к матери.
А Мисти сказала ему – да, с этим он угадал.
Они с Энджелом приехали в Плизент-Бич, и парадную дверь открыла женщина. Она оглядела их, отклонив голову так, чтобы смотреть вдоль переносицы, выпятив подбородок и плотно сжав губы, сжав каждую мышцу в уголках рта, каждый жевательный мускул, в маленький кулачок, и произнесла:
– Питеру Уилмоту лень здесь показаться?
Эта маленькая мышца между ее нижней губой и подбородком, мышца mentalis, натянулась до такой степени, что подбородок пошел тысячами мелких впадинок, и она добавила:
– Мой муж с утра зудит без перерыва.
Мышца mentalis, складочная мышца, все мелкие мускулы лица, – вот первое, что проходят по курсу анатомии. После этого можно отличить фальшивую улыбку по тому, что мышца смеха и платизма оттягивают нижнюю губу, выворачивая ее, придавая ей прямоугольную форму и обнажая нижний ряд зубов.
Просто на заметку: знать, когда люди только изображают, будто ты им нравишься – невеликий навык.
В ее кухне, около дыры у пола, отслоились желтые обои. Желтый паркет покрыт газетами и белой гипсовой пылью. Возле двери – хозяйственный пакет, раздувшийся от выломанных гипсовых кусков простенка. Оборванные ленты желтых обоев завитками свисают из пакета. Желтые, утыканные крошечными подсолнухами.
Женщина стала у дыры, сложив на груди руки. Кивнула на дыру и сказала:
– Вон там.
Монтажники, рассказала ей Мисти, привязывают ветку к самой высокой точке нового небоскреба или моста, чтобы отпраздновать тот факт, что никто не разбился в процессе сооружения. Или чтобы принести новой постройке процветание. Это называется «венчать деревом». Изящная старинная традиция.
Эти подрядчики-строители битком набиты иррациональными предрассудками.
Мисти попросила хозяйку не волноваться.
Складочная мышца той стягивает брови над переносицей. Levator labii superioris подтягивает верхнюю губу в презрительную гримасу и раздувает ноздри. Depressor labii inferioris ее оттягивает нижнюю губу, обнажая нижний ряд зубов, и она произносит:
– Волноваться должны вы.
За дырой – темная комнатушка, с трех сторон обрамленная встроенными скамейками, вроде «галеры» в кафе, только без столика. То, что хозяйка зовет «обеденной нишей». Обивка желтого винила, а по стенам над лавками – желтые обои. А поверх всего этого наляпано черной краски, и Энджел проводит ее рукой по стене, где говорится:
«…спасти наш мир, перебив эту армию захватчиков…»
Питерова черная краска-аэрозоль, обрывки предложений и росчерки. Каракули. Краска кружит по живописи в рамках, по шелковым подушечкам, по желтому винилу обивки скамеек. Слова разбегаются по комнате во все стороны, по паркету пола, по потолку. На полу – пустые баллончики с черными отпечатками ладоней Питера, которые все еще сжимают каждый баллон.
Энджел командует:
– Дайте руку, – и скрепляет пальцы Мисти в кулак, оставив торчать только указательный. Приставляет кончик ее пальца к черной надписи на стене и заставляет очерчивать каждое слово.
Его рука крепко сжимает ее руку, направляя палец. Темный потек пота у ворота и в подмышках его белой футболки. Запах вина в его дыхании, оседающем на боку шеи Мисти. Как его глаза не сводят с нее взгляда, пока она безотрывно разглядывает выведенные черным слова. Вот как воспринимается эта комната.
Энджел прижимает ее палец к стене, направляя касание вдоль написанных там слов, и спрашивает:
– Ощущаете, что чувствовал ваш муж?
Если верить графологии, когда берешь указательный палец и обводишь им чей-то почерк, или просто берешь деревянную палочку или ложку и пишешь поверх написанных слов, то можно в точности ощутить, что чувствовал писавший, когда выполнял надпись. Нужно разбирать нажим и скорость письма, надавливая так же, как давил писавший. Писать так же быстро, как должен был писать он. Энджел говорит, все это аналогично театральной методике. Как он выражается – метод физических действий Константина Станиславского.
Анализ почерка и театральная методика, как рассказывает Энджел, обрели популярность в одни и те же времена. Станиславский изучал работы Павлова и его слюнявой собаки, и работы нейрофизиолога И. М. Сеченова. Еще до этого Эдгар Алан По изучал графологию. Все пытались увязать физическое и эмоциональное. Тело и разум. Мир и воображение. Наш мир и мир иной.
Двигая палец Мисти по стене, он заставляет ее обводить слова:
«…наплыв вас с вашим бездонным голодом и шумными запросами…»
Энджел говорит шепотом:
– Если эмоция способна вызвать физическое действие, то человек, дублирующий физическое действие, способен воссоздать эмоцию.
Станиславский, Сеченов, По – все искали какой-нибудь научный метод, чтобы производить чудеса по востребованию, говорит Энджел. Неограниченную возможность повторять случайное. Конвейер для разработки и производства спонтанностей.
Столкновение мистики и Индустриальной революции.
Тряпкой, которой начистили ботинки – вот как пахнет вся комната. Как внутренность широкого ремня. Перчатка вратаря. Собачий ошейник. Легкий уксусный душок пропотевшего ремешка часов.
Звук дыхания Энджела, – ее щека сыреет от его шепота. Его рука сдавливает ее капканом, сжимая ей кисть. Пальцы вонзаются Мисти в кожу. А Энджел говорит:
– Ощутите. Ощутите и расскажите мне, что чувствовал ваш муж.
Слова – «… ваша кровь – наше золото…»
Как чтение может напоминать пощечину.
По ту сторону дыры что-то произносит хозяйка. Стучит по стене и повторяет громче:
– Займитесь тем, чем вы там должны заниматься.
Энджел шепчет:
– Вслух.
Слова гласят – «…вы чума, вы тащите за собой свои неудачи и отбросы…»
Двигая пальцы твоей жены вдоль каждой буквы, Энджел шепчет:
– Вслух.
А Мисти возражает:
– Нет, – говорит она. – Это просто бред сумасшедшего.
Водя ее пальцами, крепко заключенными в свои, Энджел подталкивает ее плечом дальше и дальше, говоря:
– Это просто слова. Их можно произнести вслух.
А Мисти возражает:
– Они злые. В них нет смысла.
Слова – «…убить всех вас будто принести в жертву, каждое четвертое поколение…»
Кожа Энджела горячо и упруго обтягивает ей пальцы, он шепчет:
– Тогда зачем вы приехали их увидеть?
Слова – «…по жирным ногам моей жены ползут варикозные вены…»
По жирным ногам твоей жены.
Энджел шепчет:
– Зачем было ехать?
Потому что ее дорогой милый глупый муж не оставил предсмертной записки.
Потому что она никогда не знала его с этой стороны.
Потому что она хочет понять, кем он был. Потому что она хочет разобраться, что случилось.
Мисти говорит Энджелу:
– Не знаю.
Строители-подрядчики старой закалки, говорит она ему, никогда не берутся за постройку нового дома в понедельник. Только в субботу. Когда положен фундамент, его засевают горстью ржаных семян. Если по прошествии трех дней семена не прорастут, – тогда строят дом. Хоронят под полом или замуровывают в стену старую Библию. Всегда оставляют одну стену неокрашенной до въезда хозяев. Тогда дьявол не будет знать, что дом достроен, вплоть до заселения.
Энджел извлекает из бокового кармана сумки с фотоаппаратом что-то плоское и серебряное, размером с книгу в мягкой обложке. Оно квадратное и блестит, это фляжка, так изогнутая, что отражение человека на вогнутой стороне получается худым и высоким. А отражение на выпуклой стороне – коренастым и толстым. Он вручает ее Мисти, и металлический предмет тяжелый и гладкий, на одном конце – круглая крышечка. Что-то плещется внутри, меняя центр тяжести. Сумка для фотоаппарата – шершавая серая ткань, изрезанная змейками.
На высоком худом боку фляжки гравировка – «Энджелу – Te Amo».
Мисти спрашивает:
– Ну? А вы здесь зачем?
Когда она берет фляжку, их пальцы соприкасаются. Это физический контакт. Это флирт.
Просто на заметку: погода сегодня местами подозрительна, возможна измена.
А Энджел сообщает:
– Это джин.
Крышечка отвинчивается и виснет на маленькой ручке, которой она прикреплена к фляжке. Изнутри пахнет хорошим отдыхом, а Энджел говорит:
– Пейте, – и его пальцы обшаривают ее высокое худое отражение на полировке с ног до головы. Сквозь дыру в стене видны ноги хозяйки в замшевых мокасинах. Энджел ставит сумку для фотоаппарата так, чтобы та загородила дыру.
Где-то на заднем плане, слышно, шипит и бьется волна океана. Шипит и бьется.
Графология рассказывает, что три аспекта любой личности отражаются в нашем почерке. Все, что выпадает под низ слова, хвостик прописной "д", например, – дает представление о твоих инстинктах. О том, что Фрейд именовал «самость». О твоей самой животной стороне. Если оно тянется вправо, значит, ты склоняешься к будущему и к окружающему миру. Если хвостик отклонен влево, значит, ты застрял в прошлом и смотришь в себя.
Твои записи, прогулка по улице, – вся твоя жизнь отражается в физических действиях. В том, как ты держишь плечи, говорит Энджел. Все это – творчество. Что бы ты ни делал собственными руками – ты всегда разбалтываешь историю своей жизни.
Внутри фляжки джин, того доброго качества, который приятно ощутить прохладной тонкой струйкой, стекающей по глотке.
Энджел рассказывает – вид вытянутых букв, всех, которые поднимаются над обычными прописными "е" или "х", – эти вытянутые буквы дают представление о твоей высшей духовной сущности. О твоем «сверх-я». Как ты пишешь "б" или "в", или как ставишь точки над "ё", – демонстрирует то, чем ты стремишься стать.
Все, что посередине, большая часть прописных букв, характеризует твое "я". Будь они сбитые в кучу и щетинистые, или же растянутые и округлые – это дает представление о тебе нормальном, повседневном.
Мисти вручает фляжку Энджелу, тот делает глоток.
И спрашивает:
– Ничего не ощущаете?
Строчки Питера гласят – «…именно вашей кровью мы сохраним мир для следующих поколений…»
Твои строчки. Твое творчество.
Пальцы Энджела отпускают ее. Уходят в темноту, и слышно, как расстегиваются змейки на сумке с фотоаппаратом. Его запах коричневой кожи отступает, а потом – щелчок и вспышка, щелчок и вспышка, когда он делает снимки.
Пальцы Мисти обводят надписи на стенах, гласящие – «…я сыграл свою роль. Я нашел ее…»
Гласящие – «…убивать всех – не моя работа. Исполнитель приговора – она…»
Чтобы боль выглядела подлинной, рассказывает Мисти, скульптор Бернини высекал набросок своего лица, прижигая себе ногу свечой. Когда Жерико писал "Плот «Медузы», он ходил в больницу, чтобы делать зарисовки лиц умирающих. Он приносил в студию их отрезанные головы и руки, чтобы изучить, как кожа меняет цвет при гниении.
Слышен удар в стену. Еще удар; простенок и краска вздрагивают под пальцами. Хозяйка по ту сторону снова пинает стену расшитыми лодочками, и цветы с птичками в рамках постукивают по желтым обоям. По разводам черной аэрозольной краски. Она кричит:
– Передайте Питеру Уилмоту, что за это дерьмо он сядет.
На заднем плане шипят и бьются волны океана.
Продолжая обводить пальцами твои строчки, пытаясь ощутить то, что чувствовал ты, Мисти спрашивает:
– Вы слышали когда-нибудь о местной художнице по имени Мора Кинкэйд?
Энджел отзывается по ту сторону фотоаппарата:
– Немного, – и щелкает затвором. Говорит:
– Это не Кинкэйд связывали с синдромом Стендаля?
А Мисти отпивает еще один обжигающий глоток со слезами на глазах. Спрашивает:
– Она что, умерла от него?
А Энджел, не переставая делать снимки, смотрит на нее в видоискатель и командует:
– Смотрите сюда, – говорит. – Что вы там рассказывали про профессию художника? Про анатомию? Улыбнитесь так, как должна выглядеть настоящая улыбка.
4 июля
ПРОСТО ЧТОБ ТЫ ЗНАЛ – как это мило. Сегодня День независимости, и в гостинице битком. Пляж переполнен. В вестибюле тесно от летних людей, все они толкутся туда-сюда, ждут, когда на континенте запустят фейерверк.
У твоей дочери, Тэбби, оба глаза залеплены пластырем. Она вслепую нащупывает и прошлепывает путь сквозь вестибюль. Шепчет от камина до конторки:
– …восемь, девять, десять… – считая шаги от одного ориентира до другого.
Летние чужаки чуть подскакивают, пугаясь ее ручонок, хватающих на ощупь. Они улыбаются ей, стиснув губы, и отступают в сторону. Эта девчонка в выцветшем летнем платье в розово-желтую клетку, с волосами, стянутыми желтой лентой на затылке, – типичное дитя острова Уэйтензи. С розовой помадой и лаком для ногтей. Играющая в какую-то милую старомодную игру.
Она натыкается ладонями на стену, ощупывает картину, проводит пальцами по книжному шкафу.
Снаружи вестибюльных окон – вспышка и хлопок. Фейерверк выстреливает с континента, вздымаясь дугой и направляясь к гостинице. Будто гостиница под обстрелом.
Большие кольца желтого и оранжевого пламени. Красные огненные шары. Хлопок всегда доносится позже, как гром после молнии. А Мисти подходит к своей малышке и сообщает ей:
– Солнышко, началось, – говорит. – Открывай глаза и давай смотреть.
Не отклеивая пластырь с глаз, Тэбби отвечает:
– Мне нужно изучить комнату, пока все здесь.
Ощупывая дорогу от незнакомца к незнакомцу, – все они застыли и смотрят в небо, – Тэбби считает шаги к двери в вестибюле и к парадному крыльцу за ней.
5 июля
К ВАШЕМУ ПЕРВОМУ НАСТОЯЩЕМУ СВИДАНИЮ, вашему с Мисти, ты натянул для нее холст.
Питер Уилмот и Мисти Клейнмэн присели на свидании в густых травяных зарослях пустыря. Летние пчелы и мухи кружат вокруг них. Рассевшихся на клетчатом одеяле, которое Мисти принесла из дому. Мисти выпрямила ножки коробки с красками из светлого дерева под пожелтевшим лаком, с медными уголками и шарнирами, потускневшими почти до черноты, чтобы из нее вышел мольберт.
Если ты и так помнишь все эти вещи, пропускай.
Если помнишь, травы были так высоки, что тебе пришлось утоптать их, смастерив гнездышко под солнцем.
Был весенний семестр, и у каждого на кампусе будто возникла все та же идея. Сплести проигрыватель для компактов или компьютерный терминал из одних только травинок и палочек, здесь произрастающих. Из корешков. Стручков. В воздухе стоял густой запах резинового клея.
Никто не натягивал холстов, никто не рисовал пейзажей. В них не было изюминки. Но Питер уселся под солнцем на том одеяле. Расстегнул куртку и задрал подол своего мешковатого свитера. А внутри, загораживая его живот и кожу груди, оказался чистый холст, прибитый к растяжке.
Вместо крема от загара ты втер карандашный графит под глазами и вдоль переносицы. Большим черным крестом посреди лица.
Если ты сейчас это читаешь, значит, ты пробыл в коме Бог знает сколько. И этот дневник уж точно тебе не наскучит.
Когда Мисти поинтересовалась, зачем ты тащил холст под одеждой, так засунув его под свитер…
Питер ответил:
– Чтобы убедиться, что он подойдет по размеру.
Ты ответил.
Если ты в курсе, то помнишь, как жевал стебелек травы, помнишь его вкус. Мускулы твоей челюсти выпячивались, резко очерчиваясь то с одной стороны, то с другой, пока ты его прожевывал так и эдак. Ты копался одной рукой в траве, выбирая куски гравия и комки земли.
А все друзья Мисти плели из своей дурацкой травы. Чтобы вышел прибор, по которому достаточно заметна изюминка. И чтобы не распустился. Пока тот не будет выглядеть достаточно похожим на подлинное доисторическое высокотехнологичное развлекательное устройство, иронии не выйдет.
Питер дал ей чистый холст и сказал:
– Нарисуй что-нибудь.
А Мисти возразила:
– Никто уже не рисует картин. Больше не рисуют.
Даже если она и знала людей, которые нынче рисовали, то делали они это собственной кровью или спермой. И рисовали они на живых собаках из питомника, или на растаявшем желе, но на холсте – никогда.
А Питер сказал:
– Уверен, ты все равно рисуешь на холсте.
– Чего это? – спросила Мисти. – Потому что я отсталая? Потому что не знаю ничего лучше?
А Питер сказал:
– Ты давай, бля, рисуй.
По идее, они не должны были опускаться до предметно-изобразительного искусства. До рисования красивых картинок. По идее, они должны были научиться визуальному сарказму. Мисти сказала – делается слишком большой упор на познание, и нельзя не практиковать технику эффективной иронии. Она сказала, мол, красивая картинка мир ничему не научит.
А Питер ответил:
– Нам по возрасту не положено покупать пиво, а мы собрались учить мир?
Лежа на спине в их травяном гнездышке, закинув руку за голову, Питер сказал:
– Все мировые потуги ничего не значат, если у тебя нет таланта.
На случай, если ты ни хера не заметил, ты, сиська, – Мисти по-настоящему пыталась тебе понравиться. Просто на заметку: платье, сандалии, широкая соломенная шляпа – она с ног до головы разоделась для тебя. Если бы ты взял и коснулся ее прически, то раздался бы хруст от лака для волос.
На ней было столько духов «Песнь Ветра», что на нее слетались пчелы.
А Питер пристроил чистый холст ей на мольберт. Сказал:
– Мора Кинкэйд никогда не ходила ни на какой, бля, худфак.
Он сплюнул комок зеленой жвачки, сорвал еще один травяной стебель и сунул его себе в рот. Произнес позеленевшим языком:
– Уверен, если бы ты нарисовала то, что в твоем сердце, то оно могло бы висеть в музее.
То, что в ее сердце, возразила Мисти, большей частью дурацкий хлам.
А Питер молча глянул на нее. Спросил:
– Тогда смысл – рисовать то, что тебе не нравится?
То, что ей нравится, возразила Мисти, никогда не продастся. Люди это не купят.
А Питер сказал:
– Может статься, ты сама удивишься.
Это была Питерова теория самовыражения. Парадокс бытия профессиональным художником. То, как мы тратим всю жизнь, пытаясь хорошо самовыразиться, но сказать нам нечего. Мы хотим, чтобы элемент творчества строился по системе причины и следствия. Хотим результатов. Создать покупаемый товар. Нам нужно, чтобы старание и дисциплина уравнялись с признанием и воздаянием. Мы садимся за тренажер нашего худфака, за дипломный проект на специалиста изящных искусств, и практикуемся, практикуемся, практикуемся. И, со всеми нашими великолепными навыками, – документировать нам нечего. По словам Питера, ничто нас так не бесит, как какой-нибудь дерганый наркоман, ленивый бездельник или поганый извращенец, который вдруг создает шедевр. Будто невзначай.
Какой-то придурок, который не боится заявить о том, что он любит на самом деле.
– Платон, – объявляет Питер, поворачивая голову, чтобы сплюнуть в траву зеленую жвачку. – Платон говорил: «Кто приблизится к храму Муз без вдохновения, веруя, что достойно лишь мастерство, останется неумелым, и его самонадеянные стихи померкнут пред песнями безумцев».
Он сунул очередной стебель в рот и взялся жевать, со словами:
– Так что же делает Мисти Клейнмэн безумцем?
Ее сказочные дома и булыжные мостовые. Ее чайки, которые кружат над устричными лодками, возвращаясь с отмелей, которых она никогда не видела. Ни в какой сраной жизни, черт возьми, она не станет рисовать это дерьмо.
– Мора Кинкэйд, – говорит Питер. – Не бралась за кисть, пока ей не исполнился сорок один год.
Он взялся вытаскивать кисти из коробки светлого дерева, скручивая кончики. Он сказал:
– Мора обвенчалась со старым добрым плотником с острова Уэйтензи, и у них была пара детей.
Он извлек ее тюбики с красками, пристроив их тут же, рядом с кистями, на одеяле.
– Пока не умер ее муж, – продолжал Питер. – И потом Мора заболела, очень заболела, чахоткой или чем-то таким. Опять же, в те времена в сорок один год ты считалась уже старушкой.
Пока не умер один ее ребенок, говорил Питер, Мора Кинкэйд не бралась за картины. Он сказал:
– Наверное, нужно пострадать по-настоящему, прежде чем рискнешь заняться любимым делом.
Ты рассказал Мисти обо всем об этом.
Ты сказал, что Микеланджело был депрессивным психопатом, который изображал себя на картинах мучеником с содранной кожей. Генри Матисс бросил ремесло адвоката из-за аппендицита. Роберт Шуман стал писать музыку только тогда, когда ему парализовало правую руку, и его карьере концертного пианиста был положен конец.
Ты копался в кармане, пока рассказывал эти вещи. Пытался что-то выудить.
Ты рассказывал про Ницше и его третичный сифилис. Про Моцарта и его уремию. Про Пола Клее и склеродерму, скрутившую его суставы и мышцы и приведшую к смерти. Фрида Кало и расщепленный позвоночник, из-за которого ее ноги покрылись кровоточащими язвами. Лорд Байрон и его хромота. Сестры Бронте со своей чахоткой. Марк Ротко со своим самоубийством. Флэннери О'Коннор с кожным туберкулезом. Вдохновение нуждается в болезнях, травмах, безумии.
– По Томасу Манну, – сказал Питер. – «Великие художники есть великие инвалиды».
И потом ты положил что-то на одеяло. Там, в окружении тюбиков краски и кистей для рисования, оказалась большая брошь из поддельных самоцветов. Размером с серебряный доллар, брошка была из бесцветных стеклянных камешков, из крошечных шлифованных зеркал в желто-оранжевой оправе, поцарапанных и помутневших. Там, на клетчатом одеяле, она словно взрывала солнечный свет в сноп искр. Оправа была из потускневшего металла, державшего фальшивые самоцветы в маленьких острых зубках.
Питер спросил:
– Ты слушала, что я говорю?
А Мисти подобрала брошь. Искры отражений били ей прямо в глаза, и ее ослепило, закружило ей голову. Отключило от всего вокруг, от травы и солнца.
– Это тебе, – сказал Питер. – Для вдохновения.
Отражение Мисти дробилось дюжину раз в каждом поддельном самоцвете. Сотнями осколков ее лица.
Мисти произнесла, обращаясь к искрящимся цветам в своей руке:
– Так расскажи мне, – попросила она. – Как умер муж Моры Кинкэйд?
А Питер, с зелеными зубами, сплюнул зелень в высокую траву по соседству. На лице черный крест. Он облизал позеленевшие губы зеленым языком и ответил:
– Убийство, – сказал Питер. – Его убили.
И Мисти начала рисовать.
6 июля
ПРОСТО НА ЗАМЕТКУ, в потертой старинной библиотеке, где обои расползаются по всем швам, а во всех матовых плафонах, свисающих с потолка, – дохлые мухи, все, что ты припомнишь, осталось таким же. Все тот же изношенный глобус, пожелтевший до цвета супа. На континентах вырезаны названия стран вроде Пруссии и Бельгийского Конго. Тут по-прежнему висит в рамке знак, предупреждающий – «ЛЮБОЙ, КТО БУДЕТ ЗАСТИГНУТ ЗА ПОРЧЕЙ КНИГ, ПОНЕСЕТ НАКАЗАНИЕ».
Пожилая миссис Терримор, библиотекарша, носит все те же твидовые пиджаки, только теперь у нее на лацкане запонка размером с лицо, гласящая – «ОКАЖИТЕСЬ В НОВОМ БУДУЩЕМ с Финансовыми Услугами Оуэнса Лэндинга».
Непонятному можно придать любой смысл.
По всему острову население надевает запонки или футболки такого же типа, разнося всевозможные рекламные сообщения. Они получают небольшой приз или денежное вознаграждение, если их видят с чем-то таким. Тела, превращенные в рекламные щиты. В кепках с телефонными номерами на 1-800.
Мисти пришла сюда с Тэбби, на поиски книжек про лошадей и про насекомых, которые учитель просит ее прочесть до перехода в седьмой класс этой осенью.
Компьютеров нет. Нет доступа в Интернет или терминалов с картотекой – значит нет летних людей. Запрещены латте. Нет проката видеокассет и видеодисков. Не позволяется ни звука громче шепота. Тэбби направилась в детский отдел, а твоя жена – в личной коме, в отделе книг об искусстве.
На худфаке учат, что знаменитые старые мастера, вроде Рембрандта, Караваджо и Ван Эйка, просто обводили контуры. Рисовали так, как Тэбби не позволяет учитель. Ганс Гольбейн, Диего Веласкес, – сидели в бархатной палатке в кромешной тьме и зарисовывали окружающий мир, просвечивающий внутрь сквозь маленькую линзу. Или отраженный кривым зеркалом. Или, наподобие булавочной камеры, спроецированный в темную комнатушку через дырочку. Проекция окружающего мира на экран из холста. Каналетто, Гинзбург, Вермеер, – торчали там, в темноте, часами или днями, обводя здание или обнаженную натуру, стоящую снаружи в ярком солнечном свете. Иногда даже клали краски прямо поверх спроецированных цветов, подбирая блеск ткани по ее спроецированным падающим складкам. Рисовали точный портрет в один вечер.
Просто на заметку, «камера обскура» по-латыни значит «темная комната».
Миг, когда сталкиваются шедевр и конвейер. Фотоаппарат с красками вместо оксида серебра. С холстом вместо пленки.
Они провели здесь все утро, и в какой-то момент Тэбби подходит постоять с матерью. Тэбби держит в руках раскрытую книгу и зовет:
– Мам? – еще зарывшись носом в страницу, она рассказывает Мисти. – А ты знаешь, что огонь должен быть минимум в шестьсот градусов и должен длиться семь часов, чтобы поглотить среднее человеческое тело?
В книжке черно-белые фотографии жертв пожара, свернувшихся в «позу боксера», подтянувших к лицам обугленные руки. Кисти сжаты в кулаки, запечены в духовке пламени. Черные обугленные кулачные бойцы. Книга называется «Судебное расследование случаев пожара».
Просто на заметку, погода сегодня – нервное отвращение с трусостью перед фантазией.
Миссис Терримор поднимает взгляд от стола. Мисти говорит Тэбби:
– Поставь на место.
Сегодня, в библиотеке, в отделении искусства, твоя жена наугад касается книг на справочной полке. Она без причины открывает книгу, и там говорится, мол, когда художник использовал зеркало, чтобы отразить на холст изображение, картинка получалась навыворот. Именно поэтому на столь многих картинах старых мастеров все левши. Когда пользовались линзой, изображение выходило вверх ногами. Как бы они не смотрели на картинку, та все равно получалась искаженной. В этой книге старинная гравюра, изображающая художника, который обводит проекцию. Поперек страницы кто-то написал – «Ты способна проделать это в уме».
Именно затем поют птички, – чтобы метить территорию. Затем писают собачки.
Точно как жизне-после-смертное послание Моры Кинкэйд под крышкой столика в Древесно-золотой столовой, «Выбери любую книгу в библиотеке», мол.
Ее остаточный эффект в карандаше. Самодельное бессмертие.
Это, новое послание, подписано – «Констенс Бартон».
«Ты способна проделать это в уме».
Мисти вытаскивает наугад другую книгу, позволяя ей распахнуться. Она про художника Чарльза Мерьона, великолепного гравера-француза, который стал шизофреником и умер в желтом доме. На одной из гравюр для Французского Адмиралтейства – классическое каменное здание с рядом высоких гофрированных колонн, – работа выглядит безупречной, пока не замечаешь рой чудовищ, спускающихся с неба.
И поперек облаков над чудовищами карандашом значится – «Мы – их приманка и ловушка для дичи».
Подпись – «Мора Кинкэйд».
Закрыв глаза, Мисти пробегает пальцами по корешкам книг на полке. Ощупывая гребни из кожи, бумаги и ткани, она вытаскивает книгу не глядя, и дает ей распахнуться в руках.
Здесь Франциско Гойя, отравившийся свинцом из ярких красок. Краски он наносил костяшками и подушечками пальцев, макая их в баночки, пока не захворал свинцовой энцефалопатией, которая вела к глухоте, депрессии и безумию. Здесь, на странице, картина с богом Сатурном, поедающим своих детей – мрачный черный водоворот, окружающий гиганта с выпученными глазами, который откусывает руки у обезглавленного тела. На чистых полях страницы кто-то оставил надпись – «Раз ты нашла это, тогда еще можешь спастись».
Подписано – «Констенс Бартон».
В следующей книге французский художник Ватто изображает себя бледным тощим менестрелем, умирающим от чахотки, как и было с ним в реальной жизни. Синие небеса сцены пересекает надпись – «Не рисуй им картин». Подпись – «Констенс Бартон».
Чтобы проверить себя, твоя жена пересекает библиотеку, мимо библиотекарши, которая наблюдает сквозь маленькие круглые очки в черной проволочной оправе. В охапке Мисти тащит книги про Ватто, Гойю, камеру обскуру, – все они открыты и пристроены одна на другую. Тэбби поднимает взгляд от столика, заваленного детскими книжками. В отделе художественной литературы Мисти снова закрывает глаза и идет, проводя пальцами по старинным корешкам книг. Без причины останавливается и вытаскивает одну.
Это книга о Джонатане Свифте, о том, как у него появился синдром Меньера, и жизнь его была разрушена глухотой и головокружением. В огорчении он написал мрачные сатиры «Путешествия Гулливера» и «Скромное предложение», где предположил, что британцы могли бы выжить, поедая увеличивающийся приток ирландских детей. Его лучшие работы.
Книга распахивается на странице, где кто-то оставил надпись – «Они заставят тебя убить всех детей Божьих, чтобы спасти их собственных». Подписано – «Мора Кинкэйд».
И вот, твоя жена вкладывает эту новую книжку в верхнюю из книг, и снова закрывает глаза. Таща охапку книг, тянется за очередной книжкой. Мисти проводит пальцами от корешка к корешку. Ее глаза закрыты, она делает шаг – и натыкается на мягкую преграду и запах тальковой пудры. Когда она снова смотрит, – видит темно-красную помаду на припудренном лице. Зеленый козырек поперек лба, над ним купол седых вьющихся волос. На козырьке отпечатано – «Звоните 1-800-555-1785 и получите ПОЛНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ». Ниже – пара очков в черной проволочной оправе. Твидовый пиджак.
– Простите, – произносит голос, и это миссис Терримор, библиотекарша. Стоит, сложив руки.
И Мисти отступает на шаг.
Темно-красная помада продолжает:
– Я буду признательна, если вы перестанете портить книги, сваливая их в кучу таким образом.
А бедная Мисти просит прощения. Так и оставаясь чужаком, она несет их на столик.
А миссис Терримор, расставив руки, растопырив их, говорит:
– Прошу вас, дайте мне расставить их по местам. Прошу вас.
Мисти возражает – не сейчас. Она говорит, что хотела бы их выписать, и, пока две женщины борются за охапку, одна книжка выпадает и плашмя шлепается на пол. Громко, как звук пощ ечины. Распахивается в том месте, где можно прочесть – «Не рисуй им картин».
А миссис Терримор говорит:
– Боюсь, это книги читального зала.
А Мисти возражает. Нет, не читального. Не все. Можно прочесть строчки – «Раз ты нашла это, тогда еще можешь спастись».
Библиотекарша замечает их сквозь очки в черной проволочной оправе и сетует:
– Вредят и вредят. Каждый год.
Смотрит на напольные часы в оправе темного ореха и говорит:
– Итак, если не возражаете, у нас сегодня короткий день.
Сверяет часы на руке с напольными, со словами:
– Мы закрылись десять минут назад.
Тэбби уже выписала себе книжки. Она стоит у входной двери, ждет и зовет:
– Быстрей, мам. Тебе на работу.
А библиотекарша копается свободной рукой в кармане твидового пиджака и извлекает большую розовую стирательную резинку.
7 июля
ЭТИ ВИТРАЖИ островной церкви маленькая оборванная Мисти Клейнмэн могла нарисовать еще до того, как научилась читать и писать. Даже еще до того, как увидела витражи. Она никогда не была в церкви, – ни в какой церкви. Но наша маленькая безбожница Мисти Клейнмэн могла нарисовать надгробья деревенского кладбища на Уэйтензийскому мысу, изобразив даты и эпитафии, когда еще не знала ни цифр, ни букв.
Сейчас, сидя здесь, в здании церкви, ей трудно припомнить, что она первым делом вообразила, а что первым делом увидела в свой приезд. Пурпурный покров алтаря. Толстые древесные балки, черные от лака.
Все это она представляла себе ребенком. Но ведь такого не может быть.
Грэйс молится за ее скамьей. Тэбби с дальней стороны от Грэйс, обе они на коленях. Со сложенными руками.
Голос Грэйс, которая закрыла глаза и бормочет губами в сложенные руки, шепчет:
– Прошу, позволь моей невестке вернуться к ее любимой живописи. Прошу, не дай ей растратить выдающийся талант, данный ей Господом…
Все семьи островитян бормочут молитвы вокруг.
Позади шепчет голос:
– …прошу, Господи, дай жене Питера все, что ей нужно, чтобы начать работу…
Еще один голос. Пожилая леди Петерсен молится:
– …да спасет нас Мисти, пока от чужаков не стало хуже…
Даже Тэбби, твоя родная дочь, шепчет:
– Боже, помоги маме со всем разобраться и начать рисовать…
Все восковые фигуры острова Уэйтензи стоят на коленях вокруг Мисти. Тапперы, Бартоны и Нейманы, – все закрыли глаза, сплели пальцы и молят Господа заставить ее писать картины. Все считают, что у нее есть какой-то скрытый талант для их спасения.
А Мисти, твоя бедная жена, единственная здесь, кто в своем уме, хочет только – что же, хочет она только выпить.
Пару глотков. Пару аспирина. И еще раз.
Она хочет заорать всем, чтобы они заткнулись со своими чертовыми молитвами.
Когда достигаешь средних лет и видишь, что тебе никогда не стать великой знаменитой художницей, как мечталось, и нарисовать что-то, что тронет и вдохновит людей, тронет по-настоящему, и расшевелит их, заставит изменить жизнь. Что у тебя попросту нет таланта. Что тебе не хватает мозгов или вдохновения. У тебя нет ни одного качества, нужного, чтобы создать шедевр. Когда видишь, что во всем твоем портфолио с работами – сплошь одни каменные домины и пушистые цветочные сады, – в чистом виде сны маленькой девочки из Текумеш-Лэйк в Джорджии, – когда видишь, что все, что ты способна нарисовать, всего-навсего прибавит посредственного дерьма в мир, и так забитый посредственным дерьмом. Когда понимаешь, что тебе сорок один год, и ты достигла пределов данного Богом потенциала – ну что ж, твое здоровье.
Вот тебе соринка в глаз. Пей до дна.
Вот такой умелой тебе оставаться и дальше.
Когда осознаешь, что тебе никак не дать ребенку лучшую жизнь, – черт, да тебе не дать своему ребенку жизнь даже того качества, что давала тебе мамочка в трейлерном парке, – и это значит, что у него не будет ни колледжа, ни худфака, ни идеалов – ничего, кроме обслуживания столиков, как у мамы.
Эх, коту все под хвост.
Обычный день в жизни Мисти Марии Уилмот, королевы среди рабов.
Мора Кинкэйд?
Констенс Бартон?
Уэйтензийская школа художников. Они были разными, разными от рождения. Эти художницы, сделавшие все таким легким с виду. Суть в том, что кое у кого талант-то есть, но у большинства – нет. Мы, большинство, в итоге не получаем ни славы, ни поклонов. Люди вроде бедной Мисти Марии – ограниченные, скованные болванчики, без всяких шансов получить льготное место на стоянке. Или право на участие в каких-нибудь там Особых Олимпийских Играх. Они оплачивают кипы счетов, но не претендуют ни на особое меню в мясном ресторане. Ни на сверхгабаритную душевую. Ни на особое переднее сиденье в салоне автобуса. Ни на право политического лобби.
Нет, делом твоей жены все равно будет аплодировать другим людям.
На худфаке одна знакомая Мисти девушка запустила кухонный миксер, наполнив его сырым цементом, пока мотор не загорелся, выбросив облако ядовитого дыма. Это было ее выступление против жизни в роли домохозяйки. В этот миг она, наверное, живет в пентхаусе и питается органическими йогуртами. Она богата и может положить ногу на ногу.
Другая знакомая Мисти девушка исполняла кукольную пьесу из трех актов в собственном рту. Там были маленькие костюмчики, в которые вдевался язык. Запасные костюмы оставались за щекой, будто на сцене за кулисами. В переменах сцены закрываешь губы, как занавес. Зубы – как софиты и авансцена. Просовываешь язык в следующий костюм. После пьесы в трех актах повсюду вокруг рта у нее оставались следы от натяжения кожи. Ее orbicularis oris совсем растягивалась и теряла форму.
Однажды вечером, в галерее, исполняя крошечную версию «Величайшей истории в мире», эта девушка едва не умерла, когда ей в глотку соскользнул маленький верблюд. Нынче она наверняка загребает бешеные деньги.
А Питер, с его восторгом перед милыми домиками Мисти, очень ошибался. Питер, который сказал, что ей нужно укрыться на острове, рисовать только то, что ей нравится, дал очень херовый совет.
Твой совет, твой восторг – был очень и очень херовым.
Если верить тебе, Мора Кинкэйд двадцать лет моет рыбу на консервном заводе. Учит детей ходить на горшочек, сеет траву в саду, – и вдруг однажды садится и рисует шедевр. Бомбу. Без диплома, без практики в студии, – все равно, отныне она навеки знаменита. Ее любят миллионы людей, которые никогда с ней не встречались.
Просто на заметку, погода сегодня – огорчение, местами с припадками ревнивой ярости.
Просто чтоб ты знал, Питер, твоя мать – так и осталась сукой. Она прирабатывает в службе, которая подбирает людям фарфоровые столовые предметы, когда в сервизе есть недостачи. Она подслушала, как какая-то летняя женщина, – ни дать ни взять загорелый скелетик в роскошном платье из пастельного вязаного шелка, – сказала, сидя за завтраком:
– Какой смысл лезть сюда при деньгах, если купить нечего?
Только Грэйс это услышала, она тут же насела на твою жену с рисованием. Чтобы та дала людям вещь, на которую можно заявить права собственности. Будто Мисти как-то должна взять да вытащить шедевр из задницы, и вернуть семейству Уилмотов благосостояние.
Будто она может спасти так целый остров.
Приближается день рождения Тэбби, тринадцатилетний юбилей, – а денег на подарок нет. Мисти откладывает чаевые на переезд в Текумеш-Лэйк. Им нельзя вечно жить в Уэйтензийской гостинице. Богачи поедают остров заживо, и она не хочет, чтобы Тэбби росла в нищете, под притеснением со стороны богатых мальчиков с наркотиками.
К концу лета, прикидывает Мисти, им удастся свалить. Что делать с Грэйс, Мисти не знает. У твоей матери наверняка есть подруги, у которых можно поселиться. Всегда существует церковь, готовая помочь. Сообщество Женского Алтаря.
Вокруг них в церкви мозаичные святые, все утыканные стрелами, изрубленные топорами и горящие на кострах, и вот Мисти припоминает тебя. Твою теорию о роли страдания в небесном вдохновении. Твои рассказы про Мору Кинкэйд.
Если несчастье – вдохновение, то Мисти, пожалуй, уже почти добралась до вершин.
Здесь, когда весь остров стоит вокруг на коленях, молясь за то, чтобы она начала рисовать. Чтобы она стала их спасителем.
Повсюду вокруг святые, – улыбаются и творят чудеса в моменты боли, – Мисти тянется за псаломником. За одним из дюжины старых пыльных псаломников, некоторые из которых – без обложек, с некоторых свисают истертые атласные ленточки. Она наугад берет один и открывает. А там – ничего.
Она пролистывает страницы, но там ничего нет. Только молитвы и псалмы. Никаких особо секретных посланий внутри не нацарапано.
Хотя, когда она собирается положить его на место, на дереве скамьи, где ее прикрывал псаломник, вырезана надпись, гласящая – «Беги с острова, пока можешь».
Подписано – «Констенс Бартон».
8 июля
НА ПЯТОМ НАСТОЯЩЕМ СВИДАНИИ Питер снабдил подложкой и вставил в раму картину, нарисованную Мисти.
Ты, Питер, ты говорил Мисти:
– Вот эта. Эта картина. Будет висеть в музее.
На картине был пейзаж с домом, обвитым террасами, укрытым деревьями. На окнах висели шелковые шторы. За белым штакетником цвели розы. Синички летали в столбах солнечного света. Дым лентой вился из единственной каменной трубы. Мисти и Питер зашли в магазин багета[8] у кампуса, и она стала спиной к витрине, пытаясь загородить обзор любому, кто может заглянуть и увидеть.
Тебя с Мисти.
Загородить обзор любому, кто может увидеть ее картину.
Снизу была ее подпись, под штакетником, – «Мисти Мария Клейнмэн». Не хватало только улыбающейся рожицы. Сердечка над "й" в «Клейнмэн».
– Разве что в музее кича[9], – сказала она. Это была улучшенная версия того, что она рисовала в детстве. Поселок ее мечты. И видеть его было куда неприятнее, чем худший портрет самой себя, голой и жирной насколько можно. Вот было оно, заезженное сердечко Мисти Марии Клейнмэн. Сладостные грезы одинокой шестилетней девочки, которой ей оставаться всю жизнь. Жалкая душонка из поддельных самоцветов.
Банальный секретик о том, что приносит ей радость.
Мисти все косилась через плечо, чтобы убедиться, что никто сюда не заглядывает. Никто не видит самую избитую, правдивую часть ее самой, изображенную здесь в акварели.
Питер, слава Богу, просто подрезал рогожу и выровнял по ней картину.
Ты подрезал рогожу.
Питер подкрутил лобзик на магазинном верстаке и распилил скосы для рамки по каждому краю. И, когда Питер смотрел на картину, он ухмылялся в пол-лица, главная скуловая подтягивала рот в одном уголке. И бровь он поднял с этой стороны. Сказал:
– Перила у тебя вышли идеально.
Снаружи по тротуару шла девушка с худфака. Последней «работой» этой девушки был плюшевый медвежонок, набитый собачьим дерьмом. Она трудилась, спрятав руки в синие резиновые перчатки, такие толстые, что в них едва сгибались пальцы. В ее понимании, красота была условной концепцией. Поверхностной. Обманной. Она разрабатывала новую жилу. Новый выверт в классической теме дадаизма. У нее в студии уже лежал выпотрошенный медвежонок с расправленным в духе аутопсии искусственным мехом, готовый превратиться в произведение искусства. Ее резиновые перчатки были вымазаны коричневым и воняли, она с трудом удерживала иголку с красной шовной нитью. Всему этому она дала название – «Иллюзии детства».
Остальные ребята на худфаке, дети богатых родителей, те ребята, которые путешествовали и видели настоящие произведения искусства в Европе и Нью-Йорке, – все они делали работы такого же типа.
Другой мальчик из класса Мисти мастурбировал, пытаясь наполнить спермой свинью-копилку до конца семестра. Он жил за счет дивидендов фонда доверия. Другая девочка пила разные цвета яичной темперовой краски, потом глотала сироп рвотного корня, благодаря которому ее рвало шедевром. Она приезжала на занятия на итальянском мопеде, который стоил дороже трейлера, в котором выросла Мисти.
Тем утром, в магазине багета, Питер подогнал друг к другу уголки рамы. Втер голыми пальцами клей и в каждом углу просверлил дырочки для шурупов.
Продолжая стоять между окном и верстаком, перекрывая тенью солнечный свет, Мисти спросила:
– Ты правда думаешь, хорошо получилось?
А Питер отозвался:
– Знала бы ты…
Ты отозвался.
Питер сказал:
– Ты заслоняешь мне свет. Я не вижу.
Всевозможное собачье говно, кончина и блевотина. Проводя стеклорезом по стеклу, не отрывая взгляд от режущего колесика, сунув карандаш за ухо в прическу, Питер заметил:
– Сверхмерзкая вонь еще не значит, что их работы – искусство.
Разломив стекло на два куска, Питер сказал:
– Говно – эстетическое клише, – рассказал, что итальянский художник Пьеро Манзони закатывал собственное дерьмо в банки, клеил наклейки «100% ЧИСТОЕ ГОВНО ХУДОЖНИКА», и люди покупали их.
Питер так пристально разглядывал свои руки, что пришлось посмотреть и Мисти. Она не следила за окном, и они услышали, как позади звякнул колокольчик. Кто-то, должно быть, вошел в магазин. Еще одна тень упала на верстак.
Питер окликнул, не оборачиваясь:
– Эй.
И тот новый парень отозвался:
– Эй.
Этот товарищ был Питеровых лет, блондин с клочком волос на подбородке, но с таким, какой бородкой не назовешь. Еще один студент с худфака. Он был очередным богатым мальчиком с острова Уэйтензи, и стоял, разглядывая голубыми глазами картину на верстаке. Он криво ухмыльнулся, точь-в-точь как Питер, как человек, смеющийся над тем фактом, что у него нашли рак. Как человек, поставленный перед строем клоунов с боевыми винтовками.
Не поднимая глаз, Питер отполировал стекло и вставил его в новую рамку. Спросил:
– Понял, о чем я говорил насчет картины?
Тот друг посмотрел на обвитый террасами дом, на штакетник и синичек. Ни подпись «Мисти Мария Клейнмэн». Криво улыбнувшись, встряхнув головой, он сказал:
– Это дом Тапперов, точно.
Это был дом, который Мисти попросту выдумала. Измыслила.
В ухе того друга была единственная сережка. Предмет старинной бижутерии, в стиле острова Уэйтензи, как у всех приятелей Питера.
В его волосы было зарыто причудливое филигранное золотое кольцо, обрамляющее сердечко из глазури, отблески красных стекляшек, украшений из резного стекла в золоте. Он жевал жвачку. Мятную, судя по запаху.
Мисти сказала:
– Привет, – представилась. – Я Мисти.
А тот друг посмотрел на нее, подарив ей все ту же улыбку обреченного. Жуя жвачку, спросил:
– Так это она? Она – мистическая леди?
А Питер, просовывая картину в рамку, за стекло, глядя только на свою работу, сказал:
– Боюсь, что так.
Не отрывая от Мисти глаз, перепрыгивая взглядом с одной ее части на другую, по рукам и ногам, лицу и груди, тот друг склонил голову набок, изучая ее. Не переставая жевать жвачку, он спросил:
– Ты уверен, что это точно она?
Какая-то сорочья часть Мисти, какая-то маленькая принцесса внутри нее, не могла отвести глаз от сверкающей красной сережки парня. От сердечка из искрящейся глазури. От красного отблеска рубинов резного стекла.
Питер пристроил кусок картонной подкладки позади картины и запечатал ее по краю липкой лентой. Проводя пальцем по ленте, приглаживая ее, он сказал:
– Картину сам видел.
Он приостановился и вздохнул, его грудь вздулась и опала, и он добавил:
– Боюсь, она – та самая.
А глаза нашей Мисти были прикованы к переплетению белокурых волос того друга. Красный отблеск сережки оттуда – это были рождественские огоньки и именинные свечки. В солнечном свете, падавшем в окно магазина, сережка была фейерверком на Четвертое июля и букетом роз в День святого Валентина. Глядя на искорки, она забыла, что у нее есть руки, лицо, имя.
Забыла, как дышать.
Питер заметил:
– Что я тебе говорил, чувак? – теперь он смотрел на Мисти, наблюдая ее очарование красной сережкой, и Питер сказал:
– Она не может устоять перед старинными украшениями.
Блондин заметил, что Мисти его разглядывает, и его голубые глаза метнулись в сторону, чтобы рассмотреть, к чему прикован взгляд Мисти.
В отблесках резного стекла сережки были искорки шампанского, которого Мисти никогда не видела. Там были искры пляжных костров, взлетающих спиралью к летним звездам, о которых Мисти могла лишь только мечтать. Там были отблески хрустальных люстр, которые она рисовала в каждой воображаемой гостиной.
Все томление и глупая нужда бедной одинокой малышки. Какая-то дурацкая, беспросветная часть ее, не художница, но внутренняя дурочка, влюбилась в эту сережку, в ее роскошный блеск. Сахарный блеск сладостей. Сладостей в вазочке граненого стекла. В вазочке в доме, где она никогда не была. Ничего глубинного или сокровенного. Все те же вещи, которыми мы запрограммированы восхищаться. Блестки и радуги. Эти браслеты, на игнорирование которых ей уже должно было бы хватать образования.
Блондин, друг Питера, потянулся рукой и коснулся волос, потом уха. У него так резко отвисла челюсть, что жвачка вывалилась на пол.
Твой друг.
А ты сказал:
– Осторожно, братан, смотри – уведешь ее у меня.
А тот друг, пробираясь пальцами наугад, путаясь в волосах, рванул сережку. От щелчка все трое зажмурились.
Когда Мисти открыла глаза, блондин протягивал сережку, его голубые глаза наполнились слезами. Разорванная мочка повисла двумя рваными лохмотьями, раздвоенная, и с каждого кончика капала кровь.
– На, – сказал он. – Держи, – и швырнул сережку на верстак. Та приземлилась, золото и поддельные рубины брызнули красными искрами и кровью.
Шайба на обороте сережки осталась на винте. Та была так стара, что с обратной стороны позеленела. Он выдернул ее с такой скоростью, что сережка осталась опутана белокурыми волосинками. На каждой волосинке была гладкая белая луковичка в том месте, где ее вырвали с корнем.
Накрыв ухо ладонью, – по пальцам стекала кровь, – парень улыбнулся. Его складочная мышца подтянула друг к другу светлые брови, он сказал:
– Прости, Питер. Кажется, повезло тебе.
А Питер поднял картину, заключенную в рамку и доведенную до ума. С подписью Мисти внизу.
С подписью твоей будущей жены внизу. С ее буржуазной душонкой.
Твоя будущая жена уже потянулась за кровавым пятнышком красных искр.
– Угу, – отозвался Питер. – Сраный я везунчик.
И, продолжая истекать кровью, зажав ухо в ладони, в крови, текущей по руке и каплющей с выпяченного локтя, друг Питера отступил на пару шагов. Другой рукой дотянулся до двери. Он кивнул на сережку и сказал:
– Оставьте себе. Свадебный подарок, – и исчез.
9 июля
ЭТИМ ВЕЧЕРОМ Мисти укладывает твою дочь в постель, а Тэбби говорит:
– У нас с бабулей Уилмот есть секрет.
Просто на заметку: бабуля Уилмот знает все секреты.
Грэйс, сидя на церковной службе, толкает Мисти локтем и рассказывает, что окно с розами Бартоны пожертвовали за свою бедную-несчастную невестку, – да-да, по правде сказать, Констенс Бартон в итоге бросила рисовать, спилась и умерла.
Здесь два столетия Уэйтензийских стыдов и несчастий, и твоя мать может перечислить каждую деталь. Чугунные скамейки на Лавочной улице, те самые, английской работы, – в память Моры Кинкэйд, которая утонула, пытаясь проплыть шесть миль до континента. Итальянский фонтан на Молитвенной – в честь мужа Моры.
Мужа, которого убили, по словам Питера.
По твоим словам.
Вот общая кома всего Уэйтензийского поселка.
Просто на заметку: матушка Уилмот шлет свою любовь.
О том, чтобы ей захотелось прийти тебя проведать, речи нет.
Укутавшись в одеяло, Тэбби перекатывает голову, чтобы выглянуть в окно, и спрашивает:
– Можно, мы пойдем на пикник?
Нам это не по карману, но к моменту твоей смерти матушкой Уилмот подобран питьевой фонтанчик из меди и бронзы, изображающий обнаженную Венеру, скачущую в дамском седле из ракушки моллюска.
Тэбби взяла с собой подушку, когда Мисти перевозила их в Уэйтензийскую гостиницу. Все что-нибудь прихватили. Твоя жена принесла твою подушку, потому что та пахнет тобой.
Мисти сидит на краю кровати в комнате Тэбби, расчесывая пальцами волосы своей малышки. У Тэбби длинные черные волосы и зеленые глаза ее отца.
Твои зеленые глаза.
Ей достался маленький номер, который она делит с бабушкой, возле номера Мисти по коридору верхнего этажа гостиницы.
Почти все старые семейства посдавали дома и переехали на верхний этаж гостиницы. В комнаты, оклеенные выцветшими розами. Обои расползаются по всем швам. В каждой комнате – ржавая раковина и маленькое зеркало, привинченные к стене. В каждой комнате – две-три железные кровати, с облупленной краской, с размякшими, продавленными по центру матрацами. Комнаты перекошены под вздувшимися потолками, за маленькими окошками, со слуховыми окнами в виде ряда собачьих лазов в скате гостиничной крыши. Чердачный этаж – это бараки, лагерь беженцев для местного милого белого дворянства. Рожденные в роскоши люди ныне делят уборную в конце коридора.
Эти люди, которые никогда не трудились, нынешним летом обслуживают столики. Будто деньги у всех кончились одновременно, – нынешним летом каждый островитянин голубой крови перетаскивает багаж в гостиницу. Убирает в номерах. Чистит ботинки. Моет посуду. Индустрия обслуживания из голубоглазых блондинов и блондинок с блестящими прическами и длинными ногами. Любезных и энергичных, с удовольствием таскающих пепельницы на замену или отказывающихся от чаевых.
Твоя семья – жена, ребенок и мать – все спят в продавленных, облезлых железных кроватях, под вздутыми стенами, с припрятанными серебряными и хрустальными реликвиями из респектабельной прошлой жизни.
Пойди пойми их, но все семейства островитян улыбаются и насвистывают. Будто это вроде приключения. В отрыв. Будто они подались в сферу обслуживания попросту в качестве трущобного развлечения для богачей. Будто эти утомительные поклоны и чистка не останутся им на всю жизнь. Им и их детям на всю жизнь. Будто новизна не померкнет к следующему месяцу. Они не дураки. Просто никто из них никогда не жил в бедности. В отличие от твоей жены, – она знает, что такое оладьи на ужин. Что такое питаться правительственными подачками. Порошковым молоком. Носить туфли со стальными набойками и хлопать по чертовому будильнику.
Сидя с Тэбби, Мисти спрашивает:
– Так в чем твой секрет?
А Тэбби отвечает:
– Говорить нельзя.
Мисти подтыкает покрывало у плеч девочки, – старые гостиничные простыни и одеяла застираны до того, что от них кроме серого пуха и запаха белизны ничего не осталось. Ночник у кровати Тэбби – розовый китайский фонарик, разукрашенный цветами. Они принесли его из дому. Они принесли ее картинки с клоунами и повесили их над кроватью.
Кровать ее бабушки так близко, что Тэбби могла бы вытянуть руку и коснуться стеганого одеяла, которым та укрыта, из лоскутов пасхальных платьев и рождественских костюмов возрастом в сто лет. На подушке – дневник в красной коже, с надписью «Дневник» поперек обложки вычурными золотыми буквами. Внутри заперты все секреты Грэйс Уилмот.
Мисти говорит:
– Не шевелись, солнышко, – и убирает упавшую ресницу со щеки Тэбби. Мисти протирает ресницу меж пальцев. Та длинная, как ресницы ее отца.
Как твои ресницы.
С кроватью Тэбби и ее бабушки, с двумя сдвинутыми кроватями, места осталось совсем немного. Матушка Уилмот захватила дневник. Его и швейную корзину, набитую нитками для вышивки. Вязальными спицами, крючками и вышивальными обручами. Чтобы ей было чем заняться, когда она сидит в вестибюле с бабушками-подругами, или снаружи, на дощатом тротуаре, по хорошей погоде.
Твоя мать точь-в-точь как остальные Мэйфлауэрские семьи, выстроившие повозки кольцом в Уэйтензийской гостинице и пережидающие осаду страшных чужаков.
Как бы глупо это ни звучало, Мисти прихватила свои рисовальные принадлежности. Коробку светлого дерева с красками и акварелью, бумагу и кисти, – все свалено в углу ее комнаты.
И Мисти зовет:
– Тэбби, солнышко? – говорит. – Не хочешь поехать жить к твоей бабуле Клейнмэн в Текумеш-Лэйк?
А Тэбби перекатывает голову туда-сюда, – «нет», – по подушке, потом останавливается и говорит:
– Бабуля Уилмот сказала мне, почему папа все время так бесился.
Мисти просит ее:
– Не говори «бесился», пожалуйста.
Просто на заметку: Грэйс Уилмот играет внизу в бридж с приятельницами под большими часами в обитой деревом комнате у вестибюля. И самый громкий звук в комнате – тиканье качающегося взад-вперед большого маятника. Либо это, либо она сидит в большом кресле-качалке, обитом красной кожей, возле камина в вестибюле, и читает, водя толстой линзой над каждой страницей книги, покоящейся на ее коленях.
Тэбби прикрывает подбородок сатиновой каймой одеяла и продолжает:
– Бабуля рассказала, почему папа тебя не любил.
А Мисти отвечает:
– Ну конечно твой папочка любил меня.
И конечно она врет.
За чердачным оконцем номера бьющиеся волны серебрятся в огнях гостиницы. Вдали по берегу – темные очертания Уэйтензийского мыса, полуостров, на котором лишь деревья и скалы, прущие навстречу мерцающему океану.
Мисти подходит к окну и касается пальцами рамы, спрашивая:
– Будешь с открытым или с закрытым?
Белая краска на оконной раме вздулась и отстает, и она ковыряет ее, поддевая хлопья краски ногтем.
Перекатывая голову туда-сюда по подушке, Тэбби возражает:
– Нет, мам, – говорит. – Бабуля Уилмот сказала, папа тебя никогда взаправду не любил. Он только притворялся, будто любит, чтобы привезти тебя сюда, и чтобы ты осталась.
– Чтобы привезти меня сюда? – переспрашивает Мисти. – На остров Уэйтензи?
Она обдирает двумя пальцами отставшие кусочки белой краски. Под ними – рама темного лакированного дерева. Мисти спрашивает:
– Что еще бабушка тебе рассказала?
А Тэбби отвечает:
– Бабуля говорит, ты будешь великой художницей.
На худфаке не учат тому, что слишком большой комплимент может ранить сильнее, чем пощечина. Мисти, великой художницей. Большая жирная Мисти, королева среди сраных рабов.
Белая краска отстает очертаниями, в виде слов. Восковая свеча или жирный палец, может – гуммиарабик, прячет под ней негативное послание. Кто-то написал здесь много лет назад что-то невидимое, к чему не прилипла краска.
Тэбби поднимает несколько прядей волос и разглядывает кончики так вблизи, что у нее скашиваются глаза. Она изучает ногти и произносит:
– Бабуля говорит, нам нужно выбраться на пикник на мыс.
Океан сверкает жутко ярко, как одежные украшения, которые Питер носил на худфаке. Мыс Уэйтензи черен как ничто. Как пустота. Дыра в пространстве.
Украшения, которые ты носил на худфаке.
Мисти проверяет, что окно закрыто, и счищает отставшую краску в ладонь.
На худфаке учат, мол, поздние симптомы отравления свинцом включают в себя утомление, подавленность, слабость, отупение – симптомы, которые наблюдались у Мисти почти всю взрослую жизнь.
А Тэбби продолжает:
– Бабуля Уилмот говорит, что все будут хотеть твоих картин. Она говорит, ты нарисуешь картины, за которые летние люди будут драться.
Мисти отзывается:
– Спокойной ночи, солнышко.
А Тэбби продолжает:
– Бабуля Уилмот говорит, что ты сделаешь нас снова богатой семьей, – кивая головой, рассказывает:
– Папа привез тебя сюда, чтобы сделать весь остров снова богатым.
Собрав в руку хлопья краски, Мисти выключает свет.
Послание на оконной раме, на месте отслоившейся краски, скрытое под ней, гласило – «Ты умрешь, как только с тобой покончат». Подписано – «Констенс Бартон».
Очищенное от краски продолжение послания гласит – «Как все мы».
Наклоняясь, чтобы выключить розовый китайский фонарик, Мисти спрашивает:
– Что ты хочешь на свой день рождения на следующей неделе?
А Тэбби отвечает тонким голоском в темноте:
– Хочу пикник на мысу, и хочу, чтобы ты снова начала рисовать.
А Мисти говорит голосу:
– Крепких снов, – и целует его на ночь.
10 июля
НА ДЕСЯТОМ СВИДАНИИ Мисти спросила Питера, трогал ли он ее противозачаточные таблетки.
Они были у Мисти дома. Она работала над очередной картиной. Телевизор был включен, настроен на мексиканскую мыльную оперу. На ее новой картине была высокая церковь, пригнанная из тесаного камня. Колокольня, покрытая позеленевшей медью. Окна-витражи, причудливые, как паутина.
Рисуя ярко-голубым церковные двери, Мисти объявила:
– Я не дура, – сказала. – Почти любая женщина заметит разницу между настоящей противозачаточной таблеткой и маленькими розовыми конфетками в корице, которых ты напихал взамен.
У Питера была ее последняя картина, дом с белым штакетником, вставленная им в рамку, – и он сунул картину под старый мешковатый свитер. Будто беременный очень угловатым ребенком, он слонялся по квартире Мисти. Выпрямив руки по швам, удерживал картину на месте локтями.
Потом он резко приотпустил локти, и картина выпала. За миг до пола, до бьющегося вдребезги стекла, Питер подхватил ее двумя руками.
Ты подхватил ее. Картину Мисти.
Она спросила:
– Какого хера ты делаешь?
А Питер ответил:
– У меня план.
А Мисти сказала:
– Я не буду заводить детей. Я хочу стать художницей.
В телевизоре мужчина пощечиной опрокинул женщину на пол, и она лежала, облизывая губы, ее грудь ходила ходуном под тугим свитером. По идее она была офицером полиции. Питер ни слова не знал по-испански. Мексиканские мыльные оперы он любил за то, что репликам людей в них можно придать любой смысл.
И Питер, заталкивая под свитер картину, спросил:
– Когда?
А Мисти переспросила:
– Что когда?
Картина вывалилась, и он поймал ее.
– Когда ты собралась стать художницей? – спросил он.
Другая причина любить мексиканские мыльные оперы заключалась в том, как быстро в них разрешались кризисы. В первый день мужчина и женщина кидаются друг на друга с разделочными ножами. На следующий день они преклоняют колени в церкви с новым ребенком. Сложив руки в молитве. Люди принимали друг от друга самое худшее, с криком и пощечинами. Развод и аборт никогда не оказывались камнем преткновения.
Была ли это любовь, или же просто инерция, Мисти сказать не могла.
После выпуска, сказала она в ответ, она станет художницей. Когда соберет основные работы и найдет галерею, где можно выставиться. Когда продаст несколько штук. Мисти пыталась быть реалисткой. Может быть, она возьмется изучать искусство на высшем уровне. Может, станет чертежницей или иллюстраторшей. Найдет практическое применение. Не каждый способен стать знаменитым художником.
Заталкивая картину под свитер, Питер заявил:
– Ты – способна стать знаменитой.
А Мисти сказала ему – хватит. Хватит уже.
– Почему? – спросил он. – Это правда.
Продолжая смотреть телевизор, беременный картиной, Питер сказал:
– У тебя такой талант. Ты можешь стать самой знаменитой художницей своего поколения.
Глядя какую-то мексиканскую рекламу пластмассовой игрушки, Питер заявил:
– С твоим даром ты обречена стать великой художницей. Учеба для тебя – трата времени.
Непонятному можно придать любой смысл.
Картина выпала, и он поймал ее. Сказал:
– Тебе нужно только рисовать.
Может быть, именно за это Мисти любила его.
Любила тебя.
За то, что ты верил в нее гораздо больше, чем она сама. Ты ждал от нее большего, чем она сама от себя.
Рисуя золотом крошечные дверные ручки церкви, Мисти ответила:
– Может, – сказала. – Но поэтому я и не хочу детей…
Просто на заметку: с какой-то стороны это выглядело мило. Все ее противозачаточные таблетки заменили маленькими конфетами-сердечками.
– Только выйди за меня, – сказал Питер. – И ты станешь следующей великой художницей Уэйтензийской школы.
Мора Кинкэйд и Констенс Бартон.
Мисти заметила, что всего двое художников не считаются «школой».
А Питер сказал:
– Трое, считая тебя.
Мора Кинкэйд, Констенс Бартон и Мисти Клейнмэн.
– Мисти Уилмот, – поправил Питер, заталкивая под свитер картину.
Поправил ты.
В телевизоре мужчина кричал – «Te amo… Te amo…», снова и снова, в адрес темноволосой девушки с карими глазами и пушистыми длинными ресницами, сбрасывая ее с лестничного пролета.
Картина выпала из свитера, и Питер снова ее поймал. Он подступил к Мисти, пока та прорабатывала детали высокой каменной церкви, – прожилки зеленого мха на крыше, красную ржавчину сточных труб. И сказал:
– В этой церкви, прямо здесь, мы поженимся.
А туп-туп-тупая маленькая Мисти заявила, мол, эту церковь она выдумывает. Ее на самом деле нет.
– Это ты так считаешь, – сказал Питер. Поцеловал ее в шею и прошептал:
– Только выйди за меня, и остров подарит тебе такую громадную свадьбу, которую никто не видел уже сотню лет.
11 июля
ВНИЗУ первая половина дня, и в вестибюле никого, кроме Полетт Хайленд за столом. Грэйс Уилмот может поведать, что Полетт носит фамилию Хайленд по замужеству, но до этого она была Питерсен, хотя ее мать была Нейман, потомок ветви Тапперов. Когда-то это значило большое старинное состояние по обеим линиям ее родословной. А теперь Полетт за конторкой.
В глубине вестибюля, утонув в подушке краснокожего кресла-качалки, сидит Грэйс, читая у камина.
Уэйтензийский вестибюль – десятилетия всякой всячины, слепленной в кучу. Это сад. Это парк. Шерстяной ковер зеленым мхом покрывает гранитные плиты, карьером стелящиеся неподалеку. Синий ковер, лежащий на лестнице– водопад, сбегающий по пролетам, каскадом падающий с каждой ступени. Ореховые стволы, выструганные, полированные и снова собранные в одно целое, образуют лес идеальных квадратных колонн, ряды темных поблескивающих деревьев, которые поддерживают лесной свод лепных листочков и купидонов.
Висит хрустальная люстра, – одинокий луч солнечного света, пробивающийся на эту лесную поляну. Хрустальные висюльки искрятся и кажутся крошечными на такой высоте, но если влезть на высокую лестницу, чтобы их почистить, каждая хрусталина размером с кулак.
Складки занавеса зеленого шелка почти скрывают окна. Днем они превращают солнечный свет в зеленые сумерки. Мягкие диваны и стулья, обитые цветущими кустами, мохнатые от длинной бахромы, свисающей до пола. Камин – как походный костер. Весь вестибюль – остров в миниатюре. Под крышей. Эдемский сад.
Просто на заметку: вот пейзаж, где Грэйс Уилмот чувствует себя почти как дома. Даже больше, чем у себя дома. Больше, чем в собственном доме.
В твоем доме.
Мисти на полдороги через вестибюль, пробирается между диванов и столиков, а Грэйс поднимает взгляд.
Зовет:
– Мисти, иди посиди у огня, – заглядывает в раскрытую книгу и спрашивает:
– Как твоя головная боль?
У Мисти нет головной боли.
У Грэйс в подоле лежит ее раскрытый дневник в красной кожаной обложке, – и она всматривается в страницы, и спрашивает:
– Какое сегодня число?
Мисти сообщает ей.
Камин выгорел до слоя оранжевых углей под решеткой. Ноги Грэйс, обутые в коричневые туфли с пряжками, висят носками вниз, не касаясь пола. Шапка длинных белых кудрей нависает над лежащей в подоле книгой. Возле кресла светит торшер, и свет отражается яркими отблесками от серебряной оправы увеличительного стекла, которым она водит над каждой страницей.
Мисти просит:
– Матушка Уилмот, нам нужно поговорить.
А Грэйс переворачивает пару страниц и отзывается:
– О Боже. Ошиблась. Жуткой головной боли у тебя не будет еще до послезавтра.
А Мисти заглядывает ей в лицо и спрашивает:
– Как ты смеешь настраивать моего ребенка на душевную травму?
Грэйс поднимает взгляд от книги, лицо ее расслаблено, обвисло от удивления. Подбородок так сильно опущен, что шея смялась в складки от уха до уха. Вся подкожная мышечно-аневротическая система. Подбородочный жир. Сморщенные платизмальные складки у шеи.
Мисти спрашивает:
– Чего ты добиваешься, повторяя Тэбби, что я стану знаменитой художницей? – она смотрит по сторонам, а вокруг по-прежнему никого, и она продолжает. – Я официантка, и обеспечиваю нам крышу над головой, и этого довольно. Я не хочу, чтобы ты забивала моему ребенку голову ожиданиями, которые я не смогу оправдать.
На последнем дыхании Мисти выжимает из груди:
– Ты представляешь, как я буду выглядеть?
А лицо Грэйс расплывается в мягкой широкой улыбке, и она возражает:
– Но, Мисти, ты будешь знаменитой.
Улыбка Грэйс – раздвигающиеся кулисы. Премьера. Грэйс распахивает свой занавес.
А Мисти отвечает:
– Не буду, – говорит она. – Я не могу.
Она просто обычный человек, который проживет и умрет без внимания, незаметным. Ординарным. Не такая уж это трагедия.
Грэйс прикрывает глаза. Все улыбаясь, начинает:
– О, ты станешь так знаменита в момент, когда…
А Мисти говорит:
– Хватит. Хватит уже, – Мисти обрывает ее, и продолжает. – Как легко тебе вселять надежды в людей. Ты что, не видишь, что подставляешь их? – говорит Мисти. – Я чертовски хорошая официантка. Если ты не заметила – мы больше не правящий класс. Мы не верхушка.
Питер, проблема твоей матери в том, что она не жила в трейлере. Не стояла в магазинной очереди с талонами на еду. Она не знает, как жить в нищете, и не хочет учиться.
Мисти говорит, что есть вещи и хуже, чем воспитать Тэбби так, чтобы она вжилась в эту экономику, чтобы смогла найти работу в мире, который она унаследует. Нет ничего плохого в том, чтобы обслуживать столики. Убирать комнаты.
А Грэйс закладывает место в дневнике кружевной ленточкой. Поднимает взгляд и спрашивает:
– Тогда почему ты пьешь?
– Потому что люблю вино, – отвечает Мисти.
Грэйс возражает:
– Ты пьешь и шляешься с мужчинами, потому что боишься.
Под мужчинами она, должно быть, подразумевает Энджела Делапорта. Мужчину в кожаных брюках, снявшего дом Уилмотов. Энджела Делапорта с его графологией и фляжкой хорошего джина.
А Грэйс заявляет:
– Я точно знаю, что ты чувствуешь, – складывает руки на дневнике в подоле и продолжает. – Ты пьешь, потому что хочешь самовыразиться, и боишься.
– Нет, – отвечает Мисти. Склоняет голову на плечо и смотрит на Грэйс искоса. Мисти говорит. – Нет, ты не знаешь, что я чувствую.
Рядом трещит уголь, посылая в трубу спиральный сноп искр. Из камина плывет запах дыма. Их походный костер.
– Вчера, – объявляет Грэйс, зачитывая из дневника. – Ты начала откладывать деньги, чтобы вернуться в родной город. Ты складываешь их в конверт, а конверт прячешь под край ковра у окна в твоей комнате.
Грэйс поднимает взгляд, выгибая брови, – складочная мышца плиссирует крапчатую кожу лба.
А Мисти спрашивает:
– Ты шпионила за мной?
А Грэйс улыбается. Постукивает по открытой странице увеличительным стеклом и говорит:
– Об этом сказано в твоем дневнике.
Мисти отвечает ей:
– Это твой дневник, – говорит. – Нельзя писать дневник за кого-то другого.
Просто чтоб ты знал: эта ведьма следит за Мисти и вписывает все в злую записную книжку в красной кожаной обложке.
А Грэйс улыбается. Говорит:
– Я не пишу. Я читаю, – переворачивает страницу, смотрит сквозь увеличительное стекло и объявляет. – О, завтра будет здорово. Тут сказано, что ты, скорее всего, повстречаешь милого полицейского.
Просто на заметку: завтра Мисти сменит замок на двери своей комнаты. Мигом.
Мисти требует:
– Хватит. Повторяю – хватит уже, – говорит Мисти. – Речь идет о Тэбби, и чем быстрее она научится жить средней жизнью с нормальной ежедневной работой и стабильным, надежным, обычным будущим, тем счастливее она будет.
– Вроде работы в конторе? – спрашивает Грэйс. – В собачьем питомнике? С милым еженедельным жалованием? Вот почему ты пьешь?
Твоя мать.
Просто на заметку: она это заслужила -
Ты это заслужил -
И Мисти отвечает:
– Нет, Грэйс, – говорит. – Я пью потому, что вышла замуж за глупого, ленивого, витающего в облаках мечтателя, которого воспитали в духе, что однажды он женится на знаменитой художнице, и который не вынес разочарования, – говорит Мисти. – Ты, Грэйс, засрала мозги своему ребенку, и я не позволю тебе засрать их моему.
Склоняясь так близко, что можно рассмотреть лицевую пудру в морщинах Грэйс, в ее ритидах, и красные паутинки в местах, где помада Грэйс просачивается в морщинки у рта, Мисти требует:
– Немедленно прекрати врать ей, или, клянусь, я завтра же соберу сумки и увезу Тэбби с острова.
А Грэйс смотрит мимо Мисти, на что-то позади нее.
Не глядя на Мисти, Грэйс вздыхает. Говорит:
– Ах, Мисти. Для этого уже слишком поздно.
Мисти оборачивается, а позади нее стоит Полетт, женщина с конторки, в белой блузке и черной плиссированной юбке, и Полетт произносит:
– Простите, миссис Уилмот?
Одновременно – Мисти и Грэйс – спрашивают в один голос – «Да?»
А Полетт извиняется:
– Не хочу прерывать вас, – говорит. – Мне нужно только подложить полено в камин.
А Грэйс закрывает книгу в подоле и произносит:
– Полетт, мы хотим, чтобы ты разрешила наш спор.
Поднимая мышцу frontalis, чтобы выгнуть лишь одну бровь, Грэйс спрашивает:
– Желаешь ли ты, чтобы Мисти побыстрее нарисовала шедевр?
Погода сегодня местами злобная, тяготеющая к отказам и ультиматумам.
И Мисти отворачивается, готовясь уйти. Приостанавливается и чуть оглядывается.
Снаружи шипят и бьются волны.
– Спасибо, Полетт, – говорит Мисти. – Но пора уж всем принять факт, что я так и умру большим жирным ничтожеством.
12 июля
НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО, твой друг с худфака с длинными белокурыми волосами, тот парень, который разорвал мочку уха, пытаясь подарить Мисти сережку, так вот, он уже облысел. Его зовут Уилл Таппер, и он водит паром. Он твоих лет, и мочка у него по-прежнему висит двумя обрывками. Зарубцевавшись.
Возвращаясь на остров на пароме этим вечером, Мисти вышла на палубу. Холодный ветер добавляет лет ее лицу, иссушая и растягивая кожу. Гладкую мертвую кожу ее stratum corneum. Она спокойно пьет пиво в коричневом пакете, когда этот большой пес начинает ее обнюхивать. Пес сопит и скулит. Он поджимает хвост, и глотка его ходит туда-сюда в мохнатой шее, пока он раз за разом что-то сглатывает.
Она берется гладить его, а пес выкручивается и делает лужу тут же, на палубе. Подходит мужчина со свернутым поводком на руке, и спрашивает:
– Вы в порядке?
Всего лишь бедная толстая Мисти в личной коме, усиленной пивом.
Будто бы. Можно подумать, она собирается стоять в собачьей луже и рассказывать чужому человеку всю сраную историю своей жизни, на плаву, держа в руке пиво и давясь слезами. Будто бы Мисти может заявить – ну, раз уж вы спросили, она всего-навсего провела еще один день в очередной замурованной бельевой комнате, читая бред на стенах, пока Энджел Делапорт щелкал снимки со вспышкой и рассказывал, мол, ее засранец-муж в жизни любящий и заботливый, потому что пишет буквы "и", направляя хвостик вверх с небольшой завитушкой, даже когда обзывает ее – «…злое смертельное проклятие возмездия…»
Наши Энджел и Мисти полдня терлись задницами, она обводила разбросанные по стенам фразы, гласящие:
«…мы принимаем грязный приток ваших денег…»
А Энджел спрашивал ее:
– Ничего не ощущаете?
Хозяева паковали семейные зубные щетки, чтобы отправить их на лабораторный анализ, на предмет заразных бактерий. Чтобы подать в суд.
На палубе парома мужчина с собакой спрашивает ее:
– На вас надето что-нибудь с умершего?
Кофта, в которой Мисти, кофта и ботинки, и на лацкан приколота булавка, одно из чертовых жутких здоровенных костюмных украшений, которые дал ей Питер.
Дал ей муж.
Дал ей ты.
Весь день в замурованной бельевой кладовке слова заявляли со стен – «…не украдете наш мир, чтобы заменить разрушенный вами…»
А Энджел сказал:
– Здесь почерк другой. Он меняется.
Сделал еще снимок и прощелкал пленку до следующего кадра, спросив:
– Вы не знаете, в каком порядке ваш муж работал в этих домах?
Мисти рассказывала Энджелу, что новый владелец должен вселяться только после полнолуния. По плотницкой традиции, первым в новый дом должен войти любимый питомец семьи. Затем хлеб семейства, соль, метла, Библия и распятие. И только потом могут въезжать семья и мебель. По суеверию.
А Энджел, щелкая снимки, спросил:
– Как это? Хлеб должен войти сам по себе?
Беверли-Хиллз, Верхнее восточное побережье, Палм-Бич, – нынче, по словам Энджела Делапорта, даже самый лучший район любого города – не более чем роскошный номер-люкс в преисподней. За парадными воротами удел все равно общий – улицы с пробками. Вы с бездомными наркоманами дышите одним и тем же вонючим воздухом и слушаете шум все тех же полицейских вертолетов, которые ночь напролет гоняют преступников. Свет звезд и луны стирается фонарями сотен тысяч забитых стоянок. Люди заполняют все те же тротуары, усыпанные мусором, и наблюдают один и тот же восход, туманно краснеющий в смоге.
Энджел говорит, богачи не особо любят ввязываться. Деньги позволяют тебе взять и уйти от некрасивого и несовершенного. Ты не способен сносить как минимум нелюбимое. Ты проводишь всю жизнь убегая, сбегая, избегая.
Тот самый поиск милых вещей. Подделок. Штампов. Цветочков и елочных гирлянд, – которые мы и приучены любить. Женщин из мексиканских передач, с большими буферами и тоненькими талиями, такими, словно их скрутили втрое. Трофейных жен, из тех, что едят ланч в Уэйтензийской гостинице.
Фразы на стенах гласят – «…вы люди с бывшими женами и приемными детьми, смешанными семьями и неудачными браками, вы разрушили свой мир и теперь хотите разрушить мой…»
Проблема в том, говорит Энджел, что у нас заканчиваются места, где можно спрятаться. Именно поэтому Уилл Роджерс советовал людям покупать землю – «новой уже нынче никто не производит».
Именно поэтому богачи нынешним летом открыли для себя остров Уэйтензи.
В свое время был Сан-Уэлли, штат Айдахо. Потом Седона, штат Аризона. Эспен, в Колорадо. Кэй-Уэст, во Флориде. Лагайна на Мауи.
Все их заполонили туристы, а местному населению осталось обслуживать столики. Теперь остров Уэйтензи, идеальное бегство. Для любого, кроме тех, кто уже там живет.
Слова гласят – «…вы со своими быстрыми машинами, застрявшими в пробках, со своей сытной жратвой, от которой вы жиреете, со своими домами такого размера, что вам всегда одиноко…»
А Энджел замечает:
– Смотрите сюда, теперь почерк сбит в кучу. Буквы притиснуты друг к другу, – он щелкает снимок, проматывает пленку и говорит. – Питер чем-то очень напуган.
Наш мистер Делапорт флиртует, накрывая ее руку своей. Дает ей фляжку, пока та не пустеет. Все это мило постольку, поскольку он не подал на нее в суд, в отличие от остальных твоих клиентов с континента. От всех летних людей, которые недосчитались спален и бельевых кладовок. От всех, чьи зубные щетки ты совал в зад. Вот полпричины того, почему Мисти так быстро подарила дом католикам – чтобы никто не успел наложить на него арест.
Энджел Делапорт говорит, что у нас природный инстинкт – прятаться. Как животный вид, мы захватываем землю и защищаем ее. Мы можем мигрировать, следуя за климатом или дичью, но нам известно, что для проживания нужна земля, и наш инстинкт – занять свое место под солнцем.
Именно затем поют птички, – чтобы метить территорию. Затем писают собачки.
Седона, Кэй-Уэст, Сан-Уэлли, – парадокс в том, что полмиллиона людей едет в одно и то же место, чтобы побыть в уединении.
А Мисти, продолжая обводить следы черной краски указательным пальцем, спрашивает:
– Что вы имели в виду, говоря о синдроме Стендаля?
А Энджел, не прекращая щелкать снимки, отвечает:
– Он назван в честь Стендаля, французского писателя.
Слова, которые она обводит, гласят – «…Мисти Уилмот отправит всех вас в преисподнюю…»
Твои слова. Мудак.
Станиславский был прав, свежую боль можно обнаружить всякий раз, когда открываешь даже небезызвестное.
Синдром Стендаля, рассказывает Энджел, это медицинский термин. Когда картина, или любое произведение искусства, так прекрасна, что ошарашивает зрителя. Это форма шока. После того, как Стендаль посетил церковь Санта-Кроче во Флоренции в 1817-м, он описывал практически обморок от восторга. У людей пальпировалось учащенное сердцебиение. У них кружилась голова. Когда смотришь на великое произведение искусства, забываешь собственное имя, забываешь даже, где находишься. Оно может вызвать депрессию и физическое истощение. Амнезию. Панику. Сердечный приступ. Упадок сил.
Просто на заметку, Мисти кажется, что Энджел Делапорт маленько брешет.
– Если перечитать свидетельства очевидцев, – говорит он. – Работы Моры Кинкэйд, судя по всему, вызывали что-то вроде массовой истерики.
– А сейчас? – спрашивает Мисти.
А Энджел пожимает плечами:
– Как по мне, – говорит. – Среди мной виденного – ничего так, просто кучка очень симпатичных пейзажей.
Следя за ее пальцем, он спрашивает:
– Ничего не чувствуете?
Щелкает еще снимок и добавляет:
– Забавно, как меняются вкусы.
«…мы бедны», – гласят слова Питера. – «но у нас есть все, что жаждет каждый богач… покой, красота, тишина…»
Твои слова.
Твоя загробная жизнь.
По пути на пароме домой, вечером, именно Уилл Таппер дал Мисти пиво в бумажном пакете. Разрешил ей пить на палубе, вразрез с правилами. Спросил, не работает ли она в последнее время над картинами. Может, над какими-нибудь пейзажами?
А мужчина с собакой на пароме объясняет, что его пес обучен разыскивать мертвых. Человек при смерти испускает сильный запах того, что этот мужчина зовет эпинефрином. По его словам, запах испуга.
Мисти держит в руке пиво, и она молча отпивает его, позволяя ему рассказывать дальше.
Из– за волос мужчины, из-за того, как они редеют над висками, того, как обнаженная кожа головы ярко покраснела на холодном ветру, кажется, будто у него рога дьявола. У него рога дьявола и лицо, все покрасневшее и изрезанное морщинами. Динамическая морщинистость. Боковые кантальные ритиды.
Пес выкручивает голову через плечо, пытаясь от нее убежать. Лосьон после бритья у этого мужчины пахнет гвоздиками. На его ремне, под полой куртки, можно заметить пару хромированных наручников.
Просто на заметку: погода сегодня – крепчающая суматоха, возможен физический и эмоциональный срыв.
Держа собачий поводок, мужчина спрашивает:
– Вы точно в порядке?
А Мисти уверяет его:
– Поверьте, я не мертва.
– Разве что клетки кожи мертвые, – говорит.
Синдром Стендаля. Эпинефрин. Графология. Кома подробностей. Образованности.
Мужчина кивает на пиво в коричневом бумажном пакете и спрашивает:
– Вы в курсе, что не положено пить на публике?
А Мисти отзывается – «Чего?». Он что, полицейский?
А он говорит:
– Представляете? Между прочим, да.
Парень распахивает бумажник, чтобы мельком показать ей значок. На серебряном значке выгравировано – «Кларк Стилтон. Детектив. Опергруппа округа Сивью по преступлениям нетерпимости».
13 июля – Полнолуние
ТЭББИ И МИСТИ шагают сквозь заросли деревьев. Это спутанный клубок местности в глубине Уэйтензийского мыса. Здесь сплошная ольха: поколения деревьев, выросших, и рухнувших, и снова пробивающихся сквозь своих же мертвецов. Животные, может – олени, прорубили тропу, которая вьется меж куч переплетенных деревьев и протискивается между скал, которые высотой с постройки, укрытые толстым слоем мха. А надо всем этим смыкаются переменчивым ярко-зеленым небом ольховые листья.
Тут и там солнечный свет пробивается колоннами такой толщины, будто от хрустальных люстр. Вот чуть более хаотичный вариант вестибюля Уэйтензийской гостиницы.
На Тэбби одинокая сережка, золотая филигранная штучка с дымкой искристых красных поддельных камней, опоясывающих багровое сердечко в глазури. Она приколота к розовой рубашке, как брошь, но это та самая сережка, которую белокурый друг Питера вырвал из уха. Уилл Таппер с парома.
Твой друг.
Она хранит эту бижутерию под кроватью, в обувной коробке, и надевает ее в особые дни. Рубины, вырезанные из стекла, приколотые к ее плечу, переливаются ярко-зеленым цветом, который над ними. Фальшивые самоцветы, все в крапинках грязи, отсвечивают розовым от рубашки Тэбби.
И вот, твоя жена и ребенок переступают трухлявое бревно, кишащее муравьями, пробираются сквозь папоротники, которые скользят по талии Мисти и шлепают Тэбби по лицу. Они молчат, высматривая и выслушивая птиц, но их нет. Ни птиц. Ни лягушат. Никаких звуков кроме океана, кроме шипения и биения волн где-то вдали.
Они проталкиваются сквозь чащу каких-то зеленых стеблей, у подножья которых гниют мягкие желтые листья. С каждым шагом приходится смотреть под ноги, потому что земля скользкая, и повсюду лужи воды. Сколько прошла Мисти, не поднимая глаз от земли, придерживая ветки, чтобы те не хлестали Тэбби, – Мисти не знает, сколько, но когда она поднимает взгляд, впереди стоит мужчина.
Просто на заметку, ее мышцы levator labii, мышцы недовольства, мышцы на случай «сражаться-или-спасаться», все сжимаются, все эти гладкие мускулы складываются в рычащий рельеф; рот Мисти становится настолько прямоугольным, что обнажаются все зубы. Ее рука хватает Тэбби сзади за рубашку. Тэбби смотрит под ноги, идет вперед, а Мисти дергает ее назад.
А Тэбби поскальзывается и тянет мать к земле, говоря:
– Мам.
Тэбби прижата к сырой земле, к листьям, ко мху и к насекомым, Мисти раскорячилась над ней, выше – дугами выгибаются папоротники.
Этот мужчина примерно в десяти шагах впереди, и смотрит в противоположную сторону. Не оборачивается. Сквозь папоротниковый занавес видно, что он под семь футов ростом, темный и тяжелый, в волосах у него желтые листья, а ноги заляпаны грязью.
Он не оборачивается, но и не двигается. Он, должно быть, услышал их, и стоит настороже.
Просто на заметку: он голый. Вон его голая задница.
Тэбби просит:
– Пусти, мам. Тут жуки.
А Мисти шипит на нее.
Мужчина ждет, замерев, вытянув руку на уровне пояса, будто пытаясь нащупать шевеление воздуха. Птицы не поют.
Мисти стоит на четвереньках, растопырив руки и уперев ладони в грязную землю, готовая сгрести Тэбби в охапку и бежать.
Потом Тэбби выскальзывает из-под нее, а Мисти говорит:
– Нет.
Стремительно вытягивая руку, Мисти хватает воздух за спиной своей малышки.
В эту пару секунд Мисти понимает, что она – паршивая мать.
Питер, ты женат на трусихе. Мисти все стоит на месте на четвереньках. На всякий случай Мисти отклоняется назад, готовясь бежать в противоположную сторону. Чему не учат на худфаке, так это рукопашному бою.
А Тэбби оборачивается и говорит с улыбкой:
– Мам, да не будь такой соплей.
Обхватывает двумя руками вытянутую руку мужчины и подтягивается, болтая в воздухе ногами. Говорит:
– Это просто Аполлон, вот и все.
Около мужчины, почти скрытый опавшими листьями, лежит труп. Белая бледная грудь с тонкими голубыми прожилками вен. Отрубленная белая рука.
А Мисти все там же, стоит на четвереньках.
Тэбби бросает руку мужчины и топает туда, куда смотрит Мисти. Счищает листья с мертвого белого лица и говорит:
– А это Диана.
Смотрит на раскорячившуюся Мисти и закатывает глаза.
– Это статуи, мам.
Статуи.
Тэбби возвращается и берет Мисти за руку. Поднимает мамину руку и подтягивает ее на ноги, со словами:
– Понятно? Статуи. Ты же художница.
Тэбби тянет ее вперед. Стоящий мужчина – из темной бронзы, изборожденной лишайником и пятнами, голый мужик, привинченный ногами к пьедесталу, укрытому кустами у тропы. У него глубоко посаженные белки и зрачки. Вылитые римские белки. Обнаженные руки и ноги образуют с торсом совершенную пропорцию. Золотое сечение композиции. Согласно каждому из правил художества и пропорции.
Греческая формула, объясняющая, почему мы любим то, что любим. Еще чуть-чуть худфаковской комы.
Женщина на земле – из битого белого мрамора. Розовая ручонка Тэбби счищает листья и траву с высоких белоснежных бедер; застенчивые складки промежности из белого мрамора встречаются у резного листочка. Гладкие пальцы и руки, локти без единой морщинки и складки. Резные мраморные волосы рассыпаются лепными белыми кучеряшками.
Тэбби указывает белой ручкой на пустой пьедестал по другую сторону тропы от бронзовой статуи, и говорит:
– Диана упала задолго до того, как я ее встретила.
Бронзовая икроножная мышца мужчины наощупь холодна, но в литье присутствует каждое сухожилие, каждый мускул напряжен. Мисти спрашивает, проводя рукой по холодной металлической ноге:
– Ты здесь уже бывала?
– У Аполлона писюна нет, – говорит Тэбби. – Я уже смотрела.
И Мисти отдергивает руку от листочка, приваренного к бронзовой промежности статуи. Спрашивает:
– Кто тебя сюда водил?
– Бабуля, – отвечает Тэбби. – Бабуля меня все время сюда водит.
Тэбби склоняется, чтобы потереться щекой о гладкую мраморную щеку Дианы.
Бронзовая статуя, Аполлон, должно быть, репродукция девятнадцатого века. Либо так, либо конца восемнадцатого века. Она не может быть подлинной, не может быть настоящим греческим или римским образчиком. Она стояла бы в музее.
– Откуда они здесь? – интересуется Мисти. – Бабушка тебе не говорила?
А Тэбби пожимает плечами. Тянется к Мисти рукой и говорит:
– Там есть еще, – зовет. – Пошли, могу показать.
Там есть еще.
Тэбби ведет ее сквозь заросли, которые опоясывают мыс, и они обнаруживают солнечные часы, погребенные под травой, заржавленные толстым темно-зеленым слоем медянки. Они обнаруживают фонтан шириной с бассейн, но наполненный лишь ветками и желудями, сбитыми ветром.
Они минуют грот, вырытый в откосе холма: темную пасть, обрамленную замшелыми колоннами и загороженную железными воротами, которые заперты на цепь. Тесаный камень собран в арку, которая вздымается до замкового камня посередине. Все причудливо, как здание крошечного банка. Фасад замшелого, зарытого в землю Капитолия. Усеянный резными ангелами, которые держат каменные гирлянды яблок, персиков и винограда. Каменные цветочные венки. Все они забрызганы грязью, потрескавшиеся и расколотые корнями деревьев.
А в промежутках попадаются растения, которых здесь быть не должно. Ползучая роза увивает дуб, карабкаясь на пятьдесят футов, чтобы расцвести над кроной дерева. Иссохшие листья желтого тюльпана вянут в летней жаре. Высящаяся стена стеблей и листьев вдруг оказывается огромным кустом сирени.
Тюльпаны и сирень – не местные растения.
Ничего из этого здесь быть не должно.
На лугу, что в центре мыса, они натыкаются на Грэйс Уилмот, которая сидит на одеяле, расстеленном в траве. Вокруг нее цветут розовые и голубые васильки и прячутся белые ромашки. Плетеная из ивового прута походная корзина открыта, а над ней жужжат мухи.
Грэйс приподнимается на колени, протягивая бокал красного вина, и зовет:
– Мисти, ты вернулась. Держи, это тебе.
Мисти берет вино и отпивает чуточку.
– Тэбби показала мне статуи, – говорит Мисти. – Что здесь раньше было?
Грэйс поднимается на ноги и командует:
– Тэбби, собирай вещи. Нам пора идти.
Тэбби подбирает свитер с одеяла.
А Мисти возражает:
– Но мы только что пришли.
Грэйс вручает ей тарелку с бутербродом и объявляет:
– Ты – оставайся и поешь. У тебя будет целый день на рисование.
Бутерброд – с куриным салатом, он нагрелся на солнце. На него садились мухи, но на вкус – все в порядке. И Мисти откусывает немного.
Грэйс кивает на Тэбби и сообщает:
– Это была идея Тэбби.
Мисти жует и глотает. Говорит:
– Идея милая, но я же не захватила никаких принадлежностей.
А Тэбби идет к корзинке для пикников и отзывается:
– Бабуля захватила. Мы положили их в корзину, чтобы сделать тебе сюрприз.
Мисти отпивает вина.
Всякий раз, когда кто-нибудь из добрых побуждений вынуждает тебя продемонстрировать отсутствие таланта и тычет тебя носом в тот факт, что ты потерпела неудачу в единственной мечте своей жизни, сделай еще глоток. Это Игра в Глотки от Мисти Уилмот.
– Мы с Тэбби идем на задание, – сообщает Грэйс.
А Тэбби прибавляет:
– Мы идем на домашние распродажи.
У куриного салата любопытный привкус.
Мисти жует, глотает, и говорит:
– У бутерброда странный вкус.
– Это просто улитки, – отзывается Грэйс. Говорит:
– Нам с Тэбби нужно разыскать шестнадцатидюймовое блюдо в орнаменте пшеничных колосьев Линокса Сильвера, – закрывает глаза и мотает головой, со словами:
– Ну почему никого не устраивает столовая посуда, если в сервизе есть недостача?
Тэбби говорит:
– А еще бабуля будет покупать подарок на мой день рожденья. Все, что я захочу.
И вот, Мисти предстоит торчать здесь, на Уэйтензийском мысу, с двумя бутылками красного вина и стопкой бутербродов с куриным салатом. С кучей красок, акварели, кистей и бумаги, которой она не касалась с того времени, как ее ребенок был грудным младенцем. Акриловые и масляные краски наверняка уже затвердели. Акварель засохла и растрескалась. Кисти ссохлись. Толку не будет ни от чего.
От Мисти в том числе.
Грэйс Уилмот протягивает руку и зовет:
– Тэбби, пошли. Оставим твою маму наслаждаться деньком.
Тэбби берет бабушку за руку, и они двое отправляются обратно, через луг к грунтовке, где осталась припаркованной машина.
Солнце горячо греет. Луг на такой высоте, что можно глянуть вниз, и увидеть, как внизу шипят и бьются о скалы волны. Вдали по береговой линии виден городок. Уэйтензийская гостиница – белая полоска деревянной обивки. Можно почти разглядеть крошечные слуховые окна в мансардах. Отсюда остров кажется милым и идеальным, не затопленным суетливыми туристами. Он выглядит так, как наверняка выглядел до приезда летних богачей. До прибытия Мисти. Теперь видно, почему те, кто здесь родился, никогда не покидают его. Видно, почему Питер так пытался его защитить.
– Мам, – доносится оклик Тэбби.
Она бежит назад, оставив бабушку. Вцепившись двумя руками в розовую рубашку. Пыхтя и улыбаясь, добирается до сидящей на одеяле Мисти. В руках у нее золотая филигранная сережка, она командует:
– Замри.
Мисти замирает. Как статуя.
А Тэбби склоняется и продевает сережку в мочку маминого уха, со словами:
– Я чуть не забыла, но бабуля мне напомнила. Она говорит, тебе это будет нужно.
Коленки ее синих джинсов выпачканы грязью и зеленью с того момента, как Мисти перепугалась, и они оказались на земле, с момента, когда Мисти пыталась спасти ее.
Мисти предлагает:
– Не хочешь взять с собой бутерброд, солнышко?
А Тэбби качает головой, со словами:
– Бабуля сказала их не трогать.
Потом поворачивается и убегает, помахивая ручкой над головой, пока не исчезает вдали.
14 июля
ЭНДЖЕЛ ДЕРЖИТ ЛИСТ бумаги с акварелью, прихватив уголки кончиками пальцев. Разглядывает его, смотрит на Мисти и спрашивает:
– Вы нарисовали стул?
Мисти передергивает плечами и оправдывается:
– Годы прошли. Это было первое, что пришло мне на ум.
Энджел поворачивается к ней спиной, поворачивая картину под разными углами к свету. Не отрывая от нее взгляд, говорит:
– Хорошо. Очень хорошо. Откуда вы взяли стул?
– Выдумала и нарисовала, – отвечает Мисти, и сообщает ему, что проторчала целый день на Уэйтензийском мысу, в компании только красок и пары бутылок вина.
Энджел щурится на картину, поднеся ее так близко, что у него почти скашиваются глаза, и говорит:
– Похоже на Гершеля Бурке, – Энджел переводит взгляд на нее и спрашивает. – Вы провели день на зеленом лугу, и выдумали кресло Гершеля Бурке в ренессансе, времен эпохи Возрождения?
Нынешним утром позвонила женщина из Лонг-Бич, и сообщила, что она перекрашивает бельевую кладовку, поэтому им стоит приехать и взглянуть на Питеровы каракули, пока она не начала.
В этот миг Мисти и Энджел стоят в пропавшей бельевой кладовке. Мисти зарисовывает обрывки Питеровых закорючек. Энджел должен был фотографировать стены. В момент, когда Мисти открыла альбом, чтобы достать планшетку, Энджел заметил маленькую акварель и попросил взглянуть. Солнечный свет пробивается сквозь матовое стекло в окне, и Энджел подставляет под этот свет картину.
Выведенные аэрозольной краской поперек окна, слова гласят:
«…ступите на наш остров и умрете…»
Энджел говорит:
– Это Гершель Бурке, клянусь. Из 1879-го филадельфийского. Его двойник стоит в усадьбе Вандербильта, в Бильтморе.
Он, должно быть, застрял у Мисти в голове с уроков истории искусства, или с обзорных лекций по декоративным искусствам, или из других бесполезных худфаковских занятий. Может, она видела его по телевизору, в видеоэкскурсии по знаменитым строениям, или в популярной телепередаче. Кто знает, откуда берется мысль. Наше вдохновение. Кто знает, почему мы воображаем то, что воображаем.
Мисти говорит:
– Повезло еще, что я вообще что-то нарисовала. Мне было так плохо. Отравилась едой.
Энджел разглядывает картину, поворачивая ее. Складочная мышца между его бровей сжимается в три глубокие морщины. В глабеллярные борозды. Треугольная мышца подтягивает губы, пока не проявляются марионеточные линии, сбегающие вниз из уголков рта.
Срисовывая закорючки на стенах, Мисти не рассказывает Энджелу о спазмах желудка. Весь тот паскудный денек она пыталась набросать скалу или дерево, но комкала бумагу в отвращении. Она попыталась зарисовать городок с расстояния, шпиль церкви и часы над библиотекой, но скомкала и его. Смяла паршивенький портрет Питера, который пыталась нарисовать по памяти. Смяла портрет Тэбби. Потом – единорога. Она выпила бокал вина и огляделась в поисках чего-то нового, чтобы изгадить и его своим отсутствием таланта. Потом съела еще один бутерброд с куриным салатом и странным привкусом улиток.
Сама мысль войти в полумрак зарослей, зарисовать упавшую развалившуюся статую, заставила привстать волосинки на ее затылке. Разрушенные солнечные часы. Тот запертый грот. Боже. Здесь, на лугу, припекало солнце. В траве гудели насекомые. Где-то за деревьями шипели и бились волны океана.
Одного взгляда на темную кайму леса Мисти хватило бы, чтобы вообразить бронзового исполина, раздвигающего ветки пятнистыми руками, и наблюдающего за ней впалыми незрячими глазницами. Будто он прикончил мраморную Диану и порубил труп на куски. Мисти могло бы представиться, как он выходит из посадки и топает к ней.
По правилам Игры в Глотки, придуманной Мисти Уилмот, когда тебе начинает казаться, что обнаженная бронзовая статуя собирается заключить тебя в металлические объятия и сдавить до смерти в поцелуе, а ты будешь срывать ногти и разбивать руки в кровь о замшелую грудь, – так вот, значит, пришло время сделать еще глоток.
Когда обнаруживаешь себя полуголой и гадящей в ямку, которую ты вырыла под кустом, а потом – подтирающей задницу гостиничной полотняной салфеткой, – сделай еще один глоток.
Желудок скрутили спазмы, и Мисти обливалась потом. С каждым ударом сердца ее голову пронизывала боль. Кишки дернулись, и она не успела полностью спустить трусы. Дрянь забрызгала ей все туфли и ноги. От запаха ее затошнило, и Мисти кинулась вперед, упершись ладонями в горячую траву и цветочки. Черные мухи, учуявшие ее за много миль, ползали вверх-вниз по ногам. Она уронила подбородок на грудь и выплеснула на землю две пригоршни розовой блевотины.
Когда обнаруживаешь себя получасом спустя в дерьме, которое продолжает стекать по ноге, и тебя окружает туча мух, – сделай еще глоток.
Ничего из этого Мисти Энджелу не рассказывает.
И вот, она зарисовывает, а он делает снимки, здесь, в пропавшей бельевой кладовке, и он спрашивает:
– Что вы можете мне рассказать об отце Питера?
Папа Питера, Гэрроу. Мисти любила папу Питера. Мисти говорит:
– Он мертв. А что?
Энджел делает очередной снимок и прощелкивает пленку в фотоаппарате вперед. Он кивает на надписи на стене и поясняет:
– То, как человек пишет "и", значит так много. Первый росчерк обозначает привязанность к матери. Второй росчерк, хвостик, говорит об отце.
Папу Питера, Гэрроу Уилмота, все называли Гарри. Мисти виделась с ним только в тот один раз, когда прибыла на остров перед свадьбой. Перед тем, как Мисти забеременела. Гарри взял ее на большую экскурсию по острову Уэйтензи, шел и указывал на отслоившуюся краску и вислые крыши крытых гонтом домин. Выковыривал ключом от машины выщербившийся раствор между гранитных блоков церкви. Они осмотрели потрескавшиеся и вздувшиеся тротуары Лавочной улицы. Витрины магазинов, сквозь которые прожилками прорастала плесень. Закрытую гостиницу, черную изнутри, – почти всю ее пожрал огонь. Снаружи она потрепана, со ржавыми темно-красными рамами окон. Ставни покосились. Трубы прохудились. Гэрроу Уилмот все повторял:
– Три поколения плечом к плечу, – говорил. – Сколько капиталов мы ни вкладывай, денег хватает только на этот срок.
Отец Питера умер вскоре после того, как Мисти вернулась в колледж.
А Энджел спрашивает:
– Вы мне можете раздобыть образец его почерка?
Мисти продолжает срисовывать закорючки, и отзывается:
– Не знаю.
Просто на заметку: даже когда сидишь, голая и вымазанная говном, среди дикой природы, забрызгавшись розовой блевотиной, – это не обязательно делает тебя великой художницей.
Как и галлюцинации. Там, на Уэйтензийском мысу, со спазмами, когда пот тек с ее волос и по щекам, Мисти начало мерещиться всякое. Она попыталась вычиститься гостиничными салфетками. Прополоскала рот вином. Прогнала тучу мух. Блевотина все жгла ей ноздри. Глупо, слишком глупо рассказывать Энджелу об этом, но тени на опушке леса зашевелились.
Там, в деревьях, было металлическое лицо. Фигура сделала шаг вперед, и ее бронзовая нога жутким весом погрузилась в мягкую околицу луга.
Когда походишь на худфак – узнаешь, что такое плохая галлюцинация. Узнаешь, что такое флэш-бэк[10]. Примешь кучу химических веществ, а они могут остаться в жировых тканях, готовые средь бела дня наполнить твое кровообращение дурными грезами.
Фигура сделала еще шаг, и ее нога погрузилась в землю. В солнечном свете ее руки отблескивали светло-зеленым в одних местах, тускло-коричневым в других. Ее макушка и плечи были усыпаны снегом птичьего помета. Мышцы в бронзовых бедрах выпирали, напрягаясь в резном рельефе при каждом подъеме ноги, когда фигура делала шаг вперед. С каждым шагом между бедер шевелился бронзовый листок.
Теперь, когда смотришь на акварель, пристроенную сверху на сумку Энджела с фотоаппаратом, все выглядит более чем постыдно. Аполлон, бог любви. Больная и пьяная Мисти. Голая душа сексуально озабоченной художницы средних лет.
Фигура подступила на шаг ближе. Дурацкая галлюцинация. Пищевое отравление. Она голая. И Мисти голая. Оба они грязные, на лугу, окруженном деревьями. Чтобы очистить голову, чтобы все ушло, Мисти взялась за набросок. Чтобы сосредоточиться. Это был рисунок из ничего. Закрыв глаза, Мисти приложила карандаш к акварельному листу и почувствовала, как он шуршит, как она кладет ровные линии и трет их краем большого пальца, чтобы вышел оттененный контур.
Автоматическое письмо.
Когда карандаш остановился, Мисти закончила работу. Фигура исчезла. С желудком полегчало. Дрянь достаточно подсохла, так что удалось вытереть худшую часть и зарыть салфетки, испорченные трусы, скомканные рисунки. Прибыли Тэбби и Грэйс. Они разыскали недостающую чайную чашку, или сливочный кувшин, или что там было. К этому моменту вино уже закончилось. Мисти уже оделась и пахла чуть лучше.
Тэбби сказала:
– Смотри. На мой день рождения, – и вытянула руку, демонстрируя кольцо, сверкающее на пальце. Квадратный зеленый камень, блистающий резными гранями.
– Это оливин, – объявила Тэбби, и подняла его над головой, ловя солнечный свет.
Мисти уснула в машине, гадая, откуда взялись деньги, а Грэйс везла их по Центральной авеню домой, в поселок.
И только потом уже Мисти заглянула в планшетку. Она удивилась как никто. Потом лишь добавила немного красок, акварели. Поразительно, какие вещи способно создать подсознание. Что-то из отрочества, что-то с уроков истории искусства.
Предсказуемые мечты бедной Мисти Клейнмэн.
Энджел что-то говорил.
Мисти переспрашивает:
– Пардон?
А Энджел повторяет:
– Сколько за нее хотите?
Он про деньги. Про цену. Мисти предлагает:
– Пятьдесят? – говорит Мисти. – Пятьдесят долларов?
Картина, которую Мисти рисовала с закрытыми глазами, голой и перепуганной, пьяной и с больным желудком, – это первый экземпляр живописи, который ей довелось продать. Это лучшее, что удалось выполнить Мисти.
Энджел открывает бумажник и достает две двадцатки и десятку. Спрашивает:
– Так вот, что вы еще можете мне рассказать об отце Питера?
На заметку, когда они покидали луг, у тропы оказались две глубокие ямы. Эти ямы были парой следов, слишком большие для отпечатков ног, слишком далеко друг от друга, чтобы принадлежать человеку. След из ямок возвращался в лес, слишком далеко друг от друга, чтобы принадлежать идущему. Этого Мисти Энджелу не рассказывает. Он решил бы, что она ненормальная. Ненормальная, как ее муж.
Как ты, дорогой милый Питер.
Сейчас от ее пищевого отравления осталась только пульсирующая головная боль.
Энджел подносит картину к носу и втягивает воздух. Шмыгает носом и снова принюхивается, потом сует картину в боковой карман сумки с фотоаппаратом. Замечает, что она следит за ним, и говорит:
– О, не обращайте внимания. На секунду показалось – воняет говном.
15 июля
КОГДА ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА, который за последние четыре года пялится на твою грудь, оказывается полицейским – сделай глоток. Если выяснится, что он уже в курсе, как ты выглядишь голой – сделай еще один.
В этот раз глотни вдвое больше.
Какой-то тип сидит за восьмым столиком в Древесно-золотой комнате, некий обычный тип твоих лет. Он крепкий, сутулый. Рубашка ему впору, немного натянута на животе, чуть нависает над ремнем хлопчатобумажным белым воздушным шаром. Его волосы, залысины на висках, тянутся назад узкими треугольниками голой кожи над глазами. Треугольники загорели до ярко-красного, и получились длинные острые рога дьявола, торчащие изо лба. На столике перед ним – маленький открытый блокнотик, и он делает в нем пометки, разглядывая Мисти. На нем полосатый галстук и мастерка цвета морской волны.
Мисти приносит ему стакан воды; рука у нее трясется так, что слышно, как позвякивают кусочки льда. Просто чтоб ты знал – головная боль у нее продолжается третий день. От этой головной боли возникает чувство, что личинки пробираются в большую мягкую глыбу ее мозга. Ввинчиваются черви. Жуки пробивают ходы.
Тип за восьмым столиком интересуется:
– Мужчин у вас почти не бывает, так?
Его лосьон после бритья пахнет гвоздиками. Это мужчина с парома, парень с собакой, которая сочла Мисти мертвой. Тот полисмен. Детектив Кларк Стилтон. Тип по преступлениям нетерпимости.
Мисти пожимает плечами и вручает ему меню. Мисти выкатывает глаза, разглядывая окружающее их помещение, золотую краску и древесную обивку, и спрашивает:
– А где ваша собака? – говорит Мисти. – Принести вам что-нибудь выпить?
А он объявляет:
– Мне нужно повидаться с вашим мужем, – говорит. – Вы ведь миссис Уилмот, верно?
Имя на ее значке, приколотом к розовой пластиковой униформе – «Мисти Мария Уилмот».
От ее головной боли возникает чувство, будто молоток, – тюк-тюк-тюк, – забивает длинный гвоздь в затылок: концептуальный предмет искусства, тюкающий все сильнее в одну и ту же точку, пока не забываешь обо всем остальном мире.
Детектив Стилтон пристраивает ручку на блокнот и протягивает руку для рукопожатия, и улыбается. Говорит:
– По правде говоря, я и есть опергруппа округа по преступлениям нетерпимости.
Мисти пожимает ему руку и предлагает:
– Хотите чашку кофе?
А он говорит:
– С удовольствием.
Ее головная боль – как перекачанный воздухом надувной мяч. Новый воздух подкачивается в него, только это не воздух. Это кровь.
Просто на заметку, Мисти уже сообщила детективу, что Питер в больнице.
Что ты в больнице.
На пароме в тот вечер она рассказала детективу Стилтону, что ты был псих, и что оставил семью в долгах. Что тебя выгоняли со всех факультетов, и как ты прицеплял к телу украшения. Что сидел в машине, стоящей в гараже, запустив мотор. А твои граффити, все твои тирады, запечатанные в бельевых кладовках и кухнях разных людей, все были просто очередным симптомом твоего безумия. Вандализмом. Грустно, сказала детективу Мисти, но она так же крепко обломалась на этом, как и все.
Сейчас около трех часов, затишье между обедом и ужином.
Мисти разрешает:
– Угу. Само собой, сходите, проведайте моего мужа, – говорит Мисти. – Так вы хотите кофе?
А детектив пишет, глядя в блокнот, и интересуется:
– Известно ли вам, был ли ваш муж частью какой-либо неонацистской организации? Какой-либо радикальной группы нетерпимости?
А Мисти отзывается:
– Разве? – Мисти предлагает. – У нас хороший ростбиф.
Просто на заметку: это в чем-то забавно. Они оба с планшетками, с ручками наготове. Это дуэль. Перестрелка.
Если этот тип видел Питеровы надписи, то он в курсе, что Питер думал о ней в голом виде. Груди – дохлые рыбины. По ногам ползут вены. Руки воняют резиновыми перчатками. Мисти Уилмот, королева среди служанок. Что ты думал о своей жене.
Детектив Стилтон делает записи, расспрашивая:
– Так вы с мужем не были очень близки?
А Мисти отвечает:
– Э-э, ну, мне казалось – были, – говорит. – Но поди пойми.
Он делает записи, расспрашивая:
– Вы в курсе, был ли Питер членом Ку-клукс-клана?
А Мисти отзывается:
– Клецки с курицей ничего.
Он делает записи, расспрашивая:
– Вы в курсе, существует ли подобная группа нетерпимости на острове Уэйтензи?
Головная боль, – тюк-тюк-тюк, – забивает гвоздь ей в затылок.
Кто-то за пятым столиком машет рукой, и Мисти спрашивает:
– Вам нести кофе?
А детектив Стилтон интересуется:
– Вы в порядке? Вид сейчас у вас не очень.
Сегодня же утром, за завтраком, Грэйс Уилмот сказала, мол, она в ужасном смущении по поводу испорченного куриного салата, – в таком ужасном, что записала Мисти на прием к доктору ТушИ на завтра. Жест милый, но еще один сраный счет к оплате.
Когда Мисти закрывает глаза, она готова поклясться, что голова изнутри пышет жаром. Шея – один сплошной чугунный мышечный спазм. От пота слипаются складки кожи на шее. Плечи сковало, они напряжены и подтянуты почти к ушам. Она может лишь немного вертеть головой туда и сюда, а уши у нее будто пылают.
В свое время Питер рассказывал о Паганини, возможно – лучшем скрипаче всех времен. Его мучил туберкулез, сифилис, остеомиелит челюсти, диарея, геморрой и камни в почках. Ртуть, которой доктора пользовали его от сифилиса, травила его, пока не выпали зубы. Пока кожа не стала бело-серого цвета. Вылезли волосы. Паганини был ходячим трупом, но когда играл на скрипке – он был превыше смертных.
У него был синдром Эхлерса-Дэнлоса, врожденное заболевание, из-за которого суставы стали такими гибкими, что он мог отогнуть большой палец назад и достать им запястье. Если верить Питеру, то, что его мучило, пробудило в нем гения.
Если верить тебе.
Мисти приносит детективу Стилтону чай со льдом, который тот не заказывал, а он спрашивает:
– Есть ли причина, по которой вы вынуждены носить очки от солнца в помещении?
А она, мотнув головой на большие окна, отвечает:
– Да свет, – доливает ему воды и говорит. – У меня от него сегодня глаза болят.
У нее так дрожит рука, что она роняет ручку. Вцепившись рукой в край столешницы, для равновесия, она нагибается за ней. Шмыгает носом и говорит:
– Простите.
А детектив спрашивает:
– Вам знаком некто Энджел Делапорт?
А Мисти шмыгает носом и интересуется:
– Заказывать будете?
Показать бы почерк Стилтона Энджелу Делапорту. Буквы вытянутые, рвутся ввысь, амбициозно, идеалистично. Строчки резко кренятся вправо, упрямо и агрессивно. Сильный нажим на страницу говорит о могучем либидо. Так сказал бы Энджел. Хвостики букв, прописных "у" и "д", торчат строго вниз. Это говорит о решительности и сильных лидерских качествах.
Детектив Стилтон смотрит на Мисти и спрашивает:
– Могли бы вы сказать, что ваши соседи враждебно настроены к чужакам?
Просто на заметку – когда время на мастурбацию сокращается меньше чем до трех минут, потому что ванну с тобой делит еще четырнадцать человек, сделай очередной глоток.
По теории живописи учат, что женщины выбирают мужчин с выпуклым лбом и крупным квадратным подбородком. Это было в исследовании какого-то социолога из Академии Уэст-Пойнт. Там было доказано, что именно прямоугольной формы лица, глубоко посаженные глаза и плотно прилегающие к голове уши делают мужчину привлекательным.
Так и выглядит детектив Стилтон, плюс пара фунтов избыточного веса. В этот момент он не улыбается, но морщины, изрезавшие его щеки, и лучики у его глаз говорят о том, что улыбается он много. Улыбается он чаще, чем хмурится. Шрамы, оставленные счастьем. Может быть, это из-за избыточного веса, но складочные морщины между глаз и морщины от поднятия бровей на его лбу, линии беспокойства, практически незаметны.
Все это, и на лбу – дьяволовы рога.
Все это маленькие визуальные сигналы, на которые реагируют люди. Шифр привлекательности. Именно поэтому нам нравится то, что нравится. Осознаешь ты это или нет, они и есть причина того, почему мы делаем то, что делаем.
Вот так мы узнаем то, чего не знаем.
Морщины как анализ почерка. Как графология. Энджела бы впечатлило.
А наш дорогой милый Питер отращивал черные волосы до такой длины потому, что у него торчали уши.
У тебя торчали уши.
У Тэбби уши ее отца. Длинные волосы Тэбби – как у него.
Как у тебя.
Стилтон говорит:
– Жизнь в этих краях меняется, и много кому это может не понравиться. Если ваш муж действует не в одиночку, мы можем наблюдать погромы. Поджог. Убийства.
Мисти стоит глянуть вниз, и она начинает падать. Стоит ей повернуть голову, у нее мутнеет в глазах, и вся комната на мгновение смазывается.
Мисти отрывает счет детектива с планшетки и кладет его на стол, со словами:
– Что-нибудь еще?
– Еще только один вопрос, миссис Уилмот, – отвечает тот. Отхлебывает чаю со льдом из стакана, разглядывая ее поверх ободка. И говорит:
– Я хотел бы переговорить с вашими свояками – с родителями вашего мужа – если это возможно.
Мать Питера, Грэйс Уилмот, остановилась здесь, в гостинице, сообщает ему Мисти. Отец Питера, Гэрроу Уилмот, умер. Примерно четырнадцать или пятнадцать лет назад.
Детектив Стилтон делает очередную заметку. Спрашивает:
– Как умер ваш свекор?
От сердечного приступа, как кажется Мисти. Она не уверена.
А Стилтон замечает:
– Звучит так, будто вы не очень хорошо знакомы с родителями мужа.
Головная боль тюк-тюк-тюкает в затылок ее черепа, а Мисти спрашивает:
– Вы вроде говорили – хотите чашку кофе?
16 июля
ДОКТОР ТУШЕ СВЕТИТ фонариком Мисти в глаза и просит ее поморгать. Заглядывает ей в уши. Заглядывает в нос. Гасит свет в кабинете и заставляет ее при этом светить фонариком себе в рот. В точности как фонарик Энджела Делапорта, заглядывающий в дырку в стене столовой. Это старая уловка врача, чтобы подсветить ноздри: они расстилаются, отсвечивая красным под кожей носа, и можно проверить их на тени, которые означают закупорку, заражения. Пазушную мигрень. Он отклоняет голову Мисти назад и всматривается в горло.
Спрашивает:
– Почему ты говоришь, что это пищевое отравление?
И Мисти рассказывает ему о поносе, спазмах, головной боли. Мисти рассказывает ему обо всем, кроме галлюцинаций.
Он накачивает браслет для измерения давления крови, надетый на ее руку, и выпускает воздух. С каждым ударом ее сердца, они оба наблюдают за стрелкой давления на шкале. Боль в ее голове, каждый скачок совпадает с ударом пульса.
Потом с нее снимают блузку, и доктор Туше поднимает ей руку, прощупывая подмышку. На нем очки, и он смотрит в стену позади, пока работает пальцами. В зеркале на стене Мисти видно их обоих. Ее лифчик кажется так туго натянутым, что лямки врезаются в плечи. Кожа переваливается за пояс слаксов. В ожерелье из жемчужной бижутерии, охватывающем сзади ее шею, жемчужины тонут в глубокой складке жира.
А пальцы доктора Туше пробираются, ввинчиваются, вгрызаются в ее подмышку.
Окна приемной застеклены матированным стеклом, и на крючке со внутренней стороны двери висит блузка. В этом же самом кабинете Мисти обзавелась Тэбби. Стены, обложенные бледно-зеленой плиткой, пол, устланный белой. Здесь родился Питер. И Полетт тоже. И Уилл Таппер. И Мэтт Хайленд. И Брэтт Питерсен. Как и все на острове, кто младше пятидесяти. Так мал этот остров. Доктор Туше еще работает гробовщиком. Он готовил Питерова отца, Гэрроу, к погребению. К кремации.
Твоего отца.
В Гэрроу Уилмоте было все, что хотела Мисти увидеть в Питере с возрастом. Как мужчины, которые знакомятся с потенциальными тещами, чтобы иметь представление о том, как будет выглядеть невеста через последующие двадцать лет, так поступила и Мисти. Гарри оказался бы мужчиной, за которым Мисти была бы замужем в зрелом возрасте. Высокий, с седыми бакенбардами, прямым носом и длинным раздвоенным подбородком.
Сейчас, когда Мисти закрывает глаза и пытается представить себе Гэрроу Уилмота, ей видится только его пепел, развеянный над скалами Уэйтензийского мыса. Длинное серое облако.
Мисти неизвестно, в этом ли самом кабинете доктор Туше проводит бальзамирования. Если он доживет, ему предстоит готовить тело Грэйс Уилмот. Доктор Туше был единственным врачом на месте происшествия, когда нашли Питера.
Когда нашли тебя.
Если вилку когда-нибудь выдернут, он наверняка будет готовить тело.
Твое тело.
Доктор Туше прощупывает кожу под руками. Роется в поисках узелков. В поисках рака. Он точно знает, где нужно надавить на спину, чтобы заставить тебя откинуть голову. Поддельные жемчужины глубоко тонут позади ее шеи. Его глаза, зрачки слишком разведены в стороны, и видно, что на тебя он не смотрит. Он мычит какую-то мелодию. Сосредоточившись на чем-то отстраненном. Нетрудно заметить, что он привычен к работе с мертвыми.
Сидя на столе для осмотра, разглядывая их двоих в зеркало, Мисти спрашивает:
– А что было там, на мысу?
А доктор Туше подскакивает от испуга. Поднимает взгляд, выгибая брови от удивления.
Будто какое-то мертвое тело взяло и заговорило.
– Там, на Уэйтензийском мысу, – повторяет Мисти. – Там статуи, как будто раньше это был парк. Что там было?
Глубоко прощупывая пальцем сухожилия на ее затылке, он отвечает:
– До того, как в наших краях появился крематорий, там находилось наше кладбище.
Было бы приятно, если бы пальцы не были так холодны.
Но Мисти не видела никаких надгробий.
Его пальцы прощупывают лимфоузлы у нее под челюстью, он говорит:
– Был там мавзолей, вырытый в холме, – глаза его пялятся в стену, он хмурится и продолжает. – Как минимум две сотни лет назад. Грэйс могла бы рассказать тебе больше, чем я.
Тот грот. Маленькое каменное банковское здание. Капитолий штата с причудливыми колоннами и резной аркой над входом, весь рассыпающийся, удерживаемый корнями деревьев. Закрытые железные ворота, внутри – тьма.
Головная боль, – тюк-тюк-тюк, – загоняет гвоздь все глубже.
Дипломы на выложенной в зеленую плитку стене кабинета пожелтевшие, мутнеют под стеклом. В пятнах сырости. Обгаженные мухами. «Дэниэл Туше, доктор медицины». Сжимая ее запястье в двух пальцах, доктор Туше проверяет пульс по наручным часам.
Треугольная мышца тянет вниз уголки его рта, хмуря лицо; он прикладывает холодный стетоскоп ей между лопаток. Просит:
– Мисти, прошу тебя сделать глубокий вдох и задержать дыхание.
Холодные тычки стетоскопа бродят по ее спине.
– Теперь выдох, – говорит он. – И снова вдох.
Мисти интересуется:
– Не знаете, у Питера не бывало вазэктомии? – снова глубоко вдыхает и продолжает. – Питер сказал мне, что Тэбби – чудо Господне, вот я и не сделала аборт.
А доктор Туше спрашивает:
– Мисти, сколько ты нынче пьешь?
Как же мал этот сраный городок. А бедная Мисти Мария – местная алкоголичка.
– В гостиницу приходил детектив из полиции, – сообщает Мисти. – Спрашивал, нет ли в наших краях, на острове, Ку-клукс-клана.
А доктор Туше говорит:
– Самоумерщвление твою дочь не спасет.
По речам – как ее муж.
Как ты, дорогой милый Питер.
А Мисти интересуется:
– Не спасет мою дочь от чего? – поворачивается, чтобы смотреть ему в глаза, и спрашивает. – В наших краях есть нацисты?
А доктор Туше, глядя на нее, говорит с улыбкой:
– Нет, конечно.
Идет к столу и подбирает папку с парой листов бумаги внутри. Вписывает что-то в папку. Бросает взгляд на календарь, висящий на стене над столом. Смотрит на часы и вносит записи в папку. Его почерк, – низко свисающие с линеечки хвостики букв, – подсознателен, импульсивен. Жадный, алчный, злобный, сказал бы Энджел Делапорт.
Доктор Туше интересуется:
– Так что, занимаешься в последнее время чем-то новым?
А Мисти отвечает ему – да. Она рисует. Впервые со времен колледжа, Мисти рисует, понемногу пишет картины, в основном акварели. В мансарде. В свободное время. Она установила мольберт так, чтобы видеть из окна всю береговую линию, до самого Уэйтензийского мыса. Она каждый день работает над какой-нибудь картиной. Вырабатывает из воображения. Перечень грез белой оборванной девчонки: большие дома, венчания в церкви, пикники на пляже.
Вчера Мисти работала, пока не обнаружила, что на улице темно. Пять или шесть часов попросту исчезли. Испарились, как пропавшая бельевая кладовка в Сивью. Канули в Бермудский треугольник.
Мисти рассказывает доктору Туше:
– Голова болит постоянно, но когда рисую, я не так сильно чувствую боль.
Стол у него – из крашеного металла, вроде стального верстака, такие стоят в кабинетах инженеров или счетоводов. Такой вот, с ящиками, которые выкатываются на гладких роликах и захлопываются с громом или с громким «бум». Обивка – зеленый войлок. Над ним, на стене – календарь, древние дипломы.
Доктор Туше, с его пятнистой лысеющей головой и пучком длинных ломких волос зачесанных от уха к уху, мог бы сойти за инженера. Он, в массивных круглых очках в стальной оправе, в массивных наручных часах с металлическим браслетом, мог бы сойти за счетовода. Он спрашивает:
– Ты училась в колледже, верно?
На худфаке, говорит ему Мисти. Она не закончила. Она ушла. Они переехали сюда, когда умер Гэрроу, чтобы присматривать за матерью Питера. Потом появилась Тэбби. Потом Мисти уснула, – а проснулась толстой, усталой и постаревшей.
Доктор не смеется. Трудно его винить.
– На занятиях по истории, – спрашивает он. – Ты проходила джайнистов? Джайн-буддистов?
«Не по истории же искусств», – отвечает Мисти.
Он выдвигает один из ящиков стола и вынимает желтый пузырек с пилюлями.
– Предупреждаю как могу, – говорит он. – Не подпускай Тэбби к ним ближе, чем на десять футов.
Выщелкивает крышку и вытряхивает парочку себе в руку. Это прозрачные желатиновые капсулы, из тех, что разнимаются на две половинки. Внутри каждой свободно пересыпается темно-зеленый порошок.
Послание под краской, отслоившейся с оконной рамы Тэбби: «Ты умрешь, как только с тобой покончат».
Доктор Туше подносит пузырек к ее лицу и говорит:
– Принимай их только когда больно, – этикетки нет. – Это травный сбор. Чтобы помочь сосредоточиться.
Мисти интересуется:
– А от синдрома Стендаля умирали?
А доктор продолжает:
– В основном тут зеленая водоросль, немного коры белой ивы, немного пчелиной пыльцы.
Кладет капсулы обратно, в пузырек, и защелкивает крышку. Ставит пузырек на стол у ее бедра.
– Можешь выпивать и дальше, – говорит. – Но только в меру.
Мисти возражает:
– А я только в меру и пью.
А он, отворачиваясь к столу, отзывается:
– Как скажешь.
Сраные маленькие городки.
Мисти интересуется:
– От чего умер папа Питера?
А доктор Туше спрашивает:
– Грэйс Уилмот тебе что рассказывала?
Ничего не рассказывала. Не упоминала об этом. Когда пепел развеяли, Питер сообщил Мисти, что от сердечного приступа.
Мисти говорит:
– Грэйс сказала, что от опухоли мозга.
А доктор Туше отзывается:
– Да-да, от нее, – с грохотом задвигает ящик металлического стола. Продолжает. – Грэйс говорит, ты проявляешь очень многообещающий талант.
Просто на заметку: погода сегодня тихая и солнечная, но ветер так и бздит.
Мисти спрашивает об этих буддистах, которых он упоминал.
– Джайн-буддисты, – говорит он. Снимает со внутренней стороны двери блузку и вручает ей. Под рукавами на ткани кольцами проступают сырые пятна пота. Доктор Туше суетится вокруг Мисти, подавая блузку, чтобы она просунула руки вовнутрь.
Говорит:
– Я о том, что для человека искусства хроническая боль бывает временами как дар свыше.
17 июля
КОГДА ОНИ учились, Питер частенько повторял, мол, все, что ты делаешь – это автопортрет. Он может быть похож на «Святого Георгия и змия», или же на «Похищение сабинянок», но твой угол кисти, освещение, композиция, приемы – все это ты сам. Даже повод, почему ты выбираешь именно эту сцену – ты сам. Ты в каждой краске и мазке.
Питер частенько говорил:
– Единственное, на что способен художник – описать собственное лицо.
Ты обречен быть собой.
Этот факт, говорил он, оставляет нам свободу рисовать что угодно, ведь изображаем-то мы только себя.
Почерк. Походка. Выбранный тобой фарфоровый сервиз. Все выдает. Все твои дела выдают твою руку.
Всё – автопортрет.
Всё дневник.
За пятьдесят долларов Энджела Делапорта Мисти покупает круглую акварельную кисть номер пять бычьего волоса. Покупает толстую беличью кисть номер 4 для акварельных красок. Круглую кисть верблюжьего волоса номер 2. Плоскую тонкую кисть номер 6 из соболя. И широкую плоскую лазурную кисть номер 12.
Мисти покупает акварельную палитру, круглый алюминиевый поднос с десятью мелкими чашечками, вроде сковороды для жарки оладий. Покупает несколько тюбиков гуаши. «Кипрский зеленый», «виридевый озерный зеленый», «кленовый зеленый» и «винзорский зеленый». Покупает «прусский синий» и «мареновый кармин». Покупает «гаванский озерный черный» и «черный слоновая кость».
Мисти покупает молочный художественный корректор, чтобы покрывать им свои оплошности. И желтый как моча подмалевок, для ранних мазков, чтобы оплошности можно было стереть. Покупает гуммиарабик янтарного цвета, как некрепкое пиво, Чтобы краски на бумаге не просачивались друг в друга. И прозрачную зернистую основу, чтобы придать краскам зернистость.
Покупает стопку акварельной бумаги, мелкозернистой бумаги холодного прессования, 19 на 24 дюйма. Торговое наименование этого формата – «ройял». Бумага 23 на 28 дюймов – это «элефант». Бумага 26,5 на 40 дюймов называется «двойной элефант». Это бескислотная 140-фунтовая бумага. Она покупает планшеты для рисования – холст, наклеенный на картон. Покупает планшеты размером «супер-ройял», «империал» и «антиквар».
Тащит все это на кассу, и выходит настолько дороже пятидесяти долларов, что ей приходится записать все на кредитку.
Когда тебя одолевает искушение свистнуть тюбик жженой охры, время принять одну из пилюлек доктора Туше с зелеными водорослями.
Питер говаривал, что задача художника – выстроить порядок из хаоса. Собираешь детали, ищешь общую линию, организовываешь. Придаешь смысл бессмысленным фактам. Выкладываешь головоломку из кусочков окружающего мира. Перемешиваешь и реорганизуешь. Комбинируешь. Монтируешь. Свинчиваешь.
Когда ты на работе, и за каждым столиком в твоем отделе все чего-то ждут, а ты все прячешься в кухне и делаешь наброски на клочках бумаги – время принять пилюлю.
Когда вручаешь людям счет за ужин, а на обороте тобой выполнен маленький набросок в светотени, – ты даже не знаешь, откуда он – картинка просто пришла тебе на ум. В ней ничего нет, но потерять ее страшно. Значит, время принять пилюлю.
– Эти бесполезные детали, – частенько повторял Питер. – Бесполезны лишь до того, как ты соберешь их в целое.
Питер говаривал:
– Все на свете само по себе – ничто.
Просто на заметку: сегодня в столовой Грэйс Уилмот и Тэбби стали перед стеклянным шкафом, который почти загораживает одну из стен. Внутри него – фарфоровые блюда, размещенные в стойках под неяркой подсветкой. Чашки на блюдцах. Грэйс Уилмот указывает на них по очереди. А Тэбби выставляет указательный палец и называет:
– "Фитц и Флойд"… «Вэджвуд»… «Норитэйк»… «Линокс»…
И Тэбби, мотая головой, складывает руки и поправляется:
– Нет, неправильно, – говорит. – У сервиза «Оракл-Гроув» золотые ободки в четырнадцать карат. У «Винус-Гроув» – в двадцать четыре карата.
Твоя юная дочь, эксперт в редких фарфоровых сервизах.
Твоя юная дочь, теперь тинэйджер.
Грэйс Уилмот тянется и убирает пару прядей Тэбби за ухо, со словами:
– Клянусь, этот ребенок – нашей крови.
С подносом закусок на плече, Мисти задерживается на время, чтобы спросить Грэйс:
– От чего умер Гэрроу?
А Грэйс отворачивается от фарфора. Ее мышца orbicularis oculi широко распахивает глаза, она интересуется:
– Почему ты спрашиваешь?
Мисти упоминает визит к врачу. К доктору Туше. И что Энджел Делапорт считает, будто почерк Питера гласит о какой-то связи с его папой. Все те детали, которые ничего не значат по отдельности.
А Грэйс интересуется:
– Доктор дал тебе пилюли?
Поднос тяжелый, а еда стынет, но Мисти продолжает:
– Док говорит, у Гэрроу был рак печени.
Тэбби указывает пальцем и называет:
– "Горхэм"… «Дэнск»…
А Грэйс улыбается:
– Ну конечно. Рак печени, – говорит. – Почему ты спрашиваешь? – говорит. – Я думала, тебе сказал Питер.
Просто на заметку, погода сегодня – туманная, с очень противоречивыми историями о причине смерти твоего отца. Ни одна деталь ничего не значит сама по себе.
И Мисти отвечает – ей некогда говорить. Слишком занята. Сейчас утренний наплыв. Может – позже.
На худфаке Питер, бывало, рассказывал про художника Джеймса Мак-Нейла Уистлера, и о том, как Уистлер работал в инженерных войсках американской армии, зарисовывал окрестности береговой линии для проектов маяков. Беда была в том, что Уистлер беспрестанно малевал на полях наброски крошечных фигурок. Рисовал старух, детей, нищих, – все, что видел на улицах. Выполнял работу, документировал для правительства ландшафт, но не мог проигнорировать все остальное. Не мог позволить ничему ускользнуть. Курящих трубки мужчин. Детишек, гоняющих обруч. Собирал их всех в каракулях на полях своей официальной работы. Естественно, за это правительство упрятало его за решетку.
– Эти каракули, – говаривал Питер. – Сейчас стоят миллионы.
Говаривал ты.
В Древесно-золотой столовой сливочное масло подают в глиняных блюдечках, только теперь на каждой пластинке выцарапана маленькая картина. Маленький набросок.
На картинке может быть дерево, или, в редком случае, линия холма со склоном из воображения Мисти, справа налево. Там утес, и водопад с нависающего каньона, и крошечное ущелье, полное теней и замшелых булыжников, и лозы, обвивающей толстые стволы деревьев, и к тому времени, как она вообразила все до конца и зарисовала на бумажной салфетке, люди отправились на автостанцию, чтобы сами себе набрать кофе. Люди взялись стучать по стаканам вилками, чтобы привлечь ее внимание. Щелкать пальцами. Эти летние люди.
Не давали чаевых.
Откос холма. Горный ручей. Пещера в речном береге. Завитки плюща. Все эти подробности пришли к ней на ум, и Мисти попросту не могла оставить их. К концу вечерней смены у нее набрались обрывки салфеток, бумажных полотенец и чеков по кредиткам, все с зарисовками одной из деталей.
В мансарде, в куче обрывков бумаги, она собрала узоры листьев и цветов, которых никогда не видела. В другой куче у нее абстрактные контуры, похожие на скалы и горные вершины на горизонте. Тут – ветвистые очертания деревьев, пучки кустов. Что-то, похожее на шиповник. На птиц.
Непонятному можно придать любой смысл.
Когда ты часами сидишь на унитазе, набрасывая не пойми что на листе туалетной бумаги, пока у тебя вот-вот отвалится задница – прими пилюлю.
Когда ты вообще бросаешь спускаться на работу, попросту остаешься в комнате и звонишь в обслуживание номеров. Рассказываешь всем, что ты больна, чтобы получить возможность оставаться здесь день и ночь, зарисовывая пейзажи, которые ты никогда не видела – время принять пилюлю.
Когда стучится твоя дочь, и упрашивает поцеловать ее перед сном, а ты повторяешь ей идти в постель, и что ты будешь через минутку, и в конце концов ее бабушка уводит ее от двери, и ты слышишь ее плач, пока они идут по коридору – прими две пилюли.
Когда ты обнаруживаешь браслет из поддельных самоцветов, который она просунула под дверь – прими еще одну.
Когда никто будто не обращает внимания на твое плохое поведение, каждый просто улыбается и спрашивает:
– Ну что, Мисти, как продвигается рисование? – время пить пилюлю.
Когда из-за головной боли ты не можешь есть. Когда с тебя спадают штаны, потому что зад исчез. Когда проходишь мимо зеркала, и не узнаешь худенькую обвисшую тень, которую видишь. А руки перестают трястись лишь тогда, когда ты держишь кисть или карандаш. Тогда прими пилюлю. И, прежде чем пузырек опустошен тобой наполовину, доктор Туше оставляет еще пузырек на конторке на твое имя.
Когда ты попросту не можешь прекратить работу. Когда не представляешь себе ничего, кроме завершения этого проекта. Тогда прими пилюлю.
Потому что Питер прав.
Ты прав.
Потому что важно все. Каждая деталь. Почему – пока никто и не знает.
Всё – автопортрет. Всё дневник. Весь твой лекарственный анамнез – в пряди твоих волос. В твоих ногтях. Судебные улики. Содержимое твоего желудка – документ. Мозоли на руке выдают все твои секреты. Зубы тебя выдают. Акцент. Морщинки у рта и глаз.
Все твои дела выдают твою руку.
Питер частенько повторял – дело художника – проявлять внимание, собирать, организовывать, складировать, хранить, потом составить отчет. Документировать. Создать презентацию. Дело художника – попросту не забывать.
21 июля – Луна на три четверти
ЭНДЖЕЛ ДЕЛАПОРТ поднимает один рисунок, потом второй, – все акварелью. Они на разные темы: на некоторых – лишь контур странного горизонта, на некоторых – пейзажи залитых солнцем полей. Сосновых лесов. Очертания поселка или дома в среднем плане. В лице Энджела двигаются только глаза, прыгая туда-сюда по каждому листу бумаги.
– Потрясающе, – говорит он. – Вы ужасно выглядите, но ваши работы… Боже.
Просто на заметку – наши Мисти и Энджел в Ойстервилле. Это чья-то пропавшая «большая комната». Они пробрались через очередную дыру, чтобы нащелкать снимков и увидеть граффити.
Твои граффити.
Внешний вид Мисти, то, как она не может согреться даже в двух свитерах, как у нее стучат зубы. Как трясется ее рука, когда она протягивает Энджелу рисунок, – из-за нее плотная акварель трепещет. Это какой-то кишечный микроб, оставшийся с пищевого отравления. Даже здесь, в полумраке запечатанной комнаты, где единственный свет – тот, что просачивается сквозь шторы, – она в очках от солнца.
Энджел таскает туда-сюда сумку с фотоаппаратом. Мисти принесла портфолио. Это ее старый, черный пластиковый, со времен учебы, тоненький чемоданчик со змейкой, опоясывающей его по трем краям, чтобы открывался и раскладывался плашмя. Тонкие полоски-резинки удерживают акварельные рисунки с одной стороны портфолио. С другой стороны в кармашки разных размеров прячутся наброски.
Энджел щелкает снимки, а Мисти раскладывает портфолио на диване. Когда она вынимает пузырек с пилюлями, ее рука так сильно трясется, что слышно, как внутри гремят капсулы. Выуживая капсулу из пузырька, она поясняет Энджелу:
– Зеленая водоросль. От головной боли, – Мисти кладет капсулу в рот и предлагает. – Идите, гляньте на пару рисунков, и скажите свое мнение.
Диван пересекает какая-то Питерова надпись. Его черные слова ползут по семейным фото в рамочках на стене. По вышитым подушкам. По шелковым абажурам. Он задернул плиссированные шторы и краской вывел слова поперек их внутренней стороны.
Ты вывел.
Энджел берет из ее руки пузырек и поднимает его к свету, падающему из окна. Трясет пузырек с капсулами. Говорит:
– Здоровые.
Желатиновая капсула у нее во рту размягчается, и внутри вкус соленой фольги, вкус крови.
Энджел вручает ей фляжку джина, извлеченную из сумки для фотоаппарата, и Мисти с бульканьем заглатывает полный рот горечи. Просто на заметку – она пьет его выпивку. На худфаке учат, что в среде наркотиков существует этикет. Положено делиться.
Мисти предлагает:
– Выручайте себя. Берите одну.
А Энджел отщелкивает крышку пузырька и вытряхивает парочку. Роняет одну в карман, со словами:
– На потом.
Заглатывает оставшуюся с джином и корчит жуткую гусиную гримасу, склонившись вперед и выставив красно-белый язык. Зажмурив глаза.
Эммануил Кант и подагра. Кэрен Бликсен и сифилис. Питер сообщил бы Энджелу Делапорту, что страдание – ключ к его вдохновению.
Раскладывая наброски и акварели по дивану, Мисти спрашивает:
– Что скажете?
Энджел по очереди кладет каждую картину и поднимает следующую. Качая головой – «нет». Одной только прической, из стороны в сторону, как в параличе. Говорит:
– Просто невероятно.
Поднимает еще картину и спрашивает:
– Вы какими принадлежностями пользуетесь?
Какой кистью?
– Соболевой, – отвечает Мисти. – Иногда беличьей или бычьего волоса.
– Да нет же, глупая, – говорит он. – На компьютере, для набросков. Не могли же вы сделать такое ручными приспособлениями, – он стучит пальцем по замку на одном рисунке, потом стучит по коттеджу на другом.
Ручными приспособлениями?
– Вы же пользуетесь не только линейкой и циркулем, так? – допрашивает Энджел. – И транспортиром? У вас получаются точные, идеальные углы. Вы используете трафарет или лекало, верно?
Мисти спрашивает:
– Что такое «циркуль»?
– Ну, как в школьной геометрии, – объясняет Энджел, растопыривая большой и указательный палец и демонстрируя. – На одной ножке иголка, в другую вставляют карандаш, чтобы строить идеальные кривые и окружности.
Он поднимает картину с домом на склоне холма, над берегом моря, где океан и деревья переданы просто оттенками синего и зеленого. Единственный теплый цвет – желтая точка, огонек в окне.
– Эту я мог бы разглядывать вечно, – говорит.
Синдром Стендаля.
Говорит:
– Я дам вам за нее пятьсот долларов.
А Мисти отзывается:
– Не могу.
Он вынимает из портфолио еще экземпляр и спрашивает:
– А как насчет этой?
Она не может продать ни одну.
– Как насчет тысячи? – предлагает он. – Я дам вам тысячу за одну эту.
Тысяча баксов. Но Мисти все равно отвечает:
– Нет.
Глядя на нее, Энджел говорит:
– Тогда я даю вам десять тысяч за все вместе. Десять тысяч долларов. Наличными.
Мисти берется ответить «нет», но -
Энджел говорит:
– Двадцать тысяч.
Мисти вздыхает, и -
Энджел говорит:
– Пятьдесят тысяч долларов.
Мисти смотрит в пол.
– Ну почему, – недоумевает Энджел. – У меня возникает чувство, что вы ответите «нет» и на миллион долларов?
Потому что эти картины незакончены. Они не совершенны. Их нельзя показывать людям – пока нельзя. Есть еще многие, которые она даже не начала. Мисти не может продать их, потому что они нужны ей, как эскизы для чего-то большего. Они все – части чего-то, что она пока не видит. Они – подсказки.
Кто знает, почему мы делаем то, что делаем.
Мисти спрашивает:
– Зачем вы предлагаете мне столько денег? Это что – какая-то проверка?
А Энджел расстегивает змейку на сумке от фотоаппарата, со словами:
– Хочу вам кое-что показать.
Вынимает несколько металлических блестящих инструментов. Первый – пара острых прутов, которые соединяются одним концом, образуя букву "V". Второй – металлический полукруг, в форме буквы "D", размеченный дюймами по прямой стороне.
Энджел приставляет металлическую "D" к наброску с сельским домиком и говорит:
– Все ваши прямые линии – абсолютно прямые.
Прикладывает "D" к акварели с коттеджем, – а ее линии совершенны.
– Это транспортир, – поясняет он. – Им измеряют углы.
Энджел прикладывает транспортир к одному рисунку за другим, повторяя:
– Все ваши углы как один идеальны. Идеальны углы в девяносто градусов. Идеальны углы в сорок пять градусов, – говорит. – Я заметил это еще по рисунку с креслом.
Он берет инструмент в форме буквы "V" и продолжает:
– Это циркуль. Им рисуют идеальные кривые и окружности.
Тыкает острой ножкой циркуля в центр наброска углем. Вертит вторую ножку вокруг первой и комментирует:
– Каждая окружность идеальна. Каждый подсолнух и птичье гнездо. Каждая кривая – идеальна.
Энджел указывает на ее рисунки, разложенные по зеленому дивану, и говорит:
– Вы строите идеальные геометрические фигуры. Этого не может быть.
Просто на заметку, погода сегодня – в этот момент – очень, очень разозлена.
Единственный человек, который не ждет от Мисти великого художества, заявляет ей, мол, этого не может быть. Когда твой единственный друг говорит, что тебе ни за что не оказаться великой художницей, – способной художницей, со врожденным талантом, – прими пилюлю.
Мисти говорит:
– Послушайте, мы с мужем ходили на худфак, – говорит. – Нас учили рисовать.
А Энджел расспрашивает – она обводила фотографию? Мисти воспользовалась эпидиаскопом? Камерой обскурой?
Послание от Констенс Бартон – «Ты способна проделать это в уме».
А Энджел вынимает из своей сумки от фотоаппарата фломастер и вручает ей, со словами:
– Вот, – указывает на стену и просит. – Прямо здесь – нарисуйте мне окружность с диаметром в четыре дюйма.
Мисти, даже не глядя, фломастером рисует ему окружность.
А Энджел прикладывает прямой край транспортира, край, размеченный дюймами, к окружности. И на нем четыре дюйма. Просит:
– Нарисуйте мне угол в тридцать семь градусов.
Чирк– чирк, и Мисти помечает на стене две пересекающиеся линии.
Он прикладывает транспортир – а на том ровно тридцать семь градусов.
Он заказывает окружность в восемь дюймов. Линию в шесть дюймов. Угол в семьдесят градусов. Идеальную кривую в форме буквы "S". Равносторонний треугольник. Квадрат. И Мисти мгновенно все их изображает.
Если верить линейке, транспортиру, циркулю – все они идеальны.
– Видите, о чем я? – спрашивает он. Тычет ей в лицо концом циркуля и говорит. – Что-то не так. Сначала что-то не так было с Питером, а теперь – и с вами не так.
Просто на заметку: кажется, Энджелу Делапорту больше нравилось таскаться с ней, когда она была жирной сраной чушкой, и не более. Горничной из Уэйтензийской гостиницы. Закадыкой, которой можно читать лекции про Станиславского или графологию. Сначала ее поучал Питер. Теперь Энджел.
Мисти говорит:
– Я вижу только одно: вы не в состоянии смириться с тем, что у меня может оказаться такой потрясающий врожденный дар.
А Энджел подскакивает от испуга. Поднимает взгляд, выгибая брови от удивления.
Будто какое-то мертвое тело взяло и заговорило.
Говорит:
– Мисти Уилмот, вы бы себя послушали!
Энджел трясет направленным на нее циркулем и говорит:
– Это не просто талант, – указывает пальцем на идеальные окружности и углы, намалеванные на стене, и заявляет. – Это нужно показать полиции.
Заталкивая рисунки и наброски обратно, в портфолио, Мисти спрашивает:
– То есть как? – застегивая змейку, говорит. – Чтобы меня арестовали за то, что я слишком хорошо рисую?
Энджел вынимает фотоаппарат и прокручивает пленку на следующий кадр. Отщелкивает прикрепленную сверху вспышку. Глядя на нее в видоискатель, говорит:
– Нам нужно больше доказательств, – просит. – Нарисуйте мне шестиугольник. Нарисуйте мне пентаграмму. Нарисуйте мне идеальную спираль.
И Мисти исполняет фломастером одно, затем другое. Руки у нее перестают трястись только тогда, когда она рисует или пишет картину.
На стене напротив нее Питером нацарапано – «…мы уничтожим вас с вашей суетливой жадностью…»
Тобой нацарапано.
Ослепленные вспышкой, они не замечают хозяйку, которая просунула в дыру голову. Которая разглядывает Энджела, делающего снимки. Разглядывает Мисти, рисующую на стене. И хозяйка хватается руками за голову, и спрашивает:
– Какого черта вы творите? Стойте! – говорит. – Вы, господа, уже что – художественный проект здесь проводите?
24 июля
ПРОСТО ЧТОБ ТЫ ЗНАЛ – сегодня звонил детектив Стилтон. Он хочет нанести Питеру небольшой визит.
Хочет нанести тебе небольшой визит.
Спрашивает по телефону:
– Когда умер ваш свекор?
Пол вокруг Мисти, кровать, вся ее комната – усеяны сырыми шариками акварельной бумаги. Скомканные пучки голубой лазури и «винзорского зеленого» доверху заполняют коричневый магазинный пакет, в котором она принесла домой рисовальные принадлежности. Свои простые карандаши, цветные карандаши, масляные, акриловые и гуашевые краски – она перевела все их на мусор. Ее жирные масляные пастели и мягкие пастельные мелки стерлись до одних шишечек, таких маленьких, что их уже нельзя удержать. Бумага почти кончилась.
Чему не учат на худфаке – это как вести телефонный разговор и рисовать одновременно. Удерживая в одной руке трубку, а в другой – кисть, Мисти отзывается:
– Папа Питера? Четырнадцать лет назад, разве нет?
Смазывая краски ребром ладони, смешивая их подушечкой большого пальца, Мисти не лучше Гойи, устраивает себе свинцовую энцефалопатию. Глухоту. Депрессию. Местное отравление.
А детектив Стилтон говорит:
– Нет записей, подтверждающих, что Гэрроу Уилмот умирал.
Чтобы заострить кончик кисти, Мисти скручивает его во рту. Мисти отвечает:
– Мы развеяли его пепел, – говорит. – Это был сердечный приступ. А может – опухоль мозга.
Краски кислят на языке. Краска скрипит на коренных зубах.
А детектив Стилтон говорит:
– Нет свидетельства о смерти.
Мисти отзывается:
– Может, они инсценировали его смерть, – она уже не знает, что предположить. Грэйс Уилмот и доктор Туше – весь этот остров занят сохранением образа.
А Стилтон спрашивает:
– В смысле, кто – они?
Нацисты. Ваш Клан.
Лазурной верблюжьей кистью номер 12 она кладет идеальный голубой мазок над деревьями на идеальном ломаном горизонте идеальных гор. Соболевой кистью номер 2 она кладет солнечный блик на гребень каждой идеальной волны. Кривые и прямые идеальны, и углы точны, и в жопу Энджела Делапорта.
Просто на заметку: на бумаге погода такая, как прикажет Мисти. Идеальная.
Просто на заметку, детектив Стилтон спрашивает:
– Что заставляет вас думать, будто ваш свекор мог инсценировать свою смерть?
Мисти говорит, мол, она просто пошутила. Конечно Гарри Уилмот мертв.
Беличьей кистью номер 4 она усыпает лес тенями. Она потратила целые дни здесь, взаперти в этой комнате, а все сделанное ей и вполовину не дотягивает по удачности до рисунка с креслом, исполненного в обгаженных трусах. Там, на Уэйтензийском мысу. Когда ее преследовали галлюцинации. С закрытыми глазами и пищевым отравлением.
И этот единственный рисунок она продала за вшивые пятьдесят баксов.
Детектив Стилтон спрашивает по телефону:
– Вы еще здесь?
Мисти отзывается:
– Что понимать под здесь.
Говорит:
– Сходите. Повидайте Питера.
Кладет идеальные цветы на идеальный луг нейлоновой кистью номер 2. Где Тэбби – Мисти не знает. Должна ли Мисти в этот миг быть на работе или нет – ей плевать. Она уверена в одном – она работает. Голова у нее не болит. Руки не трясутся.
– Проблема в том, – говорит Стилтон. – Что в больнице настаивают на вашем присутствии, когда я буду видеться с вашим мужем.
А Мисти отвечает, что не может. Ей нужно рисовать. Ей нужно воспитывать тринадцатилетнего ребенка. У нее вторая неделя мигрени. Соболевой кистью номер 4 она прокладывает по лугу светло-серую полосу. Выстилая по траве пол. Она выкапывает яму. Утапливает фундамент.
На бумаге перед ней рисовальная кисть уничтожает деревья и утаскивает их прочь. Коричневой краской Мисти вгрызается в откос холма. Мисти реградирует. Кисть врезается под траву. Цветочков больше нет. Белые каменные стены восстают из ямы. В стенах распахиваются окна. Восходит башня. Над центром постройки набухает купол. От дверей бегут вниз ступени. Вдоль террас бегут перила. Взмывает еще одна башня. Стелется еще крыло, покрывая больше луга и отталкивая лес.
Это Ксенеду. Это Сан-Симеон. Бильтмор. Мар а Лаго. Такое строят люди с деньгами, чтобы получить защиту и одиночество. Это края, от которых люди ждут счастья. Это новенькое здание – всего-навсего обнаженная душа богача. Рай на замену, для людей, которые слишком богаты, чтобы попасть в настоящий.
Можно рисовать что угодно, потому что раскрываешь ты только саму себя, и ничего кроме.
А в трубке чей-то голос спрашивает:
– Сможем мы, к примеру, завтра в три, миссис Уилмот?
Вдоль идеального ската крыши одного из крыльев появляются статуи. Бассейн раскрывается на одной из идеальных террас. Луга почти не остается, и новый пролет ступеней сбегает к опушке идеального леса.
Всё – автопортрет.
Всё дневник.
А голос в трубке зовет:
– Миссис Уилмот?
По стенам карабкается виноградная лоза. Печные трубы пробиваются сквозь шифер крыши.
А голос в трубке зовет:
– Мисти?
Голос спрашивает:
– Доводилось вам запросить данные по медицинскому расследованию попытки самоубийства вашего мужа?
Детектив Стилтон спрашивает:
– Не знаете, откуда ваш муж мог раздобыть снотворное?
Просто на заметку, беда худфака в том, что там тебя могут обучить технике и приемам, но не могут дать тебе талант. Вдохновение не купишь. Осмысленного пути к прозрению не выстроишь. Не выведешь формулу. Маршрут дороги к просветлению.
– Кровь вашего мужа, – сообщает Стилтон. – Была наполнена фенобарбиталом соды.
И на месте не было улик о лекарстве, говорит он. Ни пузырька, ни воды. Никаких примет того, что у Питера когда-то был рецепт.
Не прекращая рисовать, Мисти спрашивает, что все это значит.
А Стилтон отзывается:
– Вам бы подумать, кто мог желать его смерти.
– Только я, – говорит Мисти. И тут же жалеет о сказанном.
Картина закончена, идеальна, прекрасна. Мисти не видела этого края никогда в жизни. Откуда он взялся – она понятия не имеет. И вот, плоской кистью номер 12, полной «черного слоновая кость» она вытирает все окрестности с глаз долой.
25 июля
ВСЕ ДОМА по Ирисовой и Магнолиевой улицам смотрятся так великолепно, когда видишь их впервые. Все они в три и четыре этажа, с белыми колоннами, все ведут счет годам с последнего бума в экономике, который был восемьдесят лет назад. Столетие назад. Дом за домом – пристроились среди ветвистых деревьев размером с зеленые грозовые тучи, среди зарослей дуба и ореха. Они обрамляют улицу Вязов, глядя друг на друга через укатанный газон. Когда видишь их впервые, они смотрятся так роскошно.
– Храмовые фасады, – сообщил Мисти Гэрроу Уилмот. Начиная примерно с 1798-го, американцы взялись строить нехитрые, но массивные фасады, в греческом ренессансе. К 1824-му году, сказал он, когда Уильям Стрикленд спроектировал Второй банк Соединенных Штатов в Филадельфии, пути назад не было. После – все здания, больше и маленькие, обязаны были иметь ряд рифленых колонн и фронтон угрожающих размеров в парадной части.
Люди называли их «односторонними домами», потому что все эти причудливые детали были сосредоточены у одного края. Остальная часть постройки была гладкой.
Так можно описать каждый дом на острове. Каждый фасад. Первое впечатление.
От здания Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, до самого мелкого из коттеджей, – то, что архитекторы называют «греческий рак» – было везде.
– Для архитектуры, – сказал Гэрроу. – Это стало концом прогресса и началом повторной переработки.
Он встретил Мисти и Питера на автостанции в Лонг-Бич и повез их к парому.
Эти островные дома кажутся такими великолепными только пока не заметишь, что краска облупилась и усыпала землю у основания каждой колонны. Что кровельный фартук на крыше проржавел и свисает с краю гнутыми рыжими полосками. Что окна без стекол закрыты коричневыми кусками картона.
Три поколения плечом к плечу.
Ни одно вложение не останется твоим навечно. Это сказал ей Гэрроу Уилмот. Средства уже подходили к концу.
– Одно поколение создает капитал, – однажды поведал ей Гэрроу. – Следующее поколение бережет капитал. У третьего – он истощается. Люди вечно забывают, какой ценой семейству достается благосостояние.
Нацарапанные Питером слова – «…ваша кровь – наше золото…»
Просто на заметку: пока Мисти едет на встречу с детективом Стилтоном, все три часа езды до Питеровой камеры хранения, она собирает в целое все, что может припомнить о Гэрроу Уилмоте.
Впервые Мисти увидела остров Уэйтензи в первый визит с Питером, когда его отец катал их в древнем семейном «бьюике». Все машины на Уэйтензи были старые, начищенные и вощеные, но сиденья – заклеены кусками прозрачного пластыря, чтобы наружу не вылезала набивка. Обитая приборная доска растрескалась от избытка солнечного света. Хромированная филигрань и бампера – в пятнышках и бугорках ржавчины от соленого воздуха. Потускневшая краска под белым налетом окисла.
У Гэрроу были густые седые волосы, собранные надо лбом в корону. У него были голубые или серые глаза. Зубы – скорее желтые, чем белые. Выступающий острый нос и подбородок. В остальном он был худ и бледен. Гладок. У него пахло изо рта. Старый островной дом с персональным подгнившим интерьером.
– Этой машине десять лет, – сказал он. – Для автомобиля в прибрежной зоне это целая жизнь.
Он привез их к парому, и они ждали в доке, глядя поверх воды на темную зелень острова. Наши Питер и Мисти были на летних каникулах, искали работу, мечтали жить в городе, – в любом городе. Они поговаривали о том, чтобы все бросить и переехать в Нью-Йорк или Лос-Анджелес. В ожидании парома они обсуждали, что могли бы изучать живопись в Чикаго или в Сиэтле. Где-то, где каждый из них мог бы начать карьеру. Мисти помнится – ей пришлось трижды хлопнуть дверцей машины, прежде чем та осталась закрытой.
Это была та самая машина, в которой Питер пытался наложить на себя руки.
Та самая машина, в которой ты пытался наложить на себя руки. В которой ты принял свое снотворное.
Та самая машина, в которой едет она сейчас.
Сейчас на ее борту отпечатано – «Боннер и Миллз – КОГДА ВЫ ГОТОВЫ ПРЕКРАТИТЬ НАЧИНАТЬ ЗАНОВО».
Непонятному можно придать любой смысл.
На пароме в тот день Мисти сидела в машине, а Гэрроу и Питер стояли у перил.
Гэрроу склонился к Питеру и спросил:
– Ты уверен, что она – та самая?
Склонился к тебе. Отец и сын.
А Питер отозвался:
– Я видел ее картины. Точно, она.
Гэрроу поднял брови, его складочная мышца собрала кожу на лбу в длинные морщины, и он сказал:
– Тебе известно, что это значит.
А Питер улыбнулся, подняв, правда, только levator labii, мышцу недовольства, и ответил:
– Угу, само собой. Сраный я везунчик.
А его отец кивнул. Сказал:
– Это значит, мы наконец отстроим гостиницу.
Мамочка-хиппи говаривала Мисти, что Американская мечта – это такое богатство, которое дает возможность сбежать от окружающих. «Глянь на Говарда Хьюза в пентхаусе. На Уильяма Рэндольфа Хирста в Сан-Симеоне. Глянь на Бильтмор. На все пышные загородные дома, куда богатеи отправляются в изгнание. На эти самодельные Эдемы, где скрываются люди. Когда все рушится – а оно рушится всегда – мечтатель возвращается в мир».
– Поскреби любое благосостояние, – говаривала мамочка Мисти. – И обнаружишь кровь всего одно или два поколения назад.
Эти слова призваны были облегчить им жизнь в трейлере.
Эксплуатация детей в рудниках или на фабриках, говаривала она. Рабство. Наркоторговля. Складские махинации. Уничтожение природы вырубками, загрязнением, опустошительными сборами урожая. Монополии. Болезни. Войны. Каждое состояние рождается из чего-нибудь неприятного.
Невзирая на мамочку, Мисти считала, что все собственное будущее в ее руках.
У коматозного центра Мисти на минуту приостанавливается, подняв глаза на третий ряд окон. На окно Питера.
На твое окно.
Нынче Мисти цепляется за края всего, что минует, – за косяки дверей, за полки, столы, спинки стульев. Чтобы держаться прямо. Голову Мисти теперь может носить, только наполовину подняв ее от груди. Каждый раз, когда она выходит из комнаты, ей приходится надевать солнцезащитные очки, потому что от света очень больно. Одежда на ней болтается, вздымается так, будто внутри ничего нет. Волосы ее… их больше на расческе, чем на голове. Все старые пояса можно обернуть трижды вокруг новообретенной талии.
Тонкой, как из мексиканской мыльной оперы.
С ее глазами, которые видно в зеркало заднего обзора, со ввалившимися и отекшими, Мисти может сойти за труп Паганини.
Перед выходом из машины Мисти принимает очередную пилюлю с зелеными водорослями, и боль пронзает ей голову, когда она заглатывает ее с пивом из банки.
Сразу за стеклянными парадными дверьми ждет детектив Стилтон, наблюдая, как она пересекает стоянку. Хватаясь рукой за каждую машину для равновесия.
Пока Мисти карабкается по парадным ступеням, одна ее рука вцепляется в перила и подтягивает тело вперед.
Детектив Стилтон держит для нее открытой дверь, замечая:
– Вид у вас не очень.
Голова болит, отзывается Мисти. Может, из-за красок. Из-за кадмиевого красного. Из-за титанового белого. Некоторые масляные краски приправлены свинцом, медью или оксидом железа. Опять же, мало пользы в том, что почти у всех художников привычка крутить кисти во рту, чтобы заострить кончик. На худфаке постоянно предупреждают о Винсенте Ван Гоге и Тулузе-Лотреке. Обо всяких художниках, которые сошли с ума и перенесли такие повреждения нервной системы, что рисовали кистью, привязанной к мертвой руке. Токсичные краски, абсент, сифилис.
Слабость в запястьях и лодыжках – верный признак отравления свинцом.
Всё – автопортрет. Включая твой вскрытый мозг. Твою мочу.
Яды, наркотики, болезни. Вдохновение.
Всё дневник.
Просто на заметку, детектив Стилтон царапает все это в блокноте. Документирует ее каждое оброненное слово.
Мисти следует заткнуться, пока Тэбби не отправили в областной опекунский совет.
Они отмечаются у женщины в регистратуре. Расписываются в журнале за сегодняшний день и получают пластиковые значки, которые нужно цеплять на одежду. На Мисти – одна из любимых Питеровых брошей, большое кольцо желтых поддельных самоцветов, вся бижутерия мутна и поцарапана. У некоторых камней облезла сзади серебряная фольга, и они не блестят. Они – как от битых бутылок с улицы.
Мисти цепляет пластиковый значок-пропуск около брошки.
А детектив замечает:
– Старая, похоже.
А Мисти говорит:
– Мне дал ее муж, когда мы встречались.
Они ждут лифта, и детектив Стилтон сообщает:
– Мне понадобятся доказательства, что ваш муж находился здесь последние сорок восемь часов.
Переводит взгляд от перемигивающихся лифтовых номеров этажей на нее, и добавляет:
– А вам стоило бы подтвердить собственное алиби на этот же срок.
Лифт открывается, и они входят внутрь. Двери закрываются. Мисти жмет кнопку третьего этажа.
Они оба разглядывают двери изнутри, и Стилтон сообщает:
– У меня здесь ордер на его арест, – хлопает по груди своей мастерки, там, где внутренний карман.
Лифт останавливается. Двери открываются. Они выходят.
Детектив Стилтон перекидывает листы блокнота, открывая его, и читает со словами:
– Вам знакомы люди по Восточному береговому шоссе, 346?
Мисти ведет его по коридору, спрашивая:
– А должны быть?
– Ваш муж проводил для них какую-то перепланировку в прошлом году, – говорит он.
Пропавшая прачечная.
– А как насчет людей с Северного соснового тракта, 7856?
Пропавшая бельевая кладовка.
И Мисти отвечает – «угу». Да. Она видела, что там натворил Питер, но – нет, людей она не знает.
Детектив Стилтон захлопывает блокнот и сообщает:
– Оба дома сгорели прошлой ночью. Пять дней назад сгорел еще один дом. Перед этим был уничтожен еще один дом, реконструированный вашим мужем.
Все случаи – поджог, говорит он. Все дома, где Питер запечатал для кого-то свои граффити ненависти, – все попадают в огонь. Вчера полиция получила письмо от некоей группы, берущей на себя ответственность. Океаническое Объединение Борьбы за Свободу. Сокращенно – ООБЗС. Они требуют прекращения всех береговых новостроек.
Следуя за ней по линолеуму длинного коридора, Стилтон рассказывает:
– У движения превосходства белых и у Партии зеленых с давних пор имеются связи, – говорит. – От охраны природы к сохранению расовой чистоты шаг невелик.
Они добираются в палату Питера, и Стилтон объявляет:
– Если ваш муж не сможет доказать, что он находился здесь в ночь каждого пожара – я пришел арестовать его, – и хлопает по ордеру в кармане куртки.
Питерова кровать задернута шторами. Изнутри доносится свист аппарата искусственного дыхания, качающего воздух. Слышны тихие «бип» кардиографа. Доносится еле слышное треньканье чего-то из Моцарта в наушниках.
Мисти отбрасывает шторы, укрывающие кровать.
Снятие покрова. Премьера.
И Мисти предлагает:
– Будьте как дома. Спрашивайте его о чем угодно.
Посередине кровати на боку свернулся скелет – как папье-маше в восковой коже. Мумифицированный до голубой белизны, с темными молниями вен, которые ветвятся прямо под поверхностью кожи. Колени подтянуты к груди. Спина выгнута так, что голова почти касается сморщенной задницы. Ступни торчат, прямые как колья. Ногти на ногах длинные и темно-желтые. Кисти подвернуты так сильно, что ногти врезаются в повязки, которые для защиты обернуты вокруг запястий. Тонкое вязаное одеяло подвернуто под матрац. Трубки с прозрачным и желтым вьются, входя и выходя из рук, из живота, из темного вялого пениса, из черепа. Мышц сохранилось так мало, что колени и локти, костлявые ступни и кисти – кажутся огромными.
Блестящие от вазелина губы растянуты, обнажают черные дыры на месте выпавших зубов.
С открытием занавески начинает пахнуть всем: спиртовыми тампонами, мочой, пролежнями и детским кремом. Запах нагретой пластмассы. Горячий запах отбеливателя и тальковый запах перчаток из латекса.
Дневник тебя самого.
Рифленая голубая пластиковая трубка аппарата искусственного дыхания загибается, уходя в дыру посередине глотки. Глаза закрыты белыми полосками хирургического пластыря. Голова побрита для замеров кровяного давления в мозгу, но чахлая поросль черных волос топорщится на ребрах и в гамаке пустой кожи между костей таза.
Таких же, как черные волосы Тэбби.
Как твои черные волосы.
Держа занавеску поднятой, Мисти говорит:
– Как видите, мой муж гуляет мало.
Все твои дела выдают твою руку.
Детектив Стилтон тяжело сглатывает. Мышца levator labii superioris подтягивает верхнюю губу к ноздрям, и его лицо ныряет в блокнот. Ручка начинает торопливо строчить.
В шкафчике у кровати Мисти обнаруживает проспиртованные тампоны, и сдирает с одного целлофановую обертку. Коматозных пациентов разделяют в соответствии с вещью под названием «шкала комы Глазго», сообщает она детективу. Шкала проводится от полного бодрствования до бессознательного состояния и невосприимчивости. Даешь пациенту устные команды, и смотришь, может ли он откликнуться движением. Или речью. Или морганием глаз.
Детектив Стилтон спрашивает:
– Что вы можете мне сказать об отце Питера?
– Ну, – говорит Мисти. – Он – питьевой фонтанчик.
Детектив поднимает на нее взгляд. Брови сведены. Складочные мышцы в работе.
Грэйс Уилмот выбросила кучу денег на изящный медный питьевой фонтанчик в память Гэрроу. Он на улице Акаций, на ее перекрестке с Центральной авеню, у гостиницы, рассказывает ему Мисти. А пепел Гэрроу они развеяли на церемонии на Уэйтензийском мысу.
Детектив Стилтон царапает все это в блокноте.
Спиртовым тампоном Мисти начисто протирает кожу у соска Питера.
Мисти снимает с его головы наушники и берет его лицо в руки, пристраивая на подушках так, чтобы он смотрел в потолок. Мисти отцепляет с кофты желтую круглую брошь.
Нижняя отметка, которую можно получить по шкале комы Глазго – это три. Это значит, что ты никогда не шевелишься, не говоришь, не моргаешь. Что тебе ни говори и ни делай. Ты не реагируешь.
В брошке открывается стальная булавка длиной с мизинец, и Мисти полирует эту булавку спиртовым тампоном.
Ручка детектива Стилтона останавливается, не отрываясь от страницы блокнота, и он спрашивает:
– Ваша дочь хоть иногда наведывается?
А Мисти мотает головой.
– А его мать?
А Мисти отзывается:
– Моя дочь почти все время проводит с бабушкой, – Мисти берет булавку, чистую и полированную до блеска. – Они ходят на домашние распродажи, – продолжает Мисти. – Моя свекровь работает в фирме, которая разыскивает фарфоровые предметы для людей, у которых в сервизе недостача.
Мисти отклеивает пластырь с Питеровых глаз.
С твоих глаз.
Мисти при помощи больших пальцев держит веки поднятыми и склоняется близко к его лицу, с криком:
– Питер!
Мисти кричит:
– Как на самом деле умер твой отец?
Брызги ее слюны усеивают его глаза со зрачками различного размера, и Мисти орет:
– Ты состоишь в неонацистской экотеррористической банде?
Оглянувшись на детектива Стилтона, Мисти кричит:
– Ты выбираешься каждую ночь поджигать дома?
Мисти орет:
– Ты обсос?
Океаническое Объединение Борьбы за Свободу.
Стилтон складывает руки и роняет на грудь подбородок, наблюдая за ней исподлобья. Мышцы orbicularis oris у его губ сжимают рот в тонкую полоску. Мышца frontalis поднимает его брови, и лоб собирается в три складки от виска к виску. В морщины, которых до этого не было.
Мисти вцепляется рукой в Питеров сосок, и тянет его, далеко вытягивая за кончик.
Другой рукой Мисти вонзает булавку. Потом вытаскивает булавку наружу.
Кардиограф издает «бип» раз за разом, не ускоряясь и не замедляясь ни на миг.
Мисти зовет:
– Питер, дорогой? Ты чувствуешь? – и снова Мисти вонзает булавку.
Чтобы каждый раз ощущать свежую боль. Метод Станиславского.
Просто чтоб ты знал – рубцовой ткани столько, что булавку проталкивать трудно, как сквозь тракторную покрышку. Кожа соска тянется веками, пока булавка выскакивает с другой стороны.
Мисти кричит:
– Зачем ты убил себя?
Зрачки Питера пялятся в потолок, один – широко распахнут, второй – как ушко булавки.
Потом пара рук обхватывает ее сзади. Детектив Стилтон. Они тянут ее прочь. С ее криком:
– На хер ты притащил меня сюда?
Стилтон оттаскивает ее, и булавка, которую сжимает Мисти, вынимается мало-помалу, пока не оказывается на свободе. С ее криком:
– На хер ты сделал мне ребенка?
28 июля – Новолуние
С ПЕРВОЙ ПАЧКОЙ противозачаточных таблеток Мисти Питер намухлевал. Он заменил их на конфетки в корице. Следующую пачку он попросту спустил в унитаз.
Ты спустил в унитаз. Нечаянно, сказал ты.
После этого студенческая поликлиника не стала продлевать ее рецепт на следующие тридцать дней. Ей поставили диафрагму, – и неделей позже Мисти обнаружила дырочку, проколотую в ней по центру. Подняла ее против окна, продемонстрировав Питеру, а тот сказал:
– Эти штуки вечно не служат.
Мисти возразила, мол, только что ей обзавелась.
– Они изнашиваются, – сказал он.
Мисти ответила, что член у него не настолько велик, чтобы ткнуть ее в шейку матки и пробить дырку в диафрагме.
Член у тебя не настолько велик.
После этого у Мисти стало постоянно заканчиваться спермицидное мыло. Оно дорого ей стоило. Каждый флакон. Мисти пользовалась им, пожалуй, один раз – а потом обнаруживала, что он пуст. Спустя несколько флаконов, в один прекрасный день, Мисти вышла из ванной и спросила Питера – трогал ли он ее мыло?
Питер смотрел свои мыльные оперы, где у всех женщин были такие узенькие талии, словно их скрутили, как выжимают мокрые тряпки. Они таскали туда-сюда гигантские груди на палочках спагетти. С глазами, измазанными блеском, они, по идее, были врачами и адвокатами.
Питер сказал:
– Вот, – и полез к шее обеими руками. Потянул что-то из-под ворота черной футболки, и вытащил это наружу. Это оказалось мерцающее ожерелье из розовых поддельных самоцветов, пряди ледяного розового, все из розовых вспышек и искорок. И он сказал:
– Хочешь?
А Мисти застыла дура дурой, как его мексиканские девки. Она могла лишь взять концы ожерелья в руки. В зеркале в ванной оно засверкало на ее коже. Разглядывая ожерелье в зеркало, касаясь его, Мисти слышала испанский лепет из соседней комнаты.
Мисти крикнула:
– Только не трогай больше мое мыло. Ладно?
Услышала Мисти только испанский.
Ясное дело, следующий ее цикл так и не пришел. Спустя пару дней Питер принес ей коробок палочек с тестом на беременность. Из тех, на которые мочатся. Они показывали «да», или «нет», если залета не случилось. Палочки не были запечатаны ни в какие бумажные обертки. От них от всех несло мочой. Все уже показывали «нет», мол, не беременна.
Потом Мисти заметила, что низ коробки открывали, а после заклеили скотчем. Мисти крикнула Питеру, который стоял в ожидании снаружи, за дверью ванной:
– Ты купил их только сегодня?
Питер отозвался:
– А?
Мисти слышала испанский.
Когда они, бывало, трахались, Питер не открывал глаз, пыхтя и задыхаясь. Когда кончал, совсем зажмуривал глаза, и выкрикивал:
– Te amo!
Мисти крикнула сквозь дверь ванной:
– Ты что – ссал на них?
Дверная ручка повернулась, но Мисти давно закрылась. Потом голос Питера сказал сквозь дверь:
– Тебе они не нужны. Ты не беременна.
А Мисти спросила – так где ее месячный отчет?
– Вот, – отозвался его голос. Потом сквозь щель под дверью просунулись пальцы. Проталкивающие что-то мягкое и белое.
– Ты обронила их на пол, – сказал он. – Глянь на них хорошенько.
Это были ее трусики, забрызганные свежей кровью.
29 июля – Новолуние
ПРОСТО НА ЗАМЕТКУ: погода сегодня тяжела и шершава, и причиняет боль каждый раз, стоит твоей жене пошевелиться.
Доктор Туше только что ушел. Последние два часа он провел, оборачивая ее ногу полосами стерильного бинта и прозрачной акриловой резины. Ее нога, от лодыжки до промежности – сплошной ровный гипсовый слепок. Что-то с коленкой, сказал доктор.
Питер, твоя жена – недотепа.
Мисти недотепа.
Она тащит поднос салата «Уолдорф» из кухни в столовую, и спотыкается. Прямо в дверном проеме кухни ноги улетают из-под нее, и Мисти, и поднос, и тарелки салата «Уолдорф», – все летит головой вперед на восьмой столик.
Вся столовая, понятно, встает подойти посмотреть на нее, залитую майонезом. С коленкой вроде все в порядке, и Рэймон выходит из кухни, помогая ей подняться на ноги. Тем не менее, коленка вывихнута, уверяет доктор Туше. Он является часом позже, после того, как Рэймон и Полетт помогают ей подняться в ее комнату. Доктор прикладывает к коленке пакет со льдом, затем предлагает Мисти гипс люминесцентно-желтого, люминесцентно-розового или обычного белого цвета.
Доктор Туше уселся на корточки у ее ног, а Мисти сидит на стуле с прямой спинкой, возложив ногу на скамеечку. Он двигает пакет со льдом, разыскивая признаки вздутия.
А Мисти спрашивает – он выписывал свидетельство о смерти Гэрроу?
Мисти спрашивает – он прописывал Питеру снотворное?
Доктор на миг поднимает на нее глаза, потом снова берется прикладывать к ноге лед. Говорит:
– Если ты не расслабишься, то, может статься, никогда больше не сможешь ходить.
С ногой уже все хорошо. И на вид с ней все хорошо. Просто на заметку – коленка даже не болит.
– У тебя шок, – возражает доктор Туше. Он принес портфель, но не черный докторский чемоданчик. Такой портфель носят адвокаты. Или банкиры.
– Гипс для тебя будет как профилактика, – говорит. – Без него ты будешь носиться туда-сюда со своим полицейским детективом, и нога никогда не заживет.
Как же мал этот городок – весь музей восковых фигур острова Уэйтензи шпионит за ней.
Кто-то стучится в дверь, и затем в комнату входят Грэйс и Тэбби. Тэбби объявляет:
– Мам, мы купили тебе еще красок, – и она сжимает в руках по магазинному пакету.
Грэйс спрашивает:
– Как она?
А доктор Туше отзывается:
– Если посидит в этой комнате следующие три недели – будет в порядке, – он берется обматывать ее колено бинтом, слой бинта за слоем, толще и толще.
Просто чтоб ты знал – в тот миг, когда Мисти опомнилась на полу, когда люди подошли помочь ей, пока ее тащили вверх по лестнице, даже когда доктор сжимал и гнул ее колено, Мисти все повторяла:
– Обо что я споткнулась?
Там ничего нет. Ведь правда, около того дверного проема нет ничего, обо что можно споткнуться.
Потом Мисти поблагодарила Господа, что это случилось на работе. Гостиница ни в коем случае не станет мычать по поводу ее отсутствия на месте.
Грэйс спрашивает:
– Можешь пошевелить пальцами ноги?
Да, Мисти может. Она только не может добраться до них.
Затем доктор оборачивает ногу в полосы гипса.
Подходит Тэбби, трогает здоровенную гипсовую колоду, внутри которой где-то затерялась нога ее матери, и спрашивает:
– Можно написать здесь мое имя?
– Дай ему денек подсохнуть, – отвечает доктор.
Нога Мисти вытянута вперед, и весит, наверное, под восемьдесят фунтов. Она как окаменелость. Запечатанная в янтарь. Древняя мумия. Получилась настоящая каторжная гиря с цепью.
Забавно, как разум пытается выстроить смысл из хаоса. Мисти сейчас за это жутко неудобно, но в тот миг, когда Рэймон вышел из кухни, когда подхватил ее рукой и поднял, она спросила:
– Ты только что подставил мне ногу?
Он счистил салат «Уолдорф», дольки яблок и тертый грецкий орех, с ее волос, и переспросил:
– Cсmo[11]?
Непонятному можно придать любой смысл.
И ведь тогда же – кухонная дверь была открыта настежь, и пол вокруг был сух и чист.
Мисти спросила:
– Как я упала?
А Рэймон пожал плечами и ответил:
– Прям на culo[12].
Все ребята из кухни, толпившиеся вокруг, засмеялись.
Теперь, наверху в ее комнате, когда нога заключена в тяжелый белый кокон повязки, Грэйс и доктор Туше берут Мисти под руки и пристраивают ее на кровати. Тэбби приносит таблетки с зелеными водорослями из ее сумочки и пристраивает их на столике у кровати. Грэйс отключает телефон и сматывает провод, со словами:
– Тебе нужен покой и тишина.
Грэйс говорит:
– С тобой не случилось ничего такого, что не исцелит легкая художественная терапия, – и принимается доставать вещи из магазинных пакетов, – кисти и тюбики с красками, – и складывать их в кучу на комод.
Доктор извлекает из портфеля шприц. Протирает руку Мисти холодным спиртом. Лучше уж руку, чем сосок.
Ты чувствуешь?
Доктор наполняет шприц из пузырька и вонзает ей в руку иглу. Вытаскивает, и дает ей кусок ваты, чтобы останавливать кровь.
– Поможет уснуть, – говорит.
Тэбби спрашивает, сидя на краю кровати:
– Больно?
Нет, ни капли. Нога в порядке. Укол был больнее.
Кольцо на пальце Тэбби, искристый зеленый оливин, подхватывает свет из окна. Край ковра стелется под окном, а под ковер Мисти спрятала свои деньги на чай. Их билет домой, в Текумеш-Лэйк.
Грэйс кладет телефон в пустой магазинный пакет и протягивает Тэбби руку. Командует:
– Идем. Дадим твоей матери отдохнуть.
Доктор Туше стоит в дверном проеме и зовет:
– Грэйс? Можно пообщаться с тобой наедине?
Тэбби встает с кровати, а Грэйс наклоняется, чтобы зашептать ей в ухо. Потом Тэбби быстро кивает. На ней увесистое розовое ожерелье из переливчатых поддельных самоцветов. Оно такое широкое, что по тяжести на шее должно не уступать гипсу на ноге ее матери. Искристый жернов. Цепь и гиря из бижутерии. Тэбби отщелкивает застежку и несет его к кровати, со словами:
– Приподними голову.
Тянется руками Мисти за плечи и защелкивает ожерелье на шее матери.
Просто на заметку, Мисти не дура. Бедная Мисти Мария Клейнмэн знала, что на ее трусиках была кровь Питера. Но вот сейчас, в этот миг – как она рада, что не сделала аборт и не избавилась от ребенка.
Твоя кровь.
Зачем Мисти согласилась выйти за тебя – она не знает. Зачем кто-то что-то делает? Она уже тонет в постели. Каждый вздох медленней предыдущего. Ее веко-подъемным мышцам приходится трудиться все упорнее, чтобы удержать глаза открытыми.
Тэбби идет к мольберту и снимает стопку бумаги для рисования. Приносит бумагу и простой карандаш, и кладет их на одеяло около матери, со словами:
– На тот случай, если появится вдохновение.
А Мисти замедленно целует ее в лоб.
В гипсе и ожерелье Мисти чувствует себя пришпиленной к кровати. Привязанной к столбу. Как жертва. Анахоретка.
Потом Грэйс берет Тэбби за руку, и они выходят в коридор к доктору Туше. Дверь закрывается. Так тихо, что Мисти не уверена, правильно ли она расслышала. Но был тихий лишний щелчок.
И Мисти зовет:
– Грэйс?
Мисти зовет:
– Тэбби?
Мисти замедленно произносит:
– Эй? Ау?
Просто на заметку – ее заперли.
30 июля
КОГДА МИСТИ ВПЕРВЫЕ просыпается после происшествия, у нее нет лобковых волос, и в ней торчит катетер, змеящийся вдоль здоровой ноги к прозрачному пластиковому пакету, который привешен на столбик кровати. Полосками белого хирургического пластыря трубка прилеплена к коже ноги.
Дорогой милый Питер, тебе незачем рассказывать, каково оно.
Снова доктор Туше поработал.
Просто на заметку – когда просыпаешься под действием лекарств, со сбритыми лобковыми волосами и чем-то пластиковым, воткнутым во влагалище – это не обязательно делает тебя великой художницей.
Если бы делало, Мисти разрисовывала бы Сикстинскую Капеллу. Вместо этого она комкает очередной сырой лист 140-фунтовой акварельной бумаги. За ее чердачным окошком солнце печет береговой песок. Шипят и бьются волны. Трепещут чайки, вися на ветру как парящие белые воздушные змеи, а детишки строят замки из песка и плещутся в набегающем прибое.
Одно дело, если бы она променяла все солнечные деньки на шедевр, но такое… весь ее день был попросту – одна поганая размазанная ошибка за другой. Даже при гипсе на всю ногу и сумочке с мочой. Мисти хочет быть на улице. Будучи художницей, ты организуешь свою жизнь так, чтобы выпадала возможность рисовать, «окно» в распорядке, – но нет гарантии того, что ты создашь вещь, стоящую всех усилий. Тебя постоянно посещает мысль, что жизнь тратится тобой впустую.
По правде говоря, будь Мисти сейчас на пляже, она смотрела бы вверх, на это окошко, мечтая писать картины.
По правде говоря, какое место не выбери – все не то.
Мисти полупривстала у мольберта, опершись на высокий табурет, выглядывая из окна в направлении Уэйтензийского мыса. Тэбби сидит в пятне солнечного света у ее ног, раскрашивая гипс фломастерами. Вот от чего больно. Хватит уже того, что Мисти провела почти все детство, укрывшись в четырех стенах, раскрашивая книжки, мечтая стать художницей. А теперь она воссоздает этот плохой образ жизни для своего ребенка. Все земляные пирожки, выпечку которых пропустила Мисти, теперь предстоит пропустить и Тэбби. Все, что положено делать тинэйджерам. Все воздушные змеи, которые не запустила Мисти, все игры в пятнашки, которые Мисти упустила, все одуванчики, которые Мисти не сорвала, – Тэбби во всем повторяет ту же ошибку.
Единственные цветы, виденные Тэбби, она находила с бабушкой, в орнаменте по ободку чайных чашек.
Через несколько недель начнется школа, а Тэбби до сих пор совсем бледная от сидения в четырех стенах.
Кисточка Мисти развозит очередную грязь на листе перед ней, и Мисти зовет:
– Тэбби, солнышко?
Тэбби сидит, царапая по гипсу красным фломастером. Резина и ткань лежат таким толстым слоем, что Мисти ничего не чувствует.
Спецовка Мисти – одна из старых голубых рабочих рубашек Питера с заржавленной клипсой из поддельных рубинов на нагрудном кармане. Поддельные рубины и стеклянные бриллианты. Тэбби принесла коробку костюмных украшений, всю кучу хлама из брошей, браслетов и распарованных сережек, которые Мисти дал Питер во время учебы.
Которые своей жене дал ты.
Мисти в твоей рубашке, и спрашивает Тэбби:
– Почему бы тебе ни побегать на улице пару часиков?
Тэбби меняет красный фломастер на желтый и отвечает:
– Бабуля Уилмот сказала – мне нельзя.
Раскрашивая, Тэбби продолжает:
– Она сказала мне оставаться с тобой все время, пока ты не спишь.
Этим утром коричневый спортивный автомобиль Энджела Делапорта подкатил на гравиевую гостиничную стоянку. Энджел вышел, в широкой соломенной пляжной шляпе, и подошел к парадному крыльцу. Мисти все ждала, что с конторки придет Полетт и скажет, мол, к ней посетитель, – но нет. Получасом позже Энджел вышел через парадный вход гостиницы и спустился по ступеням крыльца. Придерживая шляпу рукой, он откинул голову и внимательно осмотрел гостиничные окна, россыпи значков и логотипов. Корпоративные граффити. Конкурирующие бессмертия. Потом Энджел одел солнцезащитные очки, скользнул в спортивный автомобиль и уехал прочь.
Перед ней очередная рисованная грязь. Перспектива ее совсем неверна.
Тэбби сообщает:
– Бабуля сказала помогать тебе вдохновляться.
Вместо рисования Мисти бы учить своего ребенка какому-нибудь навыку – бухгалтерии, анализу затрат или ремонту телевизоров. Какому-нибудь реальному способу оплаты счетов.
Через некоторое время после отъезда Энджела Делапорта в однотонно-бежевой казенной машине округа прибыл детектив Стилтон. Он прошел в гостиницу, потом, спустя несколько минут, вернулся к машине. Он поторчал на стоянке, прикрыв глаза козырьком ладони, переводя взгляд от окна к окну, но не видя ее. Потом уехал.
Перед ней – грязь из потекших и смазанных красок. Деревья, как радиорелейные вышки. Океан, как вулканическая лава или остывший шоколадный пудинг, – или же попросту как пятно гуашевой акварели на шесть баксов, переведенной впустую. Мисти вырывает лист и комкает его в шарик. Ладони ее почти черны от целодневного комкания своих неудач. Болит голова. Мисти закрывает глаза и прижимает ко лбу руку, которая липнет от сырой краски.
Мисти бросает скомканный рисунок на пол.
А Тэбби зовет:
– Мам?
Мисти открывает глаза.
Тэбби во всю длину разрисовала ее гипс птичками и цветочками. Синими пташками, красными малиновками и алыми розами.
Когда Полетт приносит наверх их ланч на подносе обслуживания номеров, Мисти спрашивает, пытался ли кто-нибудь позвонить с конторки. Полетт вытряхивает полотняную салфетку и заправляет ее под ворот синей рабочей блузы. Отзывается:
– Нет, простите, – снимает выпуклую крышку с рыбного блюда, интересуясь:
– А почему вы спрашиваете?
А Мисти отвечает:
– Просто так.
В этот миг, сидя здесь, с Тэбби, с цветочками и птичками, нарисованными на ее ноге мелками, Мисти знает, что ей никогда не стать художницей. Картина, которую она продала Энджелу, была чистым везением. Случайностью. Вместо слез Мисти пускает несколько капель мочи по пластиковой трубке.
А Тэбби советует:
– Закрой глаза, мам, – говорит. – Рисуй с закрытыми глазами, как на пикнике на мой день рождения.
Как в те времена, когда она была маленькой Мисти Марией Клейнмэн. С закрытыми глазами на шерстяном ковре в трейлере.
Тэбби наклоняется ближе и шепчет:
– Мы прятались за деревьями и подглядывали, – говорит. – Бабуля сказала, нам нужно дать тебе вдохновиться.
Тэбби идет к комоду и берет рулон липкой ленты, которой Мисти клеит бумагу к мольберту. Отрывает две полоски и командует:
– Давай, закрой глаза.
Терять Мисти нечего. Она может пойти ребенку навстречу. Ее работы хуже не станут. Мисти закрывает глаза.
И пальчики Тэбби прижимают полоски ленты к каждому веку.
В точности как заклеены глаза ее отца. Чтобы не высыхали.
Как заклеены твои глаза.
Пальцы Тэбби в темноте вкладывают в руку Мисти карандаш. Слышно, как она пристраивает на мольберт альбом для рисования и поднимает титульный лист. Потом ее рука берет руку Мисти и несет карандаш, пока тот не касается бумаги.
Из окна греет солнце. Рука Тэбби отпускает ее, и голос в темноте командует:
– А теперь рисуй картину.
И Мисти рисует, идеальные углы и окружности, прямые линии, невозможные со слов Энджела Делапорта. По одному только ощущению, они верны и идеальны. Что это должно быть – Мисти понятия не имеет. Как перо само по себе движется по спиритической планшетке, карандаш водит ее рукой взад-вперед по бумаге с такой скоростью, что Мисти приходится ухватить его покрепче. Ее автоматическое письмо.
Мисти способна только держать темп, и зовет:
– Тэбби?
Глаза плотно залеплены лентой. Мисти зовет:
– Тэбби? Ты еще здесь?
2 августа
ЧТО-ТО ЛЕГОНЬКО ДЕРГАЕТСЯ у Мисти между ног, слегка тянется внутри нее, когда Тэбби отцепляет пакет от конца катетера Мисти и уносит его по коридору в уборную. Она опорожняет пакет в унитаз и споласкивает. Тэбби приносит его назад и пристегивает к длинной пластиковой трубке.
Все это она делает, чтобы Мисти могла продолжать работу в полной темноте. С заклеенными глазами. Вслепую.
Осталось только чувство тепла от солнечного света из окна. В тот миг, когда кисть останавливается, Мисти сообщает:
– Этот готов.
А Тэбби снимает рисунок с мольберта и цепляет на него новый лист бумаги. Берет карандаш, когда видно, что тот затупился, и вручает Мисти острый. Протягивает поднос пастельных мелков, а Мисти ощупывает их вслепую, как замасленные фортепианные клавиши разных красок, и выбирает один.
Просто на заметку, каждый выбранный Мисти цвет, каждый сделанный ею штрих идеален, потому что ей уже все равно.
К завтраку Полетт приносит наверх поднос обслуживания номеров, а Тэбби режет все на кусочки в один укус. Пока Мисти работает, Тэбби сует вилку своей матери в рот. С липкой лентой на лице Мисти может открыть рот только немного. Достаточно широко только для того, чтобы обсасывать кисть в тонкий кончик. Чтобы травиться. Не прекращая работу, Мисти не чувствует вкуса. Мисти не чувствует запаха. Перехватив пару кусочков завтрака, она уже наелась.
Не считая царапанья карандаша по бумаге, в комнате тихо. Снаружи, пятью этажами ниже, шипят и бьются волны.
К ланчу Полетт приносит наверх еще еды, которую Мисти не ест. Гипс на ноге уже будто разболтался от всего сброшенного ею веса. Слишком много твердой пищи будет значить визит в туалет. Будет значить перерыв в работе. На гипсе почти не осталось белых пятен, – таким количеством цветов и птиц покрыла его Тэбби. Ткань костюма заскорузла от наляпанной краски. Заскорузла и липнет к рукам и груди. Руки – в корке засохших красок. Отравленные.
Плечи болят и щелкают, запястье внутри хрустит. Пальцы, сжимающие простой карандаш, онемели. Шея идет спазмами, по обеим сторонам от хребта по ней ползут судороги. Шея по ощущению – как Питерова на вид, выгнутая назад и касающаяся задницы. Запястья по ощущению – как на вид Питеровы, скрученные и связанные.
Глаза залеплены, лицо расслаблено, чтобы не сопротивляться двум кускам липкой ленты, которые сбегают со лба поперек каждого глаза, по щекам к челюсти, потом по шее. Лента удерживает мышцу orbicularis oculi у глаза, главную скуловую в уголке рта, -держит все ее лицевые мышцы расслабленными. С лентой Мисти может разлепить губы только в щелочку. Общаться может – только шепотом.
Тэбби вставляет ей в рот питьевую соломинку, и Мисти всасывает немного воды. Голос Тэбби произносит:
– Что бы ни сталось, говорит бабуля, тебе нужно продолжать художество.
Тэбби утирает своей матери рот, со словами:
– Мне уже скоро будет пора идти, – говорит. – Пожалуйста, не останавливайся, как бы по мне ни соскучилась.
Просит:
– Обещаешь?
А Мисти, не прерывая работу, отзывается:
– Да.
– Как бы на долго я ни ушла? – спрашивает Тэбби.
А Мисти шепчет:
– Обещаю.
5 августа
УСТАТЬ – не значит довести до конца. Проголодаться или натереть руку – тоже. Желание помочиться не должно тебя останавливать. Картина закончена, когда окончена работа карандаша и красок. Телефон не отвлекает. Ничего стороннего не требует твоего внимания. Пока вдохновение приходит – ты продолжаешь и продолжаешь.
Мисти трудится вслепую весь день, а потом карандаш останавливается и она ждет, что Тэбби заберет картину и даст ей чистый лист бумаги. Потом – ничего не происходит.
И Мисти зовет:
– Тэбби?
Нынешним утром Тэбби приколола к халату матери большую брошь – пучок зеленых и красных стекляшек. Потом Тэбби стояла неподвижно, а Мисти пристраивала переливчатое ожерелье крупных розовых поддельных самоцветов дочери на шею. Как статуя. В солнечном свете из окна они искрились ярко, как незабудки и все остальные цветы, пропущенные Тэбби этим летом. Потом Тэбби заклеила матери глаза. Это был последний раз, когда ее видела Мисти.
Мисти снова зовет:
– Тэбби, солнышко?
И – ни звука, ничего. Только шипение и биение каждой волны на пляже. Растопырив пальцы, Мисти тянется и ощупывает воздух вокруг. Впервые за многие дни ее оставили одну.
Эти две полоски липкой ленты берут начало у линии ее волос и сбегают по глазам, огибая челюсть. Указательным и большим пальцем обеих рук Мисти подцепляет ленту сверху и медленно тянет обе полоски, пока они не отдираются полностью. Глаза с трепетом раскрываются. От солнечного света сфокусировать их очень трудно. Картина на мольберте остается размытой минуту, пока глаза приспосабливаются.
Карандашные штрихи приходят в фокус, черные на белой бумаге.
Это рисунок океана, прибрежной зоны совсем у пляжа. Что-то плывет. Кто-то плавает в воде лицом вниз, – маленькая девочка, разбросав по водной поверхности свои длинные черные волосы.
Черные волосы ее отца.
Твои черные волосы.
Всё – автопортрет.
Всё дневник.
За окном, внизу, на пляже, у края воды ждет толпа людей. Два человека бредут в воде вдоль берега, несут что-то вместе. Что-то блестящее вспыхивает ярко-розовым в солнечном свете.
Поддельный самоцвет. Ожерелье. Это Тэбби они держат за лодыжки и под руки, и ее волосы свисают, прямые и мокрые, в шипящие и бьющиеся о пляж волны.
Толпа отступает.
И громкие шаги приближаются по коридору за дверью спальни. Голос в коридоре произносит:
– У меня наготове.
Два человека несут Тэбби через пляж к гостиничному крыльцу.
Замок на двери спальни щелкает, и дверь распахивается, и за ней доктор Туше и Грэйс. В руке его ярко сверкает капающий шприц.
А Мисти пытается встать, за ней волочится нога в гипсе. Гиря и цепь.
Доктор несется к ней.
А Мисти говорит:
– Там Тэбби. Что-то не так, – Мисти говорит. – На пляже. Мне нужно туда спуститься.
Гипс рвется и тянет ее на пол своим весом. Позади нее трещит мольберт, стеклянный кувшин мутной воды для мытья кистей разбился и рассыпался повсюду вокруг. Грэйс подходит и присаживается рядом, подхватывая ее за руку. Катетер выдернулся из пакета, и вокруг воняет мочой, которая течет на покрывало. Грэйс закатывает рукав ее спецовки.
Твоей старой рабочей рубашки. Заскорузлой от высохшей краски.
– Тебе нельзя спускаться туда в этом состоянии, – возражает доктор. Он сжимает шприц и шлепками поднимает вверх пузырьки воздуха, продолжая:
– В самом деле, Мисти, ты ничем не поможешь.
Грэйс силой выпрямляет руку Мисти, а доктор вонзает иглу.
Ты чувствуешь?
Грэйс держит ее за обе руки, пришпиливая к месту. Брошка из поддельных рубинов раскрылась, и булавка погрузилась Мисти в грудь, – красная кровь на влажных рубинах. Разбитый кувшин. Грэйс и доктор прижимают ее к покрывалу, под ними расплывается ее моча. Пропитывает синюю рубашку и жжет кожу в том месте, где торчит булавка.
Грэйс полусидит на ней. Грэйс сообщает:
– Сейчас Мисти хочет спуститься вниз, – Грэйс не плачет.
Глубоким от замедленных усилий голосом Мисти отзывается:
– Откуда ты, бля, знаешь, чего я хочу?
А Грэйс говорит:
– Из твоего дневника.
Иголка вытащена из руки, и Мисти чувствует, как кто-то протирает кожу в месте укола. Холодное ощущение спирта. Руки подхватывают ее под руки, и тянут, усаживая.
В лице Грэйс мышца levator labii superioris, мышца недовольства, туго стягивает лицо у носа, и она произносит:
– Кровь. Ой, и моча, она вся в ней. Мы не можем вести ее вниз в таком виде. Не перед всеми же.
Вонь от Мисти – запах переднего сиденья старого «бьюика». Вонь твоей ссанины.
Кто-то стаскивает с нее рубашку, вытирая кожу бумажными полотенцами. С другого конца комнаты доносится голос доктора Туше:
– Великолепные работы. Очень впечатляют.
Он пролистывает ее стопку законченных рисунков и картин.
– Хороши, естественно, – отзывается Грэйс. – Только не перемешай. Они все под номерами.
Просто на заметку, о Тэбби никто не упоминает.
Ее руки продевают в чистую рубашку. Грэйс проводит щеткой по ее волосам.
Рисунок на мольберте, утонувшая в океане девочка, упал на пол, и кровь с мочой пропитали его насквозь. Он испорчен. Картина исчезла.
Мисти не может сжать руку в кулак. Ее глаза постоянно норовят захлопнуться. Сырой потек слюны сбегает из уголка рта, и боль от укола в груди тускнеет.
А Грэйс с доктором поднимают ее на ноги. Снаружи, в коридоре, ждет еще несколько человек. Еще несколько рук обвивают ее с двух сторон, и замедленно несут ее вниз по лестнице. Они плывут мимо печальных лиц, которые наблюдают с каждой лестничной площадки. Полетт, и Рэймон, и кто-то еще, Питеров друг-блондин из колледжа. Уилл Таппер. С той же мочкой уха в виде двух острых кончиков. Весь музей восковых фигур острова Уэйтензи.
Повсюду вокруг так тихо, только ее гипс тащится, стуча о каждую ступень.
Толпа людей заполняет сумрачный лес полированных деревьев и замшелого ковра вестибюля, но все отшатываются назад, пока ее несут через столовую. Здесь все старинные семейства островитян: Бартоны, Хайленды, Питерсены и Перри.
Среди них нет ни одного летнего лица.
Потом распахиваются двери Древесно-золотого зала.
На шестом столике на четыре персоны у окна – что-то, укрытое одеялом. Профиль детского лица, плоская грудь маленькой девочки. И голос Грэйс говорит:
– Быстрее, пока она еще в сознании. Дайте ей взглянуть. Поднимите одеяло.
Снятие покрова. Подъем занавеса.
И позади Мисти толпятся все ее любопытствующие соседи.
7 августа
НА ХУДФАКЕ Питер однажды попросил Мисти назвать цвет. Любой цвет.
Он приказал ей закрыть глаза и стоять неподвижно. Можно было ощутить, как он подступил близко. Его тепло. Можно было унюхать его распустившийся свитер, и как его кожа источает горький запах полусладкой шоколадной плитки. Его личный автопортрет. Его руки подцепили ткань ее сорочки, и холодная булавка царапнула кожу под ней. Он предупредил:
– Не шевелись, а то могу нечаянно уколоть.
И Мисти задержала дыхание.
Ты чувствуешь?
При каждой встрече Питер давал ей очередной предмет бижутерии. Броши, браслеты, кольца и ожерелья.
С закрытыми глазами, в ожидании, Мисти сказала:
– Золотой. Золотой цвет.
Продевая пальцами булавку сквозь ткань, Питер отозвался:
– Теперь скажи мне три слова, которыми можно описать золотой.
То была старинная разновидность психоанализа, рассказал он ей. Изобретенная Карлом Юнгом. Она была построена на общих мотивах. Вроде самокопательной игры для вечеринки. Карл Юнг. Мотивы. Бескрайнее общее подсознание всего человечества. Джайнисты, йоги и аскеты – вот культура, в которой Питер рос на острове Уэйтензи.
С закрытыми глазами, Мисти назвала:
– Сверкающий. Дорогой. Приятный.
Питеровы пальцы защелкнули крошечную булавку броши, и его голос произнес:
– Хорошо.
В той прошлой жизни, на худфаке, Питер попросил ее назвать животное. Любое животное.
Просто на заметку: эта брошь была позолоченной черепашкой с большим треснувшим зеленым камнем вместо панциря. Голова и лапы были подвижные, но одной лапы не хватало. Металл так потемнел, что уже натер на сорочке черное пятно.
А Мисти оттянула ее от груди, разглядывая ее, любя ее без особой причины. Откликнулась:
– Голубь.
Питер отступил в сторону и махнул рукой, предлагая с ним пройтись. Они пересекали кампус, между кирпичных зданий, узловатых от плюща, и Питер сказал:
– Теперь назови мне три слова, которые описывают голубя.
Шагая рядом, Мисти попыталась вложить свою руку в его, но он сцепил их за спиной.
Шагая, Мисти ответила:
– Грязный, – сказала Мисти. – Дурной. Уродливый.
Ее три слова, описывающие голубя.
А Питер глянул на нее, закусив зубами нижнюю губу, его складочная мышца прижала брови друг к другу.
В той прошлой жизни, на худфаке, Питер попросил ее назвать водоем.
Шагая рядом, Мисти отозвалась:
– Морской путь Сент-Лоуренс.
Он оглянулся на нее. Остановился.
– Назови три прилагательных, которые его описывают, – сказал он.
А Мисти закатила глаза и ответила:
– Суетливый, торопливый и переполненный.
А Питерова мышца levator labii superioris подтянула верхнюю губу в насмешливой гримасе.
Шагая с Питером, она услышала от него еще лишь один последний вопрос. Питер сказал представить, что ты в какой-то комнате. Все стены белые, нет ни окон, ни дверей. Он попросил
– Расскажи мне в двух словах, как ты воспринимаешь эту комнату.
Мисти ни с кем до сих пор не встречалась настолько долго. Ей виделось, что это вроде замаскированных приемов, которыми возлюбленные узнают друг друга. Как Мисти знала, что любимый Питеров вкус мороженого был «тыквенный пирог», – ей не казалось, будто вопросы что-нибудь значат.
Мисти ответила:
– Временная. Перевалочная, – сделала паузу и закончила. – Сбивающая с толку.
В прошлой жизни, все шагая с Питером, не держась за руки, она услышала, как работал тест Карла Юнга. Каждый вопрос был способом сознательно достичь подсознания.
Цвет. Животное. Водный бассейн. Белоснежная комната.
Каждое из них, сказал Питер, это мотив, по Карлу Юнгу. Каждый образ отражает какую-то сторону личности.
Упомянутый Мисти цвет, золотой, – то, как она видит себя.
Она охарактеризовала себя, как «сверкающую», «дорогую» и «приятную».
Животное – то, как мы относимся к окружающим.
Она охарактеризовала людей, как «грязных», «дурных» и «уродливых».
Водный бассейн отражал ее половую жизнь.
Суетливую, торопливую и переполненную. По Карлу Юнгу.
Все наши слова выдают нашу руку. Наш дневник.
Не глядя на нее, Питер сказал:
– Твой ответ меня нисколько не удивил.
Последний вопрос Питера, про белоснежную комнату, – он сказал, мол, эта комната без окон и дверей характеризует смерть.
Смерть для нее будет временной, перевалочной и сбивающей с толку.
12 августа – Полнолуние
ДЖАЙНИСТЫ БЫЛИ сектой буддистов, которые утверждали, будто умеют летать. Умеют ходить по воде. Могут понимать любой язык. Говорят, будто они могли превратить дешевый металл в золото. Умели лечить калек и исцелять слепцов.
Закрыв глаза, Мисти слушает рассказ доктора обо всем этом. Она слушает и рисует. Она встает засветло, чтобы Грэйс заклеила ей лицо. Липкая лента снимается после заката.
– Считается, – говорит голос доктора. – Что джайнисты умели воскрешать мертвых.
Все это они могли делать потому, что мучили себя. Голодали и жили без секса. Именно такая жизнь, полная тягот и боли, давала им волшебную силу.
– Такое суждение называют «аскетизмом», – сообщает доктор.
В продолжение его речи Мисти молча рисует. Мисти трудится, а он держит нужные ей краски, кисти и карандаши. Когда она заканчивает работу, он меняет лист. Делает то, что раньше делала Тэбби.
Слава о джайн-буддистах шла по всем царствам Среднего Востока. На площадях Египта и Сирии, Эпира и Македонии, за целых четыреста лет до рождества Христова, они творили чудеса. Эти чудеса вдохновляли ветхозаветных иудеев и ранних христиан. Изумляли Александра Македонского.
Доктор Туше рассказывает дальше и дальше, говорит, что христианские великомученики были ветвью джайнистов. Святая Катерина Сиенская каждый день секла себя троекратно. Первый хлыст был за ее собственные прегрешения. Второй хлыст был за грехи живущих. Третий – за грехи всех умерших.
Святой Симеон был причислен к лику святых после того, как стоял на колонне, раздетый до основания, пока не сгнил заживо.
Мисти говорит:
– Этот готов, – и ждет новый лист бумаги, новый холст.
Слышно, как доктор снимает свежую картину. Говорит:
– Изумительно. Абсолютно вдохновенно, – его голос утихает, пока он несет ее через комнату. Доносится царапанье, когда он ставит карандашом на обороте номер. Снаружи океан, шипят и бьются волны. Он пристраивает картину у двери, – потом голос доктора возвращается, становясь ближе и громче, и спрашивает:
– Тебе снова бумагу, или холст?
Неважно.
– Холст, – говорит Мисти.
Мисти не видела ни одну из своих картин со времени смерти Тэбби. Она спрашивает:
– Куда вы их деваете?
– В надежное место, – отвечает он.
Ее цикл задержался уже почти на неделю. От истощения. Ей и мочиться на палочки для проверки на беременность не нужно. Питер уже сделал свое дело, затащив ее сюда.
А доктор объявляет:
– Можешь начинать, – его руки смыкаются на ее, и тянут вперед, пока те не касаются грубой натянутой ткани, уже закрепленной по контуру клеем из кроличьей кожи.
Ветхозаветные иудеи, говорит он, изначально были кучкой персидских анахоретов, которые поклонялись солнцу.
Анахореты. Так называли тех женщин, которых замуровывали заживо в подвалах соборов. Муровали, чтобы дать зданию душу. Сумасшедшая история подрядчиков-строителей. Запечатывающих в стены виски, женщин и кошек. Ее муж в том числе.
Ты.
Мисти поймана в ловушку мансарды, привязана к месту тяжелым гипсом. Дверь всегда заперта снаружи. У доктора всегда готов шприц с каким-то лекарством, стоит ей задергаться. О, Мисти могла бы книжки писать об анахоретах.
Ветхозаветники, говорит доктор Туше, жили вдали от суетного мира. Развивались, вынося болезни и муки. Оставляли семьи и имущество. Страдали в вере, что бессмертные небесные души, когда те сходят на землю и обретают телесную форму, подстерегает искушение заниматься сексом, пить, принимать наркотики, есть без меры.
Ветхозаветники учили юного Иисуса Христа. Учили Иоанна Крестителя.
Они звали себя целителями, и творили все Христовы чудеса – исцеляли больных, воскрешали мертвых, изгоняли демонов – за столетия до Лазаря. Джайнисты превращали воду в вино за столетия до ветхозаветников, которые проделывали то же самое за столетия до Иисуса.
– Одни и те же чудеса можно повторять снова и снова, когда все забывают последний раз, – поучает доктор. – Помни об этом.
Как Христос звал себя «камнем, отвергнутым каменотесами», так и отшельники-джайнисты звали себя «бревнами, которые отверг всякий плотник».
– По их убеждению, – рассказывает доктор. – Провидец должен был жить вдали от суетного мира, отвергая наслаждение, удобство и согласие для того, чтобы коснуться божественного.
Полетт приносит ланч на подносе, но Мисти не хочет пищи. Ей слышно, как по ту сторону закрытых век ест доктор. Царапанье ножа и вилки по фарфоровой тарелке. Звон льда в стакане с водой.
Он зовет:
– Полетт? – говорит с набитым ртом. – Не могла бы ты захватить те картины, у двери, и отнести их в столовую к остальным?
В надежное место.
Слышен запах ветчины с чесноком. И чего-то шоколадного, торта или пудинга. Слышно жевание доктора и влажный «бульк» каждого глотка.
– Интересный момент, – сообщает доктор. – В том, чтобы рассмотреть боль как некое духовное средство.
Муки и лишения. Буддистские монахи сидят на крышах, постятся и бодрствуют, пока не достигнут просветления. В уединении, открывшись солнцу и ветру. Сравнить их со Святым Симеоном, гнившим на колонне. Или со временами стоящих йогов. Или с коренными обитателями Америки, которые удалялись на поиски видений. Или с голодающими девушками в Америке девятнадцатого века, которые постились и умирали из благочестия. Или со Святой Вероникой, единственной пищей которой были пять апельсиновых зерен, в память о пяти Христовых ранах. Или с лордом Байроном, который постился и очищался, и осуществил героический заплыв через Геллеспонт. Романтичный анорексик. Моисей и Илия, которые постились, чтобы обрести видения, в Ветхом завете. Английские ведьмы семнадцатого века, которые голодали, чтобы накладывать заклятия. Или дервиши-скитальцы, изматывавшие себя ради просветления.
Доктор все продолжает и продолжает.
Все эти мистики, всю историю, по всему миру, – сплошь находили путь к просветлению через физические страдания.
А Мисти все рисует молча.
– А теперь, вот что любопытно, – продолжает голос доктора. – В соответствии с физиологией разделенного мозга, головной мозг, как грецкий орех, делится на две половинки.
«Левая половина головного мозга занимается логикой, языком, расчетами и здравым смыслом», – говорит он. Эта половинка воспринимается человеком как собственное "я". Это сознательная, рациональная, привычная основа нашего мира.
«В правой части мозга», – сообщает ей доктор, – «Центр твоей интуиции, чувств, прозрений и распознания образов». Подсознание.
– Левое полушарие – ученый, – говорит доктор. – Правое полушарие – художник.
Он рассказывает, что в повседневной жизни люди пользуются левой половиной мозга. И только когда кто-то чувствует крайнюю боль, или расстроен, или нездоров, – его подсознание может проскользнуть в сознание. Когда кто-то ранен, болен, опечален или подавлен, правое полушарие может перехватить власть вспышкой, только на миг, и открыть ему доступ к божественному вдохновению.
Вспышка вдохновения. Миг прозрения.
Французский физиолог Пьер Жене называл это состояние «снижением умственной заслонки».
Доктор Туше произносит:
– "Abaissement du niveau mental".
Когда мы устали, подавлены, голодны или чувствуем боль.
Если верить немецкому философу Карлу Юнгу, это позволяет нам подключиться ко вселенскому объему знаний. К мудрости всех людей всех времен.
Карл Юнг, – то, что Питер рассказывал Мисти о ней. Золото. Голуби. Морской путь Сент-Лоуренс.
Фрида Кало и ее кровоточащие язвы. Все великие художники – инвалиды.
Если верить Платону, мы ничему не учимся. Наша душа прожила столько жизней, что мы все знаем. Учителя и образование могут лишь напомнить нам то, что нам уже известно.
Наши несчастья. Эти подавления рационального разума – источник вдохновения. Муза. Наш ангел-хранитель. Страдания выводят нас из рационального самоконтроля и позволяют божественному течь сквозь нас.
– Любой стресс в достаточном количестве, – говорит доктор. – Плохой или хороший, любовь или боль, может сломить наш здравый смысл и подарить нам мысли и способности, которые не получить другим путем.
Все это напоминает речи Энджела Делапорта. Метод физических действий Станиславского. Испытанное средство для создания чудес по востребованию.
От дыхания доктора, когда тот нависает над ней, греется щека Мисти. Запах ветчины с чесноком.
Кисть останавливается, и Мисти сообщает:
– Этот готов.
Кто-то стучится в дверь. Щелкает замок. Потом Грэйс, ее голос, спрашивает:
– Как она, доктор?
– Трудится, – отвечает тот. – Вот, пронумеруй этот, восемьдесят один. Потом положи к остальным.
А Грэйс говорит:
– Мисти, дорогая, мы решили, что тебе, видимо, нужно знать, мы тут пытаемся связаться с твоей семьей. По поводу Тэбби.
Слышно, как кто-то снимает с мольберта холст. Шаги несут его через комнату. Что на нем – Мисти не знает.
Тэбби не вернуть. Может, Иисус бы смог, или джайн-буддисты, – но больше никто. Нога Мисти в гипсе, ее дочь мертва, муж в коме, сама Мисти поймана в ловушку и угасает, отравленная, с головными болями – если доктор прав, она могла бы гулять по воде. Могла бы оживлять мертвецов.
Мягкая рука смыкается на плече, и голос Грэйс приближается к уху.
– Сегодня днем мы развеем пепел Тэбби, – говорит она. – В четыре часа, на мысу.
Весь остров, все будут там. Так же, как были на похоронах Гэрроу Уилмота. Доктор Туше, бальзамирующий тело в смотровом кабинете, выложенном зеленой плиткой, со счетоводским стальным столом и обгаженными дипломами на стене.
Прах к праху. Ее ребенок в урне.
«Мона Лиза» Леонардо – всего лишь тысяча тысяч мазков краски. «Давид» Микеланджело – лишь миллион ударов молотом. Каждый из нас – миллион кусочков, правильно собранных в целое, не более того.
С липкой лентой на глазах, держа лицо расслабленным, – как маску, – Мисти спрашивает:
– Кто-нибудь ходил сообщить Питеру?
Кто-то вздыхает -долгий вдох, потом выдох. Грэйс говорит:
– Что это даст?
Он ее отец.
Ты ее отец.
Серое облако Тэбби унесет ветер. Понесет вдоль берега обратно, к городку, к гостинице, к домам и церкви. К неоновым вывескам, рекламным щитам, корпоративным логотипам и торговым маркам.
Дорогой милый Питер, можешь считать, что тебе сообщили.
15 августа
ПРОСТО НА ЗАМЕТКУ, одна из проблем с худфаком в том, что он делает тебя куда уж менее романтичной. Вся эта куча хлама о художниках и мансардах исчезает под грузом знаний по химии, по геометрии и анатомии. Вещи, которым тебя учат, объясняют мир. Образование оставляет все очень ясным и прилизанным.
Очень растолкованным и осмысленным.
Все время романа с Питером Уилмотом Мисти знала, что любила не его самого. Женщины попросту ищут лучший биологический образец на роль отца своих детей. Здоровая женщина повязана с поисками треугольника гладких мышц в открытом Питеровом воротнике, потому что в процессе эволюции люди утратили волосы, чтобы потеть и охлаждаться, когда избавлялись от горячей устаревшей формы какого-то животного волосяного протеина.
Мужчины с меньшим растительным покровом также менее претендуют на роль прибежища для вшей, блох и клещей.
Перед их свиданиями Питер брал ее картину. Та была в рамке и за стеклом. А Питер прижимал две длинные полоски сверхлипкой двусторонней монтажной ленты на оборот рамки. Осторожно, не касаясь липкой ленты, он укутывал картину в подол своего мешковатого свитера.
Любой женщине понравится, как Питер запускает пальцы в ее волосы. Это элементарная наука. Физическое касание подражает ранним практикам родительского ухода за ребенком. Оно стимулирует выработку гормона роста и энзимов декарбоксилазы орнитина. С другой стороны, пальцы Питера, гладящие ей затылок, естественно снизят уровни ее гормонов стресса. Это было доказано в лаборатории, когда детенышей крысы гладили кисточкой.
После того, как узнаешь биологию, будет недосуг ей пользоваться.
На свиданиях наши Питер и Мисти ходили по музеям и галереям. Только вдвоем, шли и общались, а Питер в фас казался чуть квадратным, чуть беременным ее картиной.
В мире нет ничего особенного. Никакого волшебства. Только физика.
Идиоты вроде Энджела Делапорта, которые ищут сверхъестественных объяснений для обычных вещей – такие люди доводят Мисти до белого каления.
Прогуливаясь по галереям в поисках пустого места на стене, Питер был живым эталоном золотого сечения, формулы, которой греческие скульпторы пользовались для вычисления идеальной пропорции. Его ноги были в 1,6 раз длиннее чем туловище. Туловище – в 1,6 раз длиннее головы.
Посмотри на свои пальцы – как первый сустав длиннее второго, а второй длиннее конечного. Это отношение называется «фи», по скульптору Фидию.
Твоя архитектура.
На прогулке Мисти рассказывала Питеру о химии рисования. О том, как физическая красота оказывается химией, геометрией и анатомией. Искусство на самом деле наука. Исследовать, почему людям что-то нравится, чтобы воспроизвести его. Скопировать его. Парадокс – «создавать» настоящую улыбку. Прокручивать снова и снова спонтанный момент ужаса. Весь пот и утомительный труд, ведущий к созданию того, что кажется простым минутным делом.
Когда люди разглядывают потолок Сикстинской капеллы, им следует знать, что карбоновая черная краска – копоть природного газа. Мареновый розовый цвет – корнеплод растения марены. Изумрудный зеленый – ацетоарсенит, так же называемый «парижским зеленым», и применяемый как инсектицид. Как яд. Тирийский пурпур делается из моллюсков.
А наш Питер вытаскивал картину из-под свитера. В галерее в одиночку, когда никто не видел, он прижимал к стене картину с каменным домом за штакетником. И тут же была она, подпись Мисти Марии Клейнмэн. А Питер говорил:
– Я же сказал тебе, что однажды твоя работа будет висеть в музее.
В его глазах был темный египетский коричневый, цвет, сделанный из ископаемых мумий, из костяного пепла и смол, и использовавшийся до девятнадцатого века, до того, как художники открыли этот мерзкий факт. После того, как годами скручивали губами кисти.
Пока Питер целовал ее в затылок, Мисти рассказывала, мол, когда смотришь на «Мону Лизу», нужно помнить, что жженая охра – попросту глина, крашеная железом с марганцем и запеченная в печке. Коричневая сепия – чернильные мешочки каракатиц. Голландский розовый – давленые семена подорожника.
Идеальный язык Питера вылизывал ее под ухом. Что-то, но не картина, торчало у него в штанах.
А Мисти прошептала:
– Индийский желтый – моча коров, которых кормят листьями манго.
Одна рука Питера обвила ее плечи. Другой рукой он надавил ей под коленку, пока та не согнулась. Питер опустил ее на мраморный пол галереи, и сказал:
– Te amo, Мисти.
Просто на заметку – получился маленький сюрприз.
Навалившись на нее весом, Питер добавил:
– Ты считаешь, что знаешь так много.
Искусство, вдохновение, любовь – их так легко расчленить. Объяснить и развеять.
«Цвета красок „ирисовый зеленый“ и „сочный зеленый“ – цветочный сок. Цвет „каппагский коричневый“ – ирландская грязь», – шептала Мисти. Киноварь – ярко-красная руда, которую сбивают стрелами с высоких испанских утесов. Бистр – желтовато-коричневая сажа, остающаяся от жженых буковых дров. Каждый шедевр – попросту земля и прах, собранные воедино неким идеальным образом.
Земля к земле. Прах к праху.
Даже когда они целовались, ты закрывал глаза.
А Мисти держала свои раскрытыми, глядя не на тебя, а на сережку в твоем ухе. Потемневшее почти до коричневого серебро, удерживающее связку граненых квадратных бриллиантов из стекла, мерцающего, зарытого в черные волосы, которые падали тебе на плечи, – вот что любила Мисти.
В тот первый раз Мисти все повторяла тебе:
– Цвет краски «серый Дэви» – толченый сланец. «Бременский синий» – гидроксид меди с карбонатом меди, смертельный яд, – говорила Мисти. – «Бриллиантовый алый» – йод со ртутью. Цвет «костяной черный» – жженая кость…
16 августа
ЦВЕТ «КОСТЯНОЙ ЧЕРНЫЙ» – жженая кость.
Шеллак – дерьмо, которое тля оставляет на листьях и ветках. «Сажа газовая» – жженая виноградная лоза. В масляных красках используется масло, выжатое из грецких орехов или маковых семян. Чем больше узнаешь о художестве, тем больше все напоминает ведьмины рецепты. Все измельченное, перемешанное, запеченное – смахивает скорее на поваренную книгу.
Мисти все говорила, говорила, говорила, но это было спустя многие дни, в галерее за галереей. Это было в музее, когда ее картина с высокой каменной церковью была прилеплена к стене между Моне и Ренуаром. Когда Мисти сидела на холодном полу, впуская Питера между расставленных ног. Был вечер, и музей был пустынен. Идеальная Питерова черная шевелюра крепко прижималась к полу, он тянулся вверх, обе его руки забрались ей под свитер, разминая пальцами ее соски.
Обе твои руки.
Поведенческие психологи утверждают, что люди совокупляются лицом к лицу из-за грудей. Женщины с большой грудью привлекали больше партнеров, которым хотелось играть с грудью во время акта. От большего количества секса разводилось больше женщин, наследовавших большие груди. Это порождало больше секса лицом к лицу.
Сейчас, здесь, на полу, с руками Питера, играющими грудью, с его эрекцией, скользящей под штанами, с раскинутыми над ним бедрами Мисти, она рассказывает, мол, когда Уильям Тернер рисовал шедевр с Ганнибалом, переходящим Альпы, чтобы сокрушить Саласскую армию, Тернер построил его на своей пешей прогулке по окрестностям Йоркшира.
Еще один пример того, что всё автопортрет.
Мисти рассказывала Питеру все, чему учат по истории искусств. Что Рембрандт таким толстым слоем мазал краску, что люди шутили, что каждый его портрет можно поднять за нос.
Отяжелевшие от пота волосы свисали ей на лицо. Ее пухлые ноги дрожали, лишившись сил, но все держа ее. Всухую трахающуюся с выпуклостью в его штанах.
Питеровы пальцы сильней сжали ее грудь. Его бедра выгнулись, и в его лице мышца orbicularis oculi крепко зажмурила глаза.
Его треугольная мышца подтянула уголки рта вниз, обнажив нижние зубы. Его зубы, пожелтевшие от кофе, кусали воздух.
Горячая влага забила из Мисти, а Питерова эрекция пульсировала в штанах, и все вокруг замерло. У них обоих перехватило дух на одно, два, три, четыре, пять, шесть, семь долгих мгновений.
Потом оба сникли. Увядая. Тело Питера расслабилось на сыром полу. Мисти распласталась на нем. Одежда у них обоих слиплась от пота.
Картина с высокой церковью смотрела со стены.
И прямо тут – вошел охранник музея.
20 августа – Луна на три четверти
ГОЛОС ГРЭЙС сообщает Мисти во тьме:
– Работа, которую ты делаешь, принесет твоему семейству свободу, – говорит. – Никто из летних людей не сунется сюда десятилетиями.
Пока Питер однажды не проснется, Грэйс и Мисти – единственные оставшиеся Уилмоты.
Пока ты не проснешься, больше Уилмотов не будет.
Слышен неторопливый, расчетливый звук ножниц, которыми Грэйс что-то режет.
Три поколения плечом к плечу. Нет смысла восстанавливать семейное состояние. Пусть дом отойдет католикам. Пусть летние люди заполонят остров. Раз Тэбби мертва, у Уилмотов нет ставок на будущее. Нет вложений.
Грэйс говорит:
– Твой труд – дар будущему, и любой, кто попытается помешать тебе, будет проклят историей.
Пока Мисти рисует, руки Грэйс опоясывают чем-то ее талию, потом плечи, потом шею. Что-то трет ей кожу, легкое и мягкое.
– Мисти, дорогая, у тебя талия в семнадцать дюймов, – сообщает Грэйс.
Это лента-сантиметр.
Что-то гладкое проскальзывает меж ее губ, и голос Грэйс говорит:
– Тебе время принять пилюлю, – в рот тычется питьевая соломинка, и Мисти отхлебывает немного воды, чтобы проглотить капсулу.
В 1819-м году Теодор Жерико писал свой шедевр, "Плот «Медузы». В нем было изображено десять человек, потерпевших кораблекрушение, которые уцелели из ста сорока семи людей, дрейфовавших на плоту две недели с момента крушения корабля. В те времена Жерико только что бросил беременную любовницу. Чтобы наказать себя, он обрил голову. Не виделся с друзьями почти два года, ни разу не выходил в народ. Ему было двадцать семь, он жил в уединении и рисовал. Окруженный мертвецами и умирающими, которых изучал для шедевра. После нескольких попыток самоубийства, в возрасте тридцати двух лет, он умер.
Грэйс заявляет:
– Мы все умрем, – говорит. – Цель – не жить вечно, цель – создать вещь, которая будет жить.
Она раскатывает сантиметр по длине ног Мисти.
Что-то гладкое и прохладное скользит Мисти по щеке, и голос Грэйс предлагает:
– Попробуй, – говорит Грэйс. – Это атлас. Я шью тебе сарафан к открытию.
Вместо «сарафан» Мисти слышится саван.
Уже наощупь Мисти известно, что атлас белый. Грэйс режет свадебное платье Мисти. Перекраивает его. Заставляет его остаться на века. Родиться заново. Переродиться. Оно по-прежнему в духах Мисти «Песнь ветра», – Мисти в своем духе.
Грэйс говорит:
– Мы позвали всех летних людей. Как же, по приглашению. Твоя выставка будет самым крупным общественным событием за сотню лет.
Как и ее свадьба. Наша свадьба.
Вместо «приглашение» Мисти слышится – как жертвоприношение.
Грэйс говорит:
– Твой труд почти готов. Осталось закончить всего восемнадцать картин.
Чтобы вышло ровно сто.
Вместо «труд» Мисти слышится труп.
21 августа
СЕГОДНЯ ВО ТЬМЕ по ту сторону век Мисти срабатывает пожарная сигнализация гостиницы. Одинокое непрерывное дребезжание звонка в коридоре проникает сквозь дверь так громко, что Грэйс приходится крикнуть:
– О, что еще такое?
Она кладет руку Мисти на плечо и говорит:
– Работай дальше.
Рука сжимается, и Грэйс добавляет:
– Давай, закончи эту последнюю картину. Больше нам ничего не нужно.
Ее шаги удаляются, и открывается дверь в коридор. На миг сигнализация звучит громче, звенит, дребезжит как звонок на переменку в школе Тэбби. Как в ее собственных младших классах, когда она была маленькой. Звон снова притихает, когда Грэйс прикрывает за собой дверь. Не заперев ее.
Но Мисти продолжает рисовать.
А мама, в Текумеш-Лэйк, когда Мисти сообщила ей, что наверное выйдет за Питера и переедет на остров Уэйтензи, мама сказала Мисти что все крупные состояния возведены на мошенничестве и страданиях. Чем больше капитал, заявила она, тем больше людей пострадало. У богачей, заявила она, первый брак связан только с продолжением рода. Она спросила – Мисти и впрямь собралась провести остаток жизни в окружении таких людей?
Ее мамочка спросила:
– Ты что, больше не хочешь стать художницей?
Просто на заметку, Мисти ответила ей – «Угу, конечно».
И даже не потому, что Мисти была так уж влюблена в Питера. Мисти не знала, почему так. Она попросту не могла вернуться домой, в этот трейлерный парк, ни за что.
Может, просто-напросто, дело дочери – выводить мать из себя.
На худфаке такому не учат.
Пожарная сигнализация все звенит.
Неделя, когда Мисти сбежала с Питером, была во время рождественских каникул. Всю неделю мама волновалась из-за Мисти. Священник глянул на Питера и сказал:
– Улыбнись, сынок. У тебя вид, как на расстреле.
А ее мама позвонила в колледж. Обзвонила больницы. В одной неотложке был женский труп, – тело девушки, которую нашли голой в канаве, с сотней ножевых ранений в области живота. И мама Мисти провела рождественский день, пересекая на машине три округа, чтобы взглянуть на изуродованный труп этой мисс Неизвестно Кто. Пока Мисти с Питером шествовали по центральному проходу Уэйтензийской церкви, ее мама задерживала дыхание и смотрела, как полицейский детектив расстегивает «молнию» на мешке с телом.
Тогда, в прошлой жизни, через пару дней после Рождества, Мисти позвонила маме. Сидя в доме Уилмотов за запертой дверью, Мисти перебирала бижутерию, подаренную Питером за время свиданий, поддельные самоцветы и фальшивый жемчуг. На автоответчике Мисти выслушала дюжину напуганных маминых сообщений. Когда Мисти наконец собралась и позвонила на их номер в Текумеш-Лэйк, мама молча повесила трубку.
Беда была невелика. Немного всплакнув, Мисти больше никогда не звонила маме.
Опять же, остров Уэйтензи куда больше походил на дом, чем удавалось трейлеру.
Пожарная сигнализация гостиницы все звенит, и по ту сторону двери кто-то зовет:
– Мисти? Мисти Мария? – стучат. Мужской голос.
А Мисти отзывается – «Да?»
Звон становится громче при открытой двери, потом стихает. Какой-то мужчина говорит:
– Боже, как здесь воняет! – и это Энджел Делапорт, явившийся ее спасти.
Просто на заметку: погода сегодня неистова, тревожна и немного суматошна из-за Энджела, сдирающего с ее лица липкую ленту. Он вынимает из ее руки кисть. Энджел шлепает ее по лицу, по разу на щеку, и говорит:
– Вставайте. У нас мало времени.
Энджел Делапорт так шлепает ее по лицу, как отпускают пощечину девкам на мексиканских каналах. А вся Мисти – кожа да кости.
Гостиничная пожарная сигнализация все звонит и звонит.
Щурясь на солнечный свет из одинокого окошка, Мисти просит. «Стойте». Мисти говорит, мол, он не понимает. Она должна рисовать. Это все, что ей осталось.
Картина перед ней – квадратик неба, исполосованного белым и голубым, все незаконченное, но занимает весь лист бумаги. У стены возле двери выстроены другие картины, развернутые к стене лицевой стороной. У каждой на обороте карандашом проставлен номер. Девяносто восемь. На другой – девяносто девять.
Сигнализация все звонит и звонит.
– Мисти, – говорит Энджел. – Не знаю, что это за экспериментик, но с вас довольно, – он идет к чулану, вынимает халат и сандалии. Возвращается, и втыкает в них ее ноги, продолжая. – Должно уйти около двух минут, пока люди выяснят, что тревога ложная.
Энджел просовывает руку ей под мышки, и тянет Мисти на ноги. Складывает руку в кулак и стучит по гипсу, со словами:
– А это еще к чему?
Мисти спрашивает – зачем он здесь?
– Пилюля, которую вы мне дали, – рассказывает Энджел. – Вызвала у меня худшую мигрень за всю мою жизнь, – набрасывает ей на плечи халат и продолжает. – Я дал ее на анализ химику, – продевая в рукава халата ее натруженные руки, он рассказывает. – Уж не знаю, что у вас за врач, но в этих капсулах – порошок свинца с примесями мышьяка и ртути.
Токсичные компоненты масляных красок: «красный Ван Дейка», ферроцианид; «йодистый алый», ртутный йодид; «снежный белый», карбонат свинца; «кобальтовый фиолетовый», мышьяк – все эти прекрасные составляющие и оттенки, которые так ценят художники, но которые смертоносны. Мечта создать шедевр, которая сворачивает мозги, а потом убивает тебя.
Ее, Мисти Марию Уилмот, отравленную наркоманку, одержимую дьяволом, Карлом Юнгом и Станиславским, рисующую идеальные углы и линии.
Мисти говорит, мол, он не понимает. Мисти говорит – ее дочь, Тэбби. Тэбби погибла.
А Энджел замирает. Спрашивает, выгнув брови от удивления:
– Как?
Несколько дней назад, или – недель. Мисти не знает. Тэбби утонула.
– Вы уверены? – спрашивает он. – В газетах не писали.
Просто на заметку – Мисти ни в чем не уверена.
Энджел говорит:
– Воняет мочой.
Это катетер. Он выдернулся. За ними тянется след мочи, от мольберта, из комнаты, и по ковру в коридоре. Тянется след мочи и гипс.
– Готов поспорить, – заявляет Энджел. – Что вам и гипс-то на ноге не нужен, – говорит. – Помните кресло на рисунке, который вы мне продали?
Мисти отзывается:
– Ну.
Обхватив ее руками, он тянет Мисти сквозь дверной проем, на лестницу.
– Это кресло было выполнено краснодеревщиком Гершелем Бурке в 1879-м году, – говорит. – И направлено на остров Уэйтензи по заказу семьи Бартонов.
Ее гипс бьется о каждую ступеньку. Ребра болят из-за пальцев Энджела, которые сжимают слишком крепко, вгрызаются, ввинчиваются в ее подмышки, – а Мисти рассказывает ему:
– Один полицейский детектив, – говорит Мисти. – Сказал, что люди из какого-то экологического клуба жгут все дома, в которых Питер оставил надписи.
– Сожгли, – поправляет Энджел. – Мой в том числе. Ни одного не осталось.
Океаническое Объединение Борьбы за Свободу. Сокращенно – ООБЗС.
На руках Энджела остались кожаные шоферские перчатки, он тащит ее по очередному лестничному пролету, со словами:
– Вы же видите, это значит – творится что-то сверхъестественное, верно?
Сначала Энджел Делапорт заявляет, мол, невозможно, что она может так хорошо рисовать. Теперь, значит, какой-то злой дух использует ее, как человека-планшетку для спиритизма. Ее, значит, хватает только на роль демонической чертежной принадлежности.
Мисти говорит:
– Я так и думала.
О, Мисти-то видит, что творится.
Мисти требует:
– Стой, – говорит. – А ты что здесь делаешь?
Почему, с самого начала всего этого, он был ее другом? Что же такое заставляет Энджела Делапорта донимать ее? Пока Питер не испортил его кухню, пока Мисти не сдала ему дом, – они были незнакомы. А теперь он врубает пожарную сигнализацию и тащит ее по лестнице. Ее, с мертвым ребенком и мужем в коме.
Ее плечи изворачиваются. Локти вздергиваются, ударяя его в лицо, шлепая в несуществующие брови. Чтобы он отпустил ее. Чтобы оставил ее в покое. Мисти говорит:
– Хватит уже.
Тут, на лестнице, стихает пожарная сигнализация. Тихо. Звенит еще только в ушах.
Из коридоров каждого этажа слышны голоса. Голос на чердаке сообщает:
– Мисти исчезла. В комнате ее нет.
Доктор Туше.
Прежде, чем спуститься хоть на ступеньку, Мисти машет кулаками на Энджела. Мисти шепчет:
– Скажи мне.
Осев на лестницу, шепчет:
– Какого хуя ты со мной носишься?
21 августа …С половиной
ВСЕ, ЧТО в Питере любила Мисти, Энджел полюбил первым. На худфаке Питер был с Энджелом, пока не появилась Мисти. Они распланировали все будущее. Не художниками, но актерами. Заработают ли они денег – не важно, сказал ему Питер. Сказал Энджелу Делапорту. Кто-то из Питерова поколения возьмет в жены женщину, которая сделает семью Уилмотов и всех его земляков такими богатыми, что никому из них не придется работать. Он никогда не вдавался в подробности этой системы.
Ты не вдавался.
Но Питер сказал – раз в четыре поколения один парень с острова встретит женщину, на которой он должен жениться. Молодую студентку-художницу. Будто в какой-то старинной сказке. Он привезет ее домой, и она будет рисовать так хорошо, что принесет острову Уэйтензи богатство еще на сотню лет. Он пожертвует жизнью, но то была всего одна жизнь. Всего раз в четыре поколения.
Питер показал Энджелу Делапорту свою бижутерию. Он рассказал Энджелу о старинном обычае, мол, женщина, откликнувшаяся на украшения, притянутая и околдованная ими, окажется той самой девушкой из сказки. Каждый парень в его поколении должен был поступить на худфак. Ему приходилось носить предмет бижутерии, поцарапанный, ржавый и потускневший. Он должен был повстречать как можно больше женщин.
Ты должен был.
Дорогой милый скрытный бисексуальный Питер.
«Пидор ходячий», о котором Мисти пытались предостеречь подруги.
Эти броши они прокалывали сквозь кожу лба, сквозь соски. Пупки и щеки. Ожерелья продевали сквозь дырки в носу. Они ставили на возмущение. На отвращение. На то, чтобы предотвратить интерес со стороны любой женщины, – и каждый из них молился, чтобы какой-то другой парень повстречал пресловутую женщину. Потому что в день, когда тот парень-неудачник возьмет эту женщину в жены, остальные в его поколении смогут свободно жить собственной жизнью. Как и три последующих поколения.
Плечом к плечу.
Вместо развития остров застрял в этой замкнутой петле. В переработке одного и того же древнего успеха. В периоде возрождения. Все в том же ритуале.
Это Мисти должен был повстречать тот парень-неудачник. Мисти была их девушкой из сказки.
Там, на гостиничной лестнице, Энджел рассказал ей об этом. Потому что он никогда не мог понять, зачем Питер бросил его и уехал прочь, чтобы жениться на ней. Потому что Питер никогда не мог объяснить ему. Потому что Питер никогда не любил ее, говорит Энджел Делапорт.
Ты никогда не любил ее.
Ты, говнюк.
А непонятному можно придать любой смысл.
Потому что Питер всего-навсего осуществлял какое-то предназначение из небылицы. Поверье. Островную легенду, – и сколько сил Энджел ни тратил, пытаясь отговорить его, Питер настаивал, что Мисти – его судьба.
Твоя судьба.
Питер настаивал, что его жизнь должна быть растрачена в браке с нелюбимой женщиной, потому что он спасет семью, своих будущих детей, всех земляков от нищеты. От потери власти над их прекрасным мирком. Над их островом. Потому что эта система работала сотни лет.
Опустившись на ступени, Энджел продолжает:
– Потому я и нанял его поработать в моем доме. Потому я и последовал за ним сюда.
Он и Мисти на лестнице, между ними торчит ее гипс. Энджел Делапорт близко склоняется, – дыхание наполнено запахом красного вина, – и говорит:
– Я хочу только, чтобы ты рассказала мне, зачем он запечатывал эти комнаты. И комнату здесь – номер 313 – в этой гостинице?
Зачем Питер пожертвовал жизнью ради брака с ней? Его граффити – были не угрозой. Энджел говорит – в них было предупреждение. О чем Питер пытался всех предупредить?
На лестничной площадке над ними распахивается дверь, и голос произносит:
– Вот она где.
Это Полетт, женщина с конторки. Тут Грэйс Уилмот и доктор Туше. Здесь Брайан Гилмор, заведующий почтовым отделением. И пожилая миссис Терримор из библиотеки. Брэтт Питерсен, управляющий гостиницы. Мэтт Хайленд из бакалейной лавки. Весь городской совет спускается к ним по лестнице.
Энджел близко склоняется, стиснув ей плечо, и говорит:
– Питер не кончал с собой, – показывает вверх по лестнице и добавляет. – Это они. Они его убили.
А Грэйс Уилмот зовет:
– Мисти, дорогая. Тебе пора возвращаться к работе, – она трясет головой, причмокивает языком и говорит. – Мы уже почти, почти совсем закончили.
И руки Энджела, шоферские перчатки, отпускают ее. Он подается назад, став на ступень ниже, и продолжает:
– Питер меня предупреждал, – быстро переводя взгляд с нависающей толпы на Мисти, потом на толпу, он пятится со словами. – Я только хочу понять, что происходит.
Позади на ее плечах и предплечьях смыкаются руки, поднимая ее.
А Мисти не может выговорить ничего кроме:
– Питер был голубой?
Ты голубой?
Но Энджел Делапорт спотыкается и пятится вниз по ступеням. Скатывается на этаж ниже, все крича в лестничный пролет:
– Я иду в полицию! – кричит он. – На самом деле, Питер пытался уберечь людей от тебя!
23 августа
ОТ ЕЕ РУК ОСТАЛИСЬ ЛИШЬ болтающиеся веревки, обтянутые кожей. Шейные позвонки будто слеплены ссохшимися жилами. Воспалены. Натерты и измучены. Плечи свисают с позвоночника у основания черепа. Мозг запеченным черным булыжником застрял в голове. Лобковые волосы отрастают, чешутся и идут прыщиками у катетера. Пристроив перед собой новый лист бумаги, чистый холст, Мисти может взять в руки кисть или карандаш, – и ничего не будет. Когда Мисти делает зарисовку, заставляя руку что-то выводить, получается какой-нибудь каменный дом. Какой-нибудь розовый сад. Просто ее собственное лицо. Автопортрет-дневник.
Вдохновение как пришло быстро – так и испарилось.
Кто-то стаскивает с ее головы повязку, и солнечный свет чердачного окна заставляет ее сощуриться. Он так ослепительно ярок. С ней здесь доктор Туше, и он объявляет:
– Мои поздравления, Мисти. Все кончено.
То же самое он сказал, когда родилась Тэбби.
Ее самодельное бессмертие.
Говорит:
– Возможно, понадобится несколько дней, прежде чем ты сможешь стоять, – и просовывает руку, обвив ее спину, подхватив ее под мышки, – и поднимает Мисти на ноги.
На подоконнике кто-то бросил обувную коробку Тэбби, набитую бижутерией. Переливчатые дешевые осколки зеркала, ограненные под бриллиант. Каждый угол отражает свет в определенном направлении. Восхитительно. Тайный костер, там, в свете солнца, отраженного океаном.
– У окна? – спрашивает доктор. – Или тебе лучше б отдохнуть?
Вместо «отдохнуть» Мисти слышится подохнуть.
Комната в точности такая, какой ее помнит Мисти. Подушка Питера на кровати, его запах. Картины – все до одной – исчезли. Мисти интересуется:
– Что вы с ними сделали?
Твой запах.
А доктор Туше направляет ее к стулу у окна. Опускает на одеяло, простеленное на стул, и говорит:
– Ты сделала очередной замечательный труд. Лучшего мы пожелать не могли.
Он раздвигает шторы, обнажая океан, пляж… Летние люди оттесняют друг друга, пробираясь к воде. Мусор вдоль линии прибоя. Мимо пыхтит пляжный трактор, волоча каток. Стальной цилиндр катится, отпечатывая на сыром песке равносторонний треугольник. Чью-то корпоративную эмблему.
Около эмблемы в песке напечатано – «Используя былые ошибки, чтобы построить лучшее будущее».
Чья-то туманная проповедь в лозунге.
– На следующей неделе, – замечает доктор. – Эта компания раскошелится, чтобы стереть свое имя с острова.
Непонятному можно придать любой смысл.
Трактор тянет каток, отпечатывая послание снова и снова, когда его смывают волны.
Доктор рассказывает:
– Когда разбивается авиалайнер, все авиалинии оплачивают отмену своей рекламы в газетах и по телевидению. Знаешь? Все они не хотят рисковать, ассоциировав себя с таким происшествием, – продолжает он. – На следующей неделе на острове не останется ни одного фирменного знака. Они заплатят, сколько с них ни спроси, чтобы выкупить имя.
Доктор складывает отмершие руки Мисти у нее в подоле. Будто бальзамируя ее. Говорит:
– Ну, отдыхай. Полетт скоро поднимется за твоим заказом к ужину.
Просто на заметку, он подходит к тумбочке у кровати и подхватывает пузырек с капсулами. Уходя, опускает пузырек в боковой карман пиджака – без слов.
– Еще неделя, – объявляет он. – И весь мир будет бояться этого края – но нас оставят в покое.
Выходя наружу, он оставляет дверь незапертой.
А в прошлой жизни Мисти и Питер пересдали нью-йоркское жилье, когда позвонила Грэйс, сообщив, что умер Гэрроу. Отец Питера умер, а мать осталась одна в большом доме на Буковой улице. Высотой в четыре этажа, с горной грядой крыш, башен и эркеров. И Питер объявил, что им нужно ехать и присмотреть за ней. Занять апартаменты Гэрроу. Питер был исполнителем воли по завещанию. Только на пару месяцев, сказал он. А потом Мисти забеременела.
Они продолжали рассказывать друг другу, мол, Нью-Йорк остается в планах. Потом стали родителями.
Просто на заметку: жаловаться Мисти было не на что. Был небольшой промежуток времени, первые несколько лет после рождения Тэбби, когда Мисти свивалась клубком с ней в постели, и больше ничто в целом свете ей было не нужно. Когда у Мисти появилась Тэбби, та стала частью чего-то – рода Уилмотов, всего острова. Мисти чувствовала себя полноценней и уютней, чем ей когда-либо мечталось. Волны на пляже за окнами спальни, тихие улицы – остров был настолько удален от мира, что пропадали нужды. Волнения. Желания. Вечные ожидания большего.
Она бросила рисовать и курить траву.
Ей не нужно было чего-то добиваться, становиться кем-то или избегать чего-то. Хватало одного присутствия здесь.
Тихие ритуалы мытья посуды или глажки вещей. Домой возвращался Питер, и они сидели на крыльце с Грэйс. Читали Тэбби перед сном. Скрипели древней плетеной мебелью, и мотыльки кружились у фонаря над крыльцом. В глубине дома часы били час. Из зарослей за поселком временами доносилось уханье совы.
По ту сторону воды города континента были переполнены людьми, залеплены знаками, продвигающими городскую продукцию. Люди жрали дешевую еду и бросали мусор на пляж. Почему никогда не страдал остров – да потому, что здесь нечего было делать. Не сдавалось комнат. Не было гостиницы. Не было дач. Не было вечеринок. Пищу было не заказать, потому что не было закусочных. Никто не продавал вручную размалеванные ракушки с надписью «Остров Уэйтензи» в золотом курсиве. Пляжи были каменистыми со стороны океана… и были грязными от устричных поселений со стороны, выходящей на континент.
В те времена городской совет начал работы над новым открытием гостиницы. Безумие – используя последние капли всех сбереженных средств, все семейства островитян включились в отстройку выжженных, обрушенных древних развалин, которые высились на откосе холма над гаванью. Растрачивая последние запасы, чтобы завлечь кучи туристов. Обрекая следующее поколение на обслуживание столиков, на уборку в номерах, на рисование сувенирной дряни на ракушках.
Трудно забыть боль, но еще труднее вспомнить радость.
Счастье не оставляет памятных шрамов. Покой учит нас так малому.
Свернувшись клубком на стеганом одеяле, будто некую часть любого человека в поколениях, Мисти обвивала руками дочь. Мисти обнимала своего ребенка, укрыв его телом, будто тот еще был внутри. Еще был частью Мисти. Бессмертной.
Кислый молочный запах Тэбби, ее дыхания. Сладковатый аромат детской пудры, почти сахарной. Нос Мисти, зарывшийся в теплую кожу, в шею ребенка.
Заключенные в эти годы, они не нуждались в спешке. Они были молоды. Их мир был чист. По воскресеньям – церковь. Чтение книг, купания в ванне. Сбор диких ягод и заготовление варенья по ночам, когда в белой кухне прохладно от бриза, и окна подняты. Они всегда помнили фазу луны, но редко – день недели.
Лишь в этот маленький промежуток лет Мисти виделось, что жизнь ее не идет к концу. Ей светило будущее.
Они ставили Тэбби у парадной двери. У всех забытых имен, остававшихся на ней. Этих детей, ныне покойников. Помечали фломастером ее рост.
«Тэбби, четыре года».
«Тэбби, восемь лет».
Просто на заметку: погода сегодня слегка расчувствовалась.
Здесь, когда она сидит у слухового окошка мансарды в Уэйтензийской гостинице, перед ней расстилается остров, испачканный чужаками и надписями. Рекламными щитами и неоном. Эмблемами. Торговыми марками.
В кровати, в которой Мисти свивалась у Тэбби, стараясь удержать ее в себе, теперь спит Энджел Делапорт. Какой-то психопат. Прямо преследователь. В ее комнате, в ее постели, под окном, когда снаружи шипят и бьются волны океана.
В доме Питера.
В нашем доме. В нашей постели.
Пока Тэбби не исполнилось десять, Уэйтензийская гостиница была пуста и закрыта. Окна взяты ставнями из фанеры, прибитой к оконным рамам. Двери под засовом.
В лето, когда Тэбби стукнуло десять, гостиница открылась. Поселок превратился в армию официанток и посыльных, горничных и портье. Именно в тот год Питер взялся работать вне острова, ставя простенки. Проводя небольшие перепланировки для летних людей, у которых столько домов, что присматривать за всеми некогда. Когда открылась гостиница, паром начал ходить весь день, каждый день, заполоняя остров туристами и потоками машин.
Затем прибыли бумажные стаканчики и обертки от фаст-фуда. Автомобильные гудки и длинные очереди за местом для стоянки. Использованные подгузники, оставленные людьми в песке. Остров катился под откос до нынешнего года, когда Тэбби исполнилось тринадцать, когда Мисти вышла в гараж и обнаружила Питера, уснувшего в машине с пустым топливным баком. Когда люди начали звонить, сообщая, что у них пропадают бельевые кладовки, гостевые спальни. Когда Энждел Делапорт попал точно туда, куда мечтал все время. В койку ее мужа.
В твою койку.
Энджел лежит в ее постели. Энджел спит с ее рисунком антикварного кресла.
А Мисти осталась ни с чем. Тэбби – нет. Вдохновения – нет.
Просто на заметку, Мисти никогда никому об этом не рассказывала, но Питер собрал чемодан и спрятал его в багажник машины. Чемодан в дорогу, смена белья для преисподней. Это всегда казалось бессмысленным. Что Питер ни делал все последние три года – ни в чем не было особого смысла.
За чердачным окошком, внизу, на пляже, в волнах плещутся дети. На одном из мальчиков цветастая белая рубашка и черные штаны. Он обращается к другому пареньку, в одних футбольных шортах. Они передают друг другу сигарету, затягиваясь по очереди. У мальчика в цветастой рубашке черные волосы, такие короткие, что их едва можно убрать за уши.
На подоконнике – обувной коробок Тэбби с бижутерией. Браслеты, осиротевшие сережки и поцарапанные старые броши. Питеровы украшения. Грохочущие в коробке с рассыпанным пластмассовым жемчугом и стеклянными бриллиантами.
Мисти смотрит из окна на пляж, на то место, где она в последний раз видела Тэбби. Где это случилось. У мальчика с короткими черными волосами сережка, что-то, переливающееся красным и золотым. И Мисти, неслышно ни для кого, произносит:
– Тэбби.
Пальцы Мисти вцепляются в подоконник, она высовывает голову и плечи наружу и зовет:
– Тэбби?
Высунувшись из окна почти наполовину, рискуя вот-вот выпасть с высоты пяти этажей на гостиничное крыльцо, Мисти орет:
– Тэбби!
И это она. Это Тэбби. С подстриженными волосами. Флиртует с каким-то парнем. Курит.
Мальчик спокойно затягивается сигаретой и возвращает ее назад. Встряхивает волосами и смеется, прикрывая рукой рот. Его волосы в ветре океана – как реющий черный флаг.
Волны шипят и бьются.
Ее волосы. Твои волосы.
Мисти протискивается в окошко, и обувная коробка вываливается наружу. Коробка скользит по гонту крыши. Ударяется о водосток и распахивается, и разлетаются украшения. Падают, сверкая красным, желтым и зеленым, ярко вспыхивая фейерверком и падая, как едва не упала Мисти, – вниз, рассыпаясь по бетонному покрытию гостиничного крыльца.
Только сотня фунтов гипсовой повязки, заключенной в гипс ноги, мешают ей вывалиться в окно. Потом ее обхватывает пара рук, и чей-то голос просит:
– Мисти, не надо.
Кто-то оттаскивает ее прочь, -и это Полетт. Меню обслуживания номеров упало на пол. Руки Полетт обвивают ее сзади. Руки Полетт смыкаются, и она дергает Мисти, вертит ее у недвижной гири, у гипсовой повязки во всю ногу, тыкает ее лицом в ковер, заляпанный краской.
Пыхтя, пыхтя и перетаскивая огромную гипсовую ногу, гирю с цепью, обратно, к окну, Мисти бормочет:
– Там была Тэбби, – говорит Мисти. – На улице.
Ее катетер снова выдернулся, повсюду разбрызгалась моча.
Полетт поднимается на ноги. Корчит гримасу, ее мышца смеха туго собирает лицо в складки у носа, когда она вытирает руки о темную юбку. Она старательно заправляет блузку под пояс и возражает:
– Нет, Мисти. Не было, – и подбирает меню обслуживания номеров.
Мисти нужно спуститься вниз. Выйти на улицу. Ей нужно разыскать Тэбби. Полетт должна помочь поднять гипс. Им нужно позвать доктора Туше, который его срежет.
А Полетт мотает головой и говорит:
– Если тебе снимут гипс, ты на всю жизнь останешься калекой, – идет к окну и закрывает его. Запирает, и задергивает занавески.
А Мисти просит с пола:
– Ну пожалуйста. Полетт, помоги же.
Но Полетт постукивает ногой. Выуживает планшетку для заказов из бокового кармана юбки и сообщает:
– Треска на кухне кончилась.
И, просто на заметку, Мисти по-прежнему в западне.
Мисти в западне, но ее ребенок, возможно, жив.
Твой ребенок.
– Бифштекс, – заказывает Мисти.
Мисти нужен самый жирный кусок мяса, который у них есть. Хорошо прожаренный – то, что надо.
24 августа
НА САМОМ ДЕЛЕ МИСТИ НУЖЕН столовый нож.
Ей нужен нож с зазубренным лезвием, чтобы распилить этот гипс на ноге, и ей нужно, чтобы после ужина Полетт не заметила пропажу ножа с подноса. Полетт не замечает, да еще не запирает дверь снаружи. Кому оно надо, если Мисти стреножена тонной сраного гипса.
Всю ночь, в постели, Мисти долбит и рубит. Мисти пилит гипс. Ковыряет лезвием ножа, и счищает гипсовые обрезки в руку, швыряя их под кровать.
Мисти – узница, делающая подкоп из крошечной темницы, – темницы, которую Тэбби раскрасила птичками и цветами.
Время до полночи уходит на разрез от пояса до середины бедра. Нож все соскальзывает, режет и колет ногу. Ко времени, когда Мисти добирается до колена, она проваливается в сон. Заляпанная и залепленная высохшей кровью. Присохнув к постельному белью. В три утра она только на полпути по лодыжке. Она почти свободна – но она засыпает.
Что-то будит ее; нож остался в руке.
Еще один самый долгий день в году. Снова.
Шум был от хлопнувшей на стоянке дверцы автомобиля. Придерживая расщепленный гипс, Мисти удается прихромать к окну и выглянуть. Это бежевая казенная машина округа детектива Стилтона. На улице его нет, так что он, наверное, в вестибюле гостиницы. Может быть, ищет ее.
Может быть, найдет ее в этот раз.
Мисти снова берется за рубку столовым ножом. Кромсая в полусне, колет себя в икроножную мышцу. Выплескивается кровь, темно-красная на белой-белой коже от очень долгого пребывания ноги взаперти. Мисти снова рубит и попадает себе в голень – лезвие пронзает тонкую кожу, натыкаясь на кость.
Она продолжает кромсать, нож выбрасывает кровь и гипсовые обломки. Осколки птиц и цветочков Тэбби. Клочки ее кожи и волосинок. Мисти вцепляется обеими руками в края распила. Вскрывает гипс, пока нога не высвобождается наполовину. Ее прищемляют рваные края; вгрызаясь в порезанную кожу, вонзаются гипсовые иглы.
О, дорогой милый Питер, тебе не нужно рассказывать, как это больно.
Ты чувствуешь?
В пальцы вгрызаются осколки гипса, Мисти держит рваные края и тянет их в разные стороны. Мисти сгибает колено, заставляя его вырваться из прямого гипса. Сначала – бледная коленная чашечка, измазанная кровью. Так появляется голова младенца. Макушка. Птенец проклевывается из скорлупы. Потом бедро. Рождается ее ребенок. Наконец из развороченного гипса на волю вырывается голень. Встряхнувшись один раз, она высвобождает ногу, – и гипс соскальзывает, катится, валится, и рушится на пол.
Куколка. Появление на свет бабочки, усталой и окровавленной. Переродившейся.
Гипс с такой силой грохает в пол, что вздрагивают занавески. Гостиничная картина в рамке хлопает по стене. Зажав руками уши, Мисти ждет, явится ли кто-нибудь полюбопытствовать. Увидит, что она на свободе, и запрет снаружи дверь.
Мисти ждет на протяжении трехсот быстрых ударов сердца. Считает. И – ничего. Ничего не происходит. Никто не является.
Мисти мягко и медленно распрямляет ногу. Мисти сгибает колено. Проверяет. Не больно. Опершись на тумбочку, Мисти сбрасывает ноги с кровати и выгибает их. Разрезает окровавленным столовым ножом мотки хирургической липкой ленты, которыми к ее здоровой ноге прилеплен катетер. Вытаскивая из себя трубочку, она сматывает ее на руке и откладывает в сторону.
Один, три, пять осторожных шагов к чулану, из которого она достает блузку. Пару джинсов. Внутри, на пластиковом тремпеле, висит белое атласное платье, которое Грэйс сшила к ее художественному представлению. Свадебное платье Мисти, рожденное заново. Когда она ступает в джинсы, застегивая пуговицу и змейку, когда тянется за блузкой – джинсы спадают на пол. Вот сколько веса она потеряла. Бедер больше нет. Задница – два пустых мешка из кожи. Джинсы съехали на лодыжки, измазанные кровью от порезов, которые нанес ногам столовый нож.
Есть юбка по размеру, но не из ее вещей. Она принадлежит Тэбби, клетчатая шерстяная юбка, наверное, подобранная Грэйс.
Даже туфли свободно болтаются, и Мисти приходится скрутить пальцы ног узлом, чтобы те не спадали.
Мисти прислушивается, пока коридор за дверью на слух пустеет. Она направляется к лестнице, юбка липнет к крови на ногах, в трусах царапаются обритые лобковые волосы. Скрутив пальцы ног, Мисти спускается на четыре пролета, в вестибюль. Там у конторки ждут люди, стоя посреди багажа.
Сквозь двери вестибюля, снаружи на стоянке видна бежевая казенная машина округа.
Женский голос восклицает:
– О Боже мой, – какая-то летняя женщина, стоящая у камина. Выгибая у рта руку с ногтями пастельного тона, она таращится на Мисти и повторяет. – Боже, ваши ноги.
В одной руке Мисти до сих пор сжимает окровавленный столовый нож.
Теперь люди перед конторкой разворачиваются и наблюдают. Портье за конторкой, – из Бартонов, Сеймуров или Кинкэйдов, – отворачивается и шепчет, прикрывшись ладонью, портье-соседке, а та снимает трубку внутреннего телефона.
Мисти направляется в сторону столовой, мимо бледных лиц, мимо людей, которые вздрагивают и отводят взгляд. Мимо летних женщин, которые подглядывают сквозь паучьи пальчики. Мимо хозяйки. Мимо столиков номер три, семь, десять и четыре, – а тут, за шестым столиком, сидит детектив Стилтон с Грэйс Уилмот и доктором Туше.
Тут оладьи с малиной. Кофе. Пирожные. Половинки грейпфрута в чашах. У них завтрак.
Мисти добирается к ним, сжимая окровавленный нож, и говорит:
– Детектив Стилтон, моя дочь. Моя дочь, Тэбби, – продолжает Мисти. – Я думаю, она еще жива.
Остановив на полпути ко рту ложечку для грейпфрута, Стилтон спрашивает:
– А ваша дочь умирала?
Утонула, сообщает ему Мисти. Он должен выслушать. Неделю, три недели назад. Мисти не знает. Не уверена. Ее заперли на чердаке. Надели, этот самый, здоровенный гипс ей на ногу, чтобы не сбежала.
А ее ноги под клетчатой шерстью покрыты стекающей кровью.
Теперь уже вся столовая наблюдает. Слушает.
– Тут умысел, – продолжает Мисти. Вытягивает руки, чтобы напуганное лицо Стилтона успокоилось. Мисти говорит:
– Спросите Энджела Делапорта. Скоро случится что-то ужасное.
Ее руки в засохшей крови. В ее крови. В крови с ног, пропитавшей клетчатую юбку.
Чей-то голос окрикивает:
– Ты ее испортила!
Мисти оборачивается – и это Тэбби. Она в дверном проеме столовой, одетая в цветастую блузку и черные слаксы, сшитые на заказ. У нее мальчишески короткая стрижка, сережка в ухе – красное эмалированное сердечко, которое сто лет назад Уилл Таппер на глазах Мисти вырвал из уха.
Доктор Туше спрашивает:
– Мисти, ты снова пила?
Тэбби говорит:
– Мам… моя юбка.
А Мисти произносит:
– Ты жива.
Детектив Стилтон промокает салфеткой рот. Говорит:
– Ну, хоть кто-то у нас жив.
Грэйс ложечкой насыпает сахар в кофе. Добавляет молока, и помешивает со словами:
– Вы в самом деле считаете, что убийство совершили эти люди из ООБЗС?
– Убили Тэбби? – переспрашивает Мисти.
Тэбби подходит к столику и склоняется у бабушкиного стула. У нее между пальцев заметна легкая никотиновая желтизна, когда она поднимает блюдце, изучая расписную кайму. Она золотая, в ней повторяющаяся гирлянда русалок и дельфинов.
Тэбби демонстрирует его Грэйс и объявляет:
– "Фитц и Флойд". Узор «Морская гирлянда».
Переворачивает его, читает надпись на обратной стороне и улыбается.
Грэйс улыбается ей в ответ со словами:
– Ты так схватываешь, что я тебе не нарадуюсь, Тэбита.
Просто на заметку: Мисти хочется обнять и расцеловать свою малышку. Мисти хочется обнять ее, бежать к машине и ехать прямиком в трейлер собственной мамочки в Текумеш-Лэйк. Мисти хочет сделать ручкой со средним пальцем на прощанье всему этому сраному острову благовоспитанных психов.
Грэйс похлопывает по незанятому стулу рядом с собой и предлагает:
– Мисти, иди сядь. У тебя безумный вид.
Мисти спрашивает:
– Кого убили ООБЗС?
Океаническое Объединение Борьбы за Свободу. Которое сожгло Питеровы граффити во всех пляжных домах.
Твои граффити.
– За этим я и здесь, – говорит детектив. Вынимает блокнот из внутреннего кармана куртки. Раскрывает его на столе и готовит ручку к письму. Продолжает, глядя на Мисти:
– Не возражаете ответить на пару вопросов?
О вандализме Питера?
– Прошлой ночью был убит Энджел Делапорт, – говорит он. – Возможно, это кража со взломом, но мы ничего не исключаем. Все, что нам известно – он был насмерть зарезан во сне.
В ее постели.
Нашей постели.
Сначала Тэбби мертва, потом жива. Последний раз Мисти видела Тэбби на этом самом столе, накрытую простыней и бездыханную. Сначала колено Мисти сломано, потом здорово. Когда-то Мисти могла рисовать – теперь не может. Возможно, Энджел Делапорт был парнем ее мужа, но теперь он мертв.
Твоим парнем.
Тэбби берет мать за руку. Ведет Мисти к свободному месту. Выдвигает стул, и Мисти садится.
– Прежде чем мы начнем… – говорит Грэйс. Тянется через столик, чтобы шлепнуть детектива Стилтона по манжете, и продолжает. – Через три дня открывается художественная выставка Мисти, и мы рассчитываем увидеть там вас.
Мои картины. Они где-то здесь.
Тэбби улыбается Мисти и просовывает ладонь в руку бабушки. И кольцо с оливином сверкает зеленым на белом полотне скатерти.
Глаза Грэйс моргают в сторону Мисти, и ее передергивает как человека, влезшего в паутину, подбородок поджат, а руки ощупывают воздух. Грэйс говорит:
– В последнее время на острове бывало столько несимпатичного, – набирает воздуха, ее жемчуга вздымаются, потом она вздыхает и добавляет. – Надеюсь, художественная выставка даст нам всем свежий старт.
24 августа …С половиной
В ЧЕРДАЧНОЙ ВАННОЙ Грэйс набирает в ванну воду, потом выходит и ждет в коридоре. Тэбби остается в комнате следить за Мисти. Караулить собственную мать.
Просто на заметку: за одно это лето будто прошли целые годы. Годы и годы. Эта девчонка, которую Мисти видела в окно флиртующей. Эта девчонка будто незнакомка с желтизной на пальцах.
Мисти говорит:
– Серьезно, не стоит тебе курить. Даже если ты уже умерла.
Чему не учат на худфаке – так это тому, как реагировать, когда узнаешь, что твой единственный ребенок собрался разбить тебе сердце. Нынче, когда в ванной только Тэбби со своей матерью, возможно, дело дочери – выводить мать из себя.
Тэбби разглядывает свое лицо в зеркало ванной. Облизывает указательный палец и поправляет контур помады. Говорит, не глядя на Мисти:
– Ты бы осторожнее, мать. Нам ты больше не нужна.
Вытаскивает сигарету из пачки в кармане. Прямо на глазах Мисти щелкает зажигалкой и затягивается.
Трусы болтаются и висят мешком на тощих ногах. Мисти стаскивает их под юбкой и сбрасывает с туфель, со словами:
– Мертвой ты мне нравилась куда больше.
На руке с сигаретой у нее кольцо от бабушки, оливин вспыхивает зеленым в свете лампочки над раковиной. Тэбби нагибается, подбирая с пола окровавленную клетчатую юбку. Держит ее двумя пальцами и говорит:
– Бабуле Уилмот нужно, чтобы я подготовилась к художественной выставке.
Уходит со словами:
– К твоей выставке, мать.
В ванне порезы и царапины от столового ножа забиваются мылом и жгутся до того, что Мисти скрипит зубами. Засохшая кровь окрашивает воду в ванне в розовый цвет. Из-за горячей воды снова начинается кровотечение, и Мисти портит белое полотенце, измазывая его красными разводами, пока пытается вытереться.
Со слов детектива Стилтона, в полицейский участок на континенте сегодня утром позвонил какой-то мужчина. Он не назвался, но сообщил, что Энджел Делапорт мертв. Он сказал, что Океаническое Объединение Борьбы за Свободу будет убивать туристов и дальше, пока их толпы не прекратят насиловать местную окружающую среду.
Серебряная посуда размером с садовые принадлежности. Бутылки старинного вина. Старые картины Уилмотов – ничего не взяли.
В мансарде Мисти набирает телефонный номер мамы в Текумеш-Лэйк, но на связь выходит оператор гостиницы. Обрыв кабеля, говорит оператор, но его скоро починят. Внутренний телефон все еще работает. Мисти только не дозвониться на континент.
Когда она заглядывает под край ковра, конверта с чаевыми там нет.
Кольцо Тэбби с оливином. Подарок на день рожденья от ее бабушки.
Предупреждение, которое Мисти пропустила мимо ушей: «Беги с острова, пока можешь».
Все эти тайные послания, которые оставляют люди, чтобы их не забыли. Эти способы, которыми мы все пытаемся обратиться к будущему. Мора и Констенс.
«Ты умрешь, как только с тобой покончат».
В номер 313 попасть довольно легко. Мисти была горничной, – Мисти Уилмот, королева среди сраных рабов. Ей известно, где раздобыть отмычку. Номер двойной, королевская кровать с видом на океан. В каждом гостевом номере одна и та же мебель. Стол. Стул. Комод. На багажной стойке – открытый чемодан какой-то летней особы. Слаксы и цветастый шелк висят в ванной. Сырое бикини переброшено через шнурок душевой занавески.
Просто на заметку – здесь лучшая работа по оклейке обоев, какую Мисти видела в жизни. Плюс – бумага неплохая, эти обои в 313-й комнате: пастельные зеленые полоски чередуются с рядами розовых махровых роз. Дизайн, сделанный при печати под древность. Обработанные чаем, чтобы казаться пожелтевшими от времени.
Выдает их то, что бумага слишком безукоризненна. Слишком незаметны швы, слишком высокая четкость и точность, сверху донизу. Слишком хорошо у них подобран стык. Определенно не работа Питера.
Не твоя работа. Дорогой милый ленивый Питер, который никакое искусство не принимал всерьез.
Что бы Питер ни оставил здесь для людских глаз, запечатав внутри комнаты, закатав простенком дверной проем – теперь этого нет. Питерова маленькая временная капсула или часовая бомба, – люди острова Уэйтензи ее стерли. Как миссис Терримор вытерла библиотечные книги. Как были сожжены все дома на континенте. Работа ООБЗС.
Как был убит Энджел Делапорт. Зарезанный в постели во сне.
В кровати Мисти. В твоей кровати. И ничего не взяли, и нет следов взлома.
Просто на заметку: в любой момент могут войти летние люди. И обнаружить, что здесь прячется Мисти, сжимая в руке окровавленный нож.
Зубчатым лезвием Мисти поддевает шов и счищает полоску обоев. При помощи острого кончика Мисти отдирает еще полоску. Срывая третью, длинную медленную ленту обоев, Мисти может прочесть:
«…влюблен в Энджела Делапорта, и простите, но я не собираюсь умирать за…»
И, просто на заметку, по правде говоря, она никак не ожидала обнаружить такое.
24 августа …И три четверти
КОГДА ОБОДРАНА ВСЯ СТЕНА, когда все древние махровые розы и зеленые полоски содраны длинными лентами, вот то, что оставил для людских глаз Питер.
Что оставил ты.
«Я влюблен в Энджела Делапорта, и простите, но я не собираюсь умирать за наше дело».
Кругом и повсюду по стенам написано – «Я не позволю вам убить меня как вы убивали мужей всех художниц начиная с Гордона Кинкэйда».
Комната замусорена завитушками и обрывками обоев. Усыпана пылью засохшего клея. В коридоре слышны голоса, и Мисти застывает в ожидании посреди испорченного номера. В ожидании, что летние люди откроют свою дверь.
Поперек стены написано – «Мне уже плевать на наши обычаи».
Написано – «Я не люблю Мисти Марию», – говорится. – «Но она не заслуживает мучений. Я люблю наш остров, но мы должны найти другой способ сохранять свой образ жизни. Нельзя и дальше собирать человеческие урожаи».
Написано – «Это ритуальное массовое убийство, и я не стану ему потворствовать».
А вещи летних людей погребены; багаж, очки от солнца и косметика. Погребены под обрывками.
«Ко времени, когда вы это найдете», – гласят строки. – «Меня не будет. Сегодня вечером я уезжаю с Энджелом. Если вы это читаете, то простите, но уже слишком поздно. Будущее Тэбби станет лучше, если ее поколение научится само стоять за себя».
Под полосками бумаги написано – «Мне искренне жаль Мисти».
Ты написал – «Я и правда никогда не любил ее, но я не ненавижу ее настолько, чтобы исполнить наш план».
Написано – «Мисти достойна лучшего. Папа, нам пора отпустить ее на свободу».
Таблетки снотворного, которые, по словам детектива Стилтона, принял Питер. Рецепт, которого у Питера не было. Чемодан, который он собрал и спрятал в багажник. Он собирался нас бросить. Уйти с Энджелом.
Ты собирался уйти.
Кто-то накачал его лекарством и оставил в машине с работающим мотором, запертого в гараже, как его нашла Мисти. Кто-то не знал про чемодан, собранный и припасенный в багажнике для побега. Они не знали, что бензобак наполовину пуст.
«Папа», в смысле – Гэрроу Уилмот. Отец Питера, который, по идее, был уже мертв. Со времени рождения Тэбби.
По комнате написано – «Не открывайте работу дьявола».
Там, в надписях, говорится – «Уничтожьте все ее картины».
Чему не учат на худфаке, так это толковать кошмары.
Подписано – Питер Уилмот.
25 августа
В ГОСТИНИЧНОЙ СТОЛОВОЙ бригада островитян развешивает работы Мисти, все ее картины. Но не по отдельности, – они складываются воедино, холст и бумага, образуя длинное стенное полотно. Будто коллаж. Бригада в процессе сборки не снимает с полотна покрывало, открывая для глаз только край, лишь настолько, чтобы добавить еще ряд картин. Что там – сказать нельзя. То, что смахивает на дерево, может оказаться рукой. Что смахивает на лицо – может оказаться облаком. Это массовая сцена, или пейзаж, или натюрморт из цветов и фруктов. В момент, когда бригада добавляет в полотно очередную часть, они сдвигают штору, чтобы прикрыть ее.
Можно сказать только, что оно огромно – занимает всю длинную стену столовой.
Грэйс с ними, раздает указания. Тэбби и доктор Туше – наблюдают.
Когда Мисти идет взглянуть, Грэйс останавливает ее синей узловатой рукой и спрашивает:
– Ты примерила то платье, что я тебе сшила?
Мисти хочет только глянуть на картину. Это ее работа. Из-за повязки на глазах она понятия не имеет, что ею создано. Какую часть себя она будет показывать незнакомым людям.
А доктор Туше возражает:
– Нет, это будет нехорошо, – говорит. – Посмотришь на вечерней премьере, с остальной публикой.
Просто на заметку, Грэйс сообщает:
– Сегодня вечером мы возвращаемся в наш дом.
Где был убит Энджел Делапорт.
Грэйс продолжает:
– Детектив Стилтон нам все ясно объяснил, – говорит. – Если соберешь свои вещи, мы их для тебя захватим.
Подушку Питера. Художественные принадлежности в светлой деревянной коробке.
– Все почти кончено, дорогая, – продолжает Грэйс. – Я в точности знаю, что ты чувствуешь.
По этому дневнику. Дневнику Грэйс.
Пока все заняты, Мисти поднимается на чердак, в номер, который делят Грэйс и Тэбби. Просто на заметку, вещи Мисти уже собрала, и она ворует дневник из комнаты Грэйс. Спускается с чемоданом к машине. В ее волосах – бумажные обрывки с бледно-зелеными полосками и розовыми розами.
Книжка, которую постоянно читает Грэйс, которую она изучает, в красной обложке с золотой вязью – это, по идее, дневник женщины, которая жила на острове сотню лет назад. Этой женщине из дневника Грэйс было сорок восемь лет, и она не доучилась на художницу. Она забеременела, и бросила худфак, чтобы выйти замуж на острове Уэйтензи. Она любила не столько молодого мужа, сколько его старую бижутерию, и свою мечту – жить в большом каменном доме.
Здесь оказалась уготованная ей жизнь, непосредственная готовая роль. Остров Уэйтензи, со всеми традициями и обычаями. Все проработано. Ответы на все вопросы.
Женщина жила довольно счастливо, но уже сто лет назад остров заполоняли богачи-туристы из города. Назойливые, капризные чужаки, у которых хватало денег на завоевание. Как раз к тому времени, когда у ее семейства заканчивались средства, ее муж застрелился, чистя оружие.
Женщина заболела мигренью, обессилела, и выдавала на-гора все, что ела. Она работала в гостинице горничной, пока не споткнулась на лестнице и не оказалась прикована к постели, с расщепленной ногой в увесистом гипсе. Застрявшая в бездействии, она начала рисовать.
Совсем как Мисти, но не Мисти. Эдакое подражание Мисти.
Потом утонул ее десятилетний сын.
После сотни картин ее идеи и талант будто испарились. Вдохновение улетучилось.
Пишет она размашисто и вытянуто – Энджел Делапорт назвал бы такую чуткой, дарящей натурой.
На худфаке не учат тому, что Грэйс Уилмот возьмется ходить за тобой и записывать все, что ты делаешь. Превращая твою жизнь в такую больную книжонку. Вот в чем дело. Грэйс Уилмот пишет роман, основанный на жизни Мисти. Ой, ну, пару моментов она заменила. Дала женщине троих детей. Сделала ее горничной вместо служанки в столовой. Ой, да все очень совпадает.
Просто на заметку, Мисти ждет паром в очереди, читая это дерьмо в старом «бьюике» Гэрроу.
В книге говорится, что большинство населения поселка переехало в Уэйтензийскую гостиницу, превратив ее в казармы. В лагерь беженцев для семей островитян. Хайленды стирали всем белье. Бартоны заведовали готовкой пищи. Питерсены – уборкой.
Ни в одной идее не видно ничего оригинального.
Даже читая это дерьмо, Мисти, возможно, в чем-то заставляет его сбыться. Сама исполняет пророчество. Начинает вживаться в чужую затею для собственной жизни. Но сидя здесь, она не может оторваться от чтения.
В романе Грэйс женщина-рассказчица находит дневник. Этот дневник, обнаруженный ею, будто отражает судьбу ее самой. Она читает, что ее произведения развесили в огромной художественной выставке. В вечер премьеры в гостиницу набиваются толпы летних туристов.
Просто на заметку, дорогой милый Питер, если ты очнулся от своей комы, это может тебя отправить прямиком обратно. Тот простой факт, что Грэйс, твоя мать, пишет о твоей жене, изображая ее какой-то спившейся шлюхой.
Должно быть, так же чувствовала себя Джуди Гарленд, когда читала «Долину кукол».
Здесь, в очереди у пристани парома, Мисти собирается съездить на континент. Сидя здесь, в машине, где Питер едва не умер, – или едва не сбежал и бросил ее, – Мисти ждет в горячей линии летних людей. Ее собранный чемодан лежит в багажнике. Белое атласное платье в том числе.
В точности как твой чемодан лежал в багажнике.
Вот на чем заканчивается дневник. Последняя запись – прямо перед художественной выставкой. А дальше… ничего нет.
Просто чтобы тебе не было перед собой неловко – Мисти бросает твоего ребенка так же, как ты собирался оставить их обоих. Ты по-прежнему женат на трусихе. Так же, как она готова была обратиться в бегство, когда решила, что бронзовая статуя убьет Тэбби – единственного человека на острове, на которого Мисти не насрать. Ни Грэйс. Ни летних людей. Мисти никого здесь не нужно спасать.
Кроме Тэбби.
26 августа
ПРОСТО НА ЗАМЕТКУ: ты все равно вонючий трусливый говнюк. Ты самовлюбленный, недоделанный, ленивый, безвольный кусок дерьма. Ну да, конечно, ты рассчитывал спасти свою жену, но вместе с тем ты собирался ее кинуть. Ты, тупой безмозглый пидор. Дорогой милый глупый ты. Нынче Мисти совершенно в курсе, что ты чувствовал. Сегодня твой 157-й день в роли овоща. И ее первый. Мисти три часа провела за рулем, чтобы повидать тебя и посидеть у твоей кровати.
Просто на заметку, Мисти спрашивает тебя:
– Нормально ли убивать чужих людей, чтобы поддержать чей-то образ жизни только потому, что живут им люди, которых ты любишь?
Ну допустим, считал, что любишь.
С тем, как на остров приезжают люди, больше и больше с каждым летом, видишь больше мусора. Запасы пресной воды все меньше и меньше. Но, конечно, нельзя задавливать развитие. Это анти-американщина. Эгоизм. Это тирания. Зло. У каждого ребенка есть право на жизнь. Каждый имеет право жить там, где может себе позволить. Нам дали волю преследовать счастье всюду, куда можно доехать, долететь, доплыть – чтобы добыть его. Когда слишком много народу ломится в одно место, само собой, они его разрушат, – но такова система счетов и чеков – так самокорректируется рынок.
Таким образом, единственный способ сберечь какой-то край – это изгадить его. Нужно выставить его кошмарным перед внешним миром.
Нет никакого ООБЗС. Есть только горстка людей, которые пытаются сберечь свой мир от других.
В чем-то Мисти терпеть не может этих других, которые сюда приезжают – захватчиков, безбожников, вламывающихся и рушащих ее образ жизни, детство ее дочери. Все эти пришлые, которые тянут за собой неудачные браки, приемных детей, наркотические зависимости, мерзкие манеры и дутые символы положения в обществе, – не таких друзей Мисти хотелось бы дать своему ребенку.
Твоему ребенку.
Их ребенку.
Чтобы спасти Тэбби, Мисти могла бы позволить произойти вещи, которая происходила всегда – Мисти может спокойно дать ей случиться снова. Художественной выставке. Чем бы она ни обернулась, можно позволить легенде островитян идти своим чередом. И может быть, край Уэйтензи будет спасен.
«Мы убьем всех детей Божьих, если это значит спасти наших собственных».
Или, быть может, Тэбби получит что-то лучшее, чем будущее без возможностей – спокойную и уютную жизнь в мире и согласии.
Сидя сейчас с тобой, Мисти склоняется и целует тебя в отекший красный лоб.
Ничего, что ты никогда не любил ее, Питер. Зато Мисти любила тебя.
Хотя бы за веру в то, что она может стать великой художницей, спасительницей. Чем-то большим, нежели техник-иллюстратор или график. Даже большим, нежели человек. Мисти любит тебя за это.
Ты чувствуешь?
Просто на заметку, она жалеет об Энджеле Делапорте. Мисти жалеет о том, что тебя воспитали в духе такой припезденной легенды.
Жалеет, что однажды повстречала тебя.
27 августа – Новолуние
ГРЭЙС ВЕРТИТ ЛАДОНЬЮ В ВОЗУХЕ между ними двумя, – под прозрачным лаком пожелтевшие щербатые ногти, – и просит:
– Мисти, дорогая, повернись, покажи мне, как оно сидит сзади.
Когда Мисти впервые предстает перед Грэйс, в вечер художественной выставки, первые слова Грэйс:
– Я знала, что платье будет смотреться на тебе замечательно.
Это старый дом Уилмотов на Буковой улице. Дверь в ее старую спальню здесь запечатана листом прозрачного целлофана и желтой полицейской лентой. Как временная капсула. Как дар будущему. Сквозь целлофан видно, что матрац убран. С прикроватной лампы снят абажур. Обои над передней спинкой кровати испорчены каким-то темным потеком. Почерк кровяного давления. А на подоконнике и дверной раме белая краска испачкана черной пудрой для отпечатков пальцев. Глубокие свежие следы пылесоса исчерчивают ковер. Невидимая пыльца отмершей кожи Энджела Делапорта собрана шлангом на анализ ДНК.
Твоя старая спальня.
На стене над пустой кроватью висит рисунок, написанный Мисти с антикварного кресла. С закрытыми глазами, там, на Уэйтензийском мысу. С галлюцинацией статуи, которая пришла убить ее. Он забрызган кровью.
Сейчас, при Грэйс в противоположной по коридору спальне, Мисти советует с ней не шутить. Снаружи стоит машина полиции с континента, дожидаясь их. Если Мисти не выйдет в течение десяти минут, они ворвутся, паля из пистолетов.
А Грэйс присела на сверкающий табурет с розовой обивкой, у внушительного туалетного стола; повсюду перед ней по стеклянной крышке разложена косметика и украшения. Серебряное карманное зеркальце и щетки для волос.
Сувениры, оставленные благосостоянием.
И Грэйс произносит:
– Tu es ravissante ce soir, – говорит. – Ты очаровательна этим вечером.
У Мисти теперь появились скулы. И ключицы. У нее костлявые, белые, выпирающие плечи, прямые как тремпель, торчат из платья, которое в своей прошлой жизни было свадебным. Платье спадает от выреза на плече, собранный складками белый атлас, уже болтающийся и мешковатый, потому что Грэйс обмеряла ее целых несколько дней назад. Или недель. А лифчик и трусы так велики, что Мисти решила обойтись без них. Мисти худа почти как ее муж, иссушенный скелет, через который машины прокачивают витамины и воздух.
Худа как ты.
Волосы стали длиннее, чем до происшествия с коленкой. Кожа отбелилась до белоснежного от такого долгого пребывания в четырех стенах. У Мисти талия и впалые щеки. У Мисти один подбородок, и шея кажется длинной, жилистой от мышц.
Она отощала настолько, что глаза и рот на вид огромны.
Прежде чем объявиться сегодня вечером, Мисти позвонила в полицию. Не только детективу Стилтону – Мисти позвонила в патрульную службу штата и в Федеральное бюро расследований. Мисти сообщила, что сегодня вечером ООБЗС совершит нападение на художественную выставку, в гостинице на острове Уэйтензи. После этого Мисти позвонила в пожарную часть. Мисти сказала им – в семь или полвосьмого сегодня вечером на острове будет катастрофа. Привезите «скорые», сказала она. Потом позвонила в теленовости и попросила их прислать группу с самым большим, самым прочным трансляционным фургоном, какой у них есть. Мисти обзвонила радиостанции. Она обзвонила всех, кроме бойскаутов.
В спальне Грэйс, в этом доме с наследием из имен и лет, расписанных тут же, на внутренней стороне парадной двери, Мисти сообщает Грэйс, что затея той на сегодняшний вечер сорвана. Пожарные и полиция. Телекамеры. Мисти пригласила целый мир, и все они будут в гостинице к открытию выставки.
А Грэйс, цепляя в ухо сережку, смотрит на отражение Мисти в зеркале и отзывается:
– Ну конечно пригласила, но звонила ты им в последний раз.
Мисти спрашивает – что Грэйс имеет в виду – «в последний раз»?
– И нам очень хотелось бы, чтобы ты этого не делала, – продолжает Грэйс. Разглаживает волосы ладонями узловатых рук, со словами:
– Из-за тебя конечное число жертв будет только больше, чем нужно.
Мисти возражает, мол, никакого числа жертв не будет. Мисти рассказывает, что украла ее дневник.
Позади нее чей-то голос произносит:
– Мисти, дорогая, нельзя украсть то, что и так принадлежит тебе.
Этот голос позади. Мужской голос. Это Гэрроу, Гарри, отец Питера.
Твой отец.
На нем смокинг, его седые волосы собраны в корону над прямоугольным лбом, нос и подбородок остро выдаются. Человек, которым должен был бы стать Питер. У него пахнет изо рта. Руки, прирезавшие Энджела Делапорта в ее постели. Те сожженные дома, внутри которых Питер оставил надписи, пытаясь предупредить людей и заставить их держаться от острова подальше.
Человек, который пытался убить Питера. Убить тебя. Собственного сына.
Он стоит в коридоре, держа Тэбби за руку. Твою дочь за руку.
Просто на заметку: кажется, Тэбби покинула ее целую жизнь назад. Сбежала от нее, ухватив холодную руку человека, в котором Мисти привиделся убийца. Статуи в зарослях. На старом кладбище Уэйтензийского мыса.
Локти Грэйс взлетают в воздух, руки застегивают на затылке нить жемчуга, и она спрашивает:
– Мисти, дорогая, ты помнишь своего свекра, так ведь?
Гэрроу склоняется, целуя Грэйс в щеку, и говорит:
– Ну конечно помнит.
У него пахнет изо рта.
Грэйс вытягивает руки, загребая воздух, и зовет:
– Тэбби, иди поцелуй меня. Взрослым пора идти на вечер.
Сначала Тэбби. Теперь Гэрроу. Чему еще не учат на худфаке – что сказать, когда человек воскресает из мертвых.
Мисти спрашивает Гэрроу:
– Разве вас не кремировали?
А Гэрроу поднимает руку, глядя на часы. Отвечает:
– Ну, не в следующие четыре часа.
Одергивает манжету, пряча наручные часы, и продолжает:
– Нам бы хотелось сегодня вечером представить тебя публике. Мы доверяем тебе сказать пару слов в качестве приветствия.
Что же, говорит Мисти, все равно ему известно, что именно она всем скажет. Бежать. Покинуть остров и не возвращаться. То же, что пытался сказать им Питер. Мисти сообщит им, что один человек погиб, а другой в коме, из-за какого-то безумного островного проклятия. В ту секунду, когда ее пустят на сцену, она заорет – «Пожар!». Она на черт знает что готова, чтобы очистить помещение.
Тэбби подступает к Грэйс, которая сидит на табурете у столика. А Грэйс произносит:
– Лучшего мы и желать не можем.
Гэрроу просит:
– Мисти, дорогая, поцелуй свою свекровь, – говорит. – И, прошу тебя, прости нас. Мы больше не станем докучать тебе после сегодняшнего вечера.
27 августа …С половиной
КАК ГЭРРОУ рассказал Мисти. Как он растолковал предание островитян – она не может не преуспеть в роли художника.
Она обречена на славу. Проклята талантом. Одну жизнь за другой.
Она побывала Джотто Дибодоне, потом Микеланджело, потом Яном Вермеером.
Или, может, Мисти была Яном ван Эйком, Леонардо да Винчи и Диего Веласкесом.
Потом Морой Кинкэйд и Констенс Бартон.
А теперь она Мисти Мария Уилмот, но меняется только ее имя. Она всегда была художницей. И всегда будет художницей.
Чему не учат на худфаке – это тому, что всю жизнь можно открывать, кем ты уже побывала.
Просто на заметку – это слова Гэрроу Уилмота. Сумасшедшего убийцы, отца Питера. Гарри Уилмота, который скрывался со времени перед свадьбой Питера и Мисти. Перед рождением Тэбби.
Твоего сумасшедшего отца.
Если верить Гэрроу Уилмоту, Мисти – все лучшие художники из живших на свете.
Двести лет назад Мисти была Морой Кинкэйд. Сто лет назад – Констенс Бартон. В той прошлой жизни Констенс увидела на одном из сынов острова украшение, когда тот путешествовал по Европе. То было кольцо, ранее принадлежавшее Море. Он случайно нашел ее и привез назад. После смерти Констенс люди обнаружили, что ее дневник совпадал с дневником Моры. Их судьбы были одинаковы, и Констенс спасла остров так же, как некогда спасла его Мора.
Что ее дневник совпадает с предыдущим. Что любой ее дневник будет совпадать с предыдущим. Что Мисти будет всегда спасать остров. Своей живописью. Вот о чем гласит островное предание, по словам Гэрроу. Все это – ее рук дело.
Столетие спустя – когда у них почти истекли средства – сынов острова послали разыскать ее. Снова и снова ее возвращали назад, заставляя повторить предыдущую жизнь. Используя украшения как приманку – Мисти должна была их узнать. Полюбила бы их, сама не зная почему.
Они, весь музей восковых фигур острова Уэйтензи, знали, что она станет великой художницей. Если правильно ее помучить. Как постоянно говорил Питер – лучшее искусство приходит из страданий. Как доктор Туше утверждал, мол, можно подключиться к какому-то вселенскому вдохновению.
Бедная маленькая Мисти Мария Клейнмэн, величайшая художница всех времен, их спасительница. Их рабыня. Мисти, их кармическая дойная коровка.
Гэрроу рассказывает, мол, они используют дневник предыдущей художницы, чтобы оформить жизнь следующей. Ее муж должен погибнуть в том же возрасте, потом один из ее детей. Они могут инсценировать смерть, как в случае Тэбби, а что до Питера – ну, Питер сам их вынудил.
Просто на заметку: Мисти пересказывает все это детективу Стилтону, пока тот везет ее к Уэйтензийской гостинице.
В крови Питера было полно снотворного, которого он сроду не принимал. Несуществующее свидетельство о смерти Гэрроу Уилмота. Мисти говорит:
– Это точно наследственность. Эти люди – психопаты.
– Счастье в том, – говорил ей Гэрроу. – Что ты забываешь.
С каждой смертью Мисти забывает, кем она была – но островитяне передают этот рассказ из поколения в поколение. Они помнят его, чтобы разыскать ее и вернуть назад. На весь остаток вечности, каждое четвертое поколение, как только заканчиваются средства… Когда мир пригрозит захватом, ее вернут, и она сохранит им будущее.
– Как раньше, так и всегда, – сказал Гэрроу.
Мисти Мария Уилмот, королева среди рабов.
Столкновение индустриальной революции и ангела-хранителя.
Бедная она, несчастная – конвейер для чудес. На всю вечность.
Плечом к плечу, просто на заметку.
Гэрроу сказал:
– Ты всякий раз будешь вести дневник. В каждом воплощении. Так мы сможем предсказать твои порывы и действия. Так нам известно про каждый шаг, который ты предпримешь.
Гэрроу обернул нитью жемчуга запястье Грэйс и защелкнул застежку, со словами:
– О, ты нужна нам, чтобы вернуться и начать процесс, но нам совсем необязательно желать, чтобы твой кармический цикл был завершен.
Потому что это означает зарезать гусыню, несущую золотые яйца. О да, ее душа отправится в иные странствия, но три поколения спустя остров снова будет беден. Беден и запружен богатыми чужаками.
На худфаке не учат, как не допустить повторную переработку своей души.
Период возрождения. Ее собственное доморощенное бессмертие.
– Между прочим, – сказал Гэрроу. – Тот дневник, который ты ведешь сейчас, крайне поможет праправнукам Тэбби определиться с тобой в следующий раз.
Прапраправнукам Мисти.
Поможет ее книга. Эта книга.
– О, припоминаю, – сказала Грэйс. – Когда я была совсем маленькой девочкой. Ты была Констенс Бартон, и я обожала запускать с тобой змея.
Гэрроу сказал:
– Под тем или иным именем, ты всем нам как мать.
Грэйс добавила:
– Ты всегда любила всех нас.
Мисти сказала Гэрроу – «Прошу. Расскажите же мне, что должно случиться». Картины взорвутся? Гостиница рухнет в океан? Что будет? Как ей спасти всех?
А Грэйс стряхнула по руке жемчужный браслет и ответила:
– Ты не можешь.
Почти все состояния, как заявляет Гэрроу, строятся на гибели и страдании тысяч людей или животных. На некоей жатве. Он протягивает Грэйс что-то, сверкающее золотом, и вытягивает руку, подобрав рукав пиджака.
А Грэйс сводит вместе края его манжеты и вставляет запонку, со словами:
– Мы всего-навсего открыли способ пожинать богачей.
27 августа …И три четверти
«СКОРЫЕ» уже ждут у Уэйтензийской гостиницы. Группа тележурналистов устанавливает на крышу фургона вещательную тарелку. Две полицейские машины уткнулись в гостиничные парадные ступени.
Летние люди протискиваются меж припаркованных машин. В кожаных штанах и черных платьицах. В темных очках и шелковых рубашках. В золотых украшениях. Над ними – корпоративные эмблемы и логотипы.
Граффити Питера – «…ваша кровь – наше золото…»
Между толпой и Мисти перед камерой стоит телерепортер. Позади топчется публика, люди карабкаются по гостиничным ступеням и проходят в вестибюль, а репортер спрашивает:
– Включились? – прикладывает к уху два пальца. Не глядя в камеру, сообщает. – Я готов.
Детектив Стилтон сидит за рулем своей машины, Мисти – рядом с ним. Они оба наблюдают, как Грэйс и Гэрроу Уилмот взбираются по ступенькам гостиницы.
Мисти наблюдает за ними. За ними следят камеры.
А детектив Стилтон говорит:
– Они не решатся. Не при стольких свидетелях.
Старшие члены каждого семейства, Бартоны, Хайленды и Питерсены, аристократия острова Уэйтензи, вливаются в череду проходящих в гостиницу летних людей, высоко держа подбородки.
Предупреждение Питера – «…мы убьем всех детей Божьих, если это значит спасти наших собственных».
Телерепортер перед камерой поднимает микрофон ко рту и произносит:
– Полиция и правление округа дали зеленый свет сегодняшнему вечернему мероприятию острова.
Публика исчезает в зеленых сумерках бархатных вестибюльных окрестностей, лесных просек меж полированных, крытых лаком древесных стволов. Широкие колонны солнечного света пронзают полумрак, тяжелые, как свет хрустальных люстр. Горбатые тени диванов под замшелые валуны. Лагерный костер, весьма смахивающий на камин.
Детектив Стилтон спрашивает:
– Не хотите пройти внутрь?
Мисти говорит ему – «нет». Это небезопасно. Она не собирается повторять ту ошибку, которую всегда делала. Какой бы та ошибка ни была.
Если верить Гэрроу Уилмоту.
Телерепортер продолжает:
– Всякий, кто есть кем-то, прибыл сюда в этот вечер.
И тут – там девочка. Незнакомка. Чей-то чужой ребенок с короткими черными волосами взбирается по ступеням в гостиничный вестибюль. Отблеск кольца с оливином. Чаевых Мисти.
Это Тэбби. Конечно это Тэбби. Дар Мисти будущему. Способ Питера удержать жену на острове. Приманка, чтобы заманить ее в ловушку. Один миг, зеленый отблеск, и Тэбби исчезает внутри гостиницы.
27 августа …И семь восьмых
СЕГОДНЯ ВО ТЬМЕ сумрачной лесной просеки, зеленых бархатных окрестностей за дверьми вестибюля, срабатывает пожарная сигнализация гостиницы. Один непрерывно дребезжащий звонок, – он вырывается из парадных дверей так громко, что телерепортеру приходится выкрикнуть:
– Так, похоже, какие-то проблемы!
Летние люди, мужчины с зачесанными назад волосами, темными и жесткими от какого-то средства для укладки. Женщины, сплошь блондинки. Все орут, чтобы перекричать дребезжание сигнализации.
Мисти Уилмот, величайшая художница всех времен и народов, рвется сквозь толпу, пробиваясь и проталкиваясь в сторону сцены в Древесно-золотой столовой. Хватаясь за локти и бедра этих худеньких особ. Вся стена за сценой занавешена и готова к открытию. Полотно, ее работа, все еще скрыто. Замуровано. Ее дар будущему. Часовая бомба.
Ее миллион мазков краски, правильно собранных в целое. Моча коров, накормленных листьями манго. Чернильные мешочки каракатиц. Вся эта химия с биологией.
Ее ребенок где-то среди этой оравы. Тэбби.
Сигнализация все звонит и звонит; Мисти взбирается на стул. Влезает на стол, на шестой столик, где Тэбби лежала мертвой, где Мисти узнала, что Энджела Делапорта прирезали. Возвышаясь над толпой в белом платье, когда люди поднимают глаза, летние мужчины ухмыляются ей, – Мисти без нижнего белья.
Подвернув перерожденное свадебное платье между тощих бедер, Мисти орет:
– Пожар!
Поворачиваются головы. Глаза поднимаются на нее. В дверях столовой появляется детектив Стилтон, начиная пробираться сквозь толпу.
Мисти кричит:
– Прочь! Спасайтесь! – орет Мисти. – Если вы останетесь здесь, случится ужасное!
Предупреждения Питера. Мисти мечет их над толпой.
«Мы убьем каждого из детей Божьих, если это значит спасти наших».
Позади нее маячит занавес, укрывающий всю стену, ее собственный автопортрет, то, чего Мисти о себе не знает. То, чего она не хочет знать.
Летние люди смотрят снизу, сжав складочные мышцы, сведя брови. Губы тонко вытянуты и опущены треугольной мышцей.
Пожарная сигнализация перестает трезвонить, и на миг одного вздоха слышен только океан снаружи, шипение и биение каждой из волн.
Мисти орет, чтобы все заткнулись. Все – слушайте молча. Кричит – она знает, о чем говорит. Она – величайшая художница всех времен. Реинкарнация Томаса Гинзбурга, Клода Моне и Мэри Кэссет. Она орет, мол, ее душа бывала Микеланджело, да Винчи и Рембрандтом.
Потом какая-то женщина выкрикивает:
– Это она, художница! Это Мисти Уилмот!
И какой-то мужчина подхватывает:
– Мисти, дорогая, довольно интриговать!
Женщина кричит:
– Срывай занавес, и делу конец!
Женщина и мужчина, которые кричат – это Грэйс и Гэрроу. Меж ними двумя они держат за руки Тэбби. А глаза Тэбби заклеены липкой лентой.
– Эти люди, – кричит Мисти, показывая на Гэрроу и Грэйс. Волосы свисают ей на лицо, Мисти орет. – Эти злодеи использовали своего сына, чтобы сделать мне ребенка!
Мисти кричит:
– У них моя дочь!
Орет:
– Стоит вам увидеть то, что за занавеской, и будет уже слишком поздно!
А детектив Стилтон взбирается на стул. Один шаг, и он выше. Еще шаг – и он рядом с ней на шестом столике. Позади них висит огромный занавес. Правда обо всем на свете всего в нескольких дюймах рядом.
– Да! – выкрикивает другая женщина. Пожилая островитянка Таппер, с черепашьей шеей, которая болтается в кружевном вороте платья, кричит. – Покажи нам, Мисти!
– Покажи нам! – подхватывает какой-то мужчина, пожилой островитянин Вудз, опираясь на палку.
Стилтон тянется рукой за спину. Говорит:
– Вы почти заставили меня поверить, что вы в своем уме, – и его рука появляется с наручниками. Он защелкивает их на ней, утаскивая Мисти прочь, мимо Тэбби с заклеенными глазами, мимо всех летних людей, которые качают головой. Мимо аристократов острова Уэйтензи. Назад, сквозь лесную поляну зеленого бархатного вестибюля.
– Мой ребенок, – говорит Мисти. – Она осталась там. Мы должны забрать ее.
А детектив Стилтон передает ее блюстителю порядка в коричневой форме, со словами:
– Ваша дочь, которая, как вы говорили, мертва?
Ее смерть была инсценировкой. Все смотрят, превратившись в собственные статуи. В собственные автопортреты.
Снаружи гостиницы, у подножья ступеней крыльца, блюститель порядка открывает заднюю дверцу патрульной машины. Детектив Стилтон объявляет:
– Мисти Уилмот, вы арестованы по обвинению в покушении на убийство вашего мужа, Питера Уилмота, и в убийстве Энджела Делапорта.
Она была вся в крови в утро после того, как Энджел был зарезан в постели. Энджел пытался похитить у нее мужа, у Мисти, у той, кто обнаружила тело Питера в машине.
Сильные руки заталкивают ее на заднее сиденье патрульной машины.
А из гостиницы доносится голос телерепортера:
– Дамы и господа, снятие занавеса.
– Под замок. Отпечатки. Дело, – командует детектив. Хлопает блюстителя порядка по спине и добавляет. – Я схожу внутрь, гляну, о чем был весь этот шум.
28 августа
ЕСЛИ ВЕРИТЬ ПЛАТОНУ, мы живем в цепях в темной пещере. Мы прикованы, поэтому можем видеть только заднюю стену катакомбы. Можем различить только тени, мечущиеся по ней. Это могут оказаться тени чего-то, что движется снаружи пещеры. Могут оказаться тенями людей, прикованных рядом.
А может быть, каждый из нас видит только собственную тень.
Карл Юнг называл это эффектом тени. Он сказал, что мы не способны рассмотреть окружающих. Вместо этого мы видим аспекты собственной личности, отброшенные на них. Тени. Проекции. Наши ассоциации.
Как старые художники, которые садились в темной комнатушке и обводили картинку того, что стояло за крошечным окном, в ярком свете солнца.
Камера обскура.
Не точный образ, но зеркальный, или вверх ногами. Искаженный зеркалом или линзой, через которую он падает. Наше ограниченное личное восприятие. Наш крошечный багаж знаний. Недоделанное образование.
То, как зритель определяет видимое. То, как художник мертв. Мы видим то, что нам хочется. Мы видим лишь себя самих. Все, что нам может дать художник – вещь для осмотра.
Просто на заметку: твоя жена арестована. Но она это сделала. Они это сделали. Мора. Констенс. И Мисти. Они спасли ее ребенка, твою дочь. Она спасла себя саму. Они спасли всех.
Блюститель порядка в коричневой форме отвез Мисти через паром на континент. По дороге этот блюститель зачитал ей права. Передал ее другому блюстителю порядка, снявшему с нее отпечатки пальцев и обручальное кольцо. Мисти осталась в свадебном платье, блюстительница отобрала у нее сумочку и туфли на высоком каблуке.
Вся ее бижутерия, украшения Моры, их общие украшения, все осталось в доме Уилмотов в обувном коробке Тэбби.
Эта вторая блюстительница порядка дала ей одеяло. Эта блюстительница была женщиной ее лет, с лицом в виде дневника из морщин, берущих начало у глаз и напутанных между ртом и носом. Блюстительница порядка заглянула в бланки, которые заполняла Мисти, и спросила:
– Вы художница?
А Мисти отозвалась:
– Угу, но только до конца этой жизни. Потом – не буду.
Блюстительница провела ее по старому бетонному коридору к железной двери. Отперла дверь со словами:
– Отбой уже был.
Распахнула железную дверь и ступила в сторону, и тут-то Мисти увидела вот что.
То, чему не учат на худфаке. Что ты всегда в ловушке.
Что голова твоя – пещера, а глаза – ее вход. Что ты живешь внутри своей головы, и видишь только то, что хочешь. Что ты просто наблюдаешь тени и выдумываешь им собственный смысл.
Просто на заметку, вот оно где было. В вытянутом прямоугольнике света от раскрытой тюремной двери, надпись на дальней стене маленькой камеры гласила:
«Раз ты здесь, значит, ты снова проиграла». Подписано – Констенс.
Округлый и широкий почерк, любящий и заботливый, во всем ее почерк. Мисти никогда не была здесь, но здесь она оказывается в итоге, снова и снова. Потом она слышит звуки сирен, протяжные и отдаленные. А блюстительница порядка говорит:
– Я скоро вернусь и к вам наведаюсь, – блюстительница делает шаг наружу и запирает дверь.
Высоко в одной из стен окошко, слишком высоко, Мисти не дотянуться, но оно должно выходить на океан и остров Уэйтензи.
В мерцающих оранжевых отблесках из окна, в танце света и тени на бетонной стене против окошка, в этих отблесках Мисти известно все, что было известно Море. Все, что было известно Констенс. Мисти знает, что их всех надули. Так же, как знала способ нарисовать полотно. Как Платон, который утверждает, будто нам уже все известно, просто нужно вспомнить. То, что Карл Юнг называет вселенским подсознанием. Мисти помнит.
Как камера обскура переносит картинку на холст, как действует ящичный фотоаппарат, окошко камеры проецирует мешанину оранжевого и желтого, огня и теней, в очертания на дальней стене. Слышны лишь сирены, видно лишь пламя.
Горит Уэйтензийская гостиница. С Грэйс, Гэрроу и Тэбби внутри.
Ты чувствуешь?
Мы были здесь. Мы здесь. Мы будем здесь всегда.
И мы снова проиграли.
3 сентября – Первая лунная четверть
НА УЭЙТЕНЗИЙСКОМ МЫСУ Мисти останавливает машину. Тэбби сидит рядом, обвив руками урну. С бабушкой и дедушкой. С твоими родителями. Грэйс и Гэрроу.
Сидя около дочери на переднем сиденье старого «бьюика» Мисти пристраивает руку на коленку Тэбби и зовет:
– Солнышко.
И Тэбби оборачивается к матери.
Мисти сообщает:
– Я решила официально сменить наши имена, – говорит Мисти. – Тэбби, я должна рассказать людям, что произошло на самом деле, – Мисти сжимает худенькую коленку Тэбби, белый чулок скользит по коленной чашечке, а Мисти продолжает. – Мы можем поехать жить с твоей бабушкой в Текумеш-Лэйк.
На самом деле, теперь они могут поехать жить куда угодно. Они снова богаты. От Грэйс и Гэрроу, и от всех стариков поселка, остались миллионы по страховке жизни. Миллионы и миллионы, не обложенные налогом и укрытые в банке. Приносящие достаточный процент, чтобы прожить в покое следующие восемьдесят лет.
Ищейка детектива Стилтона, два дня спустя после пожара, эта собака вырыла яму в горе обугленного дерева. Три нижние этажа гостиницы выгорели до каменных стен. Бетон от жары превратился в сине-зеленое стекло. То, что унюхала собака, запах гвоздик или кофе, привело спасателей к Стилтону, который лежал мертвым в подвале под вестибюлем. Эту собаку, которая дрожала и мочилась, зовут Рыжий.
Фото по всему миру. Тела, выложенные по улице перед гостиницей. Обугленные трупы, черные и заскорузлые, растрескавшиеся, с обнажившимся внутри печеным мясом, влажным и красным. На каждом снимке, в каждом ракурсе – какая-нибудь корпоративная эмблема.
На каждой секунде видеозаписи – почерневший скелет, уложенный на стоянке. Пока что, общее число – сто тридцать два, – и над ними, за ними, где-нибудь в кадре – корпоративная марка. Лозунг или улыбающийся талисманчик. Мультяшный тигр. Смутный оптимистичный призыв.
«Боннер и Миллз – КОГДА ВЫ ГОТОВЫ ПРЕКРАТИТЬ НАЧИНАТЬ ЗАНОВО».
«Мьютворкз – У НАС ПРОГРЕСС НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ».
Непонятному можно придать любой смысл.
Очередная машина островитянина с шелкотрафаретной рекламной печатью на борту припаркована в каждом кадре новостей. Очередной кусок бумажного мусора – стаканчик или салфетка, с отпечатанной корпоративной маркой. Можно прочесть какой-нибудь рекламный щит. На островитянах – пуговицы на лацканах или футболки, в которых они дают телеканалам интервью на фоне скрученных дымящихся тел. Сейчас финансовые компании, кабельные телевизионные сети и фармацевтические фирмы платят счета по жирному откупу, чтобы выкупить всю свою рекламу. Чтобы стереть с острова свои имена.
Прибавить эти деньги к страховке – и остров Уэйтензи богат как никогда раньше.
Сидя в «бьюике», Тэбби смотрит на мать. Разглядывает урну, которую сжимает в объятиях. Ее главная скуловая мышца растягивает губы к ушам. Щеки Тэбби вздымаются, чуть приподнимая нижние веки. Обнимая прах Грэйс и Гэрроу, она сама себе крошечная Мона Лиза. С улыбкой под древность, Тэбби говорит:
– Если расскажешь – я расскажу.
Произведение Мисти. Ее ребенок.
Мисти спрашивает:
– Что ты расскажешь?
Тэбби отвечает, все улыбаясь:
– Я подожгла им одежду. Дедуля и бабуля Уилмоты научили меня, как нужно, и я их подожгла, – говорит. – Они заклеили мне глаза, чтобы я не видела, чтобы я выбралась.
В уцелевших обрывках записи новостей видно только, как дым клубится из дверей вестибюля. Это в секунды после открытия полотна. Вбегают пожарники – и не выходят. Никто из полицейских, никто из гостей – не выходит. Каждую секунду, попавшую в запись, огонь разрастается, пламя хлещет из окон оранжевыми языками. Какой-то офицер полиции пробирается вдоль крыльца, чтобы глянуть в окно. Приседает, заглядывая внутрь. Потом встает во весь рост. Дым вырывается ему в лицо, от пламени вспыхивает одежда и волосы, – он переступает подоконник. Не моргая. Не дергаясь. У него горят лицо и руки. Офицер полиции улыбается тому, что видит внутри, и идет навстречу ему без оглядки.
По официальной версии, все вызвал камин в столовой. По уставу гостиницы огонь должен был гореть всегда, как бы тепло не было на улице, – и так начался пожар. Люди умирали, стоя в шаге от распахнутых окон. Их трупы находили на расстоянии вытянутой руки от дверей наружу. По смерти они были обнаружены ползущими, лезущими, пробирающимися к стене в столовой, на которой горело полотно. К очагу пожара. К тому, что увидел в окно у крыльца полицейский, что бы это ни было.
Никто даже не пытался спастись.
Тэбби рассказывает:
– Когда отец попросил меня убежать с ним, я сказала бабуле, – говорит. – Я спасла нас. Я спасла будущее всего острова.
Разглядывая океан в окно машины, не глядя на мать, Тэбби заявляет:
– Так что если ты кому-нибудь расскажешь, – говорит. – Я попаду в тюрьму.
Говорит:
– Я очень горжусь тем, что сделала, мать.
Она смотрит на океан, прослеживая глазами изгиб береговой линии, назад, к поселку и черной глыбе разрушенной гостиницы. Где люди сгорели заживо, пригвожденные к месту синдромом Стендаля. Полотном Мисти.
Мисти теребит коленку дочери и говорит:
– Прошу тебя, Тэбби.
А Тэбби, не поднимая взгляд, тянется, открывая дверцу машины, и выходит.
– Тэбита, мать, – отзывается. – Отныне, пожалуйста, называй меня полным именем.
Когда погибаешь в огне, сокращаются мышцы. Руки подтягиваются, сжимая ладони в кулаки; кулаки тянутся к подбородку. Сгибаются колени. Это все делает жара. Называется – «поза боксера», потому что похоже на мертвого кулачного бойца.
Люди, погибшие в огне; люди в устойчивом растительном состоянии – все они в итоге оказываются в одной позе. Как и ребенок, ожидающий рождения.
Мисти и Тэбита минуют бронзовую статую Аполлона. Минуют поляну. Минуют растрескавшийся мавзолей, замшелый банк, врытый в холм, – его железные ворота болтаются нараспашку. Внутри темно. Они добираются до края мыса, и Тэбита, – не ее дочь, больше не часть Мисти, кто-то, Мисти даже незнакомый, – чужая Тэбита высыпает обе урны с утеса над водой. Длинное серое облако содержимого, прах и пепел, уносит бриз. Оно тонет в океане.
Просто на заметку: от Океанического Объединения Борьбы за Свободы больше не было слышно ни одного слова, и полиция не проводила арестов.
Доктор Туше объявил, что единственный общественный пляж закрывается из соображений здравоохранения. Паром урезал службу до двух раз в неделю, и только для обитателей острова. Остров Уэйтензи во всех планах и смыслах закрылся для чужака.
Возвращаясь к машине, они минуют мавзолей.
Тэбби… Тэбита останавливается и спрашивает:
– Хочешь теперь заглянуть внутрь?
Железные ворота ржавые и болтаются нараспашку. Внутри темно.
И наша Мисти отвечает:
– Да.
Просто на заметку: погода сегодня спокойна. Спокойна, отстранена и побеждена.
Один, два, три шага во тьму – и видно их. Два скелета. Один лежит на полу, свернувшись на боку. Второй сидит, привалившись к стене. Мох и плесень проросли сквозь их кости. На стенах блестят капельки росы. Эти скелеты – ее скелеты; женщин, которыми побывала Мисти.
Что Мисти поняла – боль, ужас и паника длятся только минуту-другую.
Что Мисти поняла – ей до смерти надоела смерть.
Просто на заметку: твоей жене известно, что ты блефовал, когда писал о том, что пихал все зубные щетки в зад. Ты просто хотел испугом вернуть людей в действительность. Ты просто пытался разбудить их от их собственной личной комы.
Мисти больше не пишет это для тебя Питер, уже нет.
Нигде на острове она не может оставить свой рассказ, чтобы только она сама могла его найти. Она из будущего, через сотню лет. Собственную крошечную временную капсулу. Собственную личную часовую бомбу. Население Уэйтензийского поселка перекопает каждый квадратный дюйм своего прекрасного острова. Они снесут гостиницу в поисках ее секретов. У них будет столетие на раскопки, снос и охоту, пока она вернется. Пока ее вернут. А потом будет уже поздно.
Нас предает все, что мы ни сделаем. Наше искусство. Наши дети.
Но мы здесь. Мы все еще здесь. Что бедной забитой Мисти Марии нужно сделать – так это спрятать свой рассказ на видном месте. Она спрячет его по всему миру.
Она узнала то, что узнает всегда. Платон был прав. Мы все бессмертны. Мы не можем умереть, даже если захотим.
Каждый день своей жизни, каждую минуту своей жизни, – если бы она только могла помнить об этом.
10 сентября,
1445, Береговой проезд,
Текумеш-Лэйк, штат Джорджия, 30613
Чаку Паланику,
а/я «Даблдэй»,
1745, Бродвей,
Нью– Йорк, штат Нью-Йорк, 10019
Дорогой мистер Паланик,
Думаю, Вы наверняка получаете много писем. Я никогда раньше не писала писателю, но мне захотелось дать Вам возможность прочесть приложенную рукопись.
Большую ее часть я написала этим летом. Если она вам понравится, пожалуйста, передайте ее Вашему редактору, Ларсу Линдигкейту. По правде говоря, моя цель – не гонорар. Я просто хочу увидеть ее изданной и прочитанной максимальным числом людей. Может быть, она как-то вызовет озарение у одной лишь особы.
Я надеюсь, что этот рассказ будет читаться поколениями, и сохранится в человеческой памяти. Чтобы его прочло следующее поколение, и следующее. Может быть, чтобы его прочла маленькая девочка столетие спустя, – маленькая девочка, которая закрывает глаза и видит один край – видит так ясно – край искрящихся украшений и розовых садов, который она считает своим спасением.
Где-то, когда-то, эта девочка возьмет в руки мел и возьмется рисовать дом, который никогда не видела. Я надеюсь, что этот рассказ изменит ее жизненный путь. Я надеюсь, что этот рассказ спасет ее -эту маленькую девочку – каким именем ее ни назовут в следующий раз.
Искренне Ваша,
Нора Адамс
Рукопись прилагается