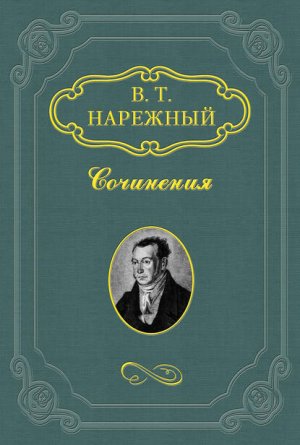
Часть первая
Глава I
Бурса
Блаженной памяти отец мой, дьячок Варух Переяславского полка, в селе Хлопотах, был великий мудрец в науках читать, писать и распевать на крилосе. Он так был громогласен, что когда в часы веселые взлезет, бывало, на колокольню и завопит, то рев его был слышнее, чем звон главного колокола, и это звонарю крайне досадно было.
Как у Варуха, кроме меня, детей не было, то он, презрев тогдашний обычай, чтобы не заставлять учить ничему детей до двенадцатилетнего возраста, принялся за меня по прошествии шести лет с такою ревностию, что в двенадцать я уже читал и писал не хуже его и пел на крилосе на все восемь гласов. Слава моя не мало утешала отца; но к чести его скажу, что он сим не ограничился и захотел сделать меня, по словам его, настоящим человеком.
Он имел друга в келейнике ректора переяславской семинарии и посему, запасшись рекомендательным письмом от богатого пана, проживающего в Хлопотах, к сей высокой духовной особе, отправился со мною в город, отстоящий от села верст на десять. Лето было в половине и день ясный.
– Неон! – сказал дорогою Варух, – когда ты будешь столько счастлив, что дозволят тебе учиться в семинарии, то смотри не ленись, и бог тебе поможет.
Там-то будешь иметь случай набраться всякой мудрости, о коей нашему брату и подумать страшно. Отличась в науках, ты можешь надеяться – велика власть господня! – надеяться быть со временем в каком-нибудь селе дияконом!
Посуди, какая честь, какая веселая жизнь!
Рассуждая таким образом, добрели мы до города, и я разинул рот от удивления. Какие церкви, какие домы, какие сады и огороды! Проходя улицы, я поминутно дергал отца за полу, спрашивая: «Это что?» Он молча продолжал путь с великою важностию, как будто ничто его не трогало. Это был субботний день, и народ расходился от вечерень. Какое множество людей обоих полов! какое великолепие в нарядах!
Подошед к одной церкви, отец мой постучался у ворот маленького домика.
– Это жилище хорошего моего приятеля, дьячка же, Варула, где мы переночуем и посоветуем о нашем деле.
В сие время вышел к нам низенький толстый человек об одном глазе. Он тотчас узнал отца моего, оскалил зубы, поздоровался, ввел нас в светелку и усадил на лавке.
Когда Варул подробно узнал намерение Варухово относительно меня, то объявил, что оно очень не худо само по себе, но весьма худо потому, что вручить рекомендательное письмо отцу-ректору очень трудно.
– А келейник{1} его высокопреподобия, всечестный Паисий, что такое? – вскричал отец мой.
– Ты, видно, давно с ним не видался, – отвечал Варул, – теперь и всечестный Паисий, как и все другие, взялся за ум, и кто приходит к нему с пустыми руками, для того и ректор не видит и не слышит.
– Подлинно, что худо, – сказал Варух, понизя голос и почесавши в затылке, – я и не знал, что старинный друг мой так переменился; правду, однако, сказать, что и мы, хотя также всечестные люди, а даром ни для кого и рта не разинем. Любезный друг Варул! ссуди мне рубль денег, так я поднесу его другу Паисию.
Варул, в свою очередь, задумался и также почесал в затылке. Наконец глаз его просветлел, он протянул к отцу моему руку и сказал:
– Изволь, друг Варух, ссужу тебя деньгами; но я кое-что выдумал и надеюсь, что тебе это будет не противно. Возьми половину сих денег, ступай к знакомой тебе шинкарке Мастридии и купи добрую меру пеннику да другую вишневки; я же побегу к Паисию и приглашу его на ужин. На такие звы он не причудлив и отказываться не охотник. Дорогою искуплю я на другую половину пару кур, утку и гуся. Тут-то поговорим мы с Паисием о нашем деле и, надеюсь, не без успеха; а мы с тобою будем иметь тот барыш, что и сами поедим и попьем по-дьячковски.
Не для чего пространно рассказывать о пирушке, происходившей в доме Варула; за полными чарками заключен союз, целию коего было определение дьячковского сына Неона в семинарию. К концу сего ночного празднества восторженные друзья, обнимаясь между собою и обнимая меня, поздравляли с поповским саном. На другой день отец Варух с своим сыном представлены ректору, приняты благосклонно, и Неон получил дозволение набираться мудрости в семинарии и жить в тамошней бурсе.
Есть многие сельские и иногородные отцы, кои, охотно желая видеть сыновей своих учеными, по бедности не в силах содержать их в городе, где понадобилось бы платить за квартиру и за пищу. Чтобы и таковым доставить посильные способы к образованию, то помощию вкладов щедрых обывателей и по распоряжению монастырей при каждой семинарии устроены просторные избы с печью или двумя, окруженные внутри широкими лавками; на счет также монастырей снабжаются они отоплением, и более ничем. Сии-то избы называются бурсами, а проживающие в них школьники – бурсаками. Старший из студентов, по воле ректора, управляет другими, неся величественное имя консула, в том предположении, что и начальный Рим был не что иное, как бурса.
Варух и Варул ввели меня торжественно в сей вертеп премудрости и отрекомендовали консулу и будущим совоителям; а чтоб я милостивее был принят, то отец мой вручил консулу полтину денег, прося приготовить праздничный ужин. После чего, снабдя меня соломенным мешком и какою-то латинскою книгою на польском языке{2} и благословя гривною денег, сказал:
– Неон! не печалься, друг мой! Я оставляю тебя в надежном пристанище.
Бойся бога, чти старших и слушайся, не лги и не крадь, – тогда ты угоден будешь и богу и людям. Учись прилежно, когда хочешь быть благополучен.
Каждый месяц ты меня увидишь или, по крайней мере, обо мне услышишь. Друг мой Варул не оставит тебя своею милостию. Прощай.
Обняв меня, оба друга удалились. Стоя у дверей бурсы, я провожал их слезящими глазами; когда же скрылись, то я вздумал осмотреть кругом новое мое обиталище. Это был сарай, состроенный из плетня, обмазанного изнутри и снаружи желтою глиною; крыша была соломенная; двери и четыре круглые окна освещали сие здание. Впереди имело оно обширный пустырь, поросший высоким бурьяном, однако торчало на оном с десяток полуусохших шелковичных деревьев; с задней стороны примыкалось к высокому берегу реки Десны; правая боковая сторона граничила с забором огромного сада, принадлежащего монастырю, в коем помещена и семинария; левая – с чьим-то пространным огородом, на углу коего стоял шинок.
Осмотрев сие пленительное место, я вошел в бурсу и уселся в углу на лавке, на своем ложе. Консул – это был высокий, дородный, смуглый мужчина с большими черными усами – лежал на лавке на войлоке, склонив голову на связку травы и держа в руках претолстую тетрадь. Из двадцати пяти моих товарищей, кои все были гораздо возрастнее меня, человека с четыре уже усланы для закупки вещей, нужных к ужину, а остальные заняты были различным образом. Иной басил ужасным голосом духовную песню; другой бренчал на балалайке, под звук коей человека два-три скакали вприсядку; некоторые боролись или бились на кулачках; словом, всякий делал что хотел, при всем том один другому не мешая.
Солнце клонилось к западу; купчины возвратились, принесши с собою полбарана, мешок со пшеном и деревянную баклагу с пенником. Консул сейчас вскочил и, овладев баклагою, отведал; и, похваля напиток, пошел с нею на берег Десны, куда и я, по данному знаку, вместе со всеми ему последовал.
Три кашевара развели огонь, утвердили тревожный таган, рассекли баранину на куски по числу братии и начали стряпню. Между тем консул, отделившись с шестью товарищами, сел на берегу и начал целоваться с баклагою, не забывая своих собеседников; прочие, позади коих был и я, разлегшись на траве, точили балы, рассказывали сказки и присказки и производили самые чудные телодвижения. Видя, что консул не делал их участниками в осушивании баклаги, я у соседа своего спросил тому причину.
– Мы еще не имеем на то права, – отвечал он с тяжким вздохом, – ибо мы все только этимологи, поэты и риторы, и оттого-то не смеем, под опасением строгого наказания, пить вино, курить табак и отращивать усы. А как консул Далмат и его товарищи все философы, то они на сии преимущества имеют всякое законное право.
Не понимая, что значат сии неслыханные мною слова, я замолчал и продолжал внимательно смотреть и слушать. Каша поспела, и котел поставлен на лужайке. Консул с своими товарищами сели около него, а прочие составили второй круг; всякий вытащил из кармана длинную ложку и начал упражнять свои челюсти сколько было силы. Хотя отец мой и забыл снабдить меня ложкой, но консул приказал младшему из бурсаков делиться со мною своею. Котел опорожнен; все удалились в бурсу и полегли на лавках. Я также растянулся на своем мешке и скоро уснул крепко.
На следующее утро консул, сопровождаемый своими подчиненными, отправился в семинарию и представил меня префекту{3}. Это был преважный протопоп и составлял второе лицо после ректора. Меня отвели в надлежащий класс, где и начали преподавать латинскую, польскую и русскую азбуку. Менее нежели в час прозорливый учитель, католичский монах, догадался, что я церковные книги читал столько же проворно и внятно, как стихарный дьячок, а посему дальнейшее в сем упражнение признано излишним, а советовали мне всеми силами налечь на изучение языков латинского и польского. Перед полуднем раздался на дворе семинарском звон колокола; учитель и ученики поднялись с мест, и первый дал мне знак приближиться к нему и протянуть обе руки, распрямя ладони. Я исполнил, и наставник с улыбкою удовольствия влепил в каждую ладонь по полдюжине резких ударов деревянною лопаткою.
После сего пропета торжественно молитва, и всякий пошел домой, а я в бурсу.
Дорогою нагнал меня один из моих товарищей, по имени Кастор, которому со слезами рассказал я о наказании, невинно полученном от учителя.
– Друг мой, – сказал он засмеявшись, – ты еще нов и неопытен. Дюжина добрых ударов, тобою полученных, совсем не есть знак учительского гнева, а, напротив, доказательство особенного благоволения. Здесь теперь такое заведение, чтобы всякого ученика, вступающего в сей храм мудрости, приучать к кротости и терпению. Хотя обыкновение сие почти ни одному новичку не нравится, но к нему привыкают, а особливо, зная, что количество полученных ударов приближает каждого к лестной цели быть скорее диаконом или и попом.
– Но, – говорил я подумавши, – отец мой сказывал, что в семинарии обучается много дворянских и купеческих сыновей, которые никогда не думают быть ни дьяконами, ни попами.
– О, – сказал товарищ, – на таковых наше начальство не обращает никакого внимания. Впрочем, заметь, Неон, – я по дружбе тебе это открою, – если ты будешь терпелив, послушен и совершенно предан воле учителя, то испытание сие продлится недолго; в противном случае оно будет бесконечно, и ты в тридцать лет будешь не что другое, как сельский дьячок, сколько бы учен ни был. Обладая же помянутыми мною добродетелями, ты скоро получишь выгодное место.
Разговаривая таким образом, вступили мы в бурсу.
Глава II
Способы к содержанию
Привыкши у отца никогда желудок не доводить до ропота, я крайне запечалился, не видя и следа обеда; но, вспомня, что у меня в кармане целая гривна, я тотчас сделал план к удовлетворению алчбы и, вышед из бурсы, опрометью бросился к площади, граничащей с семинариею, где поутру еще мельком заметил множество торговок с хлебом разного звания. Я купил за целую копейку большую булку и принялся насыщать себя с великим удовольствием; еще добрый ломоть оставался в руке моей, когда вступил я в свою обитель. Немало испугался я, взглянув на консула. Он ходил по сараю большими шагами и, обратясь ко мне, спросил свирепым голосом:
– Где был ты, негодница?
С трепетом показал я остаток булки и не мог промолвить ни одного слова, сколько от испуга, столько и от того, что рот был полон.
– Понимаю, – вскричал он, – сей бунтовщик, никому не сказавшись, ходил на рынок. Ликторы! сейчас нарежьте два пука крапивы и накажите виновного!
Двое из бурсаков, которых называли риторами, бросились в бурьян и вмиг возвратились с пучками зрелой крапивы; двое других кинулись на меня, повалили на пол и разоблачили, а первые двое начали хлестать весьма исправно. Я кричал как отчаянный; но они не прежде выпустили меня из рук, пока не увидели, что крапива измочалилась. Уединясь в темный угол, я плакал неутешно. «Если такими средствами, – думал я, – приобретается премудрость, столько прославляемая отцом моим, то пропадай она, негодная. В тысячу раз лучше оставить всю надежду быть когда-либо дияконом, чем беспрестанно пробовать на себе действие лопаток учительских или крапивных прутьев от каких-то ликторов».
Быть может, я и надолго остался бы в таком пасмурном расположении, если бы не рассеял меня вошедший бурсак Кастор, которого за веселый нрав полюбил я с первого еще раза.
– Что это значит, Неон? – спросил приятель, – что ты и до сих пор печалишься о безделице? Поверь, друг мой, что такие происшествия не заслуживают внимания.
Вместо ответа я показал ему спину.
– Да, – продолжал он с важностию, – ты изрядно исписан; но это пройдет, и не заметишь, как пройдет.
Когда я жаловался, что консул во зло употребляет возраст свой, силу и право пить вино, курить табак и носить усы, Кастор сказал мне:
– Напрасно так думаешь, приятель, и, видно, не знаешь наших постановлений. Послушай же: почтенное сословие бурсаков образует в малом виде великолепный Рим, и консул управляет оным вместе с сенатом. В консулы избирается старший из богословов, а прочие богословы и философы образуют сенаторов; риторы составляют ликторов, или исполнителей приговоров сенатских; поэты называются целерами, или бегунами, которые употребляются на рассылки; прочие составляют плебеян, или чернь– простой народ. Видишь, как все это прекрасно устроено! Если бы консул сделал какое позорное дело, то сенаторы доносят о том ректору, и тот немедленно снимает с него сей величественный сан и, наказав по мере вины палками, розгами или и батожьем, обращает в звание сенатора. Зато и консул имеет свои выгоды и преимущества.
Именно: если кто провинится из нас, но немного, как, например, сегодня ты, то он один своею властию определяет меру наказания; в случае же вины важной он созывает сенат и с ним вместе рассуждает о деле и произносит кару. Кроме одежды и обуви, у нас все общее и хранится в каморке, пристроенной к бурсе, а ключ всегда у консула. Главный промысел наш состоит в пенни под окнами мирян церковных песней или – если кто столько смышлен – в проворстве рук.
Мы получаем мукою, свиным салом, птицами, зеленью разного рода и отчасти деньгами, которые обыкновенно переходят от нас в руки шинкарки Мастридии, торгующей вблизи от нас. По сим основаниям самыми злыми преступлениями почитаются у нас, если кто изобличен будет в утайке хотя одной добытой копейки или попадется в сети на ручном промысле.
Так поведал Кастор о законах сего малого Рима, как прибежал целер с объявлением, что каша готова.
– Ин пойдем, Неон, – сказал Кастор, вытаскивая из кармана ложку.
– Спасибо за ласку, – отвечал я, – пропадайте вы все и с кашею; мне есть не хочется.
– Упаси тебя угодник божий, соименитый тебе Неон, нейти со мною! Разве тебе хочется еще раз быть сечену?
– А за что?
– За то, что не хочешь с нами есть каши; это значило бы противиться уставам общества, о чем ужасно и помыслить.
Нечего было делать: я участвовал в общей трапезе, а после в купанье и отдыхе. Но лишь только раздался звон колокола на семинарской колокольне, как и в бурсе раздался басистый голос консула:
– Ребята! на работу!
Тотчас четыре философа, взяв на плеча по огромному мешку, стали поодаль один от другого. Консул, стоя против них, начал пальцем указывать то на того, то на другого из прочей ватаги, и вмиг к каждому мешконосцу присоединилось по нескольку риторов, поэтов и инфимов. Я попал под команду Сарвила, философа веселого, смелого, собою дородного и сильного, но весьма вспыльчивого, так что, кроме сенаторов, все в бурсе его трепетали. Отряды сии двинулись в молчании, и младшие шли впереди, за ними старшие, а ход заключался философом. Как скоро прошли мы свой пустырь, то разделились на четыре части, и каждая небольшая шайка сия пошла по особой улице. Мы шли тихо, а философ, наш вождь, мерными шагами и с великою важностию, повертывая голову направо и налево. По приказанию его мы остановились под окнами одного видного дома, и он, подозвав меня, сказал:
– Это дом зажиточного купца; поди спроси!
Опрометью устремился я к воротам, отворил калитку и вошел на большой двор. У самого входа в дом стоял большой стол, за коим сидели: хозяин, судя по платью, жена его и дети, и все полдничали. Сняв бриль{4}, с робостию подошел я к столу и трепещущим голосом сказал хозяину:
– Тебя приказано спросить.
– О чем и кто?
– Философ Сарвил, а о чем – не знаю!
Купец и жена его улыбнулись, а дети захохотали.
– Твой философ, – сказал хозяин, – по-видимому, не весьма разумный человек, что посылает спросить у меня, не сказавши о чем. Где этот философ?
– За воротами!
– Так поди же ты спроси, чего он от меня хочет?
Я выбежал на улицу и на вопрос: «Что сказал хозяин?» – отвечал с потупленными глазами:
– Он сказал, что ты, по-видимому, не весьма разумный человек, когда послал меня спросить у него, не сказавши о чем.
Философ заскрыпел зубами.
– Ах ты, проклятый, – вскричал он и такую отвесил мне пощечину, что у меня глаза ушли под лоб и я опрокинулся на землю.
– Поди ты, – сказал он другому бурсаку, – и спроси.
Сей бросился как стрела, в один миг возвратился и воззвал громогласно: «Дозволяется!»
Скинув бремя, вступили мы на двор и стали полукругом около стола сажени за две. Тут раздался ужасный рев Сарвила, так что все вздрогнули, прочие ему подтянули, и начался духовный концерт. Я взглянул на своего вождя, и ужас обнял меня. Представь себе, кто хочет, высокого черного мужчину, с разинутою пастью, выпучившего страшные глаза и дерущего горло, шевеля длинными усами. Трепеща всем телом, я вообразил: что будет со мною, если сей ужасный философ даст другую пощечину? Я погиб невозвратно! Тут не мог я удержать слез и утирал их кулаками.
Концерт кончен. Сарвил, подошед к самим хозяевам, протянул руку и проговорил речь, которую кончил желанием хозяину и хозяйке с чадами и домочадцами счастия и многолетия. Едва замолк он, как вся ватага воскликнула многая лета.
Когда все утихло, то ласковый хозяин поднес философу большую чарку водки и сунул в руку сколько-то денег; по приказанию доброй хозяйки в наш мешок высыпана мерка гороха, впущена часть свинины и оставшийся от полдника большой кус жаркой говядины.
Когда философ низко кланялся хозяевам, призывая на дом их благословение божие, хозяйка, подозвав меня, спросила весьма ласково:
– О чем плачешь, мальчик?
– О том, – отвечал я, взглянув на Сарвила, – что не знал, зачем был сюда послан.
– Разве тебя за это побранили?
– Побили, и весьма больно!
– Это нехорошо, – сказала она Сарвилу, – и тебе бить такого мальчика даже стыдно.
После сего она, взяв со стола небольшой пирог, подала мне, сказав:
– Поешь, голубчик, и не плачь.
Мы торжественно отправились на улицу. В то мгновение, как услышал я стук запертой калитки, к величайшему удивлению почувствовал, что вишу на воздухе на аршин от земли и верчусь кругом; невидимая рука держала меня за пучок, и ловкий удар поразил по макуше. Я поднял такой пронзительный вопль, что демон, меня истязавший, опустил на землю и поставил на ноги. Едва я мог стоять. Вдруг слышу голос:
– Какой ты бессовестный студент, что так мучишь безвинного малого!
Это был голос ласкового купца.
– Постой, – продолжал он, – я сейчас иду к ректору посмотрю, как он рассудит об этом поступке.
Философ переменился в лице и стоял неподвижно. Хотя для меня и ужасен был Сарвил и, конечно, не худо было бы, если б его порядком пощуняли, но имя ректора было для меня еще ужаснее. Посему я отведен был в бурсу и отдан консулу, коему объяснено бесчеловечие, оказанное мне моим полководцем.
Консул обещал воздать удовлетворение и, по выходе доброго купца, лег на свой войлок и закурил трубку, не говоря мне ни слова и даже не глядя на меня.
По закате солнечном все четыре ватаги наши почти в одно время возвратились. Кисы их были довольно наполнены{5}, и когда все осмотрено и деньги вручены консулу, то он отвел в угол Сарвила и начал с ним шептаться.
По прошествии малого времени консул громко произнес:
– Не правда ли, братцы, что для перемены в пище не худо было бы на вечер сварить кашу тыквенную?
Все одобрили такое предложение. Тогда он возгласил:
– Неон, Памфил, Епифан и Аверкий залезут в ближний огород и будут рвать там тыквы и что попадется, ибо все устроено на потребу человека, а риторы, Максим и Лукьян, станут у забора с мешками для принятия добычи.
Когда смерклось, то будущие мои товарищи в сем ночном подвиге начали приготовляться, то есть скинули халаты и засучили рукава. Хотя для меня крайне было ново и отвратительно такое художество, но что будешь делать? Я приготовился по их примеру, и все отправились на место атаки. Риторы, яко старшие, назначили каждому из нас место, где должно перелезть плетяной забор, и мы мигом очутились на огороде.
Случись же, что передо мной простирались гряды с арбузами, дынями и огурцами. Давненько не случалось мне отведывать плодов сих, и, рассчитав, что добычи трех моих сотрудников достаточно будет на всю нашу ученую шайку, я, в нескольких саженях от забора, севши на гряде, начал насыщаться огурцами, предположив, по окончании сей первой потребности, сорвать пару хороших арбузов и дынь и предаться с ними бегу. Когда огурцы уже более не шли мне в горло, то я, оторвав по преднамерению по паре арбузов и дынь, хотел встать; но не тут-то было: нога моя была прикована к земле. Ужас обнял меня, и я испустил резкий вопль. Товарищи мои как прах рассеялись, и из борозды, подле самых ног моих, поднялся преужасный мужичина с престрашными усами. Я оцепенел и сидел на гряде неподвижно.
– Как осмелился ты, – спросил он грозно, – молодой мошенник, залезть в огород сей и делать в нем такое опустошение? Кто ты?
Пришед понемногу в чувство, я встал, поклонился ему в ноги и рассказал все похождения, случившиеся в сей несчастный день до настоящей минуты.
– О, проклятые бурсаки! – вскричал он, – вы для огорода моего гибельнее, чем воробьи и грачи для вишневого сада! Но мне тебя жаль! Ты еще молод, может быть, рожден с честными склонностями, а попавши в скопище воров и мошенников, рано или поздно, непременно сделаешься нарядным плутом{6}.
Хотя я тебя и прощу, но все товарищи приколотят тебя до полусмерти. Постой, я нашел средство избавить тебя от беды; но только дай мне слово никогда не посещать моего огорода. Когда захочешь полакомиться арбузом или дынею, приди явно в дом мой – вот в конце огорода – и попроси: никогда не откажу.
Если же еще поймаю на воровстве, то пребольно высеку, а в бурсе и того более тебе достанется. Поди перелезь через забор и жди меня, а я сорванные тобою арбузы и дыни передам тебе. Когда тебя спросят о причине произнесенного вопля, то скажи, что в ноге сделалась судорога, и ты, не могши встать, боялся быть пойман. Ступай с богом! Помни: имя мое Диомид, по прозванию Король.
Как сказано, так и сделано. Когда я подошел к берегу реки, то при свете разложенного огня увидел полный сенат, собранный для моего суждения.
Приметив меня, все подняли смешанный вопль; но когда я подошел к огню ближе и консул усмотрел мою добычу, то радостно вскрикнул и спросил:
– Каким чудом вырвался ты из рук лукавого хозяина?
– Я никогда и пойман не был!
– Отчего же так горестно возопил, что все товарищи твои разбежались?
– Вольно им было разбежаться; а я вскрикнул от внезапной боли в ноге, в коей оказались судороги. По окончании оных я встал с своею добычею и счастливо переправился через забор. Я принес бы всякой всячины гораздо больше, но не в чем было, а в пазухе и в руках никак нельзя более.
– Верю, – отвечал ласково консул, – но и сего довольно. Вперед только будь осторожнее и пустяками не пуган товарищей.
После ужина все улеглись; но происшествия дня сего были для меня так диковинны, что голова кружилась, и я не мог заснуть гораздо за полночь.
Глава III
Неудачи
На другой день явился я в классе. Помня вчерашние Касторовы рассказы, что здесь бьют по рукам лопатками за излишнее внимание и прилежность, я решился избежать сей лестной награды и начал беспрестанно вертеться на скамейке, толкать товарищей, без нужды кашлять, чихать и делать всякие непотребства. Учитель только смотрел на меня, не говоря ни слова. Когда урочное время прошло, то он по-прежнему подозвал меня к себе, велел протянуть руки и разнять ладони; после чего влепил в каждую по дюжине уже ударов лопаткою. По пропетии молитвы все разошлись по своим местам.
– Что за диковинная вещь! – говорил я со слезами, потирая горящие ладони, – за прилежание бьют и за леность бьют! Видно, товарищ мой Кастор сам ничего не знает. Нечего уже у него более и спрашивать, кроме разве о уставах бурсы.
Точно так прошли остальные три дни в неделе; но как я – сколько малолетен ни был – догадался, что если уже необходимо должно мне быть биту, то пусть лучше бьют за прилежание и успехи, нежели за леность и невежество: почему знать, думал я, может быть, за это скоро удостоен буду в диаконы!
На сем основании я сделался столько прилежен, внимателен, рачителен ко всему, преподаваемому в классе, что не мог бы уже увеличить сих качеств, хотя бы отбили лопатками обе руки по самые локти; но, к великому моему удивлению и горести, удары каждый день увеличивались, так что к субботе ладони мои распухли, как подушки. В сей роковой день, по окончании классного учения, двое сторожей внесли скамейку и поставили посередине комнаты, двое явились с пуками лоз. По мановению наставника они схватили меня, разложили на скамье и начали оказывать удальство свое. Нет! это уже не крапивные удары в бурсе!
Разумеется, что я вопиял сколько сил доставало, призывал всех святых во свидетели своей невинности; тщетно: удары сыпались градом, и вскоре я не мог уже кричать. Истязание прекращено, я снят со скамьи и одетый подведен к наставнику; но как не мог держаться на ногах, то два сторожа меня поддерживали. По данному знаку все школьники удалились, и тогда учитель взглянул на меня с милостивою улыбкою, произнеся:
– Я тобою весьма доволен, Неон Хлопотинский! Ты учился весьма прилежно, вел себя скромно и в течение всей седьмицы доказал примерное терпение и послушание, – добродетели, необходимые для всякого человека, грядущего в мир, а особливо для готовящего себя в духовное звание. Сей день есть последний день твоего испытания. Продолжай учиться с возможным рачением, веди себя скромно и честно, повинуйся установленным над тобою властям, и ты будешь счастлив. Я уже наказал твоему консулу, чтобы он имел особенное за тобою наблюдение. Вот тебе злотый.[1] Употреби его на сродные летам твоим лакомства. Я буду иметь особенное к счастию твоему внимание.
Прощай и иди с миром.
Я поцеловал руку сего пастыря, встал, вышел и в один миг выбежал за монастырские ворота. Вертясь на незабвенной скамейке, я думал, что нескоро в силах буду и ползать, а теперь сделался столь тверд на ногах и крепок во всем теле, что мог скакать, как жеребенок. На рынке купил я две булки – одну для себя, а другую для Кастора, ибо в продолжение целой недели он более всех оказывал мне доброхотства.
С сего самого времени консул Далмат и сенаторы обходились со мною милостивее противу прежнего. Учение, отдыхи, пение по дворам и под окнами – все шло наилучшим образом. Когда моим начальникам приходило в голову полакомиться арбузами или дынями с огорода нашего соседа и я назначаем был в числе прочих рыцарей к сему завоеванию, то всегда отговаривался неудачею первой попытки, происшедшей от судорог в ногах. Казалось, они довольны были моими причинами. Однако же, помня благодеяние, оказанное мне Диомидом, я жалел о убытках, какие причиняли ему мои товарищи, и решился быть благодарным.
В скором после сего времени, когда уличные певчие должны были отправиться на работу, я объявил консулу, что чувствую боль в горле и не могу участвовать в общеполезном деле, почему просил позволения проходиться по городу. Получив оное, я с осторожностию дошел до дома Королева и вошел на двор. Первый предмет, представившийся глазам моим, был молодой парень, занимавшийся чем-то в открытом сарае, наполненном огородными орудиями и самыми плодами.
– Что тебе надобно, мальчик? – спросил он.
– Я хочу видеть хозяина!
– Ему недосуг – он спит, дабы не спать ночью. Пора за ум взяться!
– Однако ж ты должен разбудить его, и он скажет тебе спасибо!
– Да ты можешь и мне все сказать.
– Никак нельзя!
– Хорошо; пойдем же вместе. Если он меня выбранят, то я порядком намну тебе чуб.
Дом Короля был довольно просторен; он разделялся на две половины сенями. По одну сторону была кухня с перегородкою для работника или работницы, по другую – светелка, также с перегородкою. В сей-то половине отдыхал Король, и работник разбудил его. Хозяин вышел, и я, поклонясь ему в пояс, сказал:
– Знаешь ли ты меня?
– Нет!
– Я тот маленький вор, которому некогда оказал ты столько милосердия, отпустив с двумя арбузами и столькими ж дынями.
– Помню, помню, – сказал Диомид весело, – я обещался тебя потчевать, только бы ты не крал. Кузьма! принеси из сарая хорошую дыню!
Кузьма удалился.
– Нет, Диомид, – говорил я, – не с тем пришел к тебе, чтоб лакомиться, а попросить у тебя совета. Всякий раз, когда бурсаки делают заговор опустошать огород твой, я бываю сего свидетелем. Мне больно слушать, как они условливаются обижать такого доброго человека; но как помочь тому? Как я могу тебя о том предуведомить? Вот зачем я пришел к тебе.
– Ты – добрый малый, – сказал Король, осмотрев меня внимательно. – Как твое имя и чей сын? Узнав и то и другое, сказал:
– Я знаю Варуха, ибо иногда случалось мне бывать в селе Хлопотах, и я не мог надивиться его громогласию. Послушай же! Когда пожелаешь уведомить меня о злоумышлении против огорода, то возьми камешков по числу заговорщиков, подойди по берегу Десны к углу плетня и старайся ударить ими в стену дома; тогда я сейчас возьму свои меры.
Между тем принесена дыня и съедена.
– Я дал бы тебе на дорогу и две, – сказал Король, – да боюсь, чтоб твои товарищи не возымели подозрения.
– У меня есть свои деньги, – сказал я с простосердечием, – и они о том знают.
– Хорошо, – молвил Диомид, – пойдем же, ты получишь обещанное.
Получив две большие спелые дыни, окольными улицами пришел я в бурсу и одну из них подарил консулу. Приняв сей дар с улыбкою, он спросил:
– Где ты взял такие прекрасные дыни?
– Ты знаешь, – отвечал я, – что у меня есть собственные деньги и что на рынке всего довольно.
Когда возвратились певчие и открыли свои сумы, то в числе прочей провизии было несколько арбузов и дынь, но очень малых и незрелых. Консул, с торжеством показывая свою дыню, спросил:
– Какова?
– Хороша; но где ты взял?
– Мне подарил Неон.
– А он где взял?
– Купил на рынке.
– Так купил же! Если нам покупать дыни и арбузы, то от нашей бурсы панье Мастридии ни копейки в год не достанется!
– Но что нам мешает, – воскликнул сенатор Сарвил, – не платя денег, иметь такие же хорошие дыни? Разве огород не под боком? Клянусь, что в эту же ночь после ужина я иду сам на охоту; кто со мною?
– Я, я, я! – отвечали в один голос сенаторы Софрон, Мигдон и Никанор.
В короткое время присоединились к ним два ликтора: Маркелл и Макар.
Все они были люди взрослые и дородные. Беда огороду Королеву!
Когда настали сумерки и очередные братия стали на берегу Десны варить похлебку, а прочие занимались чем кто хотел, я собрал шесть камушков, закрался на угол огорода и все удачно перекинул к дому Короля. Вмешавшись потом в толпу собеседников, я нашел, что уже принесена была баклага с вином для придания бодрости будущим собирателям пошлин, и хотя, по закону бурсы, риторы не имели права прикасаться к оной, но на сей раз сделано исключение, и обрекшие себя на подвиг были сопричислены к сонму избранных.
Полночь наступила. Шесть дынеграбителей, скинув сертуки (ибо, по званию философов и риторов, им предосудительно уже ходить в халатах), отправились к своему делу, а человек десять, в числе коих был и я, любопытствуя знать, что из сего будет, с мешками подошли к забору в разных местах, означенных самим консулом, который в таком важном случае быть свидетелем почитал за долг и удовольствие.
Находящиеся в огороде сначала рассыпались в разные стороны. При свете луны видно было каждое их движение. Они терзали растения, коренья и что им ни попадалось, Наконец, обремененные добычею, соединились и в порядке шли к забору. Вдруг, саженях в пяти от оного, как грибы из земли, человек с двадцать и более возникли с рогатинами, палашами и окружили онемевших философов и риторов.
– Сдавайтесь! – вскричал грозным голосом Король, взмахнув над головами их саблею, – иначе вы погибли.
Храбрые бурсаки затрепетали; из рук их покатились тыквы, арбузы, дыни; посыпались огурцы, морковь, свекла и репа. Каждого из них взяли под руки и повели к хате Королевой; оставшиеся без дела караульные забирали в полы платьев своих оброненные овощи. Они все скоро скрылись, и всеобщая тишина водворилась.
Консул Далмат, скрежеща зубами и кусая губы, тихими шагами приближался к бурсе; мы все в глубоком молчании за ним следовали. Двери были заперты накрепко; на печку поставлен ночник, чего по летнему времени доселе не случалось. Нам, то есть остальным риторам, поэтам и низшим, повелено занять свои места на лавках, а консул с несколькими сенаторами держал тайный совет в другом углу храмины. В чем состоял совет сей и чем кончился – мне неизвестно; ибо я, радуясь, что храброму философу Сарвилу за данную мне пощечину и поднятие за пучок на воздух изрядно отплачено будет, спокойно растянулся на своем соломенном ложе.
Глава IV
Безначалие
И действительно. При собрании всей семинарии и бурсы наши философы и риторы добрым порядком были истязаны. Консул поведен был к ректору, и приметно было, что ему за слабое смотрение и потворство не менее досталось, но только келейно. В бурсе водворилось глубокое уныние, и наши уличные певчие целую неделю не смели показаться на улице, опасаясь насмешек от семинаристов, с которыми была у нас непримиримая вражда. Мы оскудели в жизненных припасах, и ропот обнаружился; да сего и ожидать должно было, ибо с голодом труднее ладить, чем с чертом. За что в такой беде приняться?
Консул собрал сенат, дабы поразмыслить о сем деле. Они все были люди неглупые и потому рассудили, что приняться по-прежнему за пение под окнами и оказывание речей гораздо безопаснее, чем лазить по ночам в чужие огороды.
Вследствие сего определения в начале другой недели после истязания наших охотников до лакомства раздались по-прежнему завывания наши на городских стогнах, и недостаток в припасах прекратился. Дела восприяли обыкновенный ход; успехи мои в учении день ото дня увеличивались, а с сим вместе и любовь ко мне учителя возрастала. Время от времени он делал мне небольшие подарки, чему мои товарищи немало завидовали. Так прошло блестящее лето, и наступила благословенная осень. Говорит же пословица: горбатого исправит одна могила. И это справедливо: не Сарвилу ли философу досталось за разорение огорода Королева, однако ж с прошествием нескольких месяцев все забыто. В один вечер перед ужином, когда мы в ожидании оного на берегу Десны куролесили различным образом, Сарвил, возвыся голос, сказал:
– Друзья мои! после осени настанет зима, и запас нужен. В сале и пшене, конечно, недостатка не будет, если мы все не онемеем, но не мешало бы позапастись кое-чем и другим. Обходя не один раз около ограды женского монастыря, я заметил великое множество груш и яблонь, обремененных спелыми плодами; ветви касаются земли. Что, если мы похлопочем несколько четвериков насушить на зиму, а?
– Конечно, весьма бы не худо, – сказал протяжно консул, – но кто возьмется за сие дело?
– Я заметил, – продолжал Сарвил, – что из всей нашей братии нет такого удалого молодца лазить по заборам и деревьям, как Неон Хлопотинский. Это не малый, а сокровище в подобных случаях. Мы с ним отправимся. Я помогу ему перелезть ограду, через которую, впрочем, и борзая собака перескочить может. Он нарвет яблоков и груш целый мешок, который возьмет с собою, передаст ко мне посредством веревки, которую опущу к нему, а после и его вытащу. Не обдуманно ли мое предприятие?
Мне крайне страшно было отваживаться на такое дело; я возражал сильно; но никак не мог противостать красноречивым доводам моего философа. Мне представилась мысль, что не проведал ли он хитрости моей, которая доставила ему изрядные побои, и не хочет ли теперь отомстить; но как сказать о сем явно? Не значило ль бы это себя обнаружить? Ничего не оставалось, как только повиноваться!
Около полуночи прибыли мы к стенам монастырским, окружающим садовую сторону. Светлый месяц катился по голубому небу; глубокая тишина царствовала по всем окрестностям. С помощию Сарвила спустился я в сад и начал щипать яблоню в данную мне торбу.[2] Как скоро она была полна, то я, посредством сказанной веревки отправив ее к Сарвилу, ожидал, что он опять спустит ее, дабы вытащить меня; вместо сего он бросил мне назад пустую торбу и сказал:
– Теперь нарви дуль и посылай ко мне. Хотя неохотно, но должен был исполнить требуемое. Кинув опять ее пустою, он сказал:
– Ты знаешь, что у меня довольно большой мешок, и две твои торбы не составляют половины: по крайней мере надобно еще две. Набери теперь яблоков, а после того опять наберешь дуль.
Я крайне рассердился, видя, что он так забавляется мною, а может быть, умышляет что-нибудь и худшее. Сейчас родилась во мне мысль о мщении.
Подошед к стене, я сказал:
– На низких ветвях я более не нахожу уже ни дуль, ни яблоков, а до верхних без помощи других не могу добраться. Спустись, пожалуй, в сад и пособи мне взобраться на вышние ветви.
После небольшого молчания я увидел, что мой философ перекинул веревку и по ней немедленно спустился.
– Где же ты?
– Здесь!
Когда он пробирался на голос и был уже саженях в трех от стены, я стороною на цыпочках добежал до веревки, взобрался на стену как кошка и лестницу сию подобрал к себе.
– Где же ты?
– Здесь!
– Кой черт, – сказал во гневе Сарвил, приближаясь к стене, – где ты?
– На стене!
– Сейчас спусти веревку, или я тебя…
– Нет, – сказал я с видом добросердечия, – я набрал торбу яблоков и торбу дуль; так справедливость требует, чтобы и ты потрудился набрать хотя одну, а после вылезешь по веревке.
– Постой же, бездельник, – проворчал он, – дай мне до тебя добраться; чуб твой не чуб и пучок не пучок!
Едва произнес он последние слова, как невдалеке послышался говор людской, ближе и ближе к нам подававшийся. Сарвил, подобно рыси, вскочил на вершину яблонного дерева, а я притаился за один из зубцов, коими украшена была вся монастырская ограда.
В скором времени, при полном сиянии месяца, увидел я ужасного дьявола, с хвостом и с рогами, тащившего подруку руку женщину в одной рубашке, с распущенными волосами, из чего заключил я, что она ведьма. Колени у меня задрожали и пучок поднялся дыбом. Я стиснул зубы и крепко уцепился за стенной зубец.
– Нет сил более, любезный Леонид, – говорила слабым голосом ведьма, подошед под яблоню, на коей скрывался Сарвил, вероятно, не в лучшем положении, как и я на стене. – Просидев в монастырском заточении более двух лет, – продолжала ведьма, – я ослабела и не могу идти далее!
– Любезная Евгения! – сказал страстным голосом черт, – съешь хотя одно яблоко с сего дерева, и оно подкрепит твои силы.
При сем, сорвав пару яблоков и подавая ведьме, говорил:
– До угла сей ограды несколько шагов; там стоит моя бричка. В двадцати верстах отсюда нашел я место, по-видимому, сделанное для нас нарочно и природою и искусством; там назначил я дом для себя и поселил с десяток совершенно преданных мне челядинцев. Жилище сие укроет нас от несправедливого гонения отца твоего. Там будем мы прославлять благость провидения, любить друг друга и делать ближним столько добра, сколько можем.
– Так, друг мой, – сказала ведьма, обнимая черта с нежностию, – как скоро я теперь тебя вижу, держу в своих объятиях, то почла бы себя благополучною, если б жестокая потеря сына не терзала меня беспрестанно.
Ах, Неон, Неон! (При произношении ведьмою сего имени я вновь задрожал, и пучок целым градусом поднялся выше.) Что, дражайший друг! ты ничего о нем не проведал?
– Почти ничего, – отвечал демон с тяжким вздохом, – а что и узнал, то служит только к большей горести. Беспутной вдовы-попадьи, попечению коей вверили мы новорожденного, уже нет на свете, а перед смертию она призналась на духу, что из корыстолюбия повергла дитя наше на распутье и о последствиях ничего не знает.
Ведьма, слушая сии слова, вероятно, тихонько плакала, ибо я приметил, что она, склонясь на грудь дьявола, утирала рукавом глаза. После сего злой дух взял ее в охапку и понес к углу ограды. Не понимаю, каким образом они вдруг очутились на верху стены – да и чего не может сделать сила нечистая?
– и я вскоре услышал топот лошадей и стук колес.
У меня отлегло на сердце, колена перестали дрожать и пучок улегся по-прежнему. Осмотревшись кругом, я увидел, что Сарвил, наклав вне ограды кучу разного дрязгу, легко мог взмоститься на стену, и, утвердив за зубец веревку, спуститься по ней в сад. Если и теперь спустить ее, то он, конечно, сейчас взберется наверх и, будучи в сердцах и в испуге, исполнит с лихвою обещание, и пучку моему быть оторвану с корнем; будучи же высок, а притом в саду довольно найдет способов избавиться от хлопот, взобравшись на ограду и спустясь наниз по веревке.
После сего краткого рассуждения я спустился наниз, взвалил на плеча мешок и бросился бежать со всех ног. В бурсе все спали. Съев вдоволь принесенных мною плодов, я уложил мешок под лавку и лег опочить от толиких ночных трудов, размышляя попеременно о черте, ведьме и Сарвиле.
Уже было довольно не рано, но я находился в глубоком сне, как разбужен был ужасным смятением, происшедшим в бурсе. Продираю глаза и вижу монастырского слугу, пришедшего звать или, лучше сказать, вести консула Далмата к ректору. Консул недоумевал, что бы за причина была такой ранней повестки. Проходя мимо меня и видя под лавкою знакомый ему мешок, спросил со смущением:
– А где Сарвил?
– Не знаю! я оставил его в саду монастырском.
– Ну, беда неминучая, – сказал консул со вздохом, – верно, он захвачен и представлен ректору. Но что принудило вас разлучиться? ты здесь, а его нет!
– Нас разлучили дьявол Леонид и ведьма Евгения. Они, видно, меня увидели, что называли даже по имени. Я испугался и бросился лететь; а что сталось с Сарвилом – мне неизвестно.
Консул отправился к ректору, а мы все в классы.
Возвратившись в бурсу, мы немало опечалены были, не нашед консула.
– Что будем есть? – сказали мы все в один голос; ибо известно, что ключ от кладовой всегда у него хранился. Сейчас собрался сенат и единогласным решением определил отбить замок и, взяв сколько нужно припасов, приготовить обед. Определение произведено было в действие. Но тут-то увидел я, что значит временное правление вельмож без настоящего правителя. В котел сверх обыкновенной порции свиного сала впущена добрая часть баранины, и один из философов предложил, что из большого куска телятины, который бережен был к праздничному дню, сумеет сделать хорошее жаркое, что также было принято. Третий представил, что наличной общей суммы столько, что если вынуть из оной потребное количество на покупку целой баклаги пеннику, то еще довольно останется. Сие предложение одобрено единогласно и с восклицаниями. Такого пиршества давно в бурсе не бывало.
Глава V
Геройские подвиги
К ночи возвратился консул Далмат пасмурен, как ненастная ночь осенняя.
Он ни с кем не говорил ни слова и растянулся на своем войлоке, стеная и охая. Я сам был в сильном смятении, страшась, не оговорил ли и меня Сарвил; ибо я точно был уверен, что консулу досталось по сему делу. Следующий день был праздничный, и я прямо из церкви побежал к Королю. Вошед в комнату, немало подивился я и оторопел, нашед хозяина в синей черкеске[3] тонкого сукна с двойными рукавами, обложенной по швам серебряным снурком; он препоясан был пребольшою саблею.
– Чему ты так удивляешься, Неон? – спросил он с улыбкою, закручивая большие усы. – Знай, друг мой: было время, что и я в малороссийском войске нечто значил. А что теперь видишь меня огородником, так это моя добрая воля. О, если бы от огорода зависело мое содержание, поверь, бурсакам не удалось бы поживиться ни одним огурчиком. Кстати! нет ли чего нового в бурсе?
– Ах! – отвечал я с тяжким вздохом, – много, очень много нового, и притом худого.
– Расскажи-ка!
Я чистосердечно поведал ему о ночном походе в сад монастырский, о видении дьявола Леонида и ведьмы Евгении, об участи сенатора Сарвила и положении консула Далмата. Король задумался и погодя спросил:
– Каковы ж показались тебе дьявол и ведьма?
– Ах! – отвечал я перекрестясь, – мог ли я смотреть на них без ужаса? Я стоял на ограде, держась за зубец, зажмуря глаза и трепеща всем телом. Но как ушей заткнуть было мне нечем и я слышал весь разговор нечистой силы, то и могу пересказать тебе его до слова.
Во время моего рассказа Король ходил по комнате большими шагами, ломал пальцы и после, остановясь, ударил себя кулаком по лбу, схватился за чуб и вскричал:
– Так! не будь я Диомид Король, если это не они! Но зачем таиться перед людьми, которые для их удовольствия всем пожертвовали?
Он продолжал шагать, повторяя время от времени:
– Да! это они! Подожду! Нельзя статься, чтоб мое местопребывание надолго им неизвестно было! Успокоясь несколько, он спросил:
– Итак, тебе ничего неизвестно, что сталось с Сарвилом?
– Ничего!
– Ну, ин я скажу о сем, ибо очевидным был свидетелем последней награды, сделанной главному губителю садов и огородов. Всякое утро имею я обычай относить к настоятелю здешней обители и вместе ректору семинарии Герасиму корзину с произведениями моего огорода. Сей достойный духовный столько прост и кроток, хотя весьма учен и умен, что дозволяет мне вход во всякое время, если бы даже был он в своей опочивальне. Вчера поутру, когда я принес к нему корзину с арбузами, дынями и кое-чем другим, то, вошед в большую приемную комнату, немало подивился, увидя, что ректор, префект, келарь, игуменья, диаконша, несколько монахов и монахинь сидели в полукружии. Посредине стоял Сарвил со связанными назади руками. Служители обоих монастырей находились позади его. Поодаль с поникшей головою стоял ваш консул Далмат. Начался допрос по форме и продолжался немалое время; потом осудили Сарвила на изгнание.
Таким образом среди всегдашней бедности и временного довольства, среди ученья и шалостей протекли восемь лет. Я оканчивал уже курс философии, а потому, пользуясь неупустительно правами философа, и я пил вино, курил табак и носил усы. Много перебывало у нас консулов, и в последнее время друг юности моей, Кастор, нес на себе сие великое звание. Отец мой, честный дьячок Варух, посещал меня не часто, но зато всякий раз щедро награждал благословениями и советами. У друга его дьячка Варула и последний глаз закрылся навеки. Я весьма нередко, можно даже сказать, весьма часто посещал честного Короля и день ото дня находил в нем более достоинств. Бывали случаи, что он, забывшись, обнаруживал свою ученость, которая при его опытности гораздо мою превосходила; но он скоро опомнивался, и я никак не мог дознаться, кто он подлинно, ибо не хотел верить, чтоб простой казак полка гетманского, как он о себе сказывал, мог разуметь философию и говорить так логически. «И то правда, – думал я иногда, – может быть, и он такой же бурсак, как Сарвил, о коем мы со дня изгнания из семинарии ничего уже не слыхали».
В сие время начали колебаться умы от политической заразы. Сперва тайно, а потом и явно начали говорить на базарах, в шинках и в классах семинарии, что гетман принял твердое намерение со всею Малороссиею отторгнуться от иноплеменного владычества Польши и поддаться царю русскому.
Такие слухи более и более усиливались и доводили поляков до неистовства.
Старый киевский воевода принял деятельнейшие меры воспротивиться таковому предприятию гетмана, низложить оное и еще более поработить Малороссию.
Гетман тайно начал готовить войска.
В сем положении были дела народные, и всякий, кто только имел какую-нибудь собственность, принимал в них живейшее участие. Последний казак, у коего ничего не было, кроме плохой свиты{7} и сабли, с презрением смотрел на нарядного поляка, и в шинках нередко доходило до поволочек. В одной блаженной бурсе господствовали прежние свобода и спокойствие. Мы, по заведенному порядку, пели под окнами, а иногда и проворили{8}, но гораздо реже, чем прежде, и с того времени, как начал я подрастать, огород Короля сделался неприкосновенным; зато добрый старик время от времени добровольно наделял нас нужными огородными овощами.
В один зимний день, когда я возвратился только из классов в бурсу, нашел уже в ней Вакха, пастуха из селения Хлопот. Он тотчас повестил, что отец мой при смерти болен и желает меня видеть. Я всполошился и не знал, что делать. Как в трескучие морозы пуститься в поле в одной рубахе и легком байковом сертуке? Оставить же отца умирать, его не видя, казалось для меня делом безбожным, а между тем и мысль, – признаюсь в грехе, – что по смерти его должно же что-нибудь остаться, а это что-нибудь для человека, у которого нет ничего, много значит, и что сего остающегося я наследником, побуждала меня к походу.
– От чего же так скоропостижно захворал отец мой? – спросил я у Вакха, грея руки у печки.
– Подлинно скоропостижно, – отвечал пастух, – ибо без несчастного случая он мог бы прожить еще очень долго.
– Случая? – вскричал я, – случай, или судьба, или что мы, ученые, называем fatum turcicum.[4]
– Провались ты с твоею латынью, – сказал сурово Вакх, – идешь ли ты к умирающему отцу или нет? Теперь не лето; если запоздаем, то достанемся на ужин какому-нибудь голодному волку.
– Погоди немного, – сказал я и бросился к Королю.
Когда я рассказал добродушному человеку о своем затруднении, как середи зимы пуститься в дальнюю дорогу в летней одежде, он принял важный вид, сел на лавку и сказал:
– Спасибо, Неон, за чистосердечие. Открывать о нуждах своих людям неизвестным и глупо, и вредно, и именно оттого глупо, что вредно; но скрывать оные от человека, известного нам по своему доброхотству, из одного ложного стыда, также неразумно, потому что такая скрытность может довести до края пропасти. Так, друг мой, ты должен видеться с отцом своим до его кончины. Спеши взять от префекта увольнение и возвращайся ко мне.
Увольнение мое заключалось в нескольких словах: «Ступай с богом, да напрасно не трать времени!», и я в тот же час возвратился к Королю. Он облачил меня в овчинный тулуп, надел такую же шапку и, дав в одну руку два злотых, а в другую вместо палки рогатину, благословил в путь. Мы с Вакхом были догадливы. По пути зашли к шинкарке, а после, запасшись несколькими булками, пустились в дорогу. Не прежде как булки были съедены – так-то физика берет верх над метафизикою, – спросил я с воздыханием у Вакха:
– В чем же заключается тот несчастный casus, который преждевременно доводит отца моего до вод Стигийских?{9}
Вакх молчал.
– Каким определением рока, – продолжал я спрашивать, – отец мой должен последовать сыну Майну, который передаст его с рук на руки угрюмому Хорону?
Вакх продолжал хранить молчание.
– Естественные ли силы или сверхъестественные, – возвыся голос, спросил я, – указывают отцу моему берега реки Леты, из коей, испив воды, он навеки забудет и свое дьячество, и сына Неона, и крилос, и колокольню?
Вакх, не взглянув даже на меня, продолжал путь. Такой стоицизм вывел меня из терпения, и я спросил отрывисто:
– Скажи, пожалуй, отчего отец мой сделался болен и близок к смерти?
– Давно бы так, глупый человек! – отвечал Вакх, – зачем тебе говорить чертовщину, которой я благодаря бога совсем не понимаю! Как скоро же теперь понял, то и удовлетворю справедливому твоему желанию. Знай: в минувший праздник угодника Николая отец твой Варух несколько не остерегся и позабрал в голову лишнее. Когда пономарь начал благовестить к вечерням, он мигом очутился на колокольне, стал подле звонаря и так завопил, что и действительно голос его был слышнее, чем звон колокола. Звонарь, у которого голова была в не меньшем коловращении, как и у Варуха, крайне сим оскорбился. «Любезный собрат, – сказал он с приметным негодованием, – не годилось бы, кажется, нам друг над другом кощунствовать. Это явный соблазн и огорчение всем прихожанам, которые не могут не досадовать, что звон колокола, от щедрости их повешенного, гораздо слабее голоса охмелевшего дьячка Варуха». Отец твой, вместо того чтобы послушаться благого напоминания, вознесся гордостию сатанинскою и так заревел на разные гласы, что и трезвону слышно не было. «О! – вскричал звонарь, воспалясь гневом, – ты, видно, забыл, что не на крилосе? Ступай же туда и горлань, хоть лопни, а мне здесь сам батька не указчик!» С сим словом он стукнул Варуха по затылку и так небережно, что бедняк полетел с лестницы вниз головою.
Лестница – ты знаешь – крута и высока; суди же, чего стоило несчастному Варуху достичь до последней ступени. Кровь лилась из него ручьем. Звонарь – человек не злой – первый поднял вопль, бросился к Варуху и нашел его без чувств. На крик сбежалось множество прихожан, шедших к вечерням, и пораженный отнесен домой. Тотчас призван был знахарь, осмотрел поврежденные части и нашел, что у него левая рука переломлена, правая нога вывихнута, а на голове три неисцельные язвы довершали опасность.
Нашептывания и примочки имели свою силу.
Варух опомнился, равнодушно выслушал о своем сомнительном состоянии и, призвав меня, просил сходить за тобою.
– Вот какова жизнь человеческая, – примолвил Вакх со вздохом, – живи, живи, да и умри! Что, господин студент, не поворотить ли нам направо по этой утоптанной дорожке?
– А куда ведет она?
– Разве не видишь там, подле лесу, большой хаты? Это шинок, и в нем всегда можно найти преизрядное вино. Если ты, по примеру всех бурсаков, путешествуешь без лишней копейки и от подати, заплаченной Мастридии, ничего не осталось, так пастухи в сем случае догадливее. Пойдем-ка!
Мы своротили с дороги, подкрепили силы и пустились далее. Чтоб доказать Вакху, что бурсаки не все одинаковы, я оставил в шинке половину злотого. В глубокие сумерки дошли мы до хаты Варуховой, которой не видал я целые восемь лет. Сердце мое билось сильно. С каким восхищением переступил бы я порог родительского жилища, если бы мысль, что прежде всего встречу умирающего хозяина, не разливала трепета во всем моем составе! Однако я призвал на помощь тени Сократа, Катона и Сенеки, сих мучеников древности, ополчился философиею, вошел в избу и упал на колени перед болезненным одром отца моего. Варух умилился, протянул ко мне правую руку, обнял с нежностию и, приказав сесть у ног своих, сказал присутствовавшему пастуху:
– Добрый Вакх! поди на кухню и вместе с старым батраком моим приготовьте сытный ужин. К вам придет также и пользующий меня знахарь. Не забудь припасти хорошую меру пеннику. Хочу, чтоб всего довольно было.
Надобно, чтоб эта ночь, которая, может быть, есть последняя в моей жизни, проведена была сколько можно веселее. Дни прошедшие, о коих имел я время размыслить теперь обстоятельнее, текли не очень хорошо, не очень худо, и за то да будет препрославлено имя господне!
Вакх с приметным удовольствием оставил нас одних, дабы с батраком заняться делом полезнейшим, чем слушание последних слов дьячка Варуха.
Когда старик увидел, что мы одни, то, помолчав несколько, начал говорить:
– Сколько я могу припомнить, то дед мой и отец были такие же дьячки, как и я, и при сей же самой церкви. В тридцать лет я женился и скоро овдовел, – да будет хвала милосердому богу! – ибо супружница моя и образом и нравом уподоблялась сатанинской дщери. По смерти родителя я поставлен дьячком.
В одну летнюю светлую ночь, возвращаясь из города в великой задумчивости, вдруг выведен был из оной воплем младенца. Озираюсь кругом и вижу подле дороги, несколько в стороне, прекрасную корзинку, прикрытую алым шелковым покрывалом. Подбегаю, срываю покров, и глазам моим представился мальчик примерно шести или семи недель. Ничего не думая, взял я корзину под мышку и полетел домой. По прибытии тотчас вручил я дитя своей матери, еще здравствовавшей, чтобы она делала с ним, что знает. На шее у младенца на шелковом снурке висели два золотые кольца, в середине коих по ободкам вырезаны незнакомые буквы. Под подушкой в корзине нашел я записку, не знаю, на латинском или на польском языке, и более ничего, что бы могло обнаруживать о происхождении младенца. Тогдашний священник в селе Хлопотах был великий грамотей. Поутру я бросился к нему с кольцами и запискою.
Объявив вчерашнее происшествие, показал я принесенные вещи и просил объяснения. Осмотрев оные внимательно, он сказал: «Из букв, на кольцах вырезанных, ничего заключить не могу, и они должны быть заглавные имен родителей дитяти; записка же гласит, что новорожденный есть законный сын, что крещен в греко-российской церкви и что имя ему – Неон». Так, любезный друг, ты не сын мой, а только приемыш.
Я остолбенел от удивления. Разные мысли быстро клубились в голове моей. Я взглянул на болящего Варуха, и слезы горести полились по лицу моему. С непритворным сетованием облобызал я руки его и сказал:
– Клянусь угодником божиим Николаем, что всегда буду чтить и любить тебя, как отца родного, дал бы бог только тебе оправиться. Зачем буду я заботиться о тех, кои, дав мне жизнь, чрез целые двадцать лет не заботились узнать, существую ли я на свете? Ты сделал для меня более, чем они: ты призрел чужое дитя, поверженное на распутии на произвол случая; ты вскормил оное и воспитал по возможности. Я останусь благодарен тебе до гроба!
– И я благодарю бога, – сказал тронутый Варух, – что он даровал тебе благодарное, следственно, доброе сердце. Это дороже всей твоей философии.
Однако, Неон, долг, налагаемый на тебя самим богом, обязывает не оставлять случаев отыскать своих родителей. Почему знать? Может быть, они в таком стесненном положении, что имеют нужду в твоей помощи. Ах! ты еще не испытал, как сладостно сделаться полезным для своих родителей! Хотя они тебя и кинули при самом, так сказать, твоем рождении, но знаем ли мы тому причину? Может быть, это сделано для того, чтобы спасти тебя! Да и какой отец, особливо какая мать, без ужасного насилия своему сердцу может отлучить из объятий своих плод любви супружеской? Так, Неон, выздоровлю ли я или умру, но ты должен отыскать своих родителей, и кажется, что начальные буквы имен, на кольцах вырезанные, и записка о твоем крещении подают в сем некоторое облегчение. Там, под образами, лежит маленькая сумка, в которой хранятся кольца и записка. Возьми ее и повесь на шею на том самом снурке, на коем висели кольца, когда я нашел тебя.
Я исполнил его волю: снял сумку и открыл ее. На одном кольце стояло: «L – d 1679», на другом – «Е – а» и тот же год. В записке на латинском языке сказано: «В мае месяце 1679 г. Крещен по правилам греко-российской церкви, законный сын дворянина L – d и дворянской дочери Е – а, причем наречен Неоном».
Когда я повесил сумку на шею, то вошедший Вакх повестил, что ужин готов и что знахарь сидит уже за столом.
– Подите, друзья мои, – сказал томным голосом Варух, – ешьте, пейте и веселитесь, от того и мне будет легче.
Завещание сие исполнено было с великою точностью. Мы бражничали до вторых петухов, а тут, вздумав успокоиться, зашли все проведать о немощном.
Варух уже оледенел. Надобно думать, что он скончался в самую полночь. Сон убежал от глаз наших, и мы подняли такой вопль, что немедленно вся изба наполнилась любопытными.
Глава VI
Сирота
Я плакал горько и нелицемерно.
– Не плачь, Неон, – говорил тут же бывший дьякон, – Варух оставил тебя не ребенком, и ты уже сам собою можешь промышлять хлеб. Ты, наверное, заступишь его место и счастливо проведешь жизнь свою под сенью сего мирного крова. Ах! когда б знал ты, как завидна участь сельского дьячка! Дело другое быть диаконом. Проклятая разница! Сколько надобно учить наизусть! А дьячок? Читай и пой себе по книге, вот и все тут!
– Покойник не так думал, – отвечал я и помогал опрятывать тело.
На другой день оно опущено в могилу, и при сем случае, с дозволения священника, я говорил речь, сочиненную по всем правилам риторики.
По окончании похорон и поминок я начал думать о дальнейшей судьбе своей. Священное сословие немало подивилось, услыша, что я решительно отрекаюсь занять прелестную должность отца моего.
– Что такое, господин бурсак, – сказал дьякон с язвительною улыбкою, – уж не норовишь ли ты где-нибудь в селе попасть во дьяконы?
– Ниже в попы, – отвечал я с обидным телодвижением и взором на священника.
– Ба-ба! – сказал праведный отец, – не далеко ли, свет, заезжаешь?
Такая спесь должна найти на себя узду!
– Может быть, – отвечал я с большим еще равнодушием. – Что будет, то и будет.
В течение недели продал я все имущество покойного Варуха и выручил за оное сто злотых: сумма, доселе мною даже и не виданная. Я всячески остерегался, чтобы не проведали, что я совсем не сын его, и не отняли на законном основании моего сокровища. В день выхода из села Хлопот я отслужил торжественную панихиду о успокоении души Варуховой и пустился по дороге в город.
Когда я поровнялся с тропинкою, ведущею к знакомому шинку, где за неделю утешал меня Вакх в печали о болезни отца моего, то лукавый соблазнил меня. Мне показалось, что я все еще очень печалюсь, а притом и озяб, а потому благоразумие требовало поискать способов к утешению сердца и к отогрению желудка.
Я достиг своей цели и пропустил в себя не одну чарку утешающего лекарства; но оно не возымело своего действия. «Видно, сложение мое очень крепко от природы, – думал я, наливая кубок, – что не чувствую утешения от таких приемов, от коих по крайней мере пять других печальных запели бы и заплясали». Я продолжал лечиться, и когда осушил всю кварту, то, припомня все благодеяния Варуховы, мне оказанные, а притом и знатное наследство, мне же оставленное, зарыдал горько.
– Ба! – вскричал хозяин, видя сию комедию, – что это, господин студент, значит?
Видно, Вакх в первый еще раз уведомил его о моем звании. Я сказал, что вишневка его очень плоха, ибо, сколько ни пью, не могу утешиться о кончине отца моего.
– Пустое, – отвечал он, – это-то самое и доказывает изящную доброту.
Поешь-ка чего-нибудь да усни, так и увидишь, что к утру вся печаль твоя исчезнет вместе с ночною темнотою.
На еду я склонился, но на ночлег никак. Я велел еще подать вишневки и начал насыщать себя жареною уткою. Первые петухи криком своим возвестили полночь, и ужин мой кончился. Добросовестный хозяин, хотя и литвин,[5] опять попытался уложить меня в постелю, представлял сильный мороз, опасность от волков, от воров и оборотней, но ничто не помогло. Я уверял, что не боюсь ничего на свете: что от мороза защитит меня принятое лекарство, от воров – рогатина, а от оборотней – крестное знамение.
– Когда так, – сказал сердито хозяин, – то ступай хотя в омут! Такое упрямство должно быть наказано.
Я расплатился с ним и вышел за ворота.
Или голова моя сильно кружилась от излишества принятого лекарства, или был я в великой задумчивости, не знаю настоящей причины, что я и не чувствовал сильной вьюги, обвивавшей всего меня снежною пылью. Приметив сие, я остановился, протер глаза, раздвинул прикипевшие к губам усы и силился рассмотреть, где я. Передо мною не было никакой тропинки. Хотя было довольно светло, но за вьюгою не видно ни звезд, ни месяца. Постояв несколько минут, я перекрестился, сотворил молитву и пустился напрямик.
Скоро представился передо мною лес, и я опять остановился. Подумав несколько, я сказал сам себе: «Так! видно, я сбился с дороги; однако надеюсь попасть на другую». Я очень помню, что, будучи еще поэтом и ритором, нередко посылаем был консулом и сенатором на озера, в сем лесу находящиеся, красть дворовых гусей и уток.[6] Посредине его лежит большая дорога к Переяславлю, которая приведет меня в город, только к противоположному въезду; ибо, видно, я и не приметил, как перешел Десну.
Таким образом, подкреплен будучи надеждою скорого прибытия в бурсу и собравшись с силами, бодро вступил я в лес и побрел, держась левой стороны, упираясь на рогатину и без всякой досады выдергивая из снегу ноги, вязнувшие по колени. Однако чем далее шел, тем лес становился гуще, а снег глубже. Я должен был чаще останавливаться для необходимого отдыха и на досуге предавал проклятию все шинки, где продают пенник и вишневку, и всех тех, кои надеются, вкушая сии пагубные изделия, утешиться в скорби своей; мало-помалу начал я выбиваться из сил. Нередко падал в снежные рытвины и стучал лбом о деревья. Уже рассвело, но я не чувствовал никакой отрады. Я вышел, или, правильнее, выполз из лесу, и необозримая снежная равнина представилась моим полусомкнутым глазам. Я уже не чувствовал, есть ли у меня руки и ноги; сердце билось слабо, взор померк; я сделал усилие податься вперед и пал на снежное ложе. Хотя я не мог пошевелить ни одним членом, но несколько минут еще не совсем лишился чувств. Краткое время сие провел я в молитве, прося у милосердого бога прощения за все грехи, мною соделанные. Наконец я обеспамятел.
Пришед в чувство и открыв глаза, я увидел, что лежу в большом корыте нагой, осыпанный с головы до ног снегом. Два черноморских казака, люди пожилые, терли всего меня суконками, и так усердно, что я вскрикнул.
– Господа! – спросил я, – что вы со мною делаете и где я?
– Если ты останешься жив, – отвечал сурово один из сих медиков, – то скоро узнаешь, что мы с тобою делали и где находишься.
После сего начали они тереть еще ревностнее, так что я не утерпел опять несколько раз вскрикнуть.
– Кричи, друг, сколько хочешь, – отвечали мне, – это нам любо, ибо значит, что ты близок к спасению.
Когда им показалось, что я вне уже опасности, то унялись от трудов своих, вынули меня из корыта, положили на постелю и, одев теплым покрывалом, посоветовали отдохнуть и удалились… Я был как помешанный.
Прошедшее представлялось мне подобно страшному сновидению. Я вообразил очень ясно все вчерашнее похождение и содрогнулся, вспомня ту опасность, какой был подвержен. Я осмотрелся кругом, и робость стеснила сердце в груди моей. Большая холодная комната, в коей лежал я, походила на кладовую. Одна стена от пола до потолка увешена была оружием всякого рода, другая унизана одеянием на разные покрои. Там были платья малороссийские, черноморские и польские.
«Ну, – сказал я сам в себе, – попался из огня в полымя! всего вернее, что я теперь гощу у разбойников. Бедные мои сто злотых! кому-то вы достанетесь? О, проклятый шинок! до чего ты довел меня! что со мною будет?»
Встав с трепетом с постели, которую составлял большой сундук, покрытый тюфяком, и, завернувшись в одеяло, я подошел к окну и еще более удостоверился в своей догадке. Дом, в коем находился, стоял в преглубоком овраге, покрытом деревьями, так что летом не скоро его и приметить можно. В недальнем расстоянии рассеяно было до десяти хат. Дым, клубившийся из труб, доказывал, что они обитаемы.
Рассмотрев все внимательно, я вздохнул тяжко; но, порассудив обстоятельнее, говорил: «Что ж такое, если хозяева мои и в самом деле разбойники? Когда они столько прилагали старания возвратить мне жизнь, то из логики заключить можно, что отнимать оной не станут. Они завладели моими злотыми. Бог с ними! И я не имел их до сего времени, и был очень доволен своею участью. Пусть только отдадут сумку с кольцами и запискою; эти вещи для них ничего не значат, а для меня очень много. Как бы мне хотелось повидаться с атаманом, поблагодарить за гостеприимство и поскорей убраться из ненавистного жилища».
Когда я сочинял в уме речь, которую буду говорить разбойничьему атаману, вошел ко мне один из медиков, неся в руках рубаху тонкого холста, и сказал:
– Платье твое так намерзло, что не скоро высохнет. Наш пан Мемнон дожидается тебя в своей комнате. Надень эту рубаху, выбери любую пару из висящих на стене платьев и одевайся.
С трепетом повиновался я и снял черкесское платье кармазинного цвета.
Мне приходило на мысль спросить своего собеседника, какого нрава их пан Мемнон, каких лет, давно ли упражняется в разбое и с которого времени атаманствует, но робость оковала язык мой. Однако ж, когда совсем был готов, то дрожащим голосом произнес:
– У меня на шее висела сумка с…
– Да, да, – подхватил казак, – я и забыл. Вот она. – С сим словом откинул угол матраца, и я увидел свою драгоценность, схватил и спрятал в карман.
Угрюмый черноморец повел меня к своему господину.
Прошед несколькопокоев, я введен был в комнату, великолепные уборы коей меня поразили. Там, в больших креслах, какие только случалось видеть мне у ректора семинарии, сидел мужчина лет под пятьдесят в дорогом польском платье. Вид его был величествен, взор внушал благоговение. Хотя я сначала совершенно смешался и дрожал во всем теле, однако скоро, ополчась философиею, подошел к нему, выпрямился и, заикаясь, произнес:
– Могущественный атаман! хотя ремесло твое таково, чтобы отнимать жизнь у людей, но ты столько великодушен, что иногда и возвращаешь оную, как доказал то надо мною. В знак благодарности охотно отступаюсь от ста злотых, бывших у меня в кармане, дозволь только сейчас отсюда удалиться, нет нужды, что платье мое еще мокро. Пусть один из твоих разбойников выпроводит меня из сего вертепа на дорогу в город.
Мемнон смотрел на меня с удивлением, потом ласково усмехнулся, протянул руку и, указав на стул, произнес:
– Садись. Мне очень было бы досадно, если бы такой молодец был убит, а ты, правду сказать, недалек был от этого. Люди мои объявили, что невдалеке примечены следы медведя. Сегодня на утренней заре снарядились мы на охоту.
Подходя к ближнему от нас лесу, увидели подле оного нечто лежащее на снегу.
Один из охотников вскричал: «Вот медведь!» – и прицелился. Я, удержав его, сказал: «Перестань! стыдно стрелять по сонному зверю; надобно прежде поднять его». Таким образом, держа ружье на втором взводе, тихими шагами пошли мы на зверя и нарочно кричали громко, но он не поднимался. Мы подошли близко и увидели тебя – окостеневшего. Я приказал приложить все попечение, дабы возвратить тебя к жизни, и, слава богу, труд был не напрасен. Скажи же теперь, кто ты таков, где был и как забрел в такое место, которое, по-видимому, тебе совершенно незнакомо?
Глава VII
Ошибочная наружность
Со всею искренностию начал я рассказывать все, что только знал о себе, и когда дошел до того места, где дьячок Варух, лежа на смертном одре, объявил, что он не отец мой, что я найден им подле большой дороги в корзине, что на шее моей была сумка с двумя золотыми кольцами, а внизу подушки записка, то Мемнон изменился на лице, вздрогнул, вскочил с кресел и уставил на меня столь страшные глаза, что я затрепетал во всем теле и, думая, что он гневается, считая меня лжецом, опустил трепещущую руку в карман, вынул сумку и, стараясь ее развязать, косноязычно произнес:
– Изволь, великий атаман, рассмотреть сам, и ты уверишься, что я говорил тебе сущую правду!
Мемнон выхватил из рук моих сумку, разорвал ее, взглянул на кольца, на записку, потом на меня и спросил:
– Ты – самый тот, который найден в корзине подле дороги?
– Тот самый, к несчастию; потому что лучше иметь отцом добродушного дьячка, который бы любил меня, нежели дворянина, который в безгласном младенчестве моем, предав на съедение собакам и коршунам, нимало и не думает, что сталось с беспомощным творением.
Мемнон сильно ударил себя кулаком в лоб и, сказав страшным, дребезжащим голосом: «Побудь здесь и жди меня!» – быстро вышел, и я остался в ужасном недоумении.
– Почему знать, – говорил я, – что сей Мемнон не есть заклятый враг моим родителям и не собирается теперь все мщение свое обратить на их жалкого сына? О, проклятый шинок! если б ты не стоял на перепутье, я теперь был бы в бурсе и, имея в кармане сто злотых, чего бы ни наделал! А теперь, того и смотри, что погибнешь, а что всего больнее за чужую вину.
В сем мучительном положении пробыл я около двух часов, которые показались мне веками страданий. Наконец Мемнон вошел, и вид его был довольно покоен, что несказанно меня обрадовало.
– Из собственного твоего повествования, – сказал он, – и из бывших при тебе доказательств видно, что ты действительно дворянского происхождения, почему носить тебе дьячковский пучок уже неприлично. Реас!
Один из моих лекарей вошел, и Мемнон сказал:
– Возьми сего молодого господина и убери голову его по-дворянски.
Реас дал мне знак за ним следовать и опять привел в ту комнату, где я лечился. Проворный казак два раза давнул ножницами и, увы! увесистый пучок мой, столько лет с нежностию лелеянный, как негодная вещь, полетел на пол.
Волосы мои подстрижены, затылок подбрит, и я не опомнился, как превращен был в малороссийского пана. Когда вошел я к Мемнону, то он, обняв меня, сказал весело:
– Ну, вот! тот же, да не тот! Пойдем обедать.
Вошед в столовую, я увидел у окна женщину в совершенных летах, высокого роста, величественного вида, с кротким, нежным взором; она держала в руках белый платок и утирала слезы; подле нее сидела за пяльцами девушка лет шестнадцати. При вступлении нашем они обе встали и старшая хотела что-то сказать мне, но остановилась и смотрела так пристально, что я смешался.
– Это жена моя, а это дочь, – сказал Мемнон.
А я вместо приветствия пробормотал несколько слов, и притом довольно глупых, и потупил глаза в землю.
– Будь смелее, Неон! – сказал хозяин довольно весело, – ты теперь не дьячок и не в келье твоего ректора. Поцелуй руки у обеих госпож сих, как следует учтивому дворянину.
С трепетом подошел я к матери; она подала мне руку, и когда я поцеловал ее, то чувствовал, что она дрожала, и слеза пала на мою щеку. С девицею обошелся я не смелее.
Вскоре сели за стол, и в продолжение оного хозяин был беспрестанно весел, хозяйка часто на меня взглядывала и вдруг потупляла глаза; Мелитина, дочь ее, также часто на меня взглядывала, улыбалась и молчала. Я уподоблялся каменному истукану. Тщетно призывал я на помощь свою философию; ни одно путное слово не приходило мне на мысль; а если и припоминал что-нибудь такое, то, взглянув на важного Мемнона, на кроткую жену его и на прекрасную дочь, терялся совершенно. «Возможно ли, – думал я, – чтобы у разбойничьего атамана было такое милое семейство? Ах! как жалка участь жены и дочери! Рано или поздно, а должны будут разделять с ним наказание, назначаемое разбойникам законами. Ах! если б можно было спасти их, а особливо дочь, как охотно взялся бы я за сие доброе дело! Почему знать, может быть, и сам Мемнон, уже набогатившись, согласится кинуть гибельное ремесло свое. Что, если я об этом намекну ему?»
По окончании стола Мемнон сказал:
– После обеда я привык несколько времени отдыхать, а сверх того, мне нужно о многом посоветоваться с женой. Неон! побудь с Мелитиной и чем-нибудь займитесь.
Он вышел с женою, и я остался, как на иголках. Иногда взглядывал я на девушку, и она улыбалась, а сего и довольно было, чтоб заставить меня мгновенно потупить взоры. Несколько раз покушался я что-то сказать, но язык мой деревенел, и я только шевелил губами. Наконец красавица первая собралась с силами и довольно смело спросила:
– Скажи, пожалуй, как это сделалось, что ты было замерз? Ах! как было бы жаль, если б тебя съел медведь!
Я поблагодарил за такое участие и рад был случаю рассказать свои похождения. Мелитина от чистого сердца смеялась, слушая про мои бурсацкие проказы. Когда я кончил, то показалось, что за таковую откровенность имею право и на ее доверенность; а посему, сделав самое плачевное лицо, сказал:
– Как мне жаль тебя, Мелитина!
– Жаль? Отчего?
– Что ты живешь в таком мерзком месте и имеешь такого отца!
– Напрасно! Это место очень хорошо, а весною и летом даже пленительно.
Что же касается до моего отца, то он наилучший из людей, каких я только видала!
– Ты смотришь на него глазами дочери, взгляни, буде можешь, как посторонний зритель, и ты ужаснешься, вострепещешь!
– Я тебя не понимаю!
– Ин я буду говорить яснее. Давно ли отец твой упражняется в богомерзком ремесле своем?
Она с изумленным видом отступила назад и спросила дрожащим голосом:
– В богомерзком ремесле? В каком же?
– Разумеется, в разбойничестве!
Мелитина устремила на меня глаза, помолчала и, наконец, засмеялась.
Это меня крайне изумило. Однако, подошед к ней ближе, сказал:
– Так, прекрасная девушка! с первого взгляда на сие жилище видно, что оно есть вертеп разбойничий, а отец твой есть атаман. Хотя правда, что дети не отвечают за преступления своих родителей, если сами в них не участвовали; однако ж посуди о тех мытарствах, какие должна будешь пройти, как скоро отец твой попадет в руки правосудия!
Мелитина опять засмеялась и удалилась от меня, не говоря ни слова. Я спохватился и каялся в своем неразумии; но уже поздно. «Она, верно, – думал я, – одобряет поступки отца своего, расскажет ему все, и он за ругательства мои, конечно, не похвалит. Не глуп ли я, что вздумал увещевать дочь разбойничьего атамана. Почему знать? может быть, она совсем не так невинна, как с первого взгляда кажется! может быть, она служит приманкою для легковерного странника! Ах! как жаль, как жаль!»
Погружен будучи в глубокую задумчивость, сидел я у окна, размышляя о способах, как бы вырваться из сего логовища. Вдруг увидел я всадника, спускавшегося в ров по косогору. Это был вооруженный усач в крестьянском платье. Он медленно подвигался к атаманскому дому, и когда проезжал мимо окна, у коего я сидел, то, к великому недоумению моему и ужасу, – в крестьянине узнал Короля, своего друга. Волосы стали у меня дыбом. «Боже милосердый! – думал я, – кому бы поверил я, что и Король, которого всегда считал богобоязненным, честным, добрым человеком, находится в связи с злодеями? С сих пор, дай только всевышний уплестись отсюда поздорову, никогда нога моя не будет в пагубном доме его».
Сумерки покрыли овраг мраком, а я не видал никого. Наконец поданы свечи, и Мемнон, последуемый женою, дочерью и Королем, вошли в комнату.
– Здравствуй, Неон! – сказал Король, обнимая меня, – как же ты принарядился! От сего друга моего знаю я последнее твое похождение и радуюсь, что порода дает тебе право отличаться на полях брани саблею. Что же так печален?
– Он все еще не может забыть прошедшей ночи, – сказал Мемнон, – и подлинно, если бы не следы медвежьи нас подняли, то и следа Неонова не оставалось бы на земле. Будь веселее, друг мой! Завтра чуть свет выйдем мы на промысел.
Мемнон и Король занялись игрою в шахматы, жена Мемнонова, которую звал он Евлалией, за особливым столиком низала жемчуг, а Мелитина играла на лютне и пела прелестно на малороссийском и польском языках; один я не находил ни в чем отрады. Я взглядывал то на мать, то на дочь и страдал в душе своей. Вздохи невольно колебали грудь мою. Я чувствовал на сердце что-то такое, чему не знал имени и что вместе разливало в нем какую-то сладость и его терзало; самое даже мучение было для меня приятно. Ни за что в свете не хотел бы я получить прежнее спокойствие. Я не знал, однако, кого мне больше жаль, матери или дочери.
По прошествии вечера и части ночи и по окончании ужина меня отвели в прежнюю комнату, где нашел уже очень порядочную постелю и шелковое покрывало. По желанию моему свечка при мне оставлена.
В самую полночь, когда казалось мне, что все в доме погружены в глубокий сон, встал я с постели, дабы попытаться, не сыщу ли способа уйти.
При мысли, что поутру и я должен буду выйти с разбойниками на промысел, мороз разливался в моих жилах. Хотя бы сама Мелитина была наградою за успехи мои в разбое, то и для нее не поступлю я против моих обязанностей к богу и ближнему. Дело иное – накрасть где-нибудь дынь или арбузов, в таком грехе можно еще покаяться; но принять на душу свою смертоубийство – нет, нет! голова человеческая не арбуз!
Говоря сии слова, я силился отпереть дверь; но не тут-то было.
Уверившись, что она заперта извне, я тяжко вздохнул и решился ожидать утра.
Когда рассвело, то ко мне вошел Реас.
– Пора вставать, – говорил он сурово, – все уже готовы идти на охоту.
Оденься, вооружись и ступай с нами.
– Проклятая охота! – ворчал я про себя. – Неужели и ты, – сказал я, – будучи довольно стар, не сомневаешься участвовать…
– Что ты затеял? – вскричал он с ужасною улыбкою, – да я стреляю в цель не хуже всякого молодого; ты увидишь на деле.
Он помог мне одеться во вчерашнее платье, сверху накинул черкеску на крымском меху, опоясал патронным поясом, привесил кинжал, дал в руки ружье и повел в столовую. Там уже сидели в таком же вооружении Мемнон и Король, а подле них стояли трое слуг. Евлалия и Мелитина в утренних платьях встретили меня с улыбкою, и мать подала руку, которую поцеловал я теперь с большею ловкостью, нежели вчера. Дочери сделал я учтивый поклон и отвернулся, дабы не приметили моего тяжкого вздоха.
Настал день; лучи светлого солнца заблистали на снежных краях оврага, мы пустились в путь. Когда выбрались из своего провалья, то я отстал от прочих под видом исправления некоторой нужды. Видя, что они отошли саженей на сто, я ударился бежать по дороге в противную сторону и скоро потерял их из виду. Тут пошел я обыкновенным шагом и примерно через два часа увидел перед собою большое село, ничуть не меньшее села Хлопот. «Ах! – думал я, – как досадно, что нет со мною моих злотых! как бы плотно пообедал я; ибо, правду сказать, вчера не давали мне есть мысли то о Мемноне, то о Евлалии, то о Мелитине».
Машинально опустил я руку в карман черкески и, к великому удивлению, вытащил изрядный кошелек с серебром, и когда высыпал его в шапку, то увидел, сверх того, несколько золотых денег. Раздумье взяло меня, пользоваться ли сею находкою или нет. «Почему же и не так, – сказал я, – ведь деньги награбленные, и Мемнону не более принадлежат, как и мне». С сими словами вошел я в село, допытался корчмы и заказал изготовить сытный обед, и когда оный подан был на стол, то хозяин-жид, будучи великий пустомеля, пристал ко мне с расспросами о том и о сем; и я, чтобы скорее от него отвязаться, рассказал обстоятельно, каким образом попал в руки разбойников и как счастливо вырвался из оных. Жид слушал меня с прилежным вниманием и иногда качал головою.
– Ты не веришь, – вскричал я, – что я был в вертепе разбойничьего атамана Мемнона? Так знай, что все одеяние, какое на мне видишь, принадлежит ему!
– Это я очень знаю, – сказал жид, – ибо нередко видел в нем пана Мемнона.
– Как? – спросил я с удивлением, – и он осмеливается в таком большом селе разбойничать?
– По крайней мере он в корчме моей не разбойничает, – отвечал лукавый жид, – а если иногда, возвращаясь с охоты, удостаивает посещением, то за всякую чарочку наливки платит весьма щедро; да и все мы вообще считаем его самым честным и добрым человеком.
Когда жид говорил сие с видом значительным, вдруг вошли в комнату четыре крестьянина и сели за один стол со мною. Они внимательно рассматривали меня с головы до ног, и после старший из них, закручивая усы, сказал:
– Клянусь ангелом-хранителем, что все это платье не раз видел я на пане Мемноне!
– И я, и я! – вскричали прочие.
– Пан староста! – сказал один, – поговори-ка с его милостию; а я готов удариться об заклад, о чем хочешь, что сей щеголь один из шайки разбойников, уже несколько лет грабящих в наших окрестностях!
Староста, обратясь ко мне, спросил надменно:
– Молодец! где взял ты это дорогое платье?
– А тебе какая надобность? – отвечал я со всею спесью философа.
– Ба, ба! – сказал староста, язвительно улыбаясь, – старосте не надобно знать, где кто мошенничал! Спрашивать больше нечего; все ясно, как этот день! Ребята! делайте свое дело!
Вмиг все пришельцы на меня бросились и завернули руки за спину. Жид подал веревку; меня скрутили и усадили на лавке. После сего староста, опустив в карман ко мне руки, вытащил кошелек. Все подняли радостный вопль.
– Видно, приятель, – сказал староста, – ты запасся не на шутку! Как же благодарен будет пан Мемнон, когда возвратим ему потерю. Однако ж путь не ближний, и надо подкрепить свои силы. Жид! давай вина и что-нибудь перекусить.
Бездельники начали пить вишневку и есть заказанный мною обед. За каждою чаркою они желали мне здоровья и большей удачи. Я сидел потупя глаза, и хотя мне совестно было показаться на глаза Мемнону, которого перестал уже почитать разбойником, но не было другого способа освободиться от рук старосты. Наконец их бражничанье кончилось. Заплатя жиду из моего кошелька за угощение, они поднялись. Один взялся за конец веревки, коею связаны были мои руки, и мы все торжественно отправились к жилищу Мемнонову.
Глава VIII
Двоякая любовь
Мы прибыли к жилищу сего господина, но он еще не возвращался.
Мелитина, увидя меня в таком положении, ахнула, и слезы показались на прекрасных глазах ее.
– За что вы его связали? – спросила она у старосты.
– За то, – отвечал сей с важностию, – что он – уличенный вор и, верно, скрытный разбойник!
– Вот видишь, Неон, – говорила она томным голосом, – как наружность обманчива. Незадолго перед сим ты честнейшего человека считал за разбойника, а теперь другие сочли тебя таким же. Развяжите его!
– Никак, – говорил староста с поклоном, – это может сделать один отец твой или мать.
Мелитина тотчас бросилась из комнаты и вмиг показалась с матерью; но не успела та вымолвить и одного слова, как с другой стороны вошли в покой Мемнон и Король, обвешанные зайцами, тетеревами и рябчиками.
– Что это значит? – спросил Мемнон с удивлением, и староста отвечал, что привел вора, причем показал и кошелек с деньгами.
– Видишь, Неон, – сказал хозяин с усмешкою, – что жилище мое околдовано, и без ведома моего никто отсюда уйти не может.
Король не был так умерен, как друг его. Охотничьим ножом перерезав веревку, коею был я связан, он начал крестить сперва старосту, а потом и прочих по чему ни попало.
– Ты для того избран старостою, а вы сотскими и десятскими, – приговаривал он, – что должны быть расторопнее прочих. Можно ли неизвестного человека счесть разбойником и вязать только потому, что он в чужом платье и что в кармане у него есть деньги!
Приведшие меня, видя худую благодарность за усердие, опрометью бросились из дому и, не оглядываясь, пустились из буерака. Я бросился к ногам Мемнона и чистосердечно повинился в грехе своем. Он меня поднял и начал разговор об охоте. Уверившись, что нахожусь в доме честного дворянина, я сделался веселее, говорил не меньше других, и мне удалось сказать несколько острых слов, заслуживших общее одобрение. Ввечеру я под игру Мелитины пропел несколько духовных песен, ибо в числе прочих занятий в семинарии принужден был учиться и пению по нотам. Ночь прошла в сладостных мечтах, свойственных пылкому человеку в мои лета: я записывался в войско, сражался как лев, побеждал целые полчища, получал почести и богатства и в награду толиких заслуг просил руки у Мелитины. Можно ли отказать в чем-нибудь такому достойному человеку?
Поутру, едва только я оделся, как вошли ко мне Мемнон и Король, одетый опять в крестьянское платье. Первый сказал:
– Ну, Неон, ты теперь отправляешься в город с общим нашим другом. Он насказал о тебе столько доброго, что я принимаю в тебе истинное участие. В бурсе ты более жить не будешь, и Король найдет для тебя приличное место; а покуда ты пробудешь у него в доме. Платье, которое на тебе, есть твое собственное, равно как вчерашняя черкеска и кошелек с деньгами. По временам ты будешь навещать меня в сем уединении, а по прошествии зимы все займемся отысканием твоих родителей, на каковой конец кольца и записка у меня останутся. Теперь позавтракайте и – с богом.
Трапеза наша продолжалась довольно долго. Для меня оседлан был недурной конь, и мы выехали из сего хутора близко полудня и не прежде прибыли в город, как к ночи. Король оставил меня до утра в своем доме. Лежа в постели, я мучился догадками, зачем Мемнон не дозволил мне проститься с его женою и дочерью.
На другой день явился я к настоятелю монастыря отцу Герасиму, у которого Король предварительно извинил меня в продолжительной отлучке.
После обеда он сказал мне:
– Неон! я нашел для тебя весьма хорошее место. Пан Истукарий считается первым помещиком во всем городе и во всей округе. В доме его можно научиться благопристойности и вежливости более и скорее, чем во всяком другом месте, а это для дворянина необходимо. За содержание твое он не берет ничего, а хочет только, чтоб ты надзирал за его сыном, мальчиком лет шестнадцати, который, но словам отца, имеет великие способности. Отец готовит его ко двору гетмана. Пан Истукарий человек весьма обстоятельный, хотя довольно горд и напыщен. Жена его, Трифена, весьма набожна, хотя довольно вспыльчива и охотница до ссор. Но тебе какая до того нужда? Сверх того, живет в доме дочь их, молодая вдова Неонилла, воспитанная в Киеве на польский образец. Она недурна собою, молода, весела и обходительна. В сем-то доме можешь ты образовать свой вкус и научиться на опыте, как должно вести себя благорожденному человеку. Завтра мы отправимся к пану Истукарию.
В тот же день Король изготовил для меня хорошую постелю, накупил белья и обуви, и наутро представились мы помещику. Он был человек за пятьдесят лет, но здоров и крепок; взор его был несколько угрюм и самая улыбка неприятна. Жена его, судя даже с первого взгляда, была хозяйкою дома, но состояла под самовластием мужа. Дочь Неонилла, осьмнадцати или девятнадцати лет, превосходила описание, Королем о ней сделанное. Сын Епафрас показался мне настоящим ротозеем. Он был малого роста, курчав, губаст, и когда смеялся, то ржал, как жеребенок. Слуг и служанок в доме было весьма довольно.
Хозяева и их дети приняли нас очень ласково, а особливо Неонилла, сейчас показала, что воспитана в Киеве. Мне отвели небольшую, но хорошо прибранную комнату, окнами в сад, и я тогда же переселился в оную.
Пан Истукарий столько считал себя знатным человеком, что стыдился отдавать сына в семинарию; для образования молодого Епафраса приходили особенные учители, как светские, так и духовные. Мне особенно нравились искусства биться на саблях, стрелять в цель и ездить верхом, и я начал упражняться в оных с особенным старанием. День проходил за днем, неделя за неделею, и так прошел месяц. Я был очень доволен своим положением; казалось, что и мною довольны были. Хотя вышло, что Епафрас не что другое, как лентяй, повеса, но мои глаза– не отцовские и какая мне до того нужда?
Довольно, что родители не могли им налюбоваться. Хотя прелестная дочь Мемнонова не выходила у меня из мыслей, однако и живая, веселая, прекрасная Неонилла немало забавляла меня своими резвостями. Она иногда так была непринужденна, что, казалось, забывала о разности наших полов. Какое прелестное воспитание!
По прошествии месяца Король отпросил меня на целые сутки, и мы пустились в хутор к Мемнону. Сердце сильно билось в груди моей, когда я вступал в дом, в коем обитала прекрасная Мелитина. Какая разница между ею и Неониллою! Но и то правда, одна была робка, неопытная девица; а другая вдова, и притом – воспитанная по-польски. Мемнон, жена его и дочь приняли нас с непритворною радостию, и я как тот вечер, так и весь следующий день провел с несказанным удовольствием. Проживши целый месяц в пышном многолюдном доме Истукария, я приметно переменился: сделался противу прежнего гораздо свободнее и не один раз осмелился намекнуть Мелитине, что она прелестна и что я почту благополучнейшим того смертного, на которого кинет она благосклонный взор свой. Мелитина на такие рыцарские напевы всегда отвечала непринужденною улыбкою, и это меня расстроивало.
Под вечер другого дня я опять завел речь о моих родителях.
– Я должен признаться, – говорил Мемнон, – что знаю твоих родителей, равно как и друг мой Диомид; но обстоятельства требуют, чтобы ты поумерил свое желание узнать их. Так, друг мой, – продолжал он, – я имею право открывать только свои тайны, а чужие считаю неприкосновенною святынею.
Довольно с тебя уверения, что ты когда-нибудь о них сведаешь, если своими поступками будешь того достоин.
Я должен был удовольствоваться сим малым сведением. Перед отъездом Мемнон подарил мне еще полную пару платья, на коем по всем швам нашит был золотой снурок и висели сзади такие же кисти. Чтоб сделать убор мой совершенным, он опоясал меня богатою саблею.
Мне так полюбилось препровождение времени в доме Мемноновом, что склонил Короля ездить туда чрез каждые две недели. Зима прошла, и наступила весна цветущая. Мелитина говорила правду, что весною жилище их прелестно.
Зимою и не обратил я внимания на обширный сад, наполняющий все дно оврага; но когда дерева покрылись цветом, тогда я не мог не восхищаться, а особливо прогуливаясь с нежною хозяйкою или прелестною ее дочерью. С каждым днем любовь моя, неразлучная, однако ж, с неограниченным почтением, умножалась к Мелитине; однако она всегда казалась мне существом высшего рода, о привлечении коего в соответствие на чувства, общие всем существам смертным, и подумать страшно; сверх же того, красавица сия на мои нежные слова, на пламенные взоры и на томные вздохи отвечала всегда невинною улыбкою или даже смехом. Это приводило меня в досаду, и я самому себе давал слово и видом не обнаруживать моей склонности. С таким расположением духа почти всегда оставлял сей очарованный хутор.
Теперь приступаю к описанию одного из важнейших происшествий в моей жизни, имевшего великое влияние на дальнейшие случаи.
В один весенний месяц как-то случилось, что, прохаживаясь в обширном саду Истукариевом, я столкнулся с милою его дочерью. Она начала, по обыкновению, резвиться, я подражал ей; распростершаяся темнота придавала мне смелости. Красавица бросилась бежать и скрылась в самой дальней беседке; я ударился вслед за нею и вступил в сие убежище прелестницы, без труда нашел ее, притаившуюся на софе в углу.
– Ах, Неон! – сказала Неонилла, – любишь ли ты меня?
– Более, нежели самого себя!
– Ах! будешь ли ты и впредь таков?
– Всегда! всегда!
– Будь же осторожен! Ты знаешь, как батюшка горяч и щекотлив. Сохрани бог, если он проведает!
– Ведь мы не дети! – сказал я, поглаживая усы. С сим мы расстались, условившись в эту же самую ночь видеться на сем же самом месте.
Свидания мои с Мемноном не прерывались. Как друг мой Король занят был своим огородом, то я большею частию езжал в хутор один и каждый раз открывал в Евлалии новую ко мне благосклонность, а в Мелитине новые прелести, новую любезность; но чем более любовь моя возрастала, тем становился я боязливее и не смел даже к ней прикоснуться. Я пылал и всячески старался таить сие пламя. Она была для меня нечто более, нежели женщина, и при одной непозволительной мысли насчет сей невинности я покрывался краскою стыда и негодования на самого себя. Но такова молодость!
Едва являлся я в саду Истукариевом, кроткая Мелитина бывала забыта, а при мысли о живой, пылкой Неонилле я сломя голову бежал к знакомой беседке, где нередко меня уже ожидали.
Лето было в половине. В одну светлую прекрасную ночь я и Неонилла роскошно отдыхали на софе в беседке. Вдруг послышался невдалеке мужской голос, а вскоре дверь тихонько отворилась, и вошли двое, хотя мы и не успели рассмотреть, кто такие были досадные посетители. Мы притаили дыхание.
– Милая Христодула! – сказал мужчина, и мы сейчас узнали Епафраса, а в любовнице его – пожилую девку, служащую Трифене, – сядь на софе, а я выну из шкафа кое-что поесть и выпить… Не правда ли, что я догадлив в таких случаях? Еще днем урывками припрятал здесь довольно пирожного и бутылку доброй наливки.
Он отпер шкаф и вынул свой запас, как дверь у беседки опять отворилась, и еще пожаловали двое, мужчина и женщина.
– Прекрасная Кириена! – сказал голос, и мы вмиг узнали Истукария и молодую девушку, наперсницу Неониллы, – садись сюда – на софу, а я посвечу.
С сими словами открыл он потаенный фонарь. Пусть, кто может, представит тогдашнее общее смятение! Неонилла в самом ли деле упала в обморок, или такою представилась, только глаза ее были закрыты и дыхание остановилось.
Истукарий прежде всего осветил Епафраса, держащего в одной руке бутылку, а в другой – блюдо с пирожным.
– Бездельник! – вскричал отец в великом гневе и поразил его кулаком по макуше так ловко, что и блюдо и бутылка выпали из рук, а он посередине их растянулся. – С кем ты здесь, негодный? – продолжал старик с бешенством, – возможно ли? В твои лета? Не знаю, чего смотрит за тобою Неон. Он что-то часто повадился рыскать со двора.
Говоря сие, он осветил софу и – окаменел. Христодула и Кириена сидели рядом на софе и закрывались передниками; милой, жалкой Неонилле нечем было сего сделать.
Мой добрый дух благовременно вразумил меня. Пользуясь окаменением Истукария, я вскочил с софы, треснул его по руке, отчего фонарь полетел на пол и погас, вылетел с быстротою вихря из беседки, запер дверь за собою на замок, в коем оставил ключ, и побежал домой. Припрятав прежде всего кошелек с деньгами и увязавши платье и белье в узел, я опоясался саблею и пустился к дому Королеву. Дорогою пришло на меня желание позабавить себя зрелищем, которое должны представлять мои пленные. Пришед на двор, я ношу свою и деньги спрятал в сарае, а сам пустился в дом Истукария. Разбудив старуху, надзирающую за служанками, я с видом крайне напуганного человека уверял ее, что видел в саду двух оборотней женского пола, которые околдовали господина и его сына, уволокли их в крайнюю беседку сада и там заперлись. Старуха ахала, крестилась и, казалось, не совсем доверяла словам моим; когда же я подтвердил клятвенно справедливость сего доноса, то она вскочила с постели и бросилась уведомить Трифену о сем чуде. Вскоре вышла и сия в одном спальном платье со свечою в руке, и я донес ей то же, прибавя, будто послышалось мне, что оборотни приняли меры к изнасилованию отца и сына, ибо я слышал в беседке стук, треск и визжанье.
– Что за вздор! – вскричала Трифена со гневом, – не грезишь ли ты, господин студент?
– Стоит только поверить слова мои, – сказал я хладнокровно, – так правда и откроется.
– Ин пойдем поищем их в доме, – говорила хозяйка со вздохом.
Старуха понесла впереди свечу; я и Трифена за ней последовали. И действительно, постели Истукария и Епа-фраса были не тронуты, а я с простосердечием заметил, что, проходя девичью, не видал ни Христодулы, ни Ки-риены.
– Ах, седой бездельник! – вскричала с бешенством Трифена, – возможно ли было думать? Он же и сына научает таким мерзостям! Только это мне непонятно, на что ему понадобился Епафрас? Дела сего рода свидетелей не требуют.
– Может быть, – заметил я с важностию, – это сделалось и нечаянно: отец, сделав назначение своему оборотню в беседке, не знал, что и сын для своего назначил то же самое место, – и они столкнулись.
– Это всего вернее, – говорила Трифена, задыхаясь от гнева. – Варвара! возьми фонарь и веди меня к той беседке; а ты, Неон, пожалуй, будь на сей раз моим сопутником.
Мы отправились. Подошед сколько можно тише к месту наших поисков, я отворил дверь, в которую опрометью влетела Трифена, а за нею и старая Варвара с фонарем. Я легонько притворил дверь и запер.
– А, – раздался громоподобный голос раздраженной супруги и матери, и как град посыпались пощечины. Надобно думать, что первое стремление бури обращено было на бедных девок, ибо они подняли плач и вопль.
– Ба! Неонилла, ты, голубушка, зачем здесь?
– Да, – сказал муж, пришед в себя, – эту голубушку застал я здесь под крылом ястреба; жаль только, что успел ускользнуть, проклятый! Но он мне попадется, и клянусь вырвать у него усы и обрубить нос и уши.
– Да какой это у тебя ястреб с усами и ушами? – спросила жена.
– Кому быть иному, кроме злодея Неона, – отвечал муж, скрежеща зубами.
Тут начались объяснения, и муж так был лукав, что всю вину свернул на меня и Неониллу, а себя и сына выставил только сыщиками виноватых.
– А эти две мерзавки зачем здесь? – спросила стремительно жена.
– Они случайно попались нам в саду, – отвечал муж весьма спокойно, – и я приказал им быть свидетельницами уличенного преступления.
Таким образом, преступный отец для собственного оправдания должен был выгораживать распутного сына.
После сильных угроз, произнесенных горько плачущей Неонилле со стороны отца и матери, они вздумали выйти; но не тут-то было. Скоро они уверились, что были заперты.
– Ах! проклятый мошенник, – вскричал Истукарий, – он в другой раз нас запер! Постой, постой! дорого заплатишь ты за все эти пакости! Что будем делать?
– Ничего больше, – сказала жена, – как выломить окно. – И спустя минуту от сильного удара – вероятно стулом – посыпались стекла и затрещала окончина.
Я ударился бежать, благополучно достиг дома Королева и улегся отдыхать в сарае на рогоже.
– Ах, Мелитина! – сказал я, вздохнувши, – сколько я виноват перед тобою! Но и то сказать, я ничем не обязывался. Ты, может быть, и не знаешь, сколько я люблю тебя! Если когда-нибудь удостоишь меня соответствия, клянусь, тогда ни одна красавица не обратит на себя моих взоров.
Бесподобная девица! скажи только: «Неон! я люблю тебя!» – и счастливый Неон твой навсегда, твой нераздельно.
Мечтая таким образом, я уснул крепко. Хотя попеременно представлялись мне кроткая Мелитина и пламенная Неонилла, но труды и беспокойства ночные так меня утомили, что я проснулся уже гораздо после солнечного восхода.
Глава IX
Необдуманные затеи
Поутру Король весьма удивился, услыша от батрака, что я сплю в сарае.
Когда я пришел к нему, то он спросил:
– Что это значит? Конечно, ты с кем-нибудь поразладил и, видно, дрался, – недаром при сабле.
– Ты отгадал, – отвечал я, – именно поразладил я с одними за то, что с другими слишком уже много поладил.
Тут откровенно рассказал я о связи моей с Неониллою и о последствиях сего знакомства. Король, выслушав повесть мою терпеливо, сказал весьма важно:
– Согласись, Неон, что ты поступил очень дурно, неблагодарно! После поступка твоего в доме Истукария я вправе заключить, что ты в состоянии бы так же поступить и в доме Мемнона, если б Мелитина была менее невинна и добронравна. О! сохрани тебя милосердый бог о том и подумать!
– Почтенный друг мой! – сказал я, – какая разница! Одна вселяет любовь почтительную, невинную, святую, а другая обещает чувственные наслаждения!
– Ты уже не ребенок, – сказал Король, – и очень понимаешь, что сколько бы ни прелестен был плод и сколько бы ты голоден ни был, но если он в чужом саду, то его трогать ненадобно. Прошу тебя, Неон, в подобных обстоятельствах быть осторожнее. Конечно, ты молод и здоров, обольщения сего рода довольно сильны; но еще повторяю, что ты уже не ребенок и рассуждать учился. Посуди только о последствиях, и кипение крови твоей уймется. Неужели ты до сих пор не помыслил, что мудрая природа, вложив в оба пола стремление одного к другому, имела в виду одно ничтожное наслаждение? Совсем нет! Цель ее есть размножение существ живущих. Подумай же, чего должен ожидать ты, если Неонилла сделается матерью?
Я задрожал, потупил глаза в землю и молчал. Потом, с чувствительностию обняв опытного друга, обещался приложить все старание избегать впредь сетей соблазна.
– Еще согласись, – продолжал Король, – что знатный и богатый Истукарий никак не простит тебе обиды, нанесенной ему в лице дочери. Падением ее, без сомнения, хвастать не будет; но он имеет множество случаев отомстить тебе тайно. И для того, пока я не придумаю, что нам полезнее делать, ты будешь жить у меня сколько можно скрытнее.
На другой день, в самые полдни, когда Король отлучился зачем-то на базар, работник принес мне письмо, объявляя, что маленькая девочка просила его вручить мне оное и ожидает на улице ответа. Я вскрыл письмо и читал с жадностию следующие строки: «Любезный друг Неон!
Батюшка был очень сердит, но, наконец, примирился и дал слово не упоминать о прошедшем. Матушка еще более снисходительна. Целый день провела я без тебя в несносной скуке. Около полуночи приходи в сад наш к известной беседке, и тебя ожидают объятия твоей Неониллы».
Я призадумался. Что, если это козни старого Истукария, чтобы заманить меня в свои когти? Хотя я в доме его прожил более полугода, но рука дочери его совершенно мне незнакома. Однако думаю, что с помощию истинной философии могу наслаждаться утехами любви, не подвергая себя опасности. Все равно, на каком бы месте ни приносима была жертва; и огород Королев не менее к тому удобен, как и сад Истукария. Я написал в ответ: «Прелестная Неонилла!
Заключить тебя в свои объятия для меня составляет блаженство; но в сад отца твоего не пойду. Не безопаснее ли, моя любезная, будет, когда ты пожалуешь ко мне в огород друга моего Короля? Соломенный шалаш, в коем иногда отдыхает он после трудов, столько же удобен для любви, как и богатая беседка в саду отца твоего. Приходи, моя бесценная, и ты успокоишься в объятиях твоего верного Неона».
Запечатав сию записочку, я выбежал за ворота и отдал маленькой вестнице для доставления Неонилле. а притом подарил ей два злотых. Король пришел домой уже под вечер, и с ним человек шесть крестьян.
– Неон! – сказал хозяин, поглаживая чуб, – случайно проведал я, что соседи мои бурсаки расположились сею ночью в огород мой пожаловать, так надобно угостить их по достоинству. Это добрые люди примут по-братски.
Думаю, что эта ночь будет последняя, которую проведем мы в сем городе.
Я не знал, что мне делать с моею тайною. Прежде и не думал открывать ее кому-либо; но теперь, видя, что по нечаянному стечению обстоятельств она сама собою выйдет наружу, я решился во всем признаться Королю и просить у него совета.
– Ты говоришь, друг мой, – сказал я непринужденно, – что мы в последний раз ночуем в Переяславле. Как думаешь? Ведь не мешает эту ночь провести повеселее?
С сими словами я подал ему письмо Неониллы. Король прочел и сердито пошевелил усами.
– Что же ты отвечал? – спросил он.
Я подробно рассказал ответ мой.
– Мне кажется и даже уверен, – говорил Король подумавши, – что это сети Истукариевы. Как бы Неонилла пламенна ни была, то все так скоро после бывшего происшествия, по всем отношениям весьма незабавного, трудно пускаться на новое; впрочем, она молодая женщина и воспитана по-польски.
Он ходил большими шагами по горнице, как работник доложил, что какая-то старуха стоит за воротами и желает поговорить со мною. Король остановился и сказал, потирая лоб:
– Введи сюда старуху, объявив, что я с вечера уехал в чей-то хутор и до утра не возвращусь.
Работник вышел, а Король скрылся в боковой горенке. Старуха не замедлила войти, и я узнал в ней Варвару. После первых приветствий она сказала с улыбкою:
– Куда как счастлив ты, Неон, что такая молодая и прекрасная госпожа, какова Неонилла, столь горячо тебя любит! Несмотря на все запрещения строгих родителей, она решается посетить тебя на огороде. Но рассуди сам: дело ее женское, время ночное, место мало известное: чего только не должна она, бедная, страшиться? Чтобы быть ей поспокойнее, следовательно, способнее слушать любовные твои напевы, она просит дозволения взять с собою трех горничных девушек, совершенно ей преданных. Они – девки сметливые и не только не будут помехою вашим разговорам, но вместо того – стражами вашей же безопасности.
Несмотря на вид истины, с коим говорила старуха, я начал ощущать подозрение. Однако, не находя причины бояться чего-либо в доме моего друга, я принял лицо восхищенного любовника и, сунув сей устарелой Ириде{10} в руку несколько злотых, сказал:
– Объяви прелестной Неонилле, что я около полуночи ее ожидаю и что касается до трех ее сопутниц, то и на сие совершенно согласен.
Старуха удалилась, будучи очень довольна и мною и собою, а Король явился.
– Что, – вскричал он, остановись передо мною, – ты ничего не предчувствуешь?
– По крайней мере ничего ясного!
– А я, напротив, готов уверять, что это затеи Истукария, и бедная дочь его ничего о сем не знает. Послушай! ступай в бурсу и скажи приятелю твоему консулу Кастору, что намерение его сделать в эту ночь атаку моему огороду мне уже известно и что я приготовил нужное число храбрых молодцов для надлежащего отпора. В одну ночь, а случиться может и в один час, иметь сражение на разных местах – опасно. Надобно прежде управиться с одним супостатом, а потом уже противостать и другому.
Поручение Короля исправлено мною скоро. Консул Кастор и прочие бурсаки благодарили меня от чистого сердца за такое дружеское предостережение. Я возвратился домой. Король изобильно угощал приведенных гостей и питьем и едою. Когда все были довольны и время приближалось к полуночи, то я с шестью сподвижниками отправился в огород. Они полегли в бурьяне позади шалаша, а я начал около оного похаживать, попевая тихонько и посвистывая.
Сколько ночь ни была мрачна, однако я скоро приметил нечто мелькающее на заборе и осторожно спускающееся на землю; за сим видением перелезли еще три особы, и все тихонько начали к шалашу приближаться. Я стоял у самых дверей и продолжал легонько свистать. Неонилла подходила ближе и ближе и, наконец, пала ко мне на руки; вздохи оковали язык ее. С быстротою молнии уволок я красавицу в шалаш, усадил на большом снопе соломы и напечатлел страстный поцелуй на толстых губах ее.
В ту минуту догадался я, что имею дело с негодяем Епафрасом, а посему смекнул, что должно заключить и о мнимых спутницах. Не обнаруживая сомнения, я, сидя на соломе, обвил руку вокруг шеи моей новой любовницы.
– Ах, Неонилла! – сказал я, – зачем обрезала ты прекрасные свои волосы и всю голову завила в пукли?
– Теперь такая мода в Варшаве, – отвечали мне шепотом.
Я надрывался с досады и не знал, что начать. Тут подошли к отверстию шалаша провожатые моей любезной, и одна притворным голосом сказала:
– Тебе здесь, Неонилла, хорошо, а нам на открытом воздухе холодно; но нельзя ли и сопутницам твоим погреться под соломенною крышею?
– Почему и не так! – отвечала моя подруга, – тут места довольно; полезайте!
«Ну, – думал я, – вот настоящий приступ к делу».
– Постойте, девушки, немного, – вскричал я, – дайте нам прежде расположиться так, чтоб и в самом деле для всех было удобно.
После сего я свистнул громко три раза; мгновенно послышался шум; любовница моя задрожала.
– Что это значит? – спросила она заикаясь.
– Это подоспели мои уже провожатые, – отвечал я, – коим можешь ты безопасно ввериться, как я вверился твоим. Пойдем ко мне в дом; там и теплее и покойнее.
С сими словами взял я соседа за курчавый чуб и, приговаривая: «Сюда, сюда! милая Неонилла!», волок его из шалаша, причем не преминул оделять пощечинами и позатыльщинами с таким проворством, какое может только внушить оскорбленная любовь и обманутое ожидание.
Когда в шалаше происходил сей поединок, то вне оного совершалась целая битва. Горничные девушки Неониллы сражались как львы, зато и мои телохранители уподоблялись голодным медведям. Не малою помощию для последних было то, что шесть человек ратовали противу трех. Когда я, держа за остаток волосов жертву моего мщения, выполз из шалаша, то увидел, что враги наши были в таком же положении. Торжественно вступили мы в покой Короля, где нашли довольное освещение. Мы сняли руки с голов сопротивничьих и начали их рассматривать. Я очень знал, что не ошибся в своей догадке.
Епафрас, с пораженным в разных местах лицом, в растерзанном платье сестры своей, стоял передо мною в самом жалком положении; в спутниках его признал я двух кучеров и стремянного Истукария, одетых в девичьи платья, кои были также в клочки изорваны.
По решению Короля сопутники Епафрасовы отведены в сарай и заперты.
Оставался один молодой пленник, и начался допрос с увещанием сказать всю правду, под опасением за скрытность неминуемого истязания. Молодец, видя, что дело взяло оборот довольно важный, клялся сказать всю истину и говорил следующее:
– На другой день после суматошной ночи, столько всем нам памятной, рано поутру мой раздраженный отец отвез Неониллу в дальний хутор наш по дороге к Пирятину и оставил ее под строгим надзором неумолимой скотницы и ее семейства, объявив твердое намерение не давать ей свободы прежде, пока не приищет для нее жениха приличного. По возвращении домой он начал вымышлять способы, как бы залучить Неона в свои руки, дабы совершить над ним примерное мщение. Он остановился на том плане, исполнение коего теперь только все видели. Я под руку сестры подписался довольно исправно, и дело пошло было на лад; но не знаю, какой злой дух предуведомил о нашем намерении, и мы, шедшие сюда с тем, чтоб возвратиться с пленным Неоном, сами попались в западню и сделались пленниками.
– Что же бы отец твой думал со мною делать, – спросил я, – если б залучил в свои руки?
– О! – отвечал Епафрас, – план мщения его довольно замысловат. Он хотел отвезти тебя также в хутор, по дороге к Киеву, там выбрить голову и усы, потом приковать к стене против портрета Неониллы, дабы при каждом на нее взгляде казнился ты, сравнивая прошедшее с настоящим. В комнате, для тебя назначенной, стояла бы великолепная кровать, между тем ты должен почивать на соломе. К обеду и ужину набирали бы стол с изобильными яствами и напитками, а ты должен утолять голод сухим хлебом и жажду водою. В сем положении должен бы ты пробыть до тех пор, пока Неонилле не сыщется муж.
После ее бракосочетания целую неделю, в такую пору, когда новобрачные уходят в опочивальню, тебе влепляли бы в спину по сту ударов сухими воловьими жилами. По окончании свадебных праздников тебе следовало обрить голову и усы, окорнать оба уха и полунагого выгнать батогами вон из хутора.
Я закипел гневом и мщением, хотел тут же броситься на Епафраса, но Король, удержав меня, сказал:
– Чем же виноват этот глупец? Я посмотрю, что с ним делать. Теперь заприте его в чулан, где и пробудет впредь до нового приказания.
Глава X
Благовидный побег
После ночной тревоги я проспал довольно долго. Когда, одевшись, вошел в комнату Короля, то застал его за завтраком. Указав мне пальцем место за столом, он говорил:
– Неон! после всего случившегося с тобою в сем городе, согласись, что оставаться в нем долее было бы весьма опасно. Рано или поздно, а Истукарий тебя достанет, а тогда прощайте усы, нос и уши! Притом же ты в таких летах, что пора вступить на дорогу, ведущую к общей цели человека-гражданина, – к цели быть полезным своему отечеству. Приносить пользу можно бесчисленными образами; но как ты способен к военным подвигам, а притом дворянин, то и должно саблею прокладывать себе стезю к будущему счастию. Время к тому самое удобное. Гетман, согласясь с послами царя российского, положили непременною обязанностию освободить Малороссию из-под ига польского.
Обстоятельство сие не есть уже тайна. Храбрые малороссияне, чувствующие в сердцах своих отвагу пожертвовать жизнию за свободу отечества, толпами стекаются на полях Батуринских и жаждут битв кровавых. Неон! там ожидает тебя или смерть, или слава и счастие! Я буду твоим путеводителем; я сам не усомнюсь вступить в давно забытые битвы и саблею моею прочищу тебе дорогу ко храму славы. Может быть, ты, столько лет видя во мне огородника, считал человеком бедным, питающимся трудами рук своих; нет, я тебе за восемь лет нечто о сем заметил, но ты был слишком молод и не мог понять меня. Так, я столько богат, что, кроме самого себя, могу содержать и тебя в надлежащем довольстве, и сегодня же дом мой и огород со всеми орудиями и плодами дарю таким людям, которые, может быть, чрез сие самое перестанут быть негодяями и ворами, именно – дарю бурсакам. Вот и письменное на это свидетельство, утвержденное ректором семинарии и всею градскою думою. Пойдем к ним!
День был праздничный, и мы застали консула со всем сенатом, окруженного ликторами и целерами. Все несколько смутились, увидя Короля, вошедшего к ним в полном вооружении. Им представился вчерашний замысел загулять в огород его, и они не без причины ожидали сильных упреков, а может быть, чего-нибудь и худшего. Король сказал:
– Друзья мои, бурсаки! Десять лет живем мы по соседству, и вы согласитесь, что в течение сего времени наделали мне тысячу пакостей. Вы не столько крали плодов из моего огорода, сколько портили растений. Я отсюда отъезжаю надолго, а может быть и навсегда. При прощанье хочу сделать вам добро, надеясь, что вы будете это помнить, и не иначе станете кормиться, как честными трудами. Дом мой хотя не велик, но все больше этой хаты, а притом устроен весьма выгодно. На дворе есть сарай, наполненный огородными орудиями, самый огород изобилует плодами всякого рода; все это дарю я вам, всем вообще. Довольны ли вы?
Бурсаки, поражены будучи такою неслыханною щедростию, таким неимоверным великодушием, потупили в землю глаза, наполненные слезами.
Король продолжал:
– Консул, как и ныне, будет иметь главный надзор за новым имением; все же вы, наверное, станете прилежно смотреть за целостию вашего имущества, дабы другие не делали вам таких же опустошений, какие вы мне делали. Вот, консул, возьми сие письменное свидетельство, коим я навсегда делаю всех вас моими законными наследниками, и вот двадцать злотых, на которые завещаю приготовить сытный обед. Через час, или и ближе, я с другом Неоном оставляю город, и вы в то же время можете переселиться в новое свое жилище.
Король умолк. Тут консул Кастор мерными шагами выступил вперед, распрямился и, левую руку приложа к груди, а правую возвыся наравне с головою, произнес:
– Великодушный Король! что мы чувствуем в полной мере раскаяние за причиненные тебе обиды, то видишь ты из глаз наших. Принимаем щедрый дар твой с благодарностию. Если ты отправляешься в путь, то да будет господь бог и к тебе столько милосерд и благ, сколько ты к нам таковым оказываешься!
– Довольно! – сказал с кротостию Король, обнимая Кастора, – и я умоляю бога, чтобы он благоволил внять доброму желанию всей братии. Простите!
Я также с братской нежностию обнял друга юности моей, и мы с Королем вышли из бурсы.
– Теперь надобно еще разделаться с нашими пленными, – сказал старик, – и мы расквитаемся с Переяславлем.
Вступив на двор, я увидел у крыльца два добрых коня в дорожном уборе, а на крыльце сидели шесть вчерашних гостей. По приказанию хозяина, Епафраса первого вывели из заточения. Он сильно переменился в лице; растерзанное женское платье делало его похожим на пугало.
– Сын Истукариев! – сказал Король, – хотя ты и стоишь наказания за соучастие в злом умысле отца своего, но кажется, что ты и так уже достаточно наказан. Покажите мне прочих!
Когда выпустили из сарая трех телохранителей, то мы ахнули. Они были так избиты, измяты, истерзаны, что более походили на теней, вышедших из чистилища, чем на людей православных. Ни одного чуба, ни одного уса не осталось в целости; лица их, испещренные язвами, походили на зрелые мухоморы.
Король, осмотрев каждого порознь, сказал, покачав головою:
– Не рыть было другому ямы! Ступайте к своему пану Истукарию и скажите ему, что видели и слышали.
Бедняки поклонились в ноги великодушному врагу своему и, подобрав остатки висевшего на них женского платья, бросились со двора и пустились по улице.
Король, дав еще денег услужливым крестьянам, велел им идти в корчму и попировать за его здоровье; сам же, сопровождаемый мною, вошел в светелку, пал на колени пред изображениями угодников и начал молиться. Я следовал его примеру. По исполнении сего приятного долга вышли на крыльцо, сели на коней и пустились со двора, а там из города.
Когда мы были от оного верстах в пяти, то дали коням отдых и поехали шагом. Мы продолжали путь свой местами прекрасными, каких я до того времени не видывал. Небольшие холмы, пересекаемые долинами, покрыты были благословенными нивами, и взору представлялось необозримое золотистое море; кое-где по дороге росли вишневые и шелковичные деревья, могущие под тенью своею успокоить усталого путника или хлебопашца. Я любовался сею прелестною картиною и не мог насытить своего зрения; но, взглянув на Короля, с удивлением заметил, что он тяжело вздохнул. На вопрос мой о причине такового уныния при воззрении на смеющиеся виды он отвечал:
– Увы! может быть прежде, нежели трудолюбивый селянин соберет в житницу свою сии плоды потовых трудов его, они будут преданы на жертву пламени или потоптаны конскими ногами и окроплены кровию человеков. Такова всегда участь войны. Необходимость иногда заставит выжечь собственное поле и обрушить свое жилище.
Слова сии разлили уныние и на моем лице. Несколько времени ехали мы в молчании, и наконец я спросил:
– Куда мы едем?
– Разумеется, – отвечал Король, – что я не оставлю сей стороны, не простясь с другом моим Мемноном; но сию околичную и дальнюю дорогу избрал я нарочно для избежания погони от Истукария. Неужели думаешь, что сей надменный пан равнодушно снесет свою обиду, которая и в самом деле не есть мнимая, и простит тебя великодушно за то, что ты ускользнул от него небитый и с целыми ушами и усами? Никак! Если два человека, а особливо когда в сем числе будет женщина, знают какую-либо тайну, то она останется тайною не более суток, хотя бы обнаружение оной влекло за собою беду очевидную; посуди же, могут ли остаться скрытными происшествия в беседке и в моем огороде, где столько народу участвовало? Я уверен, что о сем трубят в целом Переяславле, в домах, на улицах, на базарах и в шинках. Как же Истукарию оставаться спокойным слушателем? Это было бы несогласно ни с его нравом, ни с достоинством дворянина, ни с чувствами всякого отца, справедливо раздраженного! Однако солнце гораздо за половину, и надобно дать коням отдых. До хутора Мемнонова еще не близко, однако же сегодня доедем. Мне довольно знакомы места сии. Кажется, за тем молодым лесом есть деревушка и корчма. Спросим-ка у этого крестьянина, который пашет землю, вероятно, для посева гречихи. Мы поворотили коней с дороги. Крестьянин, который был от нас саженях в двадцати, кинул свой плуг и волов, опрометью бросился к телеге и скрылся за нею. Я хотел спросить у своего спутника, чего сей мужик испугался; но он, усмехнувшись, сказал:
– Я догадываюсь, что это шляхтич.
Минуту спустя последовало превращение. Из-за телеги показался и шел прямо на нас мужчина в синем поношенном жупане; длинная сабля волоклась за ним. Довольно издали он снял шапку, поклонился с ласковою улыбкою и вскричал:
– Добро пожаловать, господа кавалеры! Сердечно жалею, что замок мой не близко отсюда, а время настает полдничать. Во время полуденного зноя я немного уснул, а бездельники, мои подданные, воспользовались сим случаем и разбрелись до одного. Впрочем, господа, если вы чувствуете позыв на еду, то милости прошу пожаловать к моей бричке. Там найдете вы свиное сало, мягче и вкуснее всякого масла, довольное число преизящных луковиц, величиною с рослую репу, и хлеб, какого лучше не ест и сам гетман.
Король, расспросив его о ближней деревне и узнав, что он не обманывается, опустил в карман руку и вынул два злотых, сказав с великою важностию:
– Господин кавалер! просим извинить, что мы у тебя полдничать не будем, ибо спешим к месту, где нас ожидают; однако ж ты представь, что мы поели твоего хлеба-соли, и в знак памяти прими сию малость.
Тут опустил он свои злотые в шапку нового знакомца, а сей, поклонясь учтиво, сказал:
– Ин прощайте, господа кавалеры! Деньги же сии я отдам первому прохожему, который пособит мне сесть на иноходца. То-то добрый конь! Ни у кого из соседних дворян нет подобного.
Он положил деньги в карман и с великою важностию пошел к своей бричке, а мы далее поехали.
– Что за оборотень! – вскричал я, не могши удержаться от смеха.
– Этот бедняк, – отвечал Король, – заражен язвою, которая из Польши перелилась в Малороссию и великое множество крестьян лишила рассудка.
Обработывание отеческих полей показалось им низким занятием. С ущербом большей части имущества каждый из таковых безумцев достал себе какие-то свидетельства на дворянское достоинство – и ходит при сабле; но как терпеть голод никому не хочется, то они, хотя с отвращением, должны обработывать свои нивы, не пропуская, однако ж, случая выказывать мнимое свое благородство. Пробыв в поле или в лесу целую неделю, занимаясь паханьем земли или рубкою дров, в воскресный день таковой дворянин является в церкви при сабле, с закрученными усами; курительная трубка и мешок с табаком заткнуты за пояс, и он выступает как вельможа.
Отдохнув в сказанной деревне, мы пустились в дальнейший путь и еще засветло прибыли в хутор Мемнона и приняты как друзья и родные. Евлалия была очень ласкова, а прелестная Мелитина весела и внимательна к доставлению нам возможного удовольствия. По предварительной просьбе моей Король ничего не говорил сему любезному семейству об истинной причине удаления нашего из Переяславля. К немалому моему утешению, следующие три дни были самые ненастные, и так я беспрестанно имел случай наслаждаться рассматриванием прелестной Мелитины. Я часто бывал с нею один на один, собирался открыть весь пламень моего сердца и всякий раз откладывал до другого времени – непонятная робость оковывала губы мои: я довольствовался смотреть ей в глаза, ловить милую улыбку и восхищаться втайне.
Настало ведро. Ах! какими пасмурными глазами смотрел я на все предметы, освещаемые солнцем. Час отъезда настал. Я проливал слезы, и мне показалось, что и Евлалия и Мелитина несколько раз отворачивались в сторону и утирали глаза свои. В беспамятстве бросился я на коня и, сопровождаемый Королем, выехал из жилища, где оставались все мои радости, все надежды на блаженство.
Часть вторая
Глава I
Пустынник
С самого утра до заката солнечного мы почти не слезали с коней.
– Я решился, – говорил Король, – в этот еще день поспеть в село Глупцово, дабы от Переяславля по дороге к Пирятину быть в таком же расстоянии, в каком были мы, находясь в усадьбе Мемнона. Надобно было ехать обратно почти мимо самого города; но я Истукария не боялся. Если он искал нас столько времени тщетно, то, наверно, теперь оставил уже намерение найти. Мы недалеко от упомянутого села, следовательно, почти в тридцати верстах от Переяславля.
Когда он говорил сии слова, то лошади остановились, подняли уши и попятились назад. Осматриваясь кругом, мы увидели, что под диким вишневым деревом лежал пожилой казак с протянутою рукою.
– Милосердые господа! – говорил он томным голосом, – если в глазах ваших чего-нибудь стоит человек, изувеченный за честь своей отчизны, то не оставьте меня в сем жалком положении без помощи. Взгляните на мои раны и умилосердитесь!
Он хотел было распахнуть грудь, но Король, быстро к нему подъехав, вскричал:
– Не надо! мы не хотим, чтобы ты для приведения нас в жалость растравлял свои раны. Скажи, где и как получил ты оные?
Казак, принеся богу благодарность, что нашел таких великодушных людей, кои, не осмотрев даже и ран его, склоняются на милосердие, сказал:
– Принадлежа, по благости промысла, к сословию дворянства, но не имея никакого имущества, кроме сабли, я вздумал воспользоваться обстоятельствами и пойти в Батурин для присоединения к ратникам гетманским. В одной корчме, недалеко отсюда, столкнулся я с несколькими польскими всадниками. Они стали насмехаться надо мною, и это я снес терпеливо, ибо и в самом деле одет и вооружен был хуже последнего из них. Снисхождение мое, видно, приписали они трусости и вздумали озорничать. Повертывая меня на все стороны, они, будто нечаянно, щипали за волосы, дергали за усы, толкали под бока, словом, старались вывести из терпения. «Правду сказать, – вскричал один из нахалов, захохотав во все горло, – если гетманские витязи все таковы, как сей богатырь, то мы у его высокомочия пострижем лишнюю шерсть, ибо он не что иное, как мохнатый баран». – «Если и так, – сказал я, подняв вверх взъерошенные усы, – что гетман наш есть баран, то в повелениях его находится много волков и медведей, которые в состоянии оторвать головы польским зайцам и лисицам». Такое удачное сравнение их взбесило. Сперва в действии были одни кулаки, а вскоре дошло и до сабель. Не хвастовски сказать, я ратовал храбро, и кровь польская разливалась по полу; но что может сделать самый смелый и сильный медведь против великого множества собак? Они непременно его одолеют. Так вышло и со мною. Супостаты меня обезоружили, изранили и, отняв кошелек, в коем было медными деньгами не менее пяти злотых, вытащили из корчмы и кинули середи улицы. Теперь я по необходимости должен возвратиться на родину; но без помощи милосердых людей не могу сего сделать.
Во время такого плачевного рассказа Король несколько раз опускал руку в карман и вынимал полную горсть денег, но, к несчастью, они все были золотые.
– Неон! – спросил старик, – нет ли у тебя серебряных денег?
– Ты знаешь, – отвечал я, – что они уложены в дорожной суме.
– Как же быть? – сказал он сраженному воину. – Ночь на дворе, и тебе не оставаться в поле. Попробуй дойти с нами до ближнего села; там мы тебя накормим и дадим на дорогу денег.
Больной с благодарностию на сие согласился, кое-как поднялся на ноги и, опираясь на костыль, побрел за нами, Мы нарочно ехали шагом, а иногда и останавливались, дабы не потерять его из виду, и в сумерки прибыли в село, где, остановясь в корчме, заказали ужин и велели хозяину накормить нового нашего знакомца, коему дав, сверх того, несколько злотых, отпустили с миром. Он, пожелав нам за таковую щедрость седмеричного воздаяния от праведного неба, удалился. Мы провели вечерок в разговорах самых разумных и уснули весьма покойно.
Поутру, когда я и Король, сидя у окна в ожидании завтрака, припоминали прошедшее и я собирался уже просить его об извещении меня, кто таковы мои родители и кто он сам таков, вдруг корчмарь ввел старика степенного вида в простом платье. Он поклонился нам со смирением и сказал:
– Мой честнейший пан Урпассиан желает вам здравия и долгоденствия. Он прислал меня просить вас всеуниженно почтить день его рождения и разделить сельскую трапезу.
Мы взглянули друг на друга и не знали, что отвечать посланному от неизвестного пана Урпассиана.
– А кто таков господин твой? – спросил Король, – и почему нас знает, когда мы в первый раз о нем слышим?
– Он вас довольно узнал сего самого утра, – отвечал незнакомец. – Израненный казак, коего вчера призрели вы и облагодетельствовали, случайно прибился к летнему жилищу нашего господина и все подробно рассказал ему.
Этого достаточно было, чтобы тронуть великодушное сердце его, и он тотчас велел мне взять лошадь, скакать сюда и умолять вас не презреть его приглашение. У него лишних людей не будет, а только несколько неимущих братий, которые привыкли посещать его временно и безвременно и которых он всегда угощает с добродушием.
– Но кто он таков, – спросил Король, – и где его жилище?
– Он, – отвечал слуга с тяжким вздохом, – был такой же витязь, как и вы; служил при дворе, сражался и в поле и везде заслужил отличие. Но злобная жена и распутные дети сделали свет для него омерзительным, и он решился остаток жизни провести в уединении и пещись о спасении души своей. Он продал все свое имение и зиму провождает с верными служителями где-нибудь в монастыре, а весну и лето – в садах и рощах. Теперь обитает он в недальней прелестной роще, где и вас нетерпеливо ожидает. Если вам у него полюбится, то можете прожить сколько хотите; если же нужда заставляет спешить куда-либо, то из-за обеденного стола изволите сесть на коней – и с богом.
Он никого не неволит.
Король, подумав несколько, сказал:
– Последнее условие мне нравится, ибо мы и подлинно спешим достичь до назначенного места. Но тебе нас дожидаться долго, ибо обеденная пора настанет не скоро. Поезжай к своему господину, объяви наше почтение и готовность разделить его трапезу, а около полудня приезжай сюда опять, дабы проводить нас.
– Господа! – воззвал слуга, – пока будете вы завтракать, что и я намерен сделать, пока подбреют вам усы и чубы, пока оседлают коней, то будет около полудня, и мы поспеем к Урпассиану в самую пору.
– И то правда, – сказал Король.
Слуга Урпассиана не обманулся, ибо, пока мы собрались, то было уже не рано; итак, не мешкав нимало, мы отправились. Пробыв около получаса в дороге, мы подъехали к дремучему лесу.
– В сей-то роще, – воззвал слуга, – спасается теперь господин мой. Он молится богу, прогуливается, читает душеполезные книги, угощает бедных и странных и не видит, как день проходит за днем. Хотя он довольно достаточен, но с богатыми людьми не ищет знакомства, разве о ком прослышит что-нибудь необыкновенно доброе и великодушное, как, например, о вас. Как же он рад будет, увидя, что вы не презрели его желания и не отреклись посетить его пустыню.
Говоря таким образом, мы продолжали путь, беспрестанно виляя то направо, то налево, ибо ехать прямиком было невозможно по причине густоты леса, переплетшихся кустарников и опрокинутых деревьев.
– Не охотник ли господин твой ходить за дикими зверями, – спросил Король с некоторою досадою, – что забился в такую трущобу? Здесь скорее встретишься с медведем, чем с человеком!
– Слава богу, – отвечал слуга, – мы про зверей не слыхали и живем здесь, как в самой лучшей крепости.
Промаявшись в сем лесу более часа, на каждом шагу защищая лицо, чтоб сучья не выбили глаз, очутились мы у входа в приятную долину, испещренную различными цветами. По одну сторону оной раскинута была просторная палатка при корне древнего развесистого дуба, откуда вытекал источник чистой воды; по другую сторону человек около полусотни нищих и увечных всякого рода сидели кружком на траве, ели и пили. Едва мы, подражая слуге, соскочили с коней и привязали их к древесным ветвям, как показался из палатки пан Урпассиан. Он был пожилой, но крепкий мужчина, одетый в купецкое платье, с полуседою бородою. Подошед к нам быстрыми шагами, обнял обоих с сердечным добродушием и сказал:
– Стократно благодарю вас, что вы не презрели приглашения простого пустынника. Правду сказать, узнав вчерашний добродетельный поступок ваш с раненым земляком нашим, я ожидал от вас сего великодушия; а притом на опыте знаю, что люди, обыкновенно проживающие среди городского шума, находят иногда удовольствие провести несколько часов в старческой келье. Прошу за мною, дорогие гости. По ту сторону палатки, под ветвями великолепного дуба, готовый обед нас ожидает.
Мы сели на траве и начали насыщаться. Как в пище, так и в питье было великое изобилие. Хозяин с минуты на минуту становился веселее и, как приметно было, хотел и нас видеть веселыми. Он беспрестанно потчевал самыми вкусными наливками.
Во время сего лесного пиршества, которое ни в чем не уступало городскому, Король несколько раз заводил речь о таком чудном роде жизни и изъявлял желание знать обстоятельные тому причины; но вежливый хозяин вопросы сии отклонял весьма искусно и наконец сказал с откровенною улыбкою:
– Почтенные гости! хотя я возымел об вас по одному слуху самое доброе мнение, а с первого взгляда полюбил от всего сердца, однако согласитесь, что мы еще не столько знакомы и уверены один в другом, чтобы не было ничего между нами тайного и что прилично только между друзьями, давно испытанными.
Король весьма похвалил такое благоразумие, и мы встали, чтобы поблагодарить бога за дары его. Я чувствовал, что не твердо стою на ногах; голова кружилась, и глаза слипались. Король объявил, что точно то же чувствует.
– Любезные гости, – сказал пан Урпассиан, – прошу не принуждать себя! Я сам привык после сытного обеда несколько отдохнуть, а потому советую и вам подражать моему примеру.
Я хотел что-то сказать, но язык не двигался, ноги поколебались, и я, опускаясь на траву, успел только приметить, что друг мой Король лежал уже растянувшись.
Когда я пробудился и открыл глаза, то удивление было не малое. Густой мрак окружал всю природу; глубокая тишина господствовала; небо усеяно было звездами. Я привстал, перекрестился и начал осматриваться кругом. Скоро я мог уже различать предметы, и прежде всего постиг, к великому ужасу, что сижу в одной сорочке; недалеко от меня храпел Король точно в такой же одежде; на обоих не было даже шаровар и сапогов.
«Что за диковина! – думал я, – неужели заботливый Урпассиан велел раздеть нас почти донага, дабы могли мы спать покойнее? И для чего не прикрыть чем-нибудь? Пора ночная и места лесные». Осматриваясь далее, я ничего не видал, кроме деревьев и кустарников; на месте, где стояла палатка, торчали одни колья. Я в другой раз перекрестился, встал, обошел кругом всю долину, но нигде не видно было ни следа существа живущего.
Облокотясь на пень дуба, служившего мне покровом во время задачливого отдохновения, я силился обдумать все части сего происшествия, и наконец должен был сознаться самому себе, что мы с Королем порядочно одурачены.
«Точно так, – сказал я вполголоса, – вчерашний израненный казак есть не что другое, как мошенник из шайки Урпассиана, который, как по всему видно, есть начальник оной; во время обеда в подносимые нам наливки подмешано было сонное зелье. Пусть я, неопытный бурсак, привыкший видеть всегда открытые лица своих товарищей, мог обмануться в сем случае, но Король, прошедший, по словам его, сквозь огнь и воду, и сам Король также не мог заблаговременно спохватиться!»
В воздухе начало сереть, и холод стал ощутителен; я нарвал несколько охабок травы, прикрыл оною своего спящего друга, и сам, зарывшись в такое же одеяло, с нетерпением ожидал зари утренней. Пение лесных птиц возвестило восшествие на твердь небесную лучезарного светила, и я опять поднялся на ноги. Осматривая вновь пагубное место сие, я увидел на нижней ветви дуба повешенное на нитке письмо. Зная наверно, что оно принадлежит нам, я снял, развернул и прочел следующее:
«Любезные друзья!
Вы зашли в сию прелестную рощу по моему приглашению, так справедливость требует, чтобы я помог вам и выйти из оной. В двух саженях от знакомого вам дуба увидите старую липу; ступайте прямо по направлению от дуба до липы, и вы скоро выйдете из леса, а там достигнете и селения, где за день останавливались. По пробуждении вы найдете себя в такой легкой одежде, что соблазнительно было бы являться на глаза целомудренных женщин; для избежания сего прикройтесь одеждой, которую найдете в дупле упоминаемой липы, где хранится для вас и завтрак. Хотя вы вчера и хорошо покушали, но все-таки не мешает на дорогу подкрепить силы. Видите, как я великодушен! На прощанье даю вам, а особливо тебе, старый фалалей{11}, добрый совет, не быть слишком легковерным и не думать, что накормить голодного и дать ему несколько злотых есть такое великое дело, что слух о нем пронесется до концов вселенныя.
Урпассиан».
Глава II
Новый друг
Когда я кончил чтение сего ругательного письма, то Король чихнул, потянулся и открыл глаза. С удивлением осматривал он самого себя, меня и окрестные предметы. Наконец встал, отряхнулся и, подошед ко мне, спросил:
– Что это значит?
– Не больше и не меньше, – отвечал я, – как что мы оба – набитые дураки.
С сими словами я подал ему письмо. Король прочел и, сердито потирая рукою чуб, произнес:
– Проклятый обманщик! Возможно ли обокрасть так хитро? Он, однако, говорит правду, называя нас дураками, а особливо меня. Куда теперь пустимся без денег, без коней, без оружия?
Он задумался и, с важностию закручивая усы, медленными шагами ходил вокруг дуба. Я машинально следовал по пятам его, и когда Король оглядывался назад, то мы печально смотрели друг на друга и продолжали хранить молчание.
Так прошло около получаса, и друг мой, остановясь, сказал:
– Нечего больше делать! Оденемся в оставленное нам платье и пойдем в село Глупцово. Слава богу, что мы вчера не совсем одурели и не взяли с собой дорожной сумы. Там найдем по паре хорошего платья и несколько сотен злотых. Я найму коня и с половиною денег поскачу в хутор к Мемнону, а ты останешься на месте и меня дождешься.
– Почему же и мне не ехать вместе с тобою? – спросил я торопливо.
– Совсем не для чего, – отвечал он довольно сурово, – ты будешь мне только остановкою в пути; а потом не забудь, что должно ехать почти мимо самого Переяславля.
Я вздохнул и дал согласие терпеливо ожидать его возвращения.
Осмотрев пространное дупло липы, мы нашли, что на связке платья, покрытой древесными листьями и травою, лежал кусок жареной баранины, две булки и щепотка соли, а в углу стояла небольшая сулея с вином. Вынув сей завтрак, вытащили и связку; но кто опишет изумление наше, когда, развернув ее, нашли одно платье монашеское, а другое женское, крестьянское. Мы не могли удержаться от смеха.
– Ах, насмешливый злодей! – вскричал Король, – как мы в сем уборе покажемся в люди? Не сочтут ли нас самих или сумасшедшими, или мошенниками?
– Не лучше ли мы сделаем, – сказал я, приняв вид глубокомысленного, – когда, одевшись и поевши хорошенько, проберемся только до конца сего проклятого леса, а к селу пойдем ночью. Пусть же посмеется над нами один жид с семейством, а не целое селение.
Король похвалил мое предложение, и мы превратились – он в смиренного инока, а я в стыдливую красавицу. Совершив сей подвиг, мы принялись за сулею, булки и баранину, не переставая удивляться своей оплошности и лукавству Урпассиана, который, по всему вероятию, проведав о нашем имуществе от мнимого раненого казака, который в самом деле есть его сообщник, выдумал средство постричь нас в болваны.
Среди сих рассуждений и замыслов о будущем послышали мы невдалеке разные смешанные голоса и вскоре увидели множество людей, прямо на нас бегущих. Они были исправно вооружены, итак, не мудрено, что мы сочли их за разбойников. Когда сии пришельцы нас окружили, то начальник подошел с язвительною улыбкою и сказал:
– Хлеб да соль, честный отче! В какую обитель провожаешь ты эту прелестную девицу? Как же хороша она! какой щегольский чуб! какие нарядные усы! Не хочешь ли, преподобный, прогуляться с нами в город Пирятин, где войсковой старшина давно уже приготовился принять тебя в свои объятия!
– Не для чего, – отвечал Король равнодушно, – мы и без тебя знаем дорогу, которой идти надобно.
– Не упрямься, богобоязненный отшельник, – говорил пришлец, – если не хочешь, чтобы тебя поволокли туда связанного.
– А какими ты нас почитаешь? – спросил Король, взглянув на него сурово.
– Отвечать не мудрено, – сказал тот, – вы мошенники и разбойники, которые прославились во всей здешней округе. Неужели думаете, что, нарядясь не в свои платья, можете обмануть есаула Кошку? Нет, друзья мои! не на такого напали! Полно вам проказничать; пора приняться за покаяние.
Король, видя, что от есаула Кошки не легко отделаться, почел за лучшее рассказать ему обстоятельно случай, познакомивший нас с плутом Урпассианом, а в доказательство истины подал ему письмо. Есаул, с сомнительною улыбкою оборачивая хартию на все стороны, спросил у подчиненных, нет ли кого из них, который умел бы прочесть? К счастию, такой мудрец нашелся, и письмо прочтено во услышание всех.
Есаул долго стоял задумавшись и наконец сказал:
– Очень жаль, если ты говоришь правду и вы в самом деле честные люди; но в этом надобно удостовериться; ибо Урпассиан ваш имеет более сотни имен и столько же разных облачений. Он является поляком, черноморцем, туркою, паном, нищим, молодым человеком, стариком – чем вздумается, – и под сими прикрасами грабит честных людей и веселится на их деньги. Он имеет многолюдную шайку, состоящую из отличных плутов разного рода, которые, по примеру своего начальника, расползаются повсюду, по хуторам, селам и городам, обманывают, крадут и делают бесчинства неслыханные. Если и подлинно вы оба не сего участка люди и одурачены плутом, то стоит вам дойти с нами до села Глупцова, и как скоро там подтвердится, что теперь слышу, то ступайте, куда хотите, а мне придется опять заботиться о поимке мошенника.
– Но как, – возразил Король, – в столь неприличном наряде показаться нам середи дня между народом?
– Если вы честные господа и не скупы, то горю сему пособить можно.
Двух человек из моих подчиненных раздену до сорочки, и в их платье вы можете одеться, а пришедши в корчму, пришлю оное сюда обратно.
Король обещал за каждую пару по два злотых и тотчас получил желаемое; мы переоделись и отправились в село Глупцово.
Прибыв на место, мы многолюдством своим привели всю корчму в волнение.
Жид объявил всенародно, что нас знает, что мы у него ночевали и что ездили куда-то в гости.
– Теперь ясно, – сказал есаул, потирая лоб, – и вы оба свободны; оденьтесь в свои платья, а эти отошлем хозяевам.
Король велел принести дорожную суму, и жид всполошился.
– Как! – воззвал он, повертывая на голове еломок свой, – не вы ли вчера, несколько за полдень, присылали сюда того самого слугу, который с вами отсюда поехал, чтобы он привез вам и суму, у меня оставшуюся?
– Бездельник! – вскричал Король с великим гневом, – как смел ты чужие пожитки отдавать неизвестному человеку без подлинного на то приказания?
– Но он сказал, – продолжал жид, – что вы оба то приказывали! Чем я виноват? Почему мне знать, что человек, с которым вы вместе едете, незнаком вам совершенно?
Король шумел, бранился, грозил; но все взяли сторону жида, а нас единогласно обвиняли в легковерии и глупости. После нескольких споров, упреков, несогласий жид решился дать Королю сто злотых в долг за христианские проценты на шесть дней за тридцать злотых, а я должен оставаться вместо залога. С есаулом Кошкою разделались честно, дали вдвое сверх условленной платы, только бы платья, на нас бывшие, продержать могли целую неделю; а сверх того, как он, так и сопутники его щедро употчеваны.
После сего Король не хотел медлить ни одной минуты; он отсчитал мне двадцать злотых, сел на жидовскую клячу и отправился в путь.
Остаток дня проведен мною очень скучно. Живя в бурсе, а после в доме Истукария, я привык к многолюдству, и оставаться совершенно одному было для меня тягостно; почему на другой день вздумал осмотреть на досуге все окрестные места и попытаться, не открою ли где следов грабителя Урпассиана и не найду ли способа возвратить потерянное. В сем намерении вышел я из селения и побрел куда глаза глядели.