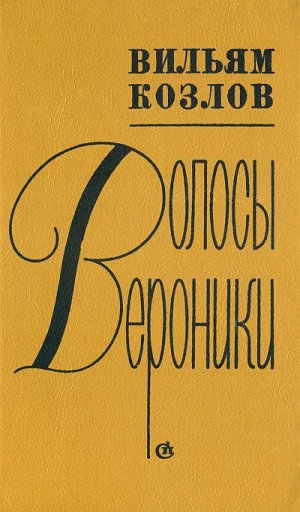
1. Тобик
Он пришел ко мне не сразу, этот маленький, чуть побольше болонки, и похожий на шпица пес. Первое время, когда я проходил по тропинке мимо палисадника моего соседа Логинова, он черным шаром выкатывался из-под крыльца и облаивал меня, как и положено дворовой собаке, бдительно охраняющей дом хозяина. Это даже был не лай, из горла вырывался простуженный басистый хрип с кашлем и чиханием. Было удивительно, как такая маленькая собака может издавать столь необычный звук. Откашлявшись, Тобик, так звали собачонку, поворачивался ко мне спиной и, держа длинный хвост бубликом, степенно удалялся на свое место. Передвигался он тоже не совсем обычно: зад его заносило, как прицеп грузовика на скользкой дороге. Многие собаки, лениво труся, передвигаются как бы боком. Тобик в этом отношении побил все рекорды: он иногда буквально изгибался дугой, будто передние лапы не ведали, что творят задние.
Мой деревенский дом стоял через дорогу от избы Логинова, поэтому я часто видел Тобика, когда он покидал свое крыльцо. Если я не шел по тропинке мимо изгороди — Тобик почему-то эту нейтральную зону считал своей территорией, — он не обращал на меня никакого внимания, его маленькая мордочка была задумчиво устремлена на сосновый бор, окружающий со всех сторон деревню; но стоило мне поравняться с забором, Тобик не спеша спускался по ступенькам и решительно устремлялся в мою сторону. И тогда я слышал басистый кашель. Другие соседи говорили, что Тобик может укусить, но я люблю собак и совсем не боюсь их, а они это чувствуют, — как бы там ни было, но Тобик ни разу на меня всерьез не бросился. Облаивать облаивал, да и то больше по привычке, чем со злостью. Иногда он черным клубком лежал на поленнице дров, это если солнышко пригревало. Как и все деревенские собаки, он предпочитал в основном держаться на своей территории. Правда, стоило его хозяину или хозяйке пойти куда-нибудь по делам, Тобик сопровождал их, но не дальше околицы. Если хозяин звал его, Тобик бежал за ним. Не замечал я, чтобы он ласкался к хозяевам. Держался всегда солидно, с достоинством. Впрочем, в деревнях хозяева не проявляют особого внимания к собакам. Ну и конечно, Тобик в своре деревенских собак не пропускал ни одной собачьей свадьбы. Ростом же он был меньше всех и потому бежал всегда с высунутым язычком позади других.
Я приехал в деревню Холмы в начале апреля, когда еще и скворцов было не видно, но скоро они объявились, и сразу стало по-весеннему весело, шумно. Вдоль палисадника со стороны колодца к жердинам были прибиты три старых скворечника-долбленки. Когда дул сильный ветер, скворечники — они чуть были повыше яблонь — покачивались. У бани, что стояла на пригорке, на двух соснах виднелись средь ветвей еще два скворечника. Все они были заселены. Так по крайней мере мне казалось. На самом деле черные с бронзовым отливом скворцы пока еще своими звонкими песнями радушно зазывали сереньких невест, а те были очень уж привередливы: залетят вслед за самцом в скворечник, осмотрятся и фьють на волю. Не понравилось! И снова бедняга скворец, сидя на кривой жердочке, уговаривает незатейливой песенкой другую самку заглянуть к нему в домик. Как бы там ни было, но к тому времени, когда на огороде взойдут первые бледные ростки, все скворечники оказывались заселенными.
Холмы — небольшая деревушка, домов десять-одиннадцать. Разместилась она в пологой ложбине. И огороды у всех были наклонные. Начнешь поливать из лейки грядки, и вода скатывается на одну сторону. И яблони у всех как бы шагают в гору. Прямо к баням подступал сосновый бор. Два озера были поблизости. В одном, которое видно из окна, нельзя было купаться, да и рыба в нем не водилась, — дело в том, что когда-то тут был смолоперегонный заводик и он за какие-то десять-пятнадцать лет начисто погубил небольшое зеленое озерко. Даже когда мимо идешь, то чувствуется запах мазута. Женщины только в одном месте полощут белье — это где озеро впадает в узенький ручей. Там сделаны клади.
Второе озеро, где расположилась среди высоких сосен турбаза льнокомбината, было не очень широкое, но длинное, с красивыми берегами, заросшими ольхой и ивами. Это озеро чистое, однако рыбы там много не наловишь. Наверное, потому что все отдыхающие приезжали сюда с удочками, а случалось, и с сетями, они-то рыбу помаленьку и выловили. Причем ловят и летом и зимой. Односельчане утверждают, что зимой окуни и плотва берут гораздо лучше, чем летом. Рассказывали, что как-то весной нагрянули промысловые рыбаки и неводом вычерпали всю рыбу: и крупную и мелочь. Черпанули и укатили на двух машинах.
Жил я в старом доме, в основном один, по утрам обычно работал, а после обеда ходил в лес на прогулку, потом занимался разными хозяйственными делами. Километрах в двух от Холмов было еще одно великолепное озеро, местные называли его Голубое, а в справочнике написано: Красавица. Озер в этой местности много, но Красавица отличалась от всех прозрачностью воды с каким-то неповторимым зеленовато-голубым оттенком. Озеро было со всех сторон окружено высокими соснами, берега чистые, небо, облака и деревья отражаются в воде. В будние дни здесь тихо, ни души, а в воскресные и праздничные можно увидеть зеленые и оранжевые палатки по берегам. Лодок нет ни одной, поэтому и рыбаки сюда редко заглядывают. Разве что зимой. Неподалеку от озера проходит железнодорожная ветка. Поездов из-за толстых сосен не видно, но зато слышен нарастающий гул, тепловоза, металлический перестук колес. С сосен и елей слетают в голубую воду сухие иголки. Пройдет поезд, и снова тихо. Я почти каждый день прихожу сюда и подолгу сижу на поваленной сосне, макушка которой утонула в озере. Прямо передо мной расстилается зеркальная водная гладь. Ближе к берегам вода темная, с густой зеленью, а на середине — изумрудного цвета с примесью голубизны. Тихо, не всплеснет рыба, не зашумит камыш. На другом берегу виден бревенчатый навес, под ним можно укрыться от дождя. На навесе сидит сорока и смотрит в мою сторону.
Если и бывают удачные названия, то это озеро полностью соответствовало своему. Красавица. Иначе и не назовешь. Почти каждый день я прихожу сюда и поражаюсь этой торжественной красоте. И думаю, какие подобрать нужно слова, чтобы все это точно описать? Переменчивый цвет воды, полутени береговых сосен, облака над чашей озера, чистый звонкий воздух. Только в одном месте, где проходит граница между двумя холмами, берега немного заболочены и заросли камышом и осокой, а так почти везде к самой воде подступает сосновый бор. Здесь всегда тихо, по озеру не пробегает рябь, даже когда высоко над головой шумят кроны сосен. Ветер щадит эту редкостную прозрачную красоту, и если над озером проплывают облака, то они еще ярче, отчетливее отражаются в зеленой воде, чем в синем небе. Когда над озером облака, то чувствуется полная завершенность в природе. Здесь сосредоточилось все, чем богат наш щедрый край. Красавица — это та самая капля росы, в которой отразилось все своеобразие и неповторимость нашего сложного мира. Только птичий гомон да голос кукушки нарушают торжественную тишину. И, конечно, ровный шум леса. Тот самый мерный шум, сродни вечности, который вызывает в памяти то далекое время, когда на земле не было людей, а над этим озером, если оно сохранилось с тех пор, летали ящеры, в водах его плавали чешуйчатые рептилии.
Уже можно благодарить судьбу, что озеро есть, и ты все это видишь. Я всегда привожу сюда приезжающих ко мне. И никто из них не остается равнодушным к красоте озера.
Какое-то приятное чувство глубокого спокойствия охватывает меня, когда я смотрю на воду. Отступают на задний план житейские заботы, просто сидишь, смотришь, вдыхаешь настоянный на хвое чистый воздух и думаешь о жизни, мироздании, вечности…
И как же я однажды был удивлен, когда увидел на просеке черный комочек, приближающийся ко мне. Это был Тобик. Причем один, без хозяина. Сейчас он держался вполне миролюбиво. Немного не доходя, остановился и внимательно посмотрел на меня маленькими смышлеными глазами. Только сейчас я заметил, что мордочка у него снизу седая. Седые и короткие топорщащиеся усы. Я подозвал его, Тобик, поколебавшись, подошел. Однако, когда я хотел его погладить, — а шерсть у него была длинная и на редкость густая, она так и лоснилась на спине, — песик басисто кашлянул и немного отодвинулся.
Не хочет — не надо, я тоже отвернулся и продолжал смотреть на озеро. Я все ждал: когда же всплеснет большая рыба? Но озеро было безмятежно тихое. Сорока вдруг забеспокоилась, несколько раз скрипуче крикнула и улетела. Тобик проводил ее взглядом и тоже уставился на воду. Я бывал на Черном море и, глядя на воду, подумал, что она сейчас точь-в-точь как морская. Та же густая зелень и прозрачность. Над водой порхали бабочки-лимонницы, в прибрежных кустах верещали птицы, иногда я видел, как они, блеснув на солнце крыльями, ныряли в чащу. Вдалеке куковала кукушка. Что-то слишком рано прилетела она этой весной! Сельские жители говорят, что не к добру: лето будет засушливое. Кукушке где-то поблизости вторил дятел. В печальное протяжное «ку-ку-у!» вплетался дробный деловитый перестук.
Я услышал легкое ворчание: Тобик снизу вверх пристально смотрел мне в глаза, будто приглашая встать и идти домой. Я взглянул на озеро: вода изменила свой цвет. Из морской стала густо-синей, будто в нее чернил добавили. Я еще немного посидел и поднялся, Тобик удовлетворенно кашлянул, мол, рад, что ты меня понял, и, завертев загнувшимся вверх пушистым хвостом, побежал впереди. Здесь по узкой лесной тропе он бежал прямо, не изгибался. Возвращались мы в деревню вдоль лесной просеки, которую прорубают в лесах на случай пожаров. Просека была широкой, но уже успела зарасти маленькими сосенками и березняком. Глядя на молодняк, можно было сразу определить, что березы и осины растут куда быстрее, чем хвойные деревья. Некоторые березки были в два раза выше сосенок. Местность здесь холмистая, и просека то вскарабкивалась на гору, то спускалась в овраг. Мой дом тоже стоял у подошвы холма, а травянистая лужайка круто ползла вверх, где на вершине холма стояла русская баня. Из окна ее открывался красивый вид на загубленное ядовитым заводишком, заросшее по берегам осотом озеро и сосновый бор. Крайние крупные сосны отчетливо выделялись на фоне леса. Чуть правее виднелись кирпичные приземистые корпуса пионерского лагеря «Ленок». Три гигантских вяза у сетчатого забора загораживали спортивную площадку.
С просеки я свернул в лес, наискосок можно было скорее выйти к деревне. Бор был не очень старый и не густой. Старожилы рассказывали, что когда сюда пришли немецкие оккупанты, то буквально через неделю начали планомерно вырубать знаменитый Опухлинский бор. Они привезли механические пилы, заставили местное население работать на лесоповале, быстро организовали распиловку толстых вековых сосен на доски. На станции их грузили на платформы и отправляли в Германию. Немцы уничтожили почти весь лес в округе. До самого изгнания из этих мест они методично пилили и отправляли эшелонами лес в свой ненасытный фатерланд.
Так что теперь лес в округе был молодой. За три с половиной десятка лет после войны сосны высоко поднялись, однако патриаршей могучести в них еще не было. Иногда встречались раскинувшиеся гигантскими шатрами толстые ели, но таких было мало. Под ногами негромко похрустывал мох. Был он здесь и зеленый, и коричневый, и седой. Я уже слышал, что белых грибов поблизости от деревни много не найдешь, а вот сыроежек, волнушек и черных груздей было в избытке. Я, как и все грибники, любил собирать главным образом белые грибы, но бор был что надо. Именно такие сосновые леса с мхами и оврагами любят белые грибы. Недаром их и называют боровиками. Но тут почему-то белые грибы редко попадались.
Тобик неотступно следовал за мной. Иногда сворачивал в сторону, обследовал кусты, задирал ногу. Я задумался: зачем он, такой домосед, забрался так далеко от дома? Уж не затем же, чтобы полюбоваться, как я, на озеро Красавицу? Поди разберись в побуждениях собаки! Ничего путного придумать я не сумел, а маленький черный Тобик разрешить мои сомнения, естественно, не мог.
Так мы молча по лесу дошли до деревни. Из-за сосен показалась крашеная зеленая крыша первой избы, по вспаханной пашне разгуливали грачи, у навозной кучи рылись куры. Тихо в деревне, не видно ни души. Деревенские жители работают кто где: одни обслуживают турбазу и пионерлагерь, другие делают цепи в небольшой мастерской от райпромкомбината, третьи уезжают каждое утро на велосипедах в поселок Опухлики, где расположен санаторий «Голубые озера». Ближайший колхоз, на земле которого мы живем, далеко отсюда, километров за двенадцать. Я уже говорил, что здесь когда-то действовал вонючий смолоперегонный заводик. Он отравлял не только озеро, но и воздух. До сих пор еще сохранились в лесу сосны с подсечкой. Когда-то из них выдаивали в жестяные конусы живицу, из которой гнали на местном заводике скипидар. Сейчас сосны доживали свой недолгий век. Дело в том, что после подсечки деревья хиреют и медленно умирают. Их в первую очередь и спиливали местные лесорубы.
От заводика осталась полуразрушенная круглая кирпичная печь да заросший бурьяном и лопухами пустырь, на котором стояла контора. Деревянные строения разобрали, а вот печь еще до конца не расколотили на кирпичи. От печи к озерку спускалась запекшаяся асфальтовая дорожка. Стоит подойти поближе к берегу, и от кофейного цвета воды в нос ударяет стойкий запах нефти или мазута, который вот уже четвертый десяток лет не выветривается и не исчезает. Женщины сетуют, что, когда полощешь в ручье белье, на простынях и наволочках остаются нефтяные пятна. А скот и собаки охотно пьют воду из озера. У берега приткнулись две-три ветхие лодки. Это не для рыбалки: из своего окна я частенько вижу, как, стоя в лодке, гребет длинным шестом кто-либо из односельчан. Опускает шест в воду, вращает его, затем вытаскивает. На конец наматывается зеленая масса. Это осот, его добывают в озере для свиней, которые его с удовольствием поедают.
Я свернул к дому; к моему удивлению, в калитку прошел и Тобик. Больше того, когда я открыл дверь, он, взглянув на меня, юркнул в сени. В дом же, сколько я его ни приглашал, он не пошел. Задрав маленькую мордочку, выжидательно смотрел на меня острыми глазками и молчал. Деревенские собаки вообще отличаются редкостной деликатностью. Попав на чужую территорию, они стараются стать незаметными, не лезут на глаза, не попрошайничают. Молча пристроятся где-нибудь неподалеку от своего хозяина и ждут, когда он закончит разговор и поднимется. Сами, без хозяев, соседские собаки никогда ко мне не заходят, хотя утром я иногда и обнаруживал на грядках собачьи следы. Исчезали и пищевые отходы, которые я вываливал на кучу у огорода. Эта куча привлекала сорок и сизоворонок. Рано утром, еще лежа в постели, я слышал их сварливые крики, потом легкое царапанье птичьих когтей на крыше. Когда же я открывал дверь, птицы сразу улетали. Ночь — это особое время. Ночью для диких и домашних животных не существует границ, они бродят где вздумается, подчищают от отбросов помойные кучи, случается, охотятся на кротов и полевых мышей, а попадется на глаза заяц, забравшийся в зимний сад полакомиться яблоневой корой, припустят и за ним. Бывает, правда редко, и догонят.
Сельские жители не балуют собак, если и кормят, то раз в день. Тем не менее они рабски преданы своим хозяевам, своему дому. Попробуй подойти к калитке, тут же выкатывается остроухая или вислоухая дворняга с оскаленной пастью и яростно тебя облаивает. Приходится ждать, пока выйдет хозяин. Но стоит тому прикрикнуть, тут же, поджав хвост, исчезает, будто ее и не было.
Поэтому я и был удивлен, что Тобик вдруг так запросто, без хозяина, зашел ко мне в гости. У других собак я таких поползновений не замечал. Ну а гостя следует радушно встретить! Я отыскал для него кое-что повкуснее и протянул. Тобик молча смотрел на меня и не прикасался даже к кусочку колбасы. Я положил угощение на пол и отошел к двери. И тут Тобик удивил меня: он выскочил за порог, отбежал немного, потом лег на землю и, как солдат, по-пластунски пополз. Затем поднялся на задние лапы и, сложив крестом передние, протанцевал передо мною, а потом и вообще сразил меня наповал: подпрыгнул и сделал самое настоящее сальто-мортале. После этого, как ни в чем не бывало, подбежал к еде и без всякой жадности аккуратно все подчистил. Обычно после этого собака смотрит на тебя и ждет, чтобы ей дали еще, даже может слегка повизгивать, Тобик ничего подобного не сделал. Кивнув мне головой, очевидно поблагодарив, он спокойно удалился своей неповторимой походкой. Калитка была закрыта, но он проскользнул в щель между штакетинами.
Уже позже я узнал, что мой сосед подобрал Тобика на станции. Случилось это несколько лет назад. То ли он отстал от поезда, то ли его потеряли. Бывает, собаку выведут на стоянке сделать свои делишки, отпустят, а она и побежит искать укромное местечко. Умные городские собаки никогда не будут пакостить в неположенном месте, а Тобик, чем больше я его узнавал, тем сильнее меня поражал своей сообразительностью и деликатностью, уж и подавно не мог усесться на перроне. И кто знает, может быть его хозяйкой была знаменитая дрессировщица? Иначе где бы он мог научиться прыгать через голову и танцевать?
Его новый хозяин, Константин Константинович, рассказывал, что иногда Тобик сам вдруг проделывает свои фокусы, но, сколько ни уговаривай, если у него нет настроения, ничего не добьешься. Кстати, и меня Тобик довольно редко радовал своим искусством.
Очевидно, раньше его звали по-другому, потому что не сразу откликался на Тобика. Так прозвал его новый хозяин. И сколько лет песику, никто не знал. Раз пасть седая, значит, немало. А породу его определить вообще было невозможно. Кстати, помеси всегда умнее чистопородных, наверное поэтому дрессировщики часто берут в цирковые программы дворняжек.
С этого дня началась наша дружба с Тобиком. Собаки с характером, судя по всему, однолюбы. Если ее потянуло к кому-то, то всю свою привязанность она отдаст этому человеку. О людях такого я сказать не решаюсь… Одним словом, Тобик скоро совсем переселился ко мне. В дом он заходил редко и то после того, как я его усиленно приглашал. Сельские собаки знают свое место, а Тобик уже четвертый год жил в деревне. Да и хозяин его не баловал. Зайдя в комнату, скромно ложился где-нибудь в уголке у порога, чтобы не помешать, упаси бог, и, положив острую морду на лапы, внимательно наблюдал за мной. Брови собирались в бугорки и двигались на лбу, будто сами по себе. Уши у Тобика были висячие, но не очень длинные. Еду он не выпрашивал никогда. Даже когда пододвинешь ему плошку, не сразу подойдет, минуту-другую помедлит. Ел очень аккуратно, без обычной собачьей жадности Остатки пищи не разбрасывал, подбирал. Если попадалась кость, то брал ее в зубы и выжидательно смотрел на меня, дескать, выпусти, пожалуйста, на волю… И там, во дворе, долго терзал ее, а потом закапывал на огороде Спал он под крыльцом, а когда было холодно, забирался в пристройку, где были стружки. Иногда он закапывался весь, торчала лишь черная мордочка.
Сосед Логинов как-то попенял, что я совсем отбил у него собачонку, — я думал, он шутит, но через несколько дней Тобик пропал. И, как обычно проходя мимо соседского дома, я вдруг услышал знакомый жалобный кашель: маленький Тобик, привязанный толстой цепью сидел на крыльце и смущенно смотрел на меня, вот, мол в какую попал историю. Смешно и грустно было видеть маленькую собаку на тяжелой цепи, которую она с трудом волочила по двору. У соседа, видно, не нашлось ничего другого, чтобы привязать. Сначала мне показалось это глупостью, но потом, подумав, я пришел к выводу, что Константин Константинович, в общем-то, прав: какому хозяину приятно, что его собака ушла к другому и не кажет больше глаз домой? Тобик, понятно, не мог объяснить, почему он так поступил.
Как только черный песик снова обрел свободу, он тотчас заявился ко мне. Но моя радость была омрачена: я знал, что хозяин задаст ему взбучку. И тут Тобик повел себя совсем по-человечески, он стал приходить ко мне в то время, когда хозяин был на работе. Константин Константинович работал в мастерской, где изготовляли цепи для привязки совхозных коров на фермах. В обеденный перерыв Тобик исчезал с моего двора, а как только хозяин уходил, тут же заявлялся. Тыкался мне мордочкой в ладонь, вилял хвостом и всем своим существом как бы извинялся, что ему приходится вот так ловчить. Если он раньше мог безмятежно растянуться на стружках и подремать на солнышке, то отныне все время пребывал в беспокойном состоянии, то и дело бежал к калитке, вставал на задние лапы и смотрел в сторону своего дома: не появился ли хозяин?…
Когда я выходил на прогулку, Тобик через деревню за мной не бежал, как раньше, теперь он задами огородов пробирался к опушке, а за околицей присоединялся ко мне.
Я попал в дурацкое положение: сосед явно не хотел, чтобы Тобик был у меня, он даже как-то попросил гнать его со двора, но я никоим образом не хотел обидеть собаку, которая ко мне привязалась, да и что греха таить, и я — к ней. Мне приятно было, проснувшись утром, распахнуть дверь и увидеть у крыльца дожидавшегося меня черного дружка. Я выскакивал на двор и бежал вверх по росистой травянистой тропинке, мимо бани, в перелесок, что сразу за ней, и на дорогу, ведущую на турбазу. Добежав до металлических ворот, я останавливался и энергично начинал делать зарядку. Под птичий гомон. Мое бодрое настроение передавалось Тобику, он бегал вокруг, выискивал палку, таскал ее за собой, грыз, рычал. Потом я умывался во дворе из ведра ледяной колодезной водой, а Тобик чуть в сторонке, чтобы я на него не набрызгал, с любопытством смотрел на меня. И кажется, не одобрял. Я шел в дом завтракать, а Тобик терпеливо дожидался, когда я ему вынесу угощение.
Тобик не только скрашивал мое одинокое существование — признаться, оно меня вполне устраивало, — но и охранял дом. Разумеется, символически, потому что вся жизнь на виду. Купил сосед телевизор — и все в тот же час об этом знают. Начал пилить «дружбой» дрова — все слышат. Кто к кому приехал, тут же известно.
Рыбу поймал сосед — и об этом услышишь от судачивших под окном женщин.
Воров в деревне не было, и даже ребятишки не лазали по садам, потому что у каждого на огороде росли яблони, вишни, сливы, смородина. Нужды не было лазать ребятам по чужим садам, хотя и говорят, что запретный плод всегда слаще. Отдыхающие из санатория иногда проходили мимо по лесной дороге, вот их с удовольствием дружно и облаивали деревенские собаки, чтобы глотки не заржавели, и показать, что они недаром едят скудный хозяйский хлеб.
Я давно заметил, что маленькие собаки, как правило, безрассудно храбры, они с лаем бросаются на людей, могут штанину порвать, не боятся налетать на огромных мрачных псов, которым ничего не стоит такую шавку пополам перекусить. Тобик был храбр и почти никого не боялся. Даже вечно хмурый и злой Дружок Петра Буренкова старался не связываться с Тобиком, а Дружок был признанным вожаком деревенских собак.
Если другие собаки и побывали у меня во дворе, то Дружок ни разу. Когда заходил ко мне рослый розовощекий Буренков, пес оставался за калиткой. Он напоминал разочаровавшегося в жизни скептика. Умей он говорить, наверное, изрекал бы лишь разные гадости. Для интереса я его как-то окликнул, но он, повернув в мою сторону седую угрюмую морду, посмотрел таким неприязненным взглядом, что у меня окончательно пропала охота иметь с ним дело. Безусловно, он был не глуп, держался с большим достоинством, попусту не брехал. К людям относился равнодушно, собак презирал, никогда с ними в компании не бегал по улице, разве что на собачьих свадьбах. Наверное, для хозяина он и был дружком, а для других — нет.
Как ни мил мне был Тобик, но украдкой дружить с ним было неприятно. Я уже знал, что Логинов, увидев Тобика у меня, потом лупил его веревкой. Тобик не визжал, не огрызался, лишь виновато кашлял. Сказать я ничего не мог, все-таки это его собака. И наказывал он песика не потому, что ревновал ко мне, — его уязвляло предательство Тобика. Столько лет жил под крыльцом, охранял дом, изредка развлекал домашних цирковыми номерами и вдруг переметнулся к соседу!.. И я сам не мог понять, чего он вдруг ко мне привязался? У меня мысли не было переманивать чужую собаку! Но и прогнать со двора Тобика я не мог. На его доверие и бескорыстную собачью дружбу я должен был ответить грубостью?
Надо было видеть, что делалось с Тобиком, когда его застукивал у меня Константин Константинович. Тобик весь съеживался, обреченно смотрел на хозяина, вяло вилял хвостом, тяжко вздыхал и переводил взгляд на меня, как бы спрашивая совета: «Что делать? Уходить туда или остаться?» А что я мог ему посоветовать? Я молча занимался своими делами по огороду, старательно отводил от него глаза. Я ему сочувствовал, но помочь ничем не мог. И я и Тобик знали, что ему нынче предстоит порка и, может быть, снова посадят на цепь.
Логинов делал вид, что не замечает Тобика, ничего не говорил, брал воду в колодце и нес ведра на коромысле. Вода выплескивалась и брызгала ему на резиновые сапоги. Тобик понуро плелся к калитке, открывать ее не нужно было, он запросто пролезал между жердин, а то и под калиткой, уходил домой. Худощавое с впавшими щеками лицо соседа ничего не выражало, со мной он всегда был ровно приветлив. Осенью и зимой заходил потолковать о жизни, взять почитать книги. Логинов был мастер на все руки, мог плотничать, разбирался в электричестве, разных моторах. И хозяин был неплохой, держал пчел, фруктовый сад у него был ухожен.
В деревне пили многие, даже женщины. И мой спокойный, рассудительный сосед, когда напивался, становился громогласным, задиристым, мог и подраться, разгорячившись в споре с приятелями. Раз или два он заходил ко мне под мухой, но я ему откровенно заявил, что с ним, с пьяным, мне неинтересно беседовать.
И надо сказать, он перестал навещать меня в подпитии. Вообще-то, по сравнению с другими, он редко прикладывался к бутылке, пожалуй лишь в праздники.
Наверное, Логинов в конце концов и смирился бы, что его пес стал жить на два дома, но скоро случилось такое, что наша дружба с Тобиком безвозвратно лопнула. Причем самым неожиданным образом. И обида его оказалась столь глубока, что мы теперь с ним совсем чужие. Он не видит меня в упор. И сколько бы я ни звал его, он даже не смотрит в мою сторону. И ни ногой ко мне. Когда я пишу эти строки, Тобик стоит у забора своего дома и задумчиво смотрит вдаль, туда, где на бугре возвышаются огромные сосны, спина его прогнулась, хвост завился кольцом. Что там видит Тобик, я не знаю: на бугре пустынно. И на дороге никого нет. Я высовываюсь в окно и ласково зову: «Тобик, Тобик!» Хотя бы голову, чертенок, повернул, кашлянул бы разок — ничего подобного! Стоит как памятник, отлитый из чугуна, и смотрит на песчаную дорогу, над которой плывут, чуть не задевая верхушки сосен, белые кучные облака.
Причиной нашей столь серьезной размолвки с Тобиком стал черный терьер Варден.
2. Варден
Мое детство и юность прошли в городе Великие Луки, поэтому когда я решил купить дом, то сразу подумал об этой местности. Дом я нашел всего в пятидесяти километрах от города. Места мне были знакомы, бывал в Опухликах мальчишкой, да и юношей на своем зеленом мотоцикле забирался я на здешние, когда-то богатые озера. Деревня Холмы мне понравилась. Дом был небольшой: кухня с русской печью и комната, потом я пристроил веранду. Все изнутри обил вагонкой и пропитал олифой. После Ленинграда, где я постоянно живу, меня привлекало, что здесь всего с десяток домишек. И благословенная тишина, которой нам так не хватает в большом городе. Конечно, хотелось бы иметь дом на берегу озера, чтобы, напарившись в бане, голышом в горячем пару выскочить и сразу бухнуться в холодную воду… Озера были, но увы, не рядом. До которого и можно добежать, не окунешься — отравлено мазутом. Да и мелкое, с илистым дном. А другое, у турбазы, — на порядочном расстоянии. Купаться я туда хожу жарким летом каждый день.
В деревне мне хорошо работается. Посидев до двух часов дня за письменным столом и пообедав, я иду в огород, полю грядки, окапываю картошку, потом колю колуном дрова, мастерю в пристройке, оборудованной по соседству с дощатым гаражом. Я думал, буду здесь проводить только летние месяцы, но деревня властно звала к себе, и я стал приезжать сюда и зимой. Сезон открывал в апреле, а уезжал в Ленинград в конце сентября, а если осень была погожей, то и в октябре.
Осенью шастаю по окрестным лесам за грибами. Иногда случается урожай на рыжики, а их собирать в траве так же интересно, как и в бору подберезовики с подосиновиками. Но рыжики не балуют нас, грибников. Пройдет один слой, и все. Кто успел, тот собрал.
Как-то перед самым отъездом из Ленинграда в деревню мне позвонил старый приятель дядя Дима. С моей легкой руки, его все так стали звать, даже те, кто был старше его.
— Хочешь потрясающую собачку? — предложил он. — Тебе там, в глуши, небось скучно одному? С собакой-то веселее…
Признаться, я тогда не помышлял ни о какой собаке. В свое время у меня был великолепный эрдельтерьер, но когда я остался один, то немало хватил с ним лиха. Пришлось отдавать знакомым, потом снова забирать… И после его трагической гибели я дал себе слово больше собаки не заводить. Но прошли годы, и тоска по четвероногому другу нет-нет да и давала себя знать. Особенно я это почувствовал в Холмах. Предложение приятеля застало меня врасплох.
— Какая собачка? — встревоженно спросил я. — Уж не болонка ли?
Болонок и шпицев я не любил. Они чем-то мне напоминали капризных дамочек, наманикюренных, с подведенными тушью глазами. И мордочки у них казались страдальческими. Лай у них нервический, визгливый, потом эта манера вечно карабкаться к хозяевам на колени. Я люблю собак больших, сильных, с независимым характером, умеющих за себя постоять. Отвратителен трусливый человек, но и дрожащая от страха собака вызывает неприятное ощущение. Особенно, если она, чуть что, ложится на спину и показывает всем брюхо Это самая рабская поза у животных, к которой они прибегают крайне редко.
— Не пожалеешь! — басил в трубку дядя Дима. — Пес что надо. Красавец!
— Щенок?
— На нее тут охотников хватает, — продолжал разливаться соловьем приятель. — Я вспомнил, что у тебя был Карай, ну, думаю, дай позвоню… Может, возьмешь?
— Какой хоть породы-то? — растерянно спрашивал я, а мысли роем проносились в голове. «Опять привяжешься, снова будешь таскать ее с собой, отдавать во время отъездов чужим людям, просить их, уговаривать…» — внушал мне трезвый, рассудительный голос, а другой, радостно-возбужденный, нашептывал: «Ничего страшного, в деревне собаке живется вольготно, можно попросить соседа Николая Петровича присмотреть, когда будешь в отъезде…»
«А кто кормить будет? — возражал трезвый голос. — В деревне собак почти не кормят, а когда отлучишься, кому будет охота за твоей приглядывать да еще заботиться?»
«А как приятно будет пройтись с собакой по лесу, станет скучно, будет с кем поговорить… — мягко увещевал другой, предательский. — А зимой? У русской печки? Сидишь на скамейке, подкладываешь поленья, а верный пес лежит у порога и смотрит на тебя умными глазами…»
Конечно, всегда нужно слушаться трезвого голоса, но часто ли мы так благоразумно поступаем?…
— Надо бы на нее посмотреть, — вяло сопротивлялся я, хотя в душе уже готов был взять собаку, уповая на наше исконное русское: авось обойдется!
— Тут у моих ребят фургон стоит, сейчас и привезут… Какой номер дома-то, забыл…
Фургон я встречал у парадной. Живу я в центре, прямо под окнами тянется узкий сквер со скамьями, разделяющий улицу. Тут и выгуливать собаку можно, вечерами я часто вижу здесь разных собак в сопровождении хозяев. Вот и я к ним примкну, пока буду в городе… Странные ощущения тогда я испытывал, меряя шагами зазеленевший скверик. Откуда-то с Московского проспекта — мой приятель работал начальником отдела кадров одного завода — мчался на мою улицу фургон с неизвестной для меня собакой, которая теперь, хочу я или нет, войдет в мою жизнь. Не отправлю же я ее обратно? Меня терзали любопытство и тревога: дядя Дима даже не сообщил, какой породы пес, да и пес ли? Может, сука? Он не разбирался в собаках, но знал мою любовь к ним, помнил Карая. Кого же он мне удружил?…
Когда фургон остановился напротив моего дома и из кабины выскочили двое мужчин, я торопливо подошел к ним. Один из них достал из кармана зеленую книжечку и родословную, другой пошел открывать дверь фургона.
Из машины прямо на асфальт одним махом сигануло огромное черное лохматое чудовище, у которого сразу и не разберешь где голова, а где короткий обрубленный хвост. Если бы чудище встало на задние лапы, то было бы в полтора раза выше меня. Густая свившаяся прядями черно-смоляная шерсть закрывала псу глаза и уши. Виден был лишь большой и такой же широкий, как у теленка, нос. Натягивая брезентовый длинный поводок, так что провожатый припустил бегом, чудовище устремилось в сквер. Подскочив к тополю, задрало курчавую ногу и, чуть повернув огромную лохматую голову в нашу сторону, надолго замерло в типичной собачьей позе.
— Кто это? — ошеломленно спросил я, не удосужившись даже взглянуть на бумаги, что держал в руках.
Наверное, в моем голосе было нечто трагическое, потому что мужчины переглянулись и заулыбались.
— Варден, — ответил тот, что вручил мне документы.
Взглянув на родословную, я прочел: «Варден, кобель, черный терьер, год рождения…»
Вардену было три года. Таких удивительных собак я еще не видел. Чем больше я на него смотрел, тем сильнее он мне нравился. Чудовище! Да он чертовски красив! Просто неотразим. Все пропорции соблюдены, разве что голова чересчур крупная, мохнат, будто в лётных сапогах мехом наружу. По моему первому впечатлению, он был буквально с теленка. Позже такое ощущение исчезло. Конечно, это был на редкость крупный экземпляр, но когда я его постриг — это было уже в деревне, — он более-менее стал похож на собаку. Что поражало — это его длина. Казалось, ему нужна еще пара ног посередине, чтобы держать столь длинное туловище. Однако лапы были мощными, высокими. И что настораживало — это отсутствие глаз. Глаза, конечно, были, большие, карие и выразительные, но они так глубоко спрятались в густой курчавой шерсти, да еще их сверху прикрывала длинная челка, что глаз практически было не видно. А когда у собаки не видно глаз, да еще у такой огромной, то чувствуешь себя как-то не в своей тарелке. Не знаешь, что у нее на уме.
Провожатые на поводке провели Вардена в мою квартиру, привязали к чугунной батарее. Один из них потрогал ее.
— Не сорвал бы, — сказал он. — Он такой, может.
— Дайте ему колбасы! — предложил второй. — Пусть признает за своего.
— Не цапнет? — спросил я, бросившись к холодильнику.
— Варден! — строго сказал провожатый. — Свой, слышишь, свой! — и показал на меня.
Пес поднял голову с длинными, чуть оттопыренными ушами, сплошь заросшими шелковистой шерстью, где-то в глубине курчавой заросли угольками блеснули, как мне показалось, красные глаза. Он молча смотрел на меня. Широкий пупырчатый нос шумно втягивал воздух.
Не буду скрывать, с большой опаской протянул я ему кусок колбасы. Однако Варден неожиданно мягко, деликатно взял с моей ладони угощение. Бывает, собака жадно все хапает так, что опасаешься за пальцы. Варден же проявил некий такт, что меня несколько успокоило. Уже увереннее я его легко потрепал по голове и тут же убрал руку, потому что большущая голова повернулась ко мне, сверкнули ослепительно-белые клыки, а откуда-то из нутра глухо прозвучал предупреждающий рык.
— К вечеру привыкнет, — сказал на прощание провожатый. — Тогда и отвяжете…
— Поставьте воды и пока не отпускайте с поводка, — уже на пороге посоветовал второй. — Может броситься на постороннего.
Я про себя усмехнулся: а кто я для него? Тоже, наверное, посторонний… Мы и часу не знакомы. И еще неизвестно, как дальше пойдет? Будет ли он меня слушаться? Такому гиганту ничего не стоит со мной справиться. Прихватит, и пикнуть не успеешь… От собаки, у которой не видно глаз, вправе чего угодно ожидать: возьмет вот сейчас и кинется на меня. Но Варден и не помышлял об этом, да и в будущем никогда не бросался на меня. Правда, когда он приходил в игривое настроение, то начинал хватать за руки и ноги. В его представлении это была игра, а я потом обнаруживал синяки от соприкосновения с его клыками. Сначала я возмущался, кричал на него, он не понимал и еще азартнее прыгал на меня, приглашая порезвиться. Потом я стал отвлекать его, бросал палку, и он тут же убегал за ней, оставляя меня в покое… Это все было потом, а пока я сидел на ковре напротив огромного пса и задумчиво смотрел на него. Рядом стояли коробки с книгами, мешки — я на днях собирался ехать в деревню. Вот, значит, кого я привезу туда… Я и сам-то редко видел черных терьеров, а уж в деревне и подавно таких собак не видели.
Дядя Дима рассказал мне немудреную историю Вардена.
Пес щенком воспитывался в семье торгового моряка. Хозяин большую часть времени плавал по морям-океанам, а дома занимались собакой жена и сын. Хотя Варден и прошел курс общей дрессировки, рос не очень-то послушным. Наверное, в ту пору нужна была ему твердая мужская рука, его же баловали, все ему спускали. Вырос он сильным, мощным и был очень красив. Когда я его первый раз вывел прогуляться в Ленинграде, одна пожилая женщина с интеллигентным лицом подошла к нам и долго смотрела на черного терьера, обнюхивающего липу в сквере.
— Пес, — сказала она, — знаешь ли сам, какой ты красавец? — И столько было неподдельного восхищения в ее голосе, что я сам по-новому стал смотреть на свое невольное приобретение.
В общем, Варден вырос своенравным, упрямым, мог на улице неожиданно броситься на не понравившегося ему прохожего, и команда «фу!» не могла его остановить. Кстати, когда он вдруг срывался с места, не так-то просто было удержать поводок. Он мог запросто и тебя протащить по асфальту. Приехал хозяин после почти годового отсутствия и с трудом узнал свою собаку: пес вымахал с теленка, у него ярко проявился характер, причем мало подходящий для городской собаки. Пес держался независимо, мог огрызнуться даже на членов семьи. Моряк попытался силой сурово воздействовать на Вардена, но кончилось тем, что тот, рассвирепев, цапнул за руку и хозяина, от которого совсем отвык.
Разгневанный моряк отвел Вардена на то самое предприятие, где работал мой давнишний приятель. Там на охране объектов держали сторожевых собак. Вардена охотно приняли, вид у него, конечно, устрашающий, злости хоть отбавляй, чего еще нужно сторожевой собаке? Но у Вардена не оказалось совсем немногого — желания охранять объекты. Когда его приводили на место, он преспокойно укладывался на травку, а если это была зима, то прямо и на снег, и поднять его можно было только приглашением к обеду. Конечно, если бы нарушитель, скажем, наступил на него, терьер живо бы с ним расправился, но добровольно нести сторожевую службу, как это делали обученные овчарки, Варден не пожелал. Таким образом, он и там не пригодился. Пробовали было учить, но черный терьер упрямо уклонялся от ненужных ему навыков. Вот «сидеть», «лежать», «голос» — это он пожалуйста! Да еще если покажут лакомство.
В три года собака считается вполне взрослой, ее характер уже невозможно изменить, да я перед собой такой задачи и не ставил. Могучий курчавый пес с широченной грудью, высокими лохматыми лапами и спрятавшимися за занавесью извилистых черных прядей влажными глазами мне очень нравился, хотя я смутно представлял себе, как мы с ним будем сосуществовать. То, что в городе, да еще в центре, держать его нельзя, я убедился после первой же прогулки по набережной Робеспьера. Увидев встречную собаку, он с таким остервенением натягивал поводок, что я с шага вынужден был переходить на мелкую позорную рысь, да еще вопить на всю улицу: «Варден, нельзя! Фу, Варден!» Для него это были пустые звуки. Если он приходил в возбуждение и ему приспичило за кем-то погнаться, то нужно было хвататься за скамью в сквере или зацепляться за дерево, иначе чертов пес поволочет тебя за собой, как мешок с отрубями.
Я понял, что нужно немедленно уезжать, иначе я наживу с ним неприятности. В деревне, я полагал, будет проще…
У меня была «Нива», там можно откинуть складывающееся заднее сиденье, в обычной машине Варден вряд ли поместился бы. А если бы и удалось его туда затащить, он черной глыбой нависал бы над тобой, упираясь головой в крышу.
В первый же день Варден показал мне свой характер. От батареи, кстати которую он мог бы без особого труда оторвать от стены, я его скоро отвязал. Ко мне он поначалу проявлял полное равнодушие, хотя и понимал, что еда и прогулки теперь зависят от меня. Я бы сказал, он терпел меня, но слушаться ему и в голову не приходило. Мои команды он выполнял неохотно, всем своим видом давая понять, что он это делает через силу и только за вознаграждение. И очень недоумевал, если ничего не получал. Голос — а это была настоящая иерихонская труба — он подавал более-менее исправно. Собаки, увидев его, жались к ногам хозяев, а я старался поскорее перевести Вардена на другую сторону улицы.
На людей он тоже посматривал как-то странно. Особенно подозрительный интерес у него вызывали прохожие в красных и желтых куртках. Он останавливался и, поворачивая массивную голову, провожал их задумчивым взглядом. Потом, встряхнув головой, будто отбросив досужие мысли, трусил дальше. Я был начеку и всякий раз, когда он тянулся к кому-нибудь, перехватывал поводок поближе к толстенному ошейнику, так Вардена легче было удержать. И все-таки один раз я утратил бдительность: в сквере отпустил черного терьера на всю длину брезентовой вожжи и на секунду отвернулся — и тут же услышал испуганный возглас. Еще с детства мне запомнилась иллюстрация к знаменитой поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»: богатырь с мускулистыми руками борется с тигром, вспрыгнувшим ему на плечи. Нечто подобное увидел и я, обернувшись на возглас. Мой пес прыгнул на капитана инженерных войск, вернее уже положил на него громадные лапы и раскрыл огромную красную пасть с великолепными белыми клыками. Я тут же сдернул его, а капитан — он явно побледнел — стал совершенно справедливо укорять меня, в ответ я лепетал, что виноват, мол, не заметил и все такое. Капитан был мужественный человек, а я подумал, что будь на его месте другой, иметь бы мне уже неприятности с милицией. Кстати, сия чаша меня не миновала, причем буквально на второй же день моего владения Варденом.
Мы ранним утром прогулялись с ним по нашей улице, потом вышли на набережную. Был конец мая, по Неве сновали речные трамваи, пролетали белоснежные катера на подводных крыльях, прямо с парапетов удили безразличные к городскому шуму рыбаки. Над ними кружились чайки. Они садились на парапет, на воду, иногда подплывали к самым поплавкам. Наверное, шла корюшка. День занимался ясный, солнечный. Машина уже стояла у подъезда, я предвкушал, как скоро устремлюсь по Киевскому шоссе на милую моему сердцу Псковщину…
Могучий рывок застал меня врасплох, и я выпустил поводок из рук: Варден бросился вдогонку за пробежавшим мимо человеком в синем спортивном костюме. Тщетно крича: «Варден, фу! Нельзя!», я помчался за ним, но опоздал: проклятый пес бросился на остановившегося спортсмена. Он тут же отпустил, да и я уже ухватился за конец поводка, но нахмуренное лицо коренастого мужчины не предвещало ничего доброго. По виду я бы не сказал, что он сильно испугался. Скорее всего не на шутку обозлился.
— Почему собака без намордника? — сурово спросил он.
Я принялся извиняться, объяснять, что на такую морду не купить намордник. Действительно, я объездил все магазины, самый большой намордник, который я наконец приобрел, с трудом налезал Вардену лишь на черный нос.
— Покажите документы! — не внимая моим оправданиям, потребовал пострадавший.
— Чьи? — удивился я. — Мои или… собакины?
— Где вы живете?
Это уже был форменный допрос, и я, еще раз извинившись, потащил Вардена за поводок. Пес же упирался, оглядывался на спортсмена.
— Он меня укусил, — не отставал тот. Правда, он уже не бежал, а, искоса поглядывая на Вардена, шагал немного позади.
— Надеюсь, несерьезно?
— Если бы серьезно, я его тут же застрелил бы! — гневно заявил пострадавший. — Без намордника, на людей бросается… А кто вы такой?
— Не я же вас укусил? — наконец не выдержал я.
— Попробовал бы, — мрачно усмехнулся спортсмен. — Вы бы уже в больнице лежали!
Больше не разговаривая с ним, я зашагал к своему дому. Варден утратил всякий интерес к пострадавшему, неторопливо трусил впереди.
— Я должен убедиться, что он не бешеный, — продолжал за моей спиной настырный спортсмен. — Я не желаю кончать свою жизнь на больничной койке в страшных мучениях.
— Пес совершенно здоров, — ответил я.
Я поднялся по ступенькам на третий этаж. Спортсмен не отставал. Что-то бубнил в спину, но я не отвечал. Пройдя в квартиру, я хотел было закрыть дверь, но тот придержал ее с другой стороны.
— Он может опять броситься, — показал я глазами на Вардена.
— Документы! — потребовал спортсмен.
Я вынес ему удостоверение и родословную. Тщательно ознакомившись с ними, незнакомец заявил:
— Ваш паспорт!
— Ну знаете… — возмутился я.
— Где вы работаете?
— Нигде! — начиная злиться не на шутку, выпалил я.
— Тунеядец, значит?
— Послушайте, оставьте меня в покое, — взмолился я. — Мне скоро выезжать. Я увожу отсюда эту собаку, больше вы ее никогда не увидите.
— Посмотрите, что он со мной сделал? — спортсмен закатал рукав синей блузы и, оголив мускулистую руку, показал небольшую ссадину, которая даже не кровоточила.
— Пустяк, — успокоил я его.
Но мои слова оказали на пострадавшего совсем обратное действие, он побагровел от возмущения и потребовал, чтобы я немедленно доставил собаку в ветлечебницу, где бы проверили ее на заболеваемость.
— До свиданья, — холодно сказал я и, потеснив грудью стоявшего на пороге спортсмена, попытался закрыть дверь.
— Я требую… — спортсмен с той стороны не давал закрыть дверь. — Иначе я заявлю в милицию! У вас есть телефон?
— Можете позвонить из уличного автомата, — сказал я и захлопнул перед его носом дверь.
Варден сочувственно посмотрел на меня, дескать, вот зануда! Надо было его еще разок цапнуть…
Не прошло и пяти минут, как раздался звонок и ко мне пожаловали сразу трое работников милиции…
Оказалось, мой пес укусил начальника пожарной охраны в звании майора.
Пришлось мне давать объяснения, подписывать протокол, потом везти Вардена в ветлечебницу на Вторую Советскую, в общем выехал я из города лишь во второй половине дня. А путь мне предстоял неблизкий.
Справедливости ради я должен сказать, что брандмайор оказался очень приятным человеком, жили мы с ним в одном доме, только подъезды у нас разные. Он никак не ожидал, что я живу здесь, потому что всех собак знал, а Вардена увидел впервые. Впоследствии мы даже подружились, он интересовался дальнейшей судьбой своего «крестника», как он назвал Вардена. Дело в том, что черный терьер — первая собака, которая его укусила. Егор Васильевич, так звали моего нового знакомого, сам когда-то был собаководом на границе.
Собак любил, и, как ему казалось, они его тоже любили. И вдруг такое… Было, так сказать, сильно уязвлено его профессиональное самолюбие.
В дороге Варден вел себя вполне прилично: он с удобствами развалился позади меня, выспавшись, поднялся во весь свой гигантский рост, сразу загородив заднее окно машины, ткнулся мне в шею холодным носом, дескать, останавливай, надо бы прогуляться…
На свою беду я выбрал красивое местечко с небольшим водоемом. Тогда я еще не знал, что Варден любит купаться. Едва я открыл заднюю дверь, как пес устремился к водоему, недолго думая, бултыхнулся туда и заплавал, пофыркивая от удовольствия, а я с ужасом думал: как мы поедем дальше? Мало того, что измажет все мои вещи и одежду, так еще всю дорогу будет от него нести псиной. Вон какая у него густая, буйная шерсть! Действительно, когда он выбрался на берег, с него потекли потоки мутной с прожилками нефти воды, однако пес был доволен. В довершение всего он плюхнулся на грязную, в пятнах отработанного масла землю и стал кататься по ней, выбрасывая вверх все четыре длинные лапы. Надо было видеть его, когда он подошел к машине, давая понять, что он сделал все свои дела и готов снова занять свое плацкартное место. Пока я раздумывал, что делать, он пригнулся и с маху запрыгнул в машину, из чего я заключил, что ему не чужды такие прогулки.
Раз или два за дорогу Варден скупо выразил мне свои дружеские чувства: поднявшись черной мохнатой горой за спиной, он положил на мое плечо голову и небрежно лизнул в ухо, как бы давая понять, что признал меня. В отличие от других собак, он никогда бурно не проявлял своих чувств: не прыгал на плечи, не визжал, никогда не лаял без толку, не юлил. Подойдет, ткнется широким носом в руку или живот и все. Отдал дань уважения, достаточно. Лишних сантиментов не любил и со стороны людей. Когда мои знакомые начинали ласкать его и называть всякими ласковыми именами, он вздыхал и отходил в сторону, как бы удивляясь человеческой невоздержанности. Впрочем, далеко не каждый решался его погладить, даже когда он в хорошем настроении.
В машине Варден вел себя вполне пристойно, разумеется пахло и псиной, и отряхивался он на меня несколько раз, и во сне сильно бил лапами по сиденью так, что я подпрыгивал. Иногда вставал и, дыша мне в затылок, смотрел в ветровое окно, но не лаял даже на собак, хотя подолгу провожал их задумчивым взглядом.
Начиная от Острова и до Невеля шоссе необыкновенно красиво, особенно в летнюю пору. Гигантские вековые ели и сосны подступают к обочинам, то и дело яркой синью сверкают из-за зарослей ольшаника и орешника большие и малые лесные озера. Асфальтовая серая полоса то взбирается на холм, увенчанный особенно рослыми деревьями, то скатывается в низину. В луговых низинах свежо белеют березы, нет-нет вклиниваются дубовые заросли. Эта постоянная смена лесов, полей, лугов, рек, озер радует взгляд, поднимает настроение. Сколько оттенков у хвойного леса, что опоясывает спокойные лесные озера! То нежно-дымчатые молодые остроголовые елки перемежаются с кружевной зеленью разреженных березовых рощ; то густо-коричневые сосновые боры на глазах меняют свой цвет, становясь нежно-оранжевыми, потом темно-зелеными; вот краски размываются, густеют, местами бледнеют и снова ярко вспыхивают щедрой палитрой, лишь вымахнет из-за белоснежного облака широкий солнечный луч. С вершины холма на миг необозримо открываются голубые, подернутые дымкой дали лесов и озер с отражающимися в них сугробами облаков. Иногда над озером увидишь чаек, вороны и сороки степенно отступают с шоссе на обочины. Бывает, заметишь ястреба над солнечной поляной, а еще реже — цаплю. Смотришь на всю эту переменчивую красоту и думаешь, как прекрасна наша Россия! Действительно, только на ее просторах могли родиться Пушкин, Тютчев, Фет, Есенин! Они глубоко и тонко понимали красоту родного края! И как ее воспели в веках! Конечно, многое безвозвратно ушло в прошлое, почти не встретишь сейчас тех богатых охотничьих угодий с непуганой птицей, не стало дичи, не стало и таких дремучих лесов, по которым пробирался на сером волке Иван-царевич. «Плакала Саша, как лес вырубали, ей и теперь его жалко до слез…» Плачь не плачь, а поредели наши великолепные леса, повывелись в них птицы и звери, исчезает из доступных туристам озер рыба. Хотя и много пишут о сохранении природы, но ни для кого не секрет, что наше зеленое богатство с каждым годом скудеет: тарахтят лебедки, гудят трелевочные трактора, со стоном падают красавицы ели, сосны, березы, осины. «Уходи с дороги птица, зверь с дороги уходи!..» И они уходят, зверь и птица. Что им еще остается? Но хорошо, если есть куда уйти, а если — некуда? Уходят в никуда. А это уже только на нашей совести. Не отстояли, не сберегли…
Я верю, что пройдет совсем немного времени и людям будет дико читать и слышать, что когда-то их предки из огнестрельного оружия убивали беззащитных животных и птиц.
Когда едешь один, хорошо думается. Глаза и руки автоматически выполняют свою работу: глаза оценивают обстановку, руки управляют баранкой.
Я подъезжал к Алоли. Это очень живописное местечко. По обе стороны шоссе вздымались красавицы сосны. Переехал через темную извилистую речушку, в кустах притаились лодки. Все это я вижу с высоты деревянного моста. Помню Алоль мальчишкой. Поселок стоял в сосновом бору. Сейчас и здесь поредел лес, зато появились дома из бетона. Вот ведь какая беда: большие да малые города давным-давно перешли на паровое отопление, а села, деревни до сих пор отапливаются дровами. И не предвидится никаких перемен. Люди, живущие в этих краях, по справедливости считают, что окрестный лес — это их законное топливо. Возле каждого дома, сарая белеют гигантские поленницы свежих березовых и сосновых поленьев. То тут, то там виднеются срубы из ядреных отесанных сосновых и еловых кругляшей. Веками рубили селяне лес, рубят на свои нужды и сейчас. А раз лес свой, под боком, то валят лучший. Кому нужен сухостой и гнилье?
Читаешь в газетах, мол, какие-то изуверы убили в заповеднике белого лебедя или срубили под Новый год в городе на площади молодую серебристую елку, радуешься, что негодяи получили по заслугам, а вот за чертой города жители сел и деревень испокон веку рубят лес, будто так и надо. У меня через дом живет сосед Петя. Где кончаются огороды и стоят бани, есть у нас зеленая лужайка — опушка соснового бора. На лужайке десятки лет стояли шесть великолепных сосен. На чистом месте деревья скорее растут. Как-то приехал весной и вижу: лежат они вповалку на земле, распиленные «дружбой» на мелкие чурбаки. Спрашиваю: «Зачем срубил? Так красиво было! Глаз радовали…» Отвечает: «В сенокос сосны затемняли лужайку, а мы на ней сено сушим». И весь разговор. Стукнуло в голову, мол, мешают — и срубил. Как говорится, и рука не дрогнула. Правда, раньше никому не мешали, ни его деду, ни отцу, а вот Пете вдруг помешали.
Глядя на него, другой односельчанин, Тихон, той же самой «дружбой» свалил три десятка молодых сосен, они, мол, загораживают солнце на картофельном поле…
Что имеем — не храним, потеряем — плачем!..
Считается, что без разрешения лесничества никто не имеет права срубить дерево, но еще не было случая, чтобы кого-либо в нашей местности оштрафовали за беззаконную рубку ценной древесины. Причем наша местность считается курортной зоной. За пять лет я не видел здесь ни разу лесника.
В июне-июле, когда охота повсеместно запрещена, я часто вечером и ночами слышу гулкие выстрелы: бьют уток и утят, еще не вставших на крыло. Несколько раз вскакивал с постели, бежал на озеро, но поди в темноте найди браконьера! Да и послушается ли он меня, безоружного…
И сети никто не ставит в открытую, все в сумерках да тайком. Можно подумать, боятся рыбоохраны, — как бы не так! Боятся воров. Одни браконьеры ставят сети, другие за ними зорко следят из-за кустов, а когда те загуляют у костра с бутылками — какое браконьерство без пьянки! — тихонько подплывают и вынимают сети. Не для того, чтобы сдать в инспекцию, а для того, чтобы через некоторое время поставить в другом водоеме…
Когда я сворачиваю с Невельского шоссе на Опухлики, меня всякий раз охватывает тревога: не порушили ли ту первозданную красоту во время моего отсутствия? Неширокая заасфальтированная дорога идет сквозь высокий сосновый бор. Узкое шоссе делает крутые зигзаги, тут уже начинаются холмы, сквозь кусты просвечивают озера. Одно, второе, третье… А когда тебе перевалило за полвека, начинаешь ценить время и о смерти думаешь как о чем-то неизбежном, к чему, вообще-то, рано или поздно надо быть готовым. Когда размышляешь о смерти, то невольно начинаешь вспоминать всю свою жизнь: что ты сделал? Что создал? Что оставишь после себя? И эти мысли не печальные, отрешенные, а конкретные, сиюминутные. Старики не боятся смерти, иные молят бога, чтобы поскорее послал ее. Я помню свою бабушку Ефимью Андреевну, каждый вечер, становясь на колени перед иконой, она просила божью матерь послать ей легкую смерть. И вставала с колен просветленная и умиротворенная. Помогли ей молитвы или нет, только умерла моя бабушка на девяносто третьем году легко, как заснула. Именно о такой смерти она и мечтала.
Старики не боятся смерти еще и потому, что организм, приближаясь к разрушению, готовит вялый мозг к мысли о неизбежном конце. Русские старики так же спокойно и деловито рассуждают о смерти, похоронах, как иные люди о предстоящем в скором времени отпуске. Они беспокоятся о том, где их похоронят, соберутся ли все близкие родственники, подходящее ли приготовлено смертное одеяние. И многие хранят его в ящике комода. Там и исподнее, и верхнее, и даже черные тапочки. Моя бабушка каждую весну доставала из комода свое смертное и проветривала на солнышке, потом снова заботливо складывала. И на лице ее не было и намека на грусть, лишь повседневная озабоченность.
Я знаю одного человека, который при жизни заказал себе мраморный памятник, правдами и неправдами выхлопотал в Ленинграде место на кладбище, положил на сберкнижку деньги на похороны. Со счастливой улыбкой рассказывал, как ему теперь спокойно и на душе хорошо… Дело в том, что с родственниками он жил недружно и не рассчитывал после смерти на приличные похороны и поминки…
Ему пошел восьмой десяток, мраморный обелиск у него стоит на балконе, накрыт брезентом. Можно подумать, что это выживший из ума старик, мрачный мизантроп. Ничего подобного: он весельчак, жизнью доволен, много работает…
Не доезжая Опухлик, я с асфальта сворачиваю на проселок. Здесь уже сосны и ели совсем близко подступают к колее. В двух местах дорогу прорезают противопожарные просеки. На них хорошо грибы собирать, обязательно что-нибудь найдешь: подосиновик, подберезовик, россыпь маслят, а бывает, и песчаный белый с толстой искривленной ножкой, глубоко зарывшийся в рыхлый песок.
Из-за деревьев появляются высокие синие ворота пионерлагеря, огороженного железобетонными столбами, меж которых натянута проволочная сетка. Отсюда виден мой дом — обыкновенная деревенская изба, сразу за ней дощатый сарай, а еще выше виднеется баня. А дальше за ней смешанный перелесок, крапива вдоль изгороди, дикий малинник. А еще дальше та самая лужайка, обедневшая после того, как срубили сосны, за ней болото и сосновый бор.
Если рыба почти не живет в озерке, что у меня под окном, то лягушек там расплодилось — прорва. Каждую ночь я засыпаю под их музыку. Никогда не думал, что лягушки такие азартные певуньи. Они голосят с сумерек почти до утра. Иногда и соловью сквозь их мощный стон не пробиться со своей звонкой песней. И надо заметить, в лягушачьем кваканье есть что-то музыкальное…
Когда я вижу свой дом, всякий раз мое настроение сразу поднимается, исчезает усталость, хочется поскорее выскочить из машины и прогуляться до озера Красавица. Если в городе время бежит, торопится, не угонишься за ним, если там в любую минуту может зазвонить телефон… то здесь ничего подобного не случается. Тут другой, более замедленный темп жизни, иные заботы. Телефона нет, до Ленинграда ровно 542 километра — я по спидометру замечал, — плохие и хорошие вести сюда докатываются нескоро. Я люблю принимать друзей, но в Холмы приезжают только самые близкие друзья, которым ты действительно нужен, которым и ты всегда рад. Настоящих друзей у нас, к сожалению, не так уж много, и приезжают они не так уж часто. Это тебе не дача под Ленинградом. Но все-таки друзья навещают…
Холмы находятся географически на стыке трех республик: Российской, Белорусской и Латвийской. Например, от моего дома до Езерищей — ровно пятнадцать километров, до первой латвийской деревушки, что за Себежем, что-то около пятидесяти километров.
Наверное, Варден почувствовал, что мы подъезжаем, завозился позади, поднялся и из-за моего плеча стал с интересом смотреть на дорогу. Понимал ли он, что его судьба круто изменилась? Собаки, выросшие в семье, привыкли во всем полагаться на хозяев. Отныне его хозяином стал я. И он это прекрасно понял. Я остановил машину возле ветхих из штакетника ворот, отворил их, осторожно по узкой, сделанной мной, дороге между огородом и домом подогнал ее к гаражу, заглушил мотор.
Что меня поражает в деревне, так это тишина и полное отсутствие людей. Бывает, уезжаю утром — никого не вижу, приезжаю — ни души. И потом, сельских жителей скорее увидишь не на улице, а в хлеву или на огороде, чаще всего я вижу соседей, когда они пасут скотину. А пасут они на лугу перед пионерским лагерем поочередно. Здесь почти при каждом доме корова, пара боровов, у некоторых куры. Несмотря на то что рядом озеро, уток и гусей никто не держит. Нет коз, кроликов. С десяток ульев стоят лишь в огороде у Логинова.
Закрыв ворота, я наконец выпустил из машины Вардена. Он тут же побежал осматривать территорию, а ко мне, радостно виляя хвостом, подскочил невесть откуда взявшийся Тобик. На свою беду он не заметил Вардена, и я не смог предотвратить их встречи: в несколько прыжков Варден подлетел к нам и молча бросился на Тобика. Крошечный песик даже, наверное, толком не рассмотрел эту черную глыбу, нависшую над ним. Слабо кашлянув от ужаса, он юркнул под скамейку, потом прижался к моим ногам, явно ища защиты, но Варден настиг его, и через какую-то долю секунды из красной пасти черного терьера торчали лишь голова и хвост с двумя парами подергивающихся лап бедного Тобика.
Я истошно закричал на Вардена, стал вытаскивать из пасти Тобика. Вообще-то Варден не слишком уж крепко и держал его, вырвавшийся на свободу песик в панике метнулся в лопухи, а Варден стал широкой передней лапой хлопать по разросшимся возле забора лопухам и лебеде, стараясь его оттуда извлечь.
Тобик ужом проскользнул в узкую щель между штакетинами и исчез в соседском огороде. Я видел, как мелькнул он у другого забора, потом перебежал дорогу и лишь у крыльца своего дома обернулся и обиженно заквакал. Это уже был не кашель, а именно хриплое кваканье, отдаленно напоминающее вечерние лягушачьи концерты. А Варден, уже забыв о нем, чертом носился по зеленому лугу, обнюхивал сваленные в кучу дрова, забор, поднялся на черное прогнившее крыльцо бани и оттуда хозяйским оком окинул окрестности. Чувствовалось, что ему здесь понравилось.
Тобик так и не простил меня. Наверное, посчитал предательством, что я привез Вардена. Больше он ни разу не появился на моей территории, даже после того, как Варден впоследствии переменил место жительства. И, встречаясь со мной на улице, Тобик угрюмо отворачивался, делал вид, что мы незнакомы. Спасибо хоть, что не облаивал, гордо обходил меня стороной, не откликался, если я его звал, даже не оборачивался, не принимал никакого угощения. Я для него больше не существовал.
Вардена в Холмах на первых порах не принял никто: ни собаки, ни люди, ни даже коровы. Соседи издали дивились на него, подходить близко никто не решался, спрашивали: и впрямь ли это собака или зверь какой неизвестный? Женщины интересовались, много ли с него шерсти можно настричь. Жена Тихона обещала даже мне шарф связать. Увидев кого-либо у калитки, Варден молча с высоко поднятой головой устремлялся туда и, остановившись, пристально из-под своей лохматой челки вглядывался в человека. На первых порах лаял он редко и скупо. Зато уж громыхнет басом, по лесу эхо пойдет гулять. Люди держались подальше от моего дома. Когда же он бросился и свалил с ног подвыпившего Константина Константиновича, хозяина Тобика, я стал Вардена привязывать. Сначала на брезентовую вожжу, потом на железную цепь, которую дал сосед, но и то и другое могучий пес запросто рвал. Больше того, когда я приколотил большую железную скобу к сараю, а к ней прикрепил цепь с карабином, Варден, бросившись навстречу приехавшему ко мне из Невеля приятелю, вместе со скобой вырвал толстую доску. Силище его я поражался: он мог по траве на порядочное расстояние протащить меня, как на лыжах. Уже потом, когда ему построили на территории турбазы большую будку, Варден во сне вышибал задними лапами в стене толстенные доски-пятидесятку. Собакам, как и людям, снятся разные сны. Вардену, наверное, снилось, что он кого-то преследует: начинает лапами сучить, и доски вылетают из гнезд вместе с большими ржавыми гвоздями, а он даже и не просыпается.
По натуре это был настоящий боец. Он всегда настороже, готов в любую минуту к самым активным действиям. Причем ему все равно, кто это: человек, собака или корова. Подбежит к калитке, остановится и молча смотрит, а сам натянут как струна. Без поводка я не выходил с ним за калитку. Уж если он сорвется с места и устремится на кого-нибудь, его не остановишь. Но бросался он не на всех. Подбежит, обнюхает замершего от страха человека и, оглянувшись на меня, потрусит дальше.
На деревенских собак он производил ошеломляющее впечатление. Их можно понять: ничего подобного ни одна из них со дня своего рождения не видела. Когда я выходил с Варденом на улицу, встречная собака поджимала хвост и с позорным жалобным визгом устремлялась в первую попавшуюся подворотню. И уже оттуда разражалась истерическим лаем. Одна лохматая собачонка, я даже не знаю, чья она, издали увидев Вардена, остановилась как вкопанная и стала смотреть на него. На собачьей морде сменилось несколько самых различных выражений: острое любопытство, потом сильное беспокойство и наконец панический ужас. Собачонка всхлипнула, шерсть на спине встала торчком, зачем-то поднялась на задние лапы, затрясла головой и опрометью бросилась прочь, налетев на ольху, стоявшую на обочине.
Варден же, занятый своими делами, даже не заметил ее. Ко всем собакам без исключения он испытывал презрение. Наверное, оттого, что все почти от него убегали, он, увидев собаку, кидался к ней, пренебрегая всеми собачьими церемониями, сопровождавшими первое знакомство. И если та не успевала удрать, то с ходу оказывалась у него в пасти. К чести Вардена надо сказать, что ни одной собаки на моих глазах он не задавил и не покалечил. Я знал, как он умеет нежно брать руку в свою огромную клыкастую пасть. Я думаю, презирал он собак за их трусость. Не убегай они от него, он бы ладил с ними. Видя бегущего человека, собака не может остаться спокойной, а тут — бегущая собака!
Лишь одна собака в Холмах не убежала от Вардена. Это был Дружок Пети, того самого, который спилил шесть сосен на лугу. Масти пес был пегой, уши торчком, острая морда вся седая, взгляд уклончивый. От сибирской лайки у него было много, но вот охотничьего инстинкта он не унаследовал. Был домоседом, в лесу его никогда не встретишь; а для истинной лайки лес — это дом родной. Когда у меня щенком появился Джим, Дружок любил его унижать: подойдет и рычит. Если щенок не упадет на спину, мог и укусить. Уже став взрослым, Джим стороной обходил Дружка, пока между ними не произошла драка и Дружок не был побежден. С тех пор он старался не встречаться с Джимом.
Однажды Варден, воспользовавшись тем, что калитка была отворена, выскочил за нее и сразу же наткнулся на Дружка. По своей привычке Варден молча и целеустремленно помчался к нему. Дружок остановился — вожаку не подобало на глазах всей деревни праздновать труса — и, повернувшись к Вардену, оскалился. До этого они видели друг друга всего несколько раз. Правда, Варден был у меня на поводке. Обычно одна собака, подбежав к другой и следуя ритуалу, останавливается, начинает осторожно обнюхивать хвост, естественно, и вторая делает то же самое. Так, бывает, долгие минуты и стоят голова в хвост, а уж после этого может случиться драка или наоборот — дружба и игра. Чаще всего, обнюхав друг друга и постояв рядом, собаки восвояси расходятся. Нынче ничего подобного не произошло: налетев черным смерчем на Дружка, Варден сбил его с ног, и тот закувыркался по лужайке. Вмиг утратив всю свою важность и достоинство вожака, Дружок с визгом шарахнулся в подернутое нефтяной пленкой озерко. Ни секунды не раздумывая, вслед за ним плюхнулся туда и Варден. Но Дружок оказался проворнее и быстрее пересек неширокий водоем.
Мне пришлось потом в бане с мылом отмывать с длинной шерсти терьера следы мазута. Дружок больше не проходил мимо моего дома, он избрал окольную дорогу, что за банями и огородами.
Конечно, я пытался Вардена сдерживать, употреблял команды: «Фу! Нельзя! Ко мне!» Он нехотя подчинялся, но, как правило, после того, как уже сделает то, что хотел. Многие соседи его боялись и даже, проходя мимо дома, спрашивали, крепко ли заперта калитка; были, конечно, и неприятности. Шофер лесотехникума Коваль возненавидел Вардена с первого взгляда. У него была маленькая, такая же рыжая, как и он сам, собака, которая всюду сопровождала хозяина. Как на грех, я на лугу отпустил с поводка Вардена, а тут появился на тропинке Коваль со своей собачонкой. Варден бросился к ним, завизжавшая собака забилась хозяину в ноги, а тот стал как вкопанный, побелел весь, рот его открывался и закрывался, но слов я не слышал. Вардена я перехватил, он даже не успел схватить собаку, но Коваль, обретя дар речи, сварливо заявил, что застрелит этого черного дьявола. Жили себе, и вот появилось чудище, теперь не пройти мимо, бросается на всех как бешеный…
Я спокойно заметил Ковалю, что ничего не произошло, а мужчине панически бояться собак не следует, они чувствуют это и могут броситься…
Встреча с коровами для меня и Вардена чуть было не кончилась трагически. Я возвращался с ним из леса, Варден был на поводке. Когда мы вышли к пионерлагерю, я увидел местное стадо коров, штук десять. Коровы здесь ухоженные, упитанные, травы кругом вдоволь, молоко славилось на всю окрестность. Принесет сосед литровую банку, а через час-два уже с палец толщиной отстоятся сливки. Да и сметаны такой, как здесь, в городе на колхозном рынке не увидишь.
Я спокойно шел по дороге к своему дому, как вдруг услышал испуганный возглас мальчишки-пастуха. Оглянувшись, я увидел, как все стадо дружно устремилось на нас с Варденом. Нагнув рога, коровы тяжело сотрясали копытами землю. И в их молчаливом беге было что-то грозное и неотвратимое, как рок. Я стал кричать на них, размахивать руками, пастушонок хлестал по крутым бокам хворостиной, но коровы ничего не замечали, кроме черного лохматого чудища, которого они наверняка приняли за дикого и опасного зверя. И тут сработал их коллективный инстинкт: догнать, забодать, растоптать… Так они лавиной могут катиться на волка или медведя, решившихся напасть на теленка, и горе хищнику, если он не успеет скрыться. Мне надо было бы спустить Вардена с поводка, он тогда лучше бы сориентировался, что делать, но я стремглав мчался к спасительной калитке и тащил его за собой. Истинный боец, почувствовав серьезную опасность, Варден хотел защититься и, по-видимому, защитить меня, но я волок его к дому. Первая же догнавшая нас корова поддела его на рога и перевернула, я слышал, как Варден огрызнулся. За своей спиной я слышал тяжелое молочное дыхание, а совсем рядом маячила черная морда с выпуклыми и печальными, даже в этот напряженный момент, глазами. Не знаю, забодали бы меня коровы или нет, но Вардену уж точно пришлось бы туго. Этот пес не привык отступать, но и справиться с этой тяжеловесной и рогатой компанией, настроенной так воинственно, он не смог бы. Когда его второй раз под зад поддали рогами, я наконец добежал до калитки, отворил ее, втащил огрызающегося взъерошенного Вардена и снова быстро закрыл. Десять дымящихся широких черных носов с крупными раздувающимися ноздрями прижались к вздрагивающим жердинам и с шумом втягивали воздух. Если бы коровы чуть поднажали, забор бы опрокинулся. Но тут уже спешил на помощь с палкой в руках сосед Константин Константинович.
Коров отогнали, но они долго оглядывались на мой дом и протяжно мычали. Кстати, одна из них снова подошла к забору. Варден с этой стороны стал обнюхивать ее. Так они стояли друг против друга, разделенные тонкой оградой, и шумно втягивали воздух, касаясь один другого носами. У Вардена был такой же широкий влажный черный нос, только чуть поменьше. Не знаю, что думала корова, обнюхивая Вардена, — может, у нее недавно отобрали теленка, — только никакой враждебности она не проявляла. Да и Варден с удовольствием втягивал в себя молочный запах и даже лизнул буренку в нос. Потом эта черная с белыми отметинами молодая корова не раз подходила к калитке и нежным мычанием вызывала на свидание Вардена. Если тот не был на цепи, тотчас прибегал, и снова начиналось обстоятельное обнюхивание и тяжкие обоюдные вздохи. Другие коровы не вели себя так.
Правда, после этого кросса по пересеченной местности я старался больше не встречаться с коровами, когда со мной был Варден.
Жизнь большой, сильной собаки с независимым характером сложна. Представьте себе, к вам подойдет пес, и вы не почувствуете, что он понимает, мол, вы и есть пресловутый царь природы. Мало того, в лучшем случае он отнесется к вам как к ровне, а то еще выразит не только полное равнодушие к вам, но и презрение, если вы того в его собачьем разумении заслужили. Не каждому это придется по нраву. Вот от таких людей больше всего и жди неприятностей. Дворняжка никогда не дает вам понять, что не уважает вас, а большой, сильный, чистопородный пес может.
И хотя Варден имел славу сердитого пса, способного покусать человека, пожалуй, он больше пугал. И старался рассчитывать свою силу. А быть строгим, видно, его с детства приучили. Каждому хозяину лестно, что у него есть могучий защитник. Варден страха вообще не ведал. Многие собаки боятся выстрелов, грозы с громом, он на это не обращал ни малейшего внимания.
Мне случалось за некоторые провинности отчитывать Вардена. Он с вниманием смотрел на меня из-за кудрявой занавеси, даже наклонял набок голову, как бы стараясь не пропустить ни одного слова. Уши у него были длинные, лопоухие и свисали до самой бороды. А когда я пытался замахнуться на него или даже чем-нибудь легонько ударить, — правда, это было ему что слону соломина, — он не мог всерьез поверить, что я его воспитываю, и начинал дурачиться, хитроумно решив, что я с ним играю. Хватал меня за лодыжки, так что я вскрикивал от боли, прыгал на меня, ударяя лапами в грудь, и я тут же был вынужден и впрямь все переводить на игру и хвататься за палку, чтобы зашвырнуть ее подальше…
Уже при одном моем возгласе: «Кто там?» Варден решительно устремлялся во двор, лапой распахивая двери, полный желания немедленно разделаться с любым незнакомцем. Например, когда нужно было его выгнать из комнаты — зимой от Вардена изрядно несло псиной, — стоило сурово сказать, глядя на дверь: «Кто там?» — и Варден пулей вылетал, чуть не вышибая дверь. Во дворе, конечно, никого не было. И ничуть не обижался, что его обманули. Наверное, полагал, что таинственный враг успевал куда-нибудь спрятаться. Человеку он верил.
Любопытны были взаимоотношения Вардена с большими животными. После того как нас с ним чуть не забодали коровы, он старался их избегать, потому что стоило коровам его увидать, они устремлялись к нему. И нужно было немедленно прятаться от них. Если Варден и считал унизительным для себя спасаться от животных бегством, то я — отнюдь нет. И мы с ним на пару резво улепетывали под защиту леса или забора. Я впереди, а он, делая вид, что вынужден мне подчиниться, — сзади, поминутно оглядываясь и огрызаясь.
Водил я в Холмах дружбу с молодым мерином Мальчиком. Красивая, гнедой масти, крупная лошадь с длинной черной гривой. Мальчик числился за промкомбинатовской мастерской, на нем пахали огороды, под плуг сажали картошку, возили сено, дрова. Короче говоря, Мальчик обслуживал все население деревни. На выпас вечером его выпускали на большой луг. Вбивали железную трубу, вокруг которой привязанный цепью мерин и пасся до утра.
Всякий раз, выходя на прогулку, я прихватывал с собой несколько кусков хлеба и сахара. Увидев меня с Варденом, Мальчик издавал мягкое грудное ржание — так он приветствовал меня — и, насколько позволяла цепь, приближался. Я сгонял с шеи и крутого крупа слепней, комаров, угощал. Брал он хлеб и сахар своими бархатными губами осторожно, потом благодарно кивал, глядя на меня большими выразительными глазами.
Варден все это время стоял неподалеку и с неодобрением наблюдал за моими действиями. Самое смешное было, когда я уходил дальше по травянистой дороге, поднимающейся на холм, где в чистом поле стояла душистая береза о двух головах, а Варден и Мальчик оставались вдвоем. Мерин не уступал дорогу, а черный терьер не желал сворачивать на обочину. Так и стояли они подолгу, пока Мальчик не принимался вновь щипать траву и не освобождал собаке путь. Варден никогда не лаял на него, что обязательно делал Джим, а Мальчик не нападал на Вардена.
Так мы и жили в Холмах с Варденом. Соседка Нюра перестала ходить ко мне с молоком: ставила кринку на ящик, прибитый мною к забору. Она панически боялась Вардена, хотя на женщин он почти не обращал внимания. Да и не только Нюра, многие перестали ко мне приходить. Лишь сосед Константин Константинович смело отворил калитку и, потрепав пса за холку, решительно направился ко мне. И Варден с тех пор зауважал Константина Константиновича, поворчав для порядка, беспрепятственно пропускал ко мне. И вообще, если я говорил Вардену: «Свой, свой!», он человека не трогал, но люди все равно боялись его и вызывали меня к калитке через забор, что, естественно, не нравилось Вардену.
Он рассорил меня с соседкой Нюрой. Бывало, каждый день приходила ко мне с молоком и подолгу засиживалась, засыпая меня сельскими новостями. Стоит у порога с кринкой, прижатой к боку, и разливается соловьем. Речь ее текла плавно, на нелестные эпитеты односельчанам она не скупилась.
Нюрка могла часами рассказывать про пьяниц. Сама не пила, зато всех пьющих ненавидела лютой злобой, а больше всех своего мужа Николая Петровича, на мой взгляд вполне хорошего, спокойного человека. Выпившим я его видел, но чтобы он был невменяемым — никогда! И я допустил тактическую ошибку: как-то, наслушавшись Нюркиных рассказов, взял его под защиту, сказав, что, по-моему, Николай Петрович вполне порядочный человек, работяга, с утра до вечера крутится по хозяйству и еще работает в мастерской. Он живет через два дома от меня, я видел, как он стучал ступкой о корыто, готовя пойло поросятам, доил корову, кормил кур, летом с лодки добывал в озерце осот для свиней, возил на лошади дрова, косил сено. Одним словом, без дела я соседа никогда не видел.
Жена его, Нюрка, работала в Доме отдыха и возвращалась из Опухлик вечером. Она тут же принималась за дела: тюкала сечкой хряпу, мыла стеклянные банки из-под молока, причем носила их к озеру, таскала воду из колодца, полола грядки.
Когда свое хозяйство и живность на дворе, дело всегда найдется. И летом и зимой Нюрка ходила в синих в обтяжку трикотажных шароварах, женственного в ней мало было. Например, в отличие от соседки Наты — рослой красивой женщины даже в свои сорок пять лет. По-моему, не так работа, как постоянная злость высушила Нюрку. Ругала она всех и всякого. Послушаешь ее, так вокруг настоящих и людей-то нет, как у гоголевского Собакевича. А муж ее мне нравился. Высокий, худощавый, он редко повышал голос, даже когда Нюрка в приливе вдохновения обрушивала на него потоки отменной брани, не гнушалась она и матерных слов. Пронзительный Нюркин голос разносился на всю деревню. Она не стеснялась никого. В упоении своей злостью поносила мужа самыми последними словами. Признаться, я не мог понять Николая Петровича, который все это терпел. По-моему, если он и ругал кого, так это корову. Наверное, срывал на ней накопившееся зло на жену.
Надо отдать Нюрке должное: ругала она мужа, лишь когда он был выпивши, трезвого никогда не задевала. Доставалось от ее ядовитого языка и соседям, с которыми, по ее мнению, пил муж, а иной раз и мне, якобы давшему ему с утра опохмелиться, хотя ничего подобного и не было.
Прекрасная природа, чудные вечера, ясные ночи, хорошее настроение — все это искупало некоторые житейские неудобства. Есть такая старинная русская поговорка: «Собака лает, ветер носит…» Ее мне привел однажды Николай Петрович. Он сказал, что давно уже, второй десяток лет, свято следует этой поговорке, и вот ничего, жив, здоров и разводиться не думает…
Варден очень любил гулять, причем в любую погоду. Трусил впереди меня, часто останавливался и смотрел, иду ли я за ним. Смешно так вытягивал шею, вертел головой. Если не видел меня, то бросался разыскивать. Уткнет нос в землю и бежит. Иногда я прятался за сосной или елью, но он всегда меня находил.
Маршрут у нас был один и тот же: дворами, мимо бани, мы выходили на узкую лесную дорогу. Справа — небольшое болотце с окнами маслянистой воды. Не было случая, чтобы Варден прошел мимо и не принял грязевую ванну. Выбирался он из болота весь заляпанный коричневой жижей. Он вообще ни одной лужи не пропускал: топал по воде, на ходу громко лакал. Вода его притягивала в любое время года. Помнится, раз чуть было в прорубь не полез, да я его вовремя остановил. Лесная дорога скоро выводила нас на более светлый и широкий проселок, ведущий в другой пионерлагерь «Юный строитель», что на озере Жигай. Здесь осенью попадаются грибы. Дойдя до просеки, Варден выжидающе смотрел на меня: прямо пойдем, к Жигаю, или свернем направо к озеру Красавица? И хотя я всегда сворачивал к Красавице, он неизменно повторял этот ритуал. К озеру вела широкая просека, которая то взбиралась на холм, то круто спускалась с него. Наконец начинало поблескивать сквозь ветви деревьев озеро. Оно небольшое, можно с холма все окинуть взглядом. Полная до краев гигантская малахитовая чаша. Береговые сосны и ели опрокинуты в озеро. Кое-где в бор вкрапливаются березы, осины, ивы.
На берегах, как и водится, валялись обрывки газет, ржавые консервные банки. Мне надоело смотреть на это варварство, я нашел подходящую ямку и весь мусор свалил туда. Однако после первых же выходных дней опять ветер гонял меж сосен обрывки бумаги, надувал грязные полиэтиленовые пакеты, поблескивали во мху консервные и стеклянные банки.
Почему люди поступают так? Я убежден, что природа облагораживает человека, делает его лучше. Мне приходилось встречаться с людьми, годами живущими в лесу, на озерах. Это лесники, работники турбаз, домов отдыха. Они нравились мне. Я чувствовал, что они любят природу, заботятся о лесах, птицах, животных, да и сами они в большинстве люди с возвышенными принципами, совестливые, склонные к философскому мышлению.
Я гоню прочь мрачные мысли. Очень уж хорошо вокруг, хочется, чтобы так было всегда. Может быть, если бы все люди почаще сталкивались с истинной красотой, научились понимать ее и ценить, они стали бы добрее, человечнее?
Я смотрю на Вардена: он сгорбившись стоит у самой воды, и с его черной спутавшейся бороды со звоном срываются в озеро большие блестящие капли. Он стоит неподвижно, взгляд его устремлен на ровную гладь. Понимает ли он прекрасное? В том, что он о чем-то задумался, я не сомневаюсь. Раз собака видит сны, почему же она не может думать? Хотя его глаза и прячутся в курчавой шерсти, он видит Красавицу, слышит птичий гомон. И не только видит и слышит, он еще и чует нечто мне недоступное. Легкий ветер принес из леса запахи, которые ему могут рассказать о многом. Я лишь ощущаю запах хвои и прелых листьев. Ну еще пробуждающейся после дождей грибницы. А может быть, все это лишь в моем воображении?
Не хочется мне разбивать малахитовое зеркало, но придется: Варден в болоте испачкался, ему надо выкупаться. Сам он далеко не полезет в воду, нужна команда. Я ищу подходящую палку, а он, наклонив лобастую голову, наблюдает за мной. Он уже знает, что дальше последует. Потому и ждет у воды. Я швыряю палку, кричу: «Апорт!», и мой Варден с шумом бросается в треснувшее озеро. Плавает он неуклюже, черная голова двигается: Варден ищет палку и, как часто с ним бывает, проплывает мимо. Я подаю ему с берега советы, куда держать, он оттопыривает висячее ухо, значит прислушивается, но плывет по собственному разумению Пес он упрямый и не вернется без палки. А если не найдет, то, хитрец этакий, прихватит камышину или водоросль. Красиво смотрится плывущая собака на воде. Дышит он тяжело, с присвистом, иногда хамкает пастью, фыркает. Черная нашлепка носа торчит над водой, коричневые глаза поблескивают в свившейся колечками шерсти. За ним тянется широкий блестящий след.
Мне и самому хочется выкупаться, но вода еще холодная. Открою сезон в июне. Нынешняя весна не слишком теплая. Варден возвращается с палкой. Медленно выбирается на берег, с его блестящих боков ручьями хлещет вода, он сразу похудел, очертился изогнутый хребет, лишь огромная голова поворачивается на мощной шее. Ко мне он палку не несет, а кладет на берег и яростно грызет, — он знает, что эта палка еще не раз полетит в озеро, а купаться ему нынче не очень хочется. Даже и для него вода прохладна. Покончив с палкой, он с озабоченным видом трусит в мою сторону. Я знаю, что сейчас будет, и прячусь за толстый ствол. Варден останавливается и виртуозно с головы до кончика хвоста отряхивается, брызги летят во все стороны.
И почему все собаки любят отряхиваться вблизи от людей?
После купания от приходит в игривое настроение, я это тоже предвидел, и, прежде чем мокрая взъерошенная махина прыгнет на меня и начнет хватать красной пастью за ноги, я швыряю другую палку в озеро. Рефлекс срабатывает мгновенно, и Варден снова плюхается в воду.
Солнце щедро позолотило вершины сосен и елей, облака, будто под прессом, сплющиваются на горизонте, из кучевых превращаются в перистые и поднимаются выше. Птицы перед самым носом перелетают просеку. Это мухоловки, пеночки, трясогузки. На усыпанных желтыми иголками полянках яркой голубизной стреляют в глаза мохнатые подснежники. Их много сортов, вон по краям дороги мерцают синью маленькие цветки, на другой стороне белеют тоже подснежники. Я люблю вот эти, большие, с цветком-колокольчиком, пушистые, все в волосках, будто обросшие белесой шерстью. Я их никогда не срываю, — бывает, подойду, нагнусь, поглажу пальцами, понюхаю и пойду дальше. Цветок родился, чтобы жить на земле, питаться ее соками, тянуться к солнцу, дать семена, а если его оборвешь, то погубишь. Здесь он живет, а дома в вазе с водой медленно умирает. И странно, что многим людям приятно смотреть на умирающие цветы. Раньше я как-то не обращал внимания на то, что взрослые и дети охапками срывают полевые цветы, даже умилялся, вот, дескать, какие они, любят природу, тянутся к прекрасному! А теперь у меня портится настроение, когда я вижу людей с букетами полевых цветов в руках. Сколько красоты погублено! И никогда уже эти цветы не дадут семена.
Обидно, что человек ни в чем не знает меры! И попробуй скажи кому-нибудь: «Зачем вы рвете цветы? Вы ведь их губите!» — на тебя посмотрят, как на ненормального. Наверное, следует писать при входе в лес: «Люди, не троньте зверей, птиц, не разоряйте муравейники! Берегите рыбу в озерах! Пощадите цветы, они тоже любят жизнь, солнце!» Можно и еще придумать, чтобы совесть затрагивало.
Тихо кругом. Вечнозеленые сосны радуют глаз, на березах уже вылупились маленькие листья, а на других лиственных лишь набухли желваками крупные почки. Я вижу, возле толстой березы стоит трехлитровая банка. Кто-то поставил. Не знаю, что на меня нашло, но я подошел к дереву, поднял обеими руками сразу запотевшую от моих ладоней до половины наполненную банку и долго пил сладковатый березовый сок.
Сразу за негустым перелеском находится турбаза «Ленок». Директором там уже второй десяток лет Владимир Анатольевич Закатихин. Родом он из Вологды, жил в Великих Луках, где у него и сейчас семья, но настоящим своим домом он считает турбазу.
Летом на базе всегда шумно, много народу, а зимой тихо, спокойно. База действует круглый год, но зимой посетителей гораздо меньше. В предыдущую зиму я приезжал сюда в конце января, мы с Владимиром Анатольевичем сблизились. Я один, и он один. Волей-неволей мы потянулись друг к другу. Как и всех, его, конечно, заинтересовал Варден. Собак он любил, правда несколько своеобразно, но таких, как Варден, никогда не видел. Первая встреча Закатихина и Вардена я бы не сказал что была дружеской. Черный терьер вихрем налетел на него, свалил с ног — это когда Владимир Анатольевич неожиданно пожаловал ко мне, не предупредив, — но не покусал. Закатихин с самым невозмутимым видом поднялся, отряхнул ватник, подобрал слетевшую зимнюю шапку и, сурово посмотрев на Вардена, веско заметил:
— Не годится, брат, так гостей встречать. Это не по-нашему, не по-вологодски!
Как ни странно, Варден устыдился, понурил большую голову и отошел прочь. Тут ему, конечно, досталось и от меня.
— Зря кричишь, — остановил меня Закатихин, перейдя сразу на «ты». — Такая у него служба. Я виноват, что сунулся без спросу. Понравился мне твой Вардель…
Произнес все это он без улыбки, самым серьезным тоном. Долго он не мог усвоить необычное имя черного терьера. Я, как старый собачник, знал, что весь помет родовитого предка Вардена был назван на букву В. Ну, а бывший хозяин щенка моряк, он и придумал французское Варден, скорее всего производное от исторически известного Вердена.
— А силен, бродяга! — продолжал восхищаться Закатихин и без всякого страха потрепал пса за ухом. К моему удивлению, тот даже не рыкнул, хотя обычно фамильярностей со стороны чужих не терпел. Я так и не понял, зачем ко мне пожаловал директор турбазы: или со мной поближе познакомиться, или на Вардена посмотреть? Дела у него никакого ко мне не было. Разговор, в основном, вертелся вокруг собак. Владимир Анатольевич рассказал, какой у него был замечательный пес, овчарка. Послушный, преданный. Трезор, так звали его овчарку, никого и близко к хозяину не подпустит. А придет он в Опухлики — там находилось кафе, где продавали бочковое пиво, — Трезор усаживается в сторонке и терпеливо ждет своего хозяина. Его все там знали.
Я поинтересовался: куда же подевался столь замечательный пес? Владимир Анатольевич помрачнел, закурил «беломорину» и, помолчав, сокрушенно ответил:
— Как-то уехал я в город, все-таки там семья, а вернулся через день — нет пары лыж с палками, что стояли у крыльца, и… Трезора. Какие-то прохвосты украли.
После того как он нахваливал своего Трезора, мне было несколько удивительно, как это можно украсть с привязи матерую овчарку, причем так преданную хозяину? Но лицо у Закатихина и так было расстроенное, и я не стал выражать свое недоумение. Задумчиво глядя на Вардена, он произнес:
— Вардена не украли бы… Побоялись!
— Чтобы собаку увели с цепи… — покачал я головой. — Это что-то новенькое.
— Слонов из клеток уводят, — невозмутимо заметил Закатихин. — А собака — это пустяк.
— Насчет слонов не слышал, — улыбнулся я.
— В рукавицах можно с любой собакой справиться, — уверял Владимир Анатольевич, как будто он имел в этом деле немалый опыт.
— Ну и что, так и не нашли? — полюбопытствовал я.
— Чего? Лыжи?
— Собаку.
— Слышал, что в Невеле она.
— Забрали бы.
— Все недосуг, да и кто отдаст? Скажет, что его собака, и баста.
— Но она вас сразу узнает! — удивился я.
— Может, уже и забыла, — беспечно махнул рукой Закатихин. — Да я и не знаю, у кого она. А может, и наврали. Каждому на слово верить нельзя.
Хотя он и опечалился, рассказывая о Трезоре, отыскать его, судя по всему, ему и в голову не приходило.
Росту он невысокого, лицо обветренное, нос бугристый и с розовым оттенком, из чего я и заключил, что мой гость любитель выпить, волосы редкие и светлые. На вид ему было лет сорок пять. Когда-то Закатихин прилично бегал, даже был чемпионом области. Слова он произносил не очень внятно, как он сам говорил, из алфавита не выговаривает добрую половину букв. Правда, когда привыкнешь к нему, то скоро не замечаешь, что вместо слова «женщина» он говорит «зенсина», а вместо «самочувствие» — «сюствие».
Я предложил ему пообедать, он не стал отказываться, но скоро поднялся и сказал, что ему еще в мастерской два домика для пчел сооружать. Мне скоро нужно было уезжать в Ленинград, и я посетовал, что хлопотно везти такую большую собаку в машине.
— Засем веси? — сказал Владимир Анатольевич. — Приводи ко мне. Позивет у меня.
Я готов был расцеловать его. Даже когда я вез Вардена сюда, меня грызли сомнения: что я буду делать, когда придется возвращаться в Ленинград? А если вызовут в Москву или еще куда? Черный терьер не пудель или болонка, его не отдашь на время соседу. А Закатихин без всяких предисловий в один миг разрешил мою самую сложную проблему с Варденом.
— У меня тут кое-что из продуктов осталось, — обрадовался я. — Я принесу.
— Вот есе, — отмахнулся Закатихин. — Баловать его… Будет есть, сто и я. У нас тут не город Ленинград, пусть привыкает…
Варден лежал на полу, заняв сразу полкухни, и прислушивался к нашему разговору. Как я уже говорил, он при этом наклонял голову набок, оттопыривал ухо, и вид у него был очень уж уморительный. Такое впечатление, что он участвует в общем разговоре, только в основном помалкивает.
— Собака она и есть собака, — разглагольствовал Владимир Анатольевич. — Ее дело охранять территорию и увазать хозяина. А на базе зимой один, оно, конесно, зуликов-воров вроде не видно, но хозяйство у меня больсое и сторос нузен. Мало ли цево бывает…
И он рассказал, как в Опухликах воры сорвали замок и очистили кладовую с постельным бельем.
— И пришлось выпласивать из собственной зарплаты директору, — заключил он. — А кому это охота — из собственной зарплаты? Была бы собака — побоялись…
Уезжать мне пришлось буквально через неделю после памятного разговора с Закатихиным. На поводке я привел Вардена на турбазу. Находилась она в сосновом бору на берегу озера. Два больших деревянных корпуса и десятка полтора фанерных домиков. Очень живописное место. Перед корпусами разбиты клумбы с розами и тюльпанами, домики стоят прямо в лесу, дорожки усыпаны сухими иголками, над головой стучит дятел. Турбаза на холме, толстые сосны спускаются к озеру. Тут же песчаный пляж, место для купания огорожено, у самой воды большая современная баня с холлом для отдыха, немного в стороне прямо в камышах стоят два гаража для прогулочных катеров. На причале разноцветные лодки. Надо сказать, что хозяйство у Владимира Анатольевича большое и требует внимания. Всей турбазой управляли он сам, помощник, кудрявый Саша, и уборщица Лена. Отдыхающие с льнокомбината приезжали на субботу и воскресенье. Были и такие, кто из года в год проводил здесь с семьей свой отпуск. Столовой тут не было, ее еще не достроили, но приготовить еду можно было на газовых плитах в общественных кухнях. Напротив старого корпуса строился еще один, зимний. Я не понимаю этой тяги всех хозяйственников расширяться и расширяться до бесконечности. Маленькая красивая турбаза постепенно превращается в большое хозяйство. Сосны вырубаются — надо же дома куда-то ставить? — людей начинает приезжать все больше, и постепенно уютный уголок цельной природы на берегу озера превращается в цыганский табор, где шумно и беспокойно. На озере десятки лодок, трещит мотор, на берегу толпятся люди, меж деревьев натянуты веревки с бельем, чадят летние кухни…
И уже нет той былой прелести, когда в лесу стояли с десяток домиков, а на озере рыбачили один-два рыбака. Понятно, льнокомбинат — большое предприятие, и всем хочется отдохнуть на природе, но можно и не расширяться, а построить где-нибудь еще одну турбазу?…
— А как же отдыхающие? — с сомнением спросил я. — Варден ведь такой, может и цапнуть.
— Я его привяжу на цепь, — сказал Закатихин. — Вон там, у моего сарая, где поросята и индюки.
Я был уверен, что Варден еще не успел ко мне привыкнуть, однако когда я, попрощавшись за руку с Владимиром Анатольевичем, собрался уходить, он, натянув цепь, было двинулся за мной. Я даже услышал жалобный вой, пожалуй в первый раз. Варден был мужественной собакой и никогда не унижался до примитивного скулежа. Не успел я отойти от турбазы, как он догнал меня, волоча за собой цепь. Сзади бежал озадаченный Закатихин с доской от сарая в руке.
— Погляди! — восхищенно показал он мне ее. — Вырвал из стены, стервец! Ну и силища!
Мы снова отвели Вардена к сараю. На этот раз Закатихин прибил цепь костылем к стокилограммовой шпале, уж ее-то пес не сдвинет с места.
— Ай здоров! — удивлялся он. — С таким парнем сам черт не страшен! Это надо же балку вырвать! Скажи кому, не поверят…
— Тебя не укусил бы, — сказал я.
— На-а, зри! — сунул Закатихин в пасть Вардену руку. — Я собак не боюсь.
Варден отвернулся от меня и лег на землю.
Уехал я в Ленинград с тревогой в душе. Отсутствовал две недели. За это время успел соскучиться по Вардену, да и мучили предчувствия: не натворил ли он там чего-нибудь? Все-таки на турбазе будут люди, пес необыкновенный, каждому захочется пообщаться с ним, а как он поведет себя?… Да и дети приезжают с родителями. Когда Варден на цепи, он агрессивен, может ребенка напугать.
Варден встретил меня радостно, прыгал, как щенок, на грудь, тыкался мордой в руки, будто ждал угощения, повизгивал, что ему вроде бы было несвойственно. По крайней мере раньше столь бурных чувств ко мне он не проявлял. Я заметил, что глаза его загноились, значит много сладкого съел. Угощали. Потому и ко мне тычется мордой в руку, привык к подачкам. Рядом с сараем стояла большая, под стать Вардену, собачья будка. В ней положен серый войлок. Сразу было видно, что Закатихин хозяйственный мужик. В отличие от коренных жителей, он разводил нутрий, пчел, индюков. За сараем был разбит порядочный огород, там произрастали огурцы, помидоры, садовая земляника. Были парники под полиэтиленовой пленкой. И везде чувствовалась заботливая рука радивого хозяина.
Вот и замечательную будку построил для Вардена, который был привязан не на цепь, а на нейлоновый ремень. В двух местах он был порван и связан узлом. Я знал, что, когда Варден возбужден, он бросается на незнакомца, не обращая внимания на привязь. Обычно если она длинная, то не выдерживает его веса и обрывается. А если привязь выдержит, то не выдерживает скоба или вылетает из гнезда балка, доска. Причем Вардена совершенно не беспокоит сильнейший рывок за шею.
Владимир Анатольевич рассказал, что неприятности поначалу были. Подвыпившие отдыхающие во что бы то ни стало желали познакомиться с невиданным доселе псом. Их предупреждали, что это опасно, но некоторые пренебрегали советом и получали по заслугам. Так что жаловаться было не на кого, разве только на самих себя. Варден оказался отличным сторожем и никого не подпускал к огороду, на котором уже стала поспевать земляника. А желающих ее отведать было много. Тут были сильные ливни, ну он и решил сделать для Вардена будку…
В первый год каждый раз, приезжая в Холмы, я забирал Вардена к себе, таким образом он постепенно привык жить на два дома. И оба добросовестно охранял, но, как я заметил, хозяином признавал лишь меня одного. Закатихин как-то не завоевал его доверия и виноват был в этом сам. Он не смог в себе побороть общепринятого отношения к собаке. Замахивался на Вардена, бил по морде, кричал, — Владимир Анатольевич по натуре был человеком горячим, вспыльчивым и, надо признать, грубым, а Варден этого не любил. Ругань он просто не воспринимал, а когда Закатихин замахивался, он бросался на него, якобы приглашая поиграть. Ему и в голову не приходило, что его кто-то может всерьез ударить. И потом, служба у Владимира Анатольевича была такая, что тому нет-нет и приходилось принять приглашение многочисленных друзей-приятелей, приезжающих на турбазу. А под мухой он становился чересчур говорливым и речь его понять было трудно. По крайней мере Варден его не понимал, а Закатихину именно в такие моменты хотелось продемонстрировать всем свою власть над черным терьером. Он заставлял его выполнять команды, кричал, колотил по хребтине поводком. Варден терпел-терпел, да однажды обозлился и чувствительно хватил директора турбазы за руку. Надо отдать должное Владимиру Анатольевичу, он нашел мужество признать свою вину в этом неприятном инциденте и на Вардена не рассердился. Да и вообще он был незлопамятным.
Была и такая история: на турбазу приехал на своей машине какой-то инженер отдохнуть на субботу и воскресенье. Он еще не слышал про Вардена, а черных терьеров вообще не видел. Поставив машину неподалеку от сарая, он вышел из нее, размялся и только тут обратил внимание на будку и… черную болонку, как он утверждал впоследствии. Дело в том, что Варден почти весь находился в конуре, наружу высовывалась лишь курчавая голова, на которой и глаз-то не видно. Он сладко дремал на солнышке.
— Надо же, Закатихин завел болонку, — приговаривал инженер, беззаботно подходя к будке. Он как-то не оценил размеры болонки и будки. Подойдя вплотную, уже было нагнулся, чтобы потрепать мнимую болонку, как Варден проснулся, зарычал и стал проворно вылезать из будки. И когда вместо безобидной комнатной собачонки — а его голову и впрямь можно было принять за свернувшуюся в клубок болонку — оттуда, как железнодорожный состав из туннеля, вылез весь Варден, инженер побелел, в ужасе попятился, упал на спину, тут же вскочил и с воплем бросился к своей машине. Никому больше не сказав ни слова, он тотчас уехал с турбазы. И уже позже как-то позвонил Закатихину и стал выяснять, что это у него за чудовище появилось?
Когда я поздней осенью уезжал на несколько месяцев в Ленинград, я окончательно передавал Вардена Закатихину. В общем-то, псу на базе жилось не так уж плохо, а летом так просто рай. Привык черный терьер ладить и с Владимиром Анатольевичем: не обижался на его брань, изобилующую крепкими словечками, на безобидные шлепки, которых он и не чувствовал. Из Ленинграда я звонил на турбазу, интересовался, как там поживает Варден, а когда приезжал, привозил ему кое-какую еду. Упитанным я Вардена никогда не видел. Он всегда был поджар, строен. Благодаря густой красивой шерсти незаметно было, что он худ и костляв. Зимой у Вардена аппетит был отменный, а летом, хотя я его и стриг, было ему жарко, чувствовал себя вялым, мало ел, зато выпивал по ведру воды в день. Закатихин часто уезжал по делам в город, и если уборщица Лена не сварит крупяную похлебку с остатками прошлогоднего сала, то пес, случалось, и сутки сидит голодный. Сначала он гордо молчал, но, как говорится, голод не тетка, научился даже среди ночи поднимать с постели вернувшегося из города хозяина и требовать еды. К опоре крыльца была прибита лысая деревянная голова с длинными пеньковыми усами. Когда Закатихин на месте, на голову надета его шапка, когда отсутствует — а по службе ему каждую неделю приходилось отлучаться в город, особенно в зимнее время, — лысая голова без головного убора. Заскучавший на привязи Варден иногда начинал облаивать эту лысую голову.
Стоило мне появиться на территории турбазы, как Варден поднимал оглушительный лай, в котором были особенные радостные интонации, предназначавшиеся только для меня. И я знал, что пес соскучился, ждет, когда я его отвяжу и мы пойдем на прогулку. Без приглашения сам никогда не приходил ко мне. В этом отношении черный терьер соблюдал какую-то свою собачью этику: если его отпустил с цепи Закатихин, значит, он должен находиться на турбазе. Там он и бегал, справлял свои дела, спускался к озеру, прибегал к Владимиру Анатольевичу домой.
Мои дела иногда так складываются, что я не имею возможности каждый день с ним гулять, тогда через два-три дня с турбазы слышится характерный басистый лай, обращенный ко мне, дескать, друг ситный, что же ты позабыл про меня? Давай приходи, жду…
Бывало и так: приеду на машине в Холмы, пока разгружусь, то да се, — а из Ленинграда я, естественно, везу щедрые гостинцы своему любимцу, — он каким-то непостижимым образом узнает обо мне, и тогда я снова слышу знакомый радостный с привизгиванием лай, да и Закатихин по этому лаю узнает о моем приезде. А турбаза находится метрах в трехстах от моего дома. Как он узнает? Уж не по шуму ли мотора? Так на базу приезжают десятки машин.
Поначалу Закатихин говорил, что он «ревнует» меня к Вардену (ударение в этом слове он почему-то ставил на первом слоге), потом смирился и ничего не имеет против, когда я отвязываю пса и беру с собой на прогулку. После этого час-два он погостит у меня. На моей территории подбежит к калитке и бухнет густым басом на всю деревню раза два, мол, знайте все, что пришел я — хозяин! Я его покормлю. Тут тоже не обходится без своеобразного ритуала: я должен несколько раз протянуть руку к миске и сказать: «Возьму, возьму!» Варден повернет большую голову, блеснет из дебрей черной шерсти карими глазами и свирепо зарычит, глядя мимо меня. После этого спокойно и деловито начинает есть. Со двора он сам не уйдет никуда. Когда ему надоест бродить, придет в сени, уляжется возле двери и всякий раз вскакивает, когда я открываю дверь. Это делается тоже не без умысла: лишний раз напомнить о своем присутствии не мешает… Глядишь, и что-нибудь вкусное достанется. Сладкое Варден любил, возьмешь конфеты с собой, так не отвяжется, пока все не скормишь. За это он охотно выполнит все команды.
В дом я его не всегда пускаю, потому что от мокрых огромных лап и испачканной в похлебке бороды остаются следы. Варден старается так стать у двери, чтобы любыми правдами и неправдами, когда она откроется, проскочить туда первым. Я оттесняю его боком, он в свою очередь бодает меня, стараясь просунуть в щель голову. В квартире он ведет себя вполне пристойно, правда, если стол накрыт, то его любопытная голова нависает над тарелками. Со стола без спросу никогда ничего не возьмет, будь хоть там нарезанная колбаса. Будет голодный, но ни до чего не дотронется.
Зато его бойцовская натура не раз доставляла мне лишние хлопоты: стоило кому-либо пройти мимо забора, как он срывался с места и, не разбирая дороги, мчался к калитке. По грядкам, по саженцам. А каждая его лапа оставляла глубокие воронки в рыхлой земле. Грядки расползались. И сколько я ему ни объяснял, что этого делать нельзя, вот она, тропка, по которой все ходят, Варден не мог себя переделать. Он бежал защищать хозяина, дом от мнимых врагов. Наверное, так понимал он свой собачий долг. И удивленно смотрел на меня, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, мол, чего это я разоряюсь? Он делает свое дело, и нечего на него кричать. А может быть, хозяин поиграть хочет?…
По-моему, он вообще не ведал угрызений совести. Такой мощный пес практически не имел врагов в деревне. Четвероногие собратья все без исключения боялись его и избегали, так что ему приходилось общаться лишь с людьми, да и то далеко не со всеми. У Вардена не было подобострастия к «царю природы», он считал себя по меньшей мере равным человеку. Люди ведь тоже разные: кто смело подходил к нему, того он уважал, кто трусил — презирал.
Его симпатии и антипатии были мне непонятны. Одного человека он мог подпустить к себе, даже разрешить погладить по холке. На турбазу часто приезжал на синем с белым пикапе Вадим Снегирев, рослый сильный мужчина с залысинами. Он сразу подошел к Вардену, и тот, обнюхав его, к моему удивлению, положил огромную голову Вадиму на колени.
А вот шофера Коваля и Нюрку не терпел. Тут следует сказать, что и Коваль и Нюрка не были лучшими представителями рода человеческого. Коваль не раз грозился застрелить Вардена, а соседка столбом замирала на дороге, увидев черного терьера даже на поводке. Но, наверное, не только это определяло отношение Вардена к людям.
Тут, в деревне, все и всё друг про друга знают. И оценивают тебя таким, каков ты есть. Так, про Нюрку и Коваля никто хорошего слова не скажет. А Вадима Снегирева уважают все здесь, на турбазе, и в городе, где он работает заместителем директора большого завода.
Удивительно, как собака способна отличать хорошего человека от плохого? Может, по запаху?…
Варден — добрый пес по натуре. У Закатихина были индюки. Среди них выделялся красавец индюк Гоша. Раздувая зоб и тряся лысой головой с красной висюлькой, он близко подходил к Вардену, лежащему возле своей роскошной будки под высокими соснами, и принимался гневно булькать, в чем-то обвиняя находящегося в полудреме пса. Варден не обращал на него никакого внимания, даже когда Гоша, успокоившись, начинал сизым клювом долбить глубокую миску с остатками еды. Но задиристому Гоше и этого было мало, качая головой и тряся красным наростом на шее, он сзади подходил к Вардену и выщипывал у того длинную шерсть. Иногда Варден делал вид, что ничего не замечает, но если обнаглевший индюк делал ему больно, не оглядываясь и не изменяя позы, задней лапой небрежно отпихивал его. Этого было достаточно, чтобы Гоша, перекувырнувшись через голову, рябым снарядом отлетал к навозной куче. Выразив бульканьем свое негодование, Гоша гордо удалялся на мозолистых ногах, а Варден задумчиво смотрел на ульи, вокруг которых жужжали пчелы.
Пчел он стал побаиваться с тех пор, как одна из них, изловчившись, ужалила его прямо в нос. Закатихин чем-то потревожил улей, вот пчелы и рассердились. Надо было видеть черного терьера, что с ним стало! Он лупил себя лапами по носу, визжал, лаял, потом вскочил с места и стал гоняться за летающими пчелами, стараясь схватить их на лету пастью. И с того раза всегда с неодобрением провожал взглядом Закатихина с дымокуром, направлявшегося к ульям, а сам забирался в будку и, если раздавалось характерное жужжание рассерженной пчелы, закрывал чувствительный к укусам нос лапой.
Пострадал однажды от пчел и Гоша. Любопытный до невозможности, он как-то близко подошел к улью, и пчелы вдруг атаковали его. Одна ужалила в лысую голову, другая в диковинный нарост на клюве. Обезумевший индюк взлетел выше деревьев и плюхнулся в озеро далеко от берега. И тут, удивив всех присутствующих при этом, загребая мощными лапами, поплыл к другому берегу, то и дело окуная ужаленную голову в воду.
То, что индюк летает, еще не так удивительно, но то, что он оказался хорошим пловцом, всех поразило.
Огромный Варден старался как можно аккуратнее ходить возле будки, чтобы случайно не задавить маленьких индюшат, копошащихся рядом. Бывало, когда он лежал, развалившись на земле, они забирались на него и что-то искали в густой длинной шерсти. И пес терпел, не трогал малышей.
Я знаю, что Варден всегда ждет меня… Иногда подает с турбазы голос. Басом по-особенному ухнет раз-другой, понятно: приглашает в гости… Издалека высматривает меня, увидев, начинает обрубком хвоста вертеть, повизгивать. Того и гляди, привязь оборвется или скоба выскочит из стены сарая. Когда Варден приветствует меня, он после каждого взлая будто в такт переступает передними лапами. Гавкнет — переступит, гавкнет — переступит. Красиво он смотрится между красноватых стволов сосен с высоко поднятой головой и посверкивающими сквозь дебри курчавой шерсти карими глазами. Они у него большие, чуть влажные и добрые.
И надо было видеть, как этот огромный пес по-щенячьи радуется свободе, носится по лесу. Я вижу огромный черный силуэт на фоне бора. Над ним вьется мошкара, но ему нипочем: густая шерсть надежно его защищает от кровососов. Увидев меня, встряхивает головой и, хлопая ушами, снова устремляется вперед.
Я люблю смотреть на него, когда мы гуляем.
3. Хитроумный Джим
Много собак я повидал на своем веку, а такую вот встретил впервые. Да и сама встреча с Джимом была не совсем обычной. Я как-то в августе ехал на машине из Ленинграда к себе в Холмы. Было тепло и солнечно, и скоро лобовое стекло залепили разбившиеся мелкие насекомые. Над пустынным шоссе сугробами громоздились облака, на обочинах сидели сороки, вороны, ласточки иногда проносились перед самым радиатором. Им нравилась эта игра со смертью. Я стал озираться, выбирал сворот с шоссе, причем такой, чтобы вел к водоему. Было это за Лугой, где-то на границе Ленинградской и Псковской областей. Увидев впереди подходящий съезд с небольшим прудом неподалеку, я притормозил и съехал с шоссе. После шума мотора, свиста ветра в боковое окно я какое-то время наслаждался тишиной. В перелеске попискивали птицы, над смешанным лесом замерло одно-единственное облако, от которого падала тень прямо в заросший по краям кувшинками и осокой пруд, на вид не очень чистый. Мне захотелось броситься на зеленую лужайку, вытянуться и бездумно смотреть в знойное небо. Громоздившиеся на горизонте облака куда-то исчезли. Небольшие сиреневые стрекозы перелетали с кувшинки на кувшинку; когда я подошел к пруду, от берега не спеша ушел в чайную глубину небольшой тритон. Еще какие-то букашки серебристой россыпью сыпанули с осоки на гладкую поверхность. Я намочил тряпку и уже хотел было пойти к машине, как увидел посередине пруда на черной осклизлой коряге серый шевелящийся ком. Сначала я подумал, что это какая-нибудь водяная зверюшка вроде нутрии или ондатры. Но зверюшка повернула круглую ушастую голову в мою сторону и жалобно тявкнула. Это был примерно двухмесячный щенок. Каким образом он очутился здесь, в пруду, на неблизком расстоянии от деревни? Может, хозяин принес сюда весь помет и утопил? А этому повезло, чудом выкарабкался из мешка и выплыл? Об этом можно было только гадать. У щенка — он походил на овчарку — были такие жалобные глаза, которых он не спускал с меня, а толстые лапы так трогательно обхватили сучковатую корягу, что я, не раздумывая, стал снимать с себя одежду. Пруд был грязный, однако глубокий. Я подплыл к коряге, протянул руку, щенок будто только и ждал этого: сам оттолкнулся от коряги и поплыл ко мне. Видя, что он умеет плавать, я повернул к берегу, щенок — за мной. Выйдя из воды, я повнимательнее осмотрел его. Довольно упитанный; но больше всего меня поразили его глаза, они смотрели прямо в душу. Были они светло-карие, почти желтые, по-человечески умные. Уже потом, когда он вырос, я убедился, что его взгляд не каждый мог выдержать. «У него взгляд как у человека! — удивлялись мои знакомые. — Даже неприятно…»
В Холмах меня ждал Варден, по которому я успел соскучиться, щенок мне совсем был не нужен. Я решил подвезти его до первой деревни и там выпустить. Найдутся добрые люди, подберут. На вид щенок был очень симпатичный: пушистый, лапы толстые, мордочка смышленая. И этот проницательный взгляд. Я так и сделал. Остановился у последнего дома, вынес щенка из машины и поставил на обочину. Он удивленно посмотрел на меня и обидчиво тявкнул, — щенок явно не понимал, почему я его здесь высадил? Подбежал ко мне, поднялся на задние лапы и преданно лизнул руку.
Я со вздохом сел в машину и поехал. Щенка я вытащил из пруда, а на душе что-то было не радостно. В зеркало заднего обзора я увидел, как серый пушистый мячик что есть духу припустил вслед за машиной. С обочины он перешел на асфальт. Бежал он, смешно раскидывая толстые лапы и высунув красный язычок. Уши поднимались и опадали. Наверное, он тявкал, потому что маленькая пасть открывалась и закрывалась. Я прибавил скорость, щенок сразу отстал, но продолжал бежать, не отрывая взгляда от машины. Скоро он слился с дорогой и я потерял его из виду. Проехав с десяток километров, я все еще явственно представлял себе, как он, маленький, беззащитный, бежит по кромке шоссе, а совсем рядом проносятся огромные рычащие машины… Его укоризненные желтые глаза с упреком смотрели мне прямо в душу…
Резко затормозив, я развернулся на шоссе, пропустив два встречных КамАЗа, и, терзаясь сомнениями — не попал ли щенок под колеса? — помчался назад. Я увидел его на обочине, он бежал мне навстречу. Увидев мою васильковую «Ниву», он сразу узнал ее, остановился и, смешно присев на задние лапы, раскрывал и закрывал маленькую розовую пасть, очевидно радовался, что я вернулся за ним. Лая из-за шума мотора я не слышал. Я взял его на руки и посадил на сиденье рядом с собой. Иначе я поступить не мог. В благодарность за это щенок облизал мне руки и, прижавшись к моему колену, сразу же уснул.
Вот таким образом Джим оказался у меня. Он сам меня нашел на почти пятисоткилометровом отрезке шоссейной дороги Ленинград — Киев.
Уже потом я не раз думал: лучше бы я тогда не останавливался у того заросшего ряской, грязного придорожного пруда…
Любая собака неумолимо входит в жизнь человека, если он взял ее к себе. Бывает, мужчина и женщина проживут вместе десяток-два лет, а потом навсегда расстанутся и станут чужими. Собака для человека никогда не станет чужой, даже если ты с ней расстался. Конечно, есть люди, которые, подержав в городе собаку, потом, когда она становится для них помехой, с легким сердцем продают ее или усыпляют в ветлечебнице. Таких людей мало. Это жестокие, безжалостные представители людского рода, лишенные многих важных человеческих чувств. По экранам прошел фильм «Белый Бим Черное ухо». Мы видели, какие встречаются на пути преданной собаки разные люди. Равнодушные, подлые, жестокие, симпатичные. И ведь хороших, добрых людей гораздо больше! Умная собака может у любого человека пробудить самые лучшие чувства, я бы даже сказал, сделать его лучше, благороднее. Да и глупая собака не принесет вреда. Она будет в меру своих возможностей любить хозяина, будет предана даже плохому человеку. Так уж устроена собака: человек для нее все. Собака служит человеку и не требует за это никакой платы. Служит искренне, до конца, готова за него жизнь отдать. И надо быть очень плохим человеком, чтобы этого не чувствовать. Есть и хорошие люди, которые не любят собак. Но это от незнания их. Стоит собаке появиться в доме даже убежденного противника животных, и он скоро полюбит ее и не захочет ни за что расстаться.
Среди людей искреннего преданного друга не так-то просто найти, любая собака может стать другом даже для человека с очень трудным характером. Собака не только преданна, но благородна: она прощает людям любые их недостатки, слабости. И никогда не предаст. До самой своей смерти. К сожалению, мы, люди, не всегда можем похвастать такими качествами.
Джим мне был не нужен. Больше того, я не хотел к нему привыкать, не хотел, чтобы и он ко мне привык. Все равно ведь придется осенью отдавать его кому-нибудь до будущего лета. Я не имею возможности постоянно жить на одном месте. Меня в любое время могут вызвать в Москву или Ленинград. Такая моя профессия. И я должен буду, все бросив, поехать, а в доме больше никого нет, с кем бы я мог оставить собаку. Вардена я пристроил, и, кажется, удачно. А кто возьмет на время Джима? У деревенских свои собаки, и чужаки им не нужны. Но Джим жил у меня, и я чувствовал себя ответственным за его дальнейшую судьбу.
Осенью забрал его мой самый близкий друг, артист Калининского облдрамтеатра Николай Бутрехин. Раньше он никогда не держал собак, но, приехав ко мне в отпуск, полюбил Джима и решил взять его с собой в Калинин. Конечно, я не возражал. За месяц в Холмах и Джим привязался к Николаю.
Мы оба были уверены, что это овчарка. Однако уши у Джима поднялись лишь до половины, хотя по окраске он был вылитой овчаркой. Мы заглядывали в книги, спрашивали людей, дескать, когда же встанут торчком уши у нашего Джима? Говорили нам разное, но уши не вставали да и все тут. Правда, иногда на время вставали торчком, когда он лежал на боку. Но он и с полустоячими ушами был на редкость симпатичным.
Все разъяснилось, когда мы привели Джима в ветлечебницу, чтобы зарегистрировать и сделать ему укол против чумы и бешенства. Ветврач авторитетно заявил нам, что уши у Джима никогда не встанут, потому что он помесь. Не чистая овчарка, разве мы этого сами не заметили? У овчарки совсем другой экстерьер. Помесь овчарки и гончей. Лицо у моего друга стало удрученным, он мне рассказывал, что в их доме на улице Горького трое держат породистых собак: сенбернара, лайку и колли. Он представлял себе, как будет гулять по набережной Волги, а собаки будут носиться по берегу и играть на пустынных пляжах… Примут ли породистые с родословной псы в свою компанию дворнягу? И кто из нас знал, что Джим со временем по сообразительности и уму заткнет за пояс своих высокородных братьев?… Врач заверил нас, что расстраиваться не стоит, потому что Джим симпатичный смышленый пес и еще доставит владельцу немало радости.
С унылой физиономией уехал в Калинин мой друг. Да, Джим на перроне Московского вокзала теперь выглядел в наших глазах не овчаркой, а дворнягой. Казалось, все смотрят на нас и думают: «Чего это они таскают на поводке обыкновенную лопоухую дворняжку?» Гончак подарил Джиму в наследство длинные ноги, узкую грудь и висячие уши. А овчарка — все остальное: окрас, острую морду, пронзительный умный взгляд.
Я сразу стал настраивать Джима, что его хозяин отныне Николай. Тот больше ходил с ним в лес, начал понемногу дрессировать. Джим был настолько послушный и понятливый пес, что просто поражал нас. Как говорится, все схватывал на лету. За неделю он уже научился выполнять команды: «сидеть», «лежать», «стоять», «голос». Даже мог ползать по-пластунски. Своего воспитателя он буквально ел глазами и старался все сделать как можно лучше, рад был во всем угодить. Просишь одну лапу, он сует тебе сразу две. Эта его черта меня немного настораживала. Мои чистопородные псы хотя и не были такими понятливыми — учеба им давалась нелегко, — зато не угодничали, не лезли из кожи, чтобы ублаготворить хозяина. А, скорее, наоборот, старались уклониться от занятий, срывались с места и мчались куда-нибудь подальше от площадки со снарядами. Не нравилась мне и привычка Джима, когда его за что-либо отчитывали, падать на спину и раболепно сучить лапами. Это уже было чистое плебейство!
Но все эти мелкие шероховатости искупал жизнерадостный, веселый нрав Джима. Он рос добрым, полным искренней любви к человеку щенком. Любовь он излучал ко всем людям без исключения, что тоже меня настораживало. Стоило кому-либо к нам даже случайно зайти, как Джим с визгом — он почему-то долго не желал лаять — бросался к пришедшему и проявлял столько радости и дружелюбия, что становилось неловко. Николай ревновал его к другим, пробовал отучить от этой привычки, но все было напрасно. Неистребимую любовь к людям Джим пронес через всю свою жизнь. В любой обстановке он быстро ориентировался. Находил даже общий язык, если можно так выразиться применительно к собаке, со всеми животными, будь то взрослый пес или корова. Поначалу он бросался за курами, индюшками, но скоро понял, что этого делать нельзя, его даже не нужно было наказывать, он просто перестал замечать пернатую живность. Зато за кошками гонялся самозабвенно. Не одной из них приходилось спасаться от него на дереве.
Безусловно, он был очень хитер, но его хитрость не вызывала раздражения, наоборот, выделяла его в глазах людей среди других собак. Например, увидев компанию отдыхающих туристов, Джим никогда сразу не подбежит. Мгновенно оценив обстановку, он спокойно подходил именно к тому человеку, который любит собак и готов всегда их угостить. И не выпрашивает, а подойдет, положит лапу на колено и пристально смотрит в глаза. И это действовало безотказно: тут же кусок со стола летел ему в пасть.
Ко мне и к Николаю он относился одинаково: никого из нас не выделял. Мог куда угодно пойти и с одним и с другим. Ласкаться он не любил, лишь подойдет, уткнется мордой в колени, и уж хочешь не хочешь, а почешешь ему за ухом или шею под ошейником. Ему это очень нравилось.
Уже позже я понял, что все человечество было для него одним большим хозяином. Он с подъемом выполнял команды перед всеми, охотно брал из рук подачки. Очень быстро сообразил, что если четко выполнять усвоенные упражнения, то можно получить щедрое угощение. И стал перед незнакомыми людьми ложиться, садиться, подавать робкий гортанный голос, будто стеснялся гавкнуть, совать в руки одну и вторую лапы. Иногда он все это проделывал в таком стремительном темпе, что не успеешь назвать одну команду, а он уже выполнит все подряд, отчего, естественно, вся прелесть его умения стиралась чрезмерной торопливостью. Варден медленно, с достоинством выполнял каждую команду, причем не сразу, а подумав, будто взвесив про себя, а стоит ли это делать?
Покорял нас Джим и своей добротой: у него можно было отобрать даже аппетитную кость; если к миске подходил соседский пес Пират, тоже еще щенок, Джим деликатно уступал ему свое место у миски и отходил в сторону, глядя на приятеля красивыми желтоватыми глазами. Курица могла подойти к миске и поклевать из нее, а Джим терпеливо ждал в стороне. Это уж совсем было не по-собачьи. Варден и близко никого не допускал к кастрюле, пока сам не насытится.
Джим отдавал все, ему ничего не было жалко. Зато считал, что и другие должны все ему отдавать, а когда этого не случалось, то искренне недоумевал и обижался. Джим ломал в моем понимании все устоявшиеся представления о характере собак. Доброта его не знала границ, деликатность была прямо-таки интеллигентской, чуткость к настроению человека поразительная! А какой подход, общение! Он умел с первого взгляда узнать, с какой ноги ты встал. Если не в духе, то не подойдет, пока не позовешь. И вид у него при этом такой, будто он виноват, что у тебя плохое настроение. Назойливости в нем совершенно не было, наоборот, он старался, особенно в квартире, быть незаметным. Достаточно было посмотреть на него, и он вставал и, опустив голову, выходил из комнаты. А если и присутствовал при обеде или завтраке, то его не было видно. Уходил в дальний угол и лишь оттуда изредка взглядывал в нашу сторону. И сразу же отводил взгляд, чтобы, упаси бог, не подумали, что он попрошайничает.
А вот сторожевых качеств в нем пока не проявлялось. Николай говорил, что однажды ночью проснулся от басистого лая. Джим наконец раскрыл пасть на какого-то ночного гостя, вероятно на кошку. Мы утешались, что всему свое время. Подрастет, и в нем пробудятся овчарочьи инстинкты и рефлексы. А пока Джим весело бегал с нами в лес, где чувствовал себя как дома. Быстро научился плавать. Один в воду не шел, а за компанию бросался в озеро и мог запросто переплыть его, что иногда на радость нам и делал. В воду прыгал с разбега, так что брызги разлетались. Беспокоился, как мы чувствуем себя в воде, крутился рядом, всем видом показывая, что готов помочь, если кто тонуть будет. Однако команду «апорт» так и не усвоил. Подплывал к палке, обнюхивал ее и равнодушно отплывал прочь. Не видел нужды волочить палку на берег. Плавал он легко, изящно, не то что тяжелый мохнатый Варден.
Мы с Николаем их познакомили, — не мог же я из-за Джима предать Вардена! Как и все собаки, в первый раз Джим опрометью убежал от черного терьера, которому его догнать было не под силу. Вардену сразу не понравилось, что у меня появилась другая собака. Он неутомимо, упорно, до полного изнеможения преследовал по лесу подросшего Джима. Теперь каждая наша совместная прогулка превращалась в бесконечную погоню Вардена за Джимом. Он даже в воде пытался догнать и схватить щенка. Раза два Джим побывал в пасти у черного терьера и теперь не бежал прятаться к нам в ноги, как делал вначале, а хитроумно бегал по лесу, заставляя Вардена кружить возле сосен и кустов. Джим даже пытался все это представить в виде игры. Ему не очень-то нравилось быть в роли преследуемой жертвы. Иногда сам выбегал из засады и басисто лаял на Вардена. Но тот стойко ненавидел его и всякий раз гонялся за ним, пока сил хватало. Лишь отдышавшись, он трусил впереди нас, делая вид, что не замечает Джима. А тот, прячась за кустами, сопровождал нас по кромке леса, готовый в любую минуту удрать. Понемногу он нащупал слабые стороны Вардена и умело пользовался ими, — стал бегать от него не по чистому бору, а по смешанному, где много молодых сосенок, берез, осин, кустов. Юркий, легкий, он зигзагами уходил по кругу от Вардена, а тот налетал на сосенки, вламывался в кусты и, вконец обессиленный, а иногда и ушибленный, прекращал погоню. Неприязнь его не проходила. Варден вообще редко менял свои привычки. Любая встреча с Джимом всегда начиналась с бешеных гонок. Потом и Варден понял, что пытаться догнать Джима — это бесполезное занятие, но сдержать себя не мог: нет-нет и снова срывался в безнадежную погоню. Правда, теперь он делал вид, что бегает по своим делам: вдруг внезапно останавливался, принимался обнюхивать кусты, катался на мху и, не обращая внимания на Джима, присоединялся к нам.
Когда мы подходили к озеру Красавица, Джим первым бухался в воду и плавал у берега, зорко поглядывая на Вардена, который сначала пил воду, а лишь потом не спеша входил в озеро. В воде ему и подавно было не догнать Джима. Мы бросали палки, кричали: «Апорт!», Варден выполнял команду, а Джим плавал неподалеку. Иногда и он пытался схватить палку. Николай даже сделал снимок: Варден и Джим — два непримиримых врага — волокут к берегу по воде длинную жердину.
Я убежден, что Джим по доброте своей рад был бы подружиться с черным терьером — скоро он перестал его бояться, — но тот не шел ни на какие компромиссы. Варден упорно гонял Джима по лесу, как только замечал его неподалеку. Он уже не раз набивал себе шишки на лбу, налетая на стволы молодых сосен, как-то поранил лапу, но побороть свою неприязнь так и не смог.
Когда мы возвращались с прогулки, Джиму приходилось выносить унизительную процедуру: Варден по старой памяти, как хозяин, сворачивал к нашему дому, а Джиму, который по праву считал теперь себя самого хозяином этого участка, приходилось, пригорюнясь, отсиживаться на бугре у бани и тоскливо наблюдать за тем, как Варден шныряет по двору и оставляет свои отметки. Иногда он не выдерживал, мчался навстречу черному терьеру, басисто ухал, но тут же с визгом разворачивался и удирал за спасительную баню, где в густых зарослях Вардену было не продраться к нему.
Джим ладил со всеми собаками в Холмах, а вот с Варденом так и не сошелся.
О калининском периоде жизни Джима я знал из писем друга. Николай писал, что это очень самостоятельный, смышленый, деликатный пес, обидчивый до удивления. Стоило на него повысить голос, как он поджимал хвост, бросал затравленный взгляд на хозяина и замолкал на несколько часов. Не видно было его и не слышно. Больше того, мог., выйдя на прогулку, не оглядываясь убежать и пропадать иногда до двух суток. Потом появлялся под дверью, никогда не скулил, а молча дожидался, когда откроют. Всем своим видом выражал раскаяние, припадал на передние лапы, заглядывал в глаза, морщил черный нос в улыбке. Морда у него была удивительно красивой. И лишь замечал, что хозяин не сердится, начинал бурно проявлять свою радость. Если он не обижался, то мчался по первому оклику; если обида не прошла, то после команды «ко мне!» озирался и стремглав бежал прочь, что, разумеется, еще больше злило хозяина. Чего хорошего, если на глазах всех твоя собака опрометью бежит от тебя, будто ты ее избил. Кстати, Николай и пальцем не дотрагивался до Джима, при его поразительной обидчивости этого нельзя было делать. Стоило на него замахнуться, как он менялся на глазах: будто ростом уменьшался, глаза темнели и становились разнесчастными, полустоячие уши отодвигались назад, вся морда выражала крайнее отчаяние. Иногда даже лапой закрывался. И вздыхал так, что сердце разрывалось. На такого бедолагу, писал друг, и рука не поднимается, как бы он ни провинился.
Мой старый друг на редкость предприимчивый и хозяйственный человек. Мусоропровода в доме, где он жил, не было, помойка находилась далеко, и хозяйки наловчились выбрасывать мелкие кухонные отходы через форточки во двор, в надежде, что кошки и бродячие собаки их подберут. Мой друг раз провел Джима мимо окон, второй, и тот быстро усвоил, что здесь можно недурно поживиться и куриными косточками, и другой собачьей радостью. С тех пор они стали каждый день, когда стемнеет, делать обход большого кирпичного здания. Джим был пес с творческой жилкой, как-то он заметил, что кошки роются в бачках для отходов, которые стоят на каждой лестничной площадке. Он тут же смекнул, что это дело куда вернее, чем шнырять под окнами, где уже побывали до него другие. С молчаливого согласия Николая он стал обстоятельно обследовать каждый бачок.
После того как повзрослевший Джим снова оказался у меня, я не раз думал о том, что, попадись он к цирковому дрессировщику, ей-богу творил бы на арене чудеса! Как-то в Англии я видел выступление одного артиста с собакой. Мы привыкли, когда собака добросовестно выполняет все приказания хозяина: прыгает через голову, ходит на задних и передних лапах, танцует под музыку, крутит педали велосипеда да и мало ли что еще делает по воле дрессировщика. Мы восхищаемся такими умными животными, будь это собака, медведь или тигр. Я же видел номер, построенный совсем на других законах дрессировки. На сцену выходил энергичный человек, ставил невысокий столик, стул и объявлял, что сейчас дрессированная собака виртуозно будет выполнять сложнейшее упражнение. Он поворачивался к кулисам и долго звал своего четвероногого артиста. Наконец, после долгих уговоров, на сцену не спеша выходил чем-то напоминающий сеттера, только помассивнее, длинноухий пес. Более отрешенную морду, чем была у того флегматичного пса, трудно себе представить. Пес, слушая своего живчика-хозяина, буквально засыпал на ходу, глаза его закрывались, ноги подкашивались, он прямо-таки заваливался на пол, чтобы вздремнуть. А хозяин уговаривал его вспрыгнуть на стул, а потом на стол. В этом и заключался весь номер. Зал покатывался со смеху, наблюдая за тем, как хозяин уговаривает пса выполнить простейшее упражнение, которое никакого труда ни для одного недрессированного животного не составляет. Вспрыгнуть на стул, а затем на стол. Хозяин раз двадцать повторил это простейшее упражнение, призывая пса последовать его примеру. Пес смотрел на него как на дурачка и зевал во всю пасть. Лезть на стул, а тем более на стол он, по-видимому, вовсе не собирался.
И тогда началось самое интересное: артист поставил собачьи лапы на стул и плечом подпихивал своего питомца. Тот сползал с его спины на пол и, распластавшись ковром, преспокойно засыпал. Артист снова его поднимал, теперь он затаскивал его на стол. Наконец ему удалось до половины водрузить пса на стол, и тот, свесив раскоряченные задние лапы, ухитрялся заснуть в этой, отнюдь не самой удобной, позе.
Это, конечно, была дрессировка высшего класса. И похожий на сеттера пес был на редкость талантливой собакой.
За два года знакомства с Джимом у меня сложилось впечатление, что у него такие же задатки. Морда у него выразительная, желтые глаза по-человечьи осмысленные. В них гнездилась какая-то вековая скорбь, как будто природа, создав собаку и отдав ее в подчинение человеку, поступила опрометчиво. И он, Джим, за всех собак сразу скорбел об этой несправедливости. Вместе с тем отношение к человеку осталось у него исключительно уважительное. Хотя частая смена хозяев — а ему пришлось испытать это — могла бы изменить к худшему его характер. Не все были добры к нему, как я и Николай. Наверное, поэтому он легко и уходил от одного к другому, внутренне чувствуя себя свободным и независимым. Ни от кого. Он не лаял на людей, считая, что это невежливо, больше не лез со щенячьими ласками. Держался с достоинством, однако любому позволял себя потрепать за шею, погладить. При этом вид у него был смиренный и, по-моему, довольный. Ему нравилось делать людям приятное.
Друг писал, что Джима полюбила вся его семья, но весной он надолго уезжает с театром на гастроли, дома некому за ним ухаживать. Если бы я смог заехать и забрать Джима в Холмы, он был бы мне признателен. Друг писал и то, что в большом городе летом с собакой трудно, да и собаке плохо. И еще сообщал, что Джим переболел чумкой и Алла, его жена-врач, с месяц делала ему уколы. С трудом выходили, теперь ему было бы хорошо пожить в деревне. Писал, что его десятилетняя дочь Наташа не хочет расставаться с Джимом, плачет, но ее на каникулы отправляют в Польшу к дальним родственникам.
Я приехал в Калинин, забрал Джима и привез в Холмы. В машине Джим чувствовал себя неважно, обильная слюна капала на резиновый коврик, несколько раз я останавливал машину, потому что его тошнило. Неохотно он снова забирался в «Ниву». Все мои знакомые собаки любили ездить на машинах. Джим готов был сзади бежать хоть десять километров, лишь бы не ехать. Он подрос, окрас у него был овчарочий, но голова, широкий, прямо-таки сократовский лоб достались от другого предка. И совсем не собачьи внимательные, умные глаза с затаившейся в них вековой печалью. Меня он сразу узнал, бурно выразил свою радость, но очень быстро успокоился. Своими эмоциями он мог управлять, что свойственно далеко не каждой собаке.
Когда ему стало совсем плохо — погода стояла жаркая, — он положил мне лапу на колено и выразительно посмотрел в глаза. Деликатный пес, он просил остановиться. Выскочив из кабины, опрометью бросился в кусты. Его вытошнило. Не захотел пачкать сиденья.
Я не заметил, что он сожалеет о Николае, его семье, Калинине. Умные собаки чувствуют настроение хозяев и загодя готовятся к ожидающим их переменам. По тому, как Джим забрался в машину и даже не поглядел в сторону Николая, когда мы тронулись, я понял, что он уже знал о том, что должен покинуть их дом. Знал еще до моего приезда. Собаки ведь понимают человеческую речь, запоминают сотни слов. Кстати, еще щенком, приходя в сильнейшее возбуждение, Джим отчетливо и протяжно произносил: «Мам-ма!» Став взрослым, он этого не делал. А я снова подумал, что, попади Джим к циркачу, он чудеса бы творил на сцене, не хуже знаменитого медведя Гоши, который сам управлял мотоциклом и автомашиной.
В Холмах он тут же освоился, гораздо больше радости, чем мне, он выразил соседскому Пирату, с которым хлебал из одной миски еще щенком.
Пират принадлежал Николаю Петровичу, всего у него было три собаки: Пират, Тузик и Динка. Тузик — охотничий пес — вечно был на привязи, Динку отравила мышьяком жена. Голодная сучка слопала цыпленка, и ее участь тут же была решена. Нюрка грозилась отравить и Тузика, почему хозяин и держал его на цепи.
Пират пользовался вниманием Нюрки, хотя она животных не терпела. Он даже иногда сопровождал ее в Опухлики. Типичная низкорослая дворняжка, Пират славился своей вороватостью: перетаскал всю мою обувь к соседу. И не только обувь, мог утянуть рубашку, сохнущую на веревке, миску, даже совок и веник.
Джим был постарше и покровительствовал Пирату. Отдавал свою еду, играл с ним часами, убегал в лес, на озеро. Но Пирату было далеко до умного Джима, он даже не научился плавать, хотя Джим настойчиво приглашал его в воду.
В дружбе с себе подобными Джим был верным. Он позволяет есть из своей миски, защищает в драке. А Пират извлекает из этой дружбы немалую пользу: подкрепляется из Джимовой миски. К своей же и близко не подпускает. Ворует вещи по-прежнему, хотя ему пошел уже второй год. Из-за Джима я не гоню его со двора.
Первое время Джим еще держался возле дома, а потом стал пропадать часами. Я его видел лежащим в борозде на огороде у соседа, бегал он по лугу перед пионерлагерем, где местные пасли скот. Там проявил он пастушеские способности: без устали носился за коровами, умело собирая их в стадо. Это заметили мои односельчане и стали его приваживать. Нет-нет угостят чем-нибудь, а он и рад стараться. Разбредутся тучные коровы по кустам, а то еще норовят затесаться к кому-нибудь в огород, а Джим тут как тут: залает, хватает за ноги, гонит на луг. Это у него, наверное, от гончака, умеющего загонять дичь на охотника.
Когда в начале июня приехала первая смена в лагерь, Джим познакомился со всеми ребятами и стал их любимцем. Из столовой они тащили ему угощение. Не забывали про ласкового добродушного пса и повара. Домой Джим возвращался под вечер, довольный, лоснящийся. На специально приготовленную для него еду, к моему великому огорчению, и не смотрел. Много собак в деревне, а вот ни одна не догадалась пристроиться к пионерской кухне. Джим сразу понял, где сыплется на него манна небесная.
Первое время, стоило мне его окликнуть, он тут же прибегал. А потом, когда я его, следуя совету соседа Николая Петровича, привязал у сарая на несколько дней, он перестал прибегать на мои призывы. Мало того, как позже оказалось, затаил на меня великую обиду: как же, я посягнул на самое дорогое для него — свободу! Пойдет со мной гулять на озеро Красавица, там мы покупаемся, посидим на берегу, полюбуемся на малахитовые воды. Он резво бежит со мной до самого поворота к дому, а потом, блеснув на меня желтыми глазами, стремглав уносится прочь в сторону турбазы. И уже никакие мои вопли: «Джим, ко мне!» — не помогали. Это меня сердило. Соседские дворняжки знали своего хозяина и считали за честь сопровождать его, а Джим убегал от меня, как от врага. Я подолгу не мог успокоиться, размышлял, что же я сделал не так? Чего недоучел? Джим не походил ни на одну мою знакомую собаку. Часто я его не понимал. Появлялся он у дома обычно поздно вечером, причем никогда не ложился в домик, который я ему соорудил, а укладывался даже в дождь на картошке, которая только что взошла, или на облюбованную под яблоней гряду. Утром, когда я чертом выскакивал из дома и бежал в перелесок делать физзарядку, откуда ни возьмись появлялся Джим и, каким-то образом догадываясь, что прыгающий и приседающий человек не может быть сердитым, включался как бы в игру, носился вокруг меня, хватал с земли сучья, разламывал их, в общем делал вид, что мы с ним забавляемся и между нами не может быть никаких трений. Я трепал его за шею, называл ласковыми именами, надеясь, что размолвка позади, бежал к дому. Он поднимался на бугор, возле бани останавливался, провожал меня веселым взглядом, затем на его хитрую собачью морду тенью снисходила серьезная озабоченность, я видел, как на широком лбу собираются серые складки, он круто поворачивал, будто вспомнив что-то чрезвычайно важное, и целеустремленно убегал. Мои крики не останавливали его. Он убегал, а я оставался с испорченным настроением и ломал голову: что же делать, чтобы собака была при доме? Какая мне радость от него, если я его теперь вижу только утром и поздно вечером на огороде? Бывало, и ночью не появлялся. Но придумать я ничего так и не смог. Да и потом, честно говоря, я не чувствовал за собой морального права жестко перевоспитывать собаку, которая уже пожила у другого хозяина.
Между нами шла молчаливая упорная борьба: когда утром Джим ко мне подбегал с приветливо улыбающейся мордой, я делал вид, что его не замечаю. Хотя это и трудно было делать, потому что Джим прямо-таки светился радостью. Оттолкнуть его было безбожно, долго сердиться на него тоже было нельзя. Мы мирились, он до вечера крепился, сидел или лежал возле чурбака, который на лужайке заменял мне письменный стол, гулял со мной, купался, если было жарко, а потом снова исчезал. И появлялся, когда находил нужным. Раз я на него накричал, даже стегнул поводком, он так глянул на меня своими желтыми глазами, что мне стало стыдно.
После этого я его не видел целую неделю. Где-то неподалеку ночью раздавался его лай, картошка на огороде была примята, значит ночевал дома, но меня избегал.
И я понял, что он мне не уступит. И я ничего не смогу с ним поделать, остается одно: предоставить ему полную свободу.
Свобода — вот что было его родной стихией. Может быть, еще один, вольный, бездомный предок наделил Джима такой чертой? Он не терпел никакого насилия над собой, будь это ошейник, поводок, цепь. Надо было видеть его, сидящего на цепи! Морда его выражала такое отчаяние, что жалко было смотреть на него. Ошейник топорщил густую серую шерсть на шее, Джим делал вид, что ему душно. Он даже не лежал на земле, а сидел, привалясь боком к стене в самой страдальческой неудобной позе. Увидев его, посторонний человек ничуть не устрашился бы, наоборот, тут же подошел бы к нему и освободил бедного симпатичного пса от таких оков… А его глаза! Какую боль и муку выражали они! Глаза страдальца, обреченного на тяжкие испытания!
Да, Джим мог напускать на себя такой несчастненький вид, что у людей сердце кровью обливалось. Почти каждый, кто его видел, невольно засовывал руку в карман, чтобы угостить чем-нибудь. А если не находил — не все же люди таскают с собой угощение, — расстраивался и начинал гладить собаку, будто извиняясь. Джим был рад и этим знакам внимания. Выражение на его морде могло мгновенно меняться, глаз от человека он никогда не отводил. Джим озадачивал людей и внушал им к себе уважение. Мне не приходилось видеть, чтобы его кто-нибудь обругал или ударил. К плохим людям он не подходил, чуя их за версту. Однако человечество он продолжал беззаветно любить. Но зато если уж и обижался, то тоже сразу на все человечество. Случалось, что он приходил домой после каждодневных длительных отлучек сильно расстроенный. Это сразу было видно по его задумчивому виду, несчастным, хватающим за душу глазам. Ко мне он тоже подходил с опаской, во всем его облике сквозило недоверие. Значит, где-то ему все же от кого-то досталось. Нарвался-таки на недоброго человека! Не все люди добряки и не все умиляются при виде ласковой симпатичной собачки, случается, и пнут носком сапога в бочину или, срывая накопленное зло, огреют палкой.
Тихий и задумчивый бродил Джим по двору, не находя места и не стремясь куда-нибудь убежать. Глядя на меня, тяжко вздыхал, и глаза его темнели от внутренних переживаний. К еде не прикасался, стоило мне подойти к нему с чашкой, он вставал и, озираясь на меня, уходил подальше. Я шел за ним, уговаривая хоть попробовать: ведь я только что сварил ему похлебку, накрошил туда вареной колбасы для запаха. Он даже не смотрел в сторону чашки. Я ставил ее, уходил, и тут же появлялся соседский Пират, он был в два раза меньше Джима и за считанные минуты все съедал. Этого обиды на неблагодарное человечество не одолевали…
Как я мог объяснить Джиму, что мир не так-то прост и порой бывает жесток не только к животным, но и к людям? Кто из нас за свою жизнь не терпел порой обид даже от близких? Кто не страдал и не разочаровывался? Кого из нас не предавали те, кого мы считали друзьями? Но такова жизнь, и приходится принимать ее такой, какая она есть. Если невозможно изменить жизнь, условия своего существования, то изменяют самого себя…
Прошел еще год. Джим стал вполне взрослой собакой. Пожил он у меня и у закатихинского помощника Саши, потом у моего брата Гены в Великих Луках. Николай больше не смог взять его в Калинин. Жена была против. Сам он писал мне письма, дотошно справлялся о Джиме, говорил, что тот снится по ночам и вообще Джим в Калинине заметно скрашивал ему жизнь…
А Джим стал как та киплинговская кошка, которая ходит сама по себе. К людям он по-прежнему был ласков и внимателен. Всех своих многочисленных хозяев встречал радостно, не выделяя среди них никого. В отличие от Вардена, единственного хозяина он не искал и никому не подчинялся. И хотя со всеми прекрасно уживался, долго ни у кого не задерживался, переходил от одного хозяина к другому, а порой существовал и сам по себе. Но рано или поздно я его возвращал в Холмы. Не видя его неделями, я начинал скучать. Мне не хватало этого странного пса. Я шел в Опухлики и приводил его. А он, пожив день-два, снова исчезал. Я больше не переживал, понял, что его сделать другим невозможно, да и, наверное не надо. Жить для себя, быть свободным, ни от кого не зависеть, принимать подачки от всех, а взамен отдавать каждому свою щедрую любовь. Но не настолько много дарить, чтобы человек, чего доброго, не возгордился и не почувствовал, что Джим его собственность.
Пожив с неделю у меня, Джим в один прекрасный день исчезал. Он мог сопровождать меня в лесу, а потом, дойдя со мной до калитки, с озабоченным видом куда-то убежать. А дел у него было много. В жаркое лето, когда коров одолевали слепни, Джим не давал им возвращаться в стойла. Пасутся коровы на лугу у малого озера, и у всех как по команде крутятся тощие хвосты с кисточками сначала в одну сторону, потом в другую. То одна, то другая буренка, не выдержав, стремглав устремляется к дому. А вокруг нее стон стоит. Это кружатся кровожадные рыжие слепни. Пастуху, понятно, не угнаться за обезумевшей коровой, и тут на помощь приходил Джим: догоняет ее, становится поперек дороги и яростно лает. Волей-неволей корова поворачивает к стаду.
Или идут с рюкзаками туристы в Опухлики на автобус, Джим весело бежит рядом с ними. Не лень ведь проводить до самого автобуса! Наносил он визиты в пионерлагеря, расположенные в пяти — десяти километрах от дома. Ребятишки знали его, любили, угощали. А он, будто удельный князь, ходил по лагерям и принимал дары. Его врожденная деликатность открывала ему сердца и детей и взрослых. Даже те, что боялись собак, сразу видели, что Джим полон добрых намерений. Он мог запросто пойти к черту на кулички за первым встречным, сопровождал местных ребят в школу рано утром и возвращался с ними после полудня. Вид у него был благопристойный, чистый, гладкий, хотя он частенько плюхался на землю и, задрав заднюю ногу, шпынял блох, клещей я сам у него вытаскивал. Несмотря на бродяжничество, он сохранял холеный вид, всегда был в теле, ребра редко выпирали. Всех окрестных собак он знал. Со многими успел померяться силами, на губах и носу остались следы жестоких схваток. Джим проявил себя серьезным и достойным бойцом. Опасался он лишь одного Вардена, но тот в свадьбах не участвовал, потому что все мелкие деревенские невесты могли у него под ногами проскочить, а он и не заметит. С местным вожаком угрюмым Дружком не схватывались.
Я думаю, он и Вардена не боялся, просто понимал, что плетью обуха не перешибешь. Черный терьер обрушивается на противника как лавина, лучше отступить, отойти в сторону, и этот черный лохматый вихрь пронесется мимо.
Однажды я был свидетелем того, как Джим сам напал на Вардена. Джим оказался порядочным и в любви. У соседки Тани была сучка Пальма. Когда пошла собачья свадьба, Джим встал в первые ряды. Вот тогда-то он и схватился с Дружком, который вынужден был отступить. Джим оттеснил всех местных собак и один гулял с Пальмой — низкорослой дворняжкой бурой масти. Как-то Таня пришла с Пальмой на турбазу, я тоже там был с Джимом. Привязанный к сараю Варден оборвал вожжу и накинулся на завизжавшую от ужаса сучку. И тут ее постоянный кавалер Джим оскалился и с громким рычанием вцепился черному терьеру в бок. Забыв про Пальму, тот схватился с Джимом. Конечно, Джим долго не мог выстоять против Вардена, но отступил лишь после того, как Пальма вместе со своей хозяйкой ретировалась с турбазы.
Одного я никак не мог понять: почему Джим от меня не принимает еду? Если мы с ним ходили гулять и он жил какое-то время дома, тогда другое дело: он подходил к чашке и ел. Если он появлялся после долгих странствий, то заставить его съесть что-либо не было никакой возможности. Между тем я видел, что он голоден. Смотрел на меня отчужденно, отворачивал морду от чашки, не брал из рук. Уходил в угол и закрывался лапами. Он умел так их причудливо скрестить и положить на них голову, что только полустоячие уши торчали. Стоило кому-нибудь постороннему — я его просил об этом — дать ему ту же чашку, он тут же все без остатка съедал.
Относился я к Джиму, несмотря ни на что, хорошо и не отдавал его никому, хотя кое-кто из знакомых не прочь был увезти его в город. Я его никогда не бил, почти не ругал, правда случалось, упрекал в странном поведении, но не больше, и вместе с тем он упорно не брал пищу из моих рук. Это меня удивляло. Постепенно все больше и больше узнавая Джима, я пришел к выводу, что ему просто стыдно брать еду в доме, который он предал.
Когда он возвращался домой, я видел, что ему стыдно. Он никогда сразу не прибегал ко мне, а ложился на песчаном бугре, напротив окон, и пристально смотрел на дверь. Рядом проходила дорога, изредка шумели машины, а он лежал и смотрел. Я выходил и звал его. Если в моем голосе он улавливал недовольные интонации, то вставал и уходил в пионерлагерь, если, по его разумению, я в хорошем расположении духа, он бодро вскакивал, бегом одолевал подъем вдоль забора и по тропинке возле бани прибегал ко мне, терся мордой о колени, но в глаза старался не смотреть, потому что чувствовал свою вину. Поприветствовав меня, скромно удалялся под сарай, где он облюбовал себе убежище и не появлялся на глаза до тех пор, пока я не отправлялся на прогулку. Тогда он жизнерадостно выскакивал оттуда, весело бежал впереди, всем своим видом показывая, как он рад, что мы опять вместе…
А потом… старое начиналось сызнова…
У меня нужно было жить, охранять дом, зависеть от настроения хозяина, а у пса тяга к свободе была сильнее любой привязанности. И Джим, очевидно, считал, что раз он по натуре бродяга и не может честно нести свою собачью службу, то не имеет морального права и есть в этом доме. Это я так сказал — «моральное право»… Джим, наверное, все это понимал проще. Но в том, что у него была совесть, я не сомневался. Обычно люди не любят странствующих собак, считают их грязными да и опасными, вдруг бешеная? Джим не производил впечатления бездомной собаки, и поэтому все охотно с ним имели дело. Да и он стал неплохим знатоком человеческих слабостей. Подходил без опаски лишь к тем, кто еще издали ему улыбался, ворковал, де, какая хорошая, какая умная, красивая собачка, смотрите, лапу дает! Не обижался, если его звали Шариком или Бобиком. Откликался и просто на «собачку». И все это проделывал он не только ради куска хлеба, вернее, лакомства. Ему по душе было общение с отдыхающими людьми. А здесь он встречался только с отдыхающими, которые, оставив дома повседневные заботы, на природе добреют, рады любой птичке, бабочке, а тут вдруг появляется красивая добродушная собака и проявляет знаки внимания и уважения к людям.
При всем его добродушии, он не любил собак. Общение с себе подобными не доставляло ему большого удовольствия. Иногда он навещал Пальму, но подолгу не задерживался. С Пиратом по-прежнему играл, но стоило появиться человеку, без сожаления оставлял его.
Джим тянулся к людям. Не знаю, осознавал ли он свое умственное превосходство перед другими собаками или нет, но во всяком случае всегда предпочитал общество людей, а не собак. Первое время Пират попытался было сопровождать Джима в дальние походы, но скоро отказался: Пират был обычной деревенской дворняжкой и чужих людей опасался. Скоро он, как и все сельские собаки, стал домоседом, отлучался со двора лишь сопровождая хозяйку. Ночью гавкал на луну у меня под окном, наведывался ко мне через дырку в изгороди, съедал остатки еды в чашке Джима и уволакивал к себе все, что плохо лежало и пролезало в щель А я утром шел к соседу и разыскивал в его огороде тапки, палку, с которой ходил на прогулку, плавки — Пират ухитрялся стащить их с веревки!
Вряд ли честняга Джим одобрял эту затянувшуюся собачью клептоманию, но мер по охране моего имущества никаких не принимал. Всегда готовый уступить любому живому существу свою чашку с едой, он, очевидно, считал, что так же должны поступать и все другие. И животные и люди.
Короче говоря, Джим был рожден для праздности, а не для верной службы. Иногда у него прорывался ночью сторожевой инстинкт: я просыпался от тревожного гулкого лая, который предупреждал, что кто-то чужой стоит у калитки.
Но это бывало редко, чаще Джим бежал к калитке встречать любого незнакомца, радушно приглашая его в дом. Он полагал, что и я должен этому радоваться.
Как-то мы с ним подошли к озеру Красавица и на другом берегу увидели на лужайке компанию отдыхающих. Те сидели на коротких чурбаках вокруг толстенного пня, на котором был накрыт стол. Джим замер у сосны, как легавая перед гнездом куропатки, чутким носом он шумно втягивал воздух, потом бросил на меня косой взгляд, но, увидев, что я за ним наблюдаю, подошел ко мне, ткнулся носом в ладонь, молча постоял так, еще раз взглянул пронзительными желтыми глазами прямо в душу, тяжело вздохнул, будто понимая, что совершает предательство, и, опустив красивую голову, бесшумно, все убыстряя шаг, заскользил в ту сторону Весь его понурый вид говорил, что он не может остаться со мной, это сильнее его…
И я его не окликнул. Знал, что не остановится, а потом и зачем? Мне доставляет радость прогуляться с ним до Красавицы, видеть, как он шныряет по кустам, обнюхивает траву, оглядывается на меня, будто хочет рассказать, сколько он обнаружил интересного вокруг, а ему приятно пообщаться с теми, пирующими средь высоких сосен, людьми. Почему же я должен лишать Джима радости? Ради собственного эгоизма? Он не хочет принадлежать мне одному, он хочет принадлежать всем… и никому.
Я видел, как он подбежал к отдыхающим, видел, как ходуном заходил его пышный со светлой изнанкой хвост, сигнализируя, что Джим идет к людям с добрыми намерениями. Он бы мог и не вертеть хвостом, у него и на морде все это было красноречиво написано. Я не слышал слов, но знал, что люди заговорили: «Посмотрите, какая к нам пришла симпатичная собачка! Песик, песик, как тебя зовут?» Кто-то попросил лапу, Джим охотно протянул обе, одну за другой. Самый миролюбивый жест на свете. Полное взаимопонимание было мгновенно достигнуто, уже какая-то женщина протянула ему кусок со стола. Тут он сомнений не ведал, сразу же брал и, отойдя в сторону, аккуратно съедал.
В мою сторону он бросил взгляд и тут же отвернулся, понимал, что поведение его предосудительно. Когда компания на время забыла про него, Джим обстоятельно обследовал территорию вокруг стола, все, что находил съедобного, подбирал. Потом прилег в тени, будто век здесь жил. Сам он не навязывался, ждал, когда снова обратят на него внимание.
Вернулся он домой через двое суток.
Наблюдал я еще одну любопытную картину: Джим трусил по проселку вслед за подвыпившим соседом Петей, тот не обращал на него никакого внимания. Джим забежал и с одного боку, и с другого, сосед не видит, идет себе, пошатываясь, и смотрит прямо перед собой. Тогда Джим уперся ему передними лапами в спину и зашагал на задних лапах след в след. Я катался со смеху, глядя на все это. Сосед по-прежнему не замечал собаку, вышагивающую за ним на задних лапах — передние были положены на плечи. И вот так передвигаясь, они наконец посмотрели друг на друга: Петя повернул в сторону красное лицо и носом к носу повстречался с мордой Джима. Не знаю, что сказал ему Петя, он даже руки не поднял, только Джим сразу опустился на ноги, остановился и долго смотрел вслед продолжавшему свой путь Пете, затем горестно вздохнул и, опустив голову, направился к дому.
Это было год назад. Тогда Джиму исполнилось всего полтора года. Его назойливость, пожалуй, объяснялась тем, что он почувствовал неладное с человеком, может, по-своему хотел помочь тому, остановить, что ли? Я убежден, в тот раз Джим не попрошайничал, странная походка нетрезвого человека заинтересовала его, он не мог взять в толк, что с ним, потому и повел себя так. Повзрослев, Джим подобных номеров с пьяными не выкидывал.
Пьяных собаки вообще не любят. Когда был под мухой Закатихин, Варден отворачивался от него, но тот начинал приставать, кричал, заставляя выполнять разные команды. Косо поглядывая на суетящегося хозяина, Варден отходил, даже забирался в будку, а оттуда грозно ворчал, показывая клыки. Закатихин за поводок вытаскивал его и продолжал приставать, тогда Варден нагибал большую голову и, будто бык, с ходу бодал его в бок. Под смех приятелей Закатихин отлетал в сторону и успокаивался. Джим хотя и не любил запаха алкоголя, тем не менее не обходил стороной выпивающих людей, ведь на лоне природы не только выпивают, но и закусывают, а Джиму только этого и надо. Если уж слишком надоедали ему, на время уходил в кусты, но потом снова появлялся. Веселые, шумные компании притягивали его. Бывает, лежит дома на лужайке, а по дороге с автобуса направляются в лес, к озеру, приехавшие из города туристы. За плечами рюкзаки, в руках удочки, транзисторы. Джим вскакивает, внимательным взглядом провожает их и снова успокаивается, но я уж знаю, что через час-два он сорвется с места, пролезет в щель у калитки и устремится в ту сторону. Причем знает, шельмец, что приходить нужно тогда, когда уже палатка разбита и от костра вкусными запахами потянуло…
А как радуется он, встретив знакомого или знакомую, вновь приехавшую сюда пусть через месяц или даже два. Сразу узнает и искренне рад встрече. Многие из дома специально привозят ему в полиэтиленовых мешочках угощение. В благодарность за это Джим увлеченно играет с детьми, охраняет палатку, лодку.
Недюжинный ум и приветливость Джима заставляли людей относиться к нему по-особому, не так, как обычно относятся к собакам. Я бы сказал, Джим внушал к себе уважение, люди видели в нем личность.
Ко мне забежит утром, издали посмотрит бесстыжими глазами: не сержусь ли я? Потом, стелясь по траве, подскочит, начинает ласкаться, кладет голову в ладони, заглядывает в глаза, побегает вокруг меня, пока я делаю зарядку. Проводит до бани и… исчезнет.
Постоянство ему невыносимо. Никто не знает, когда он уйдет и когда снова заявится. Он как тот самый колобок, что и от бабушки ушел, и от дедушки ушел… Он может подойти к тебе и так требовательно посмотреть в глаза, что встанешь и откроешь ему дверь. Можно не беспокоиться, он никого не укусит, не обидит, будь это человек, собака или даже кошка. Пугнуть пугнет кошку, но не укусит. С детьми готов часами играть на площадке.
Услышав громкий голос, он останавливается и укоризненно смотрит на человека, тот невольно замолчит. В семье он не терпит никакой ругани, встает и уходит, бросив на обидчика такой укоризненный взгляд, что тому становится не по себе.
Я очень хотел приучить его к дому, сажал на цепь, наказывал, воспитывал, стыдил, а все кончилось тем, что он меня перевоспитал: теперь я не кричу на него, не привязываю, а рад его приходу, как красному солнышку. И он не забывает меня, всегда приходит. Приучил он меня и следить за своим голосом. С ним я мог разговаривать только спокойно, с ласковыми интонациями. Стоило забыться и повысить голос, Джим тут же наказывал меня: смотрел с сожалением и жалостью и уходил, даже если хлестал на улице дождь. И потом, вернувшись, осуждающе взглядывал на меня. Сам тонкий, чуткий пес, он требовал тонкости к себе и от людей.
Варден не обладал подобной утонченностью, не обижался на пустяки и не пытался, в противоположность Джиму, глубоко постичь человеческий характер. Здоровяка Вардена нужно было палкой огреть по хребтине, и то он подумает, что с ним заигрывают, а чтобы обидеть Джима, достаточно было назвать его непослухом или плохой собакой. Когда я вдвоем с Джимом, то постоянно ощущаю его присутствие, ловлю на себе его изучающий взгляд, в котором всегда безмолвный вопрос: «Кто ты, человек? И чего ты хочешь?»
Я понимаю, что Джима дома уже не удержишь. У него свои неизвестные мне маршруты, привязанности. Когда его долго нет, я стараюсь успокоить себя, думаю, мол, он попал в хорошие руки, у кого-нибудь приживется, где ему будет лучше, но сам этому не верю. Джиму не нужны никакие хорошие руки, он живет сам по себе. Его уважение к человеку никогда не перейдет в слепую животную преданность, свойственную многим собакам. Если он разочаруется в хозяине, он уйдет от него. Он еще молод и думает, что свобода — это все. Но и человек не может быть беспредельно свободен, а уж куда там собаке! В наше время даже дикий осторожный зверь не свободен: целиком и полностью зависит от воли и деятельности людей. Счастье, что Джим по доброте своей никогда не обидит ничто живое: он, будучи голодным, не слопает разгуливающего возле самого носа цыпленка. Не залезет в кладовку, не стянет съестное со стола.
Пока Джим верит в человека, видит только его добрые стороны, но, боюсь, скоро познакомится и с негативными. Очень редко, но бывало, что он возвращался ко мне из далеких странствий с убитым видом, со следами побоев. Он ведь не расскажет, что с ним произошло. Но по настороженности даже ко мне, перевоспитанному им, я понимаю, что любимое им человечество в данный момент подвергается серьезной переоценке. Кто-то обидел его, а отвечаю за это я, потому что тоже человек.
В такие моменты он подходит ко мне, кладет голову на колени и вглядывается в меня с таким мучительным вниманием, что кажется, еще немного, и он откроет для себя какую-то великую истину. Я вижу, как на его широком лбу складками собирается от напряжения мысли серая кожа, в пронзительных глазах столько понимания и ума, что мне, честное слово, не по себе. Вот, наверное, в такие мгновения люди говорят, что собака все понимает, но сказать не может… Но он разговаривает со мной, спорит, оправдывается, доказывает свою правоту. И все это — глазами. И вот беда: меня-то он полностью понимает, а я его — с трудом. И я чувствую, что он разочарован: ему очень хочется, чтобы и я его понял.
Да, Джим обладает редчайшей способностью вызывать у людей стыд не за кого-нибудь в отдельности, а сразу за все человечество.
Где он сейчас, мой добрый золотоглазый Джим, несостоявшаяся овчарка? Если вы встретите симпатичного, с полустоячими ушами, долговязого пса с приветливой улыбающейся мордой, не гоните его прочь, не кричите на него. Не надо, чтобы Джим думал о нас, людях, хуже, чем мы есть на самом деле.
Человек приучил к себе собаку. А уж если она что-то переняла у человека, не след нам ее за это осуждать.
До свиданья, Джим! Хоть ты и не похож на других собак, я все равно люблю тебя. И двери моего дома всегда открыты для тебя.
Приходи, Джим, я буду ждать.
1980