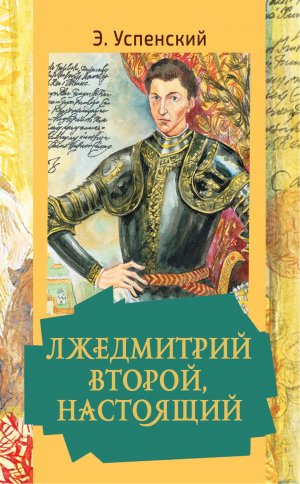
© Успенский Э. Н., насл., 2022
© Шевченко А. А., ил., 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Часть первая. Углицкий младенец
Плохие дети встречаются редко. Отвратительных детей почти не бывает.
Царевич Дмитрий Углицкий был отвратительным ребенком.
Несмотря на это, он был всеми обожаем.
И никто в Угличе не сомневался, что это будущий царь России. И что он будет, пожалуй, погрознее своего родителя Иоанна – царь Дмитрий Иоаннович Грозный.
В середине апреля сухим путем, по едва просохшим дорогам прибыл в Углич в большой, здорово поношенной карете посланец Бориса Годунова. То ли чех, то ли итальянец, доктор по имени Симеон.
В письме, переданном царице Марии Федоровне и ее братьям Нагим, было написано, что он будет обучать царевича латинскому и другим языкам. Что надо принять его и обустроить.
С ним прибыли и подарки царевичу от его брата Федора – игрушечные латы, игрушечный меч и короткий позолоченный кинжальчик.
– Еще одного досмотрщика прислали, – сказала царица Марья. – Мало им Волоховой.
И велела поселить приезжего в самом дальнем краю дворца.
Но при иностранце оказалось другое письмо из дома Романовых. На имя брата царицы – Михайлы Нагого. В нем намеками сообщалось, что этому получеху-полуитальянцу можно доверять, что это верный человек и что от него будет много пользы. Что он врач и многим наукам обучен.
И действительно, учитель всерьез занялся ребенком. С раннего утра он был рядом с мальчиком. На свежую голову они занимались письмом и латынью. Потом катались верхами. Потом иностранец обучал царевича военным приемам и читал историю.
В борьбе или сражении на саблях царевич зверел, кусал учителя и бил его деревянной саблей по-настоящему.
– Ты не царевич, – говорил чех с легким акцентом, – ты припадочный волчонок. Ты недолго просидишь на троне.
Дмитрий еще больше злился, но сквозь злость крепко уважал сильного и умелого учителя.
А свою злость и желание сесть на трон он показал еще зимой. Вместе с другими ребятами ставил снежные фигуры у крыльца и, срубая им головы прутом, приговаривал:
– Это Бориски голова! Это Щелкалова голова! Это Михайлы Битяговского башка!
Ясно, что эти игры быстро становились известными в Москве. И надо сказать, мало радовали шурина царя Федора и фактического правителя Русии – Бориса Годунова.
Многие люди считали, что дни царевича сочтены. Что, того и гляди, он отправится в путь небесный. Не зря же одна из его кормилиц год назад умерла от отравы в еде. Но пока младенец был жив, очень многий люд ставил в зависимость от его здоровья и возраста свои планы.
На третьей неделе учитель попросил у царицы Марьи разговору.
– Государыня Мария Федоровна, надо думать, как уберечь царевича.
– Как так уберечь? – спросила царица. – Как бережем, так и убережем.
– Так мы его не убережем, – сказал итальянец. – Надо искать подменного. Надо найти мальчишку, похожего один в один, и держать его на подставу.
Несмотря на свою иностранность, этот получех говорил по-русски ясно и без ошибок.
Слово было произнесено, и оно запало.
Братья царицы-сестры, Михайло, Андрей и Григорий, согласились не сразу.
– Ведь Бориске донесут мигом, – сказал недоверчивый Григорий.
– И пускай, – сказал младший Андрей. – Ну и что?
– А то, – отвечал Григорий. – Тебя тут же и спросят: «Для чего подмену готовите? Или не доверяете кому? Кому не доверяете? Или опасаетесь кого? Кого опасаетесь? Был один царевич, стало два. Для чего царевичей разводить?»
– А вы поменьше болтайте, – оборвал их старший, Михайло Нагой. – Вот никто и не спросит. Появился лишний мальчонка во дворце – только и делов-то.
Стали искать нужного мальчишку. И он быстро нашелся, как по заказу. Сын юродивой женки Орины, жившей у Битяговских и ходившей к Андрею Нагому, был просто копией царевича. Столичный итальянский влах одобрил этого никому не нужного мальчика – незаконного сына Федота Офонасьева.
Андрей велел привести мальчишку во дворец. Здесь его и держали для игры с царевичем. Звали мальчика Афанасием. Женка-мать тоже была пристроена к делу – к стирке дворцового белья.
Симеон тихо начал подгонять приемыша под царевича. Надо было сделать так, чтобы в любую минуту он мог стать царевичем, но чтобы в обычные дни никто не замечал их чрезвычайного сходства.
Это начинало получаться. Чумазый и бедно одетый ребенок резко отличался от царевича Дмитрия и забитостью, и общим выражением лица.
Но причесанный и умытый и в расшитом золотом царском кафтанчике, он смотрелся не хуже злобноватого, дерганого царевича. Сделалось возможным совершить подмену в любую минуту.
Это-то и принесло самую большую неприятность.
Однажды во время обедни, когда во дворце никого не было, учитель решил закончить эксперимент. Он позвал Афоньку в свою комнату, причесал мальчика, заставил его надеть белое полотняное белье: штанишки и рубашку.
После этого мальчик натянул красные сапожки, обмотав ноги чистыми белыми платками, сверху надел темный, прошитый золотом кафтанчик и подпоясался ремнем, окованным бронзой. Затем Симеон набросил на него шелковую перевязь – получилась просто картинка. Осталось только пригласить в комнату царевича и вживую сравнить ребят.
Вдруг в городе ударили в набат. Очевидно, что-то случилось. Скорее всего загорелся какой-то посадский дом.
Мальчишка выскользнул из рук ученого иностранца, сбросил перевязь ему на руки и в парчовом царском кафтанчике выскочил на задний двор. Симеон стал высматривать в окно: что случилось, отчего набат?
В это время царевич Дмитрий вернулся с обедни.
Он нос к носу столкнулся с оторопевшим Афонькой.
Вид прислужного мальчика в царском кафтане привел Дмитрия в невменяемость. Без всяких рассуждений он подскочил к двойнику и, как его учили в тренировочных боях, всадил игрушечный кинжальчик мальчику в горло.
Афанасий захрипел и начал биться в судорогах на земле, истекая кровью.
Оказавшийся на улице Симеон не раздумывал ни секунды. Он схватил царевича в охапку, завернул в перевязь и бросился в сторону конюшен. Быстро, но не очень торопливо.
Его поношенная карета стояла под навесом. Он впихнул сумасшедшего царевича туда и приказал:
– Сиди тихо, а то убьют!
После этого он растолкал Тимофея Петрова – конюха, спавшего на остатках зимнего сена, – и велел запрягать его карету. Он не стал возвращаться во дворец. Иноземец не очень доверял русским порядкам и русским слугам и всегда все свое носил с собой.
Через четверть часа карета итальянца выехала из города через Спасские ворота и взяла курс на Москву.
А по всему маленькому городу Угличу уже лился тревожный бой набата. Люди останавливались и поднимали головы в сторону высокой городской колокольни. И бежали уже люди со всех сторон к царскому дворцу с криком:
– Дьяки убили царевича!
– Дьяки царевича убили!
Первым «вверх», то есть во дворец, прибежал мальчик Петрушка Колобов, верный товарищ царевича, и сообщил, что царевич на заднем дворе покололся ножом.
Петрушкина мать Марья – постельница царевича – с воем бросилась на задний двор. Следом за ней сбежала по лестнице заранее обезумевшая царица Марья.
Во дворе уже находилась кормилица Орина Жданова-Тучкова с окровавленным мальчиком на руках, и рядом с ней стояла и причитала растерянная мамка-воспитательница Василиса Волохова.
– Я не виновата! Я ни при чем! Я ни при чем! – бросилась она к царице-матери.
Но Марья (она же Марфа) и слушать ее не стала. Она вырвала из ближней поленницы полено и стала бить Василису Волохову по голове.
– Это все ты! Это все ты! Твой сын Осип! Это Данила Битяговский! Это Никитка Качалов!
Злость захлестывала царицу. Она знала, что так и будет.
Мало того что ее, красавицу, выдали замуж за старика-урода царя! Мало того что этот царь, этот царь-полутруп еще при своей жизни сослал ее в изгнание в этот маленький глухой город! Так теперь еще сына убили! Отобрали и сына, и последнюю надежду поцарствовать, свести счеты со всеми врагами-ненавистниками.
Это не просто сына убили. Это убили всю жизнь.
Она дико кричала, и била, и била поленом по голове Василису Волохову! У Волоховой уже были перебиты пальцы! Волохова валялась в ногах, умоляла ее не бить. Вся голова у нее была в крови, а царица не могла перестать.
Появились ее братья. Оба прискакали верхами: пьяный Михайло Нагой и полупьяный Григорий.
Григорий не удержался и тоже стал бить ногами мамку.
Отовсюду сбегался и съезжался люд. Посадские, слободские, посошные люди… Рабочие с пристани с топорами. Казаки с судов. Какие-то люди с рогатинами…
– Дьяки убили царевича!
Набат бил все тревожней и тревожней. И со всех сторон неслось:
– Дьяки убили царевича!
Прискакал на взмыленной лошади сам старший дьяк Михайло Битяговский. Он пытался успокоить народ. Но не тут-то было.
– Бейте его! – приказал Михайло Нагой.
Прислужливый люд первым начал дрекольем бить Битяговского и стаскивать его с лошади. А как же не бить, ведь прозевали царевича, надо хоть здесь выслужиться перед царицей.
Особенно старался конюх Тимофей Петров, который к этому времени окончательно проснулся. Тяжелая оглобля в его руках переломала не одну защищавшуюся руку.
Михайло Битяговский на коне пробился к деревянной избе для служилых людей и даже успел запереться. Но толпа выломала дверь, выволокла Михайлу наружу и забила камнями и палками до смерти. Заодно убили Данилу Третьякова, человека Битяговского, который тоже оказался в избе.
На свою беду прибежал на задний двор Никита Качалов – друг Осипа Волохова, сына забитой мамки.
– Бейте его! – кричала ополоумевшая Мария. – Вот он, убийца!
Никиту Качалова забили.
Откуда-то приволокли полуживого, ничего не понимавшего Осипа Волохова и на глазах у царицы Марфы убили окончательно.
Служивый человек Волоховых Васька было кинулся закрыть хозяина телом, так в момент забили и его.
Толпа озверела. Стали бегать за всей семьей Битяговского и его людьми. Притащили к царице его мать и сестер. И если бы не вмешательство попа Спасского собора Богдана и других священников, их забили бы до смерти тоже.
Кровь лилась рекой.
Сына Битяговского Данилу убили в дьячей избе. После всего всем миром разграбили дом и подворье ненавистного дьяка.
Питье в бочках из погреба Битяговского выпили и бочки покололи. Со двора забрали лошадей девятеро. Пусть от проклятого дьяка будет польза. Под шумок увели их в дальние деревни.
Все ненавистное семя людей Годунова было убито или попряталось. Многие дьяковы люди убежали в леса.
Долго еще волны злобы и крови перекатывались из края в край Углича. Долго еще звенел и плакал колокол.
Постепенно злоба стала затихать. Все стало успокаиваться.
Вспомнили о Москве.
И это воспоминание было таким нехорошим, что в животе холодело, а ноги подгибались.
Убитого царевича Григорий Нагой прилюдно отнес в собор Спаса Преображения, где младенца оставили для отпевания и похорон, чтобы все жители города могли пойти и проститься с ним.
Только этого не произошло. Заплаканные женщины в мрачных черных платках и вооруженные ножами люди из дома царевича встали на ступеньках храма и ни одного человека не пускали внутрь.
Ни один горожанин так и не сумел в этот день увидеть убиенного столь дорогого всем царского отрока и проститься с ним.
Чех-итальянец Симеон, покидая город, понимал, что главная тайна и опасность для Московии уезжает из Углича вместе с ним в его карете.
На сегодняшнем языке ее бы назвали «детонатор для огромной бомбы по имени государство Российское».
Два дня подряд высылал Михайло Нагой свою вооруженную челядь на московскую дорогу перехватывать всех людей, скачущих в Москву и едущих из нее. Ясно становилось, что дела его плохи.
Крови в Угличе больше не было, хотя рукоприкладство и побои продолжались. На второй день почему-то убили юродивую женку Орину, чей сын Афонька недавно был взят ко дворцу. Это было последнее и не совсем понятное убийство.
Многие уже стали понимать, что «угличское дело» добром не кончится и надвигается московская расправа. Посадские люди видели, как пытаются Нагие спрятать концы в воду.
Всех убитых Михаил Федорович Нагой велел стащить в овраг. На них сверху положили залитое кровью оружие. Прошел слух, что Михайло велел полить его курячьей кровью.
Первый посыльщик с известием о смерти царевича вылетел из города через двадцать минут после его гибели. Он не мог ничего сообщить Москве, кроме факта смерти Дмитрия Углицкого. Но о ней следовало известить Годунова немедленно. За каждую минуту промедления можно было потерять голову. Правитель Борис держал информационную струну между Угличем и Москвой туго натянутой.
Второй гонец с подробным рассказом о событиях в городе выехал на следующий день утром, еще затемно. В Москве он оказался к концу заутрени. В семье Годунова еще и не ложились.
Произошедшее ошеломило правителя. Событие могло быть самым несчастным и самым счастливым случаем для него. Одно неверное движение – и он со всей семьей летит в пропасть, в тартарары. Зато все дальнейшие поступки, сделанные им грамотно, скорее всего приведут его на престол.
То, что случилось, напоминало монету, упавшую на ребро. Она стоит и недолго держит равновесие. Но как она упадет – орлом или решкой? Троном или плахой? Надо помочь ей правильно упасть – троном вверх.
Борис отправился с докладом к царю.
Влах[1] Симеон встретил карету Афанасия Нагого – старшего из четырех братьев царицы – в десяти верстах от Углича.
Старший Нагой сидел на козлах рядом с кучером и лично правил горячей четверкой лошадей. Он так был увлечен гонкой, что они непременно бы разминулись с итальянцем, если бы не очередная починка тракта и огромная полубочка с провизией, задержавшие лихача. Лет Нагому было много, к шестидесяти шло, но силен он был и горяч, как будто ему не было и тридцати.
Симеон бросился к нему, размахивая руками:
– Стой, стой!
Старший Нагой соскочил к нему.
– Важное дело есть!
Они оба поискали место, чтобы свести кареты с дороги. Воспитатель позвал Афанасия в свою карету.
Мальчишка лежал на сиденье в полубреду. Только что закончился приступ падучей. Чернобородый, весь налитой мышцами Афанасий напрягся:
– Что случилось, латинянин?
Доктор вкратце все ему пересказал. Нагой не переспрашивал. Он все схватывал и понимал с ходу. За внешним обликом туповатого военачальника, стратилата[2] средней руки, скрывался цепкий ум азиатской воды дипломата.
– Боюсь, мои братья там сейчас наломают, – сказал он. – Хоть бы сообразили не раскрывать подмены. – Он подумал и добавил с некоторой злостью: – Вот что, доктор, пути назад нам с тобой нет. Или на трон, или на плаху! И хорошо, если на плаху сразу!
– Как так? – не понял доктор.
– А так. Наши ребята, прежде чем тебе голову отсечь, любят с мышкой еще поиграться.
Он еще секунду размышлял:
– Значит, так, доктор. Я возьму царевича и спрячу его. Есть глухое место. Ты поезжай дальше, в Москву. Остановишься у наших. Деньги я тебе дам. У меня с собой много. Походи по лавкам, по магазинам немецким, закупи все необходимое на НЕ-СКОЛЬ-КО лет. Напирай на ученые книги, на словари и все нужное для ученья. Купи все важное для себя, вплоть до тулупа и крепких сапог. Надо сделать так, чтобы года два вы с мальчишкой никуда не высовывались. Когда все сделаешь, приезжай в Ярославль к городовому приказчику Богданову, он тебе укажет, что делать. И главное, НИ-КО-МУ ни слова, иначе – могила. Да ты и сам ученый. Отнеси мне мальчишку в карету. Неси под мышкой, как сверток. Деньги я тебе здесь в кошеле оставлю. Да, и оружием обзаведись самым лучшим.
Симеон вышел с мальчиком наружу. Афанасий натряс в настенный кожаный карман большое количество монет из нательной поясной сумки, подождал, пока доктор вернется, выждал проезд случайного, жутко дребезжащего барского экипажа и вернулся к своей коляске.
Он вдарил по лошадям, и бешеная гонка продолжилась. Во время скачки Афанасий что-то обстоятельно втолковывал кучеру. Если бы не разность в одежде и не внешняя аккуратность Афанасия, трудно было бы с первого взгляда понять, кто барин, а кто слуга. Оба этих лица природа утонченностью черт не баловала.
Перед последним поворотом в сторону Ярославля кучер соскочил с повозки. Он отцепил одну из двух запасных лошадей, привязанных к задку кареты, вскочил на неоседланную лошадь и, со всех сил колотя ее ногами, быстро поскакал в сторону центра города.
Ему надо было сообщать братьям и сестре Нагим одно: не раскрывать подмены! Не раскрывать подмены! Не раскрывать подмены! Убили действительно царевича. Иначе всем быть без головы. Если не раскроют, остаются шансы на опалу, но не смерть.
Борис Годунов шел с докладом к царю. Вместе с ним шла жена Мария и вконец измученный гонец из Углича. Может, царь Федор захочет сам о чем-то спросить.
Уже давно Борис взял за правило разговаривать с царем, да и с другими боярами, в численном перевесе. И со страшным Грозным старался быть всегда при большинстве «своих». Может, поэтому и уцелел.
У самого волевого и умного российского человека есть неосознанная боязнь численного перевеса. Это в западных странах практикуются одиночные убийцы и одиночные враги. В Русии всегда шли стенка на стенку. Или стенка на одного.
Но в этот раз Борис изменил своему правилу: визит должен быть интимным (все только свои) и открытым (посторонний гонец). Но чужих туда не надо. Первые шаги надо было делать без сановных бояр.
Стрельцы из царской стражи спокойно отнеслись к появлению Годунова. Его здесь прекрасно знали. Они молча приветствовали его на всех переходах и постах и расступались.
Царь Федор Иоаннович и царица Ирина Федоровна находились в Столовой избе рядом со Средней палатой. Готовились к трапезе после обедни.
Годунов жестами убрал кравчего[3] и всех слуг. Потом подошел к царю и тихо сказал:
– Государь, очень плохая новость.
– Говори, Борис, – попросил царь.
– Царевича Дмитрия убили в Угличе.
Царь Федор поднял глаза на Бориса, недолго смотрел на него и вдруг по-детски заплакал.
– Не уберег, – говорил он сквозь слезы. – Не уберегли. Все мы не уберегли.
– А кто? Как? – спросила царица Ирина. – Кто убил?
Годунов вытолкнул вперед гонца:
– Рассказывай.
Гонец, в смерть растерявшийся, отдал царю большой земной поклон:
– Государь царь Федор Иоаннович! Не могу точно сказать. Только царицыны братья утверждают, что это по приказу Битяговских.
– Да им-то зачем? – жестко вмешалась Мария Годунова.
Борис сверкнул на нее глазами: молчи!
– Они уже полгорода перебили, – продолжил гонец.
– Кто, Битяговские? И право, зачем им это? – спросил царь.
– Нет, не Битяговские. Нагие.
Гонец в растерянности обводил глазами расписанные золотом стены, лавки, покрытые красным бархатом и золотом шитой материей. И незаметно удивлялся на царя. Сын страшного Грозного, слово которого с трепетом слушала вся Русия, был тих и слаб. Он даже плакал!
В Средней палате тем временем стали собираться старшие бояре. То ли своих информаторов имели, то ли почуяли что тревожное, то ли просто дела до царского правителя накопились.
– Все. Больше тебе здесь быть нечего, – сказал Борис гонцу. – Иди на двор и жди. За службу наградим.
– Мария Григорьевна, – сказал он жене, – проводи-ка его.
Жена Годунова – старшая дочь Малюты Скуратова – недовольно пошла из палаты. Гонец шел подле нее. И никто из важных бояр – великих Шуйских, родовитых Мстиславских и умных Щелкаловых – не посмел обратиться к нему с вопросом. Помалкивал даже дерзкий Богдан Яковлевич Бельский.
А вопрос явно имелся. Где это видано, чтобы простой, замызганный конник впущен бывал в царские покои? Видно, не простая новость приехала с ним. А кое-кто даже подозревал, что это за новость может быть.
Вслед за женой в Среднюю палату вышел Годунов.
– Государь отправился на молебен по загубленной душе. Убили младенца Дмитрия Углицкого, – объявил он и тут же поправился. – Убили царевича Дмитрия.
Члены Боярской думы зашевелились, стали перешептываться и переглядываться.
Годунов выждал долгую паузу:
– Давайте решать, что следует делать.
Бояре переглядывались, но молчали.
– Так что будем советовать государю?
Никто не спешил отвечать.
– Говори, Василий Иванович, – обратился Годунов к князю Василию Ивановичу Шуйскому. – Твое слово первое.
Мелкий, подслеповатый Шуйский долго шевелил губами, ничего не произнося. Потом со значением сказал:
– Кому-то это очень надо было убить младенца.
Члены царского совета молча оценивали сказанное.
– У кого же это поднимется рука на ребенка? – так же со значением произнес боярин Богдан Яковлевич Бельский.
– У кого надо, у того поднимется, – с еще большим значением, почти с намеком сказал князь Федор Иванович Мстиславский. – В восемьдесят седьмом уже пытались его убить. Когда кормилицу Татищову отравили.
– Ага, – очень громко и тоже со значением сказал правитель Борис, – значит, будем искать среди своих? Боюсь, я знаю многих на это дело охотников, а не одного стрелка.
Думные бояре мгновенно потеряли интерес к многозначительному тону.
– Надо комиссию послать во главе с кем-то из духовенства, из первосвященников, – строго, по-деловому предложил Василий Иванович Шуйский.
Несмотря на мелковатость и неказистую, нелепую внешность, чувствовалось, что он имеет большой вес в этой тяжелой длиннобородой компании. Бояре его сразу поддержали.
– Правильно.
– Тому и быть.
– Посему и решим.
Тут же стали называться кандидатуры людей, вызывающих абсолютное доверие или абсолютно не вызывающих никакого.
Названы были окольничий Андрей Петрович Клешнин, дьяк Елизарий Вылузгин, митрополит Геласий, и главой комиссии дружно назначили Василия Ивановича Шуйского – начальника судной палаты. Выезжать положили сегодня же, чтобы не было смуты на Москве.
– Между прочим, младенец был далеко не ангелом, – сказал Шуйский. – Любил гусей палкой до смерти забивать.
– Любил, когда кур режут и овец. Грешно говорить, – произнес Черкасский и перекрестился.
– Странное у него было имя – Уар! – добавил Федор Мстиславский.
Видно, сановные бояре были глубоко в курсе жизни убиенного младенца Дмитрия (в будущем святого Димитрия).
Девятнадцатого мая к вечеру отряд в пятьсот хорошо вооруженных пропыленных конных стрельцов в желтых кафтанах с командирами верхами вступал в Углич.
Отрядом командовал самый административно грамотный человек из московских – стрелецкий голова Темир Засецкий. Он догнал отряд в Дмитрове, потому что имел долгую предпоходную беседу с Годуновым.
Отряд был разбит надвое. В середине ехало несколько легких карет с конной охраной по бокам. В них находились члены комиссии.
По дороге на подходах к Угличу навстречу выходил прятавшийся в лесах чиновный люд и подсаживался в кареты. Так что задолго до приезда в город члены комиссии знали и поступки, и имена, и дерзостные слова главных участников бунта.
Отряд вступил на территорию города через Никольские ворота и быстро рассыпался на отдельные группки.
Спасские и Никольские ворота были немедленно заперты, на всех наугольных и средних башнях выставлены караулы. У всех дверей дворца была поставлена охрана. Всех Нагих, какие оказались во дворце, взяли под арест и развели по разным комнатам.
Царица Марфа была в Спасо-Преображенском соборе при гробике с младенцем. Первым делом сановные члены комиссии отправились туда. Надо было проститься с младшим сыном страшного Ивана Грозного. Может быть, последним членом династии.
Князь Шуйский, дьяк Елизарий Вылузгин, Андрей Клешнин и митрополит Геласий в сопровождении десятка стрельцов подошли к Преображенской церкви.
В церкви было пусто. Кроме царицы Марфы, может быть, там находилось два или три близких человека. Никто из горожан в церковь не допускался одетыми в траур людьми из царевичева двора.
На окровавленном царевичевом теле лежал нож убийц. Несчастная мать плакала горько. Долгие слезы побежали по лицам Шуйского, митрополита Геласия и Вылузгина. Зрелище было тяжелейшим.
Уж на что Василий Иванович Шуйский насмотрелся крови при убийце-издевателе царе Иване Васильевиче, а и тот не сумел сдержать рыданий.
Один Андрей Клешнин стоял без слез. Он молча смотрел на мальчика и не узнавал его. Царевич сильно изменился. Как будто в гробике лежал совершенно другой ребенок.
«Как же смерть меняет людей! – подумал про себя Андрей Петрович. – Впрочем, – решил он, – так бывает всегда».
Не медля ни получаса, комиссия приступила к допросам. Начали с Михайлы Нагого. Михайло Нагой заявил, что царевича Дмитрия зарезали Осип Волохов, Никита Качалов и Данила Битяговский.
Михайлу увели в подвал. Передали людям Вылузгина. Применили раскаленное железо. Он твердо стоял на своем.
Стали допрашивать Григория. Григорий сообщил, что царевич накололся ножом сам, в припадке падучей, которая с ним и раньше бывала.
– А почему убили Битяговского? И кто?
Нагой показал, что, когда явился старый Битяговский (42 года!), набежало много народа. Начал кричать неведомо кто, будто царевича зарезал Данила Битяговский со товарищи. И что Битяговского убил черный люд.
Третий Нагой – Андрей показал, что царевич ходил на заднем дворе, играл через черту сваей. И вдруг на дворе закричали, что царевича не стало. Царица сбежала сверху. А он, Андрей, в то время сидел за столом. Услыхав крик, он прибежал к царице и видит, что царевич лежит на руках у кормилицы мертв, а сказывают, что его зарезали.
– Кто зарезал?
– Осип Волохов и Никита Качалов с Данилой Битяговским.
Показания путались и множились.
Стали допрашивать кормилицу, мамку стряпчих.
Никто не признавал, что дал наказ убивать Битяговских. Как-то это само собой произошло. Кто-то из черного люда закричал, кто-то схватился за оглоблю, кто-то вытащил нож.
Стали допрашивать детей: Колобова Петрушку – сына постельницы царевича, сына кормилицы Тучковой и двух детей жильцов Красенского и Козловского.
Испуганные дети тоже показали на убийство царевичем самого себя. Играл он ножом в землерезы. Начался у него припадок. Стал он биться в судорогах, и пошла кровь.
Мамка Волохова рассказала о ранешних приступах царевича. Что он грыз руки и кормилице, и мамке, и даже от черной болезни поранил сваей царицу мать. В один приступ обгрыз руки дочери Андрея Нагого. Еле ее от него отобрали.
Эти приступы царевича очень заинтересовали Василия Ивановича Шуйского. Прекрасно помнил он приступы бешенства и садизма папочки царевича – Ивана Грозного. Он все спрашивал о них и спрашивал. И думал: «А каков был бы царевич на престоле? Может, правильно, что Господь Бог прибрал его. Прости меня, Господи!»
Подошли с другого конца. Кто первый ударил в колокол?
Ничего не прояснилось. Получалось так, что все слышали колокол, но никто не приказывал звонить.
Вдовый поп Федот Офонасьев, по кличке Огурец, говорил, что услышал звон у себя дома, что звонил сторож Кузнецов. А он, Федот, зазвонил уже потом, когда царевича убили.
И приказал ему звонить Михайло Нагой.
Сторож Кузнецов утверждал, что звонил он как всегда, а не из-за царевича. А большой звон был уже после.
Спросили Нагого, зачем давал приказ звонить? Нагой ответил, что сам услышал звон, чтобы мир сходился, у себя дома и только после этого прискакал во дворец.
Применили пытки. Благо в комиссии был специалист. Никаких сенсационных открытий не сделали.
И все это время люди стрелецкого стольника Засецкого держали город под жестким контролем. Ни один человек, даже посланный самим коварно умным Шуйским, не покинул город, не будучи обысканным с ног до головы до последней одежной застежки.
И никто почему-то не заметил отсутствия врача-наставника влаха Симеона. Как будто его никогда и не было при дворце.
И никто не обратил внимания на несуетливое присутствие доверенного лица Афанасия Нагого, его слуги и вечного спутника, крепостного Юрия Копнина. Он незаметно и тихо, но очень навязчиво проводил какую-то свою политику среди обслуги.
Этот человек, полутоварищ-полуслуга Афанасия Нагого, сочетал в себе психологию и все качества феодала и крепостного раба одновременно. Он не делал ошибок и своими советами спокойно направлял следствие по нужному Афанасию Нагому руслу.
Старший из Нагих, Афанасий Федорович Нагой, был видным, устоявшимся государевым человеком. Служил в посольском приказе еще у Ивана Грозного. Долгое время был послом русского царя при крымском хане. Дважды опасным считалось это место. Многие на нем теряли голову. А он уцелел, и с прибылью.
Сам Афанасий, может быть, вел бы дело лучше и тоньше, чем его наперсник. Копнин работал грубее, но все равно он абсолютно не делал ошибок.
В результате долгой и обстоятельной работы московская комиссия пришла к выводу, что царевич сам обрушился на нож из-за недогляда царицы и всей женской обслуги.
Что все угличские Нагие – Михайло, Андрей и Григорий – виноваты в побитье государевых людей: Михайлы Битяговского с сыном, дьяков и многих служилых и жильцов.
Виноватой сильно нашли царицу Марию в подстрекательстве к убийствам и в недогляде. Виновата была и вся царская обслуга.
Царицу пока оставили в покое. Всех Нагих в цепях увезли в Москву.
Теперь город с ужасом ждал государевой расправы.
Прошла молва, что татары выходят из Крыма. А в такое время любая попытка смуты жесточайшим образом подавляется.
Кажется, монета правителя Годунова упала орлом вверх.
Девятнадцатого мая в глубокую ночь, в дождь, в ворота английского подворья в Ярославле раздался дикий стук. Видно было, что пришедшие – не самые застенчивые гости и пришли не зря. И что они достучатся до своего.
Английский посол Горсей, располагавшийся там в эту пору, поднял на ноги вооруженную охрану, и его люди с зажженными факелами подошли к воротам. За воротами находился всадник, его впустили.
Это был старый знакомый Горсея по английским сношениям еще при Иване Грозном – Афанасий Нагой. Он спрыгнул с коня, отдал поводья охране и просил Горсея провести его в свободную комнату для разговора.
Афанасий рассказал, что в Угличе беда: люди Годунова убили царевича. В городе бунт. Царица при смерти. У нее припадок, судороги, выпадают волосы, и срочно нужны лекарства.
– Почему люди Годунова? – спросил Горсей.
– А чьи? – в ответ спросил Афанасий.
Горсей растерялся. Поддерживать такой разговор в стране, где всем ведал хитрейший правитель Борис Федорович, было опасно.
И если царице плохо, то почему за лекарствами прискакал дипломат самого высокого ранга, а не слуга? Причем он ехал за лекарством верхами более ста километров – из Углича в Ярославль?
Горсей не рискнул вдаваться в подробности. Его многолетнее знакомство с этой более чем странной страной научило его как можно больше думать и по возможности вообще не говорить. Особенно с государевыми людьми. Лучше лишний раз сочувственно по-азиатски поцокать языком.
Здесь каждый умный и образованный человек чувствовал себя иностранцем, а каждый иностранец чувствовал себя образованным и умным человеком.
Он дал Афанасию Нагому все лекарства, какие подходили к случаю (в основном успокаивающие), проводил его до ворот, обнял и пожелал быть живым и здоровым.
После этого он зажег свечу в своей комнате, присел к столу и дописал несколько осторожных, описательных (без оценок) страниц к уже готовому дипломатическому отчету.
Отчет составлялся для пославшей его английской королевы Елизаветы. Назавтра этот отчет уехал в Англию с купцами из этого же ярославского английского подворья.
Влах Симеон серьезно готовился к уходу в неизвестность. Собирался, как на зимовку. Закупал книги, приборы, карты, одежду, ткани, оружие. Брал все лучшее из гостиных дворов у иностранцев. Слава Богу, денег у него было много. Афанасий Нагой выдал ему половину дохода со всех имений, производств и жалований.
Целыми днями он с парой слуг ездил по городу и покупал, покупал, покупал. И в лавках, и в больших магазинах. И свозил все товары к знакомым латинянам в немецкую слободу. Там стояла его большая, хорошо отлаженная походная карета на случай неожиданного разгрома Нагих в Москве.
Он рассчитал точно.
И когда через несколько дней к подворью Нагих в Москве подъехал десяток стрельцов, латинянина в городе уже не было. Вместе с веселым кучером Иаковом он уже проехал третью заставу.
Первым отчет комиссии просмотрел Годунов. Он пролистал его, сидя за своим столом на Красном крыльце.
Отчет его устраивал полностью. Читал он быстро, потому что накануне человек Андрея Петровича Клешнина все пересказал ему довольно дробно.
Годунов читал больше для порядка, чтобы все видели, что он первочей при государе Федоре. И для того, чтобы все знали, что он чист и совсем не в курсе дела.
Не сделав никаких замечаний, он пригласил комиссию в полном составе из Красного крыльца в Среднюю палату.
Годунов и царь Федор слушали отчет комиссии. Рассказывал митрополит Геласий.
– Нами установлено, государь, что младенец Дмитрий убился сам. Обрушился на нож во время припадка падучей. Значит, на то была воля Божья.
Все перекрестились.
– Его отпели и похоронили как положено по уставу. В Москву решили младенца не перевозить.
– Я уже знаю, – сказал царь Федор. – А почему?
Вмешался Шуйский:
– По многим причинам, государь. Особенно из-за слухов. Много ходит наветов на государевых людей. А прибудь младенец в Москву, к нему будут толпы недовольных собираться. Неизвестно еще, что выкинет чернь.
– И духовенство против, – решил сказать смелое думный Андрей Клешнин. – Угличский младенец убился сам. Это против Бога.
Присутствующие опять перекрестились. На глазах у Федора снова выступили слезы и побежали по щекам.
– А кто убил дьяков и Битяговского? – спросил Годунов.
– Черный люд, – сказал Вылузгин. – Казаки с пристани, жильцы, люди с базара. По наказу Нагих.
– И много народу безвинно побито? – спросил царь.
– Много, государь, – ответил Геласий. – Очень много. Потому что люди городские и дворцовые начали многие счеты сводить.
Члены комиссии и царские ближние люди долго совещались.
Решение было принято такое: Годунов подготовит грамоту для духовного собора, Геласий или патриарх Иов ее на соборе огласят.
Чтобы успокоить народ в Москве и по городам, список с грамоты разослать по городам с гонцами.
Черновик грамоты утвержден был такой:
«Царевичу Дмитрию смерть учинилась Божьим судом. Играл он через черту ножичком, напала на него черная болезнь, стало бить его и крутить зело сильно. В то время обрушился он на нож, и скорая смерть его случилася. Обо всем ведает Бог, все в его Божьей руке.
Перед государем Михайлы и Григория Нагих измена есть явная. Как смерть царевичу учинилась, велели они приказных людей государевых дьяка Михайлу Битяговского с сыном, Никиту Качалова и других дворян, жильцов и посадских людей, которые за правду стояли, побить напрасно.
За такое великое изменное дело Михайло Нагой с братьями и мужики угличане, по своим винам, дошли до всякого наказанья.
А казнь от царя будет такая, какой его Бог известит.
Казнь и опала в руке царской, как его Бог надоумит.
А наша должность молить Бога о государе, государыне, о их многолетнем здравии и о затишье междоусобной брани».
Еще митрополит Геласий подал царю повинную царицы Марфы, написанную им с ее слов лично государю:
«Царица Марфа, призвав меня к себе, говорила, что убийство Михайлы Битяговского с сыном и жильцов дело грешное, виноватое, и просила меня донести ее челобитье до государя, чтоб государь тем бедным червям Михайлу Нагому с братьями в вине их милость показал».
Неожиданно за Нагих заступился и Василий Иванович Шуйский:
– Глупы, но мало виноваты!
Борис Федорович очень долго гадал и думал: «К чему бы это?»
Но объяснения не нашел.
На этом первая часть совета с царем была кончена. И хоть день был вторник – не Посольского приказа и не Казанского дворца, – решил Годунов доложить о делах Орды.
Он отозвал Клешнина:
– Ты, Андрей Петрович, уходи. Оставаться тебе сейчас не по чину. Но и далеко не будь, ты мне сильно надобен.
Когда Клешнин и многие служилые дьяки вышли, когда остались только ближайшие царевы советники, Годунов сказал:
– Что я сейчас скажу, дело очень тайное. Никто по Москве о нем знать не должен.
А из Москвы и вообще ни звука не должно уйти.
Он помолчал и со значением сообщил:
– Орда из Крыма выходит.
– А в чем тайна-то? – спросил боярин Борис Иванович Черкасский – не самый светлый разум в этой родовитой фамилии. – Сколько раз Орда выходила!
– Много раз выходила, – согласился Годунов. – Но никогда так ее выхода не ждали наши соседи шведские, уважаемый Борис Иванович. Или запамятовал, что у нас на севере сейчас?
У Черкасского прояснилось.
Годунов рассказал подробности. Пятого мая нашему послу в Крыму боярину Бибикову Казым-хан по дружбе сообщил, что Орда выходит из Крыма. Что она пойдет воевать Литву. Именно Литву, а не государевы Украйны.
Но то, что сказал хан, ничего не значит.
В письме Бибикова написано:
«А слово хана твердое.
И никогда не меняется. Сказал, что пойдет на Литву, значит, пойдет на Литву. О государевой Украйне, стало быть, можно не беспокоиться. А уж о Москве и вовсе не следует.
Ахмет-ага с приставами, какие взяли у меня и у моих толмачей все шубы, шапки, платье, деньги и запасы и вино по ханову слову, теперь наказан. И многое нам вернуто было. Так что о Москве беспокоиться не стоит и вовсе».
– Чего он так витиевато пишет? – спросил Федор Иоаннович.
– Понятно чего, – ответил Шуйский. – Бибиков хочет сказать, что хан готовит набег на Москву. Прямым текстом писать нельзя. Как бибиковского гонца хан перехватит, увидит, что написано, поймет, что о его походе предупреждают. В сей же день казнит посла, потому как заявит: «Я хотел набегом на Литву идти, а ты меня с царем московским поссорить хочешь».
– Надо поднимать Москву, бояре, – твердо сказал Годунов.
– Странно как-то получается, – удивился Борис Иванович Черкасский. – Посол пишет, что на Москву хан не пойдет. А мы будем войска выставлять.
Царь Федор отозвал Годунова в соседнюю комнату.
– Борис Федорович, ты-то как думаешь: стоит против татар готовиться? Ведь это какая работа. Опять большая война, опять разорение.
– Бо́льшее разорение будет, если татар прозеваем. Вот ты, государь, говоришь: «Почему он так витиевато пишет?» Ты просто не знаешь. Сейчас я тебе объясню.
Он вошел в Среднюю палату, взял послание Бибикова и вернулся. Все бояре вопросительно подняли вслед ему головы.
– Смотри, государь. Видишь: все строчки целыми словами написаны, а в некоторых есть слова с переносом?
– Вижу.
– Так вот, те строчки, в каких перенос имеется, следует понимать наоборот. Так у нас договорено было с Петром Михайловичем. Прочти, государь.
Царь прочитал.
– Выходит: жди татар?
– Выходит, государь. А ведь хитрая лиса Шуйский все сам вычислил. Понял, что надо ждать татар. Умен, бестия.
При слове «бестия» царь перекрестился.
– И ведь того не знает, что у Бибикова – посла при дворе – глаза и уши ханские есть. И хан знает, какое успокаивающее письмо на Русь уехало. Так что вдвойне жди татар, раз мы их ждать не должны.
Стали решать, какое войско готовить навстречу Орде. Кто будет командовать передним полком, кто большим и кто полками правой и левой руки.
В большом полку решено было назначить главным Федора Ивановича Мстиславского. Все понимали: старый (45 лет), безусловно, не самый умный, но осторожный, ошибок не сделает.
В правой руке – князя Никиту Романовича Трубецкого.
В передовом полку – Тимофея Романовича Трубецкого.
В левой руке – князя Василия Черкасского. И к каждому из трех первых воевод решено было приставить по Годунову. К Мстиславскому – самого Бориса. К Трубецким Степана и Ивана Васильевичей Годуновых.
Решено было стягивать полки из ближних городов и людей ратных со всех крайних городов к Серпухову. Черная туча большой беды, стрел, огня и полона нависла над Московией, и было уже не до убиенного царевича.
Когда царев совет закончился, окольничий Андрей Клешнин явился к правителю Годунову в его рабочую комнату.
Годунов стоял у поставца и готовил царские грамоты в города о присылке полков и о воеводах, которые должны эти полки привести.
Как только Клешнин вошел, Борис Федорович немедля приступил к вопросам:
– Ну что, Андрей Петрович, как там держался Шуйский? Что, копал или не копал?
– А кто его поймет, Борис Федорович. Он хитрая лиса. Может копать так, что и не заметишь, а яму выкопает – хуже не бывает!
– Но и ты у нас не промах, Андрей Петрович. Может, чего учуял? Может быть, что не так?
– То-то и оно, что вроде бы все так.
– Почему вроде бы?
– Я и сам не пойму, – сказал Клешнин. – Сейчас то, что царевич сам убился, устраивает всех. И тебя, и Шуйского, и Мстиславских, и Бельского, и Никитичей Романовых. Может, и государя Федора тоже. По крайней мере, твою Ирину точно устраивает. Но есть у меня подозрение, неспокойствие какое-то, что с этой версией нас провели. Уж больно все гладко для всех сходится. А я не люблю гладкостей.
– Так что же все-таки не так?
– Даже думать боюсь, не то что говорить. Какие-то страдания вокруг младенца ненастоящие, да и сам младенец странноватый.
– Может, подмена? – насторожился Годунов.
– Кажется, нет.
– А что надо сделать, чтобы прояснить твои сомнения?
– Надо вызвать сюда кормилицу Тучкову. Она может сказать больше всех. И мужа ее следует привести. Да чтоб не сбежали. Может, здесь на дыбе что-то и выясним. Хотя я и не уверен, что эти знания пойдут тебе, Борис Федорович, на пользу. Может, сейчас лучше и не узнавать ничего.
– А что делать с Угличем? С Нагими?
– Нагих наказать как следует и разослать по весям.
– Марфу тоже? – спросил Годунов.
– Ее в первую очередь. И весь Углич следует наказать примерно. Чтобы начинали твоей твердой руки бояться. Благо предлог удобнейший.
– Стало быть, действуй! – приказал Годунов.
Разговор был кратчайшим. В беседе с Клешниным никаких лишних слов обычно говорено не было.
Солнце сверкало в золоте куполов храмов и церквей. Симеон обернулся на Кремль, перекрестился и спросил веселого кучера:
– Как зовут вон ту, самую высокую колокольню?
– Какую?
– Вон ту, в Кремле.
– По-разному, – ответил Иаков. – Как хотят, так и зовут. И Столпом Большим зовут, и Иваном Великим.
– Как Иваном Великим? Грозным, что ли? Или просто Иваном? Мол, пошли к Ване погуляем.
– Башней Ивана Великого зовут. И еще перстом Божьим. Ее ведь достраивать собираются.
– А в честь какого Ивана башню назвали? – настаивал Симеон. – Их было много – Иванов.
– Да всех! – ударил по лошадям слуга. – Кто его знает – какого!
Четыре низкие упрямые русско-татарские лошадки споро тащили карету по малогабаритным булыжникам знаменитой татарской собачьей рысью. Они не глядели по сторонам, не отвечали на ржание лошадей, пасущихся по сторонам, а скучно и равномерно тащили тяжелую карету вперед и вперед.
Ни читать, ни писать при такой езде было невозможно. Никаких иных занятий не намечалось, а путь предстоял долгий.
С трудом устроившись в битком набитой карете, учитель-доктор заставил себя заснуть.
Спал он долго, поверить трудно, почти до Радонежа.
В Ярославле они быстро отыскали нужный дом. Прочный, огромный, но совершенно бестолковый. В его основу была положена типичная русская изба. Отличался он от избы только величиной и большим количеством разных клетушек, верандочек, светелок и кладовых, пристраиваемых по мере возникшей надобности.
Как всегда в таких домах двери были низкие, окна крохотные и расположенные ближе к полу, чем к потолку. Потолки тоже низкие. Печи с большими лежанками занимали до трети площади в комнатах. На балконах ни лечь, ни сесть. Никакого понятия о настоящих удобствах.
Царевича в этом доме не было.
Их сытно накормили какие-то молчаливые полуслуги-полукрестьяне. Уложили спать.
И сказали, что завтра надо ехать дальше, в город Грязовец за двести верст на север.
Впервые за все время авантюрист влах подумал, а уж так ли ему все это нужно.
Но что-то сильное руководило этим человеком, какая-то важная идея или цель. Или за спиной его стояла большая группа людей с коллективной волей. Никогда и нигде он не проявлял ни малейшей неуверенности.
Его спокойствие, прекрасное знание языка и обычаев страны, в которой он находился, благородство в каждом жесте подчиняли ему людей и вызывали их уважение к нему. Слуги прислуживали ему даже с некоторой гордостью. Никто не признавал в нем иностранца. Свой русский боярин. Из начальствующих, из хороших.
Из Ярославля он выехал уже без его веселого кучера Иакова, а с молчаливым чернобородым полубандитом, которого звали просто Жук.
Дорога по мере удаления от Ярославля лучше не становилась. Огромные тяжелые разрезанные бочки с провизией с севера, плетеные возы с дровами и сеном сильно разбивали ее. И если бы не постоянный ремонт мостов и брусчатки на каждом перегоне, ехать было бы вообще невозможно.
Три дня дороги. Жуткие трактиры с клопами и блохами. Если не обработать кровать или лавку кипятком, спать невозможно.
Слава Богу, везде была хорошая и дешевая еда. В любом самом захудалом трактире имелась медвежатина, севрюга, и осетрина, и семга.
Жук во всех трактирах и на постоялых дворах спал, не раздеваясь. Ел в основном руками.
Хорошо еще, что встречались постоялые дворы для иностранных купцов. Там было чисто и практически без клопов.
Несмотря на хорошую, коллекционную солнечную погоду, дорога осточертела влаху хуже горькой редьки. (Тем более что редькой сильно кормили во всех трактирах.)
Симеон все время старался подобрать попутчика-пешехода, чтобы хотя бы поговорить с ним и узнать что-то новое. А Жуку это явно не нравилось. То ли жалел лошадей, то ли получил указание не афишировать латинянина в этих далеких местах. Жук ворчал и делал вид, что уже проехал мимо пешехода.
Прибыли в Грязовец – тот еще город: сотня домов и одна мостовая на берегу реки. Не задерживаясь, чтобы не засвечиваться, проехали его сквозняком, несмотря на позднее время.
Из-за этого пришлось ночевать в лесу при дороге.
Возницу это нисколько не смутило.
Играя топором как легким кинжальчиком, Жук быстро соорудил шалаш, настелил подстилку из лапника и развел костер. Он вскипятил сбитень в каком-то ковше и поджарил на костре пару заранее купленных кур.
Ночевка получилась лучше, чем в трактире.
Спал Жук, положив под голову плоский камень.
Утром тронулись рано на хорошо отдохнувших лошадях.
«Как меня встретит царевич? – думал учитель. – Что-нибудь изменилось в этом звереныше? А ведь мальчик удивительно одаренный! И очень большие шансы на престол у него сохранились».
Симеон через свои источники знал о результатах комиссионной работы. И надеялся, что второй комиссии не будет.
Правда, его несколько тревожил последний приказ Годунова вызвать из Углича в Москву кормилицу царевича Дмитрия – Тучкову «…с мужем; и везти бережно, чтобы с дороги не утекли и дурна над собой никакого не сделали».
Но он надеялся, что этот вызов ничего уже не изменит. Тем более что любые изменения никому и даром не нужны.
И он очень сильно уповал на мощный иезуитско-азиатский ум Афанасия Нагого. Такие люди, как Афанасий, в жизни ошибаются только один раз. И стараются этого раза на всякий случай не допускать.
Этот мощный ум немедленно себя проявил.
После Грязовца ехали еще километров двадцать в сторону, на запад, пока не доехали до озера Никольского к деревне Пишали́на.
Дорог практически уже не было, были мучения. Земля была глинисто-болотистая, и каждый раз казалось, что карета завязла уже навсегда.
Но великий рукоумелец Жук рубил, толкал, подкладывал, погонял, рычажил, и они с Симеоном и с лошадьми постепенно продвигались все дальше. Стало даже как-то интересно, появился азарт.
– Куды оно денется? Куды? – каждый раз говорил возница.
И «оно» точно «никуды» не девалось. И ехало, и ехало вперед это самое «куды».
Вот небо впереди стало все больше светлеть, среди сосен и берез стали проскакивать горизонты, и наконец засветилась и заиграла серебром беспредельная гладь озера.
– Приехали, барин, – сказал неприветливый Жук.
Хотя барин и сам уже об этом догадался.
Постепенно выплыла деревенька с церковью и, слегка в стороне, большой барский дом. Простой, как северная архангельская изба, но чрезвычайно удобный. С въездом для повозок на второй этаж, с большими окнами со ставнями, с крышей, крытой широкими крепкими досками.
Должно быть, Афанасий Нагой готовил это место для себя, с тем чтобы в любое опасное время можно было надолго скрыться от глаз государевых.
Именно так решил про себя въезжий влах.
Юрий Копнин был уже здесь.
– Здравствуй, барин! – степенно сказал он. – Афанасий Федорович тебя заждался.
Приезжего гостя приняли приветливо. Неспешная, но доброжелательная челядь выгрузила вещи влаха и перетаскала их в дом, в его комнату.
Мгновенно был накрыт стол, извлечено все согревающее и снимающее усталость – наливки, медовухи, первачи.
– А где мальчик? – спросил влах.
– Сперва пообедаем, потом будет, – сказал Афанасий. – А то, боюсь, удар тебя хватит.
Долго, неторопливо обедали. Редька, рыба, птица, мясо, кисели, наливки. Многие блюда ели руками.
Молчали. Как в азиатской степи – кто первый заговорит, тот проиграл.
Потом вдруг Афанасия прорвало. Он стал вспоминать свои сложные дела: переговоры о женитьбе Ивана Грозного на зарубежных красавицах, опасные контакты с Казымом-Гиреем, бесконечные страшные казни старого царя…
«Конечно, Русь – очень перспективная страна, – думал про себя Симеон. – А все-таки это – Азия, Азия и еще раз Азия».
На его счастье, эту истину он усвоил давно, и новые жуткие истории Нагого его из себя не выбивали.
Наконец привели мальчишку.
Но что это?!
К ужасу и чрезвычайному недоумению влаха, это был не Дмитрий. Это был совсем другой мальчик. Если составлять словесный портрет, тот же – бородавка на щеке, сам рыжеватый, низкий лоб, уши торчком. Но только это был не он, это была слабая копия.
– Кто это? – спросил влах.
– Это он, – тихо ответил Афанасий Нагой, так тихо, чтобы слышал один только доктор. – Знакомьтесь: Дмитрий Иоаннович. Собственной персоной!
«Это Дмитрий? Царевич Димитрий?» – спросил доктор.
Спросил не голосом, не словами, а глазами, мимикой, недоуменным поворотом головы, всей своей напряженной позой.
«Да, да! Это он!» – так же, не словами, а глазами, общей уверенностью и кивком головы показал Афанасий Нагой.
Одетый в богатое городское, очевидно, с царевичева плеча, платье, сельский мальчик переминался с ноги на ногу и не знал, куда девать руки и себя самого целиком.
– Я не понимаю, – сказал влах.
– Будущий претендент, – тихо сказал Афанасий.
По его жесту мальчика увели.
Оба собеседника принадлежали к разным слоям общества, разным странам, даже материкам. Имели разное образование, разную религию, разные характеры, разную волю и темпераменты. Но психика у каждого была абсолютно здоровой. Все виды мимики – от первичной: улыбка, оскал, – до третичной: ирония, лукавство – им были свойственны. Они обладали языком талантливых, гениальных людей – лица тончайших выражений.
– Для чего все это? – спросил наконец Симеон, когда они остались одни. – Что за маскарад? Зачем еще одна подмена?
– Сейчас объясню, – сказал Афанасий. – Представь себе: приезжает сюда настоящий Димитрий. Никому здесь не известный, зато капризный, истеричный, припадочный мальчик. Представил?
– Да.
– Слушай дальше. Ему привозят книги, карты, дорогие игрушки. Его обучают языкам, хорошим манерам, владению шпагой, верховой езде и прочим царским умениям. Да?
– Да.
– Он держится дерзко, высокомерно. Повелевает даже своими учителями. Упоминает нужные и ненужные имена без всякого к ним уважения. Да?
– Да.
– Завтра, послезавтра, через день вся дворня узна́ет, что это за соколенок. Что после этого последует?
– Донос, – сказал учитель.
– Донос, да не один, – подтвердил Афанасий. – Сотскому, приставам, посошникам, да любому заезжему человеку. О чем? О том, что здесь, в имении Нагих под Грязовцом, в лесах у озера Никольского готовится претендент на престол. Кем готовится? Нагими – лютыми врагами Годунова. Затея эта опасна даже для царя Федора, а уж тем более для Богдана Бельского, для Шуйских, Щелкаловых, Клешниных. Для всех тех, кто сослал царевича в Углич и занял властные места. Верно?
Влах кивнул головой.
– И то, чем ты сейчас киваешь, через неделю будет на плахе. Согласен?
Влах был вынужден согласиться. Сразу, без малейшего размышления. Все было изложено Афанасием в хорошо продуманных формулировках с высокой разрешающей способностью.
– А так? – спросил Симеон.
– А так? – переспросил Нагой. – Так все очень просто. Живет в имении мальчик, мой незаконный сын. Рыжеватый, бородавка у него, как у всех Нагих. Не царский он вовсе. Совсем неопасный ребенок. Понятно?
– Понятно.
– Воспитывай его, обучай, готовь на царский престол. Вбивай ему в башку свои латинянские идеи. Думаешь, я о них не знаю?
И когда он будет готов, когда увидит Европу, побывает в замках богатых людей, открывай ему постепенно тайну. Что он не просто сельский подросток из села Пишалина, а великий сын грозного царя Ивана. Законный наследник московского престола. Ясно?
– Да.
– Пока ты здесь с ним занимаешься, никакие царские собаки к тебе не придерутся. Хоть самого Малюту Скуратова присылай, родственничка правителя нашего. Верно?
– Верно, – согласился влах.
– И знаешь, как его зовут на самом деле? – спросил Нагой.
– Дмитрий? – догадался Симеон.
– Точно!
Прошла некоторая довольно долгая пауза.
– А царевич?
– Что – царевич? Где он?
– Да.
– Нет его. Считай, что он умер. Он сейчас уже не важен. Ничего себе претендент на престол, в девять лет совершивший первое убийство! Его надо держать вдалеке от людей, и то только на всякий неудачный случай. Появлять его прилюдно никак нельзя. Это вообще смерть для нас. Для всех Нагих.
– Почему? – удивился учитель.
– Одно дело, когда за убитого царевича поубивали полгорода царевых, годуновых людей. Тогда нас еще можно простить. Но если пол-Углича убито за-ради дворового мальчика… За это сразу на плаху.
– И все же где он?
– Далеко. Думаю, что уже дальше годуновских когтей.
– Я вижу, ваш род не очень чествует Годуновых.
– Точно, не очень. Это старинная вражда.
Кажется, все было решено, и этот странный союз состоялся. Вторая подмена была одобрена Симеоном.
– Стой! – вдруг сказал он. – А крест? Царский крест!
– Ты прав! – согласился Афанасий. – Как же это я упустил. Крест, пожалуй, главный документ в этом деле. Крест этот знаменитый. Его крестный отец Иван Федорович Мстиславский через царскую казну в Греции заказывал. Крест необходимо вернуть. Не беспокойся, я за этим прослежу.
– Я вижу, Борис, что ты не очень жалуешь Нагих, – сказал царь Федор Борису Годунову, когда тот зачитывал ему приказы о наказании угличских людей.
– Верно, государь, не жалую.
– А почему?
– Много причин для этого есть. Вспомни хотя бы, государь, тот случай, когда отец твой Грозный сына своего Ивана посохом прибил. Помнишь?
– Помню, Борис.
– Ведь я тогда вмешался. Хотел брата твоего от государя защитить. Этим же посохом мне крепко досталось. Царь Иван и меня тогда убивал. Я две недели потом пролежал в постели и от побоев, и от огорчения. А старший Нагой – Федор, тесть царский, тогда на меня наговор сделал, что я, мол, нарочно лежу, чтобы царскую жалость к себе вызвать.
– И что же было? – спросил Федор.
– А то и было. Приехал царь Иван мои фальшивые раны смотреть. Не дай Бог, чтобы они и в самом деле фальшивыми оказались. Мне бы тогда еще добавлено было бы здорово, если не до смерти. На мое счастье, раны мои настоящими были – шрамами кровавыми.
– А дальше что случилось? – спросил царь.
– То и случилось, государь, что за поклеп на меня царь велел врачу Строганову Федору Нагому такие же раны поставить.
Из Углича всех Нагих, включая Марью, решено было разослать по разным монастырям и крепостям и держать в строгости. Но никакого вредительства над ними не делать.
Всех жильцов, кто в бунте был или бунту препятствовать не хотел, из города выслать с семьями.
У колокола, которым народ к погрому сзывали, язык вырвать и из города вывезти, отбить ему ухо и отправить в Тобольск.
– Тех жильцов с семьями, которых выселяют, куда направить решили? – спросил царь Федор.
– По разным местам. В Сибирь и на север.
– Есть такой город в Сибири Пелым, – сказал Федор Иванович. – Я недавно туда поминки слал на монастырь. Очень бедный город. Там рабочие люди нужны. Надо бы углицких людей в этот город послать. Пусть Пелым подымется немного.
С этих пор город Углич захирел.
В конце июня противотатарские полки стали стягиваться к Серпухову. Ставились шатры, разбивались палатки, поднимались стяги.
Впрочем, народ был небалованый, и спать, укрывшись попоной, положив голову на камень, мог любой, начиная от полкового начальника до последнего захудалого воина.
О хане стало доподлинно известно, что Казым-Гирей идет в сторону Тулы большой тучей в сто пятьдесят тысяч всадников, нигде не медля, обходя крепости, не рассыпаясь для грабежа. Это и радовало, и сильно пугало. Значит, будет меньше разора по стране, и значит, будет опасней последствиями главная битва.
Воинство прибывало и прибывало. Шла посо́ха – городские и уездные обязательные дружины. Толку от них, как правило, бывало немного. Шли профессиональные заградительные полки из подходных к Москве городов. Выделялись строгой дисциплиной одетые в форму стрельцы и городские казаки.
Подвозились пушки, шли отряды пищальщиков. На длинных возах везли разобранные крепости на колесах. Это были знаменитые гуляй-города – новейшее изобретение московской военной мысли.
Дальние города особо не беспокоили. Времени было в обрез, да и татары уже были татары не те. К этим временам бивали их не однажды. Все-таки вызвали дружину и полки из Новгорода. Пусть будут.
Накануне Годунов через казаков получил письмо от Бибикова. В нем фразами, разбитыми переносом, сообщалось, что хан точно идет на Литву, а не на Москву. И что накануне ясновидцы предсказали ему полную удачу. Отчего у хана прекрасное настроение.
Настроение у самого Годунова сразу улучшилось, и уверенность в успехе в этом огромном противостоянии татарам резко возросла. Она передавалась всем окружающим, в том числе семье царя.
От Оки прискакали казаки, сказали, что хан с большой ратью движется к Москве, а не к Серпухову.
Поэтому на большом совете порешили стягивать полки к самой Москве, чтобы хан не мог обойти их или разбить.
Когда за спиной у армии большая крепость, в которой можно укрыться, армия чувствует себя гораздо спокойнее.
К войскам выехал сам царь. В сопровождении Мстиславского блеклый Федор ехал на маленькой спокойной лошади: бояр, воевод, дворян лично жаловал, а целый рой священнослужителей раздавал благословления направо и налево.
Прискакал с Оки стрелецкий голова Колтовский и объявил, что хан перешел Оку и уверенно направляется к Москве. Ночевал он в Лопасне. Татар идет рать огромная, даже наемники у них есть с артиллерией.
Мстиславский по сговору с Годуновым выслал легкий отряд тульских и смоленских боярских детей с луками и пищалями к реке Пахре сбивать татар с переправы.
Ничего из этого не вышло. Татары сделали засаду и сбили сам отряд. Побили детей боярских, многих взяли в плен. Воевода Бахтеяр-Ростовский, раненый, едва успел ускакать в поля. Конь у него был спорый.
Мстиславский тогда решил больше травлей татар не заниматься, а споро стягивать все силы к Коломенскому.
Войска подтянулись и выстроились перед Даниловым монастырем. Сзади был обоз со всем необходимым, запасным оружием: луками, стрелами, саблями, пищалями; конечно же, с провиантом, питьевой водой в большом количестве и всяким лекарским снаряжением, необходимым для битвы.
Запаздывал только Новгородский полк. Заплутал где-то возле Серпухова. А может, полк нарочно не очень-то спешил. Еще не забылась обида новгородцев на Ивана Грозного, родителя нынешнего царя, за его кровавую расправу над городом.
В чистом поле споро были собраны два гуляй-города с артиллерией на помостах, с прорезями для пищальных стрелков, со всеми военными припасами. Города эти обычно перевозили в разобранном виде на телегах, и несколько плотников-пушкарей собирали их в течение полудня на нужном месте.
Решили сделать сюрприз для татар, секретное оружие: катай-город. Смастерили площадку деревянную на крепких тележных колесах, поставили на нее три заряженные пушки с фитилями. И хорошо расчистили дорогу вниз, к предполагаемым татарам.
Утром в воскресенье подошел к Москве хан. Без всяких переговоров его люди стали задирать передовые полки русских.
Сходились на большом поле в бою и целые отряды, и отдельные всадники. Русские выпускали вперед профессионалов – литовцев и немцев с мушкетами. Изрядное количество крымцев они положили на траву.
Удало показал себя Федор Никитич Романов. Два раза выскакивал он на горячем черном коне к дерущимся, проскакивал сквозь дыру в цепи и саблей с ходу снимал одного из татар. Не останавливая коня, по дуге разворачивался и на обратном скаку снимал другого.
Татары заметили яркого и ладного мурзу, делающего столь рискованные рейды. И в следующий его заход уже несколько всадников его караулило. Очень им хотелось добыть такого князя, такого коня, такое оружие.
Едва князь проскакал сквозь цепь, за ним уже бросилось четверо всадников на быстрых низких конях.
Но князь знал, что делает. Вдогонку за этими четырьмя уже шли, разбрасывая копытами по сторонам мягкую июньскую землю, пятеро княжьих людей. И эти пятеро сняли четверых, гнавшихся за князем.
Московия очень обрадовалась.
Эдакая травля крымцев с русскими шла полдня.
Казым-Гирею это не нравилось. Ситуация была нелепая.
Обычно Орда встречалась с русскими полками в открытом поле. Татары всегда применяли одну тактику. Они выходили на русские полки большой силой в центре, а потом заходили клиньями в спину и, разбив на части, уничтожали русских.
Привыкли они и осаждать города. Возили с собой осадные машины, тараны, машины, стреляющие огнем. И не было города, который они не могли бы взять штурмом.
Но сейчас здесь, под Москвой, все для крымцев получалось нелепо. Обойти войско и вдарить клиньями в спину было нельзя. За полками стоял большой город. С артиллерией на башнях, с отрядами стрельцов, которые могли выйти из любых ворот в любое время и ударить по татарской коннице.
Осаждать город тоже было невозможно – перед городом стояло войско. В нужное время оно сделает любой маневр. И ударит в самое слабое место Орды.
А тут еще случилось совсем неожиданное. Одна из гуляющих крепостей вдруг поехала вперед. Это было неожиданностью даже для многих русских.
Пологий наклон от города был ровным, без помех, если не считать убитых всадников.
И эта страшная многометровая колымага с пушками и горящими фитилями двинулась в центр татарского войска, сминая своих и чужих.
Когда махина, разламываясь и ломая все, подъехала ближе к татарве, пушки стали стрелять самопально.
Вышло как нельзя лучше. Так они грохнули, что и нашим страшно стало. Татарские кони бросились врассыпную, роняя всадников.
Большая брешь получилась в крымском войске.
Тут еще где-то в стороне возник опоздавший новгородский полк. Воевода Прозоровский то ли от большого ума, то ли от полного его отсутствия на ходу перестроил полк в боевой порядок и буром попер на Орду.
Ордынцы сначала приняли полк за своих, за татар, возвращавшихся с грабежа Рязани. Потом поняли, что это не так, что это русские и что они делают самое страшное – бьют клиньями в тыл.
И началась паника.
Казым-Гирей бросился спасаться первым. За ним рванули другие тьмы и тысячи в полном беспорядке.
За ханом отослали скорые полки, но нигде его не могли догнать. Успевали только разбивать один за одним отряды, прикрывавшие его отход.
Успех был полный.
Десятого июля приехал из Москвы стольник Иван Никитович Романов. Подал князю Мстиславскому и Борису Годунову золотые деньги. И другим воеводам золотые были розданы.
Еще Годунов получил шубу в тысячу рублей и дорогой золотой сосуд, который был взят у Мамая еще при Куликовской битве.
А Мстиславскому была передана опала за то, что в письмах к государю он писал только свое имя, не упоминая о конюшем боярине Борисе Федоровиче Годунове.
И все приглашались на пиры в Грановитую царскую палату.
Пиров решено было сделать несколько. Отдельно для воинов и стратилатов. Отдельно для бояр и детей боярских. И отдельно уже для совсем своих: для семьи, для ближних и родственников.
Годунов, естественно, приглашен был на все.
Борис Федорович Годунов расположился в просторном белоснежном шатре недалеко от поля боя и работал. Он сидел за легким походным столом и писал распоряжения и докладные, отчет для царя, для Думы и прочее, прочее, прочее.
Вошел стрелец и сказал, что прибыл Афанасий Нагой. Просит разговора.
– Впусти, – мрачновато согласился Борис.
Чернобородый, налитый силой Афанасий бросился перед ним на колени.
– Чего хочешь? – хмуро спросил правитель.
– Будь милостив, Борис Федорович, сними опалу с семьи.
– Я-то тут при чем? – удивился Борис. – Есть царь, к нему и иди. Это его воля снимать опалу и накладывать.
– Не лукавь, Борис Федорович, – просил Нагой. – От тебя все зависит. Без тебя государь и шагу не делает. Век всем родом будем тебе служить.
Годунов задумался. Нагой был не из тех, кого можно долго держать на коленях. Явной вины его перед государем не было.
Умный человек – выплывет. Ивану Грозному много и долго служил. Много дел полезных для Москвы за ним числится. Но и помогать ему не хотелось. Слишком много азиатской крови в этом человеке, доверять полностью ему было нельзя.
– Слишком много просишь, – сказал Борис. – Очень ваша вина перед государем высока. Что скажешь?
– За Михайла я не прошу, – заторопился Афанасий. – За Марфу тоже. Только за младших. За Григория с семьей, а особенно за Андрея. Он и добрый, и способный, языки знает. Я в него полжизни вложил. Им помоги… и будет.
Годунов встал из-за стола, поднял Афанасия и сказал:
– Хорошо, Афанасий Федорович! Что в малых силах моих, сделаю. Только ты первым делом к государю в Москву отправляйся. Моли его, как меня молил. Чтобы никто потом не сказал, что я своей волей такие дела решаю.
Это обоих устроило. Каждый теперь знал, как надо поступать.
В далеких грязовецких лесах у озера Никольского ковался царевич. Наследник престола Российского. Врач Симеон был хорошо подготовлен к роли его формирователя. Он владел шпагой как учитель фехтования. Прекрасно ездил верхом. Знал приемы ближнего рукопашного боя. При всем этом он был великолепно образован. Владел медициной, знал языки, историю, особенно историю Рима, и много понимал в математике. Одним словом, это был человек-университет.
Утро начиналось с верховой езды. В любую погоду: в дождь, в снег, в ветер объезжали они на конях все имение. Иногда не торопясь, с наслаждением. Иногда в горячей скачке, чтобы долго не мокнуть под дождем и ветром.
Потом они завтракали. Причем Симеон слегка прислуживал мальчику. И садились за занятия. Читали, читали и читали.
Мальчик менялся с каждым днем. Горячая кровь Нагих, природный такт, вышколенность и светскость, которую прививал ему Симеон, делали его неотразимым ребенком.
Пока еще вопросы: «А почему так?», «Что изменилось?», «Для чего все это?» – он не задавал, принимал все как должное.
И никаких намеков на его будущую и прошлую жизнь никто ему не делал. Просто незаконного барского сынка решили выучить на настоящего барина.
И мальчик, и вся дворня воспринимали все это именно так. Ну, пусть так и будет. А впереди длинного и сложного пути этого ребенка вставала великолепная, блистательная перспектива – стать царем, государем московским. Со всеми вытекающими (для всех окружающих его) последствиями. Ох, как долог он и опасен (для всех), этот путь!
Жизнь в стране шла своим чередом. Как будто никакого царевича Дмитрия никогда вообще не было.
В девяносто седьмом году царь (читай Годунов) выслал против крымцев на берег Оки знатнейших бояр с полками.
Прибыли все. Весь цвет государства Российского. Члены Боярской думы: Мстиславский, Годуновы, Романовы, братья Шуйские, братья Щелкаловы, Бельский.
Князья Черкасский, Трубецкой, Ноготков, Голицын, Шереметьев и другие. И все с дружинами и со свитами.
Татар ждали, но не очень. Также не очень-то и опасались. Дело больше походило на учебные сборы. Военная тревога, военные учения, проверка, проба, испытание. То есть пустые военные хлопоты.
Когда страшная опасность не связывала князей и бояр, полководцев и воевод в одно единое войско (в один живой организм), в российской жизни (всех слоев и всех мест) всегда начиналась склока и распри. Главной причиной склоки было местничество: кому и где какое место занимать. В любой иерархии: политической и административной, военной и гражданской, московской и окраинной.
Чего только не делали князья, чтобы не оказаться под властью менее родовитых сподвижников. Они заболевали, не являлись на службу, рискуя головой и имением, затевали долгую нудную тяжбу с конкурентом, шли в тюрьму, умирали.
Начал князь Тимофей Романович Трубецкой – воевода сторожевого полка. Он стал бить челом на князя Василия Ивановича Шуйского, воеводу правой руки. Мол, не дело это Трубецким ниже Шуйских бывать. Во все века такого еще не случалось.
Князь Иван Голицын, воевода левой руки, начал бить челом на князя Тимофея Трубецкого. Как так, он, Голицын, ниже Трубецкого оказался?! Такого раньше не бывало и впредь такому быть не надо.
И началось!
Князь Черкасский бил челом на князя Ноготкова. Буйносов – на Голицына. Шереметьев – на Ноготкова и Буйносова. Кашин – на Буйносова и Шереметьева.
Такая неразбериха затеялась: думать страшно! Не дай Бог, татары нагрянут! Бери тогда русских голыми руками: никто ни под кем служить не хочет, никто ничьих команд выполнять не собирается.
На одного Мстиславского только челом не били. Его старшинство признавалось всеми.
И на Годунова никто не писал, хотя он знатнейшим не признавался. Понимали строптивые бояре, чем такое челобитье кончится.
Кое-как вернулись из похода без поражений. Хорошо, что сами не передрались.
В Москве Иван Голицын подал царю Федору прошение.
«Милостивый царь государь.
Не пристало мне в дальнейшем ходить под Тимофеем Трубецким. Если я, холоп твой, не урешу этого дела и окажусь ниже Трубецкого, я всему роду Голицыных бесчестье заведу».
Боярам легко было понять Голицына. Один раз тебя запишут в разрядную книгу ниже Трубецких, так во все времена, во всех походах Голицыны ниже Трубецких ходить и будут.
Государь поручил это дело Годунову. Годунов упросил Федора Ивановича Мстиславского. Мстиславский, в свою очередь, позвал «великого дьяка» Андрея Яковлевича Щелкалова – начальника Посольского приказа. Обычно для таких конфликтов этого хватало – дьяк из чиновников и боярин из знати.
Таким образом, не прошло и двух месяцев, как дело закрутилось.
Разместились в Посольском приказе, в Красной палате, под рукой у Щелкалова, и надолго занялись этим кляузным делом.
Важный и сановитый Мстиславский прочитал длинное, хорошо мотивированное прошение Голицына. Потом прочитал не менее длинное, с историческими экскурсами, объяснение Трубецкого и первым делом обиделся сам:
– Смотрите, что он пишет здесь. Что дед мой, князь Федор Михайлович, в книгах писался вместе с князем Микулинским. Но дед мой никогда вместе с Микулинским не бывал. Дед мой всегда был выше. Меня князь Тимофей Романович бесчестит.
Все больше распаляясь, Мстиславский встал и пошел вон.
Трубецкой бросился его задерживать.
– Не сердись, князь Федор Иванович. С дедом твоим еще можно было в отечестве считаться, но по отце твоем с тобой местничаться нельзя. Больно твоего отца государь жаловал. Великим его почитал.
Другие бояре также стали уговаривать Мстиславского не сердиться и суд вести. Уговорили.
Чтобы узнать, кто выше, Трубецкой просил подьячих принести список свадьбы короля Магнуса. Там был хорошо описан весь ритуал.
Знаменитая свадьба справлялась в Новгороде в семьдесят третьем году и была на памяти у всех потому, что невеста, племянница царя Иоанна Грозного, была православная, а жених был не христианской веры – протестант. И венчали их два попа.
По этому списку, как объяснил Тимофей Трубецкой, князь Василий Юрьевич Голицын был меньше его брата, князя Федора Романовича Трубецкого.
Послали подьячих в Разрядный приказ принести из архива нужный документ.
Скоро подьячие принесли специальный ящичек со свадебными списками. Отыскали в нем нужную бумагу.
По ней вышло неладно. Князь Трубецкой там не был вовсе записан. А были только князь Шейдяков, князь Голицын да дьяк Василий Щелкалов.
Разгорелся целый скандал. Трубецкой кричал, что это подмена, подлог. Что это братья Щелкаловы, Андрей и Василий, специально переписали бумагу в пользу Голицыных. Потому что они родственники и сваты.
Бояре вызвали тогда Василия Щелкалова – начальника Разрядного приказа:
– Где сама летописная книга о свадьбе короля Магнуса?
Василий сослался на Андрея, на архив Посольского приказа. Андрей ответил, что не помнит, была ли у него эта книга.
– Все ясно, – заявил Трубецкой. – Братья все сделали в лучшем виде. Книгу спрятали, а список подправили.
– Как мы могли подправить, когда список писали не мы. Писал подьячий Яковлев. А все подьячие и все разрядные нам враги.
Дело не на шутку разрасталось. Кто-то будет сильно виноват: или Трубецкой, обвинивший дьяков в подделке документов, или Щелкаловы, переделывающие царские бумаги по своему усмотрению.
Перенесли суд на другой день.
На другой день сам, незваный, пришел второй начальник Разрядного приказа – Сапун Абрамов, заступник за подьячих и враг Василия Щелкалова.
Он принес черновик списка королевской свадьбы, он отыскал его в ящике для черновых бумаг Василия Щелкалова.
Список всех удивил. Все в черновике было, как говорил Тимофей Романович Трубецкой. Только рукой кого-то из братьев Щелкаловых Трубецкой был зачеркнут, а вместо него был вписан самолично Василий Щелкалов. Будто это он сидел на свадьбе рядом с наиважнейшими боярами как свой.
Дело постепенно стало решаться в пользу Трубецкого, а над братьями Щелкаловыми нависла тяжелейшая опала за воровство.
Очень хорошо в сию минуту такое дело не поднимать, людей не наказывать, а попридержать этот материал на нужное время. Глядишь, или эти люди тебе еще понадобятся, или этот материал.
Так Федор Иванович Мстиславский (по научению Василия Ивановича Шуйского) и решил поступить.
Борис Федорович работал в своих палатах в Кремле. Дворецкий Григорий Васильевич Годунов принес ему ящичек с вновь поступившими бумагами.
– Как там война закончилась между Трубецкими и Голицыными? – спросил Годунов.
– Порешили в пользу Тимофея Романовича. Трубецкие по старым книгам попервее будут.
– Бог ему в помощь. Хоть глуп, но не зол.
Годунов посмотрел на письма в ящичке:
– Что здесь в первую очередь читать?
– Есть одно письмо очень серьезное.
– Это? – спросил Годунов, глядя на запечатанное в кожаный чехол, все залитое печатями послание английской королевы Елизаветы Гастингс.
Годунов, даже минуя Федора, поддерживал сношения с королевой, как и «английский царь» Грозный. Но не на тот предмет, чтобы смыться в Англию, как собирался это сделать Иоанн Васильевич, а на предмет получения льгот для купцов российских и личного врача для самого себя.
– Нет, не это, – ответил Григорий Годунов. – Есть более серьезное послание. Очень серьезное, если это не ловушка. Впрочем, прислал человек надежный – Лука Паули.
– Который при Варко́че?
– Он самый.
– Читай.
У Годунова была странная привычка: он любил воспринимать бумаги на слух. Только самые опасные бумаги, бумаги первейшей важности, он читал сам. Поэтому и ползла о нем молва в народе, что правитель-де неграмотный, не книгочей.
Дворецкий начал читать письмо:
– «11-е декабря 1593 г.
Борису Федоровичу Годунову лично в руки.
По прочтению, в ноги кланяюсь, сжечь.
А был у нас два дня назад человек важный, посещал цесарского посла. Передавал подарки государевы для кесаря. Все письма передал, все поручения. Потом завел разговор секретный. Что царь Федор здоровья хлипкого. Дочка его Феодосия тоже еле жива.
И что надо думать о наследнике московского престола. Хорошо бы прислать сюда мальчика лет четырнадцати царской крови, чтобы его усыновить семьей государевой. И что по смерти царя Федора есть возможность возвести его на престол московский. Посол этим делом очень заинтересовался и обещал все в точности передать кесарю Рудольфу».
– Все? – спросил Годунов.
– Все, Борис. Письмо сжигать?
– Ни в коем случае. Этим письмом мы не одного Щелкалова-старшего накроем. Еще кое-кто посыпется поинтереснее. Вот уж измена так измена! При живом государе на его престол наследника подбирают!
– Значит, Андрея Щелкалова будем брать.
– Подождем. Нельзя доносителя выдавать. Он нам еще ох как нужен будет. Пусть Варкоч уберется сначала. И потом, этого доноса маловато, еще сведения нужны.
Годунов помолчал.
– И передай ему награду, да посерьезнее. Так, чтоб никто не ведал. Он нам еще из Праги, от кесаря, нужные вести передаст.
Борис Федорович обычно говорил не торопясь, обдумывая каждое слово, хотя сам был достаточно нервен и беспокоен. И эта спокойная речь абсолютно не вязалась с его чрезвычайно нервным обликом, это часто отмечали иностранцы.
– Не понимаю, – продолжил он, – у человека есть все. Сто рублей в году ему платят. Он – главный в Посольском приказе. Царь и бог в заграничных делах. Без его слова никто за рубеж шагнуть не смеет. Княжеские судьбы решает, хоть сам рода захудалого. Царь Иван порой говаривал: «Да у меня таких родов, как его, не одно сто». Даже сана боярского не имеет. Ему без княжеских корней держаться бы за меня против князей и держаться. Так нет, в правители лезет. А то и в цари.
– Как в цари?
– А так. Удастся принца Максимилиана на престол ввести, кто будет первый человек в государстве? Максимилиан? Черта с два!
Оба Годунова перекрестились.
– Он будет, он – Андрей Яковлевич Щелкалов. А там и до царского престола недалеко. Али ты не помнишь, как в восемьдесят четвертом по смерти Ивана Васильича они с братом себя царями величали?
Годунов подумал, прошелся по комнате и добавил с сожалением:
– И на чем горят! Спесь сжирает! А жаль, больно умен, собака!
Андрея Щелкалова взяли в мае девяносто четвертого.
Взяли демонстративно – прямо из Посольского приказа.
И что было удивительно, дьяка взяли одного, хотя изменские дела в одиночку никогда не делались.
Вслед за ним никто не посыпался. Даже брата его, Василия Яковлевича, не взяли. Очевидно, Годунову остальных пока брать было неинтересно. И их попридержали.
Так закончилась дружба правителя с братьями Щелкаловыми, которых в опасном восемьдесят четвертом году Борис Федорович назвал родными отцами.
В доме князя Федора Ивановича Мстиславского – первого российского воеводы – был жуткий переполох: правитель Годунов дал знать, что хочет его навестить.
Готовили грандиозный обед. Доставались вина рейнские, мускатные, белые французские, аликанте. Приносилась мальвазия, настойки, чаши с медом высшего качества.
Жарились лебеди, журавли со специями, петухи. Пеклись куры без костей, глухари с шафраном. Готовились рябчики в сметане, утки с огурцами, гуси с рисом, зайцы с лапшой. Приготовлялись лосиные мозги, пироги с мясом. Выставлялись сладкие желе, кремы, засахаренные орехи.
Накрывались столы в большом сводчатом зале. Были даже приглашены музыканты.
К двенадцати часам все было готово.
Вот прискакал десяток вооруженных стрельцов, и выставилась охрана. Вслед за стрельцами подъехала легкая нарядная карета, окруженная конной стражей. Она въехала в широкий боярский двор.
Из кареты легко выбрался Годунов и, слегка прихрамывая, направился к парадным, расписанным золотом резным дверям.
Первый стратиг государства важно вышел навстречу и поклонился Годунову.
– Здравствуй, Борис Федорович. Спасибо, что решил меня навестить.
Годунов вошел в дом, в главный зал с почти накрытыми столами и огляделся.
– Хорошо у тебя, Федор Иванович, красиво, лепо. – Он выдержал паузу. – Так, значит, это здесь меня хотели отравить после смерти государя нашего!
– Что ты, Борис Федорович! Свят, свят! Окстись, батюшка.
– Да ты можешь этого не знать, Федор Иванович! Это братья Шуйские подбили твоего отца Ивана Федоровича. А он человек был покладистый, куда поведут, туда и шел. Только они открутились, а он так и ушел навсегда.
– Не будем об этом, Борис Федорович, – попросил хозяин. – Дело давно забытое. Что, нам и поговорить не об чем?
– Хорошо, не будем. И верно, есть нам об чем поговорить. Ты знаешь, что Щелкалова Андрея взяли?
– Знаю, Борис.
– А за что взяли, знаешь?
– И духом не ведаю.
– При живом царе наследника на трон искал. С кесарем Рудольфом переговоры затеял. Сейчас он в пыточной комиссии.
Мстиславский в ужасе качал головой:
– И что, вина его доказана, Борис Федорович?
– Разумеется, доказана, – ответил Годунов. – Иначе бы не взяли. Да и сам он во всем Семену Никитичу признался.
Семен Никитич Годунов в то время командовал Пыточным приказом. Редко кто в чем не признавался ему.
– Значит, плохи его дела, – сказал хозяин.
– Плохи, – согласился гость. – Очень плохи. – Годунов опять помолчал. – Да и твои не лучше. На тебя показывает.
– Не может быть, Борис. Я чист! – возразил полководец.
– Чист-то чист, да не совсем, – не согласился правитель. – Кое-какие книги разрядные он для тебя переправлял. И для твоих братьев. Первенство ваше перед другими боярами выпячивал. А это зачем, для чего? Какая такая необходимость возникла?
Мстиславский испугался:
– Какая такая необходимость! Так, тщеславие детское, честолюбие взыграло!
– Честолюбие – это хорошо, – сказал Борис. – И тщеславие – это неплохо. А если это не честолюбие, не тщеславие, а расчет какой дальний?
– Помилуй, Борис Федорович, какой расчет?
– А такой. Царь болен. Случись что, по этим бумагам царицу с престола очень даже нетрудно спихнуть.
Мстиславский взмолился:
– Не губи, Борис Федорович! Не клади опалу на семью! Вот тебе крест, никогда не буду против тебя выступать!!!
Годунов задумался.
Он вспомнил, как о том же просил Афанасий Нагой.
Нагой при Иване Грозном был послом в Орде. Оттуда он писал царю, кто из бояр имел запрещенные сношения с ханом. По этим письмам Грозный посылал бояр на пытку или на плаху.
Порой сам Грозный просил Нагого показать на кого-то из зарвавшихся бояр. А потом казнил неудобного боярина «за измену».
Словам Нагого верить было нельзя – чистая Азия. А Мстиславский – европейский человек. Может слово и сдержать. И Годунов после долгого молчания сказал:
– Хорошо, Федор Иванович. Договорились.
Повернулся и пошел к карете.
– Стой, Борис Федорович! – закричал Мстиславский. – А обед? Садись, пировать будем! Все же ждут!
– Спасибо, – ответил Годунов. – Я уже обедал. Да и живот чего-то болит второй день.
Нагой и Щелкалов встретились по дороге на Белоозеро. Их экипажи столкнулись у недорогого дорожного трактира.
Может быть, Нагой и не узнал бы, кого везут и куда в потертой дальнедорожной карете, но его слуга Копнин каким-то чудом знал все.
– Смотри, Афанасий Федорович, Щелкалова везут.
Действительно, везли Щелкалова под небольшой, в три верховых стрельца, охраной.
Нагой подошел к щелкаловскому приставу, чтобы получить разрешение на разговор со старым знакомым, своим бывшим начальником.
– Не велено! – хмуро отвечал пристав.
– Я заплачу, – предложил Нагой.
– Не велено!
И опять же расторопный Юрий Копнин все устроил.
– Не можешь ты с ними говорить, Афанасий Федорович. Ты все по-начальнически хочешь. А тут по-человечески надо. Иди в карету. Тебя ждут.
Думный дьяк Андрей Щелкалов и дьяк Афанасий Нагой были дипломатами приблизительно одного ранга. Щелкалов был главный дьяк Посольского приказа (Министерства иностранных дел), Нагой – посол высшего разряда в самой опасной для Моск-вы стране – Крымской орде.
И вот оба они в опале: один уже рухнул в пропасть, другой еще идет по самому краю.
Они сидели в обшарпанной служебной карете под надзором пристава и троих служилых людей и тихо беседовали.
– Что с тобой? Куда? – спрашивал Нагой.
– Донос на меня пришел. Лука Паули – переводчик варкочевский – донес, что я с Рудольфом вел переговоры.
– Понятно, – сразу проник в суть вопроса Афанасий. Он с лету понял, что речь в данном случае могла идти только о принце Максимилиане и московском престоле. – куда теперь?
– За Белоозеро, в монастырь. – Щелкалов помолчал и мрачно добавил: – Право, тут и не знаешь – доедешь ли. А то и удавят по дороге, как Ивана Петровича Шуйского удавили.
В карете так и висело ощущение беды и тревоги. Постаревшего Щелкалова просто трудно было узнать.
– Я могу чем-нибудь помочь? – спросил Нагой.
– Нет, – ответил Щелкалов. – Ничем ты мне не поможешь. Скажи только брату моему Василию, пусть все делает, как мы с ним договорились. Пусть ни от чего из порешенного не отказывается и Романовых держится.
Афанасий Нагой дорого отдал бы, чтобы узнать задуманное братьями. Но он прекрасно понимал, что через это узнание можно запросто и головы лишиться.
Они обнялись и стали прощаться. Вдруг Щелкалов спросил:
– Слушай, Афанасий, а ты сам был в Угличе, когда младенца Дмитрия убили?
– Прости Господи, не был, – перекрестился Афанасий. – А что?
– Да говорил мне Андрей Клешнин, что там было что-то не так. И младенец не совсем тот, и похороны не вовсе те… И Вылузгин чего-то чуял, и Шуйский носом крутил. Ничего не ведаешь?
– Нет, брат, не ведаю…
– Жаль, хорошая могла бы быть комбинация! – закончил беседу Щелкалов. – Ну ладно, бывай! Вон пристав волком глядит.
Они еще раз обнялись, и каждый дальше поехал по своей жизненной линии. Странная эта езда в Русии.
Очень долго не мог прийти в себя Афанасий Нагой после «хорошей комбинации» Щелкалова. Ничего толком не ясно, но очень тревожно.
В конце девяносто четвертого года в Москву в третий раз приехал цесарский посол Варкоч напомнить царю его обещание помочь австрийскому цесарю казною.
– Если хотите помогать, то помогите теперь, потому что турский султан пошел на нас со всею силою.
В частной беседе с казначеем Степаном Васильичем Годуновым он толковал:
– Цесарь наш прислал Борису Федоровичу свои подарки, какие только к братьям своим посылает, другим великим курфюрстам. Да ты только взгляни. Две цепи золотые, одна с портретом цесаря. Часы золоченые с планетами. Кубок серебряный, позолоченный, с жемчугом. Два попугая.
Он расхваливал все это, как купец в крымском жидовском городе Кыркоре, где располагался русский посол Бибиков. Судя по шикарным подаркам, дела австрийского цесаря действительно были очень плохи.
При первой личной встрече с Годуновым Варкоч буквально умолял его:
– Их царское величество просит, чтоб вы умилосердились о кровопролитии христианском. Помогите, чтоб государь ваш казны своей послал, которой имеет от Господа Бога очень много, потому что теперь пора. Господь Бог на этом свете всякой радостью вас наградит и детей ваших. И на том свете вам вечный платеж будет. И у всех государей и людей христианских великую славу иметь будете.
Годунов слушал и в процессе слушания размышлял. Что-то подсказывало ему, что в этот раз кесарю следовало бы помочь. А почему следовало, он еще не понял.
Подарки, переданные государю Федору Ивановичу, были еще роскошнее. Драгоценности были присланы и жене его – царице Ирине Федоровне.
По случаю приезда посла царем был устроен роскошный прием на сто человек сидящих и двести человек стоящих бояр.
Когда после пышных приемов и долгих бесед Борис Федорович и Степан Годунов остались одни в рабочей комнате правителя, казначей спросил:
– Что, не будем посылать казны?
– Как не будем, будем, – ответил Годунов.
– Мы ж никому не посылали, да и нам никто не посылал. Все больше обещаниями ограничиваются.
– В этот раз пошлем казну, и большую, – сказал Годунов. – И вот почему. Нас сейчас литовцы не пугают. После смерти Батория они не страшны. И шведы, слава Богу, замолкли. А вот турский султан самый наш первый враг. И надо бы кесарю деньги послать. Проку особого, я думаю, не будет. Но и казне без дела лежать незачем. Пусть работает. Хоть раз покажем немцам, что при случае мы можем их рать содержать. Другие сразу заискивать перед нами начнут, забегать вперед и в глаза заглядывать.
– Почему это? Отчего вдруг?
– А оттого! Узнают, что австрийскому кесарю денег дали, будут думать, что и им дадим. Много больше на стороне выиграем. И послать надо не деньгами, а так, чтобы как можно больше слухов по Европе расползлось: дорогими товарами, мехами!
Годунов встал из-за стола и, слегка прихрамывая, обошел комнату.
– Вот что, Степан Васильевич, готовь бумагу о посылке большой меховой казны в Австрию, – приказал он. – И пусть повезут ее Власьев дьяк и дворянин Вельяминов Петр.
– Этот-то зачем? – спросил казначей про Вельяминова.
– Пусть. Для солидности: глуп, но зело дороден зато!
Весной, в апреле девяносто пятого, посланы были к кесарю думный дворянин Вельяминов и дьяк Власьев. Они повезли соболей, куниц, лисиц, много белки, бобров, волков и лосиных кож на десяти возах.
«Месяц май, года 95-го.
Государеву конюшему и ближнему великому боярину, наместнику царств Казанского и Астраханского Борису Федоровичу Годунову от рабов Божиих послов государевых дьяка Афанасия Власьева и дворянина Петра Вельяминова
ДОНОШЕНИЕ
Сказываем, что, приехавши в Прагу, где живет цесарь австрийский Рудольф, мы потребовали, чтобы нам указали место, где разложить меха.
Нам дали на дворе у цесаря двадцать палат, где мы смогли разложить куниц, лисиц, волчьи шкуры и лосиные кожи с соболями.
Белку мы клали коробами плетеными берестяными.
Когда все было изготовлено, император с ближними людьми сам пришел смотреть государеву посылку.
Цесарь государеву вспоможению вельми обрадовался и удивлялся, как такая великая казна собрана. Говорил, что прежние цесари и советники их никогда такой большой казны, таких дорогих соболей и лисиц не видывали.
Нас расспрашивали, где такие звери водятся, в каком государстве.
Мы им отвечали, что и в государевом царя Федора государстве в Конде и Печоре, в Угре и в Сибирском царстве близ Оби великой от Москвы больше 5000 верст.
На другой день цесаревы советники присылали к нам людей с просьбой, чтоб мы положили цену нашего государя подаркам: как их продать?
Мы, рабы Божии, отказали со словами: «Мы присланы к цесарскому величеству с дружелюбным делом, с государевой помощью, а не для того, чтобы оценивать государеву казну. Оценивать мы не привыкли, этого дела не знаем».
После цесаревы люди нам сказывали, что цесарь велел оценить присылку пражским купцам, и те оценили ее в 400 000 рублей.
А трем сортам лучших соболей цены не положили, не умели по их дороговизне.
На этом писание заканчиваем, потому как уходит оказия. Большое и подробное письмо с докладом государю вышлем с нашим государевым человеком в ближайшее время».
Долгое время хозяина в Пишали́не на Никольском не было. Занятия у Симеона и Дмитрия шли полным ходом. Мальчик был благодатным материалом. Все его интересовало, все он хотел делать сам. Он быстро постигал фехтование, верховую езду, языки, географию, историю Рима и Греции.
По Библии с ним занимался сельский священник. В одном только у них с учителем были разногласия: мальчик рвался к ровесникам, деревенским ребятам, а Симеон его ото всех отгораживал.
Любой друг, любой будущий наперсник – это опасность расколоться, предать. «Царевич» Димитрий был заранее обречен на бездружество, на одиночество.
Осенью приехал Нагой. Привез царский крест. Крест был невиданной тончайшей работы. С первого взгляда было видно, что крест этот, безусловно, царский.
«Царевичу» его, конечно, не показали.
– Ну, как там мальчик? – спросил Симеон о настоящем царевиче.
– Жив. Злой растет, замкнулся, – ответил Нагой. Потом добавил: – Не прав я, зря я тебе это говорю. А правильно то, что он в дороге умер.
– Зачем, Афанасий Федорович, ты меня за дурака держишь? – рассердился доктор. – Давай на равных разговаривать!
– Не за дурака я тебя, доктор, держу, а голову твою хочу сохранить. В Литве он!
Больше на тему настоящего Дмитрия разговора не было. А через день Афанасий Нагой сказал:
– Готовься, доктор, в путешествие. Того гляди, царь Федор помрет, тогда все границы закроют. А наш рыцарь должен быть светским человеком.
Это была приятная новость. Симеон уже стал скучать по дорогим гостиницам, хорошему вину, умным беседам. Он просто забыл, как выглядят хорошенькие женщины.
Во всем мире женщины перетягивают талию так, чтобы утончить ее и подчеркнуть грудь. Русиянки же придумали совсем нелепую одежду. Они перевязывали себя платками над грудью, в результате чего самая хорошенькая сельская красотка выглядела нелепым ходячим перевязанным снопом.
Доктор с Афанасием долго разрабатывали план путешествия.
Сначала решено было двигаться на север на Белое море. Потом кораблем в Литву. Останавливаться предполагалось в монастырях. У Афанасия на этот счет была заготовлена особая государева бумага.
Потом через Польшу в Москву. Но ненадолго, чтобы не светиться, но Москву узнать. Посмотреть на Кремль, на главные монастыри. После этого обратно в Пишали́ну.
Еще решено было, что с ними поедут Юрий Копнин и Жук.
И очень скоро потрепанная колымага доктора с мальчиком между двумя кучерами наверху и доктором Симеоном внутри под крики дворни, лай собак и вопли деревенских петухов поплыла в свой первый, пока еще не кровавый путь.
В Москве был разгар лета.
Утки, цапли и лебеди становились на крыло, и над золотыми куполами Кремля то и дело проносились чирки и крупные утки. Приближалось самое время для соколиной охоты.
Правитель Годунов почувствовал необычный прилив сил.
Он знал, что сегодня в заповедных лугах у Озерковской слободы, да и по всей реке, идет отбор ловчих птиц. Соколов, кречетов, ястребов в большом количестве вынесли на реку, к гус-тым камышовым зарослям и водяным кустам.
Место было царское, охота всем другим, даже князьям и боярам, была запрещена. И дичи водилось огромное количество.
Многочисленные слуги ловчих выгоняли птицу на крыло, и ловчие, выбрав удачное время для битья дичи, пускали соколов в полет. Надо было рассчитать так, чтобы цаплю или лебедя сбили над ровной землей и не приходилось вплавь вылавливать ее из воды.
Дичь подавалась к царскому столу.
Борис Федорович с двумя слугами и иностранцем Джильсом Флетчером – английским послом в Русии – вышел из задних ворот Кремля и по берегу пошел в сторону лова.
Они любовались берегами, зеленью, солнцем, азартом ловчих и вели беседу.
То и дело было видно, как взлетает с воды утка, устремляется вдоль реки спасаться, и как сверху камнем на нее падает сокол. На более крупную птицу, на цаплю или журавля, выпускали ястреба.
Азарт охватывал всех.
– Летит! Летит! Летит! – кричали слуги, руками показывая направление полета утки.
– Пошел! Пошел! – кричали они, когда в небо взлетал стремительный сокол.
– Бьет! Бьет! Бьет! – радовались они, когда птица была подбита и обе птицы летели наземь.
Иногда кто-то стрелял в птицу влет из лука. Но это была пустая трата стрел. Их траектории никогда не пересекались.
Флетчер прекрасно говорил по-русски, Годунов помнил немного английских выражений. Слуги Флетчера и Годунова шли в отдалении.
– Царь наш очень болен. Жить ему недолго, – говорил Годунов. – Смерть его будет величайшей бедой для Московии.
– Потому что корень пресекается?
– Не только поэтому. В других странах тоже бывало, чтоб корень пресекался. Но у них есть порядок передачи власти. У нас же вся Русь висит на одном гвозде. Поэтому будет поножовщина, беспощадная борьба за трон.
Флетчер развел руками и вздохнул. Да, он понимал, он и сам догадывался, что так случится.
– Не стану лукавить, – говорил дальше Борис Федорович, – я буду принимать в ней участие. Многое за меня. Да ты сам посуди, Джильс: как я править начал, с одной только Англией торговля в десять раз увеличилась. Грозный все разломал, что мог. Вместо девяноста кораблей в год стало десять из Англии приходить. А сейчас опять девяносто. – Годунов разгорячился: – Он не только торговлю разломал, он людей к подлости приучил. Все мы друг друга убиваем, никак остановиться не можем. Порой даешь приказ опального боярина без худа содержать, так нет, смотришь, удавят. А потом у меня и выхода другого нет. Если я не попаду на трон, я попаду на плаху. Эти выученики Грозного меня в покое не оставят. И меня убьют, и семью погубят.
– Чем я могу быть полезен? – спросил Флетчер.
– Одним. Ну, скажем так, поможешь мне не бежать, а поменять место жительства.
Я имел по этому поводу довольно рискованную переписку с вашей королевой. Она обещала покровительство. Но это было давно.
А сейчас переговоры освежить надобно. При первой же оказии в Англию напомни Елизавете об этом. А я уж изо всех сил позабочусь о твоей московской торговой кампании.
Неожиданно к Годунову подошел нищий монах. Годунов напрягся в ожидании просьбы милостыни. Он не любил никаких незапрограммированных обращений в свой адрес.
Однако монах сказал нечто такое, что сильно встревожило Годунова:
– Государь, здесь не все, пришедшие на охоту, – твои хорошие друзья, лучше тебе укрыться.
– Где? – коротко спросил Годунов.
– Вон в том охотничьем доме. Его стрельцы охраняют.
В этот момент один из ловчих поднес Годунову сокола:
– Борис Федорович, лучше этой птицы не было.
– А вот мы сейчас поглядим.
Правитель взял птицу и, высмотрев очередную утку, подбросил ее вверх.
– Пошел! Пошел! Пошел! – закричали слуги.
Борис, слегка прихрамывая, побежал за соколом.
Он удалялся все дальше и дальше, пока не скрылся в приречных кустах. Прямо в одежде перебрался через реку и вернулся в Кремль другой дорогой.
У царского крыльца его ожидала толпа епископов, князей, воевод. Некоторые ждали его уже два, а то и три дня, потому что он редко здесь ходил. У него был тайный ход в царские покои.
Раздались выкрики:
– Боже, храни Бориса Федоровича!
Они стали подавать ему прошения, целовать руки. Годунов пообещал все передать царю.
– Ты наш царь, благороднейший Борис Федорович! Скажи только слово, и все будет исполнено.
А через четверть часа разнаряженная толпа всадников из молодой придворной знати нагрянула в охотничьи угодья. Их было не меньше пятисот.
– Где Борис Федорович? Мы хотим приветствовать его!
– Боже, храни Бориса Федоровича!
Хотя Борис Федорович никому не сообщал о том, что будет в этом месте. Безжалостная борьба за трон началась.
Часть вторая. Годы Годунова
В Золотой палате Кремля горели свечи и было душно. Здесь умирал царь Федор.
По стенам и по соседним палатам толпились представители всех родов и фамилий, патриарх Иов, священники.
Безмолвствовали бояре, безмолвствовал патриарх.
Около постели на коленях стояла царица Ирина и держала Федора за руку. Она что-то шептала ему, но видно было, что он уже мало чего воспринимал.
Патриарх Иов перекрестился и произнес дрожащим голосом:
– Свет в очах наших меркнет, праведный отходит к Богу!
После этой фразы он подошел вплотную к умирающему и спросил неожиданно громко, специально так, чтобы слышали все:
– Государь! Кому царство, нас сирот и свою царицу приказываешь? На кого всех нас оставляешь?
Федор зашевелился и с трудом произнес:
– Во всем царстве нашем и в вас волен Бог! Как ему угодно, так и будет. И в царице моей Бог волен, как ей жить. У нас с ней обо всем улажено.
Государь закрыл глаза и замер. Патриарх пособоровал его святым маслом, причастил его Святых Тайн, и почти невидимая тень пробежала по лицу умирающего. Видно стало, что душа его отлетела.
Как только это случилось, Богдан Яковлевич Бельский первым вышел из палат. За ним потянулись Шуйские, поспешил Мстиславский. Но многие еще находились там. Годунов и Федор Никитич Романов остались в палате. Оба наблюдали один другого.
Патриарх подошел к Ирине Федоровне, обнял ее и еле слышно сказал:
– Матушка царица, что государь наш Федор тебе говорил? Кому престол завещал?
Царица молчала.
– Ты прости меня, Ирина Федоровна, но, если не знать этого, большую кровавую смуту получить можно.
Царица, закрыв лицо черным платком, взяла патриарха за руку и вывела из палаты. Все, кто был в палате, повернули вслед им головы. И в палате поднялся резкий гул.
Когда зашли на половину царицы, Ирина Федоровна подняла лицо на священника и сквозь слезы быстро заговорила:
– Отец Иов, не знаю, что тебе сказать. Никому он не хотел завещать престол. Даже Борису, как я его ни просила. И ничего объяснять не хотел. Видно, что-то он знал, чего нам знать неведомо. Он так говорил: «Я на себя этот крест не возьму. Пусть Бог все решит. Он один ведает, что творит».
Патриарх погладил царицу по голове и грустно произнес:
– А ведь и верно, он что-то знал, но и мне говорить не хотел. Значит, нам самим теперь это решать. – Потом он добавил: – Нам с тобой, матушка государыня.
– Нет, – возразила царица Ирина Федоровна. – Отец Иов, это ты один будешь решать. Мое место в монастыре. Я до конца дней буду свой грех отмаливать, что из-за меня царский корень пресекся.
Борис Годунов с трудом протиснулся сквозь толпу тяжело одетых мощнобородатых бояр и поспешил в свою рабочую комнату. Там его давно ждали Андрей Клешнин и Семен Никитич Годунов.
– Ну что, Борис Федорович, как дела? – спросил Клешнин.
– Плохи дела. Сейчас такая свара будет! Федор Романов даже кинжалом мне угрожал.
– А как же ему не угрожать, – сказал Семен Никитич, – когда у него в Коломенском доме уже большой портрет висит с надписью «Федор Никитич Романов – государь всея Русии».
– Точно ведаешь? – спросил Годунов.
– Ты же знаешь, Борис, у меня ошибок не бывает.
– Хорошо, проследи за портретом, чтобы не вывезли, не сожгли.
– Есть у меня в этом доме верные люди, доложат.
Годунов оборотился к Клешнину:
– А что у тебя, Андрей Яковлевич?
– Богдана Яковлевича Бельского люди в большом количестве в город приехали. Есть и с оружием.
– Чего хотят?
– Хотят Бельского на престол кликать. Своих к Кремлю будут собирать.
– А вот этого допускать не следует. Со всех деревень наших людей соберите. Всех мастеровых поднимите. Стрельцов сгоните. Пусть костры жгут, вокруг крутятся. Но чтоб люди Бельского и на одну стрелу к Красному крыльцу не подошли.
Когда весть о том, что царица Ирина заключилась в Новодевичий монастырь, прокатилась по Москве, к Кремлю со всех сторон стал стекаться простой люд. Все больше и больше разгоряченного народа подбиралось к Красному крыльцу. Стоял великий шум, местами возникали стычки.
Наконец напряжение достигло предела. На Красное крыльцо вышел великий дьяк Василий Щелкалов:
– Братие! Царица наша, надежда последняя, в монастырь заключилася. Такова воля Божия!
Он перекрестился, поклонился народу и продолжил:
– Многие бояре достославные думали и надумали объединясь Москвой и страной править. Меня послали спросить у вас добра. И если вы согласны, православные, надо сейчас присягнуть Думе боярской. Самое верное правление будет. Верно, братие?
Народ зашумел недовольно:
– Знаем мы эту Думу! Пауки в банке дружнее живут!
– Не знаем ни князей, ни бояр! Знаем только царицу.
– Бориса Федоровича знаем!
Народ шумел, угрожающе сминая дворцовых стрельцов. Стрельцы заволновались:
– А ну, поди! Подай назад!
Люди напирали. Назревала мощная свара. Замелькало оружие. Полетели камни. Чем кончались такие толковища, бояре уже знали. Народ («наш господин»), а заодно и всякий пришлый сброд так и мечтал войти в истерику, чтобы пустить ненавистную боярскую кровь из золотых и красных кафтанов.
– Стой! Стой! Осади! – на всю силу закричал Щелкалов. – Ясно! Ясно все. Пусть царица Ирина Федоровна правит!
В этот день, чтобы не было большой склоки, все князья, бояре и дети боярские присягнули государыне Ирине. И многие бумаги ее именем делались.
В царских покоях, в кабинете царицы Ирины Годунов диктовал документ дворецкому Григорию Васильевичу Годунову. Рядом находился сын Годунова Федор – просто одетый, изящный, иконоликий и быстро все понимающий юноша. С каждым днем он все больше принимал участие в делах отца.
– Пиши, – говорил Годунов Григорию. – «Воеводам всех пограничных городов, всех гаваней, всех портовых городов пофамильно. Приставам пограничных застав – только общий приказ. Торговым посадским старостам выдержки». Записал?
– Записал, Борис.
– Ниже пиши сам приказ: «Царицей нашей Ириной Федоровной дано распоряжение впредь до особого указания закрыть все границы, никого не впуская и не выпуская через них. Не только на больших дорогах, но и на маленьких поставить стражу. Чтобы ни чужеземец, ни государев человек, ни беглый люд – никто не вышел и не вынес никаких вестей из государства нашего в Литву, и к немцам, и к другим каким государям». Записал?
– Записал вчерне.
– Пиши дальше: «В Москве, в Смоленске, во Пскове и во всех пограничных городах купцов польско-литовских, немецких и других каких задержать с товарами и слугами. Выдавать им хлеб и корм лошадям из казны, дабы не озлобились. Задержать всех гонцов и послов изо всех стран». Есть?
– Есть.
– «По Украине обновить укрепления. Смоленск подготовить к военным действиям. Укрепить стены, завести снаряжение и выставить на стены пушки. Во все приграничные города разослать московских воевод с правом управлять царским именем».
– Не много ли будет?
– Ты пиши.
– Записал, Борис.
– Теперь передай в Разрядный приказ, пусть размножат, подпишут у дьяков и куда надо рассылают.
– Скажи, отец, а кого в Смоленск послать думаешь?
– Никого бы не надо, там воевода прекрасный Курнаков. Ему бы просто не мешать. Он сам все как надо сделает. А все же пошлем Трубецкого на пару с Голицыным.
– Зачем? – удивился дворецкий Годунов.
– Эти два гуся опять друг в друга вцепятся: кто главней, кто под кем служить не может. И многих в свою распрю втянут. Нам сейчас это всего нужней.
– Нам же скажут, что мы их нарочно стравливаем, – вмешался Федор.
– И пусть скажут. А мы ответим: «Так они ж помирены давно Федором Мстиславским вместе со Щелкаловыми. Али плохо мирили их?»
«Государственное повеление всем государевым людям, воеводам, городским приставам, дьякам и подьячим. Всем, кто пограничную и припортовую службу несет.
Царицей нашей Ириной Федоровной дано распоряжение впредь до особого указания закрыть все границы, никого не впуская и не выпуская через них. Не только на больших дорогах, но и на маленьких тропах поставить стражу. Чтобы никто не вывез никаких вестей из Московского государства в Литву и к немцам.
В Москве, в Смоленске, во Пскове и во всех пограничных городах купцов польско-литовских и немецких задержать с товарами и слугами. Выдавать им хлеб и сено из казны, дабы не озлобились.
Задержать всех гонцов и гостей изо всех стран.
В случае невыполнения государева кара суровая».
Архангельск.
В большом припортовом трактире с видом на порт за столом сидели трое: некрасивый изящный мальчик и двое крепких, хорошо одетых мужчин.
Крепость их была разная. Один был здоров от природы, весь квадратный, он был из тех, кто кулаком дверь прошибает. Другой был крепок такой крепостью, какая бывает от постоянных тренировок и верховой езды.
В такой же пропорции была разной и их одежда. У одного она была крепкая, простая и добротная, но какая-то вся кондовая. У другого тоже простая, но ладная и даже несколько щегольская.
Рядом, почти вплотную, за отдельным столиком сидел цыганистого вида чернобородый ловкий мужик.
– Здесь, мой дорогой Уар, – сказал первый мужчина мальчику, – мы распрощаемся с Жуком и Юрием Власьичем и двинемся дальше вдвоем.
– Рано со мной прощаешься, барин, – сказал из-за своего стола Жук. – Я с вами поеду.
– Как так? – удивился Симеон. – У нас бумаги только на двоих выправлены.
– Не твоя печаль, доктор, – ответил Жук. – Мне эти бумаги не очень-то нужны. На корабле встретимся.
Они закончили есть, расплатились и вышли в порт.
Мальчик жадными глазами смотрел вокруг: на корабли, лодки, штабеля бочек, ящиков, горы перевязанных пачек пеньки и другую припортовую обыденность.
Рядом, прямо перед ними, шла погрузка корабля из Любека.
– Видишь, – сказал Симеон. – Этот корабль под знаком Ганзейского союза.
– Что это за союз?
– Союз портовых городов: Бремен, Гамбург, Росток, Любек и еще восемь городов. У них свои, внегосударственные отношения. Одинаковые условия торговли – пошлины, взаиморасчеты.
В это время два матроса в серо-синих матросках и круглых шапочках закатывали на судно бочки с чем-то тяжелым. Видно было, как скрипят и прогибаются сходни.
Учитель объяснял дальше. Юрий Копнин иногда вставлял свои комментарии.
– Сюда к нам… К вам в Архангельск везут полотна, сукна, сафьян, шелк, жемчуг, пряности, медь, олово, свинец, вино, бумагу.
– Селитру, порох, серу, – добавил Копнин, – клинки, пищали, пистолеты.
– Верно. Только эти товары по большей части запрещены к ввозу как военные, – сказал доктор. – Их доставляют тайно. Везут или от дружественных стран, или от наших врагов.
– А что вывозят? – спросил мальчик.
– Меха, сало, воск, кожи, рыбью кость, лосиные и моржовые шкуры.
Вдруг у одного из матросов, грузящих корабль, бочка выскользнула из рук, развернулась на сто восемьдесят градусов и, минуя другого матроса, покатилась вниз.
Удар! Бочка развалилась, и содержимое медленно стало выпадать на землю.
Приказчик, наблюдавший за погрузкой, бешено заорал. Его возмущению не было предела. Странным было только то, что он кричал не на матросов, а на бочку.
– Что это за язык? – спросил мальчик.
– Портовая смесь, – отвечал Копнин.
– А что он кричит?
– Он кричит, что в бочке камни. Что купец, свинья, обманул его.
Погрузка прекратилась. Послали за портовым приставом.
Доктор Симеон подошел к приказчику для разговора. Приказчик, только что багровый от крика, повернулся к учителю и неожиданно спокойно стал объяснять на смеси английского, немецкого и польского.
Юрий Копнин свободно переводил:
– Он говорит, что никто не хочет торговать с этой страной. Он привез сюда запрещенный товар: порох, селитру, олово, мечи. И все ради воска. Его товар могли конфисковать, но ему нужен воск, и он рискнул.
А русские купцы подкладывают в бочки камни для веса. И это уже в который раз.
Купец, видно, почувствовал в собеседниках европейцев или, по крайней мере, образованных людей, которых давно не видел. И он изливал им душу.
– Он говорит, что в девяносто пятом году ганзейские купцы уже писали письмо царю о том, что в бочки с салом подкладывают камни. Двух купцов тогда по приказу царя запороли насмерть. И вот опять.
– Так он прав, – сказал Уар-Дмитрий. – С нами так вовсе торговать перестанут. Странно вообще, почему торгуют. Спроси у него, – попросил мальчик Копнина.
Копнин перевел вопрос, и купец объяснил:
– Когда многие купцы перестают сюда ездить, русские снижают цены. Снижают донельзя. Становится выгодно скупать у них все по дешевке. Рискованно, но выгодно. Вот он и не удержался.
– Я знаю, как проверять бочки, – сказал мальчик. – Надо одну проверить как следует и сделать образцовой гирей. Все тяжелые бочки забраковывать.
Гость задумался и ответил:
– В принципе можно. Но сами бочки бывают разные. Бывает, что времени в обрез. Команда набрана на срок, погода портится. Тут не до разновесов. Честное слово купца – самая выгодная валюта во всем мире. И всюду принятая.
Симеон поблагодарил купца, пожелал ему счастья в деле с русскими и сказал мальчику:
– Вот ты и получил урок российской государственности. Очень важный урок.
– А что будет дальше? – спросил мальчик.
– Явится пристав, будут искать купца. Пороть, штрафовать…
– Если он с приставом не заодно, – хмуро сыронизировал Жук.
Все получилось не так. Прискакал вестовой. Началась тревожная суета. Всадник с чернополосным флагом скакал от корабля к кораблю с криком:
– Отчаливай! Отчаливай! Тревога! Тревога! Порт закрывается!
Судовладельцы не спорили. Быстро дозагружались, поднимали паруса и сбрасывали сходни. Весь порт, как по команде, во всех точках пришел в движение.
– Что случилось? – тревожно спросил мальчик.
– Я думаю, карантин, – ответил доктор. – Либо холера, либо чума, либо что другое такое же.
– Ерунда, – хмуро произнес Копнин. – Не карантин и не чума. Хуже: государь скончался. Границу закрывают.
– Стало быть, едем назад, – еще более хмуро сказал на это Жук.
Многие дни Москва не ведала, что будет дальше.
Многие дни правление страной велось именем царицы Ирины.
Потом именем царицы-инокини Александры. Потому что царица в постриге получила имя Александры.
Именем инокини Александры в это неясное время правил патриарх Иов.
«В Смоленск.
Воеводе князю Ивану Васильевичу Голицыну.
Сие же князю Тимофею Романовичу Трубецкому.
По поручению царицы нашей инокини Александры, писал патриарх Иов.
Князь Иван Васильевич!
Писал государыне нашей царице, инокине Александре Федоровне князь Трубецкой, что ты, князь, никаких дел с ним не делаешь, много скандалишь, считая, что быть тебе под князя Трубецкого рукой невместно и позорно.
Князь Федор Иванович Мстиславский с боярами сказывали о том мне. Я сказывал царице нашей, инокине Александре Федоровне.
И по царицыну указу мы указываем тебе, князь Голицын, чтобы ты всякие дела с Трубецким делал и скандала никакого не допускал.
А не станешь делать, то я со всем собором и боярами приговорю тебя послать головою к Трубецкому с позором. Чтобы твои кляузы на все время закончились.
Помимо государыневых слов, мы сами говорим тебе, Иван Васильевич, кончай свои причуды. Они уже многих людей гневить начинают, которых тебе бы гневить не следовало. Головой играешь.
Печать, дата, подпись».
И патриарх, и ближайший синклит умершего царя упрямо уговаривали Годунова принять престол московский. Многие бояре и видные московские люди подступали к нему с этим же.
Борис Федорович и слышать ничего не желал.
– Окститесь вы! Какие разговоры о престоле, когда сорока дней не прошло со смерти Федора Ивановича. И потом такое страшное дело: кому страну на плечи взвалить, всем народом решать надо. Всеми землями и городами. Всех чинов людьми.
Москва ждала сорока дней. Князья затаились. Успех в борьбе за трон не был гарантирован никому, а неудача сразу же обернулась бы гибелью. Причем гибелью всей семьи.
Перебеги дорогу сейчас Борису, можешь потом свою жизнь зачеркивать. Но и помогать ему, признавать его будущую победу ох как не хотелось.
Многие уже довольно твердо понимали, что умный, жесткий, нервный и сладкоречивый Борис обречен стать государем, а все же спесь не позволяла признавать это.
Рюриковичи и Гедиминовичи съедали себя злобой и завистью. Тянули время.
«Надо же, – думал Годунов, – ведь по земле ползали перед царем Иваном и сапоги лизали! Ан нет! В случае со мной у них пена изо рта идет от ненависти и кол в позвоночнике появляется – не дай бог лишний раз поклониться».
Семнадцатого февраля в пятницу собрался в Москве собор.
Было на нем сто человек духовенства, двести семьдесят человек бояр, окольничих, иных придворных чинов и дворян. Были выборные из городов, стрелецкие полковые командиры, крупные торговые гости.
Перевес был в сторону московского служилого люда. А люд этот неплохо служил под рукой Годунова.
Народ собрался в основном все прекрасно понимающий. Может, он не очень любил правителя, но знал, что без Бориса может случиться такая кровавая свистопляска, что будет во сто крат хуже.
Собор заседал в Кремлевском Архангельском соборе. В основном это были серьезные люди.
Седобородые, в золоченой одежде бояре важно восседали на скамьях по стенам, чтобы все видеть, за всем следить.
Торговые гости пробирались вперед. Хотели себя показать.
Мелкий люд клубился в середине.
Патриарх Иов взошел на кафедру и обратился к собору со словами:
– Братие! Братья мои! Царствие государя нашего, великого князя Федора Ивановича, принесло Русии покой и благоденствие. Ни Литва, ни шведы, ни турский султан не приносили бед, не беспокоили и не разоряли земель и городов наших. С Божьей помощью удалось разбить и прогнать Крымскую орду. Не было ни язвы, ни морового поветрия. Слава Богу, пожары не злобствовали, как в прежнее тяжкое время.
Иов дважды перекрестился.
– Но Бог забрал государя Федора пред свои очи. Окутала его смертная тьма, и он предстал перед Богом. И сейчас душа его молится за наши великия прегрешения. Осталась вместо него на троне государыня наша царица Ирина Федоровна. Нами – духовенством русским, и всеми людьми московскими, и всеми боярами – предложено было ей взять под свою руку царствие наше, но царица отказалась. На то есть Бог, он ей руководитель и судия.
Иов в который раз осенил себя размашистым крестом.
– И сейчас, пока престол московский свободен, ее именем все дела делаются. Но царство долго не может быть вдовым. Нам при помощи Божьей следует подумать, в чьи руки передать государственное правление.
Иов снова медленно и торжественно перекрестился.
– У меня, Иова патриарха, у митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов и у всего священного вселенского собора, у бояр, дворян, приказных и служилых людей, у всех православных христиан мысль и совет всех единодушно, что нам мимо Бориса Федоровича иного государя не искать и не хотеть.
Иов помолчал, оглядывая зал. Зал безмолвствовал. Но и злобноватого гула слышно не было.
Представители от разных городов и сословий помалкивали.
– Много славных людей имеется в Боярской думе, многие роды ведут свое имя от Рюрика. Но нам незачем искать другого человека, когда есть правитель, умудренный опытом, ясно мыслящий и незлобивый. Многие годы вел он корабль русский, помогая в управлении государю нашему Федору Иоанновичу. Правитель наш Борис государское здоровье хранил, пространство государское расширил. Это он прегордого царя крымского победил. Непослушника царя шведского под государеву десницу привел. Города, которые были за Шведским королевством, взял. К нему и шах персидский, и султан турский послов своих со многою честию помимо государя Федора присылали. И я передаю на ваше размышление наше предложение сделать государем нашим Годунова Бориса Федоровича. Он и в стране уважаем, и иностранные государи его больше всех бояр русских жалуют. О нем и о его деяних можно много говорить, но все вы с его делами, слава Богу, знакомы.
Была долгая, напряженная пауза.
– Может, кто из бояр, или князей, или детей боярских желает что сказать, – продолжил патриарх. – Вот ты, князь Федор Иванович, – обратился он к Мстиславскому. – Что ты думаешь?
– Что тут думать, – ответил Мстиславский. – Думать раньше надо было, а теперь чего? Дело говоришь про Бориса Федоровича. Его выбирать надо.
– А ты, князь Василий Иванович, что скажешь? – спросил патриарх Иов князя Шуйского.
Наступил самый ответственный момент. Все делегаты собора насторожились.
– Что уж мне говорить иное после Федора Ивановича! – сказал Шуйский. – Знать, не нашлось никого лучшего среди нас, чем Борис Федорович!
Их нерадостное и даже открыто недовольное, но все-таки безоговорочное признание прав за Годуновым решало судьбу престола.
– А что воеводы скажут? – спросил кто-то из гостей.
– А чего нам говорить, – сказал стрелецкий полковник Темир Засецкий. – Жалованье нам исправно платят. Жилье имеется. У нас жалоб нет.
– А где сам Борис Федорович? – спросил кто-то из Шуйских.
– Он при царице – инокине Александре в Новодевичьем, – ответил патриарх.
– А чего не пришел? Почему его-то нет? Али случилось что? Али болен?
– А оттого и не пришел, что не решил еще, следует ли ему престол принимать. Больно дело это страшное и ответственное.
– Так если не хочет, может, и не уговаривать? – спросил кто-то из приезжих.
Патриарх почувствовал, что может упустить собор.
– Я считаю, что нечего нам время терять. Другого правителя, лучше чем Борис Федорович, не сыскать. Всем нам присягать Борису Федоровичу следует. Давайте, государи мои, выходите к соборной грамоте руку прикладывать. Пусть бояре и думные дьяки начнут. Выходи ты первый, Федор Иванович, – обратился он к Мстиславскому.
Собор замер. Наступила церковная тишина.
Мстиславский встал, перекрестился, глядя на зал. И пошел к патриарху прикладывать руку к заранее заготовленной грамоте.
За Федором Ивановичем уже без приглашения потянулись другие бояре. Потом думные дьяки, стрелецкие начальники, торговые гости, духовенство.
Дело было сделано.
Дело было сделано, но оно пока и копейки не стоило.
В это же время состоялся разговор между Афанасием Нагим и Симеоном.
– А не пора ли нам нашего претендента выпускать? – спросил Симеон.
– Какого? – спросил Афанасий. – Если выставлять, то только того Дмитрия, настоящего, Углицкого, который в Литве. Его все узнают и признают. И прислуга, и мать, и бояре. Его враз примут за царевича. Это верно.
– Ну так и что?
– А то, что он неуправляем и живодер. Наши же головы первыми с плеч полетят: почто запихнули его в глухомань? Доброжелатели и советчики для этого враз найдутся. И примеры мы уже имеем с его батюшкой – Иваном Васильичем. Это раз. Во-вторых, убийство на нем висит. Как тебе нравится такой сомнительный царевич против умнейшего Бориса Годунова, который пол-Москвы выслал, пол-Москвы купил, а пол-Москвы запугал насмерть?
– Я смотрю, у Москвы три половины появилось. Не много ли? – сказал Симеон.
– В самый раз, – зло ответил Нагой. – Ты Москву еще плохо знаешь.
– Так, хорошо. А если нашего пишалинского Дмитрия выставить? – спросил доктор. – Он же управляем. И убийство с него Шуйским снято: подставной мальчик в Угличе сам убился. Шуйский с комиссией на следствии лично это установил.
– Его тоже ни в коем случае выставлять нельзя. Его никто не признает. Он в Угличе ни дня не был, никого из угличских не знает. Вся обслуга против него восстанет. Все увидят, что это подстава, слишком мало времени прошло. Прежде чем права этого Дмитрия на трон предъявлять, его и в Углич свозить надо, и в Москву. Ему надо много чего показать и много чего рассказать, чтоб он очень четко все представлял. В таких делах не то что ошибки, ошибочки недопустимы.
– Спасибо, согласен.
Симеон все понимал моментально и значительно глубже, чем ему объясняли.
Восемнадцатого февраля в субботу и девятнадцатого в воскресенье уже в Успенском соборе весь день служили молебны, чтобы Господь Бог услышал просьбу людей московских и всей Русии и даровал православному христианству, по его просьбе, царя Бориса Федоровича. То есть чтобы Бог утвердил прошение собора.
Вечером в Новодевичьем монастыре, в келье инокини Александры патриарх встретился с Годуновым. Вернее, с двумя Годуновыми. Там был еще Семен Никитич.
Келья была устроена просто, но богато.
В ней было большое, непривычное для монастыря окно. На лавках лежали дорогие, шитые золотом ковры. У окна стоял рабочий столик хорошего дерева с ящиками.
Постоянно входила прислужница и что-то приносила Александре. Вкусно пахло блинами.
Инокиня много молилась в углу, что-то читала, что-то шептала. И в разговоре участия не принимала.
Патриарх рассказал о соборе. О Шуйских и Мстиславском.
– Завтра мы к тебе, Борис Федорович, придем с молебном, с духовенством, с боярами бить челом о принятии престола. Так что, Борис Федорович, готовься принять государство.
– Рано еще, – сказал Годунов.
– Что, не приходить? – спросил Иов.
– Приходить приходите, а государство принимать рано. Народ должен по-настоящему забеспокоиться. Должен понять, что по-другому нельзя. Иначе меня будут считать самодельцем.
– Смотри, Борис, не переиграй, – хмуро сказал Семен Никитич. – Дают – бери!
– Переиграть опасно, это верно. А недоиграть в сто раз хуже. Переиграл – без трона остался, недоиграл – без головы, – возразил Годунов.
В другом, противоположном конце Москвы, в большой загородной усадьбе Черкасских тоже шло совещание. Вернее, только начиналось.
Съехались Шуйские, Романовы, Черкасские. Ждали Шестуновых, Голицыных и кого-нибудь из Бельских. Богдана Яковлевича из столицы уже выслали.
– Никто вас не видел? – спрашивал каждого входящего Борис Иванович Черкасский. – Никто не провожал?
– Не до нас сейчас, – ответил на этот вопрос старший Шуйский – Василий. – У него своих забот хватает.
– А что, мы и на крестины собраться не можем? – спросил Федор Никитич Романов.
– Все хорошо, только крестника у нас нет, – сказал младший Шуйский – Дмитрий.
– Крестника нет, масленица есть, – вставил Михайла Никитич Романов.
– А верно! Так за царскими делами обо всех обычаях забудешь, – воскликнул Василий Шуйский. – Тащите блины скорей.
– И крестник у нас имеется, – возразил Черкасский. – Ради него и собрались.
– Кто такой? Когда родился? Не о таком ли крестнике нам намекал Андрей Яковлевич? – посыпал вопросами Василий Шуйский.
Все поняли, что речь шла о старшем Щелкалове, о высланном Андрее.
– О таком, о таком, – ответил Черкасский.
– Вот бы поглядеть, – сказал князь Василий.
– Да ты его видел не раз, – сказал Федор Романов. – Тебе только вспомнить надобно. Рыжий такой малый, бойкий. Он у нас крутился. Потом к Борису Ивановичу служить перешел. А сейчас в Чудовом монастыре при нашем благословенном Иове служит.
– О чем речь? – забеспокоился Дмитрий Шуйский – царский воевода не из числа первых.
Младший Бельский, невежа, тоже ничего не понимал. Но никто им ничего не объяснял и даже не считал нужным.
– Дело славное, – оценочно сказал Василий Шуйский. – Но больно опасное. И говорить о нем впрямую не след. Кто не понял, пусть и не понимает. Потом поймет. А прямых слов сейчас не говорите.
Федор Никитич, Михайла Никитич, Борис Черкасский, Василий Голицын сразу все поняли и никаких имен не произносили и не спрашивали.
Невежа Бельский не сразу понял, но сразу закрыл рот на замок. И все другие участники блинной вечери приняли условия игры: «Да и нет не говорить. Черно-бело не носить».
– Вот что, – сказал Василий Шуйский, – кто бы из нас его ни встретил, на эту дорожку его наставляйте. Не в лоб, обиняком. Намеками, подсказками. Если беда его прихватит, выручать его следует. Сами выручайте и своим людям это велите. И денег незаметно давать ему надобно.
Он выдержал паузу:
– И все, и больше об этом не говорим.
А за здоровье государя нашего Годунова Бориса Федоровича сладкого меда выпить непременно следует. Да еще под блины.
В этот вечер судьба Григория Отрепьева была решена. Причем никто ни разу не назвал ни его имени, ни его фамилии. Как ни прислушивались подавальщики, ничего интересного не узнали.
Москва гудела и стекалась потоками людей к Кремлю. Готовился второй поход на Новодевичий монастырь – уговаривать Бориса Годунова принять огромную осиротевшую страну и престол. Вчера Борис отказался:
– Как и прежде я говорил, так и сейчас говорю: не думайте, чтобы я помыслил вступить на это высочайшее место после такого великого и праведного государя.
Все православные христиане пребывали в недоумении, в скорби и плаче. Даже противники Годунова, многовековые бояре, недоумевали:
– Чего он тянет? Чего выдумывает? Согласился бы, да и дело с концом. Всем кишки выворачивает.
Но дело было не так просто. Эти же бояре на днях подступали к нему, чтобы он целовал грамоту, что против их воли ничего принимать не будет. То есть соглашались, чтобы он сидел на троне, но со связанными руками.
А это означало верную гибель Годунова через год, через два. Попробуй усиди на русском троне без топора или дыбы под рукой.
Сильно помог Годунову Романов Федор Никитич. Стал оказывать ему поддержку среди бояр в обмен на клятву Бориса быть с ним во всех делах советником и по всей Русии соправителем.
И все же Годунов колебался.
Накануне вечером по Москве разнесся слух, что патриарх с духовенством решили так: если Борис не согласится сесть на царствие, отлучить его от церкви. Сами они тогда снимут с себя церковное облачение, наденут простые рясы и запретят службу по всем церквам.
Такого страшного ужаса Москва еще не помнила.
Поэтому все решили пойти. Взрослые решили взять с собой детей для убедительности.
Впереди несли икону Владимирской Божией Матери. За ней с песнопениями, с молитвами шел патриарх с митрополитами и многое белое духовенство. За священничеством в толпе шли сановитые бояре, дети боярские, дворяне, важные горожане, стрельцы в городской одежде и простой люд.
Народу было много, целое людское море. И людские потоки в это море вливались и вливались.
Никогда еще москвичи не были так объединены одним желанием. Никогда еще не были так близки между собой люди всех сословий.
Но по всему было видно, что главной действующей силой в этом потоке являлось духовенство.
Годунов вышел навстречу шествию из монастыря не один, тоже с духовенством и тоже с иконой – Смоленской Божией Матери.
– Государь мой, патриарх Иов! Зачем ты на такое серьезное дело меня сподвигаешь?
Иов, уже разозленный многодневной кампанией, сказал при всех:
– Да затем, Борис, что, кроме тебя, никому это дело не под силу. Иначе море крови прольется допреж того, как порядок установится.
А люди окружили Новодевичий монастырь широким потоком и вразноголосицу вопили:
– Благочестивая царица! Помилуй нас!
– Дай нам на царство своего брата!
– Помилосердствуй о нас!
– Пощади нас!
Люди лезли на деревья, пытались влезть на башни и стены. Одного мальца, припирая шестом к стене, подняли наверх к зубцам стены, находящимся у окон царицы. И он вопил там каким-то неестественно сильным голосом:
– Пощади нас, царица! Пощади нас, царица!
Служащие монастыря не спихивали его наземь. Это наводило на размышления. Потому что при всей беспорядочности и непонятности жизни тех дней царская охрана работала исправно и четко.
Борис и патриарх Иов вошли в монастырь и прошли в палаты царицы. Они пробыли там около часа.
Слегка усилился мороз. Чуть-чуть начали вытекать ручейки из людского моря, окружавшего монастырь. Шум голосов затихал.
Вот наконец, на радость огромного количества людей, от Красного крыльца палат царицы к окраинам людского моря побежала радостная весть:
– Согласился!
– Согласился!
– Борис Федорович дал согласие!
– Слава тебе, Господи, Царица Небесная!
Судьба Годунова как-то так складывалась, что события никогда не приходили к нему поодиночке. Но его незакованное мышление всегда позволяло ему из двух бед извлечь хотя бы одну выгоду.
Так и в этот раз пришла весть: Орда вышла из Крыма.
Механизм упреждения набегов Крымской орды на Русию был до чрезвычайности примитивен. И в такой же степени надежен.
Вдоль главной «царской» дороги, или «дороги великого хана», на равнинах тут и там росло большое количество высоких дубов.
Каждый раз, идя набегом на Русию, крымский хан или калга собирались спилить их на обратном пути. И каждый раз на обратном пути было не до этого.
При этих дубах на расстоянии многих верст друг от друга размещались конные сторожевые двойки. Менялись они каждые четыре дня.
Едва начинался рассвет, один из них забирался на самую верхушку дуба, в специально устроенное гнездо, и внимательно, до боли в глазах, начинал всматриваться в даль.
Второй постоянно находился под деревом при лошадях. И не дай бог им отлучиться от поста, засекут до смерти!
Как только верхний сторож на первом дубе замечал пыль или что-то очень подозрительное вдали, он давал команду нижнему:
– Тревога! Крымцы! Татары! Гони!
Нижний караульный прыгал в седло и скакал на своей степной добротной лошади ко второму дубу что есть мочи.
На подходе к нему он кричал и со всех сил размахивал руками, привлекая к себе внимание.
Едва верхний дежурный со второго дуба замечал его, он давал команду своему напарнику приготовиться и сесть в седло.
Так весть неслась до ближайшей крепости и дальше попадала в Москву.
Очень часто тревога была ложной. И об этом обычно сообщал второй караульщик, который не имел права слезать с дуба, пока точно не установит причину тревоги.
Татарин – враг подвижный, проворный и опасный. Зная, что за ним ведется надзор, он двадцатью-тридцатью тысячами всадников всегда мог отвлечь внимание дозорщиков.
А потом основной конной массой нанести кровавый удар там, где его совсем не ждали. Поэтому и сторожили его во многих направлениях.
Никакой поклажи у татар не было. Никакой добычей они себя не обременяли, кроме самой дорогой – пленников. Каждый татарин имел при себе две-три хорошо приученных лошади. И любой из крымцев всегда мог, не теряя скорости, на скаку поменять лошадей.
Из оружия татары имели лук, стрелы и саблю. Иногда плеть. К седлу они еще привязывали длинную веревку. Они прекрасно стреляли из лука с седла на скаку.
Сотня татар спокойно обращала в бегство двести необученных русских.
В этот раз механизм сработал как всегда.
Сначала поскакали нижние дежурные с вестью: «Тревога! Крымцы! Орда выходит!»
Потом верхние, с некоторым опозданием, поскакали с вестью: «Нет, не Орда, только часть ее: в Москву идет великое посольство».
И как всегда, новость передавали только самому высокому начальству. Чтобы она не расползлась по границам, по посольствам и по торговым гостям. Чтобы она, упаси господи, не мобилизовала врагов.
В Москве она поступила в палаты Семена Никитича Годунова.
Несмотря на позднюю ночь, он отправился с докладом к Борису. О набегах Орды, о пожарах, о моровом поветрии государю следовало сообщать немедленно.
– Хорошо, что это не Орда, а посольство, – сказал Семен Никитич, когда доложил обе новости. – Нам только Орды не хватало.
Годунов выслушал весть и ответил сразу:
– Орды нам и вправду не хватает! – Он постоял в полумраке кабинета и объявил свое решение: – Не будем князьям и боярам сообщать о посольстве. Скажем первую новость – Орда идет.
– Всегда ты нас запутываешь, Борис, – недовольно произнес Семен Никитич. – Для чего нам Орда? Тебе забот не хватает? У тебя бояре смирными стали, ручными? У тебя Москва утихла?
– А для того и нужна, чтобы бояр призвать к порядку, показать им, кто хозяин. Кто может полки собрать, начальников назначить без свары. Кто может в две недели всю Русию к Серпухову стянуть.
– Смотри, и в самом деле Орду накаркаешь!
– А и накаркаю. Орда уже не та стала. Вспомни, как в последний раз их гнали.
Оба вспомнили набег татар в девяносто первом, после убийства царевича. Черная тень набежала на лицо Годунова, он перекрестился. Семен Никитич перекрестился тоже.
Афанасий Нагой сдавал. Сдавал не от усталости и возраста, сдавал от резко изменившейся жизни. Он привык к интригам, гонке, опасностям, которых не боялся. Не потому он не боялся, что был безумно храбр, а потому, что слишком хорошо считал. И каждую опасность он трижды предвидел за версту и трижды успевал принять против нее меры.
Сейчас ему не приходилось куда-то гнать, вести сложные переговоры, интриговать и рисковать. Ему не приходилось преодолевать сопротивление среды и свое собственное, и внутренняя сила разрывала его, как рыбу, вытащенную из глубины воды на поверхность.
Он стал пить. Пил он всегда, но раньше все выпитое перерабатывалось в нем, как хорошее горючее, и только придавало ему сил. Теперь выпитое угнетало его. Он мрачнел. Мрачность направлялась внутрь его, ее надо было снова заливать вином.
В первые дни весны он пригласил к себе в рабочую комнату мальчика Дмитрия для какого-то важного разговора.
Сам он был на удивление умыт, причесан и нарядно одет. Дипломатический лоск еще не совсем был утерян.
Мальчик был удивлен тем, что его позвали в комнату, куда никто из домашних, кроме Симеона, никогда не впускался.
– Слушай, Дмитрий, – обратился к нему Нагой, – я тебе сейчас скажу одну вещь, о которой ты и сам бы мог давно догадаться, если бы был поумнее.
Афанасий говорил так не из желания унизить подростка, а из-за какой-то врожденной грубости по отношению к меньшим. Мальчик уже привык к такой манере и иногда сам подражал ей в разговоре с сельскими подростками.
– Ты не просто ребенок, – сказал он. – Не просто сын дворянина и даже боярина. Ты, дорогой юноша, являешься членом царской семьи. По некоторым причинам тебя удалили из семейства и поручили мне тебя воспитывать.
Мальчик с удивлением смотрел на Афанасия и не говорил ни слова. Но видно было, что информация с невероятной скоростью перерабатывается в его голове.
– Больше я тебе сегодня ничего не скажу, – закончил Афанасий. – А узнанное держи со страшной силой за зубами. Если ты еще не понял, в какой стране живешь, поверь мне на слово. Ты ведь знаешь, я слов на ветер не бросаю. Под пыткой никому не говори, что от меня услышал. Не дай тебе Бог!
Он махнул рукой, выпроваживая мальчика из комнаты. Мальчик вышел. Но Афанасий после секундного раздумья окликнул его:
– Дмитрий! – Мальчик вернулся. – Подожди. Я покажу тебе одну вещицу.
Он вытащил из ящика рабочего стола красивую черного дерева шкатулку с золотыми цветочными узорами на крышке и вынул небольшой, но тяжелый нательный крест на золотой цепочке, украшенный искрящимися камнями.
– Это твой, смотри, – показал он крест мальчику. – Скоро я тебе его отдам навсегда.
Дав юноше подержать драгоценный предмет, он вновь убрал его. Но положил не на место, а в середину раскрытой на столе огромной книги, которую читал.
Это было Евангелие.
– Иди!
В этот же день он позвал в кабинет Копнина.
Если сам Афанасий поменял образ жизни, никуда не ездил, то Копнина и Жука он постоянно безжалостно гонял из одного конца страны в другой. И давал Копнину одно поручение сложнее предыдущего.
Они недолго проговорили в кабинете при закрытых дверях. Копнин вышел и сразу велел Жуку закладывать карету.
За всеми этими движениями внимательно наблюдал Симеон. «Они взяли карету, а не коляску, – рассуждал он. – Значит, их поездка связана с человеком. Афанасий лично беседовал с Дмитрием, минуя меня, значит, начинается новый виток интриги».
Он чувствовал что-то непривычное в воздухе. А все непривычное в Русии всегда означало только одно – опасность. Только опасность, и ничего другого.
И в этот день к вечеру у Афанасия Нагого в кабинете состоялся еще один необычный разговор. С доктором Симеоном.
Мрачный и уже слегка запьяневший Афанасий с удивлением смотрел на визитера. Они не договаривались о встрече:
– Что тебе надо, доктор?
– Афанасий Федорович, когда ближайшая оказия в Москву?
– Оказия? – удивился Афанасий.
– Точно, оказия.
– А для чего?
– Надобно передать знак одним людям.
– Куда?
– На немецкий гостевой двор.
– Что за знак?
– Так, весточка. Она должна прийти. Иначе там будет большое беспокойство.
– Хорошо, оставь. Завтра будет оказия.
Учитель вынул из-за пазухи небольшой, хорошо упакованный пакет.
– Вот, Афанасий Федорович.
Как только Симеон вышел, Афанасий закрыл дверь и стал тщательно вскрывать пакет. Шаг за шагом, чтобы, не дай бог, не изменить внешний вид. Дипломат был хорошо тренирован в таких делах.
В пакете лежала всего-навсего редкого вида пуговица от камзола.
«Проклятые латиняне», – выругался про себя Нагой.
Через некоторое время он через мальчишку на побегушках вызвал к себе Симеона. Афанасий был уже изрядно пьян.
– Слушай, доктор, ты что думаешь, я тебе не доверяю?
– Береженого Бог бережет, Афанасий Федорович, – коротко ответил учитель и ушел, не желая продолжать разговор.
Но Нагой догнал Симеона у дверей его комнаты и сам зашел к нему.
– Я ничего от тебя не скрываю, доктор. Борис призван на царство. Патриарх с народом его уговорили. За мной, того гляди, здесь скоро жесткий досмотр установят. И надо скорей подлинного Дмитрия перепрятать, подальше услать. Место ему поменять. И образовывать царевича пора. Нужно деньги передать на его учение.
В конце апреля на берегах Оки собралась огромная рать. Число ее простиралось до пятисот тысяч. Такой большой армии Русия еще не собирала ни разу. И такого порядка и четкости в русских войсках еще никто никогда не видел. И усердие среди воевод и воинов было несказанное. Все города старались показать свою надежность и верность новому правителю.
И воеводы, и бояре, и дворяне, да и простые посадские люди помнили, чьим любимцем был и на каких примерах воспитан ясно солнышко Борис Федорович.
А кроме страха, людей веселила надежда на светлость нового царствования и радовала долговременная, проверенная опытом мудрость правителя.
К Годунову доставили двух пленников-беглецов – цесарского и литовского. Они вдруг показали, что хан уже в поле и действительно идет на Москву. Возникла перспектива тяжелейшего сражения.
Годунов с Мстиславским устроили проверку и счет войскам.
Смоленск выставил тысячу двести хорошо вооруженных конных воинов. Каждый был при кольчуге, копье, луке со стрелами.
Новгород выставил и того больше.
Были ратные люди из Ярославля, Рязани, Ростова, Грязовца, из сибирских городов.
Были и казанские войска с черемисами[4]. Были и татары вместе с мордвинами. И все верхами. И все по-особому вооружены.
Были и иностранцы: немцы, поляки, греки, латиняне. Их было до трех тысяч профессиональных солдат. Это была самая надежная часть войска. Они сражались уверенно и просто, как машина.
После них хороши были стрельцы-пищальщики и аркебузники. Они резко отличались от всего войска своими внешним видом – яркими зелеными и желтыми кафтанами – и довольно суровой дисциплиной. Это было еще не европейское, но уже и не азиатское профессиональное войско.
Но основную, самую многочисленную часть войска составляли даточные люди. Те, которых дали патриарх, митрополиты и прочие священнослужители. Те, кого прислали из сельских местностей, от монастырей, от землевладельцев, от посадских людей – одного всадника с определенного количества земли.
Это была самая большая часть войска и самая бесполезная. От аркебузных выстрелов лошади шарахались, сминая в основном своих. В атаку они шли по очереди.
Профессиональным завоевателям татарам разогнать, разрезать на части и погнать их в ужасе в любую сторону ничего не стоило.
Поэтому позади этого войска в двух мес-тах срочно возводились гуляй-города. С дощатой защитой от стрел, с пушками на постаментах, с ослами в середине для быстрого передвижения в нужную сторону.
К большому разочарованию окраинной горячей молодежи, слух о великом нашествии Казым-Гирея, да еще с турецкими полками, не подтвердился. К концу первой недели уже совершенно точно выяснилось, что приехало большое посольство во главе с мурзой Алеем просить дары и жаловаться на казаков. Уж больно сильно стали казаки прижимать крымцев.
Толстые мурзы с большим количеством слуг, удобств и шатров, с большой охраной никак не ожидали такого великого военного приема.
Когда цели и задачи крымцев стали понятными, Годунов решил извлечь как можно больше пользы из сложившейся ситуации.
Он решил показать крымцам всю мощь и силу русской армии.
Ночью вокруг посольского татарского стана завелась такая пальба из пушек, что ушам было больно.
Татары хоть и возили с собой в свои походы стенобитные машины, хоть и сами обзаводились уже пушками и катапультами, стреляющими горящими бомбами, но в силу кочевого образа жизни к пушкам все-таки не привыкли. А тут пушек было больше тысячи.
Послы от этих залпов вскакивали ночью и в ужасе метались по полотняным стенам своих шатров.
А когда их торжественно повезли навстречу Годунову, ехать им пришлось в середине семикилометрового тоннеля, состоящего из стрельцов с пищалями.
Если стрела на излете еще могла убить человека метров за триста, то для пищали это был далеко не предел. Она еще при этом пробивала кольчугу и кожаный панцирь. Пищалей татары не любили.
Годунов принял послов ласково.
На лугах Оки стоял белоснежно-белый огромный шатер, расшитый золотом. Добрая сотня бояр в золотых и парчовых одеждах окружала его. Несколько шатров поменьше расположились рядом.
Самые сановитые бояре находились внутри шатра. Они окружали постамент, на котором стоял золотой походный трон.
Борис сидел на троне во всем царском великолепии. Рядом с ним у трона стоял его сын Федор.
Послов заставили к Годунову ползти.
Он же поднял их с земли.
Выступал один Борис, бояре вокруг помалкивали.
Годунов сказал, что он вышел из Москвы с таким великим войском, потому что недруги сообщили о большом походе Орды.
Его речь переводили два переводчика. Один с татарской, другой с русской стороны.
– Мало того, – сказал Годунов, – недруги царя крымского в последнее время усиленно подбивают нас идти воевать Крым, ставить там города на перешейке.
Послам такое движение недругов явно не понравилось. Они запереглядывались, зацокали языками.
Годунов поспешил успокоить их:
– Мы не следуем этим советам. Мы считаем, что царь и хан должны быть в дружбе и союзе, а не проливать кровь друг друга. И купцы татарские должны быть в Русии желанными гостями.
Дальше Годунов объяснил послам, что он давно уже почитает Казым-Гирея своим братом и не понимает, какие злые силы заставляют крымцев воевать царские укра́ины.
На это мурза Алей ответил, что Казым-Гирей тоже изо всех сил почитает царя русского другом и братом. И никак не может понять, почему казаки делают набеги на крымцев и на владения турского султана.
Начались выяснения взаимных обид и претензий.
Мурзы не столько беспокоились об установления каких-то правил дальнейшей жизни, сколько волновались о подарках и казне. Видно было, что чем больше даров они привезут, тем более удачным будет считаться их посольство.
Исходя из этого Годунов и вел переговоры. Деньги в эти годы в казне были немалые, а порядка в стране еще не было. Выгоднее было откупиться от хана.
Но мысль построить города на перешейке ему крепко запала в голову.
Чем он хуже Грозного? Грозный воевал Казань. Годунов будет воевать Крым. Если не он, то уж Федор сделает это обязательно.
В Москву Годунов и все войско явились с таким шиком, с такой радостью, как будто они вернулись с Куликовской битвы.
Точно так же встретила их и Москва. Патриарх, все духовенство, все жители Москвы кланялись до земли, кричали: «Слава!», «Спасибо тебе за подвиг бессмертный!», «Господь радуется вместе с тобой!» – и благословляли Годунова.
Все дома по главным улицам были украшены зеленью и цветами. Все главные улицы были чисто подметены.
– Ну что, Семен Никитич, – ехидно спросил Годунов родственника, – теперь ты понял, для чего нужна Орда?
Никто не ожидал смерти Афанасия Нагого. Казалось, он будет жить вечно. Вечно будет сам гнать лошадей, сам пороть провинившуюся челядь, сам с нею пить водку после экзекуции.
Так нет…
Случилось…
Утром прихватило сердце. Лекаря никакого в округе не было. Пока за ним послали в город, пока из города приехали, все было кончено. А ведь казалось, все шло так хорошо. Был Великий пост, и целых два дня перед этим Нагой вовсе не пил.
Когда начался последний приступ, а это случилось днем в столовой комнате, Копнин поднял хозяина на руки и с трудом донес до кровати. Афанасию было плохо. Много говорить он не мог, да и не пытался – все главное давно уже было оговорено.
Послали за пишалинским священником. Послали за становым.
К половине дня все уже кончилось…
В эти часы Дмитрий и Симеон были в Грязовце. Симеон ожидал какой-то почты, Дмитрий интересовался часами и вообще любыми механизмами и оружием из Европы. (Афанасий Нагой не отказывал ему ни в чем. Наверное, весь доход от его земель уходил на воспитание и обучение мальчика.)
В Грязовце они дружили с несколькими домами. И главным образом со священником большого Никитского храма.
Это он сказал им, что что-то случилось у них в имении. А ему доложил об этом мальчик-прихожанин из дома городского воеводы.
В городе каждый следил за каждым.
Юноша и Симеон прыгнули в коляску, и Жук погнал в Пишалину.
– Слушай, – сказал Симеон, – я у села сойду. Если Афанасий умирает – это одно. Если за ним прислали стрельцов – это другое. Если его заберут, значит, заберут и меня. Если меня заберут, то убьют. Дай мне все деньги, что у тебя есть.
Дмитрий отдал ему кошелек с золотыми.
– Если все в порядке, – сказал Симеон, – растопи печь в моей комнате. Дрова возьми подымнее.
Все оказалось в порядке. Афанасий Нагой умер. В доме стоял плач. Пахло ладаном или миррой. Священник успокаивал женщин. Все уже были в черном.
Дмитрий бросился к Афанасию в комнату. Его не пустили. Там уже был становой пристав.
– Стой! Нельзя! – сказали ему.
– Мне проститься, – сказал юноша.
– Нельзя!
– Но это же мой отец!
Его уверенная манера, хорошая одежда и спокойная доброжелательность впечатляли. Вежливому, не барствующему юноше из аристократической семьи очень хотелось пойти навстречу.
Становой боролся с собой. Явно, что он имел иные указания. Явно, что он прибыл сюда не случайно и что его послали очень высокие люди. Очевидно, все бумаги Нагого будут опечатаны и отправлены в Москву. И по ним в Москве уже будут предприняты какие-то важные, может быть даже с кровавыми последствиями, действия. И все же становой уступил.
– Хорошо, проходи. Только ничего не трогай.
Подросток вошел в комнату. Подошел и царственно поцеловал Афанасия в холодный лоб.
Воспитатели добились своего, он осчастливливал собою окружающих. Потом он перекрестился и пошел к рабочему столу Афанасия.
– Что-либо трогать запрет! – насторожился становой.
– Это Евангелие, – ответил юноша, беря толстую кожаную книгу со стола. – Я буду молиться.
Дьяк не рискнул отобрать у юноши религиозное писание, и Дмитрий свободно вышел из комнаты.
Скоро печь была растоплена. И скоро появился наставник.
Увидев драгоценный крест в руках у юноши, он вытер испарину со лба.
Крест этот, обнаруженный становым, мог бы принести большое количество неприятностей.
Все бумаги Афанасия, все письма без разбора были уложены становым в плоский деревянный ящик и опечатаны.
Бумаги поехали в Москву.
Живого Афанасия трогать не смели. Но мертвый он уже был не страшен.
Когда городские приставы сняли арест с дома, Афанасия Нагого переодели во все белое, потому что иначе не хоронили, и перенесли в пишалинскую церковь.
Много народа пришло проститься с хозяином.
Кто-то из любопытства. Кто-то и в самом деле из жалости.
Для крестьян Афанасий был неплохим хозяином. Основной доход его шел не с полей и леса, не с труда закрепленных крестьян, а с царской службы и привходящих дел. От него порой зависели не только важные назначения за рубеж и внутри страны, но и целость головы на плечах. А такая зависимость – золотая вещь.
Что-то ждало крепостных теперь? То ли имение заберут в казну, то ли приедут опальные родственники и будут выжимать из земли и леса все до нитки. То ли все будет как раньше.
Афанасия отпели. Многочисленные дворовые жены, в том числе мать Дмитрия, плакали с большим усердием и умением:
– Тебе ли было оставлять белый свет?
– Не имел ли ты богатства, и чести, и семьи любезной?
– Не жаловал ли тебя царь-государь?
Церковный колокол звенел над лесами и водой.
Нарядно одетого Нагого опустили в холодную, сырую землю. На могиле поставили красивую мраморную плиту – красную в золотую искру.
И все.
Грандиозный замысел по смене власти в стране будут осуществлять другие. Афанасий Нагой даже не узнает о его результатах.
Сразу после похорон Копнин позвал Симеона и Дмитрия.
Разговор с ними он вел в своей комнате. Это была рабочая комната – дубль хозяйской. С той лишь разницей, что в ней все было проще и кондовее и стояла большая деревянная кровать.
– Вот что, уважаемые мои, – сказал Юрий. – Вам здесь оставаться нельзя. Да и мне, пожалуй, тоже. Как только арестованные бумаги в Москве прочтут, сюда сразу стрельцов направят с каким-нибудь прощелыгой из пыточного приказа. Вы понимаете. Вам надо идти в столицу под крыло к Бельскому Богдану, Щелкалову Василию, к Романовым. К Мстиславскому, наконец. Так считал хозяин. Но мой вам совет другой.
– Какой? – спросил Дмитрий.
– Идти в Литву. В Москве Годунов набирает силу с каждым днем, и вас быстро сдадут ему. То ли чтоб соперника удавить, то ли просто из-за подлизовости. В Литве вы нужнее. Там и русских опальных много, и сами поляки спят и видят, как на Русию выйти.
Копнин молчал, желая понять, насколько серьезно его собеседники относятся к его наказам. Когда он увидел, что его слушают с огромным вниманием и уважением, он продолжил:
– В Литве, барич, ты можешь и забыть о своем царском деле и жить спокойно, как все аристократы живут.
– Нет уж, – твердо сказал Дмитрий.
Копнин и Симеон с удивлением посмотрели на него. Юноша явно набирал.
– Мой долг быть на троне. Это мое царство.
Копнин и Симеон переглянулись.
– Много я видел разных долгов, – сказал Копнин. – Жаль, что часто они плахой кончались, а то и дыбой. Ну да ладно, Бог тебе судья. – Он перекрестился. – А я вот лично, по своему почину, приготовил вам вот что.
Он вытащил из шкафа и бросил на лавку две черные добротные монашеские рясы, две пары крепких сапог и вручил Симеону большой кошель с деньгами.
– Ну и кто мы такие в этом наряде? – спросил царевич.
– Монахи. Идете собирать пожертвования для Грязовецкого монастыря. А то и в святой путь к Ерусалиму. Это уж как вам удобнее. У меня на тот и другой рассказ бумаги есть.
– Спасибо, Юрий Иванович, – растроганно сказал учитель. – Для начала мы все-таки пойдем в Польшу. А потом уже на Москву. Мне польский вариант больше нравится.
– А мне московский, – сказал Дмитрий.
– Это уж вы сами решайте. Хозяина над вами нет. Только уходите быстрее.
– Сегодня же уйдем, – сказал Симеон. – Пусть только Жук довезет нас до Грязовца и чуть дальше. Чтоб в этом маскараде нам здесь внимание людей не привлекать.
– Он отвезет вас далеко за Грязовец. И вот что: если вы решите идти на Москву, то вам сначала надо зайти в другое место.
– Куда это? – удивился Дмитрий.
– В Череповец, в село Никольское.
– Юрий Иванович, ты великий человек! – воскликнул Симеон, а царевич ничего не понял.
Копнину очень понравилось, что доктор оценил его еще не высказанную мысль. Этот мрачный человек даже расцвел и продолжил:
– А вот вам еще один подарок. Это уже от Жука. – Он протянул два простых деревянных распятия. Они были крепко-прекрепко самодельные.
– Не слишком ли мы замаскарадимся? – спросил царевич, примеряя рясу и крест.
– Не слишком, – ответил Симеон. – А ты, дорогой Уар, еще не так умен, как хотелось бы! Давно пора понять, что есть такие люди, которые ничего зря не говорят и ничего попусту не делают.
Он потянул свой крест за верхнюю часть, и из его середины выполз зловещий, можно сказать, профессиональный стальной клинок.
Когда они вышли от Копнина с подарками, царевич спросил:
– Да зачем нам надо идти в Череповец?
– Затем, что там в монастыре живет одна царского рода женщина.
– Что это еще за женщина?
– Твоя родная мать, Дмитрий. Как только ты предъявишь свои права на трон, первым делом будут спрашивать ее. Действительно ли сын ее жив? Действительно это ты? А она тебя и в глаза не видела… последние девять лет.
– Понял, – сказал юноша.
– Да, и не забудь теперь, что тебя Юрием зовут или Георгием. Скажи, как тебе больше нравится?
– Мне больше нравится быть Дмитрием, – сердито сказал подросток.
Волчонок начинал показывать зубы.
«От командира пехотной роты Жака Маржерета библиотекарю королевской библиотеки милорду Жаку Огюсту де Ту.
Париж.
Уважаемый господин де Ту!
Как мне стало известно, мои скромные записки о Русии были прочитаны Его Королевским Величеством, что доставило мне большую радость.
Поэтому продолжаю писать об этой более чем странной стране, хотя у меня и нет уверенности, что письмо мое когда-нибудь дойдет из этих снегов до милого моему сердцу Парижа.
Я остановился в прошлый раз на том, что в январе 98 года царь Федор скончался. Некоторые говорят, что нынешний правитель Борис был виновником его смерти. Я лично в это не верю.
С этих пор он начал домогаться власти, но так скрытно, что никто, кроме самых дальновидных, не заметил этого. Он распустил слух, что сам татарский хан с большими силами идет разорять Русию. Узнав такую новость, народ еще больше стал просить его принять корону.
Тогда он согласился возложить на себя столь тяжелый груз, но только после того, как будет дан отпор неверным, идущим с армией в сто тысяч человек опустошать империю.
Он сумел собрать войско в пятьсот тысяч человек на лошадях.
Русские силы состоят большею частью из кавалерии. Некоторые города выставляют до тысячи воинов. Знатные воины должны иметь кольчугу, шлем, копье, лук. Должны иметь пригодных лошадей и слуг. Слуги тоже должны иметь лошадей, лук, стрелы и саблю.
Таким образом, получается множество всадников на плохих лошадях, не знающих порядка, духа и дисциплины и часто приносящих армии больше вреда, чем пользы.
На счастье будущего императора, войско татар не пришло, пришло большое посольство с просьбой подарков и мира. Потому что очень донимали татарских мурз и купцов казаки и другой сброд, живущий по краям империи.
Император с великой честью воротился в столицу и несколько дней подряд устраивал грандиозные пиры и конные игры.
Лошади у русских большей частью приводятся из ногайской Татарии. Они среднего роста, весьма хороши в работе и скачут семь-восемь часов без отдыха. Они весьма пугливы, боятся аркебузных выстрелов. Их никогда не подковывают. Затем у них есть лошади турецкие и польские, которых они называют аргамаками. Среди ногайских встречаются очень хорошие лошадки, совсем белые в мелких черных пятнах, как леопарды. За двадцать рублей можно приобрести красивую татарскую лошадь, которая прослужит больше, чем аргамак – лошадь, которая стоит пятьдесят, а то и сто рублей.
Но мы отвлеклись на лошадей, любезный Жак Огюст, и вернемся к царю Борису Федоровичу, ставшему императором как раз на местный Новый год – первого сентября девяносто восьмого года.
Он начал свое царствование с того, что укрепил войско, выплатил стрельцам жалованье за два года вперед. Он усилил свою охрану, создал тайную сеть осведомителей, увеличил Пыточный приказ.
Он начал ссылать тех, в ком сомневался, и заключал браки по своему усмотрению. Он не позволил князю Мстиславскому жениться.
Русские императоры имеют переписку с римским императором, королями английским и датским и шахом персидским. Также они имеют с древности сношения с королями польскими и шведскими.
Сейчас я опишу один царский прием, на котором мне удалось побывать. Это было посольство нынешнего канцлера Литвы Льва Сапеги. Его долго держали здесь против его воли. Он жил в Москве почти полгода.
Он поцеловал руку императора, сидевшего в приемной палате.
Вельможи из Думы и окольничие сидели на скамьях кругом палаты, одетые в платья из очень дорогой золотой парчи, обшитые жемчугом. В шапках из очень дорогой лисы.
Большая зала, через которую проходят послы, полна скамей, на которых сидят прочие дворяне, одетые так же. Никто не смеет прийти без платья из золотой парчи. Говорят, что при царе Иване Грозном всю одежду бояре сдавали в царские кладовые до следующего приема. А иной раз за один прием переодевались все по два раза.
Они не шевельнутся, пока посол не проследует по проходу. И там такая тишина, что можно счесть эту палату и залу пустыми.
Лев Сапега обедал в присутствии императора, и с ним все его люди в количестве трехсот человек.
Им подавали на золотой посуде, которой великое множество. Я имею в виду блюда, так как ни о тарелках, ни о салфетках там и речи нет.
Двести или триста дворян подают императору. Одеты они в платья из золотой парчи и круглые шапки, тоже расшитые. Эти шапки совсем без полей и сделаны, точно как суповая чашка без ручек. Сверху этой шапки есть еще одна высокая шапка из лисы. Затем массивные золотые цепи на шее.
Ели они очень хорошую, но плохо приготовленную рыбу. И много пили за здоровье обеих сторон.
Нужно заметить, что императору подают на стол весьма пышно. Двести или триста дворян, одетых в платье из золота с большим воротником, расшитым жемчугом, назначены приносить императору кушанья и держать их, пока он не спросит того или другого.
Перед тем как появится кушанье, на все столы приносят водку в серебряных сосудах вместе с маленькими чашками, чтобы наливать в них и пить.
После обеда император посылает многим дворянам кушанья домой. Я сам видел до трехсот дворян, несущих кушанья и напитки для одного обеда.
Но позвольте, уважаемый Жак Огюст, на этом прервать мое письмо. Оно и так слишком длинно. Я писал его два дня, и оно страшно меня утомило.
Сегодня я дежурю с моей ротой в ночь на охране недавно построенной немецкой церкви. О ней я напишу в следующий раз.
От меня нижайший поклон всем тем достойным и высокопоставленным людям, которым вы соизволите показать мое письмо.
P. S. Все, что здесь написано, не выдумка, а документальная правда.
Командир пехотной роты охраны Государя капитан Жак Маржерет».
Доктор и царевич тряслись на телеге уже более трех часов. Давно уже они распрощались с Жуком. Это Жук нанял им телегу и молчаливого пожилого мужика по имени Влас. Давно уже скрылись купола и кресты Грязовецкого монастыря. Встречных телег и экипажей не попадалось.
Дело близилось к полудню.
Неожиданно на дороге показался странный, очень сплоченный табун разномастных лошадей. Табун двигался быстро. Пыль вилась за ним основательная.
– Что это? – спросил Симеон возницу.
– Это с Камелы-реки перегонщики.
– Какие перегонщики?
– Коногоны. Которые баржи вверх по реке тащат и плоты. Они обратно своих лошадей гонят. Коногоны…
Мужик говорил не торопясь, обстоятельно, повторяясь:
– Перегонщики… Вокруг телеги коней привяжут и гонят быстро, чтоб в дороге не проедаться.
– А телега зачем? – спросил мальчик. – Можно же верхами.
– Без телеги нельзя. В телеге вещи хозяйственные. Канаты там, крюки. Никак нельзя.
– Послушай, Влас, – удивился царевич, – что же там, у реки, дорога, что ли, есть для телеги?
– Зачем дорога? – в ответ удивился мужик. – Дороги там нет. Телега – она на барже едет или на плоту.
Коногоны пронеслись. Пыль улеглась.
Лес, который держался далеко от дороги, на расстоянии хорошего поля, постепенно стал сближаться с обеих сторон. В некоторых местах он уже подходил к самой дороге.
Вот впереди путь пересекала новая, совсем свежая конная тропа. Симеон почувствовал что-то неладное. Заволновался, задергался.
И точно, из ближайшей мелкой рощицы вылетели трое на конях. Одеты они были разношерстно и по-разному вооружены. И какая-то скрытая злоба исходила от них даже на расстоянии.
– Стой! – закричал первый из них. – Кого везешь?