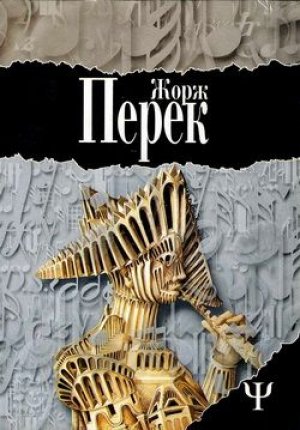
От редакции
…Уверяем вас, что тот, кто пропустит эти несколько страничек со скучным заголовком «От редакции», будет несказанно удивлен.
Прочитав уже первые главы романа, он в недоумении пожмет плечами: что это? Насмешка? Пародия на средневековый авантюрный роман? Забавный пересказ бесконечного мексиканского сериала (о, трепещите дамы!) с выкраденными младенцами, запутанными родственными связями и сложными перипетиями сюжета?
А вот и нет! А вот и нет!
И не жалуйтесь, что вас обманули. Все очень просто: надо все всегда начинать с начала. А в данном случае имя этому НАЧАЛУ – мрачный и насмешливый, мудрый и незатейливый, выдумщик, обманщик, шутник и экспериментатор Жорж Перек…
Перек всегда был немногословен в вопросах, касающихся его личной жизни. Поэтому кажется, что уже сама его жизнь покрыта завесой тайны. Известно, что родился будущий писатель в 1936 году в Париже в небогатой семье евреев – выходцев из Польши. Детство Перека исковеркано смертью на фронте в 1940 году отца и исчезновением матери, депортированной в 1943 году и, скорее всего, погибшей в Освенциме. Поэтому мотив смерти и исчезновения так часто встречается его в произведениях. Воспитывался он у родственников отца. В юности интересовался прежде всего словесностью и психологией и долго не мог отдать предпочтение ни одному из этих двух предметов, посещал литературные курсы, изучал психосоциологию. Получил разностороннее образование. Учился на факультете филологии в Сорбонне и в университете города Тунис.
Перипетии своей жизни Перек в характерной для него манере, так не сочетающейся с привычным жанром автобиографической прозы, поведал в книге «La boutique obscure», опубликованной в 1973 году. В ней подробно излагаются 124 сна, который писатель видел с мая 1968 по август 1972 года. Эти сны Перек называет «мучительной кучей каракулей» без особого старания «рассказать историю».
Рождением Перека-писателя можно считать 1965 год, когда увидел свет его небольшой роман «Вещи» (многочисленные произведения, созданные им в период с 1954 по 1962 год так никогда и не будут опубликованы). Роман, написанный во «флоберовском» стиле, сразу же получил признание у публики и был удостоен премии RENAUDOT.
В романе «Спящий человек» (1967 г.) Перек развил прием, который использовал и в «Вещах». Его герой пытается отстраниться от всего окружающего, находится как бы в состоянии небытия. Литературным прототипом его стал Бартлеби, образ, созданный американским писателем Германом Мелвиллом. Бартлеби, который на просьбу действовать, что-либо предпринимать, отвечал единой фразой: «Я предпочел бы этого не делать». Роман «Спящий человек» обнажил незаживающую рану, ущербность самого писателя, чувство человека без прошлого, не имеющего корней и лишенного памяти.
Перек опубликовал более двадцать книг, но среди них нельзя было найти двух схожих по стилю. В «Заметках о том, что я ищу» Жорж Перек пишет: «Если я пытаюсь определить то, что нашел, понял, что нужно делать, с тех пор как начал писать, то первая мысль, которая приходит мне в голову, – это то, что я ни разу не написал двух похожих книг, что у меня никогда не возникло желания повторить в книге формулу, систему или манеру, разработанную в книге предыдущей». Писатель настолько непохож на себя прежнего в каждой новой книге, настолько порой вовсе неузнаваем, что некоторые критики усматривали в этом лишь отсутствие стиля, что, по их мнению, было свидетельством дурного литературного вкуса.
Находясь в постоянном поиске новых форм, Ж.Перек в 1967 году вступает в известное литературное объединение УЛиПО (Ouvroir de Littйrature Potentielle – «Открывательница потенциальной литературы»), созданное в 1960 году писателем Раймоном Кено и математиком Франсуа Ле Лионне, которые непрерывно искали новые методы литературного творчества (к той своеобразной литературной мастерской можно отнести также Жака Рубо, итальянского писателя Итало Кальвино, жившего в то время в Париже, и американского – Гарри Мэтью). Члены этого объединения пытались расширить рамки построения литературных произведений, заимствуя формальные образцы из таких сфер, как математика, логика или шахматы. Перек, всегда увлекавшийся кроссвордами, ребусами, разного рода головоломками, интересовавшийся вопросами литературной техники, формотворчества, быстро впитывает в себя идеи объединения. Его книги, написанные в этот период и позднее, простираются от романов до кусочков кроссвордов, от эссе до пародий, от поэзии до словесных игр.
В это же время Перек увлекается палиндромами, в которых слова или целые предложения, прочтенные наоборот, сохраняют свой смысл, и создает, возможно, наиболее длинный из когда-либо написанных палиндромов, включающий более пяти тысяч слов.
Палиндромы, анаграммы, словесные эксперименты становятся непременными атрибутами его творчества. Он создает произведение из 466 слов, в котором не было ни одной гласной, кроме «а».
Эта новая игра так увлекает Перека, что он становится признанным мастером липограмм. (Напомним, что липограммы – это тексты, в которых отсутствует одна или несколько букв; в свое время это прием использовали Пиндар и Лопе де Вега.)
В 1969 году Перек пишет липограмматический роман «La disparition» (наиболее очевидным переводом этого названия является «Исчезновение»). Это загадочная история об исчезновении человека, и в мире, из которого этот человек исчез, также исчезает буква «е» (заметим, самая распространенная во французском языке), но никто, за исключением читателя, не замечает кабалистических замен, похожести, искажений, вариантов и бесконечных трюков, которые порождает Вселенная, чтобы заполнить эту пустоту (пробел, пропуск!..). В этом перевернутом мире, где Anton'a Voyl'я (Антона Вуаля) безуспешно разыскивают его друзья, знаменитый монолог Шекспира начинался бы, наверное, так:
«Жить иль скончаться, вот каков вопрос…»
Роман этот представляет собой повествование исключительной специфичности, сложности и вместе с тем простоты. В нем на фоне глобальной судьбоносной пропажи двигаются, ведомые на тонких ниточках сюжета, персонажи, совершаются загадочные преступления, похищения, вершится месть… В нем гармонично переплелись и детективная интрига, составляющая магистральную линию романа, и несколько авантюрных ответвлений, саги, легенды, предания, пародия, стихотворство, черный юмор, интеллектуальные изыски, философские отступления и, наконец, откровенное надувательство. Но разве не говорил Раймон Кено: «Пишут для того, чтобы дурачить народ» (эти слова Ж.Перек цитирует в «Постскриптуме» к роману)?
Ну, так стоит ли все выше приподнимать занавес, обнажая ПУСТУЮ сцену?
Тому же, кто все еще не понял, о чем написан роман «Исчезновение», ответим – об ИСЧЕЗНОВЕНИИ и ПУСТОТЕ в их вселенском масштабе!
И уж совсем напоследок, только для тех, кто умеет начинать читать с НАЧАЛА. Внимание! Маленький подарок.
Не будем скрывать (ведь все равно с первых же страниц романа вы – увы! – обнаружите обман), что мы не посмели изымать из текста Мастера какую-либо букву, опасаясь, что это ИСЧЕЗНОВЕНИЕ станет непоправимым.
Но, согласитесь, ведь «Исчезновение» от этого не исчезло?…
А тем, кто хочет идти до конца, кто не боится трудностей и любит решать интеллектуальные задачки, мы предлагаем «выбросить» из романа любую гласную, которая им нравится (или, наоборот, не нравится).
Могло быполучиться, например, вот так:
«Три кардинала, раввин, адмирал-франкмасон, трио мЕлких политиканов, дЕйствующих забавы ради в интЕрЕсах одного англосаксонского трЕста, объявили насЕлЕнию по радио, а затЕм посрЕдством наглядной агитации, что нации угрожаЕт голодная смЕрть».
«Три кардинала, раввин, адмирал-франкмасон, три бросовых политикана, забавы ради, защищая одну англосаксонскую корпорацию, объявили простому люду по радио и потом с помощью наглядной агитации, что нации грозит голод».
Ну как? Нравится? Может быть, у вас получится лучше?
Что ж, вперед! Дерзайте!..
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Черное, падая, режет фламинго в полете,
В почву бегущий, скрежещущий звук золотит,
Крут его бег, как спрессованный воздух на взлете,
Кровь, ударяясь об угол, пульсируя, хлещет, кипит.
Если Ничто, шаг за шагом тяжелым, сверкая,
Твердо ресницу сжимает в свинцовой руке,
Голый сверчок обнаженно в глухом умирает,
Серого случая кляп слепо бредет вдалеке.
Думалось: альфа сигнал постоянный и точный,
Вечер обратное тихо шептал осторожно,
Кто-то, как путник, ступая на мостик непрочный,
Верил в твердыню в галопе своем бездорожном.
«Нет», что рождает перо под рукою горячей,
Скрыто завесой своей, о другом говорящей,
В этом сокрыто искусство, где черное с белым
Сходятся в песнях, и в битвах, и в мысли пределах.[1]
Жак Рубо
Предисловие
Из которого станет понятно, что здесь начиналось Проклятье
Три кардинала, раввин, адмирал-франкмасон, трио мелких политиканов, действующих забавы ради в интересах одного англосаксонского треста, объявили населению по радио, а затем посредством плакатов, что нации угрожает голодная смерть. Сначала народ подумал, что сие ложная паника. Речь шла, говорили, об интоксикации. Однако общественное мнение развило данную мысль. Каждый вооружился мощной дубиной. «Мы хотим хлеба», – вопили народные массы, освистывая хозяев предприятий, толстосумов, Общественные Власти. Движение повсеместно приобретало характер заговора, конспирировалось. Ни один полицейский не осмеливался больше выйти ночью на улицу. В Маконе было совершено нападение на административное здание. В Рокамадуре разграбили склад; в нем нашли: запасы тунца, молока, килограммы шоколада, центнеры кукурузы, – но все эти продукты, пожалуй, были уже испорченными. В Нанси принародно гильотинировали одним махом двадцать шесть чиновников магистрата,[2] затем сожгли вечернюю газету, обвиненную в пособничестве администрации. Всюду брали штурмом доки, ангары и магазины.
Позже начали нападать на арабов, негров, евреев. В Дранси, Ливри-Гаргане, Сен-Поле, Виллакублей, Клиньянкуре учинили погромы. Затем удовольствия ради прикончили нескольких мелких стражей порядка, вид которых показался ликвидаторам излишне мрачным. Плюнули в лицо священнослужителю, который на улице отпустил грехи офицеру полиции, последнего какой-то шутник укоротил ловким ударом ятагана.
Убивали брата или сестру за палку колбасы, двоюродных за батон, соседа за горбушку, того, кто подвернулся под руку, за ломтик хлеба.
В ночь с понедельника на вторник шестого апреля с помощью динамита было произведено двадцать пять взрывов в международном аэропорту Орли. Пылала Альгамбра,[3] дымился Институт,[4] полыхал госпиталь святого Людовика. В парке Монсури а ля Насьён не осталось ни одной вертикально стоящей стены.
Во дворце Бурбонов[5] оппозиция осыпала язвительными насмешками и унизительной бранью власти – те смущались под напором критики, однако упорствовали в своем нежелании принять меры по улучшению ситуации. А тем временем на Ке д'Орсе[6] были убиты двадцать три уличных регулировщика, в Латур-Мобурге, застав на месте преступления, забросали камнями голландского консула – вина его заключалась в том, что он вытягивал из бочки анчоус; в Ваграме[7] избили до крови маркиза, не подавшего су умирающему, – аристократ усмотрел в чувстве голода проявление дурного вкуса; на бульваре Распай здоровенный беловолосый викинг разъезжал на полумертвой кляче с окровавленной грудью и стрелял из лука по всякому индивидууму, чей вид его не устраивал.
Один капрал, обезумев от голода, украл базуку и ухлопал весь свой батальон – от командира до последнего солдата; провозглашенный после этого vox populi Великим Адмиралом, он пал мгновением позже, пронзенный острым кинжалом завистливого аджюдана.[8]
Какой-то весельчак, находясь в плену галлюцинаций, оросил напалмом целый квартал предместья Сен-Мартин. В Лионе было убито по меньшей мере миллион человек; большинство населения страдало от цинги или тифа.
Муниципальный чиновник, на три четверти идиот, по неизвестным причинам закрыл бары, бистро, бильярдные, дансинги. Тогда явила себя жажда. А май был небывало жарким, неожиданно загорались автобусы, солнечный удар поражал трех из пяти прохожих.
Чемпион по гребле вскарабкался на фальшборт, чем возбудил на время народ. Он тотчас же был провозглашен королем. Ему предложили выбрать себе звучное имя; он захотел стать Аттилой III, однако ему настойчиво рекомендовали стать Фантомасом XVIII. Ему это имя не нравилось. Одним ударом кулака его уложили на месте. Фантомасом XVIII назвали какого-то недоумка, затем всучили ему цилиндр-шапокляк, большую веревку, стек из орехового дерева с золотым кабошоном[9] и понесли его в Пале-Рояль в паланкине. Однако он туда не добрался и не доберется уже никогда: какой-то озорник с криками «Смерть тирану! Ко мне, Равайяк!»[10] перерезал ему горло бритвой. Он был предан сожжению в колумбарии; не зная зачем, группа ожесточившихся молодчиков оскверняла его прах восемь дней кряду.
Позже на трон взошли: франкский король, господарь,[11] магараджа, три Ромула, восемь Аларихов,[12] шесть Ататюрков,[13] восемь Мата Хари,[14] один Гай Гракх,[15] один Фабий,[16] один Сен-Жюст,[17] один Помпиду, один Джонсон (Линдон Б.),[18] несколько Адольфов, три Муссолини, пять Карлов Великих, один Вашингтон, один Отто,[19] в оппозицию к которому сразу же встал один Габсбург, один Тамерлан, который без какой бы то ни было поддержки уничтожил восемнадцать Пассионарий,[20] двадцать Мао, двадцать восемь Марксов (один Чико, три Карла, шесть Граучо, восемнадцать Харпо[21]).
Во имя общественного спасения Марат упразднил декретом всякие ванны, но Шарло Корде[22] убила его в собственной же, Маратовой, ванне.
Таким образом осуществлялась ликвидация власти: тремя днями позже на набережной д'Анжу стреляли из танка по башне Сюлли-Морлан, ставшей последним бастионом администрации; вице-мэр взобрался на крышу; он появился с белым флажком в руке, затем объявил в микрофон о безоговорочном отречении от
Общественной Власти, добавив тут же, что он предлагает свое лояльное содействие для установления мира. Но его столь высокий выход оказался совершенно напрасным: танк, глухой ко всем его мольбам, безо всякого предупреждения и ультиматума одним залпом срезал башню до основания. Что же касается так называемого военного порядка, установленного по наущению одного недоумка, то порядок этот лишь усугубил существующие трудности.
Дела шли неважно. Любого человека могли укокошить ни за что. Сначала здоровались, затем приканчивали. Нападали на автобусы, катафалки, почтовые фургоны, спальные вагоны, открытые коляски-виктории, ландо. Атаковав одну больницу, избили кнутом доходягу, которого нельзя было оторвать от его убогого ложа, в упор расстреляли однорукого ревматика. Были распяты по меньшей мере три лже-Христа. Утопили в водке пьяницу, в формалине аптекаря, в бензине мотоциклиста.
Нападали на мальчишек и девчонок и, схватив их, варили в гудроне, нападали на савойяров[23] и сжигали их заживо, на адвокатов – и отдавали их на растерзание львам, на францисканцев – и выпускали из них всю кровь, на машинисток – и отравляли их газом, на подмастерьев из пекарен – и душили их, на клоунов, официантов, шлюх, угольщиков, наборщиков, барабанщиков, профсоюзных лидеров, крестьян, моряков, милордов, нападали на группы хулиганствующих молодчиков.
Грабили, насиловали, калечили, однако бывало и хуже: унижали и предавали. Никто никому никогда не доверял: каждый ненавидел ближнего своего.
I. Антон Вуаль
1
Глава, похожая на некогда прочитанный роман об индивидууме, который выспался всласть
Антону Вуалю не удавалось заснуть. Он зажег свет. Часы показывали без двадцати двенадцать. Бедняга испустил глубокий вздох, присел на кровати, прислонился спиной к диванной подушке. Взял роман, раскрыл его, начал читать, но едва уловил, да и то лишь в самых общих чертах, интригу; он все время наталкивался на слова, значения которых не знал.
Утомившись, оставил роман на кровати, подошел к умывальнику, намочил перчатку, провел ею по лбу, шее.
Пульс у него был частый, пожалуй, даже слишком частый. Ему было жарко. Он открыл форточку, всмотрелся в ночь. Погода стояла мягкая. Из предместья доносился какой-то неразличимый шум. Три раза позвонили невдалеке колокола – звон их был тяжелее! похоронного и более глухой, чем у набата. Жалобный всплеск на канале Сен-Мартен известил о том, что мимо проплывает шаланда.
На форточке, держась за стебелек альфы,[24] сидело какое-то синегрудое насекомое с шафрановым жалом. Вуаль подошел к форточке, намереваясь быстрым движением руки раздавить незваного гостя, но тот взлетел и исчез в ночи, прежде чем человек успел осуществить свое намерение.
Несостоявшийся убийца отстучал пальцем на раме форточки воинственный мотив.
Открыв встроенный в стену холодильник, он достал молоко, налил его в чашку и выпил. Сел на угловой диван, взял газету, рассеянно пробежал ее глазами. Зажег сигарету и выкурил ее до конца, несмотря на то что запах табака раздражал его. Закашлялся.
Включил радио: вслед за афро-карибским мотивом прозвучал бостон, затем танго, затем фокстрот, затем котильон, приспособленный ко вкусу сегодняшнего дня. Дютронк спел сочинение Ланцмана,[25] Барбара[26] – мадригал Арагона, Стих-Рэндэлл[27] – мотив из «Аиды».
Должно быть, на какое-то мгновение он уснул, потому что внезапно подскочил. По радио объявили: «Прослушайте последние новости». Ничего значительного: в Вальпараисо при открытии моста погибло пять человек; в Цюрихе Нородом Сианук[28] заявил, что не поедет в Вашингтон; в Матиньоне[29] Помпиду предложил профсоюзам установить социальное статус-кво, но потерпел неудачу. В Бифаре[30] расовые конфликты; в Конакри[31] поговаривают о путче. На Нагасаки обрушился тайфун, в то время как на острове Тристан да Кунья[32] пронесся ураган с красивым именем Аманда, теперь оттуда на грузовых самолетах эвакуируют население.
Наконец, на кортах Ролан-Гаросе в Париже в матче на Кубок Дэвиса Сантана[33] обыграл в пяти сетах Дармона – 6:3, 1:6, 3:6, 10:8, 8:6.
Он выключил радио. Опустился на покрытый ковром пол, проникся вдохновением, отжался несколько, раз и тут же почувствовал усталость; доведенный до изнеможения сел и уставился усталым взглядом на любопытный рисунок, который то появлялся на ворсистой поверхности ковра, то исчезал, в зависимости от того, как выстраивалось видение.
Например, иногда это был круг, не совсем замкнутый, заканчивающийся горизонтальной чертой, – можно было сказать, что это прописная буква «G», отраженная в зеркале.[34]
Или же это было: белое на белом, возникающее из кристаллического тумана, – портрет надменного короля, размахивающего гарпуном.
Или же: на какое-то мгновение под тремя прямыми чертами появлялся приблизительный, незавершенный набросок – выступающие углы, побочные профилирующие контуры, в тщетном скачке воображения, трехпалая рука хихикающего Сардона.[35]
Или же: внезапно возникающее изображение тяжело летящего шмеля с тремя почти лилейной белизны сочленениями на черной груди.
Его воображение получало простор. По мере того как он углублялся в созерцание ковра, возникали пять, шесть, двадцать, двадцать шесть комбинаций: очаровательные, но невесомые черновики, неустойчивые ляпсусы, мрачные портреты, которые он бесконечно располагал в каком-нибудь порядке, ожидая появления знака более надежного, знака глобального, значение которого он сразу бы понял, знака, который удовлетворил бы его, – а он видел в пробеге к несообразным звеньям кучу несовершенных эскизов, каждый из которых, можно было сказать, способствовал плетению, построению конфигурации начального эскиза, который он имитировал, калькировал, приближал, но все время замалчивал:
смерть, повеса, автопортрет;
бычок, глупый сокол, сидящая в гнезде птичка;
ревматический узел;
пожелание;
или хитрый глаз огромного кашалота, презирающего Иону,[36] приковывающего к себе Каина, очаровательного Ахава;[37] превращения жизненного ядра, чье раскрытие утверждалось как запретное, двойственно замещающие, бесконечно вращающиеся вокруг знания, ушедшей способности, которая никогда больше не появится, но которую он, изнемогая от усталости, хотел бы видеть всегда вновь и вновь возникающей.
Его охватывало раздражение. От того, что он видел на ковре, ему становилось плохо, неспокойно. Казалось, что под нагромождением иллюзий, которые ежесекундно диктовало ему воображение, он видел, выступающую узловую точку, неведомое ядро, которого он почти уже касался пальцем, но которое всякий раз ускользало от него, лишь только он собирался до него дотронуться.
Но он стоял на своем. Он упорствовал. Его охватило влечение, от власти которого не удавалось избавиться. Впечатление было такое, что в самой глубине ковра из какой-то нити сплеталась загадочная точка Альфа, зеркало Великого Всего, в избытке предлагая Бесконечность Космоса, первоначальная точка, из которой внезапно возникает панорама, бездонная дыра в тончайшем луче, неведомое поле, хрупкие края которого он намечал, за чьим вкрадчивым контуром следовал; вихрь, высокие стены, тюрьма, порог, через который он переходил, никогда его не пересекая…
В этом ожесточении он провел на прямоугольном ковре, утопая в видениях, целую неделю, до изнеможения, до отупения отдаваясь игре своего воображения, бег которого не прерывался ни на миг; он изо всех сил пытался различить, затем определить видение, одевая его и конструируя, строя все вокруг плоти одного романа, – он был подобен томящемуся, блуждающему дорожному регулировщику, преследующему иллюзию божественного озарения, в котором бы все открылось, где все бы себя ему предложило.
Он задыхался. Ни одного знака, ни одного сигнального огня, никакого румпеля – лишь десятки комбинаций, из переплетения которых ему не удавалось выбраться, хотя он и знал в любое мгновение, что близок к решению, что оно совсем рядом; оно иногда дышало прямо ему в лицо; вот-вот он мог бы стать обладателем знания (да он и почти был им, был всегда, ибо все это имело вид настолько банальный, обыкновенный, привычный…), но все меркло, все исчезало – оставались лишь скрытое шушуканье, загадочная тарабарщина, рассеянная галиматья. Лжедень. Путаница.
Ему уже больше не удавалось заснуть.
Он ложился, однако, в кровать, выпив настойку – сироп с аллобарбиталем, опиумом, шафранно-опийным настоем или маком; он тем не менее укрывался с головой мадрасом;[38] он считал до ста и дальше.
Через мгновение он забывался в дреме. Потом вдруг, казалось, его что-то с силой подбрасывало. Он дрожал. Тогда возникало, осаждало, врезалось в разум видение, которое неотступно преследовало его, – какое-то мгновение, кратчайший миг он обладал знанием, он видел, он постигал суть.
Он соскакивал на ковер, но слишком поздно, всегда слишком поздно – к тому времени все уже исчезало, оставалось лишь раздражение от неисполненности почти уже удовлетворенного желания, от неутоленности едва не состоявшегося знания.
Тогда, такой же бдительный, как и тот индивидуум, что выспался всласть, он покидал кровать и ходил, пил, вглядывался в ночь, читал, включал радио. Иногда он одевался, выходил из дому, бродил по улицам, коротал ночь в баре или в своем клубе, а бывало садился в машину (хотя и водил ее, скорее, плохо), ехал куда глаза глядят, в зависимости от настроения: в Шантильи или Ольней-су-Буа, в Лимур или в Рэнси, в Дурдан, в Орли. Однажды он доехал до Сен-Мало – прошло три дня, но он так ни разу и не заснул.
Он делал все для того, чтобы уснуть, но все попытки были безуспешными. Он надевал на ночь пижаму, сменял ее на кальсоны, потом на спортивное трико, потом на арабский халат кузена-спаги,[39] ложился наконец совершенно голый. Застилал свое ло-1 же двадцатью различными способами. Однажды взял напрокат по сумасшедшей цене роскошную кровать, но присматривался и к раскладушке, и к койке, и к кровати с балдахином, и к спальному мешку, и к дивану, и к софе, и к гамаку.
Он дрожал без простыней, потел под пледом – и в этом отношении перепробовал все и вновь безрезультатно. Пытался заснуть, сидя на кровати и на полу, на стуле, опустив голову на спинку, и даже на корточках; просил совета у факира, и тот предложил засыпать, подобно ему, на гвоздях; затем обратился к Гуру – последний рекомендовал практиковать позу хатхи-иоги: сжимая правым предплечьем затылок, соединять руку с пяткой.
Но все – тщетно. Заснуть не удавалось. Ему уже, бывало, казалось, что заснул, но это обрушивалось на него, это обваливалось в нем самом, это жужжало и гудело вокруг него. Это его угнетало. Это его удушало.
Сочувствующий сосед сводил его на консультацию в госпиталь Кошена. Он называл свое имя, фамилию, регистрационные данные в Ассоциации Труда. Ему предложили пройти процедуры прослушивания и прощупывания, а затем рентген. Он согласился. У него спросили, мучается ли он? В какой-то степени да, ответил он. Что у него? Не удается заснуть? А не пробовал ли он пить сироп? Сердечные средства? Да, пробовал, но это не помогало. Болят ли у него иногда глаза? Пожалуй, нет. А нёбо? Бывает. Лоб? Да. Уши. Нет, но бывает, ночью в ухе гудит. Хотелось бы знать: гудит или кажется, что гудит? Он не знает.
Он предстал перед отоларингологом, весельчаком, тщательно выбритым, с длинными рыжими бакенбардами, с лорнетом и серым в белый горошек галстуком-бабочкой; тот курил сигару и от него пахло спиртным. Отоларинголог измерил его пульс, прослушал его, осмотрел с помощью круглого зеркальца нёбо, исследовал ушные раковины и барабанные перепонки, были подвергнуты изучению и гортань, и носоглотка, и правый синус, и перегородка. Отоларинголог делал нужное дело, но, прослушивая его, посвистывал, и в конце концов это стало раздражать Антона.
– Ох, ох, ох, мне плохо…
– Терпите, – велел отоларинголог, – пойдем, сделаем рентген.
Он положил Вуаля на белый блестящий холодный стол, нажал на какие-то кнопки, опустил шторку, выключил свет, сделал снимок в полной темноте, вновь зажег свет. Вуалю захотелось скрючиться.
– Стоп! – воскликнул отоларинголог. – Я еще не закончил, нужно посмотреть, нет ли признаков самоинтоксикации.
Он включил цепь, приставил к затылочной кости Вуаля иридиевый стержень, похожий на толстую авторучку, – на экране высветилась шкала, по показаниям которой можно было судить об уровне притока крови.
– Показатель, похоже, максимальный, – сказал отоларинголог, колдуя над прибором и жуя сигарету, – есть сужение фронтального синуса, нужно вскрыть…
– Вскрыть! – в ужасе воскликнул Вуаль.
– Да, я сказал: вскрыть, – повторил отоларинголог, – иначе может появиться ложный круп.
Он говорил все это игривым тоном. Вуаль не понимал, шутит он или нет, но черный юмор лекаря тревожил его. Он достал платок, плюнул в него кровью.
– Проклятый шарлатан! – воскликнул он возмущенно, чтобы покончить со всем этим. – Я пойду лучше к офтальмологу!
– Идите, идите, – согласился отоларинголог, успокаивая пациента, – после нескольких иммунных переливаний крови можно будет разобраться получше, но пока проанализируем то, что есть.
Он нажал на кнопку. Облачаясь на ходу в фиолетовый рабочий халат, вошел его ассистент.
– Растиньяк,[40] – обратился к нему отоларинголог, – сбегай в Фош, госпитали Сен-Луи или Брока в Париже, нам нужна до обеда противоконглютинативная[41] инъекция.
Затем он продиктовал диагноз машинистке:
– Имя: Антон Вуаль. Консультация восьмого апреля: обычный насморк, самоинтоксикация носоглотки, может впоследствии вызвать нарушения во всей обонятельной цепи, сужение правого фронтального синуса, сопровождающееся воспалением иррадиальной слизистой вплоть до подъязычных усиков; инокуляция гортани может спровоцировать ложный круп. Ввиду этого мы предлагаем удалить синус, иначе рано или поздно ухудшится голос.
Затем он уверил Вуаля: удаление синуса представляет собой операцию длительную, скрупулезную, но совершенно обычную. Ее выполняли еще во времена Людовика XVIII… Беспокоиться не нужно: дней через десять все будет в полном порядке.
Так Вуаль оказался в больнице. Его поместили в палату, в которой было двадцать шесть кроватей; на двадцати пяти пребывали субъекты в той или иной стадии умирания. Ему прописали мощные транквилизаторы (ларгактил, прокалмадиол, атаракс). Утром он увидел Шефа, совершавшего обход; его сопровождала свита, состоявшая из практикантов; беседуя, он пил молоко, улыбался, прыскал со смеху. Иногда, если больной был уже совершенно безнадежен, он подходил к кровати, осторожно похлопывал его по плечу, вытягивая из хрипящего бедолаги нечто вроде улыбки – точнее, полный мольбы жуткий оскал. Но для каждого находил веселое словечко, мог и утешить, предлагал больному малышу конфету, улыбался мамашам. В нескольких особенно трудных случаях ставил диагноз, который тут же пояснял будущим врачевателям: болезнь Паркинсона, опоясывающий лишай, сибирская язва, болезнь Гийен-Тайона, постнатальная кома, сифилис, аритмия сердца, ревматические боли в сердце и т. д.
Тремя днями позже Вуаля перевезли на тележке в операционную. Провели хлороформизацию. Затем отоларинголог ввел ему в нос троакар – надрез обонятельного тракта вызвал расширение носовой полости, отоларинголог незамедлительно этим воспользовался, надрезав шабером Обрадовича перегородку.
Операция и далее проходила успешно.
– Хорошо, – сказал в конце концов врач вспотевшему ассистенту, – окисление, кажется, заканчивается. Воспаления больше нет.
Он приложил к прооперированному месту тампон, закрепил его кетгутом.
2
Глава, в которой на воздыхающего Робинзона обрушивается нечеловеческая судьба
Мучился он меньше, но слабел. Лежа весь день на кровати, на диване, сидя во вращающемся кресле, он бессчетное число раз делал на оборотной стороне визитной карточки набросок нечеткого рисунка на ковре, иногда, оказавшись во власти галлюцинаций, бродил.
Он ходил по коридору с высоким потолком. На стене висела полка красного дерева, на которой стояли двадцать шесть томов ин фолио. Или, точнее, на полке должны были стоять двадцать шесть томов, но на ней всегда отсутствовал один том, на задней стороне обложки которого было (должно было быть) написано: «ПЯТЬ».[42] Однако все с виду было в порядке: ничто не говорило о том, что исчез один том («а ghost»,[43] как говорят в Национальной Библиотеке); казалось, что никакого свободного места, никакого зазора между книгами нет. Вот что смущало больше: расположение томов никак не указывало на то, что один том отсутствует (или хуже: скрывало, утаивало); нужно было пересчитать все книги, чтобы понять, что одного тома недостает, и уже потом, еще раз внимательно просмотрев все книги, можно было наконец уяснить, что нет именно пятого тома.
Он хотел взять один том, раскрыть его (читая, он, быть может, уловил бы, неожиданно, случайно, факт более убедительный, подсказку, которой ему не хватало?), но он этого так и не сделал, рука его проходила слишком далеко от полки; никогда больше он не узнает, что это были за книги; иногда ему казалось, что это энциклопедия, иногда – что Коран, Талмуд или Тора, а может, фундаментальный Опус, мучительный итог какого-нибудь табуированного знания…
Было одно недостающее звено. Был пробел, была дыра, брешь, которую никогда никто не видел, о которой никто не знал, которую никто и не мог, не умел, не хотел увидеть. Это исчезло. Взяло – и исчезло.
Или тогда же ему казалось, что он видел в вечерней газете кучу ошеломляющей информации:
Или иногда на него надвигалось видение человека с дичайшей внешностью, что-то бормочущего безумца, полоумного с размягченными мозгами, обращающегося к прохожим с бессмысленными речами, городского сумасшедшего; когда он проходил мимо, люди смеялись, дети бросали в него камни. Один мальчишка прицепил к его макинтошу цыпленка, потому что несчастный кричал, просто выл: «Миллиард, двадцать миллиардов птенцов мертвы!»
«Идиотизм», – бормотал он тогда. Но это было не большим идиотизмом, чем то совершенно безумное видение, что являлось ему мгновением позже, – некоего индивидуума, появляющегося в баре:
Голос мужчины, усаживающегося за стол (вид угрюмый, если не сказать воинственный). Человек!
Голос бармена (знающего свою клиентуру). Здравствуйте, Командир!
Голос Командира (удовлетворенного тем, что его поняли, хотя теперь он на какое-то время является лицом гражданским). Здравствуй, мой мальчик, здравствуй!
Голос бармена (некогда изучавшего английский язык на вечерних курсах). What can I do for You?[45]
Голос Командира (вызывающий слюнотечение). Сделай мне один коктейль порто-флип.
Голос бармена (внезапно становится печальным)} Что? Порто-флип?
Голос Командира (решительно утверждающий). Ну да, порто-флип.
Голос бармена (вид у того страдающий). О… но… нет его… сейчас…
Голос Командира (подскочившего). Как? Еще и года не прошло, как я выпил здесь три порто-флипа!
Голос бармена (совершенно обессилившего). Больше нет… Нет больше…
Голос Командира (разъяренного). Ну а просто портвейн у тебя есть, наверное?!
Голос бармена (агонизирующего). Да… но…
Голос Командира (мечущего громы и молнии). Тогда!.. Тогда!.. Есть еще…
Голос бармена (тот уже при смерти). Ааааааах!!! Тсс!!! Тсс!!!
Бармен умирает.
Голос Командира (констатирующего). Rigor mortis.[46]
У Вуаля не всегда было в порядке с чувством юмора (хотя выше его можно было заподозрить в наличии последнего). Иногда он терял самообладание. Вскакивал, охваченный страхом, сердце выскакивало из груди. Уж не собирался ли напасть на него сидящий на задних лапах Сфинкс?
День за днем, месяц за месяцем галлюцинация дистиллировала его яд, опиум, которого он жаждал, – сковывавший его железный ошейник.
В тот вечер, когда он разглядывал насекомое, которое никак не могло перелезть через раму форточки, ему непонятно почему вдруг стало не по себе. Он увидел в букашке символ ополчившейся против него судьбы.
Позже, ночью, ему померещилось – перевоплощение в духе Кафки, – что он дрыгает ногами в своей кровати; на нем бронзовый нагрудник, и он никак не может нащупать точку опоры. Он покрывался потом. Было слишком жарко. Он выл, взмахивал рукой с тремя когтистыми пальцами, но никто не приходил на помощь. В доме стояла полная тишина, разве что чуть слышно капала из крана вода. Кто знал о том, в каком он находился положении? Кто мог бы его сегодня навсегда освободить от мучений? Найти слово, произнеся которое можно было бы смягчить его боль? Ему не хватало воздуха. Он чувствовал, что начинает задыхаться. Жгло в легких. Скрытый недуг перепиливал гортань. Он хотел заорать: «SOS!» Но издал лишь жалобный стон. Губы скривились в болезненном оскале, лоб и шея сморщились. Он кричал, как новорожденный. Истекал потом, словно свинья, которую закалывают. Грудь наполнялась какой-то болезненной тяжестью. Глаза застыли, словно он умирал. Из загнивающей барабанной перепонки сочилась, текла черная кровь. Вконец ослабевший, он все еще метался в постели, он хрипел, он агонизировал. На правом предплечье открывался огромный карбункул, время от времени из него брызгал гной.
Он худел – просто таял. Терял по меньшей мере пять килограммов в день. Рука походила теперь на культю. Голова болталась на иссохшей шее. И все время грудь изо всех сил сжимал до мучительной нечеловеческой боли какой-то невидимый удав – он словно подвергался гарроте.[47] Трещали суставы, ломались кости. Он не мог больше издать ни звука.
Позже он понял, что к нему приближается смерть. Никто не посещал его. Никто не догадывался о недуге, который сокрушал его. Никто не облегчит его конец, священник не отпустит грехи.
Он следил за парящим высоко в лазурном небе грифом. Вокруг кровати кого только не было: огромные черные крысы, мыши – и домашние, и лесные, и полевые, – тараканы, жабы, тритоны – все эти стервятники напряженно вглядывались в него, готовые вот-вот наброситься на теряющего последние силы человека. На него пикировал сокол. Бежал из глубины Сахары шакал.
Воображение порой тревожило его, но в то же время и забавляло: стать обедом для шакала, кормом для мыши-полевки или добычей для кружившего над ним грифа (наверняка он прочитал о чем-то подобном у Малколма Лаури)[48] – воистину это было желанием Амфитриона,[49] исходившим из самой глубины его души.
Собственная внешность, внешность больного человека, все больше привлекала его. Ему захотелось увидеть в ней знак более точный, течение как можно более близкое к путеводному, а то и вовсе начальную нить.
Не смерть (хотя она заявляла о себе каждое мгновение), не Проклятье (хотя и оно все время давало о себе знать), но прежде всего ощущение: нет, имя, пробел.
Все имело нормальный вид, все имело здоровый вид, все имело значащий вид, но под шатким прикрытием слова, наивного талисмана, серо-серого двурогого существа проявлялся ужасающий хаос; все имело нормальный вид, у всего будет нормальный вид, но однажды, через неделю, через месяц, год, все испортится: появится дыра, которая будет все увеличиваться, день за днем – колоссальный пробел, бездонный колодец, вторжение белого. Один за другим, мы замолчим навсегда.
Совсем не зная, где рождалась ассоциация, он представлял себя героем некогда прочитанного романа, появившегося лет десять назад под Созвездием Южного Креста, романа «Исидро Пароли» или, скорее, Онорио Бустоса Домека,[50] в котором рассказывалось о незабываемом, сногсшибательном, оглушающем ударе судьбы, поразившем одного изгнанника, беглого пария.
Его также звали Измаил.[51] С болезнью почти сверхчеловеческой прибыл он на островок, который считался необитаемым, и нашел себе убежище в дыре, где провалялся, агонизируя, целую неделю. Сердце его уже почти останавливалось. Вдобавок ко всему он заболел еще и малярией. Он дрожал, задыхался, силы его иссякали.
Однако по прошествии этой самой недели сверхъестественное здоровье позволило ему подняться. Исхудал он до невозможности, но все же смог выползти из дыры, в которой едва не умер. Утолил жажду. Попробовал пожевать желудь, который тут же выплюнул. Затем научился распознавать съедобные плоды и грибы; когда он съел один плод, похожий на абрикос, тело его покрылось пурпурными бубонами, но позже он нашел ананасы, орехи, хурму, дыни.
Когда наступала ночь, он заостренным камнем делал на палке насечку. Через три недели он построил себе настоящую хижину: утрамбованная земля, три стены, калитка, крыша из самана. Трута у него не было, поэтому он все ел сырым. Несколько раз ему становилось страшно, что на него нападет хищный зверь. Но так уж случилось (так, по крайней мере, он считал), что на островке не было ни рысей, ни пум, ни ягуаров, ни бизонов. Правда, однажды вечером ему показалось, что он увидел бродившего поблизости орангутана. Однако никто на его жилище не нападал. Он запасся хорошей дубиной из орешника, она бы ему здорово помогла, если бы пришлось от кого-нибудь защищаться.
Через месяц Измаил, преисполненный самонадеянности, решил осмотреть островок. Робинзон своего неизвестного Тристана да Кунья, он с дубиной в руках пробродил по нему целый день. Вечером, стоя на вершине горы, он окинул взглядом свои владения. Там он решил и заночевать, потому что близилась ночь и уже почти ничего не было видно. Утром он с той же точки внимательно осмотрел островок. На севере увидел ручеек, впадавший в небольшое болотце, дальше, неподалеку от берега, различил, вздрогнув, несколько весьма любопытного вида холмиков. Спустившись вниз, он осторожно подошел к ним; как он понял, это была некая техническая система. Он предположил – и в догадке своей не ошибся, – что изначально она функционировала с помощью прилива воды. Затем он неожиданно, еще не понимая, что все это значит, обнаружил жилище, а рядом с ним – огромный аквариум, можно сказать бассейн, и радиоустановку.
Все имело заброшенный вид. Он увидел колодец, в котором нашли себе прибежище три больших броненосца. Дно аквариума было покрыто перегноем, в нем копошились черви.
Дом построили, должно быть, не меньше двадцати дет назад, в стиле, который был тогда в моде. Можно было сказать, что это одновременно и казино, зодчий которого вдохновлялся мотивами рококо, и бунгало, и шикарный дом терпимости.
Деревянная дверь, трехстворчатая, подобно муха-рабу[52] решетчатая, вела в коридор с высоким потолком; длиной шагов в двадцать, не меньше, он вел в свою очередь в большую круглую гостиную, застланную огромным турецким ковром, вокруг которого стояли диваны, софы, узенькие оттоманки, пуфы. Винтовая лестница вела на лоджии. С потолка, сделанного из прочного светлого дерева (гайяка или сандала), свисал алюминиевый тросик с медным крюком, отполированным до ослепительного блеска старательным мастером; на крюке этом был подвешен японский бумажный фонарик, придававший всему вокруг слабый опаловый цвет. Три эркера, стекла которых были заключены в рамы с золотыми насечками, выводили на балкон, откуда открывалась великолепная панорама.
Измаил осторожно, остерегаясь опасности, шаг за шагом исследовал помещение. Ощупал стены, потолок, панели. Открыл все до одного выдвижные ящики и заглянул в них. Обыскал каждый угол. В подвале обнаружил всевозможные приспособления, собранные в одну электрическую цепь, предназначения которой он так и не понял, – в ней были осциллограф, зеркало с поляризующими лучами, рупор, аппаратура hi-fi, шасси с цилиндром усиления, восьмиканальная зубчатая рейка, стробоциклоидальный маховик.
Спать в этом доме он не осмелился. Но прихватил с собой кучу разных инструментов, котел, доску для рубки мяса, сито, зажигалку, бочонок со спиртным, дошел затем до надежного прибежища, которое недавно присмотрел себе неподалеку в лесу. Потихоньку, день за днем, привел это убежище, насколько смог, в относительно приемлемый вид. В последующие дни он охотился, убил кролика, поймал однажды с помощью лассо золотистого зайца-агути, запасся салом, навялил мяса, сделал кровяные колбасы.
Прошел месяц. Подул муссон. Лазурное небо помрачнело, было видно, как на горизонте собираются сначала слоисто-кучевые, потом слоисто-дождевые, затем перисто-кучевые облака. Снизу поднимался поток холодного воздуха. Приближающийся прилив вытеснял дружественный отлив. Лил дождь.
Тремя днями позже, утром, Измаил увидел, что к островку подошла яхта. Сойдя с нее на берег, несколько человек направились в казино. Чуть позже до него донеслась музыка джаз-банда, исполнявшего популярный лет двадцать назад фокстрот – он и не думал, что эта мелодия доживет до сегодняшних дней. А затем все полетело вверх тормашками.
Сначала Измаилу захотелось убежать, спрятаться в своем убогом убежище. Но все увиденное и услышанное заинтриговало его. Он подкрался к казино. И от того, что увидел, испытал шок: люди танцевали неподалеку от дома, резвились в вонючем аквариуме. Развлекались трое мужчин и три девицы. Толстый грум, ловко протискиваясь между ними с большим круглым подносом, предлагал компании сандвичи, напитки и сигары. Один мужчина – лет двадцати пяти, не больше, крепко сложенный, подтянутый, улыбающийся, – был в смокинге, по-видимому, от Кардена, с воротничком а ля Мао, без единой пуговицы; с той поры, как такой фасон был в моде, прошло немало времени. Другой, бородатый, постарше, скорее всего P.D.G., был во фраке. Он потягивал виски. Затем, бросив в стакан три кусочка льда, он предложил напиток своей подружке, дремавшей в гамаке.
– А это вам, Фаустина,[53] – сказал он, целуя ее в шею.
– Thank you, – поблагодарила его та, полусмеясь, полусмущаясь.
– Ах, Фаустина, я хотел бы оказаться с вами в одной постели!
– Послушайте же, я не говорю «нет» трижды, будем друзьями, – сказала девушка, протянув на мгновение руку для поцелуя.
Измаил был очарован Фаустиной и начал всюду подсматривать за ней, хотя и, делая это, немало опасался: он ведь бежал от тюрьмы. Где гарантия, что в этой компашке нет легавого или стукача? Он был вынужден покинуть родную страну, спасаясь от расправы тирана, совершившего преступления более гнусные, нежели те, что были на совести какого-нибудь Калигулы или Борджиа. Измаила осудили заочно, и за содействие в его поимке было назначено вознаграждение. Кто знает, не посланы ли сюда эти безобидные с виду гуляки для того, чтобы изловить его? Но он игнорировал это, он забывал об этом: он любил Фаустину и, прежде чем умереть, хотел обладать ею.
Оставив приятелей, Фаустина гуляла иногда по островку. Однажды Измаил подошел к ней. Девушка читала роман – «Орландо» Вирджинии Вульф.
– Мадемуазель, – обратился к ней Измаил, – простите, простите, я хотел вас увидеть поближе. Тем хуже для меня, если меня заметили…
Но Фаустина игнорировала его, сколько он ее ни умолял.
Позже все стало походить на галлюцинацию; он решил, что отравился грибами или выпил слишком много спиртного, либо, скорее всего, исхудал настолько, что совсем исчез, – все его тело пронизывало ощущение другого человека. Или же он выжил из ума, потерял рассудок: ему просто мерещились казино, яхта, бородач, Фаустина, а на самом деле он по-прежнему вопил в своем гнилом болотце.
Да, но однажды он увидел, как распадается или, скорее, раздваивается баобаб.
Да, но через неделю он увидел, что повторяется точь-в-точь, тютелька в тютельку то же самое действо: танцующие неподалеку от казино люди, фокстрот Армстронга.
Да, но было еще и хуже (в названных случаях галлюцинации Измаила питало его же воображение; в них брало свое начало непрочное, но такое тонкое соотношение, такое волнующее, но такое трудное для полного постижения, которое связывало его с романом): иногда, расхаживая по коридору, Измаил видел, как открывается дверь и появляется грум с подносом в руках; он шел, игнорируя его; Измаил инстинктивно отскакивал в сторону. Затем слуга исчезал, положив, скажем, альбом на сундук, и Измаил шел к сундуку, протягивал к альбому руку, думая, что сможет его открыть, дотрагивался до него, такого твердого, гладкого, такого прекрасного, – ни один Титан, ни один Голиаф не смог бы поднять этот альбом.
Впечатление было такое, что все вокруг казино затвердело из-за происков какого-то хитрого тролля, злого кобольда, который все вокруг обработал улетучивающимся газом, опрыскал проявляющимся закрепителем, проникающим в самую глубину всего здесь находящегося, внедряющимся в ядра, ионы, во все тела, все поля.
Все казалось нормальным, он видел, он думал, что видит, звук рождал шум, запах пах. Он видел Фаустину, томно возлежащую на софе, видел, как продавливалась под ней большая подушка. Затем Фаустина выходила, уронив на подушку тяжелое золотое украшение с неограненным драгоценным камнем. Измаил подскакивал к софе, он видел в оставленном украшении знак: Фаустина любит его, но не осмеливается открыться, потому что ее муж, или любовник, или друг, заставлял ее бледнеть (ибо никто не мог нарушить Закон, делавший Измаила парием: к нему не прикасались – он ходил, куда хотел, но его всюду и всегда игнорировали).
Однако его рука касалась подушки или украшения лишь на короткое мгновение; он тотчас же отводил ее, удрученный, подавленный, растерянный: он дотрагивался не до подушки, а до твердой компактной глыбы, камня такого же твердого, как алмаз; все казалось вовлеченным в магму со скрепленными краями, можно сказать, в закрытое, законченное поле, неразделимое тело, безупречно гладкое, с очень плотной структурой; в этом поле, человеческом или нечеловеческом, сохранялась позитивная сила; таким образом, Фаустина могла открыть дверь, улечься на софе; таким образом, ее приятель мог предложить ей виски; таким образом, можно было услышать фокстрот, увидеть, как возникает яхта, падает на софу золотое украшение, выходит лакей. Но вне поля, где все указывало на то, что Измаил там присутствовал, оставался лишь сплошной континуум, без единой складки, без сочленения, компактное тело, более компактное, нежели штукатурка, мастика, цемент; черепицевидное наслоение без просвета, окаменение ровного, массивного, тяжеловесного, – все приставало ко всему, неразрешимое, непрерывное.
Его вес не давил ни на какую подушку – скала была помягче дивана; ступни его не приминали ворса на ковре; рука не нажимала ни на какую кнопку. Он был бессилен.
Измаил понял – позже, слишком поздно, – что он жил в фильме: М., бородач, который так хотел обладать Фаустиной, взял ее двадцатью годами раньше, без ведома клана, во время недельного пребывания на островке.
В то время как на баобабы обрушивалась фатальная беда, в то время как кишащий червями гумус заполнял аквариум-бассейн, в то время как совершенное запустение приводило дом в негодность, достаточно было подуть муссону, как тотчас же – под воздействием поднимающегося прилива, заливавшего ту технологическую систему, которую Измаил видел неподалеку от берега, прилива, влиявшего на электрическую цепь в подвале, предназначение которой он сначала не разгадал, – приходила в движение динамо-машина; прилив отдавал ей свою силу, посылал свой сигнал, для того чтобы сразу же можно было увидеть, как возвращаются точь-в-точь, тютелька в тютельку, бесчисленные исчезнувшие мгновения, обретая бессмертие, – подобно приспособлению, устроенному Марсьялем Кантрелем[54] на основе виталиума,[55] который в холодильном ангаре давал каждому умершему возможность осуществить раз и навсегда самое решающее мгновение своей жизни.
Все имело нормальный вид, однако все оказалось ложным. Все имело нормальный вид, но лишь сначала, а затем оказывалось нечеловеческим и сводило его с ума.
Он хотел бы узнать, где сочленялась та ассоциация, которая объединила его с романом: на ковре, каждое мгновение беспокоившем его воображение; интуиция табу, неясного зла, чего-то незанятого, несказанного – видение забытого, повелевающего там, где терялся рассудок; все имело нормальный вид, но…
Но что?
Он не знал, что и думать.
3
Глава, конец которой делает невозможным безнравственное папское будущее, обещанное раскаивающемуся ублюдку
Позже, по-прежнему желая все четче понять, он завел Дневник.
Он раскрыл альбом. И написал на первой странице вверху:
Затем ниже:
Он исчез. Кто исчез? Что?
Есть (был, был бы, мог бы быть) рисунок, вытканный на моем ковре, нет, это более чем рисунок – это знание, это способность…
Имаго[56] на моем ковре.
Иногда впечатление было такое, что это работа Арчимбольдо[57] – автопортрет или скорее ошеломляющий портрет сурового Дориана Грея, нездорового альбиноса, выполненный не с использованием морских животных, обилия фруктов, инволютивов-пестиков, наслаивающихся в виде чешуи до появления лба, шеи, бровей, а из кучи вкрадчивых вибрионов, организующихся с такой субтильной искусностью, что тотчас же узнаешь: для составления портрета достаточно одного тела, не без того, однако, что в любое мгновение может появиться возможность уловить различимый знак, настолько кажется ясным, что речь идет для ремесленника о том, чтобы прийти к созданию продукта, который, показывая себя затем маскирующимся, по очереди, если не одновременно, гарантирует закон, который его подготавливает, никогда не предавая.
Сначала модификация видна плохо. Кажется, что есть лишь инстинктивная суета, заставляющая вас всюду видеть аномальное, двусмысленное, тревожное. Затем внезапно узнаешь, считаешь, что узнаешь: есть недалеко неизвестно толком что, то, что вас развлекает, управляет вами, пронизывает вас. Тогда все портится. И тогда цепенеешь, столбенеешь: ослабляется разум. Вас заставляет страдать упорствующее, надоедающее зло. Галлюцинация, во власти которой вы пребываете, отупляет вас совершенно.
Хотелось бы слова, имени; хотелось бы выкрикнуть: вот решение, вот где зарождается мое беспокойство. Хотелось бы суметь вскочить, выйти из загадочного, туманного, из смутной тарабарщины, из булькающей дословности. Но нет больше никакого выбора: нужно до конца углубиться в видение.
Хотелось бы уловить начальную точку, но вид у нее такой расплывчатый, такой далекий…
Он вел этот Дневник месяцев пять-шесть. Вечером скрупулезно записывал все самые незначительные подробности: кончились запасы спиртного, найдена долгоиграющая пластинка для кузена Жюло, который должен выйти из сундука в конце следующего месяца, укорочен бурнус, поздоровался с соседом, хотя Азор, его собачонка, накакал на мою циновку. Но он писал и о романе, который читал, о друге, которого видел, или о каком-нибудь слове, факте, которые его ошеломили (адвокат во Дворце, которому не удалось закончить речь; громила, наводивший страх на население; сумасшедший наборщик, выводивший из строя все находящееся в его распоряжении оборудование).
Иногда, склонясь над листом бумаги, он отдавался воображению, что-то рассказывал, сочинял свою автобиографию, копался в себе.
Однажды он представил себе весь роман: в одной далекой стране жил-был мальчик по имени Эньян. Ему было пять лет. Он жил во дворце, приходившем в запустение. Однажды няня сказала ему:
– Когда-то у тебя было двадцать пять двоюродных братьев. Мы жили в мире. Но один за другим они все исчезли, никто так и не узнал, почему. Сегодня пришла твоя очередь, должен отправиться ты – иначе всех ждет смерть.
Тогда Эньян бежал. Согласно традиции самого высокого Bildungsroman[58] повествование начиналось с короткого нравоучительного фаблио:[59] в конце лесной тропинки на Эньяна напал Сфинкс.
– Вот отличный сандвич мне на закуску, – сказало галлюцинирующее животное. – Давненько я не видел в наших краях такого аппетитного мальчонку!
– О нет, Сфинкс! – вскричал Эньян, знавший Лакана[60] наизусть. – Подождем еще немного, ты должен следовать своему фатуму.
– Моему фатуму? – удивилось животное. – А зачем это? Ты, я гляжу, кривляка. Решения не знал никто и никогда. – Проникнувшись внезапным подозрением, Сфинкс добавил: – Быть может, оно случайно известно тебе?
– Кто знает… – ответил Эньян, лукаво улыбаясь.
– С виду ты фанфарон, но тем не менее ты нравишься мне, гнусный ублюдок, – продолжил вкрадчиво Сфинкс, – Сыграем в fair-play,[61] твое честолюбие облегчит тебе смерть; вот мой устный ультиматум.
Он взял лютню, набрал в легкие воздух и перебирая струны, запел:
– Это я, это я! – закричал Эньян.
Несуразное животное помрачнело.
– Ты так считаешь?
– Ну да, – сказал Эньян.
– Тогда ты, должно быть, прав, – промолвило животное огорченно.
Они долго молчали. В тарлатановой[62] лазури дышал Аквилон.[63]
– Я всегда говорил, что придет день и какой-нибудь мальчишка оглушит меня, – жалобно вздохнуло животное.
Оно готово было разрыдаться.
– Ладно, Сфинкс, заканчиваем, – сказал Эньян. В глубине души он даже сочувствовал животному, но все-таки добавил: – Если бы я не знал решения, то закончил бы у тебя в желудке. Но я знал, я победил, и согласно Закону, ты должен умереть. – Он погрозил пальцем, от чего сфинкс стал еще более робким. – рухни, подлый Сфинкс!
– О, – прошептало животное, – так ты хочешь моей смерти!
– That's right! – взвыл вдруг Эньян, сам не зная, почему он заговорил по-английски.
Он схватил палку и уложил животное на месте. Утратив весь свой апломб, оно исчезло в закрутившемся вихре – с жутким криком, в котором слышались одновременно и львиный рев, и кошачье мяуканье, и клекот коршуна, и страдание человека… Крик этот стоял в окрестностях почти три недели…
После такого недвусмысленного фаблио интрига развивалась ipso facto:[64] Эньян шел через всю страну, и по горам, и по долинам, входил под вечер в безвестные городишки, предлагал свою помощь каретникам, крестьянам, священнослужителям. Ему давали краюху хлеба, кусок сала, и он ел их, натирая чесноком. Он был голоден. Хотел пить. Он жил.
По мере того как Эньян взрослел, характер его утончался: юноша приспосабливался к жизни, знания его углублялись, видение жизни становилось все более острым, развивалось его Anschauung.[65] Он встречался с самыми разными людьми. Каждый принимал участие в его преобразовании, предлагал ему то работу, то кров, расширял его кругозор. Барышник обучал его своему ремеслу. Он был каменщиком и построил дом; работал он и наборщиком в типографии, основал даже свою газету.
Затем все больше стало давать о себе знать предначертание. С ним произошла череда сложных превращений, повторявшая точь-в-точь, тютелька в тютельку, за вычетом завершения, Сагу во всех ее подробностях, повествование развлекательное, но в то же время и нравоучительное, касающееся к тому же романа, который некогда послужил основой создания Песни трубадура, обретшей известность под авторством Гартмана;[66] Томас Манн, в свою очередь, трижды почерпнул в этом сюжете вдохновение.
В конце концов Эньян узнал, что его отцом был Великий Король по имени Вилигис (звали его чаще Вилло). Сибилла[67] испытывала к брату чувство настолько сестринское, что в итоге оно привело к кровосмешению (несмотря на смерть датского дога, вывшего у подножия кровати).[68] Через девять месяцев родился Эньян.
Совершив грех, Вилигис, прозванный Вилло, отправился искать себе кару, устремился на сарацин и легко нашел смерть, которой так жаждал.
Что же касается наследника престола, Эньяна, носившего в своей крови слишком безнравственную плазму, то мать несчастного, Сибилла, положила его в лодку, которая отплыла на север страны, в уголок, изобилующий всевозможными болотцами, переполненный ублюдками-убийцами, да к тому же идиотами (ибо потребление алкоголя на душу населения равно там, как говорят, приблизительно пяти мюидам[69] в год), неизвестными животными, наверняка хищными: поговаривали о драконе, «который мог бы затолкать е себя целый батальон», рассказывали все это на очаровательном наречии в местном кабачке, куда каждый ежевечерне, завершив дневные труды, направлял свои стопы, дабы опрокинуть кружку другую. Не будем излишне долго останавливаться ни на том, что здесь, все время стояла ночь, ни на том, что без конца моросил дождь, колючий и ледяной. Без труда понимаешь, что нужен был случай, из ряда вон выходящий (кое-кто сразу же узрел в этом перст Всемогущего – и наверняка последние не ошиблись, однако Повествование вынуждено предлагать иллюзию шага, по меньшей мере, полностью фатального; иначе зачем разглагольствовать?); повторяем: нужен был случай, из ряда вон выходящий, чтобы Эньян в обстановке столь сердечной оставался в живых восемнадцатью годами позже. Но не будем опережать события…
Словом, спустя восемнадцатью лет, grosso modo,[70] Сибилла, пребывая в своем брабантском[71] или фламандском дворце, все еще не забывала о своем таком красивом сынишке и упорно избегала законного брака. Могучий Архидук,[72] бургундец, находя ее в своем вкусе, хотел затащить несчастную в постель. Сибилла ответила отказом. «Как?!» – возмутился Архидук, пылая яростью. Он сжег добрую четверть Эно,[73] затем пошел на город Камбре.
Тогда в Камбре верхом на караковом скакуне чистых англо-нормандский кровей по кличке Струми[74] явился паладин с юным миловидным лицом. Он был допущен во дворец. Рыцарь как нельзя более понравился Сибилле, и она решила доверить ему дело унижения Архидука. «Сказано – сделано», – коротко ответил вассал, целуя поданную ему руку.
Оседлав Струми, у которого под попоной цвета индиго было желтое седло со сбруей из золота, инкрустированное опалами, наш Адонис в короткой мантии с капюшоном, набедренниках, с нагрудником и нарукавной повязкой появился на турнирном поле. Хоругвь его была украшена изображением рыбы. Овации брабантского клана были по меньшей мере раз в двадцать сильнее оскорбляющего его улюлюканья бургундцев.
Поединок был кровавым, противники бились яростно, не щадя себя, – и ножами, и гарпунами, и молотами. Бой длился целый день. В конце концов, взяв себе в союзники самый искусный расчет, отважный защитник чести Брабанта пленил своего соперника – так был побит, и побит безоговорочно, коварный Архидук.
Заключили мир. Танцевали во всех кабачках под музыку гобоя, волынки, барабана. Все бурно рукоплескали наделенному богатым воображением паладину. Со всеми возможными почестями его посвятили в рыцари, присвоили звание Великого Адмирала. И явился он во дворец взглянуть на Сибиллу. Сибилла нравилась ему. А он волновал Сибиллу.
О тот, кто нас читает, нам нужно наконец сказать тебе прямо, не колеблясь, хотя, должно быть, ты и сам сразу понял, что за паладин восседал верхом на Струми: да, ты не ошибся, это был Эньян.
Впрочем, Эньян не знал, что, как и в случае с Эдипом, Сибилла была его матерью. А Сибилла в свою очередь не знала, что Эньян был ее сыном. И воспылала к Эньяну любовью безумной. А Эньян воспылал безумной любовью к Сибилле. И Эньян познал Сибиллу. А Сибилла познала Эньяна.
Проклятая судьба распорядилась так, что любовники узнали о том, кем они приходятся друг другу.
Сибилла обратилась к Богу, возвела больницу, лечение в которой было бесплатным.
Эньян облачился в лохмотья, под которые надел для умерщвления плоти трико из конского волоса, взял в руки посох и без сумы, без фляги, вечером покинул дворец, где совсем недавно изведал счастье. Путь его был долгим. Он жаждал возмездия, призывал гнев Всемогущего. Спал в лесах. Голодал. После тяжелого перехода, который отнял у него около трех дней, он оказался на берегу озера. Постучал в дверь крестьянского дома, и ему открыли.
– Есть ли здесь, – спросил он, – locus solus,[75] где Господь мог бы наконец покарать меня за несмываемый грех?
– Есть, – ответил туповатый крестьянин, – посреди озера есть островок, нет, пожалуй, скала, и довольно-таки крутая, там ты сможешь приткнуться, скрючившись, если уж так приспичило!
– Ты меня туда переправишь? – с мольбой в голосе спросил Эньян.
– Ладно, – согласился крестьянин, удивившись, – но там ты будешь гнить до самого конца.
– Да будет так, как возжелал того Всевышний, – изрек Эньян.
– Пусть так, я тебя туда доставлю.
Крестьянин отвез Эньяна на Островок Великого Прощения. Привязал его к скале веревкой, вернее сказать, удавкой. Грешник отдался покаянию. Питательный гумус, сочившийся ночью из углубления в скале, навсегда стал его хлебом насущным. Беззащитный, бедняга изо дня в день испытывал на себе разрушительное воздействие ураганов, аквилонов, ледяных мистралей,[76] обжигающих хамсинов,[77] вихрей сирокко,[78] приливов и тайфунов. В конце концов лохмотья его истлели и он остался совершенно голым. Было то холодно, то жарко; он то замерзал, то поджаривался на солнце.
Истощенный от недоедания, несмотря на весь поглощаемый гумус, который посылал ему в своем сострадании Всемогущий, Эньян начал катастрофически худеть: он все тощал и тощал, и процесс этот не прекращался. Он превратился уже в щепку, но все равно терял в весе, когда терять уже, казалось, было нечего. Исхудал так, что не только сузился, но и укоротился. Измельчал совершенно: сначала стал меньше карлика, затем стал похож на настоящего гомункулуса, а после и вовсе был уже не больше морского ежа…
Спустя восемнадцать лет случилось так, что пробил смертный час папы Павла VI.[79] Шум в Ватикане поднялся невероятный: нужно было срочно выбрать преемника. Тайное голосование проводилось не менее восьми раз – претендентом называли то болвана, то идиота, то шизофреника, а то и вовсе чокнутого. В Консистории[80] процветала коррупция: за миллион можно было стать понтификом. Скверные дела. Вера чахла. Никто уже больше не боготворил Святого Отца.
И наконец, лазурная высь была омрачена гневом Господним. Настал день, и Всевышний наведался к одному высокопоставленному кардиналу, представ пред ним в облике рыдающего агнца; сопровождало Его ложе, устланное благоухающими лютиками-калужницами.
– О кардинал, – молвил Голос, – послушай меня: у тебя есть Папа. Имя ему Эньян. Мой выбор таков потому, что человек этот вот уже восемнадцать лет претерпевает самые невообразимые мучения на скале, о которую бьется Моя волна.
– О Божественный Агнец, о Всемогущий, – пробормотал обожающий Его кардинал, – да свершится все, согласно воле Твоей!
Стали повсюду вопрошать о некоем Эньяне, терпящем где-то на скале невероятные страдания. Не без труда добрались наконец до берега озера, постучали в дверь дома того крестьянина, что восемнадцать лет назад отвез Эньяна на островок. Тот, однако, сначала притворился, что ничего не знает.
– Эньяна не знаю, – говорил он. – И островка не знаю. Нет здесь островка.
Но, задобрив хитреца с помощью кошелька, в конце концов узнали все; добравшись до островка, не без труда смогли на него ступить. Однако там, к великому огорчению кардинала, чья вера была поколеблена, несмотря на все заверения Божественного Агнца, никакого Эньяна не было. Тот исчез бесследно, доказав тем самым, что он не познал до конца всю меру Сострадания Всемогущего.[81]
Вопреки Томасу Манну у меня свое заключение, был непреклонен в вере своей Антон Вуаль, ставя последнюю точку в романе или, скорее, в черновике, если не сказать в наброске плана романа, ибо пусть даже он и представлял себе в достаточной степени ход его развития, ему все равно так и не удалось прийти к узловому пункту Повествования: рассказ его ограничивался какими-то двадцатью пятью или двадцатью шестью отрывками – он отшлифовал лишь некоторые места: сделал довольно тонкий портрет Эньяна, набросал крупными мазками портрет Архидука, так что образ его уже улавливался («громила, небритый, с длинными рыжими бакенбардами» – видно, что его вдохновляло воспоминание об отоларингологе, умудрившемся – надо же! – его развеселить); он тщательно проработал, правда, в очень небольшом фрагменте, забавный говор хитрого крестьянина, который переправил Эньяна на островок; картина поединка в его исполнении была столь тонка, что ее наверняка смогли бы без изменений, не краснея, предложить своему читателю такие писатели, как Поль Моран, Жироду и Мопассан. Но дальше этого он не продвинулся, в своем Дневнике он оправдывал себя – если, утверждал Антон Вуаль a priori, роман мой может быть закончен, то его нужно закончить; но, продолжал он, если роман будет закончен, то не выйдет ли он, Вуаль, на знание столь светлое, чистое, прочное, что никто из его читателей, овладев этим знанием, не проживет в нем даже мгновения? Ибо, продолжал он, вымыслу было угодно, чтобы Сфинксу противостоял Эньян. Тот исчез, и никакой триумфатор Логос – абсолютная идея и мировой разум – не проявит более свои утешающие способности. Следовательно, заключал он, ни одно повествование никогда не исключит случая. Однако, добавлял он ниже, у нас нет выбора: нам нужно во что бы то ни стало знать, что в любой момент на нас может напасть Сфинкс; нам нужно знать – а мы этого никогда не знали, – что в любой момент нам будет достаточно одного слова, одного звука, одного «да», одного «нет», чтобы незамедлительно его победить. Ибо – так говорил Заратустра – ни один Сфинкс никогда не устраивал себе гнезда вне человеческого Дворца…
4
Глава, в которой, несмотря на «Полет шмеля», нет и намека на Николая Римского-Корсакова
Антон Вуаль исчез в День всех святых.
Тремя днями раньше он прочитал в вечерней газете сообщение, сильно его встревожившее.
Некий индивидуум, злого могущества которого боялись настолько, что даже не называли его имени, проник ночью в здание Муниципального Комиссариата и похитил досье с документами огромной важности: в них содержались сведения, компрометирующие трех высокопоставленных полицейских чинов, заправлявших делами в Доме Пулага.[82] Чтобы избежать скандала, нужно было как можно скорее вернуть досье на место: дерзкий похититель знал, кому их можно предложить. Но хотя полицейские, убежденные в том, что он спрятал компромат у себя дома, перерыли там все по меньшей мере раз двадцать, отыскать документы так и не удалось.
Играя ва-банк, комиссар полиции Ромен Дидо[83] в сопровождении своего любимого аджюдана Гарамона[84] встретился с Дюпеном, известным своим непревзойденным чутьем.
– Дело обстоит так, – сказал комиссар, – что мы ни в коем случае не можем упустить эти документы; если бы речь шла об обычных бумагах, то это причинило бы нам минимальный вред. Но в данном случае мы имеем дело со шмелем слишком значительным…
– Со шмелем? – удивился Дюпен, не знавший этого слова в том значении, в котором употребил его Дидо.
– Простите за жаргон, – улыбнулся Дидо, – скажем так: нам кажется, что речь идет о пропаже бумаг, жизненно важных для нас. Эта кража уничтожает, делает тщетной, теряющей смысл всякую организационную работу – она ослабляет нашу дееспособность по меньшей мере в пять раз!
– Следовательно, вы перерыли все в доме прохиндея раз двадцать? – снова задал вопрос Дюпен.
– Да, – ответил Дидо, – но впустую. Искали, однако, и в других местах.
– Вот что мне совершенно ясно, – сказал Дюпен. – Ты все перерыл, прощупал стены и потолки, но совершенно без толку, потому что у тебя есть глаза, но ты ничего не видишь. Неужели ты не понял, старый пень, что твой парень сделал ход куда более интересный, а именно: он не спрятал добычу в какое-нибудь укромное место, а обработал ее соответствующим образом – так, что досье стало неузнаваемым, а затем положил этот самый компромат на самом видном месте,[85] ты прикасался к нему раз десять, не меньше, и не знал, и не думал, и не хотел подумать, что держишь в руках не какую-нибудь дребедень, а как раз то, что тебе нужно!
– Ну не было ничего такого! – едва ли не простонал Дидо.
– Ну конечно! – съязвил Дюпен.
Он надел свой макинтош, взял зонт и вышел со словами:
– Я иду туда. Через пару минут ты получишь свой папирус.
Но хотя он и не ошибался, по меньшей мере, в своем предположении, однако на этот раз все-таки промахнулся.
– Прежде мне хотя бы везло, – прошептал он, вернувшись.
Затем, чтобы утешиться, занялся, предоставив полицейским возможность самим решать их проблемы, орангутаном, совершившим три убийства.[86]
Если Дюпен не разгадал загадку, хотя и понял инстинктивно все от «а» до «я», то я не получу отпущения грехов, записал Антон Вуаль в своем Дневнике.
Он оставил друзьям записку. Вот ее содержание:
«Я так хотел бы выспаться всласть. Это была моя мечта: хорошенько отоспаться. Но он исчез! Кто? Что? Поди узнай! Это исчезло. Я в свою очередь пойду сегодня навстречу смерти, к большому белому забытью, к небытию. Простите. Я только хотел узнать. Недуг измучил меня. Мой голос стал подобен криворотому шептанию. О моя смерть, будь расплатой за то исступление, что жило во мне. Антон Вуаль».
Имелся и постскриптум, совершенно сногсшибательный, который показывал, что Антон Вуаль был уже не в своем уме:
«Несем десять порций хорошего виски грубияну-адвокату, курившему в зоопарке».
В заключение был еще росчерк – три горизонтальные черты (одна из них казалась более короткой), перечеркнутые какой-то пачкотней.
Покончил ли он с собой? Нажал ли на курок? Вскрыл ли бритвой вены в горячей ванне? Проглотил ли пузырек с ядом? Бросил ли свой автомобиль в бездонную дыру, что бесконечно кружится вихрем до вечера Великого Дня, до дня Великого Вечера? Открыл ли газовый кран? Сделал ли харакири? Сжег ли себя напалмом? Спрыгнул ли с высокого моста в поглотившую его черную пучину?
Никто так и не узнал, выбрал ли он сам себе конец, познал ли он смерть.
Но когда три дня спустя один его друг, встревоженный несообразной запиской Антона, явился к нему, чтобы предложить свою помощь, то никого на вилле не нашел. Машина стояла в гараже. Вся одежда была на месте в стенном шкафу. Все сумки – также. Не было ни следа крови.
Но Антон Вуаль исчез.
6
Глава, которая, выходя из компилирующего свода явлений, приведет нас прямо в зоопарк
Друга Антона Вуаля звали Амори Консон.
У него было шестеро сыновей. Старший, которого по случайному совпадению звали Эньяном, исчез по меньшей мере восемнадцать лет назад, в Оксфорде, во время симпозиума, организованного Фондом Марсьяля Кантреля, не без участия великого английского ученого лорда Гэдсби В.Райта. Следующего сына, Адама, смерть настигла в санатории, где он находился на излечении ввиду полного отсутствия аппетита, который, к несчастью, так и не обрел. Затем последовали еще три смерти: Ивана съела у берегов Занзибара акула; Одильон, ассистируя в Милане Лукино Висконти, умер от того, что в горле у него застряла острая кость; Урбен завершил свои дни в Гонолулу: огромный глист высосал из него всю кровь – ему сделали двадцать переливаний крови, но было уже слишком поздно. Таким образом, в живых оставался единственный сын Амори Ивон, но его он любил меньше других, потому что тот, живя вдалеке, виделся с отцом не чаще трех раз в год.
Амори Консон перевернул на вилле Антона Вуаля буквально все. Встретился с его соседом, рассказавшим об удалении синуса. Расспросил о друге всех, кого мог.
Жилище Антона Вуаля было мрачным, лишенным какого-либо комфорта, совершенно неухоженным и, конечно же, непривлекательным: покрытые известью белые стены, грязные рваные ковры. Невзрачная гостиная, запущенная спальня с заплесневелой дырявой софой и сундуком, вонявшим загнивающим луком. Дверцы расшатанного платьевого шкафа держались с помощью лейкопластыря. Окна давно не мыли, и свет в комнату проникал серый, тусклый. Кроватью служила монастырская, без матраса, койка – жалкое ложе с продавленными подушками и неизвестно когда стиранными простынями. Ванная являла собой убогую темную комнатушку, где все, на что ни глянь, было грязным, даже несчастная половая тряпка – словно коровой пожеванная.
Амори раскрывал одну за другой книги, дешевые малоформатные, с грязными переплетами, сваленные в кучи на трех расшатанных настенных полках. Страницы их пестрели сделанными на полях заметками – он вчитывался в них, но мало что понял. Однако выделил несколько книг, с которыми Антон Вуаль работал, по всей вероятности, особенно углубленно: «Искусство и иллюзия» английского историка искусства Гомбриха, «Космос» польского писателя Витольда Гомбровича, «Опопонакс» француженки Моники Уиттиг, «Доктор Фаустус» Томаса Манна, книги Ноама Хомски[89] и американского лингвиста Романа Якобсона, «Бланш, или Забвение» Арагона.
Затем Амори открыл толстую картонную папку. Он обнаружил в ней несколько рукописей, свидетельствующих о том, что Антон имел склонность к разного рода ученым занятиям; в них являли себя, зафиксированные не без проявления педантичности, те знания, что некогда вдолбили ему в голову. Прочитывая слово за словом, Амори смог изучить назидательный curriculum studiorum[90] Антона.
Сначала было нечто из области французской словесности:
Там, где мы некогда жили, не было ни автомобилей, ни такси, ни автобусов; мы с двоюродным братом иногда навещали Линду, жившую в соседнем кантоне. Но, не имея машины, мы были вынуждены всю дорогу бежать, иначе попадали на место слишком поздно: к тому времени Линда уже исчезала.
Настал, однако, день, когда Линда ушла навсегда. Нам пришлось отправить ее в ссылку на веки вечные; но мы ее любили. Мы так любили ее запах, ее светящийся облик, ее блузку, ее такие коричневые брюки; мы любили в ней все.
Но вот все кончилось: через три года Линда умерла; мы узнали об этом случайно, однажды вечером, во время ужина.
Затем следовал философский экскурс:
Кант, анализируя интуицию a priori, подверг сомнению одно место из «Cogito»[91], зная, что он оккультировал ситуацию, в которой Божество, когда ему привиделся Некто, могло бы обеспечить увеличенное Я. «Таким образом, – говорит он, – Барух Спиноза выполнил бы мутацию, упраздняющую его имя, ради мрачных звуков? Иудаизирующий Барух! Думал ли ты о „Natura“, примеряя (примиряя ее), о Шиве, выполняющем пожелание Бесконечного?» Тогда Кант, платонизируя, упреждающе, но ошибочно поставил Спинозу в единство с убийственным Сверх-«я». Ибо намного раньше Платон, отцеубийствуя над всем археизирующим, увидел, что ни один участник не имеет конца и берет начало в Некто.
Первородный Аук нашел таким образом свою триангуляцию, посылая стрелу в синусоидальный полет, поражая ее заостренным концом лоб философа, умершего от того, что на какое-то мгновение он поверил в «Cogito» без Некто.
Страницы, посвященные математике:
On Groups.[92]
(Перевод работы Маршалла Холла мл. L.I.T., 28, тома с 5-го по 18-й включительно.)
Это понятие – кто его освоил, кто его нашел, кто его дал? Гаусс или Галуа[93]? Его никогда не знали. Сегодня его знает каждый. Однако говорят, что в глубочайшей тьме, перед своей смертью, Галуа записал на полях письма (Маршалл Холл мл., op. cit. T.8)длинное звено формул на свой лад[94]. Вот оно:
aa-1= bb-1= cc-1= dd-1= ff-1= gg-1= bb-1= ii-1= kk-1 = ll-1= mm-1= nn-1= oo-1= pp = qq–1 =rr-1= ss-1=-tt-1=uu-1 = vv-1 = ww-1= xx-1 = yy-1 = zz-1=
Но никто никогда так и не смог узнать, чем заканчиваются записи Галуа.
Кантор, Дуади, Бурбаки рассчитывали, идя одним, десятью окольными путями (возле тела, безупречного на набросках, локального ринга в Cstar, К-функтора, которым мы обязаны Шибу в □ большого Тома, не забывая ни о дистрибуциях, ни об инволюциях, ни о конволюциях, ни о Шварце, Кожуле, Картане, Джиорджутти), ухватиться за настоящую, надежную нить, чтобы пересечь крутой пробел. Все попытки оказались тщетными.
Понтриагин отдал этому двадцать лет жизни, закончив тем, что перестал вообще что-либо видеть.
Впрочем, вот уже восемь месяцев, как Кан, работая над себе помощником (см.: Кап D. Adjoint Functors Transactions[95], V, 3, 18), показал методом индукции, кажется (он рассуждал – сказал он Жолену – о большом кардинале, посредством «forcing» для части), теорема будет G, будет Н, будет
– три магмы (мыследуем за Курогием), где a a(bc) = (ab) с; где для каждого а, х → ха, х → ах являются «верными», являются моно, тогда имеем G =: Н × К, если
если Н, если К имеют всего лишь один общий субъект Н ∩ К = увы! Кан умер, не закончив свой труд Таким образом, в конце концов, решения по-прежнему нет.[96]
Английские штудии:
Это история о маленьком городке. Это не пустая сказка и тем более не сухой, монотонный доклад, полный обычных стилистических сведений, как то: «романтический лунный свет отбрасывал темные тени на длинную извилистую деревенскую дорогу». Не будет ничего сказано ни о мирно пасущихся стадах овец, ни о малиновках, весело щебечущих в сумерках, ни о «теплых огнях» в окнах домов. Ни о…
Продолжая расследование, Амори Консон узнал, что Антон Вуаль интересовался также первобытными обычаями:
Однажды в Когни (Чад) некто Сокоро надел на себя бубу, африканское платье, по крою похожее на реглан, приобретенное у одного сноба-француза на сафари. Затем он отправился в Мокулу, где жил его сын; супружеские отношения, неслыханные до сегодняшнего дня, вынуждали того терпеть парадоксальное ярмо. Никогда он не должен был отдавать мальчика горным дионгорам,[97] выходя таким образом из нормальной цепи, сочленение которой являет собой ряд тонкий, ясный, четкий, скажем так – структуральный.
Сунь или Маргина, Ути или Каакил, Лонгей или Зори, о могущественные помощники дождьявления, мы просим вас! Мы стремимся к успокаивающему забытью для случая непрепятствующего, несмотря на печаль, которую он нам причинил. Иначе нужно ли, чтобы случайно оказавшийся виновным был умерщвлен?
Финальный компромисс (максимин или минимакс): индивидуум обратился к ясновидящему и тот указал ему путь; он воззвал к своему Суню, принес ему в жертву белого козленка, затем черного петуха, чтобы не оказаться в этом году без пищи.
Не остались без внимания Вуаля и животные:
Овцебык – полубаран, полубычок – жил, беды не зная, в тундре. Шкура убитого животного сильно пахнет анисом. Чтобы завладеть им, нужно выбрать момент, лечь, вжавшись в землю, и ждать, когда оно бросится на вас. Когда же его огромное, вызывающее смущение копыто приблизится к вам, вскочить.
Как только ваши руки окажутся на шее овцебыка, оплетут ее, он сразу же заметит вас, замычит, затем, в свою очередь, вытянется на земле, чтобы уснуть рядом с вами.
Тело его, пахнущее акацией, алжирским ковылем, волчьим корнем, чесноком, заячьей капустой, душицей, чрезвычайно нежно на ощупь.
Бизон, либо тур, либо зубр, обитающий в наших странах, в наших зоопарках отсутствует. Считается, что, продвигаясь в ночи, можно увидеть бизона с его горбатой спиной. Вовсе нет: она не округлена, его спина. И тем более в ней нет дыры. Речь ведь идет о нормальной спине. Так зачем тогда рассуждать о бизоне?
Не прошел Вуаль и мимо социальных конфликтов:
Это случилось третьего мая. «Волнения на бульваре Сен-Мишель», – возвестила крупно набранным заголовком вечерняя газета. По приказу одного заправилы, человека, правда, не злобного, подчиненный ему аджюдан бросил свой батальон[98] на сборище анархистов, темных личностей, которые по законному праву хотели добиться освобождения пяти своих товарищей, засаженных в каталажку. Подобранный во дворе булыжник был брошен в большой черный грузовик, набитый громилами-полицейскими. На середине тротуара образовалась настоящая куча-мала; среди перевернутых автомобилей виднелось спиленное дерево, оно полыхало. Опасаясь дурного поворота событий, Гримо учинил погром: ожесточившись, полиция крушила головы и ломала ребра направо и налево.
Общественность была встревожена. Миллионная толпа пронеслась по Парижу, маша кто черной тряпкой, кто темно-красной, истошно выкрикивая антидиктаторские лозунги: «Десяти лет хватит!», «Президенту – наши гроши!», «Власть народу!»
Члены одного профсоюза собрали рабочих на производстве и объявили забастовку. Захватили все: транспорт, угольные бассейны, студии, магазины, склады, мельницы, доки. На станциях не хватало топлива…
Был и фрагмент, написанный на саарском диалекте:
Man sagt dir, komm doch mal ins Landhaus. Man sagt dir, Stadtvolk muss aufs Land, muss zurück zur Natur. Man sagt dir, komm bald, möglichst am Sonntag. Du brummst also los, nicht zu früh am Tag, das will man nicht. Am Nachmittag fährst du durchs Dorf, in Richtung Sportplatz. Vorm Sportplatz fährst du ab. Kurz darauf bist du da. Du halst am Tor, durch das du nicht hindurchkannst, parkst das Auto und blickst dich um. Du glaubst, nun taucht vor dir das Haus auf, doch du irrst dich, da ist das Dach. Ringsum Wald, dickichtartig, Wildnis fast. Wald, wohin du schaust. Baum und Strauch sind stark im Wuchs. Am Pfad wächst Minzkraut auch Gras, frisch, saftig und grün. Ins Haus, wovon du nur das Dach sahst. Du träumst, dass das Haus, wovon du nur das Dach sahst, laubumrankt, gross und mächtig ist. Mit Komfort natürlich, Klo und Bad und Bild im Flur. Dazu Mann und Frau stolz vorm Kamin. Träumst du, doch das Tor ist zu und ins Haus, wovon du nur das Dach sahst, kannst du nicht. Nachts, auch das träumst du noch, löscht man das Licht und dann glüht rot und idyllisch das Holz im Kamin. So träumst du vor dich hin, doch man macht das Tor nicht auf, obwohl Sonntag ist. Da sagt man dir also, komm doch mal ins Landhaus und dann kommst du wirklich zum Landhaus und bist vorm Landhaus und kommst doch nicht ins Landhaus und warst umsonst am Landhaus und fährst vom Landhaus aus zurück nach Haus…[99]
Наконец Амори нашел на бюваре из золотисто-желтой кожи альбом, в котором Антон Вуаль делал свои дневниковые записи. Раскрыл его. И читал до самого вечера. Затем покинул виллу. Было уже совсем темно. Он остановил проезжавшее мимо такси.
– В полицию, быстро, – бросил он, садясь на продавленное сиденье. Он чувствовал полное изнеможение.
В полицейском участке Амори понял, что сойдет с ума. Сначала он впустую ждал, по меньшей мере до полуночи, что его кто-то выслушает. Наконец его принял какой-то тип, чей тупой вид удручал. Человек этот то жевал, то сосал, ужасно чавкая и причмокивая, большущий сандвич с Йоркской ветчиной, запивая отправленные в рот куски дешевым белым вином, которое он отхлебывал прямо из бутыли. Время от времени он ковырял жирным пальцем в ухе или в носу, из которого пучками торчали волосы.
– Ну подумайте сами, – бормотал полицейский, – если он сказал, что покончит с собой, то он это и сделал. Иначе бы он этого не говорил, не так ли?
– Но послушайте, аджюдан, – парировал Амори, – я видел его Дневник, видел его виллу! Более того, он никогда не говорил, что покончит с собой, наоборот, он всегда утверждал, что боится смерти. Он исчез! Его выкрали! Похитили!
– Похитили? Но зачем? – иронизировал тупой полицейский. – Такого здесь никогда не было.
В конце концов Амори позвонил одному своему другу, который, будучи неким заместителем на Набережной д'Орсе, упросил, в свою очередь, одного адмирала дозвониться до одного из начальников полиции, и тот, обругав аджюдана, предоставил в распоряжение Амори сыщика, корсиканца по имени Оттавио Оттавиани.
Амори отправился к Оттавиани. Тот жил в меблированной комнате на станции Саблон, в Майо, неподалеку от зоосада. С виду этот толстяк был похож на грубияна-распутника. Расположившись во вращающемся кожаном кресле в стиле рококо, он лакомился внушительным рольмопсом с корнишонами, запивая его белым вином из большущего бокала.
– Командир, меня отдали в твое распоряжение, – заявил он, сразу же переходя на «ты». – Изложи в общих чертах суть.
– Дело в том, – начал Амори, – что исчез Антон Вуаль. За три дня до исчезновения он передал мне записку, в которой сообщил, что он должен уйти. Но, на мой взгляд, это похищение.
– Почему похищение? – вежливо спросил Оттавиани, при этом было видно, что он ничего не понимает.
– Антон Вуаль знал… – загадочно произнес Амори.
– Что он знал?
– Это навсегда осталось тайной…
– Так что тогда?
– Есть в его Дневнике несколько записей, в которые нам нужно углубиться. В них Вуаль говорил одновременно о том, что он не знал, но знал, и о том, что он знал, но не знал…
– А если яснее?
– В его записке, – продолжил Амори Консон, – есть постскриптум – вполне понятный. В нем он пишет: «Несем десять порций хорошего виски грубияну-адвокату, курившему в зоопарке». Наверняка этим он хотел указать нам что-то. На мой взгляд, сначала можно было бы проработать это направление. Затем мы прочтем его Дневник, из которого, будем верить, нам многое станет известно…
– Неужели? – перебил Оттавиани, вовсе не убежденный в том, что собеседник прав. – Все это кажется мне, скорее, туманным…
– Сначала, – предложил Амори Консон, игнорируя скептицизм сыщика, – можно было бы сходить в зоопарк.
– В зоопарк? – опешил Оттавиани. – Зачем нам идти в зоопарк, если в трех шагах от нас – зоосад?
– Заметьте, Оттавиани: «Грубиян-адвокат, куривший в зоопарке».
– Хорошо, – согласился Оттавиани, слегка смутившись, – ты идешь в зоопарк, а я обойду больницы, проверю, нет ли там случайно нашего Вуаля.
– О'кэй, – сказал Амори, – встретимся позже. Скажем, в полночь в Балзаре, идет?
– Давайте лучше в Липпе.
– Согласен: в Липпе.
В результате Амори направился в зоопарк. Там он полюбовался львом из Сахары. Обезьяна проделала перед ним трюк, и он дал ей шоколадку. Дальше были пумы, кугуары, верблюды, пиренейские серны, лани, рыси, американские лоси.
И вдруг:
– Вы здесь? Какой счастливый случай!
Это была Ольга, невестка консула Канады во Франкфурте. Ее страсть к Антону была известна всем.
– Ах, Амори, мой друг, ты веришь в то, что он мертв? – всхлипывая, спросила женщина.
– Нет, Ольга, не верю, но он наверняка исчез.
– Он передал тебе записку, в которой сообщил, что ему нужно уйти навсегда?
– Да. А ты читала постскриптум со словами об адвокате, который курил в зоопарке?
– Да, но здесь нет никакого адвоката.
– Кто знает? – прошептал Амори.
Затем – неподалеку от бассейна, в котором со вкусом был воссоздан кусочек Камчатки (в нем резвились самые разные морские обитатели: пингвины, альбатросы, киты-полосатики, кашалоты, морские свиньи, дельфины, дюгони, нарвалы, ламантины), – он увидел мужчину довольно свободного вида, раскуривавшего сигару, и подошел к нему.
– День добрый, – сказал мужчина.
– Скажи-ка, друг, – спросил, не раздумывая, Амори, – знаешь ли ты здесь какого-нибудь адвоката?
– Да, здесь есть адвокат: это я, – без излишней скромности ответил человек.
– Тсс, – сказал Амори, – говори тише. Знаешь ли ты Антона Вуаля?
– Я иногда работал на него.
– Ты веришь в то, что он мертв?
– Кто знает?
– Как тебя зовут?
– Хассан Ибн Аббу, адвокат судебной палаты, набережная Бранли, двадцать восемь, Альма, 18–23.
– Ты получил странное письмо, которое Антон разослал нам перед своим исчезновением?
– Да.
– Понял ли ты содержание постскриптума?
– Нет. Или, скорее, мне показалось, что, написав о курившем адвокате, Антон намекнул на меня. Вот почему я все время прихожу в зоопарк. Что же касается десяти порций виски, то я не понимал, что он имеет в виду, пока не прочел сегодня в газете, что через три дня на ипподроме в Лонгшаме, неподалеку от Парижа, будет разыгрываться очень крупный приз.
– Но это не имеет никакого отношения к делу, – оборвал адвоката Амори.
– Еще как имеет! В забеге три фаворита: Скрибуйяр III, Виски Десять, Капернаум.
– Ты считаешь, что здесь есть какая-то ниточка? – спросила Ольга, до сих пор молчавшая.
– Кто знает? Нам нужно учесть все, – сказал Амори. – Мы отправимся в Лонгшам в следующий понедельник.
– Кстати, – заговорил Хассан Ибн Аббу, – еще и месяца не прошло, как Антон Вуаль передал мне двадцать шесть набросков, являющихся завершением его не совсем ясных и очень сложных трудов, которым он предавался в своем уединении. У него не осталось ни одного близкого человека, я имею в виду тех, кто имеет кровные права, признанные законом. Следовательно, мне кажется, будет логично, если столь поучительные труды будут переданы вам; более того, – заключил он, – я полагаю, в них можно будет отыскать многие знаки, которые наверняка помогут в наших поисках.
– Когда мы сможем ознакомиться с ними? – спросил Амори.
– Не ранее чем через три дня, так как я должен незамедлительно отбыть в Эйян-сюр-Толон. Я закончу дела в понедельник утром. Увидимся в понедельник вечером. И узнаем, что имел в виду Антон Вуаль, написав о десяти порциях хорошего виски.
– Я даже поставлю на эту лошадь десять франков, – усмехнулся Амори.
– Я тоже, – подхватила Ольга.
– Хорошо, – подвел черту Хассан Ибн Аббу, взглянув на часы, – мой поезд отходит в десять. До встречи! В понедельник вечером!
– Удачи тебе, – сказала Ольга.
– Чао, – попрощался с новым знакомым Амори.
Хассан поспешно удалился.
Амори, внимательно ко всему присматриваясь, обошел зоопарк. Ольга следовала за ним. Ничего наводящего на какие-либо догадки Амори не нашел. В конце концов он пригласил Ольгу отобедать вместе с ним, и эта акция прошла вполне удовлетворительно.
В то время как Амори бродил по зоопарку, Оттавио Оттавиани посетил больницы: Брока, Фош, Сен-Луи, Ротшильд. Затем навел справки в добром десятке полицейский комиссариатов. Там об Антоне Вуале ничего не знали.
В полночь, двигаясь торопливым шагом, он достиг Липпа. Неподалеку от площади Вавен-Распаи он наткнулся на Амори.
– Туда не пойдем, – прошептал тот, подходя. – Липп кишит ищейками!
– Недалеко отсюда, – сказал Оттавиани, который, сам будучи ищейкой, умел разглядеть сокрытое там, где любой другой и заподозрить ничего не мог бы, – недалеко отсюда должен находится человек, исчезновение которого кому-то на руку.
– Исчезновение? – чуть не подскочил Амори, почувствовав, что сейчас он получит конфиденциальную информацию.
– Гм-гм, – замялся Оттавиани, внезапно испугавшись: а не говорит ли он часом с незнакомцем?
– Ладно, Оттавиани, не будем больше ходить вокруг да около! Вуаль тоже исчез!
– Здесь нет никакой связи, – сказал Оттавиани.
– Кто знает? – возразил Амори, затем твердым тоном добавил: – Так кого там хотят похитить?
– Одного марокканца, – признался Оттавиани.
– Марокканца?! – воскликнул Амори.
– Тсс, – прошептал Оттавиани, – да, одного марокканца, марокканского адвоката…
– Хассана Ибн Аббу! – взвыл Амори.
7
Глава, из которой становится ясно, что некто желает зла марокканским адвокатам
– Нет, – хладнокровно произнес Оттавиани. – Его звать Ибн Барка.[100]
– Ах, так, – облегченно вздохнул Амори, так как, сам не зная почему, внезапно испугался за Хассана Ибн Аббу, затем на какое-то мгновение за себя: ибо если похитили Антона Вуаля, то кто может гарантировать, что следующими жертвами не станут друзья исчезнувшего: Ольга, Хассан, он сам?…
Он направился – и следом за ним Оттавиани – в бар «У Гарри». Сели в глубине зала. К ним подошел официант. Амори заказал «Шивас» без льда. Оттавиани захотел отведать «Барона» без пены. Официант предложил на выбор: «Мюнхен» или крепкий портер. Сыщик не знал, что выбрать.
– Давай «Мюнхен», – сказал он в конце концов насмешливо посвистывающему официанту.
Оттавиани набросал в общих чертах мрачную интригу, которая развернулась вслед за исчезновением Ибн Барка. Было допущено, пожалуй, несколько оплошностей. Одна вечерняя газета опубликовала, не без излишнего эпатажа, немало разных слухов. Общественное мнение было возмущено. Все это всполошило людей на Ке д'Орсе. Папон отрицал абсолютно все. Но Сушон, в свою очередь, все признавал; Вуато – также. Разоблачение, появившееся в одной газетенке – публикация, в которой Фигон[101] обвинял в прегрешениях высокопоставленное должностное лицо, – вызвало в Мотиньоне глубокую озабоченность. Доказали, с огромным трудом, что все это ложь. Уфкир[102] подготовил смехотворное алиби. Затем Фигона вынудили покончить с собой, следствие по этому делу не продвигалось; оппозиция по меньшей мере двадцать восемь раз пригвоздила к позорному столбу Орган Власти, который позволил осуществить столь гнусное злодеяние. Дошло до того, что была запущена газетная утка, в ней подчеркивалась двусмысленная связь между исчезновением Ибн Барка и похищением Аргу,[103] которое состоялось полгода назад в Цюрихе; Дом Пулага договорился с бандой убийц, отъявленных негодяев вне закона, на счету у нее было не одно вооруженное ограбление, но шайке удалось, однако, «отмыться» участием в некоторых темных делах: во Франкфурте был убит оппозиционер Бургиба,[104] в Сент-Морице – военный из одной африканской страны, в бельгийском Лювене – езид,[105] в Мадриде – габонский консул! Чтобы сохранить власть немощного тирана, который удерживал ее лишь благодаря бесчестной взятке-бакшишу из Парижа, Фоккар объединил свой батальон головорезов со сворой молодчиков, проходимцев, контрабандистов, гревших руки на перевозках золота и наркотиков. Трудились рука об руку! Все это сопровождалось явлениями, мягко говоря, не очень здоровыми. Судебный процесс проходил при закрытых дверях. Выражали негодование прямо в лицо статисту, который ни на что не был способен, дураку, который ни о чем понятия не имел; что же касается шишек, правящей верхушки, политиков, то этих и пальцем не трогали…
– Да, все это выглядит не очень-то красиво, – подвел итог Оттавиани и жадно, не отрываясь, допил пиво.
Больше он не произнес ни слова. Амори вздыхал. Исчезновение Антона Вуаля казалось теперь делом таким далеким! Тем не менее он рассказал Оттавиани о том, что встретил в зоопарке Ольгу, затем – Хассана Ибн Аббу, которого прежде никогда не видел.
– Ах, ах, – усмехнулся Оттавиани, – так значит, у Вуаля был друг, которого Амори не знал?
– Да, – согласился Амори.
Позже ему самому это показалось странным.
– Смотри, – рассуждал он, – я встретил Хассана Ибн Аббу в зоопарке. А что написал Антон Вуаль: «Грубиян-адвокат, куривший в зоопарке». Иду в зоопарк. И что я там вижу? Курящего адвоката. Хорошо. А если адвокат пришел в зоопарк лишь затем, чтобы исполнить указание Антона, предполагая, что таким образом он сможет, он также, увидеть хотя бы одного друга Антона?
– Таким образом, – заключил Оттавиани, – все это имело бы отношение к тому, что нас интересует, лишь по чистой случайности?
– Случайность или хитрый замысел, кто знает? Но в понедельник в Лонгшаме мы выясним, что кроется за словами Антона о десяти порциях хорошего виски. А до этого можно было бы рассмотреть кое-что менее важное, но все равно очень значительное. Вот что: ты знаешь Карамазова?
– Того, у которого, говорят, шикарный брательник?
– Нет, его кузена, Арно Карамазова. У него такси в Клиньянкуре. Он мастерил иногда что-нибудь для Вуаля или для меня. Нужно было бы узнать, сообщили ли ему об исчезновении Антона. Сделай это в понедельник утром, до поездки в Лонгшам.
– О'кэй, босс, – пробормотал Оттавиани, засыпая над своей кружкой.
Холод был удушающий. В такой день ни утка носу бы не высунула наружу, ни волк. Однако Оттавиани шел бодрым шагом, терпел, казалось, излишне не страдая, этот вкрадчивый туман. Он дошел до Альмы, сел в автобус и вышел на Ке д'Орсе. Передохнул, затем глянул на часы: без двадцати двенадцать – до начала скачек в Лонгшаме оставалось еще довольно много времени.
– Вперед, – сказал он себе вполголоса, – выбирать не приходится: нужно узнать, почему Вуаль установил в своем «фиате» противоугонное устройство.
Неподалеку от набережной, в трех шагах от иранского консульства, находился ресторанчик, в который Оттавиани иногда заходил перекусить сандвичем с ветчиной либо колбасой с чесноком. Он вошел туда, усталый, разбитый – у него даже была одышка. Увидел там тьму самых разнообразных людей.
– Привет! – сказал он.
– Добрый день, – ответил Ромуальд, бармен, проворный, с вечной улыбкой на лице. – Холод ледяной, да?
– Бр-р-р, – поежился Оттавиани.
– Однако, – заметил Ромуальд, – бывало и холоднее.
– Да, но есть свистящий Аквилон, который завывает, – сказал Оттавиани, цитируя, безотчетно, Сен-Марка Жирардена.
– Сделать вам сандвич? – предложил Ромуальд. – Ветчина Йоркская, колбаса, бекон, колбаса кровяная, сосиска, холодное жаркое, сыры ливарот, канталь и горгонзола, хот-дог…
– Нет, – перебил его Оттавиани, – сделай мне, пожалуй, грог. – И добавил: – Проняла меня холодрыга.
– Грог, один! – рявкнул Ромуальд поваренку, который усердствовал над дежурным блюдом – osso bucco,[106] с гарниром из артишоков в розмарине.
И в ответ сразу же услышал:
– Сейчас будет!
Напиток был доставлен через минуту.
– Отличный горячий грог, – заверил Ромуальд. – Никакой насморк не устоит.
Оттавиани пригубил грог.
– Гм, великолепно.
– Лимонад?
– Нет, вполне сойдет и так.
– Три франка двадцать.
– Вот, – Оттавиани протянул деньги.
– Thank you, – учтиво поблагодарил Ромуальд.
Оттавиани увидел в глубине бара Алоизиуса Сванна, своего шефа, – тот доедал десерт: фрукты. Он, прихватив свой грог, пробрался не без труда сквозь толпу посетителей и присел, переводя дух, напротив Алоизиуса.
– Привет, шеф.
– Привет, Оттавиани. Как дела?
– Так себе. Холод донимает.
– Йогурт будешь?
– Нет, я не голоден.
– Тогда?…
– Тогда – что?
– Амори Консон?
– По-моему, он абсолютно уверен, что речь идет о похищении.
– Должно быть, он прав, – тихо сказал Сванн.
– Ты тоже так считаешь? Но почему?
Не промолвив ни слова, Сванн достал из сумки лист бумаги с каким-то текстом и протянул его своему заместителю.
– Черт возьми! – воскликнул Оттавиани. – Но это же прямехонько из Генштаба!
Вот что он прочитал:
Месяц назад из доклада Командующего QG-HATO д'Орруа, приложенного к сообщению HCI д'Андилли, который изъял для утверждения кандидата 3/6.26 «straggling group»[107] Мыса Горна, мы узнали о судьбе, уготованной Антону Вуалю. Миссией «НАТО – космическая» 5/28-Z.5 вскоре был подытожен «К.Счет» месяца. Антон Вуаль в нем не фигурировал. Поэтому Миссией «off days»[108] 8/28-Z.5, инструкцией L18, а также сообщением «космический бис» план по предотвращению похищения был передан всем GCR,[109] всем заместителям SR, всем ассистентам SM, всем HCI, всем ONI, всем CIC, всем «G.3», всем BND, всем SID, всем «Прима Бис», за исключением Mi.5, но включая сигналы, направленные чрезвычайным коммандос.
Не желая уменьшать котировку сведений, стоящих А.З или В.1, мы должны отметить, что восемнадцать дней назад наши устройства по пункту «3» были поставлены на нулевой приход. Причина такого очевидного фиаско? HCI Арлингтона заявил: проникновение ЦРУ? Но и SIS в наши штаты под юрисдикцией НАТО. Более того, полагаем, что заместитель албанской SR скомпрометировал Бородача из Анкары, контролируя таким образом свою организацию.
Следовательно, мы считаем, в данной ситуации нужно сделать выбор: либо предоставить Антона Вуаля своей судьбе, либо допустить казус, такой необычный случай, по нашему мнению, должен рассматриваться лишь во Дворце. Из чего проистекает решение подготовить отчет SR, просим вас дать не просто консультацию, но и глобальную оценку ситуации, а также инструкции на этот счет.
– Все это, пожалуй, слишком туманно, – заявил Сванн. – Что сказал Ибн Аббу?
– Он не захотел ничего объяснять, но мы увидимся с ним в полночь – возможно, у него будет приготовлена для нас «конфетка». Что же касается Ольги, то будем двигаться mollo.[110]
– Ты думаешь?
– Уверен. Кстати, я встретил Карамазова.
– Ну и как?
– Месяц назад он видел Вуаля трижды. Как-то вечером провожал его в Ольней-су-Буа, до какой-то лачуги, похоже, заброшенной; через три дня они сыграли партию в вист в клубе Августина Липпманна, Карамазов выиграл у Вуаля очков двадцать, не меньше. Но вот факт более важный: двадцать дней назад Карамазов установил в «фиате» Антона Вуаля противоугонное устройство.
– Да ты что?
– Да-да.
– Ну и ну! Но почему?
Этого Оттавиани не знал. Он считал, что Алоизиус Сванн, у которого, как говорили, был нюх индейца-ирокеза, сможет найти обоснование этому поступку. Но шеф был сейчас не в очень хорошей форме. Ему не хватало вдохновения.
– Почему он установил эту штуку в его колымаге? – процедил он сквозь зубы. Затем проворчал: – Было, однако, несколько трюков, о которых мы думали, что более-менее их поняли… – Он вздохнул и добавил: – Все это сильно усложняет дело…
Сказав это, он постучал пальцем по столу. Ромуальд тотчас же подошел.
– Мокко? Каппучино? – спросил он.
– Нет. Счет, пожалуйста.
– Сейчас. Одну секунду. Бармен достал из кармана карандаш и зашептал, закрывая счет:
– Тунец, дежурное блюдо, ливарот, фрукты, четверть… все вместе – восемнадцать франков.
– Восемнадцать франков! – взвизгнул Алоизиус Сванн. – Ничего себе!
Бармен сослался на растущие цены, Алоизиус возмущенно повторял, что его хотят надуть. Это могло закончиться стычкой, но Оттавиани удалось смягчить гнев Алоизиуса, и тот, все еще разъяренный, но уже смирившийся, а может, сознавая свою неправоту, заплатил по счету.
Алоизиус направился к выходу. Оказавшись на сквозняке, он громко чихнул.
– Будьте здоровы! – пожелал ему жизнерадостный Ромуальд. – Вот вы и наказаны: подхватили насморк.
Расставшись с Алоизиусом Сванном, отправившимся в комиссариат, Оттавио добрался до Лонгшама, где, несмотря на неважную погоду, разыгрывали Гран-При Туристского Клуба – этими скачками заканчивался сезон. Дистанция была сложная; один набоб установил приз, который все называли невероятным (говорили, что победитель получит миллион). Так что на лугу перед ипподромом собрался весь обычный для такого рода событий парижский бомонд. Все щеголяли друг перед другом.
Например, можно было лицезреть Аманду фон Комодоро-Ривадавиа, звезду, которой голливудская студия «Коламбия пикчерс» гарантировала контракт в миллион за три фильма. На кинодиве были – о, святая простота! – широкие алые полушелковые панталоны, коралловое ожерелье, пурпурная кофта, оби[111] цвета красной окиси железа, карминовый шейный платок, крашеная в алое норка, рубиновые чулки, малиновые перчатки, красновато-лиловые сапожки на высоченной платформе. Урбен д'Агостиньо, ее теперешний воздыхатель, сопровождал ее в следующем наряде: жабо от Пюи, фрак с воротничком а ля Мао от Унгаро, огромный шейный платок.
Показывали пальцем на магараджей, кронпринцев, паладинов, господарей; едва ли не каждый в толпе пришедших на скачки был в свете личностью известной либо как минимум имел какое-то имя. И все это скопление примечательных индивидуумов было охвачено светской суетой.
Всюду сновали грумы, барышники, конюхи. Торговцы всякой всячиной заманивали к себе громогласными кличами. Букмекеры выкрикивали ставки.
Оттавиани не без труда нашел Амори Консона. Тот сидел на одном из верхних рядов трибуны. С ним была Ольга. В изумрудном платье без рукавов в арабском стиле она выглядела просто потрясающе. Вооружившись лорнетом, Амори вглядывался в полосу перегноя на дистанции.
– Грунт кажется мне слишком твердым, – сказал он.
Сосед заметил, что он разбирается в этом, пожалуй, неважно. Амори покраснел, но подтвердить ранее сказанное не отважился; между прочим, в Лонгшаме никогда прежде не было грунта столь промерзлого, а следовательно, такого «быстрого». Дождя не было вот уже месяц, не было и тумана, и из-за жгучего, пронизывающего холода все затвердело как никогда.
– Ты видел Виски Десять? – спросил Оттавиани.
– Только что объявили, что хозяин заплатил неустойку.
– А что случилось?
– Диктор ничего не объяснил.
– В таком случае мы можем уходить, – прошептал подавленный Оттавиани.
– Нет, Ольга хотела бы досмотреть до конца.
– Да, – подтвердила Ольга, – я поставила двадцать пять франков на Скрибуйяра.
Всего в забеге было заявлено двадцать шесть лошадей, стартовало двадцать пять, поскольку владелец Виски Десять, скакуна с «пятеркой» на спине, от участия в забеге отказался. Виски Десять считали фаворитом, хотя лошадь котировалась как восемнадцать к одному. В отсутствии Виски Десять ставили на Скрибуйяра III, на Певчую Школу, трехгодовалого сына Ашурбанипала, Скапена, чистокровного руанского скакуна, который в конце марта взял в Шантийи Гран При Брийя-Саварен, ставили на Скарбороу, настоящего одномастного рысака-фаворита, трижды побеждавшего в Аскоте, ставили на Капернаума, лошадь в яблоках, про которую говорили, что она взрывная, ставили, наконец, на Чудного Маркиза, фаворита, столь же внезапно объявившегося, сколь и поспешно таковым объявленного, клячу, иногда чуть живую, но про которую говорили, что идет она фортиссимо.
На Скрибуйяра садился Сен-Мартен, известный жокей. Первый фаворит начал забег под рев восторженной публики – шел он впечатляюще. Но на повороте на Мулен всадник потерпел неудачу. Капернаум пришел первым, на грудь опередив Чудного Маркиза.
– Хассан Ибн Аббу производит на меня впечатление конченого чудака, – заметил Амори мгновением позже. – Что мы узнали в Лонгшаме?
Покинув ипподром со всеми его завсегдатаями, они сели в автобус, идущий в Париж.
– Однако, – шептал Амори, – что-то тут не так: три дня назад фаворитами считались три лошади, а тут Виски Десять снята, Скрибуйяр проиграл, а выиграл неожиданно Капернаум.
– Можно сказать, это что-то из серии про Люпена,[112] – сказала Ольга.
– Нет, – возразил Амори, – это, скорее, глупая шутка.
– Скверный роман! – воскликнул Оттавиани.
Зашли в бар выпить по паре коктейлей. В воздухе стоял пленительный, расслабляющий запах амариллиса. Ольга вполголоса поведала спутнику свою печаль.
– Если бы я знала, – шептала она, – а как можно было знать? Вид у него был ненормальный, но когда он говорил, я плохо его понимала. Он признавался иногда, что не спит вот уже три месяца. Он страдал, но кто мог облегчить его участь? Он казался опустошенным, выпотрошенным каким-то злым недугом…
Слова Ольги оборвали рыдания, долгие, как плач осенней скрипки.
– Ольга, carissima,[113] – сказал Амори, ласково, более чем дружески поглаживая ее руку, – если Антон не исчез совсем, мы не сможем закончить дело, пока Антон Вуаль не выспится всласть.
– Lo Juro![114] – воинственно воскликнул Оттавио Оттавиани, имитируя Дона Оттавио.
– Ради всего святого! – с мольбой едва ли не простонала, моргая, Ольга.
Оттавиани тяжело вздохнул.
– Не пыльной работенкой занимаемся мы вот уже три дня, – сказал он, чтобы как-то закончить нелегкий разговор.
– Давайте лучше встретимся с Хассаном Ибн Аббу, – предложил Амори. – У него, должно быть, есть, что нам сказать.
Хассан Ибн Аббу проживал на набережной Бранли в очаровательном флигеле времен последних лет правления Людовика XVIII. Дверь открыл слуга. Амори вошел в огромную, великолепно обставленную гостиную, Оттавиани – вслед за ним (Ольга, предавшись мрачным мыслям, отправилась домой спать).
– Мы хотели бы увидеть адвоката, – заявил Амори.
– Адвокат сейчас выйдет к вам, – сказал слуга.
Вошел другой слуга, в одеянии, украшенном продолговатыми золотистыми галунами, и предложил друзьям выпить. Амори взял виски с содовой, Оттавиани – арманьяк. Пригубили.
Внезапно в соседней комнате раздался оглушительный грохот, затем послышался звон разбитого стекла, возможно, зеркала; очевидно, там шла какая-то борьба: доносился странный приглушенный шум.
– Нет! Нет! А-а-а-а-а-а-а! – заорал кто-то за стеной.
Амори подскочил. На некоторое время воцарилось молчание. Затем отчетливо послышалось, как на пол, испустив душераздирающий крик, рухнул человек.
Рванув дверь, вскочили в соседнюю комнату.
На полу лежал Хассан Инб Аббу.
В мясистую спину адвоката был всажен нож, который убийца предварительно обработал раствором нервно-паралитического действия. Смерть наступила почти мгновенно.
Так и не было установлено, каким путем убийца скрылся с места преступления…
Мгновением позже Амори, подняв всех по тревоге, рыскал по дому. В конце концов он нашел в ящике с кодовым замком, который взломал с большим трудом, огромную стопку рукописей, переданных Антоном адвокату за месяц до своего исчезновения. Всего должно было быть двадцать шесть папок. Он пересчитал их раз десять – не хватало одной. Внимательный читатель догадался сразу: кто заключил пари на то, что отсутствовала папка под номером «ПЯТЬ», – тот выиграл!
Вот так жил, запутанно и мрачно, адвокат, куривший в зоопарке (однако никто не мог поручиться, что он был грубияном), так он умер; Антон Вуаль так и не появился.
Поздно вечером Амори Консон добрался до своей однокомнатной квартирки на набережной д'Анжу. До первых петухов, до первых лучей солнца, полулежа на кровати – мечтая во что бы то ни стало найти хоть какую-нибудь зацепку, – он читал Дневник Вуаля…
8
Глава, в которой будет сказано несколько слов о холме, на котором прославится Траян[115]
Понедельник
Да, есть также Измаил, Ахав, Моби Дик.
Ты, Измаил, туберкулезный надзиратель, пожиратель неясных рукописей, недоношенный бумагомаратель, погруженный в безымянную тоску, ты, тот, кто уехал, бросив на дно чемодана матросскую робу, три майки, шесть носовых платков, в погоне за своим спасением и своей смертью, ты, тот, кто видел, как возникает из преисподней колосс, непорочность Великого Белого Кашалота, словно лилейный вулкан в холодной лазуpu!
Они вышли в море три года назад, они шли и шли по нему три года, смеясь над вихрями, ураганами и тайфунами, от Лабрадора до Фиджи, от мыса Горн до Аляски, от Гавайских островов до Камчатки.
В полночь, веселясь, как прежде, на палубе были: Старбек, Дэггу, Фласк, Стаб. Пип[116] играл на тамбурине. Пели:
Нантакетский моряк[117] предавал бессмертию гигантскую битву, в которой Ахав трижды противостоял великому белому Кашалоту, Моби Дику. Моби Дик! Одно уже имя его приводило в оцепенение даже самых сильных – по палубе пробегала нервная дрожь. Моби Дик! Колосс Астарота,[118] детище Лукавого. Его большое тело, которое везде и всегда сопровождал в полете своем альбатрос, создавало, можно сказать, дыру в середине волны, белый узел на лазурном горизонте, оно восхищало вас, влекло к себе и ужасало – бездонная дыра, белый овраг, глубокая борозда, блистающая девственным гневом, коридор, ведущий к смерти, зияющий колодец, глубокий, пустой, порождающий галлюцинации, доводящий вас до безумия! Белая калитка Стикса, более черного, чем смола, бледный водоворот Мальстрема![119] Моби Дик! О нем говорили лишь вполголоса. «Перекрестимся», – говорил иногда бледнеющий моряк. Не один китобой тихо шептал: «Dominus vobiscum».[120]
Потом появлялся Ахав. Глубокий шрам, бледно-белый, бежал среди его седой щетины, пересекал лоб, извивался в зигзагах и исчезал наконец под воротником рубашки. Колченогий, он опирался на протез из слоновой кости, королевскую культю, которую некогда отделали нёбной костью огромного кита-полосатика.
Он появлялся, полный ярости, рокочущим голосом проклиная животное, которое преследовал вот уже восемнадцать лет, он крыл его самыми гнусными ругательствами.
Он прибил к верху большой мачты, всадил в нее, золотой дублон, пообещав отдать его тому, кто первым увидит его врага.
Ночь за ночью, день за днем стоял он на носу галиона, оцепеневший от холода в своем плаще-зюйдвестке, более твердый, чем скала, более прямой, чем мачта, более глухой, чем бездна, более холодный, чем смерть, но переполненный в глубине души сверхчеловеческим гневом, подобным вулкану, что рычит, как застывшая глыба, падающая во время зловещего урагана, – часами стоял Ахав на носу судна и вглядывался в черную линию горизонта. В ночи сверкал Южный Крест. Над большой мачтой, словно точка над «i», серое сияние омывало своим бледнеющим светло-темным светом проклятое золото дублона.
Три года длилось кругосветное плавание. Целых три года плыл дерзкий галион, лавируя с севера на юг, катясь, равномерно покачиваясь в незабываемой смене приливов и отливов, борясь с волнами и в знойном августе, и в ледяном апреле.
Он увидел Моби Дика прежде других, однажды утром. Было светло; никакого течения, никаких барашков на гребнях волн; сглаженная поверхность океана казалась ковром, зеркалом. Белея на лазурном горизонте, Моби Дик мощно дышал. Его спина образовывала гору, белый туман, который окружал нимбом летящий альбатрос.
Какое-то мгновение казалось, что все затихает. Моби Дик, божественное создание, скользил фарлонгах[121] в десяти от галиона – покой перед последним ураганом. В воздухе стоял запах абсолютного, бесконечного. Кристально чистая волна била ключом, вздымалась вверх – очищающее сияние, всему придававшее девственный вид. Никакого шума, никакой ярости.[122] Каждый собирался как мог, брал себя в руки, сдерживал себя, охваченный чувством всеобъемлющего покоя, которое начинало внезапно сиять, излучаться, истомленный небывалой любовью, поднимающейся из притихнувшей успокоительной волны, из белеющего дня.
О дружественное мгновение, совершенный унисон, отпущение грехов! Прежде смерти, что бродила вокруг, лилейная гималайя большого белого Кашалота даровала всем великое свое прощение. Всем: Старбеку, Пипу, Измаилу, Ахаву…
Ахав! Пылающий лоб, тело искривлено, весь ужасен, горбат. Он долго, не говоря ни слова, всматривался в горизонт. Глубокое рыдание сотрясло его мощную грудь.
– Моби Дик, Моби Дик! – взвыл он наконец, а затем прогремел: – Все в шлюпки!
На своих поножах из кожи Дэггу точил гарпун с лезвием более острым, чем любая бритва.
Осада длилась три дня, три дня небывалых нападений, потрясающих ударов; двадцать шесть моряков, объединившихся в невиданной доселе битве, атаковавших непобедимого Титана Волн десять раз, двадцать. Раз за разом гарпун, заточенный острее, нежели скальпель хирурга, всаживался в плоть колосса по самую дужку гарды; кит ревел, метался, но несмотря на глубочайшие раны, избороздившие все его тело, несмотря на то, что из него были вырваны огромные куски мяса и хлестала кровь, исполин снова и снова шел в атаку, нападал на шлюпки, переворачивал их, топил, а затем исчезал внезапно в глубине волн.
А потом, вечером, Моби Дик напал неожиданно на трехмачтовый корабль и располосовал его одним мощнейшим ударом. Носовая часть галиона опрокинулась. В последней атаке Ахав метнул свой гарпун, но линь свернулся. Моби Дик, изловчившись, бросился на него.
– До самого конца своего буду я желать твоей смерти, – выл Ахав, – из глубин Стикса буду нападать на тебя. И в унижении буду плевать на тебя!. Будь ты проклят, Кашалот, будь ты проклят навсегда!
Он пал, сраженный своим же гарпуном, линь которого недавно еще разматывал, желая смерти своему заклятому врагу. Моби Дик, подскочив, выпрыгнул из воды, подхватил Ахава на свою белую спину, а затем нырнул в океанскую глубь.
Был виден белый овраг, огромный каньон, открывающийся посреди волн, белый вихрь, поглотивший одного за другим погибших моряков, напрасно брошенные гарпуны, проклятый галион, ставший плавучим катафалком…
Apocalypsis cum figuris:[123] будет, однако, всегда будет выживший Иона, который скажет, что он видел однажды свое проклятье, в белой радужной оболочке глаза белого кита, белого-белого-белого, белого до полного своего отсутствия, до полного упразднения! Ах, Моби Дик! Ах, Добрый Миг!
На похороны Хассана Ибн Аббу пришло немало людей. Собрались вокруг катафалка. От набережной Бранли до предместья Сен-Мартен образовался самый настоящий кордон. Весь парижский свет провожал адвоката в его последний путь! Разглядывали Аманду фон Комодоро-Ривадавиа и эрцгерцога Урбена д'Агостиньо. Ольга рыдала. У Оттавиани был обычный угрюмый вид. Амори Консон, пытавшийся уловить, что же кроется в записях Антона Вуаля под образом Моби Дика, был совершенно отрешенным.
Траурная церемония состоялась в колумбарии в пригороде Парижа Антони. Была сооружена очень красивая мастаба.[124] Сердоликовые кварцы соседствовали в ней с ониксами, более чистыми, нежели трансваальские алмазы;[125] на бронзовом постаменте с иридиевыми инкрустациями лежали многочисленные ленты, кресты и другие награды, которыми многие короли, шейхи и прочие властители мира выразили свое бесконечное почтение перед адвокатом: Крест Борца, Крест Виктории, Нишан Ифтикар, Королевский медведь Лабрадора, Большой Крест понтификального Пифона.
Было произнесено шесть речей. Сначала Франсуа-Арман д'Арсонваль говорил от имени Административного суда, который Хассан собственноручно создал сверху донизу. Потом Виктор, герцог д'Эгийон[126] – от имени руководимого им Англо-Иранского банка (Ибн Аббу в течение двадцати лет был его правой рукой и самой преданной особой; можно было сказать, он был им самим); затем имам Агадира говорил о любви Хассана к своей родной стране; затем на изысканном английском речь произнес лорд Гэдсби В.Райт – Хассан был у него ассистентом в Оксфорде, затем обеспечил ему присвоение степени почетного доктора, – набросал блестящий curriculum studiorum[127] великого ушедшего. Наконец Раймон Кино[128] подчеркнул ту не совсем постоянную, но всегда плодотворную связь, которая соединяла адвоката с «Открывательницей…».[129]
Последним выступил Каркопино.[130] Он говорил от имени набережной Конти.[131] Шесть лет назад, сказал он, в ходе поименного голосования, проходившего в три тура и вызвавшего тогда большой резонанс, двадцатью голосами «за» при двадцати шести «против» Институт принял в свои ряды Хассана Ибн Аббу, назначив его в подкомиссию малоизвестного и очень плохо изученного патримониального[132] Свода Надписей марокканского Высокого Атласа, который один мюнхенский ученый, еврей, убежавший от аншлюса, раскопал, не без выгоды, в Тюгге (сегодня Дугга) – римском городе в Тунисе. Югурта[133] якобы нападал на него трижды. Юба Африканец[134] якобы покоился там, по словам Тита Ливия; Траян якобы построил там дворец для своего приемного сына Андриана.
Однако Каркопино заявил, что это всего лишь домыслы.
Все это не имело прямого отношения к смерти Хассана Ибн Аббу. Тем не менее кое-кто аплодировал. Ибо Каркопино, хотя и говорил вполголоса, умел зажечь публику своей пленительной речью.
Затем, импровизируя, Каркопино крупными мазками набросал проникновенный портрет товарища, ученого, чья смерть лишила поп solum[135] только Институт, но и всю Нацию фундаментального знания, жизненно необходимого достояния. Ибо никто, за исключением самого Хассана Ибн Аббу, не умел уловить значение двусмысленного соотношения, соединявшего Романизацию с Варваризацией, составляя таким образом, основывая знание, которое, будучи сегодня еще только кричащим новорожденным, уже видит, как открывается для него в скачке значительном, если не капитальном, захватывающее будущее. Будем верить в неясное семя, посеянное Хассаном Ибн Аббу, в урожай, который достанется нам благодаря ему и сможет насыщать нас вечно, сказал в заключение Каркопино, сбиваясь, оттого что был преисполнен печали. Присутствующие разделили его горе, произнесенная речь восхитила всех, никто не осмеливался аплодировать, некоторые рыдали.
Амори Консон увидел тем временем в трех шагах от себя улыбающегося индивидуума. Вид у него был] открытый, скорее даже жизнерадостный; скажем так: это был симпатяга; человек ему сразу же понравился. Крупный, недурно сложенный, он был одет в великолепно сшитый английский костюм, наверняка изготовленный умельцем по ту сторону Ла-Манша. Амори подошел к мужчине.
– Скажите мне, – заговорил он, не долго думая, – почему вы улыбаетесь?
– Есть в его речи, – ответил незнакомец, – упущение, которое кажется мне очень значительным.
– Упущение? – шепотом спросил Амори, с трудом сдерживая охватившее его волнение.
– Вот уже, grosso modo, полгода, как Хассан Ибн Аббу для получения степени доктора наук предложил вниманию соответствующей Комиссии Национального совета научных исследований (НСНИ) доклад, краткий, но недурственный, по меньшей мере, на мой взгляд, касающийся латинского права, которое он знал как свои пять пальцев. Наибольшее внимание он уделил одному моменту, до сих пор недостаточно изученному, который заставлял бледнеть многих ученых, мудрецов, известных своей приземленностью: обязаны были или нет пагусы или укрепленные города предоставлять своему населению статут, игнорирующий различие, которое ipso facto делало из римлянина индивидуума более значительного, нежели житель Сахары? Его работа, оставаясь неотшлифованной, особенно в своей заключительной части, все-таки подтверждала догадку французского историка Марка Блоха касательно доклада Донжон-Вассала, французского этнолога Маусса касательно союза Шаман-Племя, Хомского касательно соединения Незначительное-Значительное и доказывала, что обязательства такого не было (самое большее существовал факультативный выбор), показывая, таким образом, что исследователи заблуждались, когда анализировали, начиная с так называемого позитивного права, субстрат, исходя из которого рассчитывали постичь Колонизацию, Романизацию и Варваризацию. Это, следовательно, означало, что нужно было любой ценой отойти от изначального, чтобы прежде всего постичь инфраструктуральное. Ты улавливаешь ситуацию: Карл Маркс в Институте! Такого еще никогда не было! Однако большая часть аттестационной комиссии была согласна с выводами, содержавшимися в представленной работе, за исключением Каркопино (называемого Кокопинаром), который, говорят, только и вскрикивал: «Идиот! Идиот! Идиот!»
– Однако вы же слышали, какую он произнес речь? – прошептал Амори.
– Да, – согласился незнакомец, – и это меня удивило; я подумал было, что он позволит себе хотя бы несколько намеков! Но нет!
– Тсс, – сказала Ольга, которая слышала их разговор, – все заканчивается.
Присутствующие сняли головные уборы: кто – панамы, кто – кивера. Какой-то адмирал отдавал честь, Оттавио Оттавиани украдкой достал белый носовой платок. Многие прослезились. Папарацци, треща своими аппаратами, словно пулеметами, обложили Аманду фон Комодоро-Ривадавиа, которая опиралась, слезливый ручеек, на плечо Урбена д'Агостиньо, своего воздыхателя-фаворита.
Сначала появился священник в лимонной мантии – он размахивал массивным золотым кропилом, а затем возникли еще трое, они трясли распятием под балдахином с шелестящими нашивками, наконец пять человек, взявшись за бронзовые ручки, подняли гроб из красного дерева; один из них оступился, гроб неожиданно упал, с него слетела крышка и – проклятье! – Хассана Ибн Аббу в нем не было. Покойник исчез!
Шум поднялся невероятный. На Ке д'Орсе во всем обвиняли полицию, в полиции – Матиньон, в Матиньоне – Дом Робло, который обвинял Дом Борньоля, который, неизвестно почему, обвинял госпиталь Фоша, там обвиняли Институт, обвинявший Англо-Иранский Банк, который, в свою очередь, вновь обвинил Помпиду, тот скомпрометировал Жискара,[136] Жискар осудил Папона, Папон указал пальцем на Фоккара…
– Ну нет, – заявил Оттавио Оттавиани, – с нас хватит одного Ибн Барка в год!
Лишь через несколько дней все поутихло.
Игнорировали исчезновение – если оно имело место – Антона Вуаля; игнорировали исчезновение Хассана Ибн Аббу.
III. Дуглас Хэйг Клиффорд
9
Глава, в которой наивный баритон познает мечущую молнии судьбу
Тремя днями позже в обществе господина, встреченного на похоронах Хассана Ибн Аббу, Амори Консон отправился повидаться с Ольгой, которая, страдая от надоедливого насморка, сопровождаемого жестоким люмбаго, укрылась в своей деревенской усадьбе в Азенкуре, неподалеку от города Аррас.
Ехали на поезде.
– Когда-то, – говорил неизвестный ностальгическим тоном, – когда нужно было попасть в Динар или Порник, в Аррас или Камбре, большого выбора не было: садились в почтовую карету, самую настоящую колымагу. На дорогу уходило не менее трех часов, иногда до пяти. Во время переезда болтали с форейтором, пили вино, читали газету, высказывали свое мнение о жизни, судачили о тряпках; пересказывали сюжет любовного романа; говорили об убийстве, которое заставило забегать всех членов трибунала; то обрушивались с нападками на адвоката, кстати, очень известного, который, пренебрегая следственными материалами, отрицал обвинение во всей его совокупности, желая любой ценой очернить ничего из себя не представляющего аптекаря, который якобы снабдил ядом – лауданиумом – убийцу, то критиковали состав суда присяжных; что же касается заместителя генерального прокурора, то он тем более находился под подозрением. Позже иронизировали по поводу правительства: приводили факты коррупции, связанные с Дю Пати Дю Кламом, Кассаньяком, Дрюмоном,[137] Мак-Магоном.[138] Потом пели «Песню Турлюру», которую Полен[139] и Бах обессмертили в «Ша Нуар»[140] и в Амбигю;[141] замирали от восхищения Сирано де Бержераком, Сарой Бернар, играющей Орленка;[142] тем временем лошади шли рысью до самого заката. Поздним вечером ужинали в очаровательном кабачке. За шесть франков на стол подавали: хорошее анжуйское вино или «Латур-Марсийяк», «Мюзиньи» или «Поммар», из съестного – рыбу или омара, баранью ножку или индейку. Ужинали, трапезничали, кутили, пьянствовали, пировали, а жажда лишь увеличивалась! Затем прогуливались: общественные сады с печальными газонами, невзрачными тисами, располагающими к неге лужайками, аллеями для гулянья с худенькими акациями, чахлыми павловниями; попивали ликеры Кюрасао, мараскин или хорошее теплое вино; раскидывали партию в вист или в фараона; иногда играли в бильярд и разносили в пух и прах чемпиона медвежьего закутка. Затем шли в бордель, задерживались на минутку в салоне, пили шоколад с вишневой водкой киршвассером; увлекали в постель понравившуюся девицу; а затем, удовлетворенные, отправлялись спать.
– Да, – вздохнул Амори, – сегодня у нас есть Национальное Общество Железных Дорог, но нет никакого шика.
Неизвестный согласился. Затем вынул из сумки, которую держал в руке, картонную коробку необычного размера, наполненную продолговатыми сигарами.
– Сигару бразза? – предложил он.
– С удовольствием, – сказал Амори, – но, кстати, хотелось бы узнать твое имя.
– Имя мое, – ответил неизвестный, – Артур Уилбург Саворньян.
– Очень приятно, – пробормотал удивленный Амори и добавил: – Ну а я – Амори Консон.
– Амори Консон! У тебя не было сына, который…
– У меня было шестеро сыновей, – оборвал его Амори, – все они умерли, кроме одного.
– Ивона?
– Да! – чуть ли не простонал Амори. – Но откуда тебе это известно?
– Ты узнаешь когда-нибудь мою историю, – сказал, улыбаясь, Артур Уилбург Саворньян. – Антон Вуаль был и моим другом, но, будучи англичанином, я жил в Оуквуее, неподалеку от Оксфорда, и мы могли встречаться не чаще нескольких раз в год. Он тем не менее поведывал о своем недуге и заявил мне, как и всем вам, что движется к смерти. Никто из нас в это не поверил, ни Ольга, ни Хассан, ни ты, ни я. Хассан, однако, неделю назад переговорил со мной по телефону. Договорились встретиться и все серьезно обсудить. Но по приезде в Париж я узнал о его смерти…
– А ты понял значение постскриптума?
– Нет, но, по моему мнению, мы ошибались, видя в нем дословное указание. «Грубиян-адвокат, куривший в зоопарке» – означало ли это, что речь идет о Хассане Ибн Аббу? Нет, и по меньшей мере по трем причинам: Вуаль не знал, что Хассан был адвокатом; определение «грубиян» к Хассану не подходило и выкуривал он самое большее три сигары в год.
– Есть во всем этом резон, – добавил Амори, – тем более, что Хассан обожал тунисскую инжирную водку буху и терпеть не мог виски.
– Да. Более того, он никогда не ходил в зоопарк: он очень любил зоосад, неподалеку от которого жил.
– Но что означает тогда такой постскриптум?
– Сначала я думал, что это подделка. Сейчас интуиция подсказывает мне, что у Антона не было выбора: ему нужно было поставить последнюю точку. Если бы он мог, то закончил бы свою записку знаком более точным, но сделать это он был не в состоянии…
– Нет ничего более темного, чем белое, – прошептал Амори.
– Почему ты это сказал? – подскочил Артур Уилбург Саворньян.
– Я прочел это в его Дневнике. Или, скорее, припомнил, что прежде он это всегда говорил. Вот почему, – добавил он, – мы едем в Азенкур повидаться с Ольгой.
За всю поездку больше не было сказано ни слова. Саворньян покуривал сигару. Амори читал толстый роман, повествование о позорном крахе, банкротстве сети крупных М.Я.С., не зная, что в этой книге черным по белому было написано, как же разрешаются все те беспокойства, что жили в нем, волновали его…
Поезд шел быстро, оставляя позади великолепные сельские пейзажи. По полю ехал на сверкающем комбайне крестьянин. Затем скорость начала снижаться: поезд прибывал на станцию. Сначала показалось грязное предместье, потом – перрон, несколько ангаров, автобус.
Сели в омнибус и доехали до Обиньи. Эта колымага тащилась, словно черепаха, со скоростью не более двадцати километров в час. Выйдя, направились пешком до Азенкура (некогда он назывался Аженкуром – английский язык здесь взял верх над французским).
Очаровательная долина, окутанная восхитительным ароматом, ласкающим обоняние, дразнящим, смешавшим в себе запахи болотных незабудок, высыхающих деревьев, веток, грибов, перегноя, прятала в своей чаше красивейший замок, построенный архитектором Франсуа Дону на закате Консульства.[143] Оставляя трусливым каменщикам вдохновение Большого Трианона[144] Ардуэн-Мансара, здания, являвшего тогда собой в архитектуре жемчужину без изъянов, архитектор Суффло предложил Дону, преодолевая не без дерзкого апломба и небывалого хладнокровия несколько рубиконов, спроектировать основной корпус в стиле рококо: портал с аркбутанами, фронтон в стиле Тюдоров, балконы без выступов фасада, тимпаны с декоративными масками – и на фоне всего этого должен был располагаться (в этом заключалась новация) флигель со стрельчатым крыльцом, с машикули.[145] Франсуа Дону три дня косился на оригинальную акварель – рисунок будущего здания.
– Гм, – сказал он в конце концов Суффло, – вид у этого дома довольно необычный…
Затем он дал архитектору пинок под зад, гарантировав ему на словах в ближайшем будущем острое лезвие гильотины. Но Суффло, облачившись в белый поварской халат, сумел бежать в Лион.
Дону, удрученный, подавленный, посоветовался с Шальгреном, Виньоном, Потеном, Хитторфом.[146] Все они воздержались. В конце концов он обратился к одному голландцу, в то время еще мало известному. Франсуа Тилману Сюйсу. Дону дал ему полную свободу действий, предоставив в его распоряжение немалые средства. Известно, что нет больших плутов, нежели голландцы: когда Франсуа Тилман Сюйс закончил стройку, колониальный павильон с ромбовидной крышей, опорная арка которого была инкрустирована орнаментом в подчеркнуто католическом стиле, если не просто некрасивым, то, по меньшей мере, совершенно тривиальным, у Дону уже не было ни гроша в кармане; через три месяца он продал дом за бесценок покупателю, давшему больше других, – один ловкач-посредник из Одрюка приобрел его за двадцать монет; сначала тот нашел его местом, вполне подходящим для конюшни, затем в небывалом восторге, последовавшем за победой над Ваграмом, оборудовал в нем казино, где позже играли в бостон или в баккара Мак-Дональд, Сульт, Дюрок, Виктор, Коленкур, Савари, Жюно, Удино.[147] Говорят он заработал на этом больше миллиона. Затем дом перешел в руки полицейского, Луи-Филиппара, который содержал в нем свой квартет темных личностей; один из них, горький пьяница, зарезал его, выходя из долгого запоя. У него не было наследников, и дом пришел в запустение. Его разграбили, и в нем находили себе приют бродяги, нищие и прочий люд подобного сорта.
Однажды, двадцать восьмого апреля некоего года, английский майор, Аугустус Б.Клиффорд, проводивший через те места батальон, разместил там на ночь свой штаб. Дом ему понравился. Восемью годами позже, когда Аугустуса Б.Клиффорда назначили консулом Канады во Франкфурте-на-Майне, он превратил Азенкур в свое семейное поместье и жил здесь по меньшей мере шесть месяцев в году.[148] Он немало заботился о благоустройстве поместья, проводя все работы с отменным вкусом; были приведены в порядок стены, была восстановлена крыша, все вымыли, вычистили, выдраили, вместо угля, от которого на всем оставался грязный налет, для отопления дома использовали исландский мазут, был разбит большой парк.
У Аугустуса Б.Клиффорда был сын. Отец назвал его Дугласом Хэйгом в честь британского фельдмаршала, возжелав внести таким образом свою лепту в сохранение памяти о Великом Солдате, под началом которого он сражался при Дуомоне.[149]
Очаровательный мальчуган Дуглас Хэйг, или скорее просто Хэйг – так всегда его звал отец, – вырос в Азенкуре. Все вокруг дрожало от веселого крика, когда он играл на лужайке в парке, взбирался на акацию, кормил в пруду карпа, которого не без труда приручил, давая ему хлеб, дождевых червей, слепней, шмелей и иногда шафран; карп появлялся, когда мальчик подходил к пруду и звал его: «Иона!»
У Хэйга было много друзей, которые большинстве своем жили в городке. Они занимались спортом: играли в футбол, регби. Организовывали забавные турниры по стрельбе из лука. Кружили по окрестностям. Затем няня разогревала густой шоколад, пекла эльзасский или фруктовый пирог. Угощали всех. В доме Аугустуса царили мир и покой. Можно было сказать, этот дом являл собой рай.
В восемнадцать лет Хэйг сдал экзамен на степень бакалавра. Затем нашел свое призвание: пение. Он пел, пожалуй, неважно, но занятие это ему нравилось. Более того, голос у него был. Он много работал над своим баритоном, потом поступил в Schola Cantorum,[150] где изучал композицию и развивал свой природный дар. Затем венгерский дирижер Ференц Фриксей обучил его основам церковного пения, а британский дирижер сэр Джорж Солти – каноническому пению, австрийцы Герберт фон Караян – тутти,[151] Йозеф Крипе – унисону. Сэр Адриан Булт[152] присутствовал на его прослушивании годом позже в Турине и Кариньяно. Хэйг исполнил сначала «Unto us a Child is born», затем мадригал итальянского драматурга-либреттиста Оттавио Ринуччини, а закончил тремя ариями из «Аиды». Одобрительный отзыв великого Адриана Булта, совершенно убежденного в том, что он не ошибся, выразился в итоге в рекомендательном письме последнего австрийскому дирижеру Карлу Бёму, который ставил в то время в городе Урбино оперу «Il dissoluto punito ossia II Don Giovanni».[153] Карл Бём пригласил Хэйга к себе, прослушал, нашел его голос достойным, хотя высокие ноты выходили у него иногда довольно размытыми; он предложил ему партию Командора, гарантировав в более-менее отдаленном будущем главную партию.
Ведомый Карлом Бёмом, рукой уверенной и дружеской, мастерство Хэйг бурно прогрессировало. «Твой фортиссимо кажется, скорее, лангидо[154]», – говорил ему иногда Карл Бём. Или же: «Когда ты поешь „Altra brama quaggiu mi guido“,[155] будь строже: ты то воешь, то ревешь, а голос должно литься ровно». Но со временем Бём стал отмечать несомненные успехи своего нового баритона.
Однажды Хэйг, выходя из герцогского дворца Урбино, где он утром каждого третьего дня упражнялся в вокализах, подражая Карузо, столкнулся в коридоре с Ольгой Маврокордатос, певицей сопрано, исполнившей партию Анны. Он тотчас же воспылал к оперной диве сумасшедшей любовью, и она полюбила его не меньше; тремя днями позже в Сан-Марино, где Хэйг не без труда получил разрешение на заключение брака, они связали себя супружескими узами. Муниципальный чиновник произнес, зевая – дело шло к полуночи, – самую банальную речь. Но – утешение! – в черно-синей ночи на изумительно красивой паперти главной площади Сан-Марино можно было до самого утра слушать «Виртуозов из Рима», которые предлагали прохожим ригодоны,[156] мадригалы, арии, песни, рондо,[157] симфониетты.
О очаровательное мгновенье! О мир! В ночи пела скрипка, чище соловья, затем контральто, затем пронзительный рожок Вобиха! Хэйг держал Ольгу за руку.
Да, дорогой читатель, ты, наверное, также хотел бы, чтобы на этом все и закончилось, Дуглас Хэйг Клиффорд сходится с Ольгой Маврокордатос; они живут в мире и любви – словом, счастлив их дружеский союз! У них будет десятка два с половиной детишек, и все они будут живы-здоровы.
Увы, нет! Слишком дерзкое желание! Не будет отпущения грехов. Всемогущий не одарит Дугласа Хэйга своим прощением. Проклятье, что преследует всех и всюду» посылает свой мрачный знак, который моя рука хотела бы углубить до бесконечности, исполнит здесь свой фатум. Смерть, что спустя три дня осуществит свое вторжение в Урбино, известит двадцатью годами позже об исчезновении Антона Вуаля, исчезновении Хассана Ибн Аббу…
Создавая статую убитого Командора, которая появляется, «Uomo di Sasso, Uomo bianco»,[158] в конце «Dramma giocoso»,[159] Карл Бём одел, или скорее замуровал, Хэйга в штукатурку под мрамор, в белый железный панцирь, блестящий, жесткий, в котором певец мог сделать лишь несколько шагов. В панцире было большое отверстие, которое, не заглушая голос окончательно, придавало ему глубокий тон, нравившийся Бёму. «В самом деле, – говорил он, – можно подумать, что мы слышим голос покойника, посылающего проклятья из-под земли, где он разлагается». Он был прав. Он даже не подозревал, насколько, он был прав. Ибо когда Хэйг был помещен в этот панцирь, который тут же заштукатурили и загипсовали, в самом прямом смысле замуровав драгоценный баритон, то обнаружили, что по неизвестной причине забыли оставить хоть какое-то отверстие, сквозь которое можно видеть или слышать. Засуетились, но слишком поздно. Настал тот момент, когда Дон Жуан заставляет своего слугу предложить Командору ужин. Хэйга втащили на постамент. Все шло не так уже и плохо. Но позже вмешался злой рок.
Всем известны слова, которыми заканчивается «Дон Жуан»:
– …Grido indiavolato[160]… – взвыл Дон Жуан.
А затем слуга:
– Ah signor… L'uom di Sasso… L'uomo bianco… Ah padron… Та-та-та…
Предполагалось, что Хэйг сделает в этом месте по меньшей мере восемь шагов и, появившись в тот момент, когда скрипки возвестят заключительный аккорд, скажет свои знаменитые слова: «Don Giovanni… m'invitasti»,[161] a затем сделает несколько шагов, чтобы предстать перед публикой во всем величии своей каменной фигуры.
Но Хэйг вышел позже. Когда он подходил к Дон Жуану, слуга лепетал: «Ah Padron… Siam tutti morti…».[162] Хэйг перестал ориентироваться. Он появился перед зрителями. Впечатление было такое, что он потерял рассудок. Он шел наугад, покачиваясь, подобно роботу или мутанту. Внезапно он испустил громовое «ми». Затем его голос вдруг оборвался, он натолкнулся на стойку, оступился – и рухнул, прямой, как мачта, словно срубленный баобаб. Шум от падения был глухой, послышалось, как что-то треснуло. От балкона до амфитеатра, от райка до лоджий пронесся оглушительный крик. Удар был такой невиданной силы, что, подобно Шалтаю-Болтаю, свалившемуся со стены, у бедняги раскололся крепчайший панцирь. Сначала по всему саркофагу, в который был заключен несчастный баритон, от затылка до пяток, пробежала глубокая трещина, затем все увидели, как мгновенно покраснела незапятнанной белизны штукатурка. Брызнула алая кровь.
Когда удалось с помощью долота, колуна и домкрата достать из панциря Хэйга, умирающее ядро человеческого плода, то увидели, что и по телу человека от затылка до пяток также пробежал мертвенно-бледный след. Позже произвели вскрытие. Но специалисты так и не смогли установить причину смерти…
Аугустус Б.Клиффорд присутствовал, инкогнито – позже узнали почему, – на премьере в Урбино. В первую же ночь после случившегося он проник в помещение больницы, где находилось тело покойного, укрытое белой простыней, и выкрал его, затем усадил его в свой автомобиль и, ведя машину с раннего утра до позднего вечера, навалившись на руль, словно сумасшедший на свою лошадку, он добрался наконец до Азенкура. Поговаривали, что он сжег тело сына, однако кажется более вероятным, что он захоронил его в углу парка, там, где, рассказывают, выросла вскоре густая белая трава, и контуры этой лужайки в общих чертах удивительно напоминали следующую картину: гарпун с тремя стрелами или же трехпалую руку, проклятый знак Лукавого, расписавшегося в нижней части рукописи, зачерненной Фостийоном.[163]
Аугустус уединился в своем доме в Азенкуре. В городке поговаривали, что он не в своем уме. Вооружившись камнями, он отваживал от поместья каждого бродившего неподалеку мальчугана, каждого незваного гостя, позвонившего в дверь, каждого бродягу, который проходил мимо, прося милостыню, краюху хлеба или кров на ночь. Он возвел вокруг парка высоченную стену. Говорили, что ночью он баррикадировал все входы. К городок он больше никогда не ходил – лишь иногда там видели его служанку, приходившую купить ветчину или индейку. Но служанка говорила по-французски очень плохо. «Так что, Скво, – спрашивали у нее (в жилах этой женщины текла индейская кровь, поэтому ее так и звали), – твой хозяин все еще с головой не в ладах?»
– You son of a bitch,[164] дырка в заднице, – угощала местных простаков-острословов своим любимым ругательством Скво.
Этого для любопытных было достаточно: индианка изучала когда-то высокое искусство дзюдо. И тогда Скво иногда улыбалась и добавляла совсем уже другим тоном:
– Пока он кормит Иону, все в порядке.
Ибо все знали, что Аугустус продолжает выполнять обязанность, взятую некогда на себя Хэйгом. Ровно в полдень он подходил к пруду и подзывал карпа: «Иона, Иона!» Иона давно уже вырос, но по-прежнему, заслышав свое имя, появлялся у поверхности. Тогда Аугустус бросал ему хлеб, который карп проглатывал с удовольствием.
Ольга только через шесть лет узнала, куда исчезло тело Хэйга. Когда она приехала в Азенкур, Аугустус, видевший свою невестку лишь мельком, сначала воспротивился тому, чтобы она оставалась в его доме. Позже, однако, он потеплел к ней. Захотел видеть возле себя примадонну, которую его сын полюбил так страстно. А затем стал получать удовольствие от того, что видит ее, слышит ее голос; Ольга поведала ему о своем так рано оборвавшемся счастье с Хэйгом, о своей страсти к нему. Аугустус же рассказывал ей об очаровательном мальчугане, который кормил Иону, залезал на акацию в парке, играл в прятки.
Ольга привыкла к Азенкуру, находила здесь столь необходимый ей покой – работа в Париже утомляла ее, удручала. Ольга приезжала в Азенкур три раза в месяц и проводила в обществе Аугустуса несколько дней: они много гуляли по парку, пили сироп в гостиной для самых высоких посетителей, которую хозяин открывал специально для нее, выказывая таким образом необыкновенное почтение к своей невестке. Ужинали, затем Ольга садилась на очаровательный диванчик из красного дерева (облагороженный любовью, которой некогда пылал один знатный господин к одной гризетке), диванчик на двоих, который Аугустус приобрел двадцать лет назад по баснословной цене у антиквара. Сидя на этом диванчике, Ольга вышивала красивого шмеля на большой белой простыне из тончайшего батиста, Аугустус же тем временем играл невдалеке на превосходном вёрджинеле {Старинный клавишный музыкальный инструмент, английская разновидность небольшого клавесина с корпусом в виде прямоугольного ящика и струнами, расположенными по диагонали.}, который украшали инкрустации из кости, мелодии Альбинони, Гайдна или Орика. Ольга порой пела что-нибудь из Шумана. Голос ее дрожал в вечернем воздухе.
10
Глава, которая, мы надеемся, понравится фанатам
Амори нажал на дверной замок. Где-то вдали залаял датский дог или африканская борзая. Вскоре служанка открыла дверь.
– Здравствуй, Скво, – сказал Амори, находивший ее имя красивым.
– Good day to you, Sir Amaury, and good day to you too, Sir Savorgnan, – ответила Скво.
Удивленный, Амори покосился на Саворньяна и спросил:
– Ты что, тоже знаешь Скво?
– А ты не понял?
– Ей-Богу, нет, – признался Амори.
– Совсем недавно, когда мы подъезжали к предместью Арраса, я сказал, что когда-нибудь ты узнаешь всю мою историю. Тогда ты поймешь, до какой степени похожи наши жизненные пути: продолжающиеся случайности нас объединили, объединяют сегодня и будут объединять всегда. Все друзья у нас общие, общие у нас знания, общая наша смутная цель, вынуждающая скитаться…
– Similia similibus curantur,[165] – заключил изворотливый Амори.
– Contraria contrariis curantur,[166] – насмешливо перефразировал его слова Саворньян.
– Lady Olga is waiting for you,[167] – сказала Скво, приглашая гостей в дом.
Служанка провела их в жилую комнату, обставленную сверхноваторски: ковер из лилейного нейлона, бумажный фонарик, на фоне которого произведение мастера типа Ногучи[168] выглядело бы подделкой примитивного подмастерья, диваны с огромными надувными подушками, витраж во всю стену, при первом же взгляде на который угадывалась манера великого Уччелло.[169]
Ольга дремала в гамаке. Амори поцеловал ей руку, затем то же проделал и Саворньян.
– Cari amici,[170] – заговорила Ольга, – мы считаем вас людьми верными и преданными. Аугустус хотел бы вас видеть. Ударим в гонг!
Амори ударил три раза иридиевым прессом для оливок в алюминиевый гонг, произведя звук кристальной чистоты, который еще долгое время плыл в воздухе.
Через какое-то время появился Аугустус Б.Клиффорд – седовласый, дряхлый, глухой, вконец обессилевший старик. Он подошел к Саворньяну, и тот обнял его.
– Wilburg, my old chap, how do you do?[171] – обратился он к Саворньяну.
– How do you do? – спросил в свою очередь Саворньян, всегда отличавшийся вежливостью.
– How was yor trip?[172] – поинтересовался Аугустус.
– It wasn't bad,[173] – последовал ответ.
– Совсем недурно, – подтвердил Амори, демонстрируя тем самым, что понимает английский.
Сели. Ольга предложила гостям фрукты в сиропе, фрукты охлажденные, фрукты засахаренные. Уплетали их бесшумно. Никто не проронил ни слова. Покашливали. Вздыхали.
– Нам сегодня нужно, – сказала Ольга, когда трапеза подходила к концу, – углубить в нашем общем знании нелепую запутанную интригу, в которой мыв все тонем. Слишком много волнующих событий, слишком много сводящих с ума ударов судьбы настигло в течение месяца, который заканчивается сегодня, наших друзей. Кстати, не считая нескольких пустячков, у нас совершенно нет сведений о том, при каких обстоятельствах произошли исчезновение Антона, смерть Хассана. Но мы знаем или считаем, что знаем: за всем этим кроется загадка, значение которой мы все хотели бы постичь. Прежде всего нам нужно объединиться: соберем воедино сведения, которыми располагает каждый из нас в отдельности, а затем скоординируем наши действия!
– Вот предложение, которое действительно можно назвать золотым, – сказал Аугустус.
– Да, – согласился с ним Артур Уилбург Саворньян, – каждому из нас наверняка известен хотя бы один факт, о котором ничего не знают другие. Более тесное соприкосновение полученной информации заставит фонтанировать интуицию, которая откроет перед нами горизонты!
– Браво! – закричал Амори.
– Гип-гип ура! – воскликнула Скво, появляясь с круглым подносом, уставленным бутылками со спиртным.
Выпили.
Амори захотел первым поделиться своими знаниями, ибо, пояснил он, то, что ему известно, кажется ему очень важным. Все были удивлены, но предоставили ему такую возможность.
– Должен сказать, – перешел Амори в наступление мгновением позже, – что я прочел приличный кусок, если не большую часть, Дневника Антона Вуаля. Он несколько раз намекает в нем на некий роман, в котором, пишет он, можно отыскать решение. То там, то здесь встречается множество указаний, цель которых – поверим в это – углубить значение романа, однако эти указания нам совершенно не понятны.
– Да, – согласился Саворньян, – скажем, что Антон одновременно все показывал, но молчал, обозначал, но сокрывал.
– Larvati ibant obscuri sola sub nocta,[174] – прошептала Ольга, никогда не знавшая латыни.
– Таким образом, – продолжал Амори, – иногда речь идет о «Моби Дике», иногда о романе, который написал в конце своего жизненного пути Томас Манн,[175] иногда о романе Исидро Пароди, появившемся десять лет назад под Созвездием Южного Креста. Но Вуаль цитировал и Кафку, затем говорил о «полете шмеля», затем о Белом Короле, а иногда и об Артюре Рембо. Во всем этом есть один общий момент: появление или исчезновение белого цвета.
– Белого! – простонал Аугустус Б.Клиффорд, уронив рюмку, содержимое которой запачкало белоснежный ковер.
– Белого! – выкрикнула Ольга, разбив в переживаемом потрясении фонарик.
– Белого! – взвыл Артур Уилбург Саворньян, более чем на четверть заглотнув торчавшую у него изо рта сигару.
– Белого! – вскричала Скво столь пронзительно, что треснули и рассыпались вдребезги три зеркала.
– Белого, да, Белого, – повторил Амори, – все закручено вокруг Белого цвета. Но когда Антон Вуаль пишет: «Белый цвет», что он имеет в виду?
Аугустус Б.Клиффорд подошел к секретеру, открыл один из ящиков и достал из него большущий, сантиметров пятьдесят на шестьдесят пять, альбомище в красивом футляре из акульей кожи.
– Вот альбом, – сказал он, – который Антон Вуаль прислал мне по почте месяц назад; сегодня исполняется ровно месяц.
– То есть за три дня до исчезновения, – подсчитал Амори.
– Да. Но есть в альбоме текст, который Антон, представьте себе, нашел в газете, вырезал и вклеил сюда.
Все подошли к Амори, который уже просматривал альбом. В нем было двадцать шесть листов, совершенно чистых, за исключением одного, пятого, на котором была наклеена прямоугольная вырезка из газеты без иллюстраций, которую Амори прочитал вполголоса:
– Нам бы сейчас Шампольона,[176] – прошептал удрученный Амори.
– Сейчас моя очередь внести лепту в совместные труды, – заявил Саворньян. – Мне также месяц назад пришло почтовое отправление. Ничто в нем не указывало на то, от кого оно, но я тотчас же догадался, что оно имеет отношение к Антону Вуалю, хотя я никак не мог понять, – добавил он, – почему Вуаль хотел сохранить свое инкогнито…
– Что это за отправление? – оборвал его Амори в нетерпении.
– Сейчас. Вот.
Он открыл сумку, порылся в ней немного, затем достал из нее картонный лист и показал его присутствующим.
В руках у него был картон, покрытый каолином (фарфоровой глиной), зачерненный тушью; старательный умелец выбелил его скребком (или, скорее, мастихином[177]), наверняка вдохновляясь трюком богатого на выдумки Жаржака, когда тот щедро имитировал удрученного Белого Короля, которого до него обессмертил великий соперник Удри.[178] Таким образом за счет исчезновения черного цвета был сделан превосходный законченный эскиз, имитировавший надпись на бамбуке, которую можно иногда увидеть в нижней части японских акварелей.
– Это что-то японское? – полюбопытствовала Ольга.
– Да, японское. Я безотлагательно отправился повидаться с моим патроном, – продолжал Саворньян, – а именно с Гэдсби В.Райтом, который проводил меня в Оксфорд, где Парсифаль Огден прочел нам надпись. Вот транскрипция, я все записал:
– Красиво, – заметил Аугустус.
– Это хайку, – продолжал Саворньян, – или, скорее, танка, но не великого Нарихира,[179] а либо Идзуми Сикибу[180] (говорят, это было его последнее произведение), либо менее известного Мибу Тадаминэ.[181] Пятистишие якобы появилось в «Го сю и сю», компиляции, предложенной микадо. Парсифаль Огден сделал дословный перевод танка на французский, утонченность которого удивила нас, тем более потому, что нам было известно, благодаря одному японскому другу, с которым Антон Вуаль познакомился некогда в Национальной Библиотеке, что танка всегда имеет три, пять, шесть и даже иногда восемь значений. Однако, как показал Персифаль, приближение, столь украшающее японское искусство, не имеет в глазах француза или англичанина ничего особенного: неясное, несообразное, приблизительное, неотчетливое никогда не будет у них в большом почете. Необходимо, чтобы танка была ясной, сжатой, резкой, прямой, лаконичной, написанной за один присест, несмотря на все затруднения, связанные с ее переводом. Вот перевод,! который предложил нам Огден, отобрав его из пяти-шести вариантов:
– Очаровательно! – воскликнул Амори. – Но хотелось, чтобы это было нечто более озаряющее.
– Боюсь, что мой вклад, в свою очередь, будет скудным, – произнесла Ольга после долгого молчания, которое никто не осмеливался нарушить, столько было теперь в атмосфере, царящей в комнате, возрастающего беспокойства. – Боюсь, ибо и в газетной заметке, и на картоне, и в танка был, по меньшей мере, намек на известный случай, на объединяющий их момент: на Белый цвет. А в моем случае все проще простого: насколько ваши рукописи неясны, испорчены аллюзиями, труднопонятны, настолько моя рукопись кажется ясной, позитивной, приемлемой…
– Но, – высказал предположение Амори, – если ввиду этого она представляет собой решение…
– Но нет, – оборвала его Ольга, – ты не понял. В моем случае нет ни знака, ни намека. Ибо речь идет не об оригинальной работе, а о труде, представляющем собой компиляцию: это произведения нескольких авторов, которые, будучи очень известными, не имеют для нас каких-либо весомых достоинств…
– Если бы ты рассказала все ab ovo,[182] то можно было бы рассмотреть это детальнее, – предложил Лугустус.
– Хорошо, – согласилась Ольга. – За неделю до этой несообразной записки с таким очаровательным постскриптумом, сообщавшей о том, что грядет самое худшее, Антон Вуаль прислал бандероль и мне. Вот что я в ней обнаружила:
а) короткий роман так называемого Араго под заголовком «Интригующий французский побег», очаровательный томик, в котором меня восхищает сафьяновый, в арабском стиле, переплет, инкрустированный чистейшим матовым золотом. Однако сам роман показался мне слабоватым;
б) шесть сверхизвестных мадригалов; все они напечатаны в антологии Мишара[183] или Помпиду,[184] и мы ознакомились с ними еще лет в десять. Шесть мадригалов, переписанных слово в слово, без каких-либо пометок на полях рукой Антона:
«Морской ветер» Малларме,
«Спящий Вооз» Виктора Гюго,
«Три Песни» приемного сына Майора Опика,[185]
«Гласные» Артюра Рембо.
Все они содержат то здесь, то там намеки на то, что особенно волновало Антона: неясность, незапятнанность, исчезновение, проклятье. Но мы знаем, что это – чистая случайность…
– Однако, – изрек Амори, – у нас нет большого выбора: если Антон счел нужным переписать эти произведения, то мы должны усматривать в этом знак!
– Прочтем их, – предложил Артур Уилбург Савор-ньян. – Прежде всего они прекрасны; кроме того, кто знает, не отыщем ли мы в них звено, которое Ольга не разглядела?
Прочли:
11
Глава, предназначение конца которой – задобрить Великого Маниту[190]
Прочитав, Ольга всмотрелась по очереди в лице Амори, Саворньяна, Аугустуса, Скво, затем глубоко вздохнула. Никто не проронил ни слова. Ясным здесь ничто никому не показалось. Каждый смаковал свой мадригал, стараясь уловить нить, приметить знак.
– Я сказал не так давно, что нам помог бы сейчас Шампольон. Но один Шампольон нас, пожалуй, не устроит, – сказал, оглушенный, Аугустус, – нам нужна еще и помощь Хомского…
– Или, скорее, Романа Якобсона; он высказал бы нам свое структуральное мнение относительно «Котов»,[191] произведения, которое он некогда анализировал!
– А почему не Бурбаки?[192]
– Почему не УЛиПО?
– Поразительно, совершенно поразительно, – бормотал в своем углу Амори.
– Что? – поинтересовался Артур Уилбург Саворньян.
– «A – черный, белый – Е» Артюра Рембо: хотелось бы усматривать в этом сигнал!
– А почему бы и нет? Мы слишком хорошо знаем, что здесь ни одно слово не появилось просто так, случайно. Но речь идет об Артюре Рембо, не об Антоне Вуале!
– Кто знает? – прошептал каждый.
У Аугустуса Б.Клиффорда наблюдался полет воображения. Говорил он вполголоса. Все внимательно следили за его монологом: при всей своей смутности он был очевидно проникнут вдохновением.
– Это черное, то белое, – вещал он. – Светло-темное: приблизительный атрибут одного «a contrario»;[193] подобно значащему, сигнализирующему ipso facto, которому нужно было, чтобы оно было, изменить всему своему окружению (отрицая актуализацию, следовательно, показывая виртуализацию, нужно было, чтобы уловить незапятнанность белого, обеспечить сначала его отличие, его оригинальную «идиосинкразию», его противоположность цвету черному, красному, желтому, голубому), разве белое не открывало по собственной инициативе свое противоречие, белый знак не-белого, белое альбома, по которому пробежалась ручка, зачерняющая надпись, в которой осуществится его смерть: о напрасный папирус, упраздненный его Белым; речь не-речи, проклятая речь, показывающая пальцем съежившееся забвение, застоявшееся в середине Логоса, испорченное ядро, раскол, растяжение, опущение, афиширующее или маскирующее по очереди свою силу, каньон He-Колорадо, коридор, который не дано пересечь никому, коридор, к которому не подступиться никакому знанию, мертвое поле, где все говорящее вскоре находило оголенной вызывающую дыру, в которой тонула его речь, пылающая головня, к которой никто не приближался так, чтобы не изжариться навсегда, застоявшийся колодец, табуированное поле голого слова, нулевого слова, все еще отдаленного, все еще избегающего сближения, которое ни один болтающий, ни один бормочущий никогда не насытит, слово ранящее, слово немощное, непродуктивное, слово вакантное, оскорбляющий атрибут слишком значительного, в котором торжествуют подозрение, лишение, иллюзия, борозда с пробелами, вакантный канал, дорога в ложбине, заброшенный вакуум, в котором мы утопаем бесконечно в жажде несказанного, в тщетном побуждении крика, который всегда будет воздействовать на нас, расплавленная морщина на боковой поверхности речи, которая всегда нас затемняет, предает нас, тормозя наши инстинкты, наши импульсы, обрекая нас на забвение, на ложный день, на разум, на холодные пробеги, на окольные пути, но также и сумасшедшая власть, достоинство абсолюта, говорящего одновременно о страсти, голоде, любви, фундаменте настоящего знания, испытания менее тщетного, голос «я» в самой глубине, голос видящего светлее, отношения более настоящего, живущего, менее мертвого. Да. У самого сильного Логоса есть предписанное поле, зональное табу, к которому никто не приближается, на которое не указывает ни одно подозрение: Дыра, Белое, опущенный знак, который, изо дня в день, запрещая всякую речь, делая тщетным всякое слово, искажал дикцию, упразднял голос в проклятье удушающего бульканья. Белое, которое навсегда заставит нас замолчать перед Сфинксом, Белое, подобное большому Белому Киту, которого Ахав преследовал три года, Белое, в котором мы все исчезнем один за другим…
Аугустус Б.Клиффорд сел, вид у него был мрачный, подавленный. Каждый предался игре своего воображения…
– Да, Антон Вуаль исчез, – подытожил, Амори.
– Хассан Ибн Аббу исчез, – добавил Саворньян.
– Дуглас Хэйг Клиффорд исчез вот уже двадцать лет назад, его тело пересечено бледным следом, – прошептал Аугустус.
– Он был одет в белый панцирь, он играл Uomo Bianco в «Дон Жуане», – всхлипнула Ольга.
– Пошли дальше, – сказал Саворньян, – отбросим прочь уныние. «Вопреки нашему горю, нам нужно объединиться», – так некогда пел Фрасуа Даникан Филидор.[194] Забудем на мгновение об этих смертях, о наших исчезнувших друзьях, постараемся сегодня всмотреться во все это острее, как можно острее, чтобы смягчить проклятье, которое висит над нами, чтобы избавить от подозрения наше будущее!
– Но мы так никогда не закончим! – воскликнула Ольга. – Чем больше мы будем углубляться, тем дальше зайдет, отвердевая, неизвестное – до конечного ядра, куда мы опустимся. Зачем стремиться к смерти? Зачем самим выбирать сомнительную судьбу, которую Хэйг, Антон, Хассан уже изведали?
Все живо отреагировали на робкие, смиренные слова Ольги.
Аугустус положил конец зарождающемуся шуму, помахав высоко поднятым пальцем.
– Друзья, друзья, – обратился он к собравшимся; его глуховатый тон плохо скрывал сильную озабоченность, – помолчим, подавим в себе наше горе, наши рыдания, гнев, умерим наше беспокойство. Давайте будем следовать до конца предложению Артура Уилбурга Саворньяна, ибо, сказал когда-то Малколм Лаури: «Того, кто хотел бы всегда бежать дальше, не слабея, мы сможем отпустить». Однако, – продолжил Аугустус, взглянув на часы, – дело близится к полуночи, мы голодны, и нам не мешало бы выпить, так предадимся прежде удовольствию легкого ужина в кругу друзей, приготовленного на скорую, но с учетом ваших тонких вкусов.
– Ням-ням, – весело откликнулся гурман Саворньян.
– По-моему, нас ждет хорошенькая трапеза, – добавил, потирая руки, Амори.
И тут появилась Скво – как она вышла, никто. не видел, – и объявила:
– Вечернее угощение томится в ожидании в Большой Гостиной.
Захлопали в ладоши.
– Сперва переоденемся, – предложила Ольга игриво.
Все разошлись по отведенным им комнатам, затем вновь появились, каждый по-своему ослепителен.
Ольга была одета совершенно по-домашнему: из своего обширного гардероба она выбрала вечернюю пижаму от Диора из переливающегося сатина, украшенную просто закипающей волной разных очаровательных штучек: лент, нашивок, шнурков, шиньонов, капюшонов, кринолинов. На запястье ее правой руки золотой спиралью извивалось массивное суданское украшение в форме змеи.
Щеголь Амори облачился в строгий фрак.
Саворньян – тот еще франт – надел серый смокинг, лимонного цвета жабо, светло-желтую бабочку.
Амори, слегка завидуя ему, восхищенно присвистнул.
– My tailor is rich,[195] – сказал польщенный Саворньян.
Аугустус Б.Клиффорд, который за годы службы в консульстве приобрел безупречный вкус, предпочел френч. Он придавал ему вид английского колониального чиновника, докладывающего королеве Виктории о миссии, которую он выполнял в Хайдарабаде,[196] усмиряя бунтаря Типпу Сахиба.[197]
С шумом, смехом и кривляньем вошли в великолепную гостиную, где заботливая Скво предусмотрела для гостей абсолютно все. Амори подал руку Ольге, за ними последовал Аугустус, затем Саворньян. Долго и шумно восхищались ларцом Людовика X, бургундской конторкой Хуго Самбена,[198] софой, изготовленной Рульманном,[199] с цветочным орнаментом на обшивке, а в особенности – кроватью с балдахином, согласно клейму, вышедшей из-под руки Гринлинга Гиббонса,[200] однако последний факт вот уже четверть века вызывал у многих из тех, кто ее видел, горячие споры.
– Знаешь ли ты, – спросил Аугустус у Саворньяна, – что однажды Гомбрих опубликовал весьма примечательную статью, содержащую критику Эрвина Панофски?[201]
– You don't say![202] – воскликнул возмущенно Саворньян.
– Ну да! Это, кажется, дурно закончится. Позднее Гомбрих признался, что нашел в дискуссии несколько оригинальных мест, составивших в совокупности начальный план книги «Искусство и иллюзии».
– Вот кто наверняка, даю тебе гарантию, может сказать, изготовлена твоя кровать руками великого Гиббонса или нет!
Затем сели за стол.
Аугустус предложил друзьям вовсе не скромный ужин, а самое настоящее валтасарово пиршество. В качестве закуски перед их взором предстало шофруа из садовой овсянки а ля Суворофф. Рыбы не было, но зато красовался омар в тмине, в честь которого открыли бутылку «Мутон-Ротшильд Двадцать Восемь». Затем последовала баранья нога в луковом соке, источавшая тончайший аромат аниса. Согласно обычаю, неукоснительно соблюдавшемуся в доме Клиффорда, ее подали под превосходным соусом карри. После этого гостям было предложено балканское блюдо с паприкой, в которое, кроме того, входили испанский козлец,[203] испанский артишок, артишок обыкновенный, белая фасоль, черный редис. Изыск сей запивали отменнейшим кальвадосом. На десерт гости имели удовольствие вкусить пломбир с черной смородиной, сопровожденный выдержанным «Сигалас-Рабо» – вкус этого вина, верно, привел бы в восторг самого Кюрнонского.[204]
Аугустус Б.Клиффорд произнес тост, в котором выразил свое самое искреннее пожелание того, чтобы труды, к коим приступает их дружественная четверка, разрешили в итоге то беспокойство, что поселилось в душе каждого из них, положили конец тем суматошным поискам, которые занимали их, оставаясь бесплодными, вот уже скоро месяц.
Чокнулись. Коротая время, потягивали потихоньку вино.
Трапеза затягивалась. Амори с Ольгой связывала галантная любовная идиллия: целуя даме руку, он нашептывал ей нежные слова. Позже подали божественный арманьяк, его пили из опаловых шаровидных фужеров, наполняя их до краев.
Ночь уходила. Светало. Где-то вдали трижды прокричал петух. Принесли иранской икры.
Ольга дремала, положив голову на плечо Амори; Аугустус рассказывал Саворньяну о том, как он принимал участие в местном чемпионате по гребле, виду спорта, в Азенкуре совершенно неизвестному, однако он как мог способствовал его развитию, создал Клуб любителей гребли, подарил ему лодку-скиф, а троим мальчуганам из городка – майки цвета индиго с гербами наподобие оксфордских: именно за этот знаменитый университет выступал он некогда в соревнованиях по гребле.
Спать легли, когда уже совсем рассвело.
В полдень зазвонили колокола, обычные. Откуда-то издалека донесся звон другого колокола – похоронного или набата. Аугустус Б.Клиффорд открыл глаза. Спал он плохо. Бесконечно повторял про себя один и тот же набор звуков, из которых получались совершенно разные слова: «Вуаля, вуа-ля, Вуаю, Вуа-яль»[205] – набор, который ассоциативно создавал какую-то невообразимую магму: имена существительные, словосочетания, лозунги, изречения – некую запутанную речь, черновой набросок, из которого, как ему казалось, он сможет в любое мгновение вырваться, но который угнетал его, образовывал дразнящий вихрь нити, двадцать раз порванной, двадцать раз связанной, слова без связи, в которых ему всего не хватало: то произношения, то написания, то значения, однако поток этот ткался, непрерывный, плотный, светлый точный удар, интуиция, знание, воплощающееся внезапно в мигающем дрожании, в размытости, в которой оживал вдруг знак более точный, но он появлялся лишь на мгновение, чтобы тотчас же исчезнуть.
– How was it?[206] – пробормотал Аугустус Б.Клиффорд (наедине с собой он думал и говорил только по-английски). – It was. Was it? It was.[207] Решение (или прощение, или сочувствие), отмерившее для себя короткий промежуток времени, но ни одно слово, ни одна речь никогда не открыли бы знания более глобального.
Затем, не понимая, почему столь незначительный факт привлек его внимание, он вдруг вспомнил, что не кормил Иону, своего карпа, – упущение, конечно, тривиальное, но осознание этого, придя внезапно, словно пронзило его. Бормоча какую-то тарабарщину, он оделся.
Дом спал. Аугустус Б.Клиффорд подошел к сундуку, набрал зерна, любимого лакомства карпа. Он уже собирался выходить, когда внезапно увидел в углу гостиной на пианино темный лист картона, покрытый каолином и зачерненный тушью, на котором, по словам Саворньяна, Вуаль попросил искуснейшего мастера написать белым японскую танка. Увиденное показалось ему восхитительным. Он подошел к пианино ближе, взял в руку прямоугольный лист, провел пальцем по вкрадчивому следу тончайшего японского иероглифа.
Внезапно он испустил ужасный, нечеловеческий крик:
– Ай! Ай! Заир![208] Тут, тут – Заир!
Его рука метнулась в воздухе. Он упал замертво.
Все в доме подскочили, забегали, опрокидывая все на своем пути, теряя самообладание, бледнея, горячась, наполняясь одновременно и яростью, и страхом, в порыве своем цепенея. Сначала прибежал Амори, следом за ним – Ольга, Саворньян, Скво.
Аугустус лежал на большом восьмиугольном китайском ковре. Лицо его было искажено ужасной гримасой. В последнем броске он отхватил рукой добрую четверть картонного листа. Повсюду было разбросано зерно.
– А почему здесь зерно! – удивился Амори.
– Он кормил им Иону, карпа, – пояснила Ольга, которая сразу же все поняла.
– Да, – добавила Скво, – он не кормил Иону вот, уже три дня. Наверняка он спохватился, что позабыл о своей обязанности.
– Вероятно, – продолжала Ольга, – когда он набирал зерно – любимый корм карпа, – с ним случился приступ, сколь внезапный, столь же и убийственный, травма, шок, инфаркт – кто знает?
– Да, но связан ли этот приступ с танка на картоне, который он смял рукой в последнем порыве? – высказал свои сомнения Саворньян.
– Он испустил тогда душераздирающий крик, – вставил в свою очередь Амори, – но что он выкрикнул? Я не разобрал.
– А я слышала: «Траир, траир»![209] – сказала Ольга.
– А я – не то «Памир», не то «Салир»,[210] – сказал Саворньян.
– Нет, он выкрикнул: «Заир, тут, тут – Заир!», – сказала Скво.
– Заир! – воскликнули все разом. – What is it?
– It is a long long story,[211] – прошептала Скво. В ее голосе чувствовалось изнеможение.
– Но мы хотим знать, – обратились к ней все с мольбой.
– Хорошо, я расскажу все, – не стала упрямиться Скво, – но прежде попробуем переговорить по телефону с Алоизиусом Сванном и Оттавио Оттавиани. Три дня назад Сванн прислал Аугустусу телеграмму следующего содержания: «Ситуация под контролем. Все плохо. Все наши подозрения связаны с Азенкуром. Будьте бдительны. Мы хотим знать: закончилось ли ваше расследование? Чем раньше мы будем введены в курс дела, тем раньше сможем действовать». Алоизиус Сванн знаком с Клиффордом уже десять лет, – продолжила Скво. – Он знал, что существует Заир. Он, пожалуй, сможет предложить нам свою бесценную помощь, ибо очень давно следит за всеми этими событиями.
Амори связался с полицией. Там ему сказали, что Алоизиус Сванн на службе не появлялся, и передали трубку Оттавиани.
– Алло, алло, – раздался его голос, – Оттавио Оттавиани вас слушает.
– Алло, алло, говорит Амори Консон.
– Амори? Как дела?
– Неважно.
– Что случилось?
– Случилось то, что Аугустус Б.Клиффорд только что приказал долго жить!
– Crocus and Plum-Pudding![212] – взвыл шпик. – Аугустус умер!
– Еще как умер, – подтвердил Амори.
– Убийство?
– Нет, мы считаем, что это, скорее всего, инфаркт.
– Черт! – снова выругался Оттавиани. – Мы немедленно едем к вам.
Он положил трубку. Амори сделал то же.
– Он едет к нам, – сказал он Ольге, не прислушивавшейся к разговору.
Тело Аугустуса Б.Клиффорда перенесли в соседнюю комнату, положили на низкую кровать и накрыли простыней.
Скво предложила всем собраться вокруг круглого индейского ковра, затем вооружилась множеством! диковинных вещей.
Ольга тихим голосом, почти шепотом, предупредила:
– Скво никогда не начинает свои рассказы, пока не смягчит божественный гнев мольбой о прощении, которую Великий Маниту не услышит, если мольба эта не будет сопровождаться строго выполненным обрядом, его устный канон сформулировал и кодифицировал Великий Сачмо[213] при основании Клана двадцать восемь раз по двадцать восемь лет назад, и он, передаваясь от отца к сыну, дошел до наших дней.
На труднопонятном жаргоне Скво возвестила устный канон Великого Сачмо, сообщая одно за другим необходимые предписания, подкрепляя свою речь действом, которое исполняла с особенной тщательностью, – гости лицезрели его с неослабевающим интересом:
– О Великий Сачмо, вот уже двадцать восемь раз по двадцать восемь лет, как ты обучил нас тонкому искусству смягчать ужасный гнев Великого Маниту. Сегодня я действую, как надлежит, подобно тебе. Прежде всего ты входишь в темный вигвам. Берешь свой мешок, открываешь его, достаешь черный томагавк. Затем ты кладешь на круглый ковер шесть белых стебельков алжирского ковыля, некогда зачерненных японским карандашом, три горшка, из которых достаешь табак, конец трута, длинную трубку. Затем, открыв свой колчан, лежащий на угловом луче ковра, ты точишь одну за другой разящие стрелы с заостренными зазубринами. Позже ты сменяешь городские брюки на деревенские штаны, затем совершаешь три омовения. Наконец ты готов – склонившись над ковром, воцаряя покой в душе своей, – обратиться к Великому Маниту со смягчающей его гнев речью: «О Великий Маниту, ты не видишь здесь ничего, но ты знаешь все. Нам известна сила твоей власти: она идет от совы к броненосцу, от гавиала[214] к урубу,[215] от сокола к ондатре, от лани к вапити,[216] от шакала к меченосцу, от бизона к яку, от черной птицы-трубача в его тяжком полете к зорилле,[217] чье мясо не имеет никакого вкуса. Сегодня мы тронемся в путь, ибо прежде нас тронулись миллионы, приступим к построению в плоти нашей, в сердцах наших основоположного возгласа, из которого родятся наши племена. Великий Маниту, ветхий Кустарь, будь бдителен сегодня и всегда!
12
Глава, из которой становится известно, что украшения в пупке достаточно для признания незаконнорожденного ребенка
Скво упала плашмя, лбом касаясь пола, вытянув руки, затем, живо подскочив, трижды перекрутилась вокруг себя.
– Вот Скво и закончила свое заклинание, – сказала Ольга. – Великий Маниту улыбнулся ей. Сейчас мы узнаем, что же это такое – Заир.
– В Индии, в городе Масулипатам Заиром был ягуар; на Яве – факир-альбинос из госпиталя в Сура-карте, которого забросали камнями; в Ширазе – октант,[218] который Ибнадир Шах[219] бросил в глубокие воды; в застенках у Махди[220] – хранимый в отрепьях парии компас, которого коснулся Освальд Карл фон Слатин;[221] в Альгамбре – Абду Абдаллах;[222] в Гранаде, согласно Зотанбургу,[223] – жила в ониксе фронтона одного здания; в Тунисе, в казбе[224] города Хаммам-Лиф, – темное дно одного колодца; в Аргентине, в Байя Бланке, – уголок мелкой монеты, о который поранился, как гласит предание, сам Борджиа.
Чтобы знать все о Заире, нужно целиком погрузиться в огромнейший том, который Юлиус Барлах[225] опубликовал в Данциге в конце Kulturkampf[226] Отто фон Бисмарка, вместив в него массу ценной информации, касающейся Заира, использовав в том числе оригинальную рукопись доклада Артура Филипа Тэйлора.[227] Вера в Заир родилась в недрах ислама в конце австро-турецкого конфликта. На одном арабском наречии «Заир» означает «светлый», «положительный»; говорят также, что имеется двадцать шесть имен, предназначенных воспевать Аллаха, одно из них – Заир.
Сначала Заир имеет вид обычный, даже банальный: он может быть чудаковатым человеком или любым предметом – булыжником, монетой, шмелем, часовым механизмом. Но люди эти или же эти предметы всегда наделены безграничной властью: кто увидел однажды Заир, никогда уже не сможет его забыть и его конец будет страшен.
Прежде всех о Заире заговорил один факир из Исфахана.[228] Он поведал, что однажды нашел в Ширазе в фундуке, медный октант, «устроенный так, что он очаровывал всякого, кто его увидел, навсегда». Артур Филип Тэйлор в своем длинном докладе, который он сделал в Бхуи, в предместье Хайдарабада, привел довольно удивительную фразу: «Увидеть ягуара» – произнося ее в разговоре о каком-либо человеке, люди имели в виду, что этот человек либо сумасшедший, либо святой. Тэйлору пояснили, что они таким образом намекали на галлюцинирующего ягуара, который бил лапой каждого, кто его увидел, ибо он продолжал нападать на этого человека до самой его кончины. Ему было также сказано, что всегда существует хотя бы один Заир; в далеком темном прошлом существовал талисман, который называли Йауком, затем Ясновидец Иррауади, носивший чалму, украшенную нечистыми драгоценными камнями, или волк, сделанный из тонкой золотой ленты. Он сказал также: никто никогда не войдет в глубь Аллаха.
В Азенкуре Заиром был опаловый шатон,[229] яйцевидный, не больше лотоса, на который были нанесены три клейма: вверху виднелась трехпалая рука Астарота; в середине – горизонтальная восьмерка, наверняка обозначающая Бесконечность; внизу – не совсем завершенный круг, заканчивающийся чертой, скорее прямой.
Появился Заир при одном волнующем обстоятельстве. Вечером двадцать восьмого апреля в дверь позвонил человек. Я пошла открывать. Это был приземистый губастый, чуточку похожий на проходимца мужчина. На нем был белый рабочий халат, который наверняка и составлял все его богатство.
– Я прошел долгий путь, – начал он, – я голоден и хочу пить.
– Убирайся прочь, бродяга! – прикрикнула я.
Он смерил меня с головы до ног долгим взглядом. Я собралась уже было схватить палку, когда он внезапно сказал:
– Нет. У меня есть одна штучка для Клиффорда.
– Покажи!
– Нет, – упорствовал он, – она для него, не для тебя.
– Ну, ладно, – сдалась я, – жди меня, а там посмотрим.
Я прошла в жилую комнату, где Аугустус заканчивал ужин, ел на десерт фрукты.
– Там один тип хочет вас видеть, – сказала я ему.
– Он назвал свое имя?
– Нет, не пожелал. Но он просил передать, что у него есть какая-то вещь для вас.
– Он похож на жулика?
– Нет, скорее, на бродягу.
– Он знает мое имя?
– Да.
– Хорошо, тогда впусти его.
Человек появился. Он уставился на Аугустуса с видом, скорее удивленным, нежели непочтительным.
– Аугустус Б.Клиффорд?
– Да. Можно ли узнать твое имя?
– У меня нет имени, поскольку меня никогда не крестили. Но есть симпатичное прозвище, хотя и несколько необычное: Трифиодорус. Вам нравится?
– Трифиодорус так Трифиодорус, – ответил, растерявшись, Аугустус.
– Так вот, – продолжал Трифиодорус, – три дня назад в Аррасе ко мне подошел один кардинал. Вид у него был сокрушенный. «Ступай, не медля, – приказал он мне, – отыщи в Азенкуре Аугустуса Б.Клиффорда. Скажи ему, что у него есть сын, новорожденный, который кричит сейчас в гражданском госпитале».
– Сын! – завопил Аугустус, рухнув на задницу. – Но, именем Тевтата,[230] кто произвел его на свет?
– Увы, – вздохнул Трифиодорус, – матушка, рожая его, нашла свою смерть. Имя ее не известно. Но в ее сумке нашли нотариальное свидетельство, заверенное местным комиссариатом, которое подтверждает вашу родственную связь с младенцем, плодом скоротечной любви, соединившей однажды ночью, восемь месяцев назад, в Сент-Ажиле, Аугустуса Б.Клиффорда с почившей роженицей.
– Что?! – задыхаясь, простонал Аугустус– Да во всем этом бреде нет ни капли смысла!
– Тсс, – унял его пыл Трифиодорус, внезапно смутившись, – вот предписание, в котором вам отдано распоряжение, ipso facto, заботиться о мальчике.
– Незаконнорожденном?! – Аугустус был потрясен.
– Но тем не менее англичанине, – только и добавил Трифиодорус.
Сначала Аугустус хотел повидаться со своим адвокатом. Однако Трифиодорус настоял на своем, так что в конце концов Клиффорд отбыл в Аррас – не поверив, так покорившись. Он отправился в гражданский госпиталь, где ему передали младенца, одетого в белую распашонку из самого тонкого линона, которая была ему велика. Он уложил сына в автомобиль и уже ночью был в Азенкуре. Тогда он, конечно же, не мог предположить, что спустя двадцать лет он проделает почти тот же маршрут только не с младенцем в распашонке, а с мертвецом в белой простыне.
Он позвонил. Я подбежала к двери, открыла. Он нес ребенка, прижав рукой к груди. Вид у него был разъяренный. Лицо искажено злой гримасой.
– I will kill him,[231] I will kill him, – орал он, и рев его был похож на вой.
У меня заледенела кровь.
– Иди за мной, – приказал он.
У него был нервный тик.
Аугустус прошел в гостиную, где стоял большой бильярдный стол; он бросил на него ребенка – тот зашелся в плаче, – снял с него распашонку, затем схватил топор и занес над ним орудие смерти. Лучше бы мне этого не видеть! Он собирался уже совершить свое нечеловеческое злодеяние, как вдруг, оцепенев, остановился.
– О! – воскликнул Клиффорд.
Он совсем потерял человеческий облик.
Приблизясь, я увидела, что в пупок младенца было вставлено яйцеобразное украшение, не большее чем шатон, с тремя знаками. Впечатление было такое, что его кто-то спрятал в раковине пупка.
Оставаясь глухим к громким рыданиям мальчонки, Аугустус не без труда вырвал украшение из углубления пупка и долго молча вглядывался в него. Потом тяжело вздохнул и зарыдал, в груди у него что-то глухо булькнуло, ему как будто не хватало воздуха.
– Пусть будет так, – произнес он в конце концов, – я приведу к вырождению имя мое; поскольку нужно, чтобы он был моим сыном, пусть он им будет. И пусть он зовется Дуглас Хэйг, таким образом каждым мгновением своей жизни он будет увековечивать имя отважного Полководца, под началом которого я сражался при Дуомоне. Я буду постоянно о нем заботиться. Мы не станем говорить ему о том, что он незаконнорожденный, что он подкидыш. Он будет любить меня, как сын.
Так Аугустус Б.Клиффорд нашел свой Заир на сыне своем. Он стал для своего сынишки настоящим отцом, великолепным другом, провидцем. Что же касается Заира, то он вставил его в золотое кольцо и носил, не снимая.
Дуглас Хэйг рос. На шесть лет в доме воцарились мир, радость и удовольствия.
Искристость сверкающего осеннего пурпура в листве парка придавала теплой лазури неба, дрожащей из-за продувающего все норд-веста, красноватый цвет с золотистым отливом…
13
Глава, из которой можно узнать о той небывалой власти, которой, очевидно, обладает хорал композитора Дворжака над бильярдом
Чтобы понять тот рок, который вовлек всех нас в свою страшную игру, следует вернуться на много лет назад.
В восемнадцать лет Аугустус, по причине, которую он от нас всегда скрывал, познал затруднения морального свойства, это сильно встревожило его двоюродного брата Амирала и он, боясь, что юноша покончит с собой в минуты одиночества, забытья или озарения, принудил его пройти годичную стажировку на его трехмачтовом судне «Летучий Голландец», где он и обучался неблагодарному ремеслу юнги.
Выходя из столь глубокого кризиса, от которого даже кругосветное путешествие его полностью не излечило, Аугустус подпал под влияние одного шарлатана, Отона Липпманна, прослывшего йогом, наделенным настолько сильным даром, что мог любого человека превратить в фанатика своего загадочного феномена.
Тотчас же убедив Аугустуса в том, что он владеет тайным знанием, которое ведет людей к Нирване, к великому Белому забытью, ловкач Отон Липпманн собрался, не медля, воздействовать на воображение наивного, скромного юноши, которого он сначала подтолкнул к отречению, а затем навязал свою веру, вернее отступническую мешанину разных вер; в ней одновременно поклонялись Вишну, Брахме, Будде, Адонаю;[232] посвящение в эту ересь требовало, однако, усвоить как минимум десять компиляций – ворох дребедени, которую Отон вычудил, отталкиваясь от «Васавадатты»,[233] «Кальпасутры»,[234] «Гита-Говенды»,[235] Чжуан-Цзы,[236] «Зохара»;[237] кроме того, он цитировал, к месту и не к месту, святого Марка,[238] святого Юстина,[239] писателя Мишеля Монтана, Ария,[240] Готтшалька,[241] Валдо,[242] Уильяма Бута,[243] «Хаггаду»,[244] «Шульхан Азух»,[245] Сунну,[246] Гулама Ахмада,[247] пять «Упанишад»,[248] три «Пураны»,[249] «Дао дэ цзин»,[250] Ли Эра,[251] двадцать три песни великого Ли Бо,[252] «Шатапатхабрахману».[253]
В вере Отона особое место занимал Канон Дракона, вменявший в обязанность всем адептам бесчисленное множество молитв и ритуалов.
Так, например, практиковались три ежедневных очищения (на рассвете, в полдень, в полночь). Утреннее очищение проводилось совершенно оригинально. Ванну наполняли росой, собиравшейся ночью в двадцать пять баков, расставленных по всему парку; специальное устройство направляло ее затем к глубокому чану, представлявшему собой моноблок из antico rosato,[254] кристаллического кварца, настолько твердого, что его нужно было бы полировать до состояния необработанного алмаза.
Для того чтобы Аугустус не страдал от переизбытка капельного орошения, которое могло бы оказать дурное влияние на его конституцию, поступление росы регулировалось автоматической цепью, контролировавшей колебание потока путем воздействия на его равномерность посредством гидролебедки с сообщающимися ситами, колебание которых, в свою очередь, вызывало сжатие устройства, с помощью искусно проведенного канала и поршня с бегунами, сочленяющегося вокруг опоры с винтом и непрерывно управляющего индукцией клапана подачи-вывода, работающего на транзисторах.
Таким образом день за днем Аугустус, покидая кровать, тотчас же проходил процедуру очистительной ванны, причем объем потребляемой воды никогда не увеличивался и не уменьшался.
Но дабы эта процедура проводилась в полнейшем соответствии с необходимым порядком, Аугустус добавлял в наливающуюся в чан росу три компонента, которые Отон Липпманн поставлял ему по цене, мягко говоря, очень высокой:
Прежде всего белый крахмал, ибо, будучи слишком щелочной, роса могла вызвать закупорку каналов, из чего проистекала необходимость подслащивающего дополнителя; затем шесть зерен так называемого радиоактивного сапфира, которые Отон наделял сильной очистительной способностью (на самом деле это был эликсир против пародонтоза), продукт творчества одного стоматолога из Авиньона, скорее придурка, который предписал его к применению в одной больнице, но использование эликсира почти сразу же запретили, поскольку установили, что он содержит очень большое количество аконита;[255] тогда же стало известно, что Отон, обогатившийся совершенно мошенническим способом, который скомпрометировал администрацию графства, вынужден был, будучи приговоренным заочно к тюремному заключению, бежать в Тирану, где, примкнув к группе самого разного рода темных личностей, наладил процветающую контрабанду опиума; в довершение ко всему Аугустус добавлял в ванну двадцать пять (по четным дням) или двадцать шесть (по нечетным) каратов продукта, состав которого так и остался неузнанным, но продукт этот наверняка являлся в получаемом растворе основным. Было ли это какое-нибудь снотворное средство? Галлюциноген? Что-то гипнотизирующее? Но даже и эта, самая общая, характеристика продукта так и осталась неизвестной. Однако можно быть уверенным в том, что средство это оказывало на Аугустуса весьма определенное воздействие: когда ванна была должным образом подготовлена и он входил в нее, совершенно голым, чтобы осуществить процедуру утреннего очищения, то сначала его охватывала очень сильная дрожь. Аугустус повязывал лоб недоуздком, чтобы быть уверенным, что, по крайней мере, его нос всегда будет на поверхности, иначе он мог бы умереть, захлебнувшись водой; через какое-то время он расслаблялся, становился томным, засыпал.
Позже, выходя из ванны, он говорил о познанной им Нирване, о пережитом в обморочном состоянии восторге, о видении Великого Гуру, посещении Всемогущего, о введении в Настоящее Знание, божественном удовольствии Великого Всего, об очаровании Абсолютным, о Просветлении, об Озарении. Он был полностью окоченевший, полностью отупевший, но зато, утверждал он, ему выпало счастье влиться в Великое Забытье, купаться в Абсолютном, наслаждаться Бесконечным.
До вторжения в его жизнь Хэйга, то есть Заира, Аугустус практиковал утреннюю очищающую ванну, нисколько не слабея, действительно находя в ней немалое удовольствие.
Но когда он надел на палец Заир и привык к нему до такой степени, что стал наслаждаться всякий раз, как только смотрел на него, и стал говорить каждому, кто хотел его слушать, о том, что он предпочитает смерть покинутости, то очень скоро начал замечать: находясь в ванне с Заиром на пальце, он испытывал сильный зуд, острую боль, жгучую, пронизывающую, мучительную, которую, сколько он ни пытался, ему не удавалось перетерпеть; он так страдал от нее, что его начинало тошнить; более того, он совсем перестал переживать то обморочное состояние, которое составляло как-никак основной, жизненосный, абсолютный смысл его утренней очистительной ванны.
Аугустус изобрел тогда приспособление, которое, подобно недоуздку, предохраняло бы его нос от контакта с водой и позволяло бы ему помахивать пальцем, на который был надет Заир, так, чтобы он не испытывал слишком мучительные боли. Он сконструировал лебедку с барабанами, снабженную домкратом с шестеренками, устройство это контролировало положение муштабеля,[256] плавающего на краю ванны.
В течение шести лет изложенный компромиссный вариант применялся без сучка и задоринки. Все, казалось, было в полном порядке. Аугустус находил е своей очищающей ванне жизненосную поддержку, столь же обильную, сколь и постоянную.
Но однажды, когда Аугустус вылезал из чана, разомлевший, как всегда после ритуала, отупевший увалень, оцепеневший в своей утренней Нирване, он вдруг заметил, что у него на пальце нет Заира.
Он испустил нечеловеческий крик. На этом самом пальце, вокруг бледной яйцевидной стигмы,[257] обозначающей контур Заира, свертывался на суставе, подобно рубину, кровавый сгусток.
Он носился, словно сумасшедший, три дня и три ночи. Бегал повсюду, озверев, открывал все ящики, осматривал все углы, ощупывал все в доме, от стен до потолка, обыскивал все помещения, все склады, погреба, дворы, даже прочесывал граблями гравий на парковых аллеях и дорожках.
И вот тогда, через три дня после исчезновения Заира, произошло то роковое событие, которое подействовало на нас, подобно катастрофе: Азенкур посетил Отон Липпманн.
Он казался доведенным до полного изнеможения; костюм его превратился в лохмотья; он был весь в поту. И сразу же набросился на Аугустуса, стал оскорблять его, осыпая самой отборной площадной бранью, словом, буквально насел на него.
– Тупица, – бросал он ему в лицо, – хам, болван, олух, дырка в заднице, хрен собачий, остолоп, ноль никчемный!
Затем влепил ему затрещину – и вложил в нее все свои силы.
Аугустус, хотя и демонстрировал удивительное хладнокровие, был рассержен подобным с ним обхождением и ответил свингом правой. Липпманн свалился на ковер. Гроги.[258] Нокаут.
Шалун Дуглас Хэйг, которому было тогда шесть лет, присутствовал при этой стычке. Он посчитал до десяти, затем объявил отца победителем.
Но Отон Липпманн все еще лежал неподвижно. Тогда мы забеспокоились.
– Что это с ним? Что? – совсем тихо шептал помрачневший Аугустус.
А Дуглас Хэйг тем временем, не понимая, конечно, что дело приняло скверный оборот, резвился вокруг поверженного Отона. Он заливался таким звонким смехом, что разъяренный Аугустус решил, что это, пожалуй, слишком, и велел ему выйти.
Он так сильно закричал на мальчика, что Хэйг, который никогда еще не видел отца в таком гневе, пролепетал, краснея, извинения и выскользнул из комнаты, замочив штаны и рыдая во весь голос.
И вот тогда, в то время как Хэйг пошел искать утешение в любимом своем занятии, кормлении Ионы, карпа…
– Кстати, – оборвала служанку Ольга, – не будем забывать об Ионе. Его надо покормить…
– Тсс! Тсс! – зашикали на нее Амори и Саворньян. – Пусть Скво закончит свой восхитительный, волнующий рассказ!
– Thank you, – поблагодарила Скво.
Так вот, я сказала, что, в то время как Хэйг пошел кормить Иону, мы перенесли Отона Липпманна в соседнюю комнату и положили на кровать. Я принесла сердечное средство. Расстегнула его костюм. И тогда мы увидели – О, Гнусность в Гнусности! – то, от чего нас охватила паника, то, от чего у нас заледенела кровь, волосы на голове встали дыбом и кожа покрылась пупырышками, мы увидели, что Отон Липпманн был буквально залит кровью. Впечатление было такое, что его грудь раз двадцать атаковал огромный коршун, расцарапал ее вдоль и поперек, разорвав кожу и выклевав легкие. Мы видели, что ужасные твари – слепни, мухи, шмели, дождевые черви, вши, сфинксы – копошились, стервятники, в этой кровавой магме, клейкой, дымящейся, источающей вонь на двадцать шагов вокруг!
– Фи! – взвизгнула Ольга.
– Тьфу! – брезгливо подернул плечами Амори.
– Да, – продолжила Скво, – Отон Липпманн агонизировал целую неделю, впав в глубокую кому, из которой он иногда выходил, чтобы осыпать нас своими гнусными ругательствами, обвинить нас – поди узнай, почему, – в том, что мы хотели его смерти, проклясть нас на веки вечные. Чего мы только для него ни делали! Но самое большее, что нам удалось – это лишь облегчить его конец. Он умер, испуская жуткие проклятья, он выл, а на последнем издыхании крик его был настолько ужасен, что показался нам нечеловеческим.
Аугустус произнес молитву:
– Отон Липпманн, тот, кто был моим Гуру, иди в рай, где томится Гурия,[259] которую Аллах в своем сострадании дарит тебе. Пребывая в вере, отрекаемся от тебя навсегда. Я считал, что ты ниспослан мне свыше. Сегодня я отрекаюсь от тебя навеки. И, поскольку ты мертв, вера твоя отныне более не существует. Я вынимаю Полночь из сумы и высекаю трут.
Молитва была закончена, таким образом, загадочными словами, которые стали ясны для меня вечером, когда Аугустус, собрал шесть охапок хвороста, а затем предал тело огню. Тело горело всю ночь и весь следующий день, пока наконец сильный ветер не унес пепел в черную лазурь…
Никто из вас никогда не сможет почувствовать, сколь велика была та беда, которая обрушилась на нас. Весь в печали, погруженный в прострацию, неся свой крест, поднимаясь на свою Голгофу, сгибаясь под тяжким бременем принесшего нам столько слез горя, Аугустус Б.Клиффорд впал в глубокий коллапс.
Один только вид его причинял мне великие страдания. Он ходил целыми днями взад вперед, тяжело дыша, угрюмый, удрученный. И хотя Аугустус был, пожалуй, гурманом, можно даже сказать – обжорой, с тех пор он навсегда потерял аппетит. Едва притрагивался к еде. Однако я не переставала готовить ему – конечно, вкладывая в это всю свою любовь, – блюда, которые он обожал: филе из говядины со сладким луком, рыбу калкан в пряном соусе, огузки, кровяную колбасу с хреном, рагу из разных сортов, мяса с грибами. Но он, как правило, съедал один анчоус, кусочек сыра, чуточку мяса пиренейской серны, один абрикос или небольшой апельсин, выпивая на палец амонтильядо. Исхудал вконец. Я беспокоилась за него.
Иногда он уединялся в донжоне,[260] проводил там несколько дней, испуская время от времени ночью тревожные крики, затем появлялся вновь – не в себе, диковатый, потный. Его каштановые волосы за тот год совсем побелели, и выглядел он, как дряхлый старик.
Конечно же, в такой обстановке Дуглас Хэйг, мальчик болезненный, боязливый, не мог должным образом подготовиться к той жестокой борьбе, которую должен сегодня уметь вести каждый человек. Поняв это, Аугустус, мягко говоря, коря себя, за беспечность и нерадивость, а если уже говорить откровенно, то за предательство по отношению к сыну, вознамерился сделать все, что было в его силах, дабы мальчик не страдал от того злодеяния, которого не совершал, не нес на себе бремя Проклятья, которого не заслужил.
– Я все вывалял в грязи, – признался мне однажды вечером Аугустус, – все предал, все изгадил… Я буду гнить, покрываться плесенью, тухнуть в своей ничтожной пустоте, но пусть хотя бы мой сын, ребенок, которого глупый случай некогда занес ко мне, будет чувствовать мою постоянную любовь к нему, я должен хотя бы дать ему приличное воспитание и образование. Начиная с сегодняшнего дня, я приступаю к его обучению. Более того, – добавил он, – я усматриваю в этом и возможность своего спасения, трудного, но все-таки достижимого.
Тогда-то Аугустус и занялся по-настоящему мальчиком, знания которого к тому времени были практически нулевыми. С самого начала стало понятно, что учеба в муниципальной школе Азенкура не принесла никаких плодов: Хэйг писал с ошибками, забывал каждое третье слово, он очень плохо соображал, знаком был лишь с вычитанием, но совершенно не владел сложением, умел делить, но не мог умножать. Он не знал закон Авогадро[261] или, вернее, путал его с так называемым постулатом Араго, хотя они не имели ничего общего. Ему вроде бы было известно, что Людовика X называли Упорный, но почему, он не знал. Что же касается латыни, то он, хотя и имел в своем распоряжении толстенный том Гаффио,[262] не пошел в ней дальше нескольких изречений: «Animula vagula blandula»,[263] «Aquila non capit muscas»,[264] «Sic transit gloria mundi»,[265] «O fortunatos nimium sua si bona norint agricolas».[266]
Аугустусу предстояло проделать поистине колоссальную работу для того, чтобы голова Хэйга наполнилась более глубокими знаниями. Надо признать, он отдался этой работе с великим усердием, но, будучи то надзирателем, то преподавателем, утомлял невежественного мальчика труднопонятными, туманными речами в тех случаях, когда можно было бы все пояснить гораздо проще. Хэйг проглатывал все премудрости, подчиняясь, улыбаясь, не злясь, но и месяца не прошло, как оказалось, что мальчик, если и вызубрил их, то ничего не понял: он был совершенно неспособен к математике, филологии, латыни; имел некоторые, впрочем, совсем небольшие, познания в английском языке, но не более того; что же касается французского, то в его изучение он углублялся более основательно – уразумел в общих чертах значение более или менее несообразных согласований; отличал, скажем, в пяти случаях из восьми фрикативный звук от звука губного, имя существительное от местоимения, номинатив от аккузатива,[267] действительную форму глагола от страдательной, изъявительное наклонение от сослагательного, прошлое время от будущего и т. д.
Поняв, что он старается напрасно, в то время как ему казалось, что он способствует формированию будущего великого ученого, Аугустус приходил в раздражение от того, что его возможности влиять на склонности мальчика практически равны нулю. Затем, изменив свой метод, он заметил, удивившись, а вскоре и обрадовавшись, что Хэйг находит для себя настоящее удовольствие в занятиях музыкой. Однажды он застал его дующим в трубу, из которой мальчик пытался извлечь звуки, пока еще совершенно нестройные. Он интуитивно импровизировал. Особенный интерес он проявлял к пению. Достаточно было ему наиграть или напеть один-два раза какой-нибудь мотив, и он мгновенно запоминал его навсегда.
Аугустус, прошедший некогда курс обучения у самого Итурби,[268] поставил в гостиной старенькое пианино («Граф» со звучанием несколько носовым, но издающим полноценные аккорды; инструмент этот был сконструирован самим Брамсом, который сочинил за ним экспромт, как говорят, опус № 28). В гостиной этой, кстати, находился тот самый бильярд, на котором Аугустус, как вам уже известно, едва не зарубил топором младенца Хэйга.
Там – день за днем: до, ре, ми, фа, соль, с утра до вечера: соль, фа, ми, ре, до – он приобщал сына к божественному искусству пения, вдохновляя его и аккомпанируя ему. Совершенно забросив латынь и английский, Дуглас Хэйг вскоре целиком отдался своему увлечению, находя в Моцарте, Бахе, Шумане или Франке[269] многогранное удовлетворение. В самом деле, будучи более Марсием, нежели Аполлоном,[270] он пел слишком громко, когда нужно было петь тихо, и наоборот, плохо модулировал, выдавал один фальшивый звук за другим, словом, пел дурно, однако, несмотря ни на что, всегда находил в пении удовольствие – и удовольствие это все возрастало и возрастало.
Вы уже знаете, что в восемнадцать лет Дуглас Хэйг не без труда получил степень бакалавра. Затем он принял решение. Цель уже была обозначена. Однажды он завел разговор с Аугустусом:
– Я буду петь в Ла Скала. И стану признанным баритоном.
– От Арраса до Милана далеко, – улыбнулся Аугустус.
– Labor omnia vincit improbus,[271] – заявил Хэйг, демонстрируя, что настроен он решительно.
– Ты это уже говорил, – высокопарно возразил Аугустус.
– Ну, отец! – не выдержал Хэйг, совершенно лишенный чувства юмора.
– Давай, сынок, – усмирял его Аугустус– Я аплодирую твоему упорству. Однако необходимо изрядно потрудиться, выйти победителем из бесчисленного множества испытаний! К чему бы это привело, если бы каждый в мгновение ока попадал в Ла Скала?
– Я буду двигаться постепенно, – твердо сказал Хэйг.
– Тогда тебя ждет тяжкий труд, – заключил Аугустус.
Хэйг еще более самозабвенно отдался работе, бесконечно упражнялся в вокале – с рассвета до наступления темноты.
Одним апрельским вечером на пороге мая Хэйг, доходивший в работе над ораторией Гайдна до полуобморочного состояния, облокотился, доведенный до изнеможения, на край бильярдного стола, скучавшего в углу гостиной, – на нем уже больше никто не играл.
Аугустус в выпавшую свободную минуту импровизировал, исполняя хорал Антонина Дворжака.
Внезапно Хэйг заметил, что добрая четверть бильярдного сукна кажется заплесневелой, поскольку весь край усеян странными белыми точками, двурогим щебнем, аномальными, относительно крупными, относительно круглыми, относительно равномерно разбросанными хлопьями, кое-где украшенными инкрустацией; бросалось в глаза, что рассыпаны они обдуманно, подчинены какой-то определенной светлой цели: это был не случайный, а наполненный содержанием знак; это была если не рукопись, то, по меньшей мере, кипу (узелковое письмо инков).
Более того, Хэйгу показалось, что, по мере того как Аугустус играл на пианино, надпись увеличивалась, микрон за микроном, ангстрем за ангстремом. Он посчитал: всего было двадцать пять точек. Аугустус играл до вечера; Хэйг ни на мгновение не изменил своей позы, пристально глядя на видение, проявившееся на бильярдном сукне, и он заметил, что когда Аугустус, находясь на вершине вдохновения, взял аккорд, скорее атональный, белых точек стало двадцать шесть: появилось свежее пятнышко – сначала аура, затем намек на него, наконец белеющее зернышко.
– Отец! – закричал Хэйг.
– Что случилось, сын? – спросил Аугустус.
– Взгляни сюда! Что-то Белое высыпало на краю бильярда!
– Белое на Катафалке?[272]
Аугустус вскочил.
– Нет, на бильярде, на краю бильярда!
Аугустус подошел к бильярдному столу. И тотчас же нахмурился.
– Again! Again! Again! – трижды глухо прошептал он.
– Что такое? – встревожился Хэйг, увидев, что отец побледнел.
– Бежим, сынок, бежим отсюда немедленно!
14
Глава, в которой мы увидим, как карп брезгует поистине царской халвой
Аугустус отвел своего приемного сына в сторону. Я присутствовала при их разговоре.
– Я никогда не упоминал о тех неясных и запутанных обстоятельствах, при которых ты появился на свет. Если бы я мог, то сказал бы, что над нами тяготеет Проклятье. Но мой Закон покарает за разглашение. Никто никогда не исказит непрочное острое слово, минимальное неизвестное, табуированное абсолютное, которое ab ovo, затемняет все наши цели, подвергает проклятью все наши желания, вредит нашим действиям. Каждый знает, что безымянное зло действует на нас безотчетно, каждый знает, что, к большому несчастью, преградой вставая на нашем пути, бесконечно приговаривая нас к разглагольствованию, к бессвязному бормотанию, к упущениям, к неясности ложного знания, из которого проистекают, омрачаясь, наши крики, наши голоса, наши рыдания, наши вздохи, наши желания, перед нами всегда стоит непреодолимая стена. Чем дальше мы заходим в приблизительность опущенного слова, тем больше мы хотим ухватиться руками за бесконтурную незапятнанность, тем больше обрушивается на нас несущий зло гнев. Ты должен знать, Хэйг, сыночек, что, начиная с сегодняшнего дня, как в том таком далеком прошлом, смерть направляется сюда, бродит вокруг нас. Порой мне казалось, – продолжал Аугустус, – что, возможно, тебе не доведется страдать от той нечеловеческой судьбы, которая досталась некогда мне. Но нам ничто не подвластно. Ты совершишь очевидную ошибку, и, следовательно, я также, если, играя ва-банк, ты останешься здесь. Ты должен отбыть отсюда еще до полуночи!
Но Хэйг тотчас же отверг предложение Аугустуса, заявив ему, что тот просто-напросто обманывает его, желая изгнать своего сына из дому!
– Что? – закричал Хэйг (он очень любопытно смотрелся в этом необычном для него состоянии). – Что?! Ты же мой отец! Ты хочешь моей смерти, вот оно что, я все понял! А я такой наивный, так верил в тебя, так тебя любил! Сегодня ты вынашиваешь план в равной степени идиотский и жестокий. Но он шит белыми нитками! Будь хотя бы искренним! Если тебе доставит такое удовольствие мой уход, то прокляни меня, но не облекай свою месть в такие смешные одеяния!
– Сын! – взвыл Аугустус, сгибаясь под тяжестью оскорбляющих его слов. Но голос его надломился, он зарыдал.
Позже он поведал мне, что едва не рассказал тогда Хэйгу о том, что он незаконнорожденный, едва не открыл ему всю правду о Заире, об Отоне Липпманне, о бродяге в белом рабочем халате по имени Трифио-дорус, об очистительной ванне и так далее, и тому подобное.
Наступила долгая пауза. Дуглас Хэйг, ни слова не говоря, смотрел в упор на Аугустуса. Затем внезапно развернулся и бросился прочь.
Аугустус оставался неподвижен.
Я спросила, не следует ли мне догнать Хэйга.
– Нет, – сказал он, – пусть бежит. Если он должен уйти, пусть уходит. Иначе будет еще хуже: мы умрем все!
До самого утра было слышно, как Хэйг бродит по дому. Затем, лишь только начало светать, мы увидели, что он вышел во двор. На нем были свитер с поднятым воротником, теплая куртка. В руке он держал сумку.
Он дошел до пруда, нагнулся, просвистел трижды:
Наверное, это был сигнал, потому что вскоре появился Иона. Хэйг произнес перед карпом долгую речь, бросая ему время от времени кусочки пудинга; он раскатывал их в руке, делая шарики.
Затем, не попрощавшись ни со мной, ни со своим отцом, ни с домом, где вырос, он, закрыв за собой ворота, исчез…
Мы не знали, куда он ушел. Аугустус томился. Иона, когда мы подходили к пруду и звали его, больше не появлялся. Жизнь уходила.
Наконец через полгода почтальон принес нам письмо. Аугустус, распечатав конверт, посмотрел прежде, от кого оно, затем очень быстро прочитал.
– Не знаешь ли ты случайно, – спросил он, поднимая глаза от письма, – человека по имени Антон Вуаль?
– Ей-Богу, не знаю.
– Я тоже. Но впечатление такое, что он знает о нас все. Вот, прочитай!
Милорд,
В течение апреля я несколько раз виделся с Дугласом Хэйгом Клиффордом. Узнав совершенно случайно, что он бежал из Азенкура, не сообщив Вам о своих намерениях, я счел нужным рассказать Вам отом, что мне известно; надеюсь, это уменьшит Ваше беспокойство и Вашу печаль.
Прибыв в Париж, Дуглас Хэйг повел себя там, пожалуй, скверно. Ходил по сомнительным кабакам, связался с тремя типами с самого дна, бесчестными негодяями, молодчиками без стыда и совести, совершившими до того самые черные злодеяния. Поддавшись очарованию зла, Дуглас Хэйг участвовал в мелких кражах, всю прибыль от которых делило между собой гнусное трио. Это едва не закончилось для него плачевно: главаря банды, ловкого жулика, поймав с поличным, отправили гнить на берега Марони.[273]
Являясь если не трусом, то наверняка человеком осторожным, Дуглас Хэйг понял, что плохо кончит. Такая перспектива пришлась ему не по нраву. Он быстро покинул воровскую «малину», снял на бульваре Сен-Мишель комнату из тех, что обычно снимают студенты, скромную, но вполне приличную. Я не знаю, где он в ту пору добывал себе деньги на жизнь, а они у него тогда водились, и не такие уж малые: у него не было машины, но он оставлял значительные суммы у торговцев одеждой – его белую тенниску с портретом Сталина во всю грудь стали узнавать и с почтением привечать в разных местах: от набережной Конти до Бальзара, от моста Сюлли до бара «Пон-Руаяль». Более того, он приобрел вкус к, так сказать, современной интеллектуальной моде: ему доставляли удовольствие труды Балибара[274] и Мак-Люэна,[275] tutti quanti.[276] Он читал «Сообщения», «Атолл», «Три континента». Ходил в студию «Логос», боготворил Годара,[277] хвалил Курно.[278]
Это длилось не более месяца. Оказавшись без гроша, он понял, что дела у него не очень хороши, что он сорит деньгами, поступает дурно, что жизнь ведет распутную, что он оказался во власти своих разнузданных инстинктов.
Тогда он открыл для себя один ученый труд, небольшой, однако несущий в себе огромный заряд энергии, труд, призывающий к социальному изменению общества, к уничтожению капитала, к борьбе против Прибыли. И стал активистом ультрапроалбанской партии, члены которой, вдохновляясь одной речью Энвера Ходжи,[279] произнесенной на берегу озера Шкодера (некогда Скутари) года три назад, ожесточенно критиковали и самолюбивых деятелей Французской Коммунистической партии, и так называемых маоистов. Но партия эта была распущена уже через неделю.
Дуглас Хэйг предался печали. Затем он вспомнил, что однажды его отец – Вы – сказал ему:
«Адажио Альбинони стало для нас такой поддержкой, когда умер кузен Тастон».
И он вдруг понял, что, оригинальничая, он метался лишь для того, чтобы позабыть о главном своем предназначении: о пении!
Он начал много трудиться. Через месяц поступил в Schola Cantorum. Там он всех потряс.
Сейчас он живет в скромной студии, в доме номер шесть на площади Майора Нободи.[280]
Таким образом, сбившись на какое-то время с верного пути, Дуглас Хэйг в конце концов вернулся, еще более окрепнув, к своему призванию.
Вот что я имею честь сообщить Вам для того, чтобы Ваша жизнь после его ухода, стала более спокойной.
Искренне Ваш, Антон Вуаль.
Аугустус сразу же выслал Хэйгу крупный денежный перевод и длинное письмо – настоящий роман, в котором оправдывал себя, как мог. Однако перевод до адресата так и не дошел. Желая узнать, почему, он отправился на почту. Там ему сказали, что в доме номер шесть на площади Майора Нободи в Париже Хэйг Клиффорд не проживает. Охваченный тревогой, Аугустус обратился в Schola Cantorum, интересуясь, есть ли среди ее слушателей молодой человек по имени Дуглас Хэйг Клиффорд. Там ему повезло больше: ему сообщили, что такой слушатель есть, однако добавили, что, поскольку он победил в конкурсе по унисону, его направили в Julliard School of Music[281] в Нью-Йорке, чтобы он изучал там композицию.
Прошел год. Казалось, все успокоилось. Мы прочитали в одной газете, что Хэйг Клиффорд покорил взыскательную публику Кариньяно. Газеты писали о «баритоне редкой красоты, которому предназначено исполнять ведущие партии», о «будущем Тито Гобби[282] и Джигли».[283]
Однажды, когда я, закупив продукты, возвращалась домой из городка – со мной был мальчишка, которого я наняла за двадцать су: у меня были три большие корзины, – я увидела, что вокруг бассейна с беспечным видом прогуливается мужчина, и сразу же пришла в замешательство: мне показалось, что это Дуглас Хэйг. Позже вы поймете, что это был Антон Вуаль.
Ему можно было дать самое большее двадцать лет. Высокий, прямее столба, тоньше проволоки, на нем был резиновый плащ-реглан, в руке он держал стек, на голове – панама. С виду это был совершенно очаровательный молодой человек, но что-то неотчетливое, трудноуловимое настроило меня против него; необычайная болезненная бледность, томная, покачивающаяся походка, белесые брови, голубые глаза, настолько светлые, что мне показалось – передо мной альбинос; весь его робкий вид встревожил меня: впечатление было такое, что он безотчетно несет на себе тяжелый крест.
Я подошла и обратилась к нему, согласно обычаю, принятому в моем племени:
– Приветствую тебя, бледнолицый красавец! Мир твоему вигваму, зароем в землю наши боевые томагавки, выкурим трубку мира!
– Ахьюху! – сказал он, коснувшись своего лба пальцем, а затем склонил предо мной голову, подобно настоящему могиканину, показывая этим, что он прекрасно знает наши обычаи. – Пусть будет зажарен в твоем котле большой карибу![284]
Я привела неизвестного домой, предложила ему сесть, позвонила в колокольчик. Вскоре появился Аугустус.
– Что вам угодно? – спросил он.
– Антон Вуаль, – представился мужчина, поклонившись. – Год тому назад…
– Я помню, – оборвал его угрюмо Аугустус, – год назад вы написали нам о том, что довелось пройти Хэйгу, прежде чем он вновь посвятил себя своему призванию. Теперь, я думаю, он навсегда сошел с кривой дорожки. Вот уже трижды ему аплодировал Турин. Мы непременно отблагодарили бы вас, если бы знали, где вы живете. Но на конверте не было обратного адреса.
– Увы, – вздохнул Антон Вуаль, – я забыл его написать, простите. Но, – продолжил он, – оказавшись сегодня волею случая неподалеку от Азенкура, я счел нужным повидаться с вами, чтобы засвидетельствовать свое почтение.
– Клянусь Адонаем, вот это мне нравится! – воскликнул Аугустус– Но давай перейдем на «ты», это наверняка облегчит нашу беседу.
– Ты прав, – кивнул Антон Вуаль.
– Ты не откажешься разделить со мной скромный ужин?
– Нет, не откажусь.
Он поставил свой стек, снял панаму и плащ.
– Пойдем в курительную, – предложил Аугустус.
Они вышли из темной гостиной, прошли по длинному коридору, поднялись наверх. Аугустус предложил Вуалю располагаться в глубоком кресле из полированного красного дерева, обтянутом черной кожей, затем протянул ему гаванскую сигару.
Вуаль закурил, всем своим видом выказывая удовольствие.
– Шотландское виски? Английское? Бурбон? – любезно предложил Аугустус, указывая рукой на ряд бутылок, которым позавидовал бы любой бармен.
– М-м-м, – нерешительно промычал Вуаль.
– Джин? Коктейль? «Кровавая Мэри»? Что-нибудь безалкогольное?
Выпили. Затем Антон Вуаль заговорил:
– Ты, верно, хотел бы сначала узнать, что за обстоятельства свели меня с Хэйгом. Вот как это произошло: однажды я отправился полюбоваться аквариумом в зоологическом саду. Там неподалеку от пруда с карпами томился одетый в черное юноша печального вида, похожий на меня, словно брат. Он вынул из сумки что-то вроде халвы или рахат-лукума, покрошил это в руке и бросил рыбам – несмотря на все предупреждения надзирателя, который трижды подходил к нему и, повизгивая, показывал пальцем, пожелтевшим от злоупотребления низкосортным табаком, на надпись на щитке, запрещающую бросать карпам какой бы то ни было корм.
Впечатление было такое, что сейчас со дна пруда поднимется какой-нибудь карп, выпрыгнет из воды и, подобно дельфину, поймает на лету угощение. Но ни один карп, конечно же, не появился, и было видно, что это удручало юношу.
Я подошел к нему, сказав, что он, наверное, испытывает к карпам трогательную любовь, которая, однако же, остается безответной. Он признался мне, что когда-то у него было много приятелей, но ни одного настоящего друга, за исключением Ионы, карпа, который всплывал на поверхность воды всякий раз, когда он насвистывал ему особый сигнал. Не было такого дня, чтобы он не накормил Иону. Когда ему было грустно, он изливал душу Ионе и это всегда ему помогало.
Сегодня, продолжил он, оцепеневший бедняга, простак, измученный печалью, затосковав дальше некуда, сегодня он подумал, наивный, что какой-нибудь карп в зоологическом саду – почему бы и нет? – по-дружески откликнется, когда он позовет его. Он купил на последние деньги килограмм халвы, любимого лакомства Ионы, а эта халва была к тому же от иранского шаха – лучшей во французском магазине не найдешь.
Выслушав его, я и сам загрустил, предложил ему выпить по стаканчику, а затем пригласил в ресторанчик. Он был голоден. Но ел медленно, словно мусульманин после долгого рамадана.
Когда подали кофе, мокко, он довольно откровенно поведал мне о себе, о своем призвании, своих занятиях, о вас, простите, о тебе, о Скво…
– Что он сказал? – оборвал его Аугустус – от услышанного его даже в пот бросило. – Знает ли он о том, что появился на свет при загадочных обстоятельствах?
– Да. Он застал тебя однажды утром там, где ты уединялся для принятия очистительной ванны. Ему было тогда шесть лет. Ты был погружен в глубокую Нирвану. Ты шептал что-то безотчетно, но этот смутный поток слов заинтриговал его так сильно, что он подошел к тебе, приставил ухо к месту фиксации недоуздка, который обеспечивал неизменность твоего положения, к месту, которое – поди узнай почему? – казалось, усиливало слышимость…
– Ах, capisco, capisco![285] – пророкотал, бледнея, Аугустус.
– Да, Аугустус, ты правильно понял: ты, сам того не желая, признался ему во всем. Рассказал ему о Заире, который был вставлен в его пуповину. Тогда, охваченный безумным горем, яростью, которая многократно увеличивала его силу, в шоке он сорвал с твоего пальца его Заир!
– …накликав этим на себя Проклятье, от которого мы все еще страдаем, – взвыл Аугустус.
– Да, – продолжил Антон Вуаль, – ему было не больше шести лет, но он все понял. В глубине души он стал считать тебя виновным, ожесточился против тебя навсегда; испытывая жажду мести, он радовался, когда ты падал, когда дела у тебя шли плохо, смертельно страдал, когда тебе становилось лучше. Он ненавидел тебя все это время!
– О Боже, о Боже! – рыдал, содрогаясь, Аугустус, сжимая в руке белый носовой платок.
– Проклятье сына, пусть и незаконнорожденного, преследовало тебя до сегодняшнего дня. Все, включая его призвание, – это заговоры, которые он замышлял, чтобы уничтожить тебя!
– Его призвание? – прошептал Аугустус, не поняв.
– Вот причина, которая заставила меня появиться здесь, – промолвил Антон Вуаль ледяным тоном.
Он вынул из сумки, сшитой из черной шагреневой кожи, искусно выполненный карандашом эскиз Uomo di Sasso, отомстившего Дон Жуану, который не только убил его, но еще и пригласил, шутки ради, покойника к себе на ужин.
Облаченный в яйцеобразную манишку из бледной, под мрамор, штукатурки, он был похож на огромного Шалтая-Болтая.
На обратной стороне эскиза рукой Хэйга было написано волнующее пророчество: «Он будет влачить жалкое существование, когда я появлюсь таким образом, ибо кровь моя опозорила его навсегда!»
– Вот признание, – заключил Антон Вуаль, – которое он оставил у меня на кресле три дня назад. Он приложил к нему записку, в которой сообщил, что живет теперь в Урбино, исполняет в «Дон Жуане» партию Командора, что он соединил себя узами брака с Ольгой Маврокордатос…
Аугустус подскочил – его словно змея укусила.
– Нет! Нет! Он движется к смерти! – взвыл он…
IV. Ольга Маврокордатос
15
Глава, в которой, растратив двадцать лет на ложные окольные дороги, узнают наконец, почему затонул красавец «Титаник»
– Нет! Нет! Он движется к смерти! – взвыл Аугустус.
– Abyssus abyssum invocat![286] – заключил, помрачнев, Антон Вуаль.
Поскольку Ольга была слишком удручена, рыдала, теряя последние силы, Артур Уилбург Саворньян оборвал вкрадчивую нить, с помощью которой Скво плела свой захватывающий рассказ.
– Забытье, – сказал он, – не перестало смягчать наше горе. Дуглас Хэйг – двадцать лет назад, Антон Вуаль – месяц назад, Аугустус – сегодня – все они умерли, исчезли, сраженные коварным злом, которое все еще бродит вокруг нас, злом, которое сразило также – почему нет? кто знает? – Хассана Ибн Аббу, Отона Липпманна, ту женщину, которая произвела некогда на свет божий Хэйга…
– Всех наших сыновей, за исключением Ивона, – вздохнул Амори Консон.
– Но, – продолжил Артур Уилбург Саворньян, – не приближаемся ли мы, однако, к цели? Разве мы не узнали об основных звеньях? В Саге, что поведала нам сегодня Скво, не опустив ни слова, ни факта, разве не видим мы, черным по белому, возможность углубиться в познание зла, что преследует нас?
– Но он не знал о нашей родственной связи! – закричала вдруг Ольга.
– Хэйг об этом не знал, да, ты не знала также, – сказала Скво, возобновляя свой рассказ. – Но Аугустус знал, он сразу же понял:
Клан, берущий начало свое в Стамбуле, жил во дворце, из которого были видны Танатограмма, расположенная на берегу Великого Черного Озера[287] и Элиппополис на берегу Мраморного моря; род Маврокордатос (иногда пишут «Маврокордато» или «Морокордата») – говорят, на одном балканском наречии, так мало изученном, что его наделяют логографирующей[288] способностью, это означает: «тот, у кого черная грудь» или «тот, кто способен творить большое зло», – род этот подарил султанам немало очень нужных им людей: Станислав был брадобреем Сулеймана, Константин воспитывал Ибрагима, Николай был тарджуменом (сегодня сказали бы: «драгоманом»),[289] а затем собрал для своего патрона, Абд-уль-Азиза, библиотеку из более чем одного миллиона томов (книги приобретались преимущественно по случаю), прославляющих ислам; его сын, Николай-младший, был господарем Баната;[290] говорили, что Абд-уль-Хамид доверял ему все, ибо он в самой высокой степени владел искусством «темнить», превращал бесцветную речь в тарабарщину, в которой никто ничего не мог разобрать, хотя он и подавал каждое мгновение знаки, показывающие, что он шифровал или переводил, согласно довольно примитивному канону.
Николай велел изобразить на своем гербе горящего сфинкса; будучи одним из ближайших фаворитов султана, он полагал, что станет визирем или мамамуши.[291] Но через три года Махмуд III, боясь той власти, которой обладал господарь, опасаясь, что он распространит свои нововведения и на Стамбул, убил его, а затем приговорил к казни на колу большую часть его клана.
Роду Маврокордатос удалось спастись, правда, не без труда. Августин, дед Ольги, устав от Дивана,[292] бежал, добрался до Дюраццо,[293] где занялся адвокатской практикой. Позже он основал газету, которая стала проповедовать неподчинение султану. «Албанец! – возвестила она однажды. – Скоро настанет день триумфа! Вперед на тиранов, взмахнем кровавым стягом Вперед, вперед! Пусть нечистой кровью оросятся наши нивы!»[294]
Волнения захлестнули Дуррес. Было убито несколько турок. Повсюду кричали: «Смерть туркам!» или «Вперед на ислам!» В качестве знамени использовали хоругвь из белого тюля жесткой выделки, украшенную изображением горящего сфинкса – гербом Николая. Крупная национальная партия, либерального направления, но анархистская по духу, мобилизовала общественное мнение. Человек по имени Артур Гордон, которого считали четвероюродным братом великого Байрона, горбатый, подобно последнему,[295] но все же совершенный сын Альбиона, возбудил оппозицию, сочинить для нее Национальный гимн, который вскоре непрестанно насвистывал каждый, потрясая ятаганом.
Через три года турки потерпели поражение. Был подписан мир в Корфу:[296] непобежденный албанский народ добился своей автономии. Вскоре королева Виктория, оспаривая у Кавура[297] право на почти полную власть над зарождающейся нацией, назначила консулом в Тиране лорда Вэниша, блестящего выпускника Оксфорда, которого Ричард Вассал-Фокс третий лорд Холланд[298] сделал своим фаворитом, представив его королевскому двору, а затем оказав ему мощную поддержку при последнем назначении. Августина Маврокордатоса, восхищавшегося одной лишь королевой Викторией, хитрый лорд Вэниш убедил в том, что колониальный или полуколониальный статус как нельзя лучше подходит албанцам, отупевшим за время турецкого господства и совсем не готовым к самоуправлению, что нужно, следовательно, аккуратно предоставить англичанам повод для вторжения, предложив сначала политическим движениям страны, которые жаждали установления власти, называемой диктаторской, а затем окольным путем, сделать из страны доминион. Но нужно было действовать искусно, иначе наверняка Абиссиния,[299] Австро-Венгрия или кто-либо еще могут воспользоваться ситуацией. Согласившись, Августин тотчас же разработал недурной план заговора. Английское золото потекло рекой. Велась подрывная работа, на местах создавались ячейки сторонников. Всюду, где нужно, были расставлены свои надежные люди. Был отлажен механизм, изощренность которого (мы приводим здесь слово, которое позже войдет в состав французского и английского языков), показалась из ряда вон выходящей. Но за три дня до переворота, в то время как батальон англиканских гусар, базирующийся в Бриндизи,[300] томясь в ожидании сигнала к вторжению, manu militari,[301] на албанскую землю, заговор был раскрыт. Как это случилось? Следствие какого-то неверного шага? Оплошность сторонника? Уход отступника или предательство Иуды, продавшегося тому, кто больше заплатил? Кто знает? Однако шуму это наделало много. Нет шовинистов больших, чем албанцы. Были казнены восемнадцать чиновников, которых обвинили – кого справедливо, кого ошибочно – в участии в заговоре.
Что касается самого Августина, то и для него вся эта история закончилась трагически: сначала ему дали попробовать кнута, затем принародно привязали к позорному столбу; люди бросали ему в лицо не только издевательские насмешки, но и гнилые фрукты и овощи. На него надели ошейник, сломали ему не одно ребро, набили чем попало рот до самой глотки; его душили, били, травили алкоголем, а в конце концов и вовсе подожгли.
Здоровье у него было редкостное, и посему умирал он не меньше месяца. После кончины его тело бросили псу, но тот даже не дотронулся до него, так оно воняло.
Семью Маврокордатоса в Дурресе, насчитывавшую двадцать шесть человек, тоже постигла горестная участь. Албанцы преследовали ее повсюду: трижды грабили дом, изнасиловали бабушку, убили ни в чем не повинных детей.
Через год в живых остался лишь один член клана, однако он так много значил для албанцев, что его продолжали упорно преследовать, дошли даже до того, что за него, живого или мертвого, был обещан миллион гривен.[302] Все дело было в том, что речь шла о прямом наследнике Августина: его сыне Албене (Августин хотел, чтобы он носил ультрапатриотическое имя).
Так вот, Албен сумел убежать, укрыться в дремучем лесу, где прятался восемь лет, чудом поддерживая в себе жизнь. Там зрела его ненависть к албанцам, истребившим всю его семью, а также – и в особенности – к англичанам, которые, как он считал, и не без причины, скомпрометировали отца.
Однажды он нашел в заброшенной лачуге, где уже давно никто не жил и куда лишь иногда забредал пасший трех баранов пастух, богатый клад: золотые монеты, драгоценности, слитки.
Тогда, подобно Матиасу Шандору,[303] он употребил эти баснословные сокровища для осуществления мести. Он сплотил вокруг себя банду отъявленных, вне закона, преступников, которым щедро платил, но и требовал от них абсолютной преданности.
Его главным убежищем стала пещера, которую называли «Пещерой Разбойника», потому что прежде в ней иногда ночевал Фра Диаволо, некогда францисканец, бандит, нападавший на тройки[304] и почтовые кареты.
Отбирая для своей банды очередного ее члена, Албен приглашал его сначала в свой бордж. Каждый выпивал один за другим пять стаканчиков сливовицы. Затем отважный новобранец клялся на кресте, что будет верен Албену до самой смерти. После этого Албен делал на его правом предплечье татуировку, пользуясь золотой иглой-скарификатором,[305] которая оставляла на коже тончайший белый след, не глубокий, но настолько заметный, что вывести его нельзя было ничем; как-то одному албанскому полицейскому удалось увидеть эту татуировку, и он набросал по памяти ее эскиз, который, однако, был признан неудовлетворительным: это вроде бы был круг с прямой чертой в середине, если хотите, чем-то напоминающий знак, запрещающий проезд.
Иногда кого-нибудь из людей Албена случайно захватывали. И по описанию татуировки, сделанному упомянутым полицейским, несмотря на его несовершенство, на основании белого символа, нанесенного на предплечье схваченного, было очевидно, что это – пособник бандита.
Однако за восемь лет были пойманы не более трех человек, тогда как всего в банде Албена их было не меньше двадцати.
Чаще всего его люди нападали на англичан. Один только дом английского консула в Тиране взрывали три раза. Любая яхта, плывущая в Дуррес под британским флагом, имела все шансы быть затопленной.
И если хотите знать, знаменитый «Титаник» затонул не вследствие столкновения сокрушительной силы, а наверняка в результате действий злоумышленника, ибо на борту его находился занятый обсуждением соглашения о сооружении крупного блюминга весь состав руководства англо-албанского консорциума, чей уставный капитал представлял собой значительную сумму, внесенную в Барклайз-банк.
Столкновение поезда с автокаром в Квинтиншилле, неподалеку от города Гамильтон между Хантингдоном и Оахэмом в ночь с пятого на шестое августа тысяча девятьсот восемнадцатого года показало Скотланд-Ярду – там тотчас поднялся переполох, – что Албен мог в случае необходимости уничтожать противника и на его территории, в самом сердце их родной страны. А позже узнали, что Албен делал это из одного лишь чистого удовольствия или, точнее, как он утверждал, во время отпуска, потому что, каким бы он ни был бандитом, один месяц в году он путешествовал, посещал Альбион, который так унижал и влажный климат которого так любил.
Добившись в результате ухода англичан с албанской земли, Албен годом позже принялся за автохтонов.[306] Совершил несколько набегов, но в стране, где не была развита промышленность, добычу составляли разве что худосочные овцы.
К тому же его сокровища таяли и нужно было искать способы пополнения капитала.
Неподалеку от Пещеры Разбойника находилась долина, где произрастал в изобилии мак. Почувствовав сразу же, и не без основания, что это источник колоссальной прибыли, Албен обучился у одного аптекаря искусству изготовления лауданума, а затем получил из него путем фумигации[307] опиум вполне удовлетворительного качества.
Но – и это знает каждый – опиум сам по себе и гроша ломаного не стоит, если не налажены пути его сбыта. Тогда существовала цепочка, которая тянулась из Анкары на Балканы, откуда наркотик распространялся через Котор, Дубровник или Сплит (некогда Спалато) до Римини, а затем достигал Милана – мирового центра отлично налаженного маршрута контрабанды, – этим занимался мультинациональный или, скорее, транснациональный «синдикат», в который входили восемнадцать крупнейших главарей, представляющих итальянскую мафию, американскую «Коза ностра», Лаки Лучиано, Джека «Танцующего Кроху» Даймонда, «Большую Италию», «Чикаго Луп-Корпорэйшн», Банни «Петлю» Сальваторе, еще несколько организаций меньшего масштаба; словом, могущественный синдикат держал эту цепь под полным своим контролем.
Албен прекрасно понимал, что он многим рискует, если войдет в столь закрытую корпорацию. Человек тонкий и исключительно смелый, он решился на демпинг: сойдясь в Милане с неким ярмарочным торговцем, который, как ему было известно, представлял одно из звеньев вышеупомянутой цепочки, он предложил ему свой опиум со скидкой.
Позже, когда его партии наркотика стали увеличиваться, ему захотелось иметь в Дурресе своего представителя, который контролировал бы транзит, потому что опиум доставляли туда из Пещеры Разбойника на автомобиле, затем в Чиоггу на лодке, наконец в Милан по реке По на барже.
В итоге Албен близко сошелся в Тиране с одним человеком. Его предупреждали, что это изрядный плут, но казался он надежным, имел хорошо развитую интуицию, такт, воображение, схватывал все с полуслова. Был это – тот, кто читает нас внимательно, конечно же, сразу понял, иначе можно сказать, что читает он нас несосредоточенно, – был это, об этом уже говорилось в другом контексте, Отон Липп-манн!
Таким образом – Аугустус сразу же догадался, – отцом Ольги, которую он любил больше, чем безумец Дуглас Хэйг, был друг самого большого врага, которого имел когда-либо Аугустус, друг, который, сверх того, до омерзения ненавидел англичан!
– Но, – спросил тогда Антон Вуаль, – кто же была мать Ольги?
16
Глава, показывающая незыблемость доллара ($)
Все случилось годом позже, продолжил Аугустус свой рассказ. Опиумный маршрут функционировал как нельзя лучше, и Албен скопил кучу золота. Подобно паше, он вел в своем бордже разгульный образ жизни. Однажды он узнал, что неподалеку снималась в фильме некая Анастасия, звезда Голливуда. Албен, лишенный теперь возможности непрестанно уничтожать англичан, продолжал, несмотря ни на что, ненавидеть все англосаксонское, включая американцев. Вскоре он организовал карательный рейд в те места, где располагалась основная база производства опиума.
Меча громы и молнии, он взял свое ружье, базуку, пироксилин, напалм и другую взрывчатку, затем, ведомый мастиффом, в сопровождении пятерых своих людей, которых он особенно ценил за их мужество и хладнокровие, отправился в путь, чтобы дать выход своей ярости.
Когда они прибыли на место, наступила ночь; В том году июнь выдался тяжелым: было то жарко, то прохладно, а ночь приносила с собой пронизывающий холод.
Албен увидел, что на склоне горы расположились три домика, однако бивуак был разбит на берегу озера. Съемочная группа разместилась в трех больших фургонах, один из которых единолично занимала Анастасия. Увидев, что в домиках трудился технический персонал: ассистенты, звукорежиссеры, фотографы, операторы, ломая головы над монтажом (ибо чего бы они ни добились, звезда никогда не позволяла, чтобы с ней в кадре было больше одного статиста), Албен бросил туда своих людей, вознамерившись все сжечь и уничтожить как можно больше народу, а затем скрытно приблизился к фургону, где почивала красотка.
Он вошел в будуар; помещеньице было небольшое, но все в нем сулило удовольствия утонченной любви: здесь стояло несколько мягких диванов, полы устилали толстые ковры, зеркала были немного матовые – все это было пронизано кокетством, а никак не целомудрием. В воздухе витал запах сладострастия. Фонарик на стене источал нежнейший свет.
Албен немного огляделся в разнаряженном будуаре, затем, подняв тяжелый парчовый балдахин, проник в самое сердце опочивальни. Прошло какое-то время. Он пропитался запахом нарда,[308] которым был густо насыщен воздух под балдахином, пропах настолько, что едва не потерял сознание.
Затем появилась Анастасия. Сняв кимоно из белого в черный горошек органди,[309] надев тарлатановое трико, которое плотно облегало ее талию и бедра, звезда поправила тяжелое золотое украшение с алмазом-кабошоном и улеглась на оттоманке, довольно вздохнув и что-то ласково промурлыкав.
Албен довольно долго оставался неподвижен, любуясь божественной красотой звезды.
Горизонт искривлялся в такт колыхания, которое без перебоев запечатлевало на ее извилистом теле вдохновение.
Это тело, словно изваянное, взывало к себе, нагое, разомлевшее, в волнующем полумраке, который играл на ее томном боку лазурными тенями.
Ее белая кожа, матовая, гладкая, блестящая, была просто восхитительна.
Албен подскочил, глаза его сверкали. Он походил на Великого Пана.
– О Анастасия, – пробормотал он, сгорая от любви – у Купидона закончились стрелы в колчане!
Охваченный вдохновением, он тут же сочинил лэ,[310] в котором, согласно традиции «Песни Песней Соломона», воспевал восхитительное тело Анастасии:
Так пел Албен. Затем, сбросив с себя одежду, обнаженный, вскочил он, жадный, изголодавшийся, на звезду.
– Что? – смутился Антон Вуаль. – Изнасилование?! (Учтите, что ему не было тогда еще и двадцати лет; более того, он вырос в пуританской атмосфере, совершил первое причастие, затем конфирмацию и чуть не стал капуцином.)
– О нет, – усмехнулся Аугустус, – вовсе не изнасилование, ибо звезда, приоткрыв глаза, сразу же по уши втрескалась в разбойника и отдалась ему; в то время как он входил в нее ad limina apostolorum,[312] она шептала:
– Я страсть как жаждала разбойника, бандита, преступника! Полиция все еще преследует тебя?
– Еще как, – ответил Албен.
– За твою поимку обещано хорошее вознаграждение?
– Очень хорошее.
– Сколько? – спросила Анастасия.
– Миллион гривен.
– Сколько это будет в долларах? – не унималась звезда.
Доллар равнялся двадцати восьми гривнам,[313] Албен быстро подсчитал, сколько это приблизительно будет, затем проверил, заглянув в газету, не изменился ли курс.
– Thirty-six thousand,[314] – сказал он, округлив.
– That is a lot,[315] Анастасия была восхищена.
Затем, забывшись, плутовато, если не распущенно, подмигнув ему, звезда зашептала в полуобморочном состоянии:
– Будь моим Дон Жуаном, моим Казановой, моим Бальмонтом, моим Божественным Маркизом!
Можно было бы сказать, что это Вирджиния Майо отдается Ричарду Видмарку или Джоан Кроуфорд – Фрэнку Синатре, Рита Хэйворд – Керку Дугласу, Ким Новак – Кэри Гранту, Анна Маньяни – Рэндольфу Скотту, Джина Лоллобриджида – Марлону Брандо, Лиз Тэйлор – Ричарду Бартону, Ингрид Тюлен – Омару Шарифу.[316]
Но следовала ли она некогда заученному сценарию или же в голосе Анастасии звучало настоящее чувство?
В действительности это не имело никакого значения. Погружаясь в восторг щекотания, нежась, целуясь, они начали поединок, сражение, сладострастнее которого вряд ли когда-либо разворачивалось на любовном ложе, ибо дуэт, который его вел, не знал прежде, пожалуй, равных себе по утонченности и чувственности.
Но в то время как, подобно Аполлону, берущему в плен Ириду,[317] Адонису, задабривающему нимфу Калипсо, Антиною, обольщающему Аврору, Албен сливался с Анастасией в наслаждении, его люди, как он того и желал, устроили мощный взрыв возле домиков технического персонала. Ночь осветили ослепительные вспышки, раздался оглушительный грохот. Можно было сказать, что наступила новая Вальпургиева ночь. Кто-то из несчастных тружеников кино был поглощен работой, кто-то спал, но после прогремевших взрывов все с криками и визгом бросились куда глаза глядят. Большинство погибло почти сразу: одних убило взрывной волной, другие были раздавлены падающими горящими деревьями, третьи – обломками разлетевшеися скалы; зрелище напоминало извержение вулкана…
Однако, несмотря на самый настоящий ад, в который было ввергнуто все вокруг вследствие бесчестного злодеяния, наши любовники были всецело погружены в упоительный восторг страсти – состояние столь же жгучее, но менее убийственное.
Таким образом, когда, выполнив до конца наказ Албена, его люди с чувством глубокого удовлетворения от на совесть проделанной работы возвращались к борджу, Албен продолжал свое сверхгалантное свидание: любезничал, ворковал, ласкал, ухаживал всеми возможными способами, словом, занимался любовью во всей ее полноте.
Длилось это три дня. Затем Анастасия, вырвавшись из горячих объятий Албена, вспомнила: чтобы выполнить условия контракта – гонорар ее был баснословен, – ей нужно целиком отдаться съемкам.
Однако – увы! Она быстро смекнула, что из всех; участников незадавшегося проекта, и актеров, и технического персонала, не осталось в живых ни одного человека. Оборудование взлетело на воздух, не сохранилось ни одной, даже мало-мальски пригодной к эксплуатации тележки – все либо было покорежено, либо расплавилось.
Анастасия осталась, таким образом, без работы. Это опечалило ее так сильно, что Албен, которому не удавалось больше утешить ее, в конце концов ушел, оставив несчастную в фургоне. Но, прежде чем сделать это, он вызывающе потребовал:
– Если когда-либо у вас родится ребенок, – он обратился к ней на «вы», ибо это было мгновение судьбоносное, – плод небывалого упоения, соединившего нас на три дня, то я желаю, чтобы он носил мое имя, иначе, – добавил он, – с моей смертью прекратит свое существование род Маврокордатос, а вместе с ним перестанет действовать мое Проклятье!
17
Глава, из которой вы узнаете мнение Владимира Ильича по поводу Голливуда
Албен ушел. Позже из короткого письма, дошедшего до борджа, он узнал, что Анастасия в конце концов добралась до американского консульства в Каттаро.[318] Но во время длительного перехода звезда простудилась. Через месяц у нее началось воспаление правого легкого.
Доктор запретил ей даже думать о Голливуде. Рыдая, Анастасия покорилась. Да и, по правде говоря, несмотря на то что выглядела она еще вполне привлекательно, можно было смело заявить, что будущего в звуковом кино, которое тогда только-только начало зарождаться, у нее нет. (Все это происходило в начале августа тысяча девятьсот двадцать восьмого года – хватило одного лишь фильма Алэна Крослэнда, чтобы на студии «Коламбия пикчерс» в Ренке приступили к коренным преобразованиям.[319])
Таким образом, женщина-вамп, из-за которой исхудал Фарук, растолстел Бодуэн, по которой вздыхал Тафт, а затем и Вудро Вильсон, из-за которой рыдал Дж. Рамсей Мак-Дональд, вамп, которой сэр Уинстон Черчилль лично подарил целый центнер гаванских сигар,[320] вамп, о которой Владимир Ильич Ульянов сказал, что нет опиума более вредоносного, эта женщина-вамп подводила теперь – не поставив, однако, финальной точки – черту под своим творческим путем, столь блистательным, что трубно было представить, что он может оборваться таким вот образом: она, обладательница восемнадцати Оскаров, шести Золотых Львов! Поистине: Sic transit Gloria mundi.
Многие ее почитатели погрузились тогда в глубокую печаль. Все члены клуба «Айрон Маунтин»,[321] на границе штата Висконсин, неподалеку он озера Мичиган, совершили коллективное самоубийство. Один японец сделал себе харакири. Матрос с Ямайки сбросился с крыши «Рэйдиоу-Сити Билдинга»[322] в Манхэттене.
Анастасия укрылась в санатории в Давосе. Томас Манн, встретив ее там однажды, сказал, кажется, так: «Если бы я увидел Анастасию раньше, Ганс Касторп никогда не узнал бы Клавдию Шоша».[323]
Через полгода Анастасия родила, но, будучи уже больной туберкулезом, умерла почти сразу же после родов. В ее сумке была найдена записка с завещанием: родившуюся девочку следует назвать Ольгой Маврокордатос, она является наследницей достаточно большого состояния, часть которого пойдет на содержание санатория, тот же со своей стороны обязуется обеспечить ей достойное в нем проживание вплоть до наступления ее совершеннолетия.
Таким образом, Ольга выросла в Давосе, в сверхшикарном санатории, под непрестанным присмотром. И ничего не знала об Албене.
– Но что же случилось в Албеном? – оборвал Аугустуса Вуаль.
– Через три года он узнал, что Ольга живет в Давосе. И захотел ее повидать. Он отбыл в Давос в сопровождении Отона Липпманна, который к тому времени стал его правой рукой. Албен вел свой «лагонда-бугатти»[324] уверенно, несмотря на крутые повороты. Но до Давоса он так и не доехал…
– Почему? – с удивлением спросил Антон Вуаль.
– Отон Липпманн рассказывал мне позже, что, проехав три четверти пути, возле Инсбрука, Албен оставил его в машине одного, сказав, что ему нужно повидаться неподалеку с одним человеком. Отон видел, как Албен входил в ангар, похоже, заброшенный. Липпманн долго ждал его. Вечером вошел в ангар сам, но никого там не нашел, за исключением самого Албена – тот лежал в луже крови, бездыханный.
– Странная история, – усмехнулся Антон Вуаль.
– Да, я полагаю, Отон и убил Албена, чтобы завладеть его сокровищами.
– Но Отон-то хоть отправился в Давос повидать Ольгу?
– Он поехал туда. Он наверняка намеревался похитить ее. Но администрация санатория не позволила ему встретиться с Ольгой. Ему пояснили, что он не имеет на то никакого права. Ему даже пригрозили тюрьмой в том случае, если он будет настаивать на воем.
– Таким образом, – заключил Вуаль, – Ольга по-прежнему не знала, почему ее назвали Маврокордатос?
– Да, – вздохнул Аугустус, – но главное – это то, что никто не ведал о Проклятье, связанном с этой фамилией. Ольга так никогда и не узнала о той нечестивой, ужасающей силе, которая навсегда отметила ее своим знаком.
После смерти Отона Липпманна, узнав от него о Проклятье, что висело над нашими именами, проклятый им от имени исчезнувшего Заира, я трижды отправлялся в Давос с твердым намерением: Ольга должна умереть от моей руки пока еще не слишком поздно. Но Ольга уже покинула санаторий. Один человек сообщил мне, что она появилась в Швейцарии, в Локарно. Я поехал туда, но, увы, опоздал! Мне сообщили, что Ольга обосновалась в Лондоне, и я направился туда. Но попал на вокзал Виктории как раз в тот момент, когда она отъезжала во Франкфурт. Вскоре я позвонил своему доверенному человеку в Консульстве, наказав ему позаботиться об Ольге до моего появления. Но – фатум, снова фатум! – человек этот (большего идиота свет не видывал!) помог ей с визой в Швецию. И тут я, доведенный до крайности, спасовал!
– Вот почему я сказал, – заключил Аугустус, – что Хэйг не понял меня. Он считает, что, прокляв, он приговорил меня к смерти. Но, соединившись брачными узами с Ольгой Маврокордатос, он умрет! Он, а не я! Он в западне. Когда у него спектакль?
– Во вторник вечером, – ответил Антон Вуаль, взглянув в свой блокнот.
– За три дня, – сказал Аугустус, правда, с некоторым сомнением, – на моем мой автомобиле мы сможем добраться до Урбино. Но выезжать нужно немедленно. Вырвем моего сына из лап явившей себя смерти! В путь! Вперед! Andiamo![325]
18
Глава, о которой наверняка никто не скажет, что она многое проясняет
– Хорошо, – сказал Антон решительно, – поедем в Урбино. Будем ехать днем и ночью, будем по очереди вести машину, но выедем все-таки позже, поскольку нужно прежде во что бы то ни стало узнать значение белой россыпи на краю бильярдного стола.
– Но почему? Что там высматривать в этой россыпи? – возразил Аугустус – в нем все просто кипело от нетерпения.
– Так родилось Проклятье, которое поразило твоего сына. Ибо есть одно обстоятельство, о котором он не сказал тебе ни слова: ты уже знаешь, что он сорвал с твоего пальца Заир, но тебе не известно, куда он его дел!
– Но тогда… россыпь… – побледнел Аугустус.
– Россыпь нам поведает – речь идет о пожелании, а не о знании, – почему Проклятье связано с Заиром.
– Но кто сможет понять значение?
– Я, – уверенно сказал Антон Вуаль. – Хэйг сделал когда-то для меня приблизительный набросок рисунка россыпи, над которым я на досуге размышлял, консультируясь иногда у одного ученого из Национального центра научных исследований. И теперь, хоть мне и не все до конца ясно, однако я знаю значение нескольких понятий, которые наверняка подскажут нам решение или, по крайней мере, упростят наши труды.
После этого они прошли к бильярдному столу. Вуаль положил руку на ту его часть, что была усыпана белыми пятнами. Затем всмотрелся, пользуясь лупой, в каждое из них по очереди.
– Да, – пробормотал он наконец, – я не ошибался, это Катун.
– Катун?
– Катун – мужское имя, указывающее на графический образец, который использовали в древности индейцы майя, в особенности на полуострове Юкатан. Речь идет о modus significandi,[326] скорее ограничительном, пригодном прежде всего для записи изречения, фаблио, календаря церковной службы и других подобных текстов на нижней части большого каменного блока или триумфальной арки. Это большей частью указания, внесенные в церковный календарь приблизительно на двадцать лет и касающиеся лунных месяцев, пор года, родственных связей монарха, миграций, каких-то вех, но иногда это был если не роман, то, по меньшей мере, скажем так, повествовательный факт, находящийся на пути перехода к искусству ради искусства…
– Но, зная о том, что это Катун, ты, следовательно, сразу же уловил значение? – спросил Аугустус, который все хотел узнать как можно скорее.
– О нет! – усмехнулся Антон Вуаль. – Работать нам предстоит самое малое до утра. (В то время уже наступила полночь.) Значение станет ясным лишь в конце, когда мы сможем сначала записать, а затем расшифровать текст. Но прежде нам нужно будет понять аксиоматизацию,[327] на которой основана запись. Ибо, – продолжил Вуаль, – затруднения проистекают в особенности из того, что нет какого-либо общего целого. На сегодняшний день я понимаю самое большее четвертую часть зашифрованного. Замечу, что ты в лучшем случае сможешь понять лишь третью часть слов.
– И ты считаешь, что, несмотря на то, что большая часть слов будет нам непонятна, мы все же уловим значение целого?
– А почему бы и нет? Многие и до нас добивались успеха: не только Шампольон, но и Ларанда, Араго, Алкала, Рига, Риккобони, фон Шёнтан, Райт. Значение мы действительно узнаем, но скажу прямо – в более-менее отдаленном будущем, нельзя достаточно определенно сказать, когда. Значение это будет угадано по ассоциациям.
Сначала нам покажется, что мы имеем дело со смутной галиматьей, с ничего не значащим хаосом, но мы сможем, однако, констатировать, что речь идет о знаке утвердительном, точном, подчиненном кодифицирующей силе, одобрению публики, которая всегда его принимала: социальное орудие, обеспечивающее коммуникацию, обнародующее ее без нарушения, дающее ей свой канон, свой закон, свое право.
Речь, возможно, будет идти об уставе, о Коране, о речи адвоката, о каком-нибудь нотариальном документе, о купчей, о пригласительном билете, о кадастровом дубликате, о романе. Обстоятельство первостепенного значения: значительное будет привязываться не к пункту приложения, но к сочленению, к факту, что есть, везде, всегда, сообщение (многие скажут: союз), речь, идущая от одного человека к другому, от кого-то к соседу, будет ли она переходной или повествовательной, будет ли она обязана своим возникновением воображению или вымыслу, аффабулизации или одобрению, саге или мадригалу.
Таким образом, сначала будет сила Логоса, говорящее «это», чей удручающий вес мы вскоре ощутим, будучи неспособными понять его значение. Следовательно, если речь идет о романе, то будет, ipso facto, общее окружение, известное, банальное, по которому мы определим, что речь совершенно точно идет о романе: несколько выступающих друг против друга действующих лиц, сходящихся под воздействием фатума, который они до конца будут считать случайным, иллюзией неожиданного маскирующегося, но маскирующегося плохо абсолюта фатального. Смерть, потом три, пять, шесть, затем все, затем вкрадчивая нить, из которой сплетается повествование, ткется ковер с рисунком настолько смутным, что никогда не будет виден законченный эскиз, который покажется тщетным в наших попытках увидеть в нем знак.
Но позже, когда нам станет понятен закон, который управлял составлением надписи, мы будем восхищены тем, что при использовании столь бедных средств, словаря, столь подчиненного распаду, опущению, несовершенству, стало возможным появление этой надписи.
Оглушенные небывалой маргинальной силой, которая, очерчивая контуры запретного значения, тем не менее улавливает его, производит его, однако, столь тонким путем, окольным путем, говоря намеком, ассоциацией, насыщением, мы сможем обеспечить, читая, признание законным знака, совершенно его, однако, не понимая.
Затем, в конце, мы поймем, почему все было построено на основе такого жесткого ошейника, такого тиранизирующего канона. Все рождается из безумного желания, пустого желания: насытить до конца очарование тщетного крика, выйти из успокаивающего пробега слова, слишком внезапного, слишком доверительного, слишком общего, предлагать значащему лишь горлышко, шланг, игольное ушко, такое узкое, такое тонкое, такое острое, что в нем тотчас же можно увидеть его оправдание.
Таким образом возникает утверждение, противостоящее отпущению, таким образом затвердевает вольноотпущенное, вышедшее из принужденного, таким образом замышляется воображение, таким образом от самого мрачного мы приходим к самому светлому!
– Я аплодировал бы, выслушав твою программу, – сказал Аугустус, – если бы верил в то, что она закончится успешно. Но время предопределяет все: отсюда до Урбино – по меньшей мере двадцать восемь индийских кадамов, или же восемь наги, или же восемнадцать купподутурамов![328]
– Следовательно, – ответил Вуаль, – я буду действовать максимально быстро и всецело погружусь в эту головоломку.
Антон Вуаль попросил меня тогда: «Скво, ступай в прихожую, возьми в моей сумке шесть необходимых мне книг».
Я пошла в прихожую, принесла ему оттуда все эти книги. Это была самая настоящая сокровищница знаний, касающихся цивилизации майя: перевод «Пополь-Вух», сделанный Виллакорта-Родосом, огромный том Р.П.Саагуна, транскрипция текста «Мачу-Пичу», три книги «Чилам-Балама» – «Икзиль», «Оахака», «Уакзактун».[329]
Он занимался расшифровкой до самого рассвета. Даже вспотел, пришлось снять свитер. Я приносила ему то сандвич, то бутылочку анжуйского, то чего-нибудь покрепче, то кофе. Он трудился неистово, соединяя несовершенные граффити, приблизительные черновики, которыми, казалось, все время был недоволен, наши кофры. Курил одну сигарету за другой, кашлял, прочищал горло. Постоянно заглядывал в книги.
Дело не продвигалось. Он был раздражен, чертыхался, вскипал – лицо у него становилось багровым, он скрежетал зубами, брызгал слюной, – словом, ярости его не было предела. Он шептал какие-то непонятные слова, слова, не имеющие никакого значения, – в общем, какой-то вздор. Его состояние уже начинало тревожить нас. Впечатление было такое, что он тронулся умом.
Наконец, когда уже рассвело, он произнес: «Уфф», – вытирая рукой пот со лба, уставший, но довольный. А ведь я уже думала, что он так ничего и не добьется.
Он протянул Аугустусу картон, на котором были начертаны двадцать пять интригующих граффити.
Аугустус, чтобы лучше видеть, надел лорнет.
– Вот те на! – сказал он, всмотревшись; вид у него был раздраженный. – Взбеситься можно: что здесь ясного?
– Успокойся, успокойся! – остудил его Вуаль. – Сейчас все поймешь. Катун использовался в нескольких говорах майя. В данном случае мы имеем дело с наречием чиапас, которое называют еще и «лакандоном». Согласно традиции, его использовали прежде всего для записи предсказаний. Известны законы его записи, но не особенности произношения, ибо язык это ломаный, рассчитанный на предвосхищение, разглашение, пророчество, богат различного рода, так сказать, затемнениями, перевод которых всегда осуществлялся одними лишь ясновидцами и шаманами.
– Но тогда… К чему мы придем?… – оборвал его Аугустус, встревожившись еще больше.
– Возьми себя в руки, Аугустус, оставь меня в покое, у нас есть по меньшей мере пять половинчатых решений. Осложнение проистекает прежде всего вследствие того, что речь здесь идет об авокальном жаргоне, то есть не использующем озвончение, следовательно, имеет место противоречие, касающееся произношения. Но, выбирая посредством имитации по подобию известного
модель, стимулирующую транскрипцию, мы получим с помощью логики, интуиции или воображения черновик менее приблизительный.
Он сразу же нарисовал белым карандашом на черном стенном шкафу двадцать пять знаков:
Однако это совершенно не успокоило Аугустуса, который ровным счетом ничего не понял.
– Это какой-то волапюк или, простите, обыкновенная тарабарщина, и конечно же, это никоим образом не дает пищи моему воображению.
Но Вуаль успокоил его, поклявшись, что он сгинет, если до полудня у него не будет перевода Катуна.
Он отогнал нас от бильярда, сказав, что ему нужны полная тишина и покой. Я занялась завтраком, Аугустус начал готовить в дорогу автомобиль: смазывал узлы маслом, заправлял бензобак.
Ровно в полдень появился Антон Вуаль. В руке у него был лист картона.
– Вот значение знаков на краю бильярдного стола, – сказал он.
– Прочитай, – попросил его умирающим голосом Аугустус– Мне что-то не по себе.
Нам вспомнилось позже, что небо, тогда лазурное, быстро потемнело. Видно было, что на нем сгущаются дождевые тучи. Впечатление складывалось такое, что сейчас начнется ураган. Внезапно порывом ветра разбило форточку.
Я сказала тихо: «Я боюсь». Затем увидела, что Аугустус шепчет молитву.
Антон Вуаль прочитал нам написанное на бильярдном столе. Это был приговор всем нам. Голос у Вуаля был ледяной, он говорил, тщательно артикулируя, отрывисто произнося слово за словом, как бы отрубая одно от другого, – выходило это у него очень четко, и казалось, что и не говорил он, а метал копья, посылал стрелы, вбивал гвозди, наносил уколы, распиная Аугустуса.
Прошло двадцать лет, я поседела, но его голос стоит у меня в ушах и сейчас:
Наступила долгая пауза. Никто не проронил ни слова. Вокруг картонного листа, которым размахивал Антон Вуаль, летал толстый шмель.
– Ты понял? – спросил Антон совсем тихо.
– Можно сказать, – прошептал Аугустус, – это конец Артура Гордона Пима.[330]
– Можно сказать, да, – согласился Антон Вуаль.
– Боюсь, – продолжил Аугустус, – что, как и в случае с последним, надпись заключает в себе несущую власть.
– Но мы можем действовать?
– Вот где зарождается мой страх: я видел в измельчении скалы яйцеобразный панцирь, сделанный из тусклой штукатурки под мрамор, в который во вторник вечером оденут моего сына. Тогда его убьет Закон Возмездия. Он умрет в этом нагруднике, если облачится в него! Мчимся в Урбино! Нам нужно попасть туда прежде, чем это произойдет!
Он вскочил, следом за ним – Антон. Вскоре они тронулись в путь.
Но вам уже известно, что добрались они до Урбино слишком поздно, хотя Аугустус буквально слился с рулем, мчал в ночи, не позволяя себе и секундной передышки. Злая судьба трижды останавливала его: в Эйян-сюр-Толоне у него заело шесть шестерен и был заблокирован кардан; на берегах Исонцо[331] сгорело динамо и была повреждена вся цепь питания; в довершение ко всему в Сан Лоранда, на Оглио,[332] он так резко повернул руль, что тот сломался!
Когда Аугустус подъехал к герцогскому дворцу в Урбино, Хэйга уже облачили в панцирь. Аугустус хотел пройти в ложу, предоставленную в распоряжение его сына, но билетер ему этого не позволил. Его посадили на откидное сиденье в одном из рядов балкона. Он сел, удрученный, и был глух к божественным аккордам «Дон Жуана» – ему хотелось рыдать.
Затем появился Хэйг – белый мраморный колосс. Он с трудом передвигался по сцене. Все здесь знают о родственной связи судеб, которая повергла всех нас в горе: Дуглас Хэйг сделал неверный шаг, оступился, упал, треснул панцирь…
– Нет! – произнесла Ольга ледяным голосом. – В твоем рассказе не хватает одного факта, очень важного, основополагающего. Ты рассказала нам о смерти Хэйга точно так же, как рассказал нам о ней Аугустус, когда вернулся неделю спустя в Азенкур с телом сына, обернутым в белую простыню. Но Аугустус скрыл от тебя одно очень важное обстоятельство. Умышленно или нет – кто знает?… И все же Антон Вуаль видел, как появился на сцене Хэйг, он все видел и все понял!
– Но что можно было увидеть или понять, кроме того, что Хэйг сделал неверный шаг, оступился и рухнул, как баобаб? – спросила Скво, не понимая, к чему ведет невестка покойного консула.
– Есть, – нервно хихикнула Ольга, – есть одно обстоятельство: Аугустус, измученный долгим переездом, охваченный тревогой, не владея более собой, увидев своего сына, вскочил и испустил крик настолько душераздирающий, что Хэйг, испугавшись, наткнулся на декорацию, пошатнулся – и… вы знаете, что было дальше…
19
Глава, из которой вы узнаете о беспокойстве, возникшем вследствие появившегося желания откушать фаршированную рыбу
– Боже мой! – воскликнула Скво, неприятно задетая данным разоблачением; однако, смутившись, она сразу же перешла к обвинениям: – Кто мог тебе такое сказать? Он наверняка оступился! Не будем забывать о той крови, что течет в твоих жилах! Твоя фамилия – Маврокордатос, твой отец нас всех проклял! И мы пережили немало последствий этого проклятья!
– Замолчи, Скво, – сказала Ольга, – ты от горя отупела.
Но Скво продолжала, и тон ее был лукавым:
– Почему это Аугустус вдруг закричал? Кто знает, а может, это ты тогда крикнула и от твоего крика умер Хэйг? Разве у тебя не было партии в том спектакле? Разве ты не присутствовала при всем этом?
– В ее словах есть доля истины, – сказал Артур Уилбург Саворньян. – Да, Аугустус так же, как и Ольга, Антон Вуаль либо как человек, нам не известный, мог испугать Хэйга неожиданным криком и спровоцировать, таким образом, его неожиданное поведение. Но кто сказал тебе, Ольга, что это был именно Аугустус?
– Антон Вуаль, – ответила Ольга. – Он это видел, он это слышал. Он сказал мне, что понял интуитивно: увидев сына в белом панцире, Аугустус непременно подскочит и, подобно раненому льву или альбатросу, пойманному матросом-шутником, закричит. Когда Хэйг появился, Антон Вуаль увидел, что Аугустус побледнел, стал совсем белым, поседел на глазах; он увидел – рассказывал он мне, – что в нёбе у него зарождается крик. Он хотел вскочить, остановить Аугустуса, но ему не удалось сделать и трех шагов, как тот закричал, и крик этот, рев, был нечеловеческим – это был рев Астарота, рев погибающего Сфинкса, Grido Indiavolato,[333] вырвавшийся из горла, изорванного грифом. Хэйг пошатнулся и сразу же упал; впечатление было такое, что его словно ударило молнией. О крике Аугустуса тотчас же забыли, настолько оглушительным, ошеломляющим был шум, вызванный падением, так сильна была паника, охватившая зрительный зал.
– Я сама едва не умерла смертью Хэйга, – продолжила Ольга свой рассказ. Я при всем присутствовала. Когда он упал, когда все увидели, что панцирь треснул, я сама, потеряв сознание, упала. Меня уложили в кровать, где я пролежала без сознания неделю. Затем доктор начал подносить мне к носу препарат с сильнейшим запахом аммониака. Тогда я наконец открыла глаза. Антон Вуаль помогал мне, держал мою руку в своей руке. Он рассказал мне, не спеша, о том, что произошло: проникнув в больницу, где находился покойный, Аугустус выкрал его тело. Я хотела сразу же ехать в Азенкур.
– Нет, – сказал мне Вуаль, – вы еще нездоровы. Аугустус набросится на вас, как разъяренный ягуар: ведь ваша фамилия – Маврокордатос и он считает, что его сын погиб из-за вас!
И тогда он рассказал мне о моем происхождении, о Проклятье, связанном с моим именем. Но, отвергая все эти предположения, я просто взывала:
– Это из-за него самого погиб Хэйг, из-за его безумного крика. И значит, я исполню Проклятье, которое действует на меня независимо от меня самой, исполню, ибо он стал причиной мгновенной смерти моего мужа!
Но в течение полугода Антон Вуаль не отходил от меня, сопровождал всюду. Я мечтала убежать, умчаться в Азенкур, чтобы увидеть, как умрет от моей руки Аугустус. Но Вуаль оказывал на меня чудодейственное влияние. Иногда мне казалось, что я уже готова отказаться от его неустанной заботы, но сочувствие его было таким дружеским! Когда он утешал меня, я забывалась. Он развлекал меня. Я переставала думать о смерти любимого. Если меня одолевала печаль, Антон всегда находил для меня теплое слово. Если иногда на меня, омрачая мой разум, находило желание убить Аугустуса, Антон быстро находил способ успокоить меня.
Я покинула сцену. Вообще перестала петь. Значительный капитал, прямой наследницей которого сделала меня Анастасия, принес мне за те двадцать три года, которые он был задействован в банке, немалые годовые – одни они позволяли мне вести жизнь вовсе не бедную. Что же касается Антона Вуаля, то, подобно Ларбо,[334] скажем так – «Барнабуту»,[335] он имел огромнейшие прибыли от одного дела, источника, который казался неиссякаемым: доходы ему приносила добыча цинка, стронция, радиоактивного свинца, кобальта.
Мы путешествовали. Изведали и страшные муки трансатлантического путешествия, и ночи в ледяной неуютности кемпинга, и очарование пейзажами, и печаль по верному вкусу слишком рано прерванных аккордов.
Однажды, уходя с бала, где Вуаль дал мне возможность удовлетворить мою страсть к мазурке, он признался мне в любви. Я открылась ему, сказала, что он мне самой не безразличен. У меня, конечно, были воздыхатели, но он был поклонником особенно галантным, услужливым, любезным, ухаживал за мной с вниманием совершенно очаровательным, дарил мне бриллианты, и все выходило у него красиво. Он заказывал для меня фаршированных садовых овсянок и иранскую икру…
– Черную или красную? – полюбопытствовал гурман Амори.
– Да замолчи ты, обжора брюхастый! – оборвал его, выйдя из себя, Артур Уилбург Саворньян.
– Он отдал в мое распоряжение своего слугу, – продолжила Ольга, теребя носовой платок, она была готова зарыдать. – Каждое утро в моей спальне появлялась новая охапка разных диковинных цветов, которые он в середине марта доводил до совершенства в своей теплице, неся огромные расходы на транспортировку их грузовым самолетом.
Но по мере того как укреплялась объединявшая нас связь, в то время как в радостные дни умиротворяющего досуга я забывала о Хэйге, об Урбино, об Аугустусе, в то время как я, отдаляясь во времени от произошедшей беды, находила успокоение, Антон становился все более мрачным. Я не знала почему, но изо дня в день состояние его тревожило меня все больше. Казалось, что он страдает от какого-то постоянного беспокойства, что его гложет какая-то коварная болезнь. С его лица не сходила гримаса уныния. Он никогда не расставался с талисман, привязанным тонкой золотой цепочкой к правой щиколотке. Однажды я случайно увидела этот талисман: это была некрасивая, невзрачная, я бы даже сказала несуразная штучка, возможно из свинца, словом, типографский мусор; я поинтересовалась, почему он сделал своим талисманом такую никудышную побрякушку, но он рассердился, закипел от гнева, настолько яростного, насколько и внезапного, до такой степени, что даже стал оскорблять меня и ни за что обвинять. Я уже было подумала, что он испепелит меня. И убежала.
Он не появлялся три дня. Затем пришел ко мне вечером, улыбающийся, но говорил со мною так, что мне стало не по себе.
– Сегодня исполняется шесть лет, – сказал он, – как мы вместе идем горами и долинами, пересекаем разные страны, посещаем дворцы и замки, восхищаемся прекрасными пейзажами. Горе отступило от тебя. Тебя покинула мысль о мести Аугустусу. Тебе нужно отправляться в Азенкур, ты должна утешить Аугустуса: у него нет больше сына, так пусть будет хотя бы невестка!
Я сказала тогда, едва сдерживаясь, чтобы не заплакать:
– Плевала я на Аугустуса, я люблю тебя! Ты спас меня. Оставишь меня – и я совсем пропаду!
– Нет, – сказал Антон; он был глух ко всем моим мольбам. – Ты найдешь в Азенкуре покой. Что же касается меня, то я отправлюсь куда-нибудь подальше отсюда. Ибо Проклятье, поразившее Хэйга, уничтожит и меня!
– Но почему?
– Ты сейчас узнаешь. Аугустус не был Хэйгу родным отцом. Он усыновил его по настоянию одного бродяги по имени Трифиодорус. Аугустус никогда не знал, кто был настоящим отцом Дугласа Хэйга. И Дуглас Хэйг также этого не знал. Но я узнал, в самых общих чертах, совершенно случайно три месяца назад, что им является – да-да-да! – упомянутый Трифиодо-рус.
– Но с чего ты это взял? – воскликнула я сердито.
– Потому что три дня назад я узнал из записки, которую неизвестный положил мне в карман смокинга, когда я покидал казино д'Альби, где аплодировал незадолго до этого вместе с другими Лолите Ван Парабум, той, что была некогда звездой «Крэйзи Салуна», узнал, значит, что и мое на свет появление произошло при обстоятельствах более чем необычных. Я всегда считал, что моим отцом был ирландский магнат, который умер от инфаркта, когда мне должно было исполниться пять лет, и оставил меня на попечение своего ближайшего компаньона, который, в свою очередь, будучи ханжой, отдал меня на воспитание монаху-францисканцу. Но нет! Моим настоящим отцом, сообщили мне, был также человек по имени Трифиодорус!
– Что?!
– Да!!
– И тогда?!..
– Да, ты поняла. Хэйг приходился мне братом!
– Это что же? – У Амори Консона даже дух захватило. Хэйг – брат Антона? Всякое доводилось узнавать, но такое!..
– В это и поверить невозможно, – поддержала его Скво.
Однако Артур Уилбург Саворньян, вид у которого был вовсе не удивленный, сказал:
– Тсс! – И добавил: – Помолчим, пусть Ольга закончит свой рассказ, не будем слишком удивляться, ибо учтите: до наступления ночи мы можем услышать еще о многих самых невероятных вещах, недоразумениях еще более парадоксальных, узнаем об ударах судьбы еще более поразительных.
Наверняка, говоря так, Артур Уилбург Саворньян знал, на что он намекает. Однако не будем опережать события…
Ольга продолжила свое страстное повествование, растянувшись, кто на диване, кто на софе, они забывались иногда ненадолго сном, ибо слушали – сначала Скво, потом Ольгу – с самого утра. Более того, трудно было понять, к чему все это приведет, хотя и было очевидным, по меньшей мере, то, что действие непрерывно подскакивало, опрокидывалось, совершало кульбиты, следуя самым строгим традициям написания романов.
– То, – продолжила Ольга, – что Антон и Дуглас Хэйг приходились друг другу братьями, являло собой обстоятельство очень сложное, более чем небывалое, однако еще не означало, что Антон должен был бежать куда глаза глядят. Я спросила, что заставляет его пойти на такое решение. Он ответил, что боится: а вдруг Проклятье, обрушившееся на брата, поразит и его самого?
– Где гарантия, что я не окажусь следующим? – говорил он. – Если есть истина в Законе Возмездия, который выписан белым по черному на краю бильярда в гостиной дома Аугустуса в Азенкуре, если это правда, что твой злопамятный папа, Албен, ненавидел нас всех так сильно, то мне остается лишь одно: бежать подальше, как можно дальше, прервать нить притяжения, вырваться из плена чарующей власти, что связывает меня с тобой.
– Я никогда не хотела смерти Хэйга! Его сразил голос Аугустуса, а не моя рука!
– Нет, – сказал тогда Вуаль, – Проклятье исполнилось, когда Хэйга облачили в панцирь. Никто из нас не хотел его смерти. Он был сражен силой закона, который карает нас, – вот и все. Мы могли бы действительно умереть в единении, но Аугустус обеспечит твою судьбу; что же касается меня, то, поскольку я был наделен способностью более тонкой, я пойду до конца, желая уловить неясное слово злой судьбы, которая ожесточается против наших имен!
Он поцеловал мне руку. И тогда я зарыдала. Меня просто трясло. Он велел мне ехать в Азенкур. Затем, не проронив больше ни слова, ушел.
Он устроился адвокатом в Обюссоне, но наверняка дела у него пошли не слишком хорошо. Я не знала, почему, но через три месяца он уже пребывал, как я выяснила, в Иссудуне, занимаясь там общим правом. Позже он переехал в Орнан;[336] мне случайно стали известны некоторые обстоятельства его тамошнего положения; он по-прежнему разъезжал на мотоцикле, захолустные девицы приходили от него в неистовый восторг, в сумке у него всегда лежала толстая рукопись, поговаривали, что это фундаментальный труд, посвященный одному грамматическому нюансу, близкий к завершению. Об Антоне шла молва мужчины обходительного и вежливого. Однажды он сделал доклад по поводу сослагательного наклонения на симпозиуме в Ломонде. Но у него тогда была связь с женщиной, работавшей в магазине кожаных изделий. Затем он скомпрометировал себя еще и тем, что сделал в трибунале плохой доклад. В результате он был вынужден покинуть Орнан.
Позже он послал мне свое последнее письмо. Он писал, что работает в Юрсене,[337] в Эне. Из письма я поняла, что живет он в меблированной квартире. Я заглянула в атлас и узнала, что Юрсен находится неподалеку от Ойонакса, в самом сердце Юрских гор, что городок этот просто прелесть. Затем – это было последнее, что я о нем узнала, – до меня дошла весть, что живет он в Ивазулее, в самой настоящей дыре, неподалеку от Юрсена, – об этом местечке уже невозможно было ничего разузнать. За все эти годы – прошло двадцать лет – о том, где он живет, где служит и жив ли он вообще, до меня не дошло ни весточки…
Вот и все, – заключила Ольга. – Что же касается меня, то я, смирясь, отправилась в Азенкур. Сначала Аугустус был против моего пребывания там. Но затем его сердце дрогнуло, и он открыл мне дверь своего дома. Что было дальше, знают здесь все…
– Ночь наступает, – сказала Скво устало. – Мы го лодны. Не мешало бы выпить. К тому же мы не покормили Иону. Вот уже три дня, как он не получал никакого корма. Нужно немедленно ему что-нибудь отнести, иначе он погибнет.
– Да, – откликнулись все, – мы пойдем покормим Иону.
Вышли из дому. На дворе была уже ночь. Было тепло. Дул ласковый южный ветер, шелестела листва большой акации. Подошли к пруду. Стали насвистывать мотив, на который отзывался умный карп. Затем стали кричать: «Иона, Иона!»
Но карп не появлялся.
– Что-то случилось, – встревожилась Скво, – вот уже двадцать лет, как Иона привык к моему голосу, отвыкнув от голоса Хэйга.
Пользуясь фонариком, осмотрели все вокруг. Затем опустили в яйцеобразной формы пруд рыбацкую сеть. В нее попало несколько головастиков, анчоус, калкан, тунец, по меньшей мере десятка два с половиной гольянов.
Наконец был выловлен и Иона. Он был мертв. Некогда махонький карпик за эти годы здорово подрос, вымахал в длину метра на полтора, не меньше. Его белый зоб сверкал в тусклом свете фонарика.
Пьянящее мгновение! Глубокое горе! Инстинктивное знание все еще бегущей беды! Черный горизонт! Фатальный знак! Дурное предвестие!
Собравшиеся едва сдержались, чтобы не заплакать: все так любили Иону, этого дружелюбного карпа, который поднимался со дна пруда, заслышав знакомый мотив. Всех охватила печаль. Иона умер, и впечатление было такое, что близок конец Азенкура, настолько эта разумная рыба символизировала дом Ау-густуса.
Артур Уилбург Саворньян предложил съесть карпа, подобно папуасам, чтобы оказать ему таким образом последнюю почесть, ему, карпу, которого так любили, которого так лелеяли, которого обожали, боготворили, – и это будет его пресуществление.
Предложение было встречено аплодисментами.
– Съедим его в фаршированном виде, – сразу же предложила Скво. – У меня был когда-то в Сан-Франциско друг еврей, Авраам Барух, – добавила она, – и хотя он был необрезанным, отмечал Бар-Митцвах и ходил к раввину в дни Шавуота, Пурима, Ханука, 5 йар, Рох Ха-шана, Йом-Кипур,[338] – так вот, тот еврей научил меня искусству приготовления Гафилт-Фиш.
В то время как Иона отмокал в тазу, избавляясь таким образом от ужасного запаха ила, такого характерного для карпа, Скво забросила в кастрюлю килограмм мелко нашинкованного лука, смесь чеснока, тмина, чабреца, паприки, шафрана; затем посолила все это, поперчила, посыпала анисом; после добавила капусту, люпин, брюкву, топинамбуры. Получился наваристый бульон.
Ольга положила Иону на доску для разделки рыбы, а затем одним ударом разделочного топора разрубила его.
И сразу же послышался оглушительный крик.
Все сбежались на кухню. Невестка консула – вид у нее был совершенно дикий – показывала пальцем на уголок доски: там сверкал Заир, выпавший, очевидно, из желудка карпа!
Тогда стало понятно, что Хэйг двадцать восемь лет назад в порыве любви к карпу бросил ему Заир, который снял с пальца Аугустуса.
Ольга вздрогнула, что-то пробормотала, поднесла ко лбу руку, окрашенную кровью рыбы, – и упала навзничь, ударившись макушкой об пол.
Ее подняли, отнесли в соседнюю комнату и положили на диван. Пытались вызвать по телефону врача, фельдшера, пусть даже аптекаря, кого угодно, кто мог бы помочь спасти женщину: сделать ей переливание крови, наложить шов, перевязать рану жгутом, – но все напрасно.
Ольга бредила. Затем у нее перестал прощупываться пульс. Зрачки потеряли прозрачность. Из легких с хрипом вырывалось какое-то пришептывание. Вздрогнув в последний раз, невестка консула, казалось, хотела во что бы то ни стало что-то сказать, но издала лишь почти неслышный звук, расплывающийся, перешедший в бульканье.
– Что? Что? – пытался вырвать у нее это слово Амори.
Наклонившись, Скво приложила ухо к груди Ольги – так индейцы прикладывают ухо к рельсе на железнодорожном пути, чтобы узнать, не появятся ли сейчас на горизонте большие кони белого человека.
Ольга прошептала что-то нечленораздельное. И тут ее тело, еще мгновение назад напрягшееся, внезапно обмякло.
Где-то наверху Атропос[339] оборвал свою нить. Душа Ольги поднялась в рай, чтобы навсегда там соединиться с душами Хэйга, Аугустуса, Ионы.
– Разобрала ли ты хоть что-то из того, что она пыталась сказать? – спросил Артур Уилбург Саворньян у Скво.
– Мне показалось, что одно слово я уловила: Проклятье! Проклятье! Ольга произнесла его три раза, затем ее голос ослабел и, что она хотела сказать дальше, я не поняла.
20
Глава, которая, несмотря на вдохновение знакомого дуэта, приведет лишь к нездоровой атмосфере
– Проклятье? – спросил с сомнением в голосе Амори.
– В это не так уже и трудно поверить, – высказал свое мнение Артур Уилбург Саворньян.
– Ты думаешь? – все еще сомневался Амори.
– Ну да! Я полагаю, это болезненная травма, карбункул или, скорее, панариций,[340] поразивший голосовые связки, что повлекло за собой сужение или воспалительный процесс, и это делает невозможной или, по меньшей мере, затрудняет дикцию, отсюда и название болезни.
– Ах! – воскликнул Амори, который ничего не понял. – Но почему она выбрала в такой момент такое приблизительное слово?
– Почему? Чтобы в конце концов мы узнали, что Ольга мучилась от удушающего кляпа: жажда невысказанного, имея для того, чтобы быть удовлетворенной, всего лишь один скачок и будучи неспособной переживать до бесконечности (никогда до пресыщения, всегда в неудовлетворенности знанием более чистым на горизонте предписанного поля), что есть лишь одно Зло, Зло, от которого мы все страдаем, Зло, чье ужасающее бремя несем на себе, Зло, из-за которого умер сначала Дуглас Хэйг, затем Антон Вуаль, затем Хассан Ибн Аббу, Аугустус и вот только что Ольга, Зло, из-за которого мы претерпеваем муки, и они тем сильнее, чем настойчивее, но – увы – тщетно мы пытаемся найти этому Злу имя, ибо мы никогда не перестанем спрямлять его окружной путь, расширять его юрисдикцию, его прерогативу, выступать все время против его абсолютной власти, никогда не видя, как возникает на горизонте Табу, которое оно замышляет, – слово, имя, звук, которые, говорят: «Вот твоя Смерть, вот где зарождается Проклятье». Но есть также слово, которое говорит, что нет границы и, следовательно, есть Спасение.
Нет: во вкрадчивой цепи названного здесь знака нет никакого спасения. Считалось, что Антон и Аугу-стус познали Смерть, не имея возможности сознаться в мучительном беспокойстве, которое не покидало их. Но нет! Их постигла Смерть, потому что они не могли, не умели сознаться, не выкрикнули какое-то незначительное слово, какой-то незначительный звук, который тотчас же навсегда уничтожил бы Сагу, в которой мы кричим, словно младенцы. Ибо мы молча построили Возмездие, которое преследует нас сегодня; мы замолчали Проклятье, мы не назвали его имени, и теперь нас наказывает Возмездие, о котором мы совершенно ничего не знаем; мы познали Смерть, мы познаем Ее всегда, будучи неспособными уйти от нее, никогда не зная, почему мы умрем, ибо, произойдя из Табу, которым мы называем Все, что находится вокруг нас, никогда не углубляясь до конца (тщетное пожелание, потому что, сказанное или написанное, оно сразу же уничтожило бы двусмысленную власть речи, в которой мы выживаем), мы будем всегда молчать о Законе, который воздействует на нас, заставляя нас умирать, коснея в неразглашении, питавшем его распространение…
– Твоя речь, – сказал тогда Амори, – попадает в цель точнее, чем кажется. Но мы преодолели такое значительное расстояние! Кто бы мог подумать вначале, что будет достаточно одного Исчезнувшего, одного Антона Вуаля, умершего, покончившего с собой, отбывшего далече, чтобы нас охватило такое колоссальное беспокойство? Но, хотя мы и знаем во всякое мгновение, что есть в наших действиях, в наших речах одни лишь обязательства, что нет в них случайного слова, ибо все в них имеет безотлагательно свое оправдание, а следовательно, и свое значение, можно было бы поверить в то, что мы читаем роман с нарочито запутанной интригой, готический роман, подобный романам Метьюрина,[341] Яна Потоцкого,[342] Гофмана, раннего Бальзака, до Вотрена, Горио, Понса или Растиньяка, в которых безграничное и бесконфликтное воображение бумагомарателя, зарабатывающего свой хлеб – скорее плохо – тем, что ежедневно поставляет для следующего выпуска, бесконечно подсчитывая число страниц, свою порцию, свой рацион неуместной пачкотни, – воображение это создает нить повествования, чья аффубулизация, кажется, выходит из совершенно размягченной извилины мозга тихого сумасшедшего, со своими сногсшибательными «кониками», настолько в повествовании этом возникает во всякое мгновение случай, отступающий от предмета речи, черпающий вдохновение, можно сказать, в выборе настолько же прерывающемся, насколько и непостоянном, настолько же бескорыстном, насколько и инстинктивном!
– Да, – поддержал его в свою очередь Артур Уилбург Саворньян, – некоторые скажут: «Вот что кажется парадоксальным!» – но это представляется мне столь правдивым, что есть в этом для меня почти Закон сегодняшнего романа: чтобы иметь интуицию воображаемой власти без ограничения, идя до бесконечности, питая себя в колоссальном приросте, в никогда не виданном, идущем всегда по возрастающей, необходимо, если не достаточно, избегать случайных слов, которые возникли бы, так сказать, вследствие чистого наития, вздора, напротив, всякое слово должно появляться, пройдя через мельчайшее сито отбора, согласно требованиям высочайшего канона!
– Тогда, – продолжил лирическим тоном Амори Консон, – тогда, будучи глухим к смутному потоку, который иссушает наши речи, Воображение с бесконечными звеньями, тогда Воображение с лазурными пальцами рождается из кривого пробега, который нам нужно совершить, чтобы зачернить мгновение, из одного слова, выбранного изо всех, незапятнанность Рукописи!
– Ого! – воскликнула Скво, встревоженная тем несообразным оборотом, который приняла беседа. – Ты опускаешься, Амори, до болтовни о книжонках, в то время как рядом с нами – тело только что почившей Ольги!
– Извини, Скво, извини, – сказал Амори, смутившись, а то и растерявшись.
– Бежим подальше отсюда, воздух кажется мне здесь слишком нездоровым! – вскричал вдруг Артур Уилбург Саворньян.
– Нет, – сказала Скво, – не будем забывать о том, что Алоизиус Сванн обещал вскоре прибыть. Он наверняка сможет нам помочь, и помочь немало. Если он едет на машине, то будет у нас к концу дня. Поужинаем, мы ведь сегодня даже ни разу не перекусили, а затем займемся нашими делами в ожидании Алоизиуса.
Поужинали. Ели умеренно: все, хотя и проголодались, находились, конечно же, под впечатлением произошедшей у них на глазах трагедии и не могли отдаваться гурманским утехам. Пожевали немного без особого аппетита. Скво, однако, предложила:
– Невзирая на смерть Ольги, попробуем, не стесняясь, несравненное блюдо с горгонзолой, которую Аугустус обожал настолько, что мне приходилось даже выходить иногда из дому ночью, чтобы купить у уличного торговца необходимые для его приготовления продукты, запасы которых были уже на исходе…
Но к горгонзоле никто и не притронулся, так же как и к холодной дичи, и к слоеным фруктовым пирожным, фаршированным а ля Шантильи…
Артур Уилбург Саворньян страдал от сильной мигрени. Ему заварили целебный настой, затем дали таблетку салдигала, хотя сам он желал бы принять опталидон. Он прилег на минуту, уединившись в спальне, сказал, что хочет немного поспать.
Амори Консон решил проверить, нет ли в доме копии, рукописи или черновика, которые, подобно танка, помогли бы получить какие-либо дополнительные сведения. Он нашел несколько картонных листов, просмотрел десяток полок, на которых Аугустус хранил романы, ученые труды, мемуары.
Однако поиски не принесли никаких результатов. Амори вышел. Погода стояла хорошая, было не холодно и не жарко. Он закурил «трабуко», сигару с тончайшим ароматом, которую обнаружил в курительной комнате Аугустуса. Затем обошел весь парк – а он был немал, – вдыхая чистый вечерний воздух, придававший сигаре изумительный пикантный привкус.
Кто поверил бы в то, думал он, что в такой прекрасный вечер, в таком чудном саду, где все навевает умиротворенность, могло произойти столько смертей? Кто поверил бы в то, что можно увидеть Смерть в раю, где все кажется таким нежным?
Где-то вдалеке проухала сова. Он вспомнил – не очень-то понимая, почему птица Палласа ассоциировалась у него со столь смутным знанием, – что читал когда-то, лет десять или даже двадцать назад, один роман, в котором также присутствовал сад, где торжествовала Смерть. Общественный сад, любил ли он его? Да. В таком случае он должен был обеспечить его спасение.
Где он это прочитал? Позже изгоняли постороннего: ни один добрый самаритянин не предложил ему в своем сострадании руку помощи. Его бездыханное тело бросили на дно оврага.
Он долго сидел на покрывшейся мхом скамейке неподалеку от большой акации – ее листва дрожала с шумом глухим, но непрекращающимся; этот шелест-шепот, эти гудящие вздохи казались порой загадочными, усыпляющими.
Он испытывал раздражение: ему никак не удавалось ухватить ту вкрадчивую нить, из которой ткалась его ассоциация. Роман? Разве не записал однажды Антон Вуаль в своем Дневнике, что ответ давал роман? Внезапно в памяти замелькали названия, имена: «Моби Дик»? Малколм Лаури? «Сага Не-А» ван Вогта?[343] Или увиденные в зеркале три шестерки на незапятнанной чистоты четвертой сторонке обложки книги Кристиана Бургуа?[344] Или мрачный Знак Включения, трехпалая рука, изображенная на одной галлимаровской[345] книге Рубо? «Белое, или Забвение» Арагона? «Великий тщетный крик»? «Исчезновение»?
Внезапно Амори подскочил. Ночь вдруг показалась ему прохладной. Он вздрогнул.
Он докурил сигару, отбросил окурок в сторону – огонек «трабуко» осветил на какое-то мгновение стоявшую вокруг темноту. У него было такое ощущение, что он не знает, где сейчас находится. Густая трава смягчала его шаги, в то время как он думал, что пересекает усыпанную щебнем просеку. Он зажег фонарик, но свет его был настолько слабый, что он так ничего и не разобрал. Он посмотрел на часы, было без двадцати двенадцать, однако, приложив часы к уху, он не услышал их тиканья. Разволновавшись, он выругался. Учащенно забилось сердце.
Амори Консон шел очень осторожно, делая очередной шаг, он выносил ногу вперед. Сначала он натолкнулся на стену. Затем угодил в яму, заполненную – сразу же понял он – росой, которую Аугустус использовал для утренней очистительной ванны. Затем, уже совершенно заблудившись, зашел в кусты – пахучая смородина соседствовала там с недружественной туей, – выбраться откуда он смог с большим трудом, изрядно оцарапавшись.
В конце концов он все-таки отыскал дом, а ведь начинал уже было думать, что сгинет в гуще этого парка. Ему показалось, что в доме никого нет. В окнах не горел свет, все тонуло во мраке.
– Наверное, – пробормотал он, – произошло короткое замыкание.
Он вошел в темный коридор. На ощупь добрался до гостиной, нашел там диван, опустился на него. Он весь дрожал.
В доме стояла мертвая тишина.
– Где же Саворньян, Скво? – встревожился он. – И почему не прибыл Алоизиус Сванн?
Тогда – он не понимал, почему, – его охватила паника. Вдруг шею пронзила нестерпимая боль. И сразу же жутко заболела голова.
– Наверное, я отравился, – чуть ли не простонал он. – Что-то, видно, несвежее съел за ужином…
Он хотел было вскочить, поискать, нет ли здесь где-нибудь какого-либо сердечного средства, сиропа или рвотного. Закралось подозрение: в вино ему кто-то подсыпал яд.
– И я также! В свою очередь! Я понял, меня отра… он меня отра… – чуть ли не выл он, не зная, правда, кого имеет в виду.
Казалось, он вот-вот впадет в глубокую кому. Но он все-таки поднялся, пусть и с огромным трудом, и сумел выйти в коридор.
Ну почему, сетовал Амори, он в свое время так легкомысленно отказался от прививки, делающей организм невосприимчивым к ядам, которую рекомендовали ему по меньшей мере раз двадцать?…
Ну что ж, настал его последний час? Нет, черт побери, выругался он. Он должен выпить какое-нибудь противоядие или хотя бы молоко. Он вспомнил, что наверху, в одной из комнат в той части дома, которую занимал Артур Уилбург Саворньян, стоит флакон с гоматропини гидробромидиумом:
Он наверняка поможет.
На ощупь с большим трудом Амори поднялся наверх, вскарабкался в полной темноте по винтовой лестнице…
V. Амори Консон
21
Глава, которая по прохождении кратчайшего пути поведает нам о смерти уже упоминавшегося индивидуума
Поздно ночью Алоизиус Сванн в сопровождении Оттавио Оттавиани прибыл в Азенкур. Отбыв еще до полудня из комиссариата пригородного района Сан-Мартен (как раз там хранилось множество документов, связанных с исчезновением Антона Вуаля), он вел свой «форд мустанг» с мастерством, достойным самих Фанджио, Стирлинга Мосса, Джима Кларка или Брэбхэма.[346]
Но складывалось такое впечатление, что злые силы всю дорогу насылали на него разные напасти (ибо, каким бы рьяным приверженцем Великого Вишну ты не был, в инкарнацию, транссубстанциацию или трансформацию Алоизиуса Сванна поверить нелегко): по меньшей мере шесть раз машина останавливалась без видимой причины, вынуждая Оттавио Оттавиани приступать к работе долгой и сложной, состоявшей в том, чтобы улучшить, педантично, блок за блоком, блочок за блочок, состояние этого движущегося многочленного механизма – от шасси до поршня, от капота до трансмиссии.
Затем он угодил в овраг, который по благоприятной случайности оказался не очень глубоким.
Наконец, Алоизиус раздавил – по очереди – индюка, кота, стриженую болонку и в довершение ко всему мальчишку, которому не было еще и шести лет, разгневав народ в ближайших населенных пунктах до такой степени, что уже начал опасаться за собственную жизнь.
– Уф, – радостно вздохнул Оттавиани, в то время как Алоизиус останавливался в центре большого облака пыли, – вот мы и на месте, и, надо сказать, не очень-то рано!
– Как бы ни было слишком поздно, – с сомнением в голосе возразил Алоизиус, – смотри: в доме ни лучика света, полный мрак и запустение.
– Да они все уже спят, – успокаивал Оттавиани своего шефа, – вот и все дела.
– Та-ра-та-та, – усмехнулся невесело Сванн, – времечко для сна, сдается мне, они выбрали не самое лучшее. Знают же, что мы должны приехать, могли бы хоть дверь оставить открытой.
– Позвоним, – сохранял хладнокровие Оттавиани.
Он трижды нажал на кнопку звонка возле двери – звук был не громкий и пронзительный, а мягкий и чистый. Прошло довольно много времени, однако никто к двери так и не подошел.
– Ты видишь, – сказал удрученный Алоизиус, – они все мертвы. – Затем, косясь на Оттавиани с двусмысленным видом, он едва слышно прошептал: – Нет, есть в доме по меньшей мере один человек, который еще жив, но, я полагаю, напился он как сапожник!
– Спокойствие, – выступил на авансцену действа Оттавиани.
Казалось, он не понял, что хотел этим сказать Алоизиус. Но вскоре с помощью одного лишь перочинного ножика ему удалось взломать дверь.
– Входим, – предложил он.
Он вошел в дом с некоторой опаской; в нескольких шагах позади шел Алоизиус Сванн, который, казалось, дрожал от страха. Но внезапно они увидели в темноте луч фонарика. Всмотревшись, узнали Скво.
– Ты видишь, – сказал Оттавио Оттавиани, – мы напрасно переживали – вот Скво!
– Слава Богу, приехали! – вскричала Скво опечаленное Заждались мы вас!
– Вид у тебя, Скво, не очень-то веселый, – заговорил Алоизиус, – что случилось?
– Аугустус помер!
– Но мы же из-за этого и приехали!
– А следом за ним и Ольга!
– Ольга?! – подскочил Оттавио Оттавиани.
– Да, Ольга, а еще и Иона!!!
– Иона? – удивился Оттавиани. – Я не знал, что здесь должен быть еще и какой-то Иона.
– Да это карп! – проворчал Алоизиус.
– Ах, вот оно что! – только и смог произнести Оттавиани, несколько замороченный: он плохо понимал, почему это какой-то неразумной рыбе дали человеческое имя.
– Но где? Когда? Почему? – сыпал Алоизиус Сванн вопросами.
– Ты хочешь сразу все узнать, – запричитала Скво, – но пройдем сначала в гостиную, выпьем немного, иначе утренняя прохлада проберет нас до костей.
В доме было темным-темно, словно в глубине огромной печи.
– Произошло короткое замыкание, – сказала Скво, – наверняка перегорела пробка, но мы не смогли, сколько ни пытались, ничего поделать. Более того, здесь нет ни одного фонаря, кроме этого – вы видите, какой с него прок.
– Не печалься, Скво, – утешил ее Оттавиани, – мы выслушаем тебя и в темноте, тем более что до рассвета уже немного осталось.
В кромешной темноте добрались до курительной комнаты. Там при слабеньком свете фонарика, от которого к тому же изрядно воняло, Скво перечислила полицейским всю ту ужасающую серию ударов, которая сотрясала дом Клиффорда на протяжении сегодняшнего дня:
Вторжение Амори Консона в сопровождении Артура Уилбурга Саворньяна;
Конфронтация бесчисленного множества сведений, касающихся исчезновения Антона Вуаля:
Его Дневника,
Альбома Аугустуса,
Незапятнанной танка, выбеленной на черном картоне,
Неоригинального свода шести мадригалов, записанных Антоном для Ольги, который Аугустус перефразировал в волнующей речи;
Смерть Аугустуса, который утром, собираясь идти кормить Иону, выкрикнул внезапно: «Заир!», затем рухнул замертво на пол;
Сага о Заире:
Появление Хэйга вследствие вышеупомянутого вторжения Трифиодоруса,
Вера Отона Липпманна,
Утренние очистительные ванны,
Исчезновение Заира,
Смерть Отона Липпманна,
Призвание Хэйга,
Белая россыпь на краю бильярдного стола,
Бегство Дугласа Хэйга из дому,
Появление Антона Вуаля,
Проклятье Хэйга,
Родственная связь клана Маврокордатос,
Страсть Албена,
Убийство Албена Отоном,
Запись, затем перевод Катуна, проявившегося на краю бильярдного стола,
Смерть Хэйга в Урбино, смерть, относительно которой существуют как минимум три версии;
Рассказ Ольги о ее любви к Антону;
Исчезновение Антона, узнавшего о том, что его отцом, равно как и отцом Хэйга, является Трифиодорус;
Смерть карпа Ионы, которого собрались покормить;
Приготовление фаршированной рыбы по-еврейски;
Ольга потрошит Иону и находит в нем этот ужасный Заир, падает как подкошенная на пол, рассекает себе макушку, мгновением позже умирает, прошептав: «Проклятье!»
– Вот, – заключила Скво, – вся цепь великой беды, которая по-прежнему преследует нас, которая только сегодня трижды нанесла нам свои роковые удары!
– Гм, – сказал Алоизиус Сванн, – вот что кажется вполне ясным. Однако где наши друзья: Амори Кон-сон, Артур Уилбург Саворньян?
– У Артура приступ мигрени, и он прилег; что же касается Амори, то, думаю, он выходил прогуляться перед сном в парке, а сейчас они, должно быть, спят у себя в комнатах.
– Но почему ни один из них не подошел к двери, когда мы звонили? Оглохнуть можно было от наших звонков!
– Я думаю, – промолвила Скво, – они уже достаточно оглушены, чтобы слышать какой-либо шум, будь то даже рев самого Сатаны в вечер великого шабаша.
– Нужно, однако, чтобы все собрались здесь, – прошептал Алоизиус– Есть ли здесь какой-нибудь инструмент погромче: рожок, волынка, барабан?
– Есть рог, – сказала Скво, взяв с конторки олифант, чудо-инструмент, полубронзовый, полулатунный, которому было, пожалуй, не меньше тысячи лет.
Рассказывали – правда, скорее всего, это была легенда, – что некий паладин, по имени Аларих, вассал Клодиона Великого,[347] которого из-за очень густой шевелюры прозвали Самсоном, пообещал однажды на встрече вассалов после обильных совместных возлияний добрую долю немалых своих богатств тому, кто сможет извлечь звук из его рога (все это происходило, надо понимать, в глухом лесу!). Один проказник, худющий мальчишка, деревенщина, простолюдин без герба, принял вызов: подошел к олифанту, взял его в руку, подул в него, подобно швейцарцу, играющему свой излюбленный ранц,[348] и произвел звук настолько чистый, но в то же время и громкий, что Аларих– оглох. Клодион был так доволен (известно, что он боялся Алариха, все время видя в нем не столько вассала, сколько соперника), что сразу же, пренебрегая разумным предостережением одного пэра, сделал озорника своим любимчиком, дал ему дворянское звание, отдал ему свою невесту, замок, три донжона, шесть маркграфств, сказав, что тот всегда будет находиться подле него, Клодиона, подобно Роланду,[349] с которым никогда не разлучался Карл Великий.
Увы! Через три дня обнаружилось, что Илларион (так звали умельца), хотя и мог дуть в рог, совершенно не владел искусством стрелять из лука, биться с мечом, секирой или любым другим оружием и, столкнувшись в бою с сарацином, пузатеньким живчиком, наступавшим на него с сарбаканом,[350] хотел, фанфарон, нанести ему сокрушительный удар, однако был так неловок, что сам себя убил.
Алоизиус Сванн покосился на олифант, подобно начинающему музыканту, смотрящему на скрипку Страдивари или Амати, затем, вдохнув побольше воздуха, дунул в круглый конец трубы, но в результате получился какой-то несуразный, писклявый, едва слышный звук. «Трубить громить», – выругался он, употребив ругательство, весьма распространенное в его родном Кантале, от Орийяка до Сен-Флоура, от Пюи Мари до Мориака, где насчитывается по меньшей мере восемнадцать Сваннов и все они угольщики!
Будучи фанфароном, Оттавио Оттавиани предложил свое содействие: когда-то, сказал он, охотясь в своих родных лесах Ниоло на кабанов, пиренейских серн, туров или иную живность с рогом и просто улюлюкая, он научился этому искусству. Изящно взяв в руки олифант и взмахнув им, словно палочкой, которую передал ему Старший Барабанщик, он произвел, дунув в него, довольно зычное «улюлю», затем не без апломба сымпровизировал попурри (alla podrida[351]), наиграв очень известный мотив – польку Митара, песню дня, текст которой следует ниже:
~ Браво! Браво! Брависсимо! – зааплодировала Скво.
– Достаточно! – сказал или, точнее, проворчал Алоизиус, который в глубине души ревновал к успеху Оттавиани и считал, что будет неплохо его осадить, дав ему тем самым понять, что он находит его поступок если не коварным, то, по меньшей мере, дурным: подумать только – его заместитель, его правая рука может позволить себе соло, в то время как он, шеф, оказался способным лишь на какой-то жалкий писк!
– Хорошо, шеф, хорошо, – вздохнул Оттавиани; он хотя и подчинился, но был несколько раздражен.
– Теперь, – добавил Алоизиус Сванн, смягчая тон, – нашим приятелям остается лишь примчаться сюда. Мы ведь все для этого сделали, не так ли?
Прошло довольно много времени, однако никто не появился. В конце концов послышались тяжелые шаги; казалось, они доносились из глубокого подвала, затем они стали слышаться откуда-то сверху – видно было, что человек поднимался по лестнице с большим трудом.
И вот наконец перед ними предстал – окоченевший, опухший, совершенно обессилевший, просто оглушенный – Артур Уилбург Саворньян. Впечатляющий был у него вид.
– А, Оттавио, – вяло произнес он, едва ворочая языком. – Как ты здесь оказался?
– Артур, – удивился Сванн, – ты же знал, что мы приедем!
Не говоря ни слова, Саворньян с разъяренным видом почесал макушку, затем машинально потрогал нос. Наконец, узрев диван, доплелся до него, присел, обмяк и почти сразу же захрапел.
– Пусть англичанин немного поспит, – сказал Алоизиус Сванн. – Займемся лучше Амори: хотя и нет желания омрачать ваше и без того скверное настроение, все говорит о том, что он умер ночью!
– Амори умер! Но почему? – воскликнула Скво.
– Почему! Почему! Все время почему! – проворчал Алоизиус– Зачем всегда связывать со смертью «почему»? Он умер – вот и все! Его имени больше не будет ни в одном из справочников «Who is who»!
– Но ты так уверенно заявляешь об этом! Откуда тебе это известно?
– Я недавно понял, – ответил Алоизиус Сванн, – что рано или поздно он умрет.
Мы приехали, совершенно разбитые, в Нуайон. Я пошел в местный комиссариат: там могли что-нибудь мне передать. Дежурный вручил мне телеграмму. Вот что в ней сообщалось:
ПАРИЖ ТЧК ШЕСТОЕ МАЯ ТЧК ТРИ ЧАСА ДНЯ ТЧК УЗНАЛИ О СМЕРТИ ИВОНА КОНСОНА НА ПАРОСЕ[353] ТЧК ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПО ТВОЕМУ ПРИБЫТИЮ В АРРАС ТЧК
Я быстро направился в Аррас, но прибыл туда лишь ночью, столько самых разных неожиданностей случилось в дороге. Там я зашел в комиссариат, но застал на месте какую-то канцелярскую крысу, болтливого придурка, к тому же еще и глухого; он произнес передо мной целую речь, несусветную ахинею, из которой следовало, что он хочет прежде всего, чтобы его отблагодарили, дали ему на лапу. Взятку я ему дал, но мне потребовалось черт знает сколько времени, чтобы получить сообщение, подтверждающее смерть Ивона, – оно было найдено в конце концов в ящике, который я вскрыл с огромным трудом.
Таким образом, я узнал, что Ивон Консон, отбыв в Харвич[354] на борту катамарана, шедшего под ирландским флагом, плыл вдоль турецкого побережья и оказался в конце концов на греческом острове Наксос, затем на Паросе, где провел сезон – спал он на бор-но гулял по островку целыми днями. Однажды вечером, примерно неделю назад, он зашел в кабачок низкого пошиба, заведеньице для конопатчиков или матросни, где так называемый повар упаивал народ до смерти, подавая вместо ракии сивуху просто убойной силы, вместо ипокраса[355] – забродивший сок, вместо вина – пойло, происхождение которого установить было невозможно.
Почти сразу же к нему подошел незнакомец и предложил ему сыграть на его катамаран партию в триктрак.
– Сыграем, – ответил Ивон, – но не в триктрак.
– Во что же тогда? – спросил, усмехаясь, незнакомец.
Ивон предложил: в бэкгэммон, чет-нечет, в «Большого Яна», во «Все вниз», в «Форейтора», в «Битые уголки». В конце концов сошлись на занзи.
Бросили карты. Незнакомец выиграл: он вытащил туза, Ивон – лишь даму.
Человек скорчил гримасу и протянул Ивону руку.
– Поздравляю, – сказал он.
– Но у вас же был туз, а у меня – дама!
– Да, но у нас здесь свои правила: кто вытягивает туза сразу, тот проигрывает.
– Простите, – сказал Ивон вежливо, но твердо, – я не согласен; в противном случае я больше не играю.
– Хорошо, раз ты так хочешь, – усмехнулся незнакомец.
Продолжили.
Карты у него наверняка были меченые: он вытянул одним разом трех тузов!
– Черт возьми! – выругался Ивон, добавив про себя: вот простофиля, показавшийся мне жуликом, – однако на всякого мудреца довольно простоты!
Продолжили. И теперь уже Ивон вытянул трех тузов!
– Что?! – изумились все вокруг, не веря своим глазам.
Народ сгрудился вокруг стола игравших.
– Ф-ф-ф-ф-ф! – присвистнул, скривившись, нечистый на руку незнакомец.
Атмосфера была накалена до предела: не то что кровь – кости леденели.
Воцарилась мертвая тишина. Ни одна скамья не скрипнула. Никто даже к кружке своей не прикоснулся. Любой посетитель шмеля бы услышал, если бы тот залетел в таверну.
Все смотрели на Ивона. Тот с поразительным хладнокровием зажег трубку, затем допил заказанный ранее ипокрас.
– Ваша очередь, – сказал он незнакомцу.
Тот тяжело дышал. Бросили карты снова – и он вытянул туза.
– Теперь вы, – усмехнулся он.
Ивон, присвистнув, продолжил – и удача ему улыбнулась: он также вытянул туза.
– По нулям, – сказал он тихо.
– По нулям! – просто взвыл незнакомец. – Но на этом не кончаем!
– Оставь меня в покое, хватит уже! – попытался остудить его пыл Ивон.
Однако, объятый гневом, незнакомец схватил внезапно Ивона за воротник, затем вытащил нож и всадил его трижды по самую рукоятку в грудь сына Амори, – тот сразу же рухнул на пол.
– Выразим наши соболезнования, – сказала Скво. – Умер такой очаровательный молодой человек… но…
– Ивон – очаровательный молодой человек? – оборвал ее Алоизиус– Скорее молодчик!
– Пусть, пусть! – согласилась с ним Скво, впрочем, этот рассказ ее до конца не убедил. – Однако почему Амори Консон должен умереть сразу же вслед за сыном?
– Узнаешь позже, – ответил Алоизиус, – ибо речь идет о сверхважном моменте, о котором мы, если и знаем что-либо, то лишь смутно. Пойдем лучше поищем Амори.
Оставив Артура Уилбурга Саворньяна спящим на диване, обыскали дом. Но ни в одной кровати, ни на одном диване, ни на одной софе, ни в одном гамаке Амори Консона, живого или мертвого, не оказалось. Впечатление создалось такое, что он и не ложился вовсе под восхитительный балдахин, находившийся в его распоряжении, более того – даже и не был здесь никогда.
Скво, однако, нашла на пороге комнаты, расположенной рядом с тихой спальней, в которую тремя днями раньше поселили Амори, чтобы он мог там как следует выспаться, – нашла там лист из самого что ни есть белого бристольского картона, к которому были прикреплены десятка два с половиной фотопортретов, вырезанных большей частью из дешевых газет типа «Пари-Жур», «Дэйли Миррор», «Радар».
Выходя из комнаты, Скво увидела, что Алоизиус рылся в стенном шкафу.
– О Алоизиус, – воскликнула она, – иди сюда! Я нашла два с половиной десятка фотографий, которые наверняка смогут нам многое прояснить!
Все еще настороженный, Алоизиус Сванн подошел. Он долго разглядывал загадочное собрание фотографий.
– Скво, – заговорил он наконец, – а с чего ты взяла, что эти фотографии собирал Амори?
– Никто никогда прежде их здесь не видел, – ответила Скво. – Пять дней назад я, принимая этих двух гостей Ольги, застилала в этой комнате постель – и, поверьте мне, никаких фотографий, никакого картона тогда не было!
– На этом листе, – прошептал Алоизиус, – размещены портреты людей, которых я знаю, пожалуй, плохо, но как минимум пятерых-шестерых из них я хотел бы узнать получше.
Он показал пальцем на одну фотографию, которая, казалось, приводила его в ярость. Это был портрет человека с чертами, скорее тяжеловатыми, с густыми каштановыми волосами, слегка вьющимися; бакенбарды были, но усы отсутствовали; тонкий бледный шрам пересекал обе губы; оксфордская белая блуза без воротника под коричневой жилеткой, застегнутой на три пуговицы, связанной из тончайшей бечевки, – последнее придавало ему несколько фольклорный вид. Его можно было принять за цыгана, ярмарочного артиста или крестьянина-калмыка, а можно было и усмотреть в нем современного хиппи, бренькающего на банджо или балалайке где-нибудь в китайском квартале в Калифорнии.
Алоизиус Сванн обратился к Оттавиану, который рылся в чем-то неподалеку. В полиции говорили, что корсиканец, увидев однажды человека хотя бы мельком, уже никогда не забудет его лица.
– Оттавиани, – спросил он, показывая заинтересовавшую его фотографию, – тебе не доводилось видеть этого красавчика?
– Ей-Богу, нет, – сразу же ответил Оттавиани, – однако берусь утверждать, что этой фотографии не меньше четверти века!
– Ты прав, – подтвердил Алоизиус. – Пойдем взглянем на Артура Уилбурга Саворньяна. Больше искать толку нет.
Он снял фотографию с листа, оторвав клеящуюся ленту, которой она, как и все остальные, крепилась к нему, а затем, идя следом за Скво в сопровождении Оттавиани, добрался до комнаты, где по-прежнему спал Артур Уилбург Саворньян, и, войдя туда, прошептал:
– Тсс!.. Он спит, как сурок. Пусть себе отдыхает и дальше, ну а мы попьем шоколаду, поедим бутерброды, отведаем фрукты: нас ждет чертовски долгая и сложная работа.
Скво приготовила шоколад. Оттавиани намазывал маслом круассан. Алоизиус обмакивал в дымящийся шоколад сухарик. Попили, поели, согрелись.
Ночь подходила к концу, уже зарождался день, свет в гостиной был тусклый, наводил печаль. Жутко пахло сырым табаком.
– Здесь можно задохнуться! – воскликнул, чертыхнувшись, Оттавио Оттавиани.
– Подышим немного свежим воздухом, – предложила Скво и открыла окно.
Полицейские привстали – на них сразу же подуло бодрящим утренним холодком. Артур Уилбург Саворньян вздрогнул, затем подскочил – растрепанные волосы, помятая одежда, одутловатое лицо, в глазах прежняя ярость.
– Что? – не верил он своим глазам. – Уже день?
Ему предложили шоколад, однако он отказался: ему нужно было сначала принять ванну.
Его проводили в ванную комнату, из которой он вышел с улыбкой на лице. Он принял душ, надел свежие брюки, тенниску – в них он походил на спортсмена.
Все еще, конечно, обеспокоенный, Алоизиус спросил у него:
– Ты видел Амори Консона?
– Амори Консона больше нет! – ответил Артур Уилбург Саворньян.
22
Глава, в которой семейный обычай вынуждает впечатлительного мальчика закончить свой Gradus ad Parnassum[356] шестью убийствами
– Амори Консона больше нет, – повторил Артур Уилбург Саворньян. – Он лежит в подвале, в резервуаре с мазутом.
– Ты его там видел? – спросил Алоизиус озадаченно.
– Я бы его там увидел, но это короткое замыкание… Однако я долго слышал его крик, эхо в подвале его усиливало, а затем он бухнулся в мазут.
– Но когда? А главное, почему он упал? Ты его толкнул?
– Я бы это сделал, если бы нужно было, – ответил Артур Уилбург Саворньян, плохо скрывая охватившую его печаль, – но, желая наброситься на меня, я полагаю, он оступился, зацепился ногой за бордюр бассейна, пошатнулся и упал. Впечатление было такое, что его туда магнитом тянуло!
– Но почему он хотел на тебя наброситься?
Артур Уилбург Саворньян вздохнул, но не произнес в ответ ни слова. Вид у него был угрюмый.
Алоизиус Сванн достал из кармана фотографию, снятую им с листа картона – на ней был изображен бородатый мужчина, – затем, показав ее Саворньяну, сказал ему грозным тоном:
– Вот причина! Вот фотография, которая вызвала его гнев! Ты ее ему показал, да?
– Нет, – совсем тихо ответил Артур Уилбург Саворньян, – он нашел ее случайно в стенном шкафу моей спальни. Ночью он гулял в парке, заблудился, с трудом добрался до дома. Скво спала. Я также. Все утопало во тьме. Амори присел на диван. У него болела голова. Он немного подремал, затем вдруг вскочил, он задыхался, паниковал, не знаю почему. Ему было очень плохо. Он считал, что кто-то хотел его смерти и подбросил ему в напиток яд. Он вспомнил, что в моей спальне было противоядие, поднялся на ощупь наверх и попал в соседнюю с моей спальней комнату; в поисках противоядия он упал на фотографию. Тогда, забыв внезапно о недомогании, он, заорав, бросился на меня – я спал мертвым сном.
– Фото бородача! – взревел он.
Затем он внезапно выскочил из гостиной, бормоча что-то бессвязное, добрался до своей спальни, но очень скоро вернулся. В руках у него был лист картона с фотографиями.
– На этом листе было когда-то двадцать шесть фотографий, – сказал он. – Видишь пустое место? Одной фотографии не хватает. Здесь была прикреплена фотография бородача. Ее украли двадцать восемь лет назад, апрельским вечером. От такой мелкой пропажи мне взгрустнулось, но я не придал ей значения. Однако тремя днями позже мой старший сын, Эньян, умер в Оксфорде!
Голос его надломился, Амори глухо зарыдал.
Я сказал:
– Нет, Амори, фотография, которую ты сейчас нашел в соседней комнате, была у меня, поверь мне, всегда.
– Так, значит, это недоразумение? – спросил Амори удивленно.
– Не совсем, потому что твой бородач и мой бородач – один и тот же человек!
– У тебя также была его фотография?
– Да.
– Но почему?
– Я по меньшей мере трижды говорил тебе о сходстве наших жизненный путей. У нас общее происхождение. Наши судьбы, если их внимательно проследить, более чем похожи – они одинаковы!
– Я вовсе не забыл все твои намеки, – оборвал меня Амори. – Несколько раз я хотел поговорить с тобой, рассчитывая узнать побольше о том, что касается наших отношений или связано с той запутанной историей в нашем прошлом, о котором не знаю почти ничего. Но разговор все откладывался – возможности не представлялось. И хотя сейчас уже очень поздно, мне кажется, поговорить нужно немедленно…
Я согласился, однако сразу же добавил:
– Пусть так. Но не здесь, сейчас слишком темно и очень холодно. Пойдем, пожалуй, в курительную комнату, да и выпьем там немного, взбодримся.
– Хорошо, – согласился Амори. – Иди туда. Я скоро подойду.
Затем он торопливо вышел, держа в руке лист с фотографиями.
Я пошел в курительную комнату. Пробыл там довольно долго один, выпил стаканчик.
Вдруг до меня донесся шум из подвала. Я быстро, насколько это было возможно почти в полной темноте, спустился в подвал – большого труда это для меня, однако, не составило. Там в свете огня в печи, я увидел, что Амори сжигал толстую стопку бумаг.
Я закричал, объятый внезапно возникшим подозрением:
– Что ты сжигаешь?
Он не подпустил меня к себе. С яростью смотрел он на уходящую в небытие стопку. Он кивнул на скамейку в углу, предлагая мне сесть, и опустился сам на складной стул.
– Давай, друг, поговорим, – предложил Амори.
– Здесь? – удивился я. – Разве мы не собирались встретиться в курительной?
– Нет, – заупрямился он, – поговорим здесь.
– Но почему?
– Скажем так: здесь светлее, здесь теплее, здесь…
Он все время пристально разглядывал меня.
– Что – здесь?
– Ничего, – отрезал он. – Садись, тогда и поговорим, иначе…
– Что – иначе?
– Иначе у нас никогда больше не будет случая…
Он заинтриговал меня, и, хотя его упорство раздражало, я присел на скамейку, зажег сигарету и сразу же начал:
– Я обещал, что однажды ты узнаешь мою Сагу. Вот она. Ты сразу же поймешь, что это роман, касающийся и тебя. Преследующее тебя Проклятье преследует и меня. Злая судьба сделала наши пути подобными. Ибо в наших жилах течет одна кровь: твой отец – это и мой отец!
– Что?! – пораженный, воскликнул Амори. – Мы – братья?
– Да, братья! Братья, соединенные и в печали, и в смерти!
– Но откуда это тебе известно? – спросил Амори, загораясь. – Кто рассказал тебе о том, что утаивали от меня?
– О! Мне понадобилось двадцать лет, двадцать лет по меньшей мере, чтобы лишь интуитивно чувствуя какую-то малость правды, зная самое большее, что есть надо мной нечто мрачное, что-то такое, о чем никто не осмеливается говорить, о чем, по сути, никто ничего не знает, мне понадобилось двадцать лет, чтобы узнать обо всем, строя одно предположение вслед за другим, сочиняя разные идиотские сценарии, рассматривая инстинктивно найденные версии, вычисляя, фантазируя, вороша то, что находилось в глубочайшем забвении, за запретной чертой, скрывавшей разглашение.
Двадцать лет я множил самые разнообразные контакты, платил различным людям, расспрашивал повсюду архивариусов, которые раскрывали передо мной бесчисленные архивы, где я находил сведения о моем происхождении; я начинал ненавидеть безнравственных чиновников, исполнителей, адвокатов, всяких бюрократов – всю эту коррумпированную нечисть, которой нужно было все время давать и давать взятки за самые простые сведения. Затем я должен был выбрать из кучи полученной информации, где соседствовало все: неслыханное, беспочвенное, ненормальное, незначительное. И уже потом мне нужно было, чтобы перейти от одного факта к другому, уловить ценой ужасающих приступов безумия момент сочленения, которого почти никогда не было.
Но я узнал, я победил, я понял. Я разобрался во всей этой запутанной истории. Я все узнал о своем прошлом!
It is a story told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.[357]
Роман длинный, смутный, иногда тщетный, иногда невероятный; повествование о Проклятье, которое всю жизнь преследовало и тебя, и меня. Человек, который его изложил, усердствовал все эти двадцать лет, ни разу не проявив мягкости. Чувство сострадания было ему не ведомо, он отвергал прощение в любой форме, видя всегда лишь одну цель: осуществить свою месть, воплотить возмездие в смерти, в злобном гневе брызгающей крови.
Одного за другим он убил, сделав это самым ужасным образом, наших сыновей!
– Он! Он! – прошептал Амори; вид у него был совершенно дикий.
– Да, он! Человек, чей притягивающий к себе фотопортрет ты хранил, но о котором не знал ничего! Интриган-бородач с бакенбардами, с очень густой каштановой шевелюрой! Он! Твой отец! Мой отец!
– Мой отец! – взвыл Амори, охваченный бесконечным горем. – Так значит, я ничего не знал! Почему наш отец такое чудовище?!
– Возьми себя в руки, Амори, будь спокойнее, сейчас ты все узнаешь:
Твой отец, мой отец (я не знаю его имени или, точнее, произношения его имени) родился в Анкаре.
Его род входил в число самых достопочтенных династий своего края. Говорили, что этому клану принадлежит колоссальное состояние, которое сравнивали иногда с сокровищами царя Мидаса. Но унаследование этого состояния было всегда связано с многочисленными сложностями, поскольку род насчитывал не менее двадцати шести ветвей, каждая из которых имела по несколько сыновей, в результате образовалось столько прямых наследников, что возникало опасение, и небеспричинное: состояние будет уменьшаться и уменьшаться, вплоть до полного своего распыления, несмотря на все те прибыли, которые сулила капитализация общества.
По традиции нужно было отдать основную и, насколько это возможно, наибольшую долю старшему сыну. Младшим доставались крохи со стола Дофина. Все отдавалось ему, Преемнику, Фавориту: дворец, дома, поля, леса, акции, облигации, золото, драгоценности. Ему запрещалось заниматься каким-либо трудом, остальным же предстояло работать, не покладая рук.
Несложно додуматься, к чему могла привести такая дискриминация, когда вся семейная любовь отдавалась одному лишь Дофину, а все его братья просто уничижались. Таким образом, хотя это потрясающее неравенство наверняка оправдывалось необходимостью обеспечения пребывания клана у власти (власти, которую нужно было сохранять благодаря непрекращающемуся росту состояния, следовательно, остальным родственникам жировать тем более не приходилось), родовой туз, прибегая к инстинктивной обвинительной уловке, основывал эту дискриминацию не на «Sint ut sunt aut non sint»,[358] a на так называемом моральном праве, при котором индивидуум классифицировался, согласно его рангу, и все отдавалось Первым, коих оно рассматривало как чистых, хороших, белых, и все отнималось у остальных, коих оно всячески чернило.
Хуже того: каждый, казалось, исполнял Закон клана, сильно не огорчаясь. Никто никогда не утверждал: «Summum Jus, summa Injuria»;[359] каждый – был ли он фаворитом или же обездоленным – смотрел на разделение патримониального состояния как на явление совершенно нормальное, если не нормативное, не видя того, что здесь налицо была самая настоящая несправедливость: большинство приносилось в жертву одному.
В самом деле, не было для обездоленного никакой иной возможности улучшить свою незавидную участь, кроме одной – смерти Дофина, которого сменял в этом случае старший из оставшихся в живых братьев.
И было очевидным, что почти в любой момент братья без гроша в кармане, прозябающие кузены, голодные дядюшки, единые в своем желании, молили Аллаха о том, чтобы он забрал к себе Фаворита. Аллах в своем сострадании иногда бывал милостив: то коварный тиф, то ложный круп время от времени уничтожал предполагаемого наследника. Увы! Противоречие сохранялось, в результате смерти Дофина поле его распространения не исчезало, а всего лишь уменьшалось.
Наконец стали думать о том, что нужно как-то найти выход менее успокаивающий, но и менее удручающий.
Скажем так: перешли сначала от «Один для Всех, Все для Одного» – девиза, которым некогда был украшен Герб клана, к «Каждый для Себя» – принципу менее кровавому, чем можно было подумать, но который соблюдался меньше года, а в конце концов – к основополагающему закону «Homo homini Lupus»,[360] чья эра открылась блистательным фейерверком актов устранения конкурентов, который вызвал небезосновательное восхищение всей Анкары:
У одного мальчика, которому не исполнилось и восемнадцати лет, было шестеро старших братьев и это печальное обстоятельство навсегда лишало его возможности стать Дофином. Но ему удалось потихоньку, каждый раз хорошо изготовившись, осуществить одно за другим шесть убийств – более того, в каждом случае их механизм не имел ничего общего с остальными актами упорядочения родственного пространства, за исключением богатейшего воображения, с которым они совершались, воображения, говорившего о силе рвущегося к власти.
Он избрал своей первой жертвой Нисиаса, карлика, урода, которого ненавидел не больше и не меньше, чем любого другого из братьев; хотя в последнем и было что-то от шакала, он не являл собою цель самую недосягаемую: говорили, что Нисиас, пожалуй, туповат.
Он проник под незначительным предлогом в дом карлика и предложил ему «Курс обучения стрельбе из лука», компилятивный труд одного японского ученого, вдохновленного Буддой. Затем, в то время как оторопевший, однако удовлетворенный таким невероятным даром Нисиас был погружен в чтение обретенной книги, он нанес ему ледорубом, острие которого было тверже камня и тоньше мешалки для рольмопса, удар в таз, оказавшийся роковым: он сломал ему седалищную кость, вызвал сужение пахового ганглия,[361] вследствие чего мгновением позже произошел удушающий коллапс синкопального ценуроза,[362] из которого несчастный так и не вышел, несмотря на оказанную ему в больнице интенсивную помощь; в больнице он и умер спустя неделю, к великому прискорбию народа, собравшегося во дворе посмотреть на вихрь, аттракцион, из ряда вон выходящий, которого Анкаре, говорили, так не хватало тем более, что к этому примешивалась сильная зависть к искусству вертящегося факира, искусству дервиша, монополизированного Исфаханом.
Убийство Оптата было не менее несуразным. Оптат, человек мягкий, скорее даже нерешительный, если не сказать, что и вовсе никакой, был настолько слаб в костях, что у него всегда был то вывих, то перелом, то его остеохондроз мучил; он ни к чему не испытывал интереса, разве что к алкоголю, который поглощал мюидами с вечера до утра.
Максимен (так звали нашего убийцу) подкупил почтового служащего, и тот принес Оптату кварту чистого спирта, сказав, что это посылка из Оно, ибо за три месяца до того по беспроволочному телеграфу Оптат заказал в бельгийском городке Монс шнапс, о котором говорили, что он просто божественен. Поверив сразу же, что принесенная ему спиртсодержащая жидкость и есть тот самый вожделенный шнапс, Оптат тотчас же заглотнул добрую четверть кварты; напиток настолько пришелся ему по вкусу, что он продолжал насыщать себя им до полного удовлетворения жажды.
Но, как говориться, бойся данайцев, дары приносящих: Максимен положил на дно кварты пиропродуктивное[363] вещество, которое, находясь в алкоголе, было совершенно безобидным, однако, соприкоснувшись с воздухом, сразу же воспламенилось, немедленно спровоцировав возгорание Оптата, который ввиду своей насыщенности алкоголем являлся для огня настоящим кладом и загорелся, как факел, распространяя вокруг себя сильнейший запах поджаренного агути.
В эту минуту Максимен проходил мимо, и совсем не случайно. Он набросил на горящего Оптата лассо и опустил этот еще живой сноп огня на дно колодца.
Проделав это, он убедился: его злодеяние свершилось; более того, этим он принес неоценимую пользу стране: уже через месяц все запасались водой исключительно из этого колодца, настолько целебной она стала – в особенности она помогала больным катаром, но была также хороша и в следующих случаях: бельмо на глазу, бубоны, камни, тризм,[364] дерматомикоз,[365] панариций, сыпь, эпилепсия…
Затем пришел черед Пломбира. Вот здесь была загвоздка. Потому что Пломбир – настоящий Голиаф, сильнее турка, хуже тролля, грубиян, задира, мошенник, взяточник, хитрец – испытывал страсть к борьбе. Когда на него нападали, миром это никогда не кончалось.
Пломбир держал на рынке магазин с цехом, где производились и сразу же поступали в продажу засахаренные фрукты, конфеты, помадки, миндальное печенье, шоколад, нуга и прочие сладости.
Там начали изготавливать и продавать сабайон[366] в сиропе, сильно освежающий продукт, который в Анкаре называли его именем.
Не было такого дня, чтобы в конце его какой-нибудь визирь, тимариот[367] или сардар[368] не наведывался в магазин Пломбира заказать для своей вечерней пирушки пломбир в мараскине или пломбир в черносмородиновой наливке, от которых был в восторге и стар, и млад.
Вот и Максимен отправился туда. Он дал ему двадцать су,[369] затем заказал огромный лимонный пломбир.
Когда Пломбир отпускал, как рассказывают продавцы, пломбир, Максимен попробовал лакомство, затем, скривившись, сказал, что Пломбир плохо делает свою работу.
– Что? – побледнел Пломбир. – Это вы про мой пломбир?!
Он трижды нанес Максимену пощечину и бросил ему перчатку.
– Хорошо, – ответил на вызов Максимен, – разберемся на поле боя, однако оружие выбираю я – мы будем биться содой!
Пломбир был так поражен столь необычным выбором, что какое-то время казался совершенно растерянным.
Воспользовавшись тем, что противник оцепенел, Максимен ударил его дубиной по голове. Пломбир пошатнулся, что-то проворчал и рухнул на пол.
Максимен покрыл все его тело лимонным пломбиром, который обильно полил сверху сиропом, затем завершил свою работу, понатыкав там и сям засахаренные фрукты.
После этого он вывел из темного угла своего любимого пса, огромного датского дога, которого шесть лет кормил одними пломбирами родного братца Пломбира.
Собака подскочила к нему, обнюхала, ощупала и вгрызлась в лежащую перед ней массу.
Максимен вышел, хихикая: «Разве Аллах не сказал: от Лимона ты родился, от Лимона и сгинешь?»
Усмехаясь в глубине души найденным словам, которые он счел удачными, Максимен поспешил заняться следующим братом, которого звали Квазимодо. Это был коренастый малый, определенно туповатый. Коэффициент его умственного развития соответствовал среднему уровню шестилетнего ребенка, в то время как он был в пять раз старше.
Его любимым занятием, если не самым настоящим призванием, было произносить речи перед куликами, скакавшими по берегу озера в муниципальном саду, – нечто подобное проделывал святой Франциск.[370] Проходившие мимо зеваки бросали ему иногда забавы ради дукат или флорин, и эти пожертвования составляли весь его доход.
Уничтожение последнего было для Максимена и вовсе делом пустяковым.
Он разместил на дне озера тонкую поперечину, которую соединил проводом с аккумулятором, производящим при контакте сильный индукционный ток. Затем он подкупил неизвестного, который, в то время как Квазимодо произносил свои набившие птицам оскомину речи, бросил на дно озера фальшивый луидор,[371] в который был вставлен сверхмощный магнит.
Квазимодо, не долго думая, нырнул на дно озера – и вскоре задуманное свершилось.
Следующим был Ромуальд. Но насколько просто было справиться с Квазимодо, настолько же Ромуальд представлял собой труднодостижимую цель. Ибо, будучи коварным, завистливым, жестоким, он всюду видел злой умысел и подозревал каждого.
Он так опасался фатального удара, что уединился в своем доме, не открывал никому дверь, держал всегда под рукой ружье, косился боязливо на каждого неизвестного, который появлялся в поле его зрения, и всякий раз подскакивал, когда мимо проходил сосед.
Позже, считая, что он все равно находится далеко не в полной безопасности, Ромуальд приобрел привязной аэростат, в котором и обосновался, собираясь проводить в нем спокойно хотя бы ночи.
Максимен наметил себе сначала несколько путей акта ликвидации, а именно: перерезать трос, которым аэростат крепился к опоре на земле, сломать руль автостабилизации или гидроскопический кардан, заменить аргон на тяжелый газ (метан) и вызвать таким образом взрыв, – но все было тщетно. Наконец пришло озарение: он арендовал биплан, взлетел, затем спикировал на опостылевший ему шар, приблизившись к нему на расстояние, менее одного метра, что привело к возникновению дыры в оболочке шара, оказавшейся для Ромуальда роковой: вследствие возникшей утечки надутого в шар воздуха тот задохнулся.
Сабен являл собой для Максимена последнюю цель. Но к нему невозможно было даже приблизиться. Имея всего лишь одного дядюшку, который мог бы отнять у него право на первонаследие, Сабен уверовал в то, что рано или поздно весь Капитал клана сосредоточится в его руках и это повлечет за собой со стороны какого-нибудь завистливого братца коварный удар.
Чтобы попасть в его дом, необходимо было иметь при себе три пропуска, даже если приходил мальчишка из булочной, принесший хлеб, или посыльный от угольщика, доставивший уголь.
Чего только о Сабене не рассказывали! Говорили, что он держит возле себя восемнадцать спаги, искушенных мастеров боя с ятаганом, кинжалом и ружьем; отряд этот обходился ему безумно дорого, но он сопровождал его всегда и всюду, и всякий человек, приближавшийся к Сабену на расстояние, меньшее ярда, уничтожался без предупреждения. Говорили, что у него есть слуга, который пробовал каждое блюдо, подававшееся хозяину, так как тот боялся, что его могут отравить. Говорили, что в его доме находился неизвестный, его двойник, который спал в кровати Сабена, в то время как сам он почивал в подвале, где, рассказывали, искусный мастер построил для него огромный блокгауз с запутанной системой входов-выходов; к этому рассказу добавляли, что сразу же по окончании работы мастер был умерщвлен. В этом блокгаузе Сабен мог бы, если бы в том возникла необходимость, жить полгода, такие основательные были там припрятаны запасы еды и питья.
Такой сильный противник, обезопасивший себя, как казалось, по самому большому счету, заставил работать воображение своего братишки Максимена на полную катушку. Серия осуществленных им убийств не утолила голода истребителя братьев. Все это были, усмехался он, только закуски.[372] Уничтожив Сабена, он удовлетворил бы свои амбиции, что стало бы для него кульминационным пунктом магистрального знания, которым он обладал до сих пор, по собственному мнению, лишь на четверть.
Однако очень долгое время он не знал, удастся ли ему добиться поставленной цели. Не то чтобы ему не хватало вдохновения – фортификация Сабена казалась незыблемой, в ней не просматривалось ни одного уязвимого места.
Не просматривалось, пока однажды он совершенно случайно не разговорился с одним барышником, который поведал ему, что каждые три дня поставляет Сабену маленькую ослицу, ибо, доверился ему безнравственный торговец, лукаво подмигнув, Сабен мог получать удовольствие только таким способом.
– Ей-Богу, – усмехнулся Максимен, – вот и ахиллесова пята! Извлечем выгоду из этого знания, которое наверняка дорого стоит.
Продолжая расследование, он узнал от директора муниципального зоопарка Анкары, что одной ослицы Сабену никогда не хватало: в лучшем случае он получал от нее лишь начальное удовольствие, а затем в качестве, скажем так, основного блюда он нуждался в животном либо более крупном, либо более экзотическом.
Поэтому Сабен платил дирекции зоопарка, которая иногда одалживала ему на вечер или на ночь либо тяжеловесное животное, как то: какое-нибудь крупное жвачное, яка, орангутана, медведя, мамонта, либо животное из числа не самых распространенных: утку или удава, кашалота или муравьеда, кенгуру или казуара, тапира или енота, опоссума или аллигатора, альбатроса или каймана.
Однако, познав постепенно всех обитателей зоопарка, полного удовлетворения Сабен так и не получил, поскольку, говорил он, ему, будучи близким с таким множеством неслыханных партнеров, так и не удалось ни разу достичь того божественного удовольствия, которое он изведал на или, точнее, в ламантине[373] на озере Чад.
За неделю до этого в Анкаре появился балаганщик из Галифакса. Среди множества диковинных существ, которых он демонстрировал желающим (сиамские близнецы, лилипуты, альбиносы, бараны с телами зубра, кролики с копытами), был так называемый «Большой Дракон из Лоха»[374] по имени Рудольф. На самом же деле это был не дракон, не морской питон, а дюгонь, животное куда более кроткое, нежели баран, которое в случае надобности можно было без труда выдать за ламантина, поскольку оно, подобно последнему, имело внушительный вес, значительные габариты, безупречно гладкий мех, располагающий вид.
Понятно, что вскоре Сабен захотел взглянуть на Рудольфа. Но сделать это он не осмеливался. Тогда он попросил балаганщика уступить ему дюгоня в непродолжительную аренду. Тот отказался. Сабен удвоил, потом утроил названную сумму, а затем и вовсе предложил деньги сначала в четыре, а после и в пять раз большие. И получил наконец согласие. Договорились о том, что сдача в наем произойдет на следующий день.
Максимен, будучи все время настороже, узнал об этом. И тотчас же разработал план.
Соединив несколько детонирующих веществ, он изготовил мину; затем ему удалось, самым наглым образом, проникнуть в аквариум с дюгонем, где, воспользовавшись тем, что животное ненадолго уснуло, он ввел в него вышеупомянутую штуку.
Потом он ввел туда же запальное устройство с пироксилином, которое при более тесном контакте должно было вызвать воспламенение снаряда.
Убедившись, что ему удалось проделать все должным образом, Максимен ждал наступления вечера. Он провел все это время в кабачке, неподалеку от блокгауза Сабена, уверенный в том, что в ближайшее время у него будет замечательный повод для триумфальной осанны.
Он не ошибся: без двадцати пяти двенадцать на темной улице появился балаганщик, он вез на огромной телеге бак, в котором сладко дремал Рудольф.
Без восьми двенадцать горизонт осветила яркая вспышка, раздался оглушительный взрыв. Все вокруг окутал дым – задохнуться можно было.
Максимен увидел, что в живых не осталось никого.
Тогда он, счастливо улыбаясь, добрался до ночного клуба и, хотя и был, скорее, скупердяем, пил там до утра самые изысканные и дорогие вина и даже угощал ими всех подряд – горяченькое дельце, которое он только что так удачно провернул, требовало соответствующего празднества.
Вот так одержал победу в борьбе за право первонаследства Максимен. Увы! Он слишком рано начал отмечать свой успех: неделей позже, поняв, что в данном случае был проделан очевидный трюк, его двоюродный братец в свою очередь совершил в удобном месте следующее убийство!
Тогда в роду установился закон сильнейшего. Члены клана без устали убивали друг друга. Адвокат, контролировавший передачу Капитала клана, не знал, что и думать: за три года тот переходил из рук в руки по меньшей мере двадцать три раза и ни одному из первонаследников не удалось умереть своей смертью.
Когда стало понятно, что, если все будет продолжаться в подобном темпе, то рано или поздно клан попросту исчезнет, сделали передышку. Констатировали, что в живых осталось не более четверти клана. Забеспокоились. Объединились. Подписали коалиционное соглашение, которое, однако, соблюдалось. не более месяца.
Тогда ритуализировали убийство.
Пришли к заключению: необходимо, чтобы у каждого отца был только один сын, дабы последний не пострадал от завистливого брата. Ограничили соперничество двоюродных братьев до того дня, когда благодаря непреходящей уловке дарвиновского отбора останется только один прямой наследник.
Чтобы достичь этой далекой цели, существовали три способа, оставлявшие каждому выбор ad libitum:[375]
Ликвидировать мать сразу же после родов;
Остановить продолжение рода – при наличии сына – путем кастрации отца;
Оставить в живых первого сына, а затем давать умереть следующим либо умерщвлять их, оставляя родившихся в навозной жиже, топя в ванне или, по предложению Свифта, подавая их под видом жареного кабанчика на ленч английскому лорду (большинство использовало именно этот способ).
В течение пяти-шести лет удалось таким образом оздоровить ситуацию. Передача накопленного состояния вызывала теперь кровавые развязки значительно реже.
Убивали уже удовольствия ради, но каждый в своем углу максимально ограничивал разрастание клана, пребывавшего теперь в кворуме, который, в общем-то, находили удовлетворительным. И каждый в глубине души радовался менее бесчеловечному статус-кво.
23
Глава, в которой речь пойдет о выгоде, которую трясущийся от страха братишка извлек из наследства, оставленного барабанщиком
– Но, продолжил Артур Уилбург Саворньян, наших папу-маму постиг страшный удар судьбы.
В госпитале Доброго Самаритянина, в Акапулько, наша мать произвела на свет не одного, а сразу троих ребятишек. Благодаря счастливому случаю (не то нас сразу же убили бы!), отец, который, согласно Закону клана, должен был присутствовать при родах, был вынужден за день до того незамедлительно отбыть в Вашингтон, поскольку занимаясь импортом товаров и не мог отказаться от весьма выгодно контракта на покупку огромной партии губных гармошек; гармошки эти были разработаны год назад, и их раскупали по всему миру, особенно в Анкаре!
Мать понимала, что сразу же после заключения контракта муж вернется домой и, увидев, что она родила троих сыновей, в то время как он имел право только на одного, будет вынужден поступить, согласно обычаю.
В порыве материнской любви, желая спасти нас от смерти, она поделилась своим несчастьем с одной монахиней. Святая сестра, проникшись состраданием, сразу же предложила ей свою помощь.
В результате один младенец был оставлен нашей маме, а двух других монашка увезла на поезде – подальше от неминуемых объятий близкой смерти.
– Следовательно, – уточнил Амори, – если я правильно понял, наш отец, прибыв в госпиталь, увидел только одного сына.
– Конечно. От него скрыли правду. Более того, наши бирки новорожденных были подделаны, нам дали другие имена, воспользовавшись тем, что в соседней палате находились двое полуживых сиамских близнецов-недоносков.
– Но почему тогда, не зная о нашем существовании, он так настойчиво преследовал нас и наших сыновей?
– Двадцать лет спустя наша мать заболела вирусным ринитом (staphylococcus viridans), ее состояние сильно ухудшалось. Когда она совсем занемогла, ее исповедовал кардинал. И она во всем ему призналась.
Однако святоша оказался отпетым мошенником: он потихоньку продавал церковные ценности, брал взятки и участвовал в тайных сделках. Он почувствовал, что здесь можно сорвать крупный куш, и решил продать этот секрет тому, кто больше заплатит. Тайна была доверена одному нашему дальнему родственничку, который действовал в интересах тогдашнего Дофина. Он обвинил нашего отца в том, что он нарушил Закон клана, оставив нас двоих в живых, а затем убил его сына – нашего брата!
Но отец очень любил нашего покойного брата, который мог бы стать Дофином, и его смерть стала для него таким сокрушительным ударом, что он начал терять рассудок. Он решил, что это мы – ты и я – виноваты в смерти его сына – не будь нас, тот был бы жив.
Он поклялся, что отомстит нам, что будет преследовать нас до самой смерти, что еще до того, как убьет нас, он уничтожит одного за другим и наших сыновей, чтобы мы познали такое же глубокое горе, какое выпало на его долю, – горе человека, преждевременно потерявшего сына!
– Так, значит, он знал нас? И знал наших сыновей?
– Нет, не знал, да у нас и сыновей-то тогда еще не было. Но он уехал, преследуя одну-единственную цель: узнать, куда нас увезли, кто нас вскормил, где мы выросли.
Сначала он добрался до Акапулько, где напал на наш след и уже шел по найденной тропе с чутьем, которое могло заставить бледнеть от зависти десятка два с половиной индейских племен, и в результате спустя двадцать лет повторил наш извилистый путь.
Он попал в Гвадалахару, большой мексиканский город, в котором мы когда-то научились читать и писать и приняли свое первое причастие. Монашка определенно не думала, что отец станет когда-либо преследовать нас. А ведь из Гвадалахары мы попали в Тифлис, затем в Тобольск, из которого отбыли в Осло.[376] Нам было тогда по десять лет. Там святая сестра умерла, так и не удосужившись сообщить нам о мрачном фатуме, который кружил над нами.
Нас разлучили. Тебя поместили в санаторий в турецком городе Ускюп, откуда ты сбежал через три года; однако, попав под колеса грузовика, ты начисто забыл свое прошлое.
Что же касается меня, то я оказался в британском порту Гулль, где меня усыновил главный барабанщик одного оркестра, человек, который позднее, разглядев во мне незаурядный дар к наукам, определил меня в Оксфорд.
Мы были полностью оторваны друг от друга. Я ничего не знал о твоей судьбе. А ты даже имени моего не помнил. Вообще – понятия не имел о том, что я есть. Я же иногда скучал по тебе, грустил о нашем детстве.
Когда мне исполнилось двадцать пять лет, я закончил докторскую диссертацию мне предложили место ассистента в Институте распространения народной латыни в Софии. Я читал всего лишь шесть лекций в месяц и все свое свободное время посвящал розыскам тебя, пользуясь тем, что от Софии до Ускюпа путь недолгий – на поезде самое большее день.
Но в санатории Ускюпа не знали, куда ты сбежал. Я дошел до границ страны. Бездарный мазила, но ловкач, нарисовал карандашом, согласно полученному в санатории описанию, удивительный портрет, хотя узнать тебя и найти с его помощью было наверняка делом очень трудным: с тех пор, как ты сбежал из санатория, прошло по меньшей мере десять лет.
Показывая портрет крестьянам, перекупщикам, ярмарочным торговцам, наборщикам, чиновникам, полицейским, я надеялся, что один из них поможет мне найти хотя бы тоненькую ниточку – однако все мои поиски были тщетны.
Когда закончился срок моего ассистентства, я покинул Ускюп, так и не найдя ни одного, даже самого незначительного свидетельства твоих дальнейших, после бегства из санатория, путях-дорогах.
Но, обосновавшись тогда в Баварии, в Аугсбурге, где «Фонд Джосайи Мейси младшего» предложил мне особо выгодные условия для очень серьезной работы над изучением особенностей неподчинения фрикатива в произношении племени бороро, говорящего на одном из диалектов бразильского штата Парана, произношении, особенно примечательном ввиду того, что в конце имен существительных мужского рода в нем, как и в наречиях банту,[377] появляется губной «л», – так вот, обосновавшись тогда в Аугсбурге, я ездил трижды в год (с десятого марта по двадцатое апреля, в конце июня, в середине августа) в Ускюп, где неустанно продолжал свои поиски.
Позже я сделал соответствующий вывод: когда нас разлучили, нам было десять лет. Однако, как я ни пытался выйти на твой след, ты, со своей стороны, казалось, никогда не проявлял желания предоставить мне возможность встретиться с тобой. Ничто не оправдывало такое твое поведение, столь смущавшее меня. Я допускал, следовательно, что ты исчез, и объяснял произошедшее тремя возможными причинами: либо тебя настигла смерть сразу же после твоего бегства из санатория, либо тебя похитили цыгане, либо же, наконец, твой разум, твой инстинкт и твоя память были ослаблены какой-то внезапной травмой, тяжелым нервным шоком.
Мне понадобилось почти три года для того, чтобы найти оптимальное решение!
Потом, просматривая целую кучу бирок, регистрационных записей, календарей-справочников, газет, черновиков, копий, нотариальных справок, бегая по разного рода учреждениям, посещая станции, ангары, доки, магазины, я узнал наконец, что восемнадцать лет назад в Митровице,[378] большом городе неподалеку от Ускюпа, видели мальчика-бродягу, с виду дурачка.
Мальчик этот абсолютно не знал местного диалекта. Ноги его были в крови. По его лицу и фигуре было видно, что он сильно исхудал и был голоден.
Я сразу же понял, сначала интуитивно, а затем окончательно проникшись убеждением, что именно это и есть точка отсчета моих поисков. Я отправился в Митровицу. Нашел там крестьянина, который, сжалившись, взял когда-то в пастухи какого-то мальчика, предложив ему кров, постель, хлеб. И опознал его по рисунку.
Таким образом, после шести лет безрезультатных поисков я в конце концов ухватился за первую ниточку, которая выводила на тебя!
Я узнал, что, когда ты сбежал и был уже далеко от санатория, тебя сбил грузовик и ты оказался в забытье столь сильном и глубоком, что так никогда и не вспомнил ни своего имени, ни того, откуда ты родом.
Но ты оказался вовсе не так глуп, как о тебе думали. Ты снова научился мыслить. Позже ты выявил незаурядные способности к арифметике. Учитель местной гимназии подарил тебе атлас, а затем получил от крестьянина разрешение на твое углубленное обучение.
Таким образом, ты провел в Митровице три года. Иногда тебя, смеясь, дразнили мальчишки: «Анонюмос! Анонюмос!» – что на местном наречии означает: «Тот, у кого нет имени», «Неизвестно откуда взявшийся». Слово это чуть не стало навеки твоим прозвищем. Но когда ты покинул Митровицу, то взял себе имя и фамилию Амори Консон – так звали учителя гимназии, который всему тебя научил.
Конечно же, я хотел повидать Амори Консона. Но когда я приехал в Митровицу, то его там уже не застал – вот уже шесть лет, как он покинул город. Один его кузен полагал, что он перебрался в Цюрих. Я попал туда через полгода – там как раз проходил симпозиум по моей специализации. И вот тогда я наконец-то повидался с Амори Консоном, твоим крестным отцом. Он не знал, однако, где ты живешь. Зато сообщил мне об одном архиважном обстоятельстве: три месяца назад один бородач, человек, пожалуй, преклонного возраста, движимый, как показалось ему, Амори Консону, страшным гневом, также пытался все разузнать о тебе!
Это меня заинтриговало. Кто же, кроме меня, желал отыскать тебя? И зачем?
К тому же я постоянно предчувствовал, что нас преследует злой рок. Ночью меня посещали кошмары, я часто вскакивал в холодном поту после того, как видел во сне убийство.
Мне смутно помнилось, что монахиня – но вот когда именно, ведь прошло уже не меньше двадцатилет? – когда мы играли в волчок на веревочке или в «дядюшку», сажала нас к себе на колени, а потом очень тихо рассказывала нам, что в далекой-далекой стране живет один нехороший бородач, который то ли желал нам зла, то ли еще захочет его нам причинить, а потом, когда у нас будут свои сыновья, нам нужно будет, чтобы уберечь от беды, окружить их постоянной заботой и неустанно присматривать за ними.
Но это далекое воспоминание казалось мне таким неясным, что потребовалась неделя, чтобы я смог припомнить более-менее точно те слова святой сестры.
Потом вдруг по беспроволочному телеграфу пришло сообщение из Акапулько, города, в котором мы родились. Из него я узнал о том, что произошло с нами вскоре после рождения, а еще о том, что примерно десять лет назад в госпитале Доброго Самаритянина побывал какой-то бородач, угрожавший возмездием за смерть своего сына!
Таким образом, к тому времени наш отец узнал почти все. Он знал твое имя, потому что сумел найти твоего крестного отца, Амори Консона, и побеседовать с ним. Ему потребовалось для этого десять лет, но в итоге он настигал нас, наступал нам на пятки!
Его упорство, казалось, не имело границ. Мне сразу же стало ясно, что он будет преследовать нас до самой смерти, что в мести своей он никогда не позволит себе ни минуты передышки, что перед ним всегда будет стоять лишь одна цель: держать нас в страхе, увидеть сперва смерть наших сыновей от его руки, а затем и нашу смерть! Нужно было, чтобы ты также знал об этой опасности, исходившей от человека, одержимого столь сильной яростью, опасности, всюду нас поджидающей (он мог преследовать нас в любой части света). Но где он жил? Где жил ты? В каком-нибудь бунгало в джунглях? В американском небоскребе? В скромном доме в Сен-Флуре? В особнячке с балконами, украшенными аспидистрами,[379] в похожем на большую деревню пригороде Гамбурга или Упсалы? Знал ли ты о том, что он хочет твоей смерти? Был ли у тебя сын? Много было трудноразрешимых неясностей, которые я должен был выяснить как можно скорее.
Я наверняка мог бы дать несколько сообщений на твое имя в газетах или на радио. И я склонялся иногда к этому, но так и не осуществил своего намерения, опасаясь, что враг не оставит такой ход незамеченным и воспользуется им нам во зло.
В то время как Амори Консон, твой крестный отец, расспрашивал в свою очередь о твоей судьбе, мой приемный отец, добрый главный барабанщик, умер.
Он завещал мне все права прямого наследования, оставив значительное состояние: двадцать пять бриллиантов, все очень крупные, красивые, чистые, один из которых сравнивали если не с Кох-и-Нором,[380] то по крайней мере с Великим Моголом, за который Онассинк, беспечный набоб, предлагал мне миллиард.
Таким образом, избавившись на долгое время от всех забот о хлебе насущном, я оставил работу, чтобы всецело отдаться главному делу моей жизни – розыскам брата, тебя.
Но, желая прежде во что бы то ни стало узнать, где зародилось преследующее нас Проклятье, я начал с того, что отправился в Анкару, родом откуда был, как мне сказали, наш преследователь.
У главных городских ворот Анкары важного вида чиновник буквально набросился на меня с воплем:
– Покажите руку!
Хотя я и был ошеломлен его грубым тоном, однако, снял камзол. Он надел лорнет, обхватил своей ручищей мою правую руку и стал внимательно рассматривать предплечье. Затем, испустив радостный крик, отвел меня в соседнее помещение, где, иначе не скажешь, восседал тип вида, однако, скорее обходительного, наверняка его начальник, хотя он и был одет в цивильную рубашку самого обыкновенного покроя; служащий, который привел меня, щелкнул каблуками и отдал ему честь.
– Что стряслось? – подал голос начальник.
– Тут, сахиб,[381] – ответил чиновник по-турецки (он и подумать не мог, что я, зная десятка два с половиной восточных языков, имел о турецком представление куда более полное, нежели это могло показаться), – человек из клана: на его правом предплечье отличительная метка. Только он появился, я сразу же понял, кто это: меня чутье еще никогда не подводило, у меня на этих типов нюх особый, много раз проверено!
Он говорил правду. У меня на правом предплечье действительно есть тонкий след сложного шрама, контурами своими напоминающего Заир, который некогда так поразил Аугустуса, или белую татуировку, что украшала когда-то предплечья людей Албена, – не совсем завершенный круг, заканчивающийся прямой чертой. Но я не знал тогда, что он у меня – от рождения.
– Да? – заинтересовался начальник. – Покажи!
Помощник – а это был, как я тогда окончательно понял, всего лишь помощник, шауш, как их здесь называли, – взял мою руку и показал ее патрону, который сказал ему после этого печально:
– Иншаллах,[382] ты прав, Махмуд Абд-уль-Азиз Ибн Осман Ибн Мустафа, ты будешь щедро вознагражден, но, – добавил он, жестом предлагая ему выйти, – молчи, иначе не миновать беды.
– Баракалла Уфик, – сказал, выходя, Абд-уль-Азиз Ибн Осман Ибн Мустафа.
Начальник молча указал мне на скамью. Я сел. Он предложил мне чубук, пахнувший очень крепким светлым табаком. Затем щелкнул пальцами – сразу же появился мальчик; он принес кофе с жасмином, напиток, который турки с хорошим вкусом пью галлонами.
– Вы говорите по-английски? – спросил он.
– Jawol.
Мы поговорили на ломаном английском. Он сообщил мне, что в Анкаре отмечены двадцать три случая инфаркта миокарда. Поэтому моя прививка, сделанная лет восемь назад, не убережет меня. И посему мое появление в городе крайне нежелательно.
Я понял, что он скрывает подлинные причины отказа, а также то, что в случае необходимости он может пойти на крайние меры.
Было очевидно, что ему дано предписание допрашивать каждого, у кого на предплечье имеется определенной формы шрам, «всякого индивидуума из клана», как сказал его помощник Махмуд Абд-уль-Азиз. Но я не знал – хотя очень хотел узнать! – в чем причина такого особого отношения. Почему в Анкаре боялись появления людей «из клана»?
Не осмеливаясь ошеломить его своим желанием узнать, где, когда и почему было рождено это табу, я использовал тонкую уловку:
Притворясь, что верю в свою неминуемую гибель в том случае, если войду в город, я ушел, сел в свой «лагонда-бугатти», добрался до соседнего городка, снял домик и провел в нем неделю.
Там, натирая тело ореховой кожурой, я существенно изменил цвет кожи; затем, приклеив накладную бородку и облачившись в белый бурнус, я преобразился до полной неузнаваемости. Присоединившись к обозу скоморохов, направлявшихся в Анкару на торжественное открытие городского казино, в честь которого должно было состояться большое празднество, я без труда получил визу, а затем и охранную грамоту и смог легко пройти через городские ворота.
Мой товарищ снабдил меня рекомендательным письмом к одному адвокату в Анкаре. Попав в город, я расстался в укромном месте с бурнусом, надел свою прежнюю, европейскую, одежду, однако бородку снимать не стал: добавив к ней лорнет, я приобрел вид весьма и весьма солидный.
К тому же, опасаясь, что где угодно ко мне может подойти какой-нибудь тип, который станет рассматривать мое правое предплечье, я наклеил на него лейкопластырь, подобно больному сибирской язвой или же человеку, в руку которому глубоко вонзилась заноза и который идет из больницы с повязкой на руке.
Я явился к адвокату и был с ним очень осторожен – опасаясь, что человек этот, возможно, хитер и способен направить беседу в совсем не нужное для меня русло, у меня была подготовлена легенда: я, мол, любитель и собиратель фольклора и составляю сборник пословиц, поговорок, саг, притч, анекдотов, песен и прочего.
Таким образом, я случайно посадил адвоката на его любимого конька: одаривая меня своим дружеским расположением, он рассказал мне все, что знал.
– А известна ли тебе, – сходу поинтересовался он, – традиция Али-Бабы?
– Нет.
– Тогда внимай; нет ничего прекраснее:
Под звуки окарины,[383] наигрывавшей что-то из «Золота Рейна»,[384] Али-Баба – паша-карлик, толстяк, увалень, тяжелее медведя – жрал рис, горох, макароны с подливкой, перекипевшей, прогорклой, с привкусом плесени. Под его диваном услаждал свое брюхо кот. Али-Баба отрыгнул, потом проглотил еще кусочек жаркого. «Хорошо, – сказал он, – пошли». Человек смелый, он взял ружье, лук, бузуку, барабан. Он скакал по полям и лесам, горам и долинам, погоняя любимую лошадку. Не ведая, куда он держит путь, он охотился на льва, который наверняка щипал в пампасах ананасы; животное полагало, что под скалой был плывун. Али-Баба закричал: зачем? Знал ли он решение загадки? Для этого нужно было произвести сложение и вычитание, умножение и деление. Он прибавил три к пяти и получил восемь, прибавил шесть к одному и получил восемь минус один. Что, сказал тупой идиот, подсчет? Он убил Али-Бабу; а лев побежал так быстро, что издох.
Я захлопал в ладоши. Мне хотелось сразу же повернуть беседу в нужное русло, но адвокат, не давая мне передышки, продолжал:
– Есть еще «Песня Топинамбура»: ее напевают ребятишкам как колыбельную.
– Послушаем «Песню Топинамбура», – согласился я.
Я вновь принялся аплодировать. Довольный, адвокат поклонился. Итак, я наконец добрался до своей цели. Я намекнул, что наверняка существует множество известных ему инструкций, по меньшей мере, несколько тонких моментов, из которых можно было бы извлечь выгоду.
Но он помрачнел, нахмурил брови. Я понял, что допустил оплошность.
– Во всей Анкаре, – начал он, – говоря твоим языком, есть только один мрачный моментик. Однако, поверь мне, на это никто никогда не намекает. Здесь знавали не одного слишком болтливого парня, который так и не закончил свое…
Наверняка адвокат говорил чистую правду, потому что внезапно он упал: его поразил сокрушительный удар в лоб – свинцовая слива несравненного стрелка, расположившегося на соседнем балконе и пользовавшегося винтовкой с оптическим прицелом, попала в цель совершенно бесшумно – хотя и разбила форточку.
– Черт побери… – прошептал я.
Я испытал жуткий страх и не знал куда деваться. Вдруг в комнату влетел камень, к которому была привязана крупноформатная карточка; на ней было написано:
Грозное предупреждение было завизировано печатью с изображением кагуляра[386] – выражение лица у него было более надменное, чем у самого короля ку-клукс-клана; он размахивал трехконечным флажком.
Сначала я подумал, что это простая случайность: адвокат, должно быть, опустился до какой-то сомнительной работы и заказчик, боясь, что он, если его подкупят, может выдать тайну, устранил его, усложнив тем самым мои поиски.
Однако, наклонившись над убитым, я увидел, что у него на правом предплечье был такой же шрам, как и у меня, – очевидно, знак принадлежности к клану! Судьба-злодейка распорядилась так, что я выбрал себе в помощники противника!
Теперь я плохо понимал, что же мне делать дальше. Казалось несомненным, что, пребывая в Анкаре, я подвергал свою жизнь серьезному риску. Но ведь мне все еще была неизвестна причина столь сильного гнева.
Нужно было, чтобы подходящий случай совпал с не менее подходящим недоразумением, – и только тогда, днем позже, я распознал суть этого сигнального огня.
Недалеко от базара, где продавались подержанные пианино (мало кому известно, что Анкара по импорту бывших в употреблении пианино занимает третье место в мире после Осаки и Ла-Паса), я подыскал убежище, которое показалось мне надежным. Но и там я сидел, тихонько забившись в угол: боялся убийцы, который в любой момент мог посягнуть на мою жизнь.
Вечером с улицы вдруг послышался сильный шум. Превозмогая страх, я вышел на балкон.
Внизу, расположившись на внушительном крыльце Гражданского суда, непропорционального сооружения, огромной глыбы гранита, отливающего слишком уж броским лиловым цветом, играл октюор,[387] скорее несуразный, поскольку в нем были три банджо, английский рожок, цимбалы, бретонская волынка, барабан и наконец сопрано; певица, вдохновляясь церковным песнопением, исполняла смутно понятную ораторию, повествующую об Исчезновении Белого Короля, который, хотя и был мертвым, проглотил один за другим двадцать пять кораблей.
Бросив музыкантам двадцать курусов, я зааплодировал; песня мне понравилась – восхитил ее тонкий, двусмысленный, несколько непонятный и мрачноватый юмор, пришелся по вкусу и местный колорит, символизировавший для меня главную точку сочленения для ассимиляции моего турецкого «сверх-я».
Позже, в полночь, проголодавшись, я попросил коридорного принести из закусочной на углу плов с бараниной, жареные почки и виноград.
Вскоре он был у меня. Мы немного поболтали. Сначала просто о том о сем. Потом он спросил, понравился ли мне октюор. Я ответил, что понравился, добавив:
– Особенно Песня о Белом Короле – своим юмором, фантазией.
– Фантазией?! – возмутился мой собеседник. – Да во всем этом нет ни капли выдумки! Все это правда. Мы все здесь знаем о клане, у каждого члена которого есть отличительная метка – тонкий след на правом предплечье. Клан этот возглавляет Король, в руках у которого находится все богатство его рода…
Когда он заговорил об этом, я сжал рукоятку кинжала под плащом, который накинул мгновением ранее, пояснив, что продрог, когда стоял на балконе: я подумал, что человек этот провоцирует меня, чтобы нанести свой роковой удар.
Но я ошибся. Человек этот – птица, надо сказать, редкая – был совершенно наивен. Он рассказал мне все, от «а» до «я», правда, со множеством пропусков, о причинах гнева, обретающего в недрах клана характер все более жестокий, гнева, жертвой которого могли стать и ты, и я.
Не вполне доверяя, однако, недомолвкам лакея, который, поведав мне все, тем самым мог избавить от необходимости выслушивать этот рассказ кого бы то ни было еще – откровения его, будучи доведенными до конца, вынудили бы меня вскоре произвести подсчет конечностей, принадлежащих милой особи коридорного, – я убил этого несостоятельного парня, так и не дослушав его повествование до конца.
Затем, хорошо понимая, какая судьба будет мне уготована в том случае, если я задержусь здесь, я – одна нога здесь, другая там – бежал из Анкары, проклиная ее, навсегда.
Через три дня я уже был в Цюрихе. Подъезжая к дому Амори Консона, я сгорал от желания рассказать ему обо всем, что узнал в Анкаре, и рассчитывал, что он со своей стороны также хоть что-нибудь узнал о тебе.
Но Амори, увы, уже не застал: его начинили по меньшей мере тремя десятками пуль сразу же после того, как он встал с постели, – хлопоча у плиты, он готовил шоколад.
Казалось, его пижама впитала в себя всю имевшуюся в теле кровь…
Таким образом, я все узнал о преследующем нас злом роке, но мне по-прежнему не было известно, где ты живешь.
Где я только ни побывал: в Аяччо,[388] на мысе Матифу,[389] на озере Понтчартрен,[390] в Жуани,[391] в Стокгольме, в Тунисе, в Касабланке; кого только ни расспрашивал, но ничего о тебе не узнал, посещал консульства и комиссариаты, но совершенно безрезультатно.
24
Глава, которая, начинаясь с рассказа о томящемся муже, заканчивается повествованием о разъяренном брате
Полгода я преследовал мою такую далекую цель.
Затем, устав, опечалившись, я прекратил поиски.
Однажды на борту трансатлантического парохода «Капитан Крюбовен», ходившего из Тулона в Ла Гуайру (порт у города Каракас), я познакомился с Иоландой, секретарем корабельного священника.
Мы полюбили друг друга и поженились.
Мечтая путешествовать вместе по всему миру, мы приобрели сверхмощный самолет.
Однажды, когда мы совершали трансатлантический перелет – прошел примерно год с тех пор, как мы соединили себя брачными узами, и в ближайшие дни Иоланда должна была родить, – внезапный сбой в подаче топлива вынудил меня совершить экстренную посадку; удалось, не без труда, приземлиться, можно даже сказать прилуниться, поскольку оказались мы в совершенно диком месте, куда, возможно, и нога человеческая не ступала, на горной вершине, ненамного большей, чем носовой платок, расстеленный посреди марокканской Сахары. При посадке сломалось шасси.
Провизии у нас было достаточно для того, чтобы продержаться месяц, однако до ближайшего колодца, где иногда пополняли запасы воды кочевники-туареги,[392] было три дня изнуряющего пути.
Примерно неделю наши дела шли не так уже плохо. Я охотился на лань, забавное животное, похожее на оленя,[393] которое живет на склонах гор и имеет кривое тело. Для того чтобы ее поймать, мне было достаточно дать ей послушать нечто похожее на щебетание венценосного голубя, птицы, которую лань терпеть не может. Удивленная, раздраженная и в особенности рассеянная, лань резко развернулась, потеряла равновесие и упала на дно ложбины, где я без труда ее оглушил. Ее мясо было просто божественным и здорово нам пригодилось, потому что к тому времени у нас осталась одна солонина.
Потом стала мучить жажда. Имеющийся у нас спирт помочь не мог.
Вывод напрашивался сам собой: нужно было уходить отсюда, идти к колодцу, а затем, перейдя Ахаггар,[394] по высохшим озерам и обледенелым горам, – причем, заметьте, ночью, потому что ночью отдыхает палящее днем солнце, – в конце концов добраться до Ин-Салаха,[395] Тиндуфа[396] или Томбукту,[397] что на юге, либо до борджа Игли, колодцев Айн-Шайра, оазиса Айн-Айаши, форта Мак-Магон, казбы Аруан, что на севере.
Но, какими бы ни были Гамада, Тассили, Адрар, Игиди, Большой Атлас, Бурку, Аль Джауф или Туат,[398] безлюдная Сахара приносит тому, кто осмелится проникнуть в нее, бесчисленные трудности, справиться с которыми Иоланде в ее тогдашнем положении было не под силу.
Тогда, даже не помолясь, положившись на милость Всемогущего, я пошел, быстро семеня, вооружившись компасом с циферблатом, магнит на оси которого каждое мгновение указывал мне звездный азимут; я шел, надеясь на случай…
Наверняка судьба моя счастливая, ибо по прошествии трех дней я встретил арабский конный патруль.
Увы! Увы! Трижды увы! Я не знал, что в ту минуту, когда аджюдан, командир патруля, предложил мне свою алюминиевую флягу, подобно гусару, которого Гюго, когда он
любил больше всех за его солидный вес, а также совершенное хладнокровие, подобно гусару, угощавшему ромом бродячего идальго, – увы, я не знал тогда, что именно сейчас для Иоланды наступает самое худшее!..
Я утолил жажду, поел, приободрился и, что самое главное, получил снаряжение, необходимое для того, чтобы заострить циклоидальный или, точнее, циклос-пиральный винт, управляющий цепью подачи горючего (по правде говоря, мне нужны были, по крайней мере, воронья гладилка или размерный пробойник, но в моем распоряжении в качестве инструментов были лишь сносные их заменители, а именно: багор, ровильная дощечка, отмычка для сифона, сновальная машина с рейсмусом, маленький серп, мотыга, оправка буравчика без щетки и к тому же без перегородки-метчика, правда, муштабель его казался исправным). Но когда я оказался наконец возле нашего самолета, то застал Иоланду при смерти: произведя на свет шестерых ребятишек, она отходила в мир иной.
Взвыв, я подскочил к ней одним прыжком, желая хотя бы напоить ее водой – в то мгновение мне казалось, что это придаст ей силы, поможет, однако… Испустив жалобный стон, Иоланда скончалась.
Кто сможет поведать о том бесконечном горе, которое принесла мне ее смерть? Кто расскажет о моей печали? Мой никчемный экипаж?[400] Раз двадцать я сам хотел умереть, забыв о наших детях, так удручала меня смерть любимой.
Несчастный, потерявший божественную подругу, разбитый, томящийся, подавленный, несущий свой тягостный крест, смертельно страдающий, поднимающийся на двадцать голгоф, сколько раз хотел я, забывшись, убить себя одним ударом сновальной машины с рейсмусом: такое тупое орудие могло, войдя в мою грудь, словно нож бойскаута, вонзающийся в залежалый сыр, помочь мне уйти из жизни.
Но все же я вспомнил о своих шестерых детях, шестерых невинных младенцах, обмотанных пуповиной, которые могли вот-вот умереть, задохнувшись.
И я одумался. Одного за другим я отделил новорожденных от нити, что связывала их с высохшим колодцем, в котором они выросли, обмыл их, предельно экономя воду, и укрыл в самолете.
После этого я занялся ремонтом цепи подачи горючего: как бы там ни было, свеча зажигалась слишком рано, еще до подачи топлива. Заострить винт оси было недостаточно. Следовало привести в порядок все, одно за другим: капот, шестеренки, штурвал, болты, муфты, хвостовые костыли, сальники, поршни.
На это у меня ушло три дня, но в конце концов система заработала (в это время мой друг Казимир тщетно пытался починить подвесной мотор[401]). Поднявшись в воздух, я полетел на юг Марокко в Агадир, рассчитывая обеспечить там моим детям должный уход, в котором они так нуждались.
Тогда я вспомнил о суровом предостережении монашки. И, поразмыслив, пришел к следующему выводу: причина такого запутанного законодательства, касающегося передачи фамильного капитала, заключается в том, что в семье всегда было слишком много детей, а это могло происходить лишь в том случае, если наши женщины постоянно производили на свет двойни, тройни, а то и более богатые пополнения.
Значит, человек, который нас преследовал, наш oтец, жаждавший смерти своих детей, поклявшийся, что вначале он удовлетворит жажду мщения, уничтожив наших сыновей, должен прежде всего отслеживать все случаи появление необычного числа младенцев от одной матери.
Итак, если бы я осмелился отдать сразу всех шестерых ребятишек в одну больницу Агадира, то наверняка молва разнесла бы это по всему свету и там сразу же появился бы бородатый убийца!
Кроме того, я понимал, что, если буду добиваться совместного проживания всех шестерых, то у меня не будет ни минуты передышки. Чтобы спасти каждого из своих детей, необходимо, подобно кукушке, подбросить птенцов в гнезда других птиц, своих соседок, отдать новорожденных разным приемным отцам…
– Я понял, прошептал Амори, бледнея, я понял, что произошло: ты взял себе имя Трифиодорус, надел белый рабочий халат, как бродяга, и оставил Хэйга Аугустусу, Антона Вуаля…
– Да. Ты понял, однако, еще не все узнал. Слушай!
Хассан Ибн Аббу также был моим сыном. Его я пристроил первым – и случилось это уже в Агадире.
Поставив самолет в ангар, я, чтобы обеспечить дальнейшую безопасность детей, прижег с помощью крипто-коагулирующего троакара тот слабый, но уже вполне различимый знак, который украшал правое предплечье каждого, знак, свидетельствующий о принадлежности несчастных младенцев к проклятому клану.
Тогда, ища наугад, следуя песне:
я взял наугад одного из шести малышей и тайно проник вместе с ним в городской роддом. Была ночь. Мне с большим трудом удалось разглядеть в темноте женщину, младенец которой был при смерти. Ей, похоже, также становилось все хуже. Воспользовавшись тампоном, обработанным раствором хлороформа, я приблизил фатальное для матери мгновение, переложил ее ребенка в пустую кроватку, а на его месте оказался мой малыш.
Уходя, я написал ни листочке бумаги арабское имя Ибн Аббу, которое и носил с того дня мой сын. Затем я занялся пятью остальными. Ты уже понял, что Хэй-га я определил Аугустусу; Антона подбросил в Дублине в кровать леди Антрим, жене лорда Горацио Вуаля, ирландского табачного магната.
Он производил табак для сигарет «Данхилл», используя сырье из Латакии и Вирджинии[403] в пропорции, известной лишь ему одному, поскольку вкус знаменитого сорта достигался не только качественными составляющими, но и строго определенным их количеством. Это был табак «Балкан Собранный», сорт с мировым именем, который позже другой табачный магнат, Давидофф, назовет эталоном.
Увы! Спустя три года лорд Горацио Вуаль, скача верхом на слишком резвом жеребце, упал наземь, получил сильное сотрясение мозга и вскоре скончался. Прежде чем испустить последний вздох, он успел прошептать своему помощнику необходимые пропорции, никому, кроме него не известные, использовавшиеся при производстве знаменитого табака, однако данный рецепт не помог впоследствии ни одному из тех, кто пытался воспользоваться им, достичь желаемого результата: табак уже не имел прежних чистоты и тонкости; вот почему славный сорт «Балкан Собранный» сегодня практически исчез и вместо него стали использовать далеко не совершенный «Скадрон фор»; табак этот, произведенный из латакийских сортов, совершенно посредственных, из вирджинских сортов, далеко не самых лучших, не впитавших при созревании лазурного неба Эрлингтона, Фарфакса, Ричмонда, Портсмута, Четхэма или Норфолка, табак этот на вкус несравнимо хуже.
Таким образом, теперь ты знаешь, как были усыновлены трое из шести, но тебе совершенно не известна судьба троих оставшихся.
Я принял решение, что сам воспитаю двоих мальчиков. Следовательно, мне оставалось найти приют лишь для одного ребенка – It was not a boy, but a girl,[404] – и я поехал в Давос…
– В Давос? – оживился Амори.
– Да, в Давос. Ты узнаешь, в свою очередь, почему я позже понял, что нет и быть не может спасения, что нас всегда будет преследовать Проклятье отца. Ибо – злая судьба! – в Давосе я выбрал для совершения задуманного санаторий.
– Санаторий?! – воскликнул Амори.
– Да, санаторий, – произнес я тоном, более тяжелым, чем звон колокола, чем гудение шмеля, тоном, которым Гримо (не сыщик, а необщительный слуга Атоса) рассказал д'Артаньяну, Портосу, Атосу и Арамису, что он видел, как Мордаунт зарезал Сансона, который двадцатью годами раньше укоротил миледи, его мать, на доске для рубки мяса.[405] – Я проник туда ночью, прошел наугад по слабо освещенному коридору, затем взглянул в дверной глазок и увидел в комнате кровать, на которой стонала…
– Анастасия! – жалобно прошептал Амори.
– Да, Анастасия, звезда кино Анастасия; легкие ее были более чем на три четверти поражены туберкулезом – как еще могла она дышать! Так вот, она родила крошку, более неказистую, чем вошь, которая должна была вот-вот умереть, и обстоятельство это позволило мне впоследствии не изводить себя муками раскаяния, ибо бедное создание отправилось в рай, в то время как моей девочке представилась возможность оказаться в освободившейся кровати!
– Что?! – воскликнул Амори. – Так значит, Ольга была замужем за родным братом?
– И любовник ее был родным братом!
– Это рок, – прошептал Амори, затем после долгой паузы тихо спросил: – Но что случилось с теми двумя, что остались с тобой?
– Лет пять все шло не так уж плохо. Но однажды – мы жили тогда в Аяччо, – я гулял с ними в парке, расположенном в предместье, неподалеку от леса, и, ничего не опасаясь, зашел в бар выпить ананасного соку; утоляя жажду, я не спеша наслаждался прохладным напитком, как вдруг услышал ужасный крик.
Я выбежал из бара. Среди посетителей парка, в основном детей с родителями и нянями, царила паника; всполошились и смотрители. Произошло небывалое – мне рассказывали о случившемся со слезами, стонами, криками, комкая платки.
Люди видели, как из леса вышел мужчина, высокого роста, худой, в головном уборе, похожем на двурогую пилотку, подобную той, что носили во французской армии; он насвистывал на тростниковой дудке[406] какой-то приятный мотивчик.
Ребятишки, в том числе и мои сыновья, обступили музыканта и гурьбой последовали за ним. Он завел их в глубь леса. Спустя какое-то время люди в парке встревожились и отправились искать ушедших за мужчиной детей. Обыскали весь лес. Все кусты облазили. Расспрашивали всюду: не видел ли кто их детей? Но все тщетно. Говорили о бандитах, разбойниках, бродягах, скрывающихся в лесу, о похитителях детей, желающих получить выкуп, однако никто не осмеливался зайти в лес поглубже.
Поверив мнению большинства, я решил вначале, что это просто совпадение, что не было в Проклятье, поразившем посетителей парка, отняв у них невинных детей, прямой связи с Возмездием, которое преследовало наш род.
Однако спустя три дня я узнал из одной газеты, что твой старший сын Эньян, которому было тогда двадцать лет (он учился в Германии в Ульме, и ему предрекали блестящее будущее в Национальном центре научных исследований, где, несмотря на его молодость, ему предлагали занять любую вакансию), – так вот, я узнал, что Эньян принимал участие в симпозиуме, который организовывал фонд Марсьяля Кантреля и на котором, к великому моему удивлению, председателем был избран мой ученый наставник лорд Гэдсби В.Райт, и что Эньян исчез.
Я понял тогда, что и в Аяччо, и в Оксфорде начал действовать бородач…
– Таким образом, – оборвал его Амори, – ты узнал о смерти Эньяна…
Я кивнул.
– Но, – спросил он, – почему ты не отправился в Оксфорд на его похороны? Ты встретил бы там меня, подошел бы ко мне, я узнал бы, что нас преследует обезумевший отец, и смог бы действовать, заботясь и о своей, и о твоей безопасности.
– Это действительно входило в мой первоначальный план. Затем я переговорил с лордом Гэдсби В.Райтом по телефону. Он сообщил мне, что видел Эньяна за день до исчезновения в сопровождении неизвестного бородача, и я понял, что если прибуду на похороны, то он непременно меня узнает – и я буду раскрыт. И отказался от этой затеи, рассчитывая связаться с тобой более надежным способом.
Амори довольно долго сидел молча и выглядел подавленным. Затем ни с того ни с сего начал нападать на меня; его тон предвещал ссору.
– Так значит, – горячился он, – ты принял решение не ехать в Оксфорд, чтобы, так сказать, обезопасить себя. Ты не сообщил мне ничего, не попытался помочь мне и моим сыновьям избежать преследования, ты ни во что, абсолютно ни во что не поставил поразившее меня горе! Я мог бы все это знать, но ты, во все посвященный, не нашел способа сразу же связаться со мной. Твое молчание натворило столько же бед, сколько натворил их наш отец – ты понимаешь?!.. Но невинная кровь, которая пролилась из-за твоего бездействия, жаждет отмщения, и оно поразит тебя моей рукой!
Наверняка он был в тот момент не в своем уме, потому что схватил тяжелую кочергу и приблизился ко мне, издавая какие-то грозные звуки.
Я же взялся за кирку, желая остудить его пыл. Но до меня он не добрался: не успел сделать и трех шагов, как внезапно какая-то нечеловеческая сила, словно управляя им, увлекла его в резервуар с мазутом.
Он испустил душераздирающий крик – куда только вся прежняя прыть делась! Что было дальше, вы знаете…
VI. Артур Уилб
25
Глава, которая заканчивается слишком ослепительным белым
– Вот какой конец ждал Амори Консона, – закончил Артур Уилбург Саворньян.
– Клянусь Бауром Лормианом, переведшим Оссиана,[407] – ввернул не без удовлетворения Алоизиус свое излюбленное выражение, – твой рассказ очаровал меня. Но в нем есть несколько противоречий.
– Я знаю, – согласился Саворньян. – Если все, что я вам поведал, правда, то до кончины Амори должен был быть умерщвлен его старший сын Ивон. Но, в то время как, оглушенный, я собирался принять дополнительную дозу снотворного, разве не рассказал ты Скво со всеми подробностями об убийстве Ивона?
– Конечно., – не стал возражать Алоизиус Сванн, – поэтому твой постулат абсолютно верен; однако почему тогда ты, отец шестерых детей, все еще жив? Антон Вуаль, Дуглас Хэйг Клиффорд, Ольга Клиффорд-Маврокордатос, Хассан Ибн Аббу мертвы? А двоих твоих сыновей, чьим воспитанием занялся ты сам, были похищены давным-давно. Значит, ты должен был умереть!
– Ты, пожалуй, прав, – вздрогнул Артур Уилбург Саворньян. – Смерть наверняка настигла бы меня в ближайшем будущем, поставив таким образом последнюю точку в истории с преследующим нас Проклятьем.
Однако по виду Артура Уилбурга Саворньяна нельзя было сказать, что он с этим согласен.
– Для того чтобы поставить последнюю точку, нужно прежде всего, чтобы каждый узнал о своем фатуме, согласно закону, по которому пишется наш роман.
Сокрушенный Оттавио Оттавиани теребил свою козлиную бородку.
– Да, Оттавио Оттавиани, – произнес Алоизиус Сванн, – настал момент, и слово предоставляется тебе.
– Но, – заверил упрямый Оттавио Оттавиани, – мое мнение многого не стоит, так всегда, по крайней мере, утверждали.
– Начинай! – приказал ему шеф. – Мы все знаем, сколь весомы будут твои слова.
Оттавио Оттавиани вздохнул, затем заговорил:
– Мне было три года, когда меня и моего брата похитили в городском парке в Аяччо: нас увел за собой какой-то очень худой человек, он словно зачаровал нас…
– Сыночек! – простонал Артур Уилбург Саворньян.
– Папа! – взвыл Оттавио Оттавиани, бросаясь ему на шею.
– Но скажи мне, сынок, – спросил Артур, в порыве отцовской любви похлопывая его по плечу, – тебя зовут Ульрих или Йорик?
– Когда-то меня звали Ульрихом, но позже нас обоих, меня и моего брата, поймал один бандит из Ньоло.[408] Он заставлял нас воровать домашнюю птицу на подворьях, а потом продал за бесценок: Йорика – ярмарочному торговцу по имени Грибальди, а меня – пехотинцу, который исподволь привил мне желание стать полицейским.
– Так значит, ты жив, – вздохнул Саворньян, – Закон возмездия пощадил тебя. Но что же случилось с Йориком?
– Он уехал на Корсику в Бонифацио, а мой приемный отец, Оттавиани, обосновался там же, но в Бастии. Я не знал, где живет Йорик. Когда десять лет спустя случай распорядился так, что мне предложили выполнить в Бонифацио одну работенку, Йорик давно уже там не жил.
Я лишь узнал, что его обучили искусству барабанщика, что однажды он сел на судно, шедшее в Ливорно, так как его отец, уроженец Альбинии, то есть Тосканы, хотел перед смертью порадовать свой взор пейзажами, всегда восхищавшими его…
– Ты хотел бы знать, – усмехнулся Алоизиус Сванн, – жив ли Йорик? Ты надеялся, что это так и что отпущенное тебе время еще не вышло? Но нет! Йорик исчез двадцать пять лет назад…
– Alas, poor Yorick![409] – воскликнул Саворньян, смахивая слезу.
– Вот содержательный отчет, – продолжил Алоизиус Сванн, – который сделал аджюдан Понс в связи с исчезновением Йорика Грибальди.
Уаскельгам (Франция): Сегодня, в понедельник двадцать восьмого июня, на утренней поверке отсутствовали трое новобранцев батальона. Аджюдан Бутц метал громы и молнии.
– Даю тебе неделю на то, чтобы найти этих шутников! – приказал он капралу.
Но через день пропавшие по-прежнему отсутствовали.
– Все пойдут в Бириби, – проворчал аджюдан.
Он подал рапорт майору Глюпфу, начальнику гарнизона, который отдал приказ схватить, и как можно раньше, живыми или мертвыми Пичу, Фолкоха, Уормса – гусар вне закона, обвиняемых в том, что они предали народ Уаскельгама.
Гарнизон перевели на казарменное положение. Привели в боевую готовность шесть батальонов. Тому, кто сообщит какие-либо сведения об отсутствующих гусарах, было обещано двадцать дукатов – однако удалось получить лишь совершенно бесполезную информацию. Прочесывали поезда, искали на дне каналов. Результат нулевой.
Вскоре исчез пехотинец Ибрагим, весельчак из Пфальца,[410] двадцати пяти лет, имевший три нашивки за ранение, да к тому же еще и дальний родственник майора! А на следующее утро исчез тосканский барабанщик Грибальди. Целых пять пропавших единиц личного состава, считай, по одному в день!
Аджюдан, ввиду недостатка воображения, хмурил брови. Однако постепенно устанавливался мир. Смерть короля сплотила народ. Разъяренный комендант гарнизона отдал приказ о полной светомаскировке. Ущерб, который несли торговцы городка ввиду перевода гарнизона на казарменное положение, оправдывали слухами о покушении, готовящемся на герцога Горацио.[411] Поговаривали, что не за горами мобилизация.
Вскоре путем анализа было установлено, что все факты исчезновения гусар объединены одним общим обстоятельством: каждый менее чем за день до того, как было зафиксировано исчезновение, заходил в кабачок, находившийся по соседству с городской скотобойней, на берегу канала, хозяйка которого и скрывать не пыталась свою любовь к одному драгуну.
Оскар Глюпф снял кивер с восемью золотыми нашивками, переоделся в гражданское и отправился в солдатский кабачок, чтобы своими глазами увидеть, что к чему. В то время как Шупо расставлял вокруг заведения посты, майор заказал кружку пива, заплатив за нее золотой флорин.
Он увидел за прилавком Розу, заговорил с ней, но, можно поклясться святым Станиславом, как начальник ни старался, никаких беглецов в кабачке не приметил.
Он по-прежнему, однако, подозревал хозяйку заведения, которая, как его уверяли, действуя в интересах страны-противницы, стремившейся спровоцировать конфликт, подстрекала солдат и унтер-офицеров, пехотинцев и драгун, гусар и спаги бежать из гарнизона. Но, поскольку кантон был оцеплен шестью батальонами, никто не смог бы миновать кордоны незамеченным. Глюпф был убежден, что гусар заманили в западню, где и прячут, и заправляет всем этим Роза.
Но где эта западня? Однажды, воспользовавшись незначительным предлогом, он открыл люк над водосборным колодцем во дворе кабачка, затем подверг инспекции кровать Розы, покрытую балдахином, тщательно осмотрел стены и крышу. Но все тщетно.
Тогда Глюпф вызвал Розу в Трибунал.
– Где наши исчезнувшие солдаты? – сразу же набросился на нее адвокат начальника гарнизона. – Где Ибрагим, Грибальди, Уормс – их всех видели в твоем кабачке? Что ты делала в ту ночь?
Однако Роза все отрицала.
– Уормс? Грибальди? Ибрагим? Клянусь моим святым Покровителем! Никогда их в глаза не видела! Знать не знаю! – твердила Роза, женщина без стыда и совести.
– Да ты шлюха! – кричал Глюпф. – Нам все рассказали!
– Я? Никак нет! У меня есть любовник, драгун, ревнивый, жестокий!
– Как его звать? Назови его имя!
– Я возражаю! – взревел адвокат Розы.
Розу обвинили в убийстве и предательстве.
Но адвокат, защищавший Розу, доказал суду присяжных, тоном строгим и убедительным, что обвинение безосновательно, зиждется на непроверенных слухах, что в данном случае обвинение просто стремится во что бы то ни стало очернить его подзащитную.
Роза была оправдана под одобрительные возгласы и бурные и продолжительные аплодисменты публики. Глюпф признал себя побежденным, однако поклялся, что его час еще настанет, что придет день и все увидят, кто здесь командует, что он припомнит все это в Освенциме при первой же возможности.
Он покинул здание Трибунала, насвистывая воинственный мотив.
Спустя неделю вооруженный базуками отряд атаковал гостеприимный кабачок. После атаки были найдены тела шестерых погибших, в том числе и Розы, однако ни Грибальди, ни Ибрагима, ни кого-либо еще из пропавших новобранцев среди них не было…
– Картина, кажется, совершенно ясна, – заявил Алоизиус Сванн, заканчивая свое двусмысленное сообщение.
– Вовсе нет, – возразил Артур. – Йорик исчез, но с чего вы взяли, что он мертв?
– Да, с чего вы взяли, что он мертв? – повторил, словно попугай, Оттавио Оттавиани, считавший, что у него при этом хитрый вид.
– Когда начали разбирать строительный мусор по соседству с кабачком, одна стена которого рухнула, то нашли часы, красивую вещицу в стиле рококо с золоченой арабской инкрустацией на циферблате; было известно, что Йорик Грибальди приобрел такие часы месяцем раньше.
– Но разве он не мог подарить их Розе?
– Мог, и поэтому часы – недостаточное доказательство смерти Йорика, – согласился Алоизиус Сванн. – Однако у меня есть версия более убедительная. Вот она, ab absurdo:[412]
Предположим, что Йорик мертв; тогда достаточно, чтобы Оттавио Оттавиани, он же Ульрих Саворньян, отдал Богу душу, и тогда, согласно Закону бородача, пришла бы очередь Артура Уилбурга Саворньяна…
– Ловко! – прогоготала Скво.
– Бесчеловечно! – взревел Артур.
– Нацизм! – рявкнул Оттавио.
– Мы посмотрим, есть ли истина в моем суждении: для начала убьем Оттавио Оттавиани – он слишком много видел!
– Но почему? – взмолился, остолбенев, сыщик. – Я слишком молод!
– Замолчи, Оттавиани, – сказал ему шеф. – Ты еще не понял, как близок твой конец?
– Но нет же никакой связи… – рыдал Оттавиани.
– Заткнись, глупец! – прорычал Алоизиус Сванн, влепив ему затрещину. – Прочитаем лучше сообщение, переданное нам недавно.
Он открыл сумку, достал из нее написанное от руки сообщение и передал Оттавиани.
– Зачем это читать? – спросила Скво. Казалось, она ничего не поняла.
– Скоро поймешь, – сказал ей вполголоса Алоизиус, усмехаясь, и усмешка эта была лукавой.
Оттавио Оттавиани, вооружившись лорнетом, прочистил глотку, вдохнул воздуха и начал читать – негромко, тоном, который можно было назвать холодным:
Окрестим малютку, сказал Оргон,[413] сын Убю.[414] Шутовская капуста, украшения, вши, затем кусочек говяжьего легкого, кусочек мяса в жиру; выпьем, но не грог, а пунш. Он выпил вина, а вслед за ним и рому, и виски, и кокосовой настойки, а затем заснул на скале. Громкое журчание ручья перекрывало его посапывание.
Взлетел орел. Львенок вышел посмотреть на динго. Побежал волк. Тронулся в путь опоссум. Куда они направляются? Медведь сломал себе шею. Он страдал. На стене растет лилия, вот она покрывает своими побегами выступы бастиона, нежная чаша из белого мрамора.
Убю несет свое золотое яйцо.
– Гм, – выдавил Саворньян, похоже, ничего не понимая.
– Что? – возмутился Алоизиус– Разве ты не заметил, что во всем этом есть одна неповторимая изюминка?
– Ей-Богу, нет, – признался Саворньян.
– Да во всем этом тексте нет ни одной буквы «а»![415]
– Именем Тевтата, правда, это так! – воскликнул Саворньян, вырывая лист из рук Оттавиани.
– Невероятно! – воскликнула Скво.
– Действительно изюминка, действительно, – повторял Саворньян.
– Более того, – добавил Алоизиус, – лишь однажды употреблена гласная «у»: в слове «whisky»![416]
– Потрясающе! Изумительно! Неслыханно!
Оттавиани захотел еще раз перечитать сообщение.
Саворньян передал его ему. Сыщик прочитал его вполголоса. Пожалуй, он ничего не понял, когда читал в первый раз.
– Ну, Оттавиани, скажи нам, что ты уловил? – спросила Скво иронически.
Оттавиани, судя по всему, мучался. Он раскачивался на пуфе. Потел. Тяжело дышал.
– Скажи тогда… – начал он внезапно.
– Что? – спросил Алоизиус Сванн.
Удрученный, Оттавио Оттавиани прошептал тоном умирающего человека:
– Но здесь нет также и…
26
Глава, которой, как наверняка понял читатель, закончится повествование
– Извините? – сказали одновременно Скво и Саворньян; складывалось впечатление, что они не расслышали того, до чего, как казалось, дошел Оттавио Оттавиани.
Послышался мимолетный шум, какое-то «плоф» или, скорее, «плок», словно хрустнула хворостинка, но звук этот был настолько тонок, что о нем тотчас же забыли.
Внезапно Скво испустила жалобный крик.
– Что случилось?! – завопил Саворньян.
– Оттавиани! Оттавиани! – кричала пронзительной Скво.
Лицо полицейского внезапно побагровело, он раздувался на глазах. Пухлый, царственный, похожий на Бака Муллигана,[417] во всю глотку распевающего «Интроибо», видом своим он напоминал воздушный шарик, за которым гоняется детвора в саду Пале-Рояля или в парке Монсури.
Затем вдруг подобно тому, как проколотый шарик испускает «дух», Оттавио Оттавиани лопнул, издав при этом звук, более оглушающий, нежели рев самолета «Дассо», преодолевающего потолок скорости звука, – грохот, от которого на земле трескаются и разбиваются стекла.
Когда все было кончено, собравшиеся увидели, что Оттавио Оттавиани исчез: от него даже косточки, даже пуговицы не осталось – одна лишь кучка пепла, словно от выкуренной сигареты, и пепел этот можно было принять за тальк, настолько он был белым.
Артур Уилбург Саворньян был так удручен, что походил на статую. Смерть, одна за другой, обоих его сыновей, которых он давно уже считал безвозвратно исчезнувшими, а затем вдруг узнал, что они живы – более того, одного из них увидел воочию! – потрясла его. Он рыдал, охваченный переполнявшим его чувством. В конце концов он спросил:
– Если я правильно понял, ты действовал в интересах бородача?
– Скажем так: я всегда был его правой рукой, его представителем, посланником…
– Я не знал…
– Ты мог бы догадаться: разве мое имя не означает «белый лебедь»?
– Но, – продолжал Саворньян, – поскольку, как я понял, для меня прозвучал последний звонок, могу ли я узнать хотя бы, какой будет моя смерть? Ибо наверняка воображение твое богато!
– О да! – воскликнул, усмехаясь, Алоизиус. – В голове у меня по меньшей мере пять способов твоего умерщвления:
Можно было бы для начала воспользоваться моментом, когда ты углубишься в чтение Золя, в «Ругон-Маккаров» (но не в «Западню», а скажем, скорее в «Нану»), предложить тебе какой-нибудь плод, начиненный взрывчаткой: лимон, дыню или, скорее, ананас, убийственный плод, подобный тем, что Линдон Б.Джонсон день за днем, ночь за ночью сбрасывал на Ханой,[418] пренебрегая нормами международного права; способ этот был утвержден на симпозиуме, посвященном унаследованию, безоговорочно. Такое устройство сработало бы в тот момент, когда ты, захотев утолить жажду, надрезал бы ананас, что и привело бы к твоему исчезновению.
Можно было бы также, пользуясь узловым ремнем, произвести над тобой какую угодно операцию: ампутацию, кастрацию, полностью или частично, с теми либо иными нюансами; в качестве объекта операции можно было бы выбрать – недурной вариант – твое мужское достоинство или – ход более символический – твой нос; и действие это привело бы к аналогичному исходу самое большее через год.
Или – способ более замысловатый – можно было бы сделать следующее: в лесу, по которому ты гуляешь, в стволе тиса или сосны проделать дупло, в котором совьет гнездо какая-нибудь птичка, подвергнуть ее радиоактивному воздействию (ураниевый орех, производящий изнутри сильное гамма-излучение). Потом положить под деревом большую анисовую конфету – всем ведь известна твое пристрастие к анисовым конфетам. И вот ты гуляешь себе, гуляешь, идешь себе, ни о чем не думая, жуешь что-нибудь себе потихоньку, как вдруг видишь на земле свою любимую конфетку. Ты нагибаешься, гурман эдакий, ложишься на землю, чтобы насладиться вдоволь, и в этот момент твою макушку поражает излучение из гнезда, излучение, которое усыпит тебя навсегда, потому что получишь ты максимальную дозу.
Можно было бы поступить и таким образом: ты идешь на японское представление. Там, к твоему великому удовольствию – ведь всем известна и твое пристрастие к тонкому искусству японской игры го, – пребывал бы наивный участник, противостоящий в товарищеском матче чемпиону, «Кан Шу», если не «Кудан»: Каку Такагава, но простак этот имел бы большую фору, не «фюрен», но «Нака иоцу». Каку Такагава начал бы с «Моку хадзуши», его соперник, погружаясь в «Жи Дори Го» настолько же неумело, насколько и непродуктивно; в то время как он должен был бы избрать «Такамоку Какари», он пойдет на «Озару» (Удар Большого Бабуина), затем после тонкого «Ои Отоши» одержит победу посредством «Нака оши гачи» под приветственные возгласы покоренной публики.
Однако после матча началось бы представление японского театра Но – понять его трудно, и дело это требует времени и терпения. Сначала ты захотел бы уйти, тем не менее как человек вежливый подождал бы какое-то время, упорно пытаясь уловить то там, то здесь какое-то слово, жест, шум, проявление гнева, горя, сумасшедшей любви, которые могли бы помочь тебе хоть немного уяснить значение действа, которое развертывается неподалеку от предоставленного тебе откидного стульчика, но ты так и не постигнешь его должным образом, подобно человеку, который, читая роман, верит во всякое мгновение, что вот сейчас ему будет представлено решение, подтверждения которого он ждал, начиная с того проклятого момента, когда он набросился на эту книгу, в то время как на самом деле, по мере того как он продолжает читать, он встречает лишь двусмысленные оговорки, погружающие в волнующее честолюбие, которое вело руку автора.
Таким образом, ты уснешь, устав от того, что слишком уж хотел что-то понять. Так собака, подвергнутая, по Павлову, воздействию, вызывающему слюноотделение, и не получившая вслед за ним лакомства, в итоге засыпает, максимально тормозя участок коры головного мозга, контролирующий его активность. Тогда мы и сможем без труда тебя уничтожить.
Или, чтобы закончить, поскольку я только что сказал, что знаю пять способов преуспеть в выполнении поставленной цели, я могу напасть на тебя в то время, когда, беззаботный, ты идешь в какой-нибудь парк полюбоваться статуями обнаженных людей, которых некогда вылепил Жирардон или Кусту, Жимон или Роден.[419] Мне достаточно иметь под рукой домкрат, чтобы в подходящий момент исчезновение болта, придающего колоссальному блоку устойчивость привело к твоему уничтожению.
– Никто еще никогда не говорил, что у Артура Уилбурга Саворньяна нет чувства юмора, – сразу же откликнулся Артур Уилбург Саворньян. – Я аплодирую полету твоего воображения. Но если тебя интересует мое мнение, то я признаюсь тебе, что плохо представляю, как это ты сейчас же, незамедлительно устранишь меня. Ибо, будем откровенны, здесь нет ни взрывающихся ананасов, ни узлового ремня, ни японского представления, ни падающей статуи Родена!
– Я высоко ценю твою утонченность, – произнес ледяным голосом Алоизиус Сванн. – Но я захватил с собой одну штучку, которая все это заменит!
Он вынул из кармана револьвер. Раздался выстрел и Артур Уилбург Саворньян замертво рухнул на пол.
– Ну вот они все и мертвы, – подвела итог Скво. – Даже не верится. В конце концов складывается впечатление, что это «Много шума из ничего» Шекспира, нечто скорее раздражающее, нежели наводящее грусть.
– Qui va piano va sano,[420] – усмехнулся Алоизиус Сванн. – Они все мертвы. Отпустим им грехи. Помолимся, чтобы каждый из них был оправдан. Ибо даже если они и совершили многочисленные злодеяния, каждый из них помог мне своим соучастием. Ни на одного протагона[421] не возлагали столь стесняющего канона. И каждый из них вытерпел это до конца…
– Замолчи, – прошептала Скво, – you talk too much…[422]
Алоизиус Сванн покраснел.
– Так значит, – спросила Скво, – прозвучал момент «Finis Coronat Opus»?[423] Вот и конец романа? Его последняя точка?
– Да, – ответил Алоизиус Сванн, – вот мы и прошли до конца, до последнего слова, вкрадчивый лабиринт, по которому брели сонным шагом. Каждый из нас принял свое участие, внес свой вклад. Каждый, продвигаясь все дальше в неясности несказанного, замышлял до своего насыщения очертания дискурса, который, по мере того как он увеличивался, уничтожал возможность случайности прошлого лишь ценой будущего, появляющегося без решения, подобно прожектору, который светит лишь какое-то время, предлагая беглецу лишь самую малую веху, нить Ариадны, всегда разорванную, позволяя сделать за раз только один шаг. Франц Кафка сказал об этом до нас: есть одна цель, но нет никакого пробега, мы называем пробегом наши сомнения.
Мы продвигались, однако приближались во всякий момент к последней точке, ибо нужно, чтобы эта точка была поставлена. Иногда нам казалось: всегда есть «это», чтобы обеспечить «что?», «некогда», «сегодня», «всегда», оправдывающее «когда?», «ибо», дающее право на «почему?»
Но сквозь наши решения всегда проглядывала иллюзия тотального знания, которая никогда не принадлежала ни одному из нас, ни протагонам, ни писателю, ни мне, тому, кто был его верным проконсулом, осуждая нас, таким образом, на дискурс бесконечный, питая повествование, замышляя свою идиотскую нить, наращивая свою напрасную тарабарщину, никогда не приходя к оскорбляющему его кардинальному моменту, к горизонту, бесконечности, где все, как представляется, соединяется, где кажется, что возникает решение, но, приближаясь к нам, шаг за шагом, по микрону, по ангстрему, к фатальному мгновению, когда, не имея более для нас двусмысленного содействия дискурсу, который одновременно нас объединял, нас составлял, нас предавал,
смерть,
смерть с паучьими пальцами,
смерть с окоченевшими пальцами,
смерть, где идет, повреждаясь, надпись,
смерть, которая навсегда обеспечит незапятнанность Альбома,
который гистрион[424] однажды счел возможным зачернить,
смерть объявила нам о конце романа.
Постскриптум
Честолюбием писателя, его целью, скажем, его заботой, его постоянной заботой было сначала создать произведение настолько же оригинальное, насколько и поучительное, произведение, которое имело бы, могло бы иметь силу, стимулирующую конструкцию, повествование, фабулу, действие, одним словом – способ написания современного романа.
В то время как до этого в первую очередь говорили о ситуации, о своем «я», о социальном окружении, адаптации или неадаптации, о своем вкусе к происходящему потреблению, как сказано, вплоть до овеществления, он, писатель, хотел, вдохновляясь доктринальной поддержкой вкуса дня, который утверждал абсолютным примат значащего, улучшить имеющийся в его распоряжении инструмент, инструмент, который он использовал до этого, не слишком страдая, не столько потому, что он хотел бы уменьшить поражающее противоречие искусства писать, не столько потому, что он не знал об этом совершенно, сколько потому, что он считал себя в состоянии реализоваться в русле нормативного приобретенного искусства, принятого большинством, искусства, которое составляло тогда для него не какой-то мертвый вес, не тормозящий ошейник, но, grosso modo, стимулирующую поддержку.
Откуда проистекает обязанность углубляться? Ее наверняка стимулировало не одно обстоятельство, но отметим прежде всего, что речь идет о случае, ибо на самом деле все объясняется одним пари, одним a priori, относительно которого сильно сомневались, что оно может однажды раскрыться в позитивной работе.
Затем цель показалась ему забавной, не более того; он продолжил. Он нашел тогда в этом столько очаровательных моментов, что погрузился в труд с головой, совершенно оставив многие иные работы, даже довольно близкие к завершению.
Так родился, слово за словом, черным на белом, возникая из канона тем более сложного, что казался сначала незначительным для того, кто читает, не зная решения, роман, который, каким бы двусмысленным он не был, вскоре показался ему удовлетворительным. Сначала ему, не имевшему ни карата вдохновения (более того, он вообще не верил во вдохновение!), показалось, что воображение у него, по крайней мере, не хуже, нежели у Понсона или Поляна;[425] затем он утолял этим, еще более увеличивая жажду, инстинкт столь же постоянный, сколь и инфантильный, его вкус, его любовь, его страсть к накоплению, к насыщению, к имитации, к цитатам, к переводу, к автоматизации.
Позже, проникаясь все большей верой в ценность предпринятого проекта, он придал повествованию символический характер, который, следуя сначала шаг за шагом линии романа, затем, чтобы закончить, ее составляя, разглашал, никогда его совершенно не выдавая, Закон, который его вдохновлял, Закон, из которого он извлекал, иногда не без трудностей, иногда не без дурного вкуса, но иногда и не без юмора, не без блеска, очень продуктивный результат, стимулирующий в самой высокой степени новшество.
Он понял тогда, что, подобно Франку Ллойду Райту, строившему свой дом, он производил, mutatis mutandis,[426] прототипический продукт, который, освобождаясь от принятого образца, управлявшего артикуляцией, организацией, воображением сегодняшнего французского романа, оставляя навсегда психологизацию, которая, соединяясь с морализацией, составляла для большинства аркбутан хорошего национального вкуса, открывала мало известную силу, силу, которой пренебрегали, но которая для него повторяла и чтила традицию, чье начало было положено романами «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Тристрам Шенди», «Матиас Шандор», «Locus Solus» либо – почему бы и нет? – «Bifur» или «Fourbis»,[427] книгами, перед которыми он всегда краснел от восхищения, даже не смея питать иллюзии относительно создания произведения, приближающегося к ним по ликованию, по двусмысленному юмору с подтекстом, по тончайшему вкусу хорошего слова, по ироничности, парадоксальности, всегда очень далеко идущей аффабулизации.
Таким образом, его работа, поскольку она была туманной в своем начале, показалась ему ко многому обязывающей: сначала он создавал «настоящий» роман и при этом развлекался (разве Раймон Кено, мрачным двойником которого он себя называл, не сказал когда-то: «Пишут для того, чтобы дурачить народ»?), но, в особенности, оживляя наводящее на мысли отношение, на котором зиждется значение, он участвовал, он сотрудничал в формировании мощного абразивного течения, которое, критикуя ab ovo непродуктивный субстрат, который хорош для Труайя, Мориака или Блондена,[428] скажем, для грубого солдафона с набережной Конти, из «Фигаро» или откуда-то еще, смог бы в ближайшем будущем открыть для романа вдохновляющее знание, новую силу повествовательного арсенала, который считался уничтоженным!
«Неизвестная гласная». Я изучил фонемы всех языков мира, живых и мертвых. Особенно интересуясь гласными, являющимися чистыми элементами, первоначальными ячейками наречия, я проследил за гласными звуками в их вековых путешествиях, услышал через века рычание «А», посвистывание «И», блеяние «Е», улюлюканье «У», гудение «О». Бесчисленные бракосочетания, которые гласные звуки заключают с другими звуками, не являются более для меня секретом. И однако уже в конце моей ученой карьеры я замечаю, что все еще жду, все еще предчувствую неизвестную Гласную, Гласную Гласных, которая вместит в себя их все, которая разрешит все проблемы, Гласную, которая является одновременно и началом, и концом, которая будет произнесена со всей силой человеческого дыхания, с гигантским растяжением челюстей, как если бы она должна была явить себя в едином зевке скуки, вое голода, стоне любви, хрипе смерти. Когда я ее открою, создание поглотит самое себя и не останется более ничего – одна лишь НЕИЗВЕСТНАЯ ГЛАСНАЯ!
Жан Тардьё[429]«Слово для другого»
Магический алфавит, таинственный иероглиф приходят к нам лишь неполными и искаженными – то временем, то теми, кто заинтересован в нашем незнании; найдем потерянное письмо или стертый знак, восстановим диссонирующую гамму и обретем силу в мире духов.
Жерар де Нерваль (Процитировано Полем Элюаром[430] в «Поэзии непроизвольной и поэзии преднамеренной»)
E SERVEM LEX EST, LEGEMQVE TENE-RE NECESSE EST?
SPES CERTE NEC MENS, ME REFEREN-TE, DEEST;
SED LEGE, ET ECCE EVEN NENTEMVE GREGEMVE TENENTEM.
PERLEGE, NEC ME RES EDERE RERE LEVES.[431]
Лорд Холланд. Eve's Legend[432]
Если бы составили словарь диких языков, то в нем нашли бы очевидные остатки прежнего языка, на котором говорил просвещенный народ, и даже если мы и не найдем их, из этого проистекает лишь то, что деградация наша зашла так далеко, что стерла эти последние остатки.
Де Местр[433]«Санкт-Петербургские вечера» (процитировано Флобером в «Черновиках Бувара»)
У папуасов язык очень беден; у каждого племени свой язык, и словарь его непрестанно обедняется, потому что после кончины каждого человека уничтожается несколько слов в знак траура.
Э.Барон «География» (цитируется Роланом Бартом[434] в «Критике и Правде»)
Лишь в мгновение тишины законов совершаются великие действия.
Маркиз де Сад
Even for a word, we will not waste a vowel.[435]
Индийская поговорка