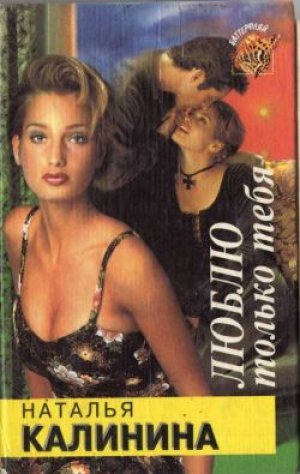
ВМЕСТО ПРОЛОГА
– Спасибо, что тебя не пришлось уговаривать, – сказала Луиза Маклерой, одарив Бернарда Конуэя очаровательнейшей из своих улыбок. – Ты чем-то озабочен?
– Да. Меня беспокоит состояние психики моей жены.
– О, это пройдет. Опыт вашей супружеской жизни еще столь ничтожно мал, что ошибки неизбежны.
Они ехали в «шевроле» Бернарда в сторону Лос-Анджелеса. Луиза попросила зятя отвезти ее в аэропорт – она летела в Вашингтон к мужу.
– Я бы не хотел, чтобы наша семейная жизнь начиналась с упреков и подозрений в измене, – говорил Бернард, не отрывая взгляда от дороги. – Мне нужна жена-друг. Обстоятельства складываются так, что я хочу выставить свою кандидатуру на ближайших выборах в конгресс.
– О, я заранее поздравляю тебя с успехом, – сказала Луиза и едва заметно подмигнула в зеркальце. – Признаться, я горжусь выбором моей дочери.
Бернард вздохнул и прибавил скорость.
– Не надо так спешить, Берни, – до самолета еще больше часа. К тому же я бы хотела задать тебе вопрос довольно интимного характера.
– Я тебя слушаю, Луиза.
– Это правда, что у тебя есть любовница?
Она обратила внимание, как дрогнули лежавшие на руле пальцы.
– Это… это не совсем то, что ты думаешь. Впрочем, да, это правда.
Луиза самодовольно усмехнулась.
– А тебе известно, что Синтия знает об этом?
– Вот оно в чем дело… Но откуда?
– Я же сказала, у тебя нет опыта семейной жизни. Ты никак не можешь выйти из образа плейбоя-холостяка.
Луиза не спеша достала из сумки конверт и, вынув из него фотографию, помахала ею перед носом Бернарда.
– Черт! – вырвалось у него. – Я и не знал, что мой дом нашпигован этой мерзостью.
– Ты сам виноват, что его нашпиговали ею, – сказала Луиза, засовывая фотографию в конверт.
– Это сделала Син?
– Теперь не имеет никакого значения, кто это сделал, – все материалы у меня. А я, как ты знаешь, не предаю старых друзей.
– Что тебе нужно взамен? – спросил Бернард. – Дело в том, что я не люблю быть обязанным даже таким верным друзьям, как ты.
– Ты неисправим, Берни. Но твой прагматизм нисколько не портит тебя. Надеюсь, твой сын унаследует от тебя этот здравый смысл истинного техасца.
– Сын?
Бернард резко сбросил скорость и внимательно посмотрел на Луизу.
– Ты разве не знал, что Синтия беременна?
– Я рад. Я так рад… – бормотал Бернард. – Так вот почему Син стала подозрительна и…
– Но это ни в коем случае не оправдывает твоей неосторожности. Кстати, это правда, что Мария русская?
Бернард увидел в руках у Луизы фотографию. Изображение было довольно расплывчатым, но вполне узнаваемым. Они с Маджи в чем мама родила сидели на полу возле горящего камина и курили. Что это были за сигареты, можно было догадаться по отрешенному выражению их лиц.
– Она бежала из России, – тихо сказал Бернард. Луиза удивленно округлила глаза.
– Ты хочешь сказать, ее преследователи коммунисты?
– Не думаю. Она влюбилась в американца.
– Вот оно в чем дело… Бедняжка. Он погиб, заслонив ее своим телом, и она от горя – я слышала, русские женщины очень серьезны и постоянны в своих чувствах, – пристрастилась к травке.
Бернард резко затормозил.
– Что тебе от меня нужно? – спросил он, поворачиваясь к Луизе всем корпусом.
– О, я думаю, мы сумеем договориться к обоюдному удовольствию. – Она умело изобразила смущение. – Тот участок земли в Форт-Уорте выгодное вложение капитала, не так ли? Но мне, помимо всего прочего, очень подходят тамошний климат и пейзаж. Если тебе удастся уговорить отца…
– Он родился в Форт-Уорте. На этой земле когда-то стоял барак, в котором жили его родители. Он не согласится…
– Очень жаль. – Луиза тронула Бернарда за плечо. – Поехали, Берни. Мы можем опоздать на самолет.
Он медленно тронулся с места.
– Что ты собираешься сделать с фотографиями?
– Пока не знаю. Посоветуюсь с мужем.
– Я куплю их у тебя.
Луиза откинулась на сиденье и расхохоталась.
– Деньги могут помешать дружбе. Особенно такой старой, как наша с тобой, Берни.
– Зачем тебе понадобился именно этот участок? – недоумевал Бернард.
– Техас напоминает мне Андалузию. Мы, женщины, бываем очень романтичны.
– Я постараюсь уговорить отца уступить тебе эту землю, но ты должна быть со мной откровенна.
– Каприз красивой женщины, не более того. Берни, эту Марию мог подослать КГБ. По крайней мере, газеты, узнав о том, что она русская, непременно будут спекулировать на этой теме.
– Черт! Ладно, считай, мы договорились. Давай фотографии и кассету.
– Пожалуйста. – Она протянула ему конверт. – Да, кстати, я велела этой глупышке Син отказаться от услуг детективов, но боюсь, она не послушает меня. Советую тебе быть осторожным и не встречаться с Марией ну хотя бы в период избирательной кампании.
Бернард стиснул зубы.
Остаток пути до аэропорта оба молчали.
– Помнишь, мы были с тобой в ресторане, а потом ты повез меня на ваше ранчо? – спросила Луиза, слегка наклонясь к Бернарду. Они сидели в зале ожидания для пассажиров первого класса, ожидая, когда клерк принесет посадочный талон.
– Да, – кивнул он, нервно барабаня пальцами по столу.
– Тогда еще стоял тот барак, но там уже никто не жил. Ты показал его мне, рассказал о матери, которую, мне кажется, очень любил. А потом мы занимались любовью в роще. И я тогда думала по своей глупости, что ты женишься на мне.
– Ты была отличная девчонка, Лу. Бернард натужно улыбнулся.
– Я построю большой деревянный дом с видом на эту рощу, – тихо сказала Луиза. – Знаешь, Берни, я сама не подозревала, как я сентиментальна. – Она поднялась, увидев клерка. – Чао, Берни, ты всегда был сильным и независимым в поступках. Мужчина глупеет от любви и перестает видеть себя со стороны. Поверь, мне кажется, я уже вижу тебя в Капитолии.
В купейном вагоне поезда Вильнюс – Ленинград было тепло и пахло чистым бельем. Двое попутчиков Яна – мужчины неопределенного возраста – сели буквально за две минуты до отправления. Четвертое место оставалось пустым. Один из мужчин, едва тронулся поезд, достал из портфеля бутылку коньяка и, кивнув лежавшему на верхней полке Яну, предложил:
– Давай на троих. На двоих будет многовато.
Ян, поколебавшись несколько секунд – не любил он крепкие напитки, тем более на ночь глядя, – все-таки спрыгнул вниз. Он уже успел переодеться в тренировочный костюм, и оба мужчины не без зависти смотрели на его гибкое стройное тело.
За рюмкой завязалась беседа. Ян сказал попутчикам, что ездил в Вильнюс, где когда-то родился, узнать хоть что-то о своих пропавших в войну родителях. Увы, безуспешно. А теперь едет в Ленинград к приемным.
Мужчина с родинкой на виске и уверенными панибратскими манерами сказал, что его ведомство, закрытый НИИ, подчиняющийся непосредственно Министерству обороны, как раз занимается поисками пропавших во время войны людей. И тут же пообещал оказать содействие.
– Правда, чаще мы находим их могилы, – добавил он и предложил тост за, как он выразился, «священные холмики земли, под которыми покоятся бренные останки нетленных душ».
Выпили, закусили бутербродами с сыром и колбасой, которые достал из полиэтиленового пакета второй мужчина, назвавшийся Антоном Мстиславовичем. Ян выложил на стол яблоки и пачку печенья. Слово за слово, и он незаметно рассказал своим попутчикам, что плавал когда-то старпомом на грузовых судах, знает, хоть и успел изрядно подзабыть, английский и немецкий.
Попутчики слушали внимательно и заинтересованно. Похоже, они были незнакомы между собой, хотя из разговора выяснилось, что Антон Мстиславович тоже военный и того, с родинкой, он звал просто – Палыч.
Беседа коснулась афганской войны, и Палыч сказал, что Советскому Союзу давно пора начать расширять свои границы.
Антон Мстиславович мягко, но решительно не согласился с Палычем – он, как решил Ян, определенно представлял в Советской Армии «голубей», которых их противники – «ястребы» – называли «пятой колонной» и «Пентагоном». Он заметил, что американцы, обжегшись на вьетнамской войне, коренным образом изменили тактику, превратившись в глазах мирового сообщества из хищных акул чуть ли не в безобидных дельфинов, и Советский Союз, таким образом, невольно стал выглядеть мировым жандармом.
Они горячо заспорили.
– Вот ты, Иван, человек штатский, рассуди: кто все-таки из нас прав? – спрашивал Палыч, пьяненько поблескивая очками в тонкой золотой оправе. – Мне лично кажется, что чем больше территорий мы покорим, тем станем сильней и непобедимей. Так, между прочим, считали все русские цари. Да и Сталин тоже. Это Ленин разбазаривал направо и налево русские земли. А на мировое сообщество я прибор положил. Кто сильней, тот и прав. Так было, есть и будет.
– Но мы завязли там по уши, – возразил Ян. – Мне приходилось встречаться с теми, кто прошел Афган. Они говорят, нас там возненавидели люто и надолго. А ведь было время, когда русских в Афганистане уважали и даже любили.
– Ихнюю любовь, как говорится, в генеральскую зарплату не превратишь. – Палыч ухмыльнулся и залпом допил свой коньяк. – А мой кореш за какие-то одиннадцать месяцев из майоров прыгнул в полковники. Круто, а? – Палыч вдруг наклонился к уху Яна и сказал доверительным шепотом: – Ты, Иван, между прочим, имеешь колоссальную возможность сделать головокружительную карьеру. Как насчет того, чтобы поработать на благо Отчизны?
– Я человек штатский и вряд ли смогу стать…
– Не скромничай, – перебил его Палыч. – Два-три месяца интенсивных занятий языком, приемами рукопашного боя и так далее – и ты будешь в отличной форме. – Он замолчал, ожидая, пока Антон Мстиславович выйдет в коридор и задвинет за собой дверь. – Думаю, тебе даже не придется участвовать в боевых действиях – твоя миссия будет в высшей степени интересной и важной, Анджей Мечислав Ясенский.
Ян почему-то вздрогнул при этом имени.
– Да ты не пугайся. Дело в том, что мы давненько наблюдаем за твоей персоной. Если честно, то все то, о чем мы сейчас говорим, чистой воды лирика, потому что у тебя все равно нет выбора. Компромата у нас хватит с лихвой, чтобы засадить тебя на веки вечные в санаторий с решетками.
– Я не собираюсь подчиняться грубой силе и не боюсь никаких компроматов. К тому же мой приемный отец…
Палыч нервно дернул щекой и сказал без всякого выражения, словно зачитал абзац из протокола или письменного донесения:
– Капитан Лемешев, находясь в состоянии белой горячки, утопил в ванне свою супругу, впоследствии, пытаясь замести следы преступления, решил сжечь труп, облив его бензином из канистры, и в результате взрыва газовой колонки погиб сам. С подробностями происшествия можно познакомиться в нашем архиве. Разумеется, официальная версия – несчастный случай.
Ян задохнулся от боли. Он вдруг вспомнил мать такой, какой видел в последний раз: кургузый хвостик нейлоновой косынки, теребимый ветром, в глазах радость с горечью пополам… Как она жила все эти годы? Почему он, болтаясь по свету в надежде обрести что-то утерянное, так и не удосужился заехать хотя бы на недельку-другую к родителям?..
– Понимаю, нелегко тебе сейчас. Но ведь они как-никак были тебе чужими по крови. Правда, говорят, не та мать, которая родила…
– Она была замечательной матерью, – проговорил Ян, с трудом ворочая языком. – А отец… Да, я ревновал его к ней. Я… Думаю, в том, что случилось, прежде всего виноват я.
– А вот это уже достоевщина, – сказал Палыч. – Я же предпочитаю поручика Лермонтова с его истинно российским фатализмом.
Вошел Антон Мстиславович и сел с краю на диван.
– Ну что, товарищ полковник, договорились? – поинтересовался он.
– В общих чертах да. Ну а теперь я вкратце изложу суть дела, тем более что, как говорится, контактов с улицей у тебя больше не будет. – Палыч как бы невзначай поднял левую руку, и Ян увидел у него под мышкой кобуру. – Итак, янки кичатся своей непричастностью к конфликту душманов с войсками законно избранного правительства во главе с президентом Бабраком Кармалем, в то время как ни для кого не секрет, что наш ограниченный контингент принимает участие в боях на стороне правительственных войск. Так вот, мы докажем всему мировому сообществу, что янки тоже тайно участвуют в войне. Разумеется, на стороне душманов.
Палыч достал из кармана две фотографии и положил перед Яном на стол.
На одном фото Ян увидел себя в костюме и при галстуке, на другом – незнакомого молодого человека в форме майора ВМС США. Да, эти два лица на самом деле были очень похожи между собой.
– Ишь ты, какая фокусница и затейница наша матушка-природа, – сказал Палыч, манипулируя перед носом Яна фотографиями. – Представляю: Фрэнсис Аарон Скотт, Нэшвилл, штат Теннесси. Исчез полтора года назад при самых загадочных обстоятельствах, находясь дома в отпуске. Труп обнаружен не был. Почему бы им не заслать этого славного мужественного парня в Афган? И не в качестве наблюдателя, как утверждают все эти вредные «волны» и «голоса», а в качестве действующего лица. Таких бесследно исчезнувших мертвых душ в Штатах наберется несколько сотен, если не тысяч. Это станет настоящей сенсацией, почище Уотергейта.
– Но если меня возьмут в плен и сличат мои отпечатки пальцев с отпечатками этого Фрэнсиса Аарона Скотта…
– Кто тебя возьмет в плен? Мы или эти голожопые дикари Кармаля? – Палыч добродушно рассмеялся. – Покрутишься два-три годика на нервах и стрессах, зато в старости будет у тебя и дача, и кремлевский паек, и… Словом, все теперь только от тебя зависит.
– Почему я должен вам верить?
– Придется. – Палыч посмотрел на него холодным испытующим взглядом. – А теперь давай поговорим о твоей сестре, которая в настоящее время живет в Беверли-Хиллз, Голливуд, штат Калифорния. Мария Джустина Грамито-Риччи, вдова капитана Франческо Джузеппино Грамито-Риччи, связного наркомафии некоего дельца по кличке Летучий Голландец, погибшего в результате терракта вместе со своим боссом.
– Она…
– С ней все в порядке. Живет в настоящем замке, воспитывает дочку-вундеркинда. Кстати, стала необыкновенно красива. Наших русских баб возраст только красит.
Ян так и впился глазами в цветную фотографию. Да, это была она, Маша. Она улыбалась в объектив.
– А это ее сестра по отцу – Сьюзен Тэлбот, внучка газетного магната, дочь небезызвестного Анджея Ковальски, он же Эндрю Смит, – пояснил Палыч, указывая на стоявшую за спиной Маши молодую красивую женщину с теннисной ракеткой. – Вы любите свою… сестру?
– Да. Только, выходит, она мне не сестра, а Анджей Ковальски не отец. Но это в том случае, если вы сказали правду.
– Я всегда говорю только правду, товарищ Ясенский. И не моя вина, что в этом мире все меняется: границы, правители, идеологии. Союзники становятся врагами и наоборот.
– Я бы не хотел быть замешанным в провокационной акции, – вдруг сказал Ян. – Я предпочитаю честную…
– Товарищ Ясенский, ваша так называемая сестра стала невозвращенкой, и мы простили ей это, – перебил Яна Палыч. – Мы на все закрыли глаза. И знаете – почему? Потому что нам в нашей работе нужны союзники. И мы умеем быть благодарными и великодушными по отношению к ним и непримиримыми к врагам. Вы полагаете, красота и богатство могут уберечь эту женщину, скажем, от автокатастрофы или от пули наемного убийцы? Так давайте же выпьем за ее здоровье и благополучие. И за вашу удачную карьеру, товарищ Ясенский.
Лестница была вырублена в скале и вела в сад. Метрах в десяти внизу шумел океан. И ни души вокруг.
Здесь росли те же цветы, что и в «Солнечной долине». Она уже успела забыть их русские названия. Откуда здесь, в Калифорнии, русские цветы?..
Сью и Лиззи уехали в Нью-Йорк. Лиззи теперь учится в Джульярдской академии музыки. И у нее есть Сью – умная, добрая, заботливая Сью.
Маша стащила платье и бросила его прямо на дорожку. Она не взяла с собой купальник, но здесь ее вряд ли кто увидит.
Она больше не любит свое тело. Тогда, в «Солнечной долине», оно казалось ей чуть ли не священным сосудом, вместилищем и хранилищем ее удивительной любви. Оно было живое. Оно наслаждалось жизнью.
Теперь ее тело стало мертвым.
Берни бросил ее, потому что тело ее стало мертвым. Правда, он написал в записке, что любит ее как прежде, даже еще сильней, но обстоятельства складываются так, что они вынуждены расстаться.
Что еще написал он в той записке?
Маша зашла по пояс в темно-бирюзовую воду. Она обратила внимание на большую медузу, колыхавшую свое студенистое тело в прозрачных струях бирюзы. Медуза словно обрадовалась ее появлению и стала двигаться все быстрей и быстрей.
«Она зовет меня куда-то», – подумала Маша и, нырнув, быстро поплыла под водой.
Дышать не хотелось, но почему-то закружилась голова. Мелькали лица людей из ее детства: отца, матери, Юстины… «А где же Ян, где Ян? – недоумевала она, почти теряя сознание, но усилием воли удерживая себя на краю бездонной черной ямы. – Я еще не видела Яна…»
– Он не хочет, чтоб вы утонули, – услышала она по-русски.
В глаза больно ударил солнечный свет, и она резко опустила голову. Человек в маске с трубкой поддерживал ее снизу за бедра. Второй – тот, кто говорил, – плыл рядом.
– Откуда такое отчаяние? – спросил он. – Вас любит человек по имени Ян. Он просил передать вам привет.
Она улыбнулась, сама того не сознавая.
– Вот так уже лучше.
– Ян… – прошептала она и потеряла сознание.
Сью напрочь отвергла версию Машиного самоубийства, хоть улики были более чем убедительными: «ауди», брошенный возле частной лодочной станции, туфли и платье на дорожке, ведущей к пляжу, следы ее босых ног на песке… В тот вечер поднялся ураганный ветер и несколько дней штормило, однако Сью добилась аудиенции у самого губернатора штата Калифорния и на розыски Маши были брошены лучшие силы полиции. Едва ураган стих, как в небо поднялось несколько вертолетов. Тела так и не обнаружили.
– Она жива, – твердила Сью, упрямо задрав подбородок. – К черту ваши вещдоки и прочее дерьмо. Она жива. Я точно знаю, что моя сестра жива. Ваши люди натасканы на поиски трупов. Они не в состоянии найти живого человека.
И Сью, гордо тряхнув упругими жемчужно-пепельными локонами, встала с кресла и пошла к двери, всем своим видом давая понять, как она презирает заведение, служащие которого непоколебимо уверены в гибели ее сестры.
– Ублюдки, – говорила она ждавшей ее в машине Лиззи. – Этому Дерику Фишеру, помощнику окружного прокурора, нужно срочно подыскать опытную любовницу, иначе он свихнется на почве сексуальной неудовлетворенности. Лиззи, голубка, знала бы ты, как отвратительны мужчины. – Сью вздохнула и резко нажала на педаль газа. – И в жизни, и в постели. Они все привыкли чувствовать свое превосходство над женщиной. Безмозглые самцы. Похотливые бегемоты. – Она вдруг спохватилась и, потрепав девочку по плечу, добавила: – Но не все, конечно. Твой отец был замечательным мужчиной. И он так любил маму. Считал ее богиней. Лиззи, детка, мы обязательно ее найдем. Иначе это будет несправедливо. Ведь Франко спас твою маму ценой собственной жизни, и Бог, если он, конечно, есть, видел это. Твоя мама жива. Похоже, мне придется в самое ближайшее время нанести визит этой шлюхе Луизе Маклерой. И ее брюхатой доченьке тоже. Что-то тут не сходится по времени… Одно я знаю точно: Берни Конуэй не такой дурак, чтобы в первую же брачную ночь сделать своей супружнице ребеночка. Так и быть, малышка Син, я уделю тебе внимание. Что касается вас, мистер Конуэй… – Сью с остервенением жала на газ, и белый «феррари», казалось, вот-вот оторвется от шоссе и взлетит в воздух. – Так вот, мистер Конуэй, вашим тщеславным надеждам не суждено сбыться. И это говорю вам я, Сьюзен Тэлбот-младшая. Даже не говорю, а торжественно клянусь памятью моего любимого кэпа. Вы уже видите себя в Капитолии, сэр. Ха! Костюм от Валентино, сорочка от Кардена, на губах улыбочка бывалого плейбоя, от которой сходят с ума все американские шлюхи. Так вот, мистер Конуэй, то кресло с мягким сиденьем, в котором вы надеетесь удобно разместить свой изнеженный зад, займет кто-то другой. Такой же подонок, как и вы, разумеется, – все до единого политики глупые и злые подонки. Но это уже не мое дело. Мое дело доказать вам, мистер Конуэй, что и в этом гнусном мире зло кое-когда бывает наказуемым. Так-то вот.
Все эти дни Сью делала все от нее зависящее, чтобы поддержать в племяннице надежду на то, что ее мать жива. И Лиззи в это поверила. Она повеселела, села за рояль, и уже через две недели Сью отвезла ее в Нью-Йорк, поручив заботам брата Эдварда. В роскошной двухэтажной квартире на Пятой авеню окнами на Центральный парк, куда Сью перевезла из поместья отца в Новой Англии самых верных слуг, повара и шофера, царили уют и покой. Девочке ничто не должно было помешать добиться того, чего она непременно должна добиться – так решила Сью. Ну а разобраться в случившемся – это ее, Сью, дело. И она займется им безотлагательно.
– Синни, детка, я тебя не разбудила? – ворковала в трубку Сью. – Нет? Мне что-то так одиноко… Лиз в Нью-Йорке, а наш чертов город превратился в настоящий Вавилон после столпотворения. Похоже, истинные американцы предпочитают проводить время в Европе… Ты что, тоже одна?.. О, я могла бы заскочить к тебе на полчасика и посплетничать на предмет мужского пола. Не возражаешь? О'кей, буду через десять минут.
Сью положила трубку, быстро взбила волосы, облачилась в узкое платье из темно-синего шелка. Последнее время она носила одежду только ярких, даже кричащих тонов, тем самым давая понять всему миру, что не верит в гибель Маши. Сейчас у нее были несколько иные планы – по ее собственным словам, она шла в штаб-квартиру врага, которого непременно нужно заставить поверить в то, что его считают другом. Сью не стала наносить макияж – она знала, ее красота и без того вызывала злую зависть почти всех женщин. Только одна Маша искренне ею восхищалась. Сью стиснула зубы, чтоб не разреветься.
– Я отомщу им за тебя, сестра, – сказала она вслух на ломаном русском. – Я знаю: ты жива, но я отомщу им за твои страдания, – завершила она свой монолог уже на родном ей языке.
Синтия была здорово навеселе. Она обрадовалась Сьюзен – Бернард улетел два дня назад в Вашингтон и не подавал никаких вестей. Более того, его личный телефон молчал в любое время суток. Синтия расхаживала по гостиной босая, в прозрачной тунике, под которой уже слегка обозначился живот.
– Ты дивно похорошела, Синни, – сказала Сью, удобно расположившись со стаканом аперитива в просторном низком кресле. – О, я знаю: женщина расцветает от любви и внимания мужчины. Уверена, Берни готов тебя на руках носить. Кто бы мог подумать, что этот неугомонный плейбой вдруг возьмет и превратится в одночасье в послушного бойскаута? – Сью возвела глаза к потолку, имитируя изумление. – Вот что делает с ними любовь. Какая же ты, Синни, счастливая.
– Ты думаешь? – хрипло отозвалась Синтия, плюхнулась на кушетку, допила свой стакан и расхохоталась. – О, я такая… такая счастливая. Иногда мне кажется, я возьму и сдохну от счастья. – Она зашлась в истеричном смехе. – Он сказал… он сказал, у меня такая большая вагина. Он… он еще не встречал женщин с такой чертовски большой вагиной, похожей на дорожную сумку. Так сказал мой дорогой супружник.
Синтия взвизгнула и, задрав ноги, стала болтать ими в воздухе.
Сью отметила, что под туникой у нее ничего нет.
– Полагаю, он хотел сделать тебе комплимент, – сказала Сью. – Мужчины с ума сходят от всего… необычного.
– Ха-ха, комплимент. – Синтия легла поперек широкой кушетки на спину, свесив голову и поставив ступни ног на края. – Хочешь взглянуть, какая она у меня? – Резким движением Синтия раздвинула коленки, и опытная Сью смогла воочию убедиться в том, что Бернард Конуэй сказал правду. – Вот! – воскликнула Синтия, не поднимая головы, и снова свела ноги вместе. – Впечатляет, а?
– Грандиозно! – подхватила Сью и, пытаясь сдержать приступ смеха, поперхнулась и закашлялась. – Везет же некоторым мужчинам.
Синтия резво вскочила с кушетки и запрыгала на одной ножке вокруг рисунка в центре ковра, изображающего широко раскрытую львиную пасть.
– Везет – не везет, везет – не везет, – приговаривала она прыгая, пока не споткнулась на словах «не везет» и не плюхнулась на задницу прямо в львиную пасть. – Вот. Выходит, что мне не везет. Ему почему-то не нравится меня трахать, понимаешь? Он говорит, я бесчувственная, как… как дохлая рыба. – Язык ее заплетался. – Но это вранье. Понимаешь, Сьюзи, у него там такая малю-юсенькая штуковина. Ну настоящий стручок чили. Разве можно сравнить его штуковину со штуковиной Арчи? Вот потому я совсем ничего не чувствую. Знаешь, какая у Арчи была штуковина? Во! – Синтия расставила руки на целый метр. – Я ду… думала, у Берни тоже все в порядке с этим делом, но я… я оказалась такой дурехой. А вот теперь… – Она всхлипнула. – Лучше бы я вышла замуж за Арчибальда Гарнье!
Синтия завалилась на спину и стала ожесточенно молотить пятками по львиной пасти.
– Но ты, надеюсь, хотя бы догадалась переспать с Берни до свадьбы? – с любопытством спросила Сью.
Синтия издала нечто подобное воплю. Потом громко икнула.
– Он трахнул меня в лодке. Мы тогда оба были пьяные в дымину. Я сидела на корточках, понимаешь? Если сидишь на корточках, эта их штуковина… Ну, словом, ничего не поймешь. Ну, а потом… днем он был такой красивый и сексуальный. Ну да, я слыхала, его любили кинозвезды и манекенщицы, и я подумать не могла, что у Берни эта самая штуковина может быть хуже, чем у Арчи.
Синтия вытянула руки и ноги, закрыла глаза и замерла, не подавая признаков жизни. Выждав время, Сью спросила:
– А кто такой этот Арчи… как его там… Гувье, да? Познакомь, ладно? Уважаю всем телом мужчин с хорошей оснасткой. Если, конечно, он тебе самой больше не нужен, – добавила она, скромно опустив глаза.
– Не нужен! Тоже скажешь – не нужен! – Синтия хлюпнула носом. – Я бы вот сейчас отдалась ему не сходя с этого места. Я тогда была такая… дуреха, совсем еще зеленая девчонка. Воображала себя Скарлетт О'Харой, а его этим самым, как там его… Тьфу, ну, Рэттом Батлером. Ой нет, Эшли. Да, да, Эшли. Черт, у того Эшли тоже, наверное, был никудышный хер. Арчи, дорогой, прости меня за то, что я сделала.
Синтия разразилась настоящей истерикой.
– Что ты могла такого натворить, малышка? – ворковала Сью, пытаясь придать своему голосу интонацию покровительственного сочувствия. – Медовый месяц потому и называется медовым, что молодые прилипают друг к другу и никого больше не видят, но когда весь мед слизан, снова тянет на что-нибудь сладенькое, и вот тогда этот самый… как ты его называешь… Арчи Гаравье…
– Гарнье! Гарнье! Гарнье! – твердила Синтия, каждый раз ударяя пяткой по львиной пасти. – Его звали Арчибальд Гарнье. Но он больше никогда не сможет засунуть эту свою огромную штуковину мне в вагину, понимаешь? Никогда! И знаешь почему? Да потому что я его убила!
Заинтригованная Сью попыталась как можно веселей расхохотаться. Потом встала, плеснула в пустой стакан Синтии аперитива, кинула из ведерка льда и, присев возле нее на корточки, сказала:
– Никогда не поверю, что нежная и кроткая малышка Синни способна убить даже комара. А уж тем более мужчину с хорошей оснасткой. Выпей капельку и расскажи, если хочешь, об этом своем Арчи Гарнье. Обожаю всякие сентиментальные истории. Особенно если в них замешаны такие очаровашки, как моя милая Синни Конуэй. – Сью ласково потрепала ее по щеке.
Синтия схватила ее руку, прижала к своей груди и прошептала:
– Я знала, я всегда знала, что ты… ты никогда бы не стала спать с чужим мужем.
– Зачем мне чужой муж, когда кругом полным-полно неженатых мужчин? – самым искренним образом удивилась Сью. – Чужой муж – это все равно что машина, на которой стоит ограничитель скорости. А я больше всего на свете люблю быструю езду. – Сью осторожно высвободила свою руку, приподняла с пола голову Синтии и, поднеся к ее губам стакан с аперитивом, сказала властно: – Пей. Грех скулить о прошлом девчонке с красивой мордашкой и страшно богатым мужем. Вот что я скажу тебе, моя прелесть: этот Арчибальд Гарнье был недостоин тебя, раз взял и сделал ноги. Верно?
Синтия одним махом осушила стакан и вдруг, схватившись за голову, завизжала и стала кататься по полу. Сью отошла в сторону, молча наблюдая за происходящим. Она знала по собственному опыту, что если женщину накрывает истерика, вмешиваться не нужно, а лишь терпеливо ждать, когда она закончится. И Сью ждала, усевшись с ногами в кресло и время от времени потягивая из стакана аперитив. Она с нескрываемой брезгливостью смотрела на катавшуюся по полу Синтию, удивляясь тому, как мог Бернард Конуэй, зная и любя Машу, жениться на подобной идиотке. Впрочем, Сью была весьма невысокого мнения о подавляющем большинстве мужчин – кто-кто, а уж она-то знала о них предостаточно. Бернард – обыкновенный самец. Хищный. Жестокий. Самовлюбленный. Из скупых рассказов Маши о своем прошлом Сью поняла, что этот мужчина сыграл далеко не последнюю роль в том, что сестра потеряла интерес к своей карьере, да и к жизни тоже. Такие мужчины, как Бернард Конуэй, способны сломить дух куда более сильной женщины, чем Маша. Франко тоже виноват, но он искупил свою вину. Сью вздохнула. Этому Конуэю еще предстоит за все ответить. Ибо она, Сью Тэлбот, совмещает в одном лице и детектива и мстителя.
Синтия затихла, повернула голову и посмотрела на Сью.
– Все в порядке, малышка, – заверила ее Сью. – Ты хотела мне что-то рассказать об этом своем Арчи Гарнье. Валяй.
Через два часа Сью позвонила из дома Луизе Маклерой, отдыхавшей с любовником в Майами, и сказала, что желает с ней немедленно встретиться.
– Моя дорогая, неужели вы думаете, я настолько сошла с ума, что вскочу сию минуту с постели и помчусь сломя голову в аэропорт? – томно ворковала Луиза, лежавшая, очевидно, в объятиях любовника. – К тому же вы плохо воспитаны, – добавила она с надменностью истинной южанки. – В Майами сейчас четыре утра.
– Но мне так не терпится помочь твоему Мейсону. – Сью сделала над собой усилие, чтобы не взорваться и не обругать эту суку последними словами. – Мальчик, как мне стало известно, связался с дурной компанией, и ему хотят пришить дело об убийстве первой степени, – говорила она голосом, лишенным какого бы то ни было выражения.
– Не понимаю, о чем ты. – Тон Луизы переменился. – К тому же я не узнала тебя, Сью. Прости. Быть может, отложим нашу встречу до понедельника? – не очень уверенно предложила она.
– Бар Энди Роуэна. Двенадцать ноль-ноль. И запомни: я ненавижу ждать. – Сью бросила трубку.
Поплавав на рассвете в бассейне, она прилегла отдохнуть, положив под подушку кассету с записью рассказа Синтии. Еще до звонка в Майами Сью связалась с частным охранным бюро и попросила прислать парочку дюжих парней. Потом собственноручно проверила, как действует система электронной охраны, и велела выпустить из клетки орангутанга Ленни, обожавшего прыгать с веток на головы незнакомых людей.
Охранники играли в карты в круглой гостиной наверху, из которой просматривались самые отдаленные уголки поместья, Ленни дремал на ветке лиственницы возле главного входа. За окном щебетали птицы и тихо журчала вода фонтанов. На Сью незаметно снизошли мир и покой, и она крепко заснула.
– Это еще надо доказать, – говорила Луиза, пряча глаза под полями изящной шляпки из ажурной соломки. – Последнее время Син невменяема, и доктор Стоунхейдж говорит…
– Я разговаривала с Эйлин Крауфорд, – бесцеремонно перебила Луизу Сью. – Она очень хорошо помнит последовательность событий той ночи, когда погиб Арчибальд Гарнье. Думаю, у Томаса Голдсмита тоже неплохая память. К тому же сама Син уверена, что это ребенок Гарнье, а не Конуэя, а поскольку Конуэй обращается со своей молодой женой ничуть не лучше, чем со своими предыдущими женщинами, она его уже почти ненавидит. И чувствует себя виноватой в смерти отца будущего ребенка. Она обязательно скажет на предварительном расследовании…
– Никакого расследования не будет, – тихо, но решительно заявила Луиза, рассекая своей изящной рукой пронизанный солнечным светом калифорнийский воздух.
– Но если оно состоится, Синни непременно скажет, что была любовницей Арчи Гарнье, хотела выйти за него замуж, однако, узнав об измене возлюбленного, решила ему отомстить. Арчибальд Гарнье был отправлен на тот свет одним из излюбленных на юге способов, когда несущейся на полном скаку лошади бросают под ноги лассо и она летит кувырком. Вероятность гибели всадника составляет около семидесяти процентов, – говорила Сью, привыкшая к тому, что ее выслушивают до конца. – Риск быть разоблаченным даже в том случае, если всадник остался жив, очень невелик – вы, южане, обладаете богатым опытом по части линчевания. Увы, Бернард разочаровал нашу малышку еще и в постели, и она вполне справедливо вспомнила того, кто удовлетворял ее на все сто.
– Не понимаю, что ты против меня имеешь. – Луиза слегка поправила поля своей шляпки. – Я, кажется, никогда не уводила у тебя любовника и даже, видит Бог, не возражала против интрижки моего зятя с той странной женщиной, которую ты считаешь своей сестрой. Я знала: это не может быть серьезно и продолжительно, а потому…
– Знала? Ах ты, старая сука! – взвилась Сью и, вскочив, опрокинула на Луизу чашку с кофе. – Она жива, и ты скажешь мне сию минуту, где она и что вы с ней сделали. Иначе я позабочусь о том, чтобы твоего Мейсона поджарили на электрическом стуле.
– Мне ничего не известно о судьбе этой женщины, – бормотала Луиза, уставившись бессмысленно на отвратительное пятно на своем светло-лиловом платье. – Хотя не скрою: то, что она исчезла, меня обрадовало. Правда, я очень скоро поняла, что это всего лишь хитрый трюк, рассчитанный на то, чтобы завлечь Бернарда в ловушку. Но мой зять не настолько глуп, чтобы поверить, будто эта авантюристка кому-то нужна и…
– Заткнись немедленно, – прошипела Сью и, перегнувшись через столик, резким движением руки сорвала с головы Луизы ее изящную шляпку и швырнула через перила террасы на улицу. Вместе со шляпкой слетел и пышный шиньон из темно-каштановых локонов. Луиза поспешила прикрыть голову обеими руками, но Сью успела заметить наметившуюся плешь. – Рано же ты облысела, Луиза Анна Маклерой, в девичестве Астуриас, – громко сказала Сью, и сидящие за соседними столиками стали оборачиваться. – А ведь ты жила до сих пор в настоящем эдеме. Но я вышвырну тебя оттуда пинком под задницу, и ты превратишься в древнюю старуху, когда твоего дорогого Мейсона…
– Клянусь благосостоянием всей нашей семьи, я не знаю, где она! – Луиза глядела на Сью глазами испуганной коровы. – Да, я говорила Бернарду о том, что связь с этой женщиной может опорочить его в глазах избирателей. Но это был всего лишь дружеский совет, следовать которому вовсе необязательно. Я даже отдала ему кассету с записью, где он и… эта женщина, как бы выразиться поприличней… э-ээ… занимаются интимными вещами и курят марихуану. – Луиза все еще прикрывала руками макушку, хотя принесенные официантом шляпа и шиньон лежали перед ней на столе. – Думаю, он ее уничтожил. Больше мне ничего не известно.
Луиза смотрела на свою мучительницу с таким ужасом, что Сью пришлось ей поверить.
– Ладно, теперь проваливай на все четыре, – смилостивилась она. – И мой тебе совет: если не хочешь стать бабушкой ублюдка с анальным отверстием вместо уха или пупком на затылке, запри свою дочурку в клинику, где спиртное выдают каплями, в виде лекарства. Адью, прекрасная Луиза. Все мое остается при мне. – Она выразительно похлопала по сумочке, где лежала кассета с записью рассказа Синтии. – Эта вещица будет тикать, как бомба замедленного действия, отсчитывая часы и дни до наступления момента истины. Но стоит тебе сообщить мне хоть что-то о сестре, и я не стану возражать, если и эту истину заменят на самую банальную ложь в духе американского здравого смысла. – Сью встала и, вильнув по привычке крутыми бедрами, легко сбежала по ступенькам террасы, села в свой белый «феррари» и укатила.
Луиза Маклерой с полчаса проплакала в туалете бара. Впервые в жизни она почувствовала себя беспомощной и старой.
«Мне нужна эта кассета, – думала Сью. – Да, она мне необходима. И я почти уверена, что этот самовлюбленный индюк Берни Конуэй ее не уничтожил. Скорее всего спрятал в каком-нибудь укромном местечке. Правда, похоже, он настоящий трус, и если на этой кассете на самом деле запечатлено то, о чем сказала Луиза… Нет, все равно Конуэй не должен был ее уничтожить. Следовательно, крошка Сью, тебе придется всерьез заняться этим занудой политиком с вживленным сердцем. Как же я ненавижу всех этих политиков – уж лучше иметь дело с торговцами свиньями, владельцами баров и притонов. В них, по крайней мере, иной раз проглядывают человеческие черты. Но ты должна, Сью, должна это сделать, – продолжала она убеждать себя. – Вспомни кэпа. Милый Франко, я уверена, ты не зря любил эту женщину. Да, да, она достойна твоей любви. Я тоже ее очень люблю и нисколько к тебе не ревную. Ну, если самую малость… Сью Тэлбот, вспомни о том, что в школе тебя звали чертовкой и пройдохой. Ведь это ты, а не кто другой, провела три ночи на чердаке старого коттеджа в обществе мышей и сверчков, чтобы вывести на чистую воду старых дев, которые учили других морали и прочему чистоплюйству, а сами (ты же застукала их!) ходили трахаться на чердак с садовником и его глухонемым братцем. Ты там такое увидела, что глазам своим не поверила. Зато скумекала, что жизнь любого человека, будь он сенатором, мусорщиком или даже самим президентом, имеет две стороны – лицо и изнанку. Тебе понравилось узнавать про то, как выглядит изнанка, верно? Лицо – это та же витрина. В витринах не выставляют грязные ночные горшки, использованные презервативы и содержимое мусорных контейнеров. Дружище Берни, твоя жизнь тоже имеет изнанку, и чертовка Сью Тэлбот постарается сделать так, что ты сам вывернешь ее на всеобщее обозрение. Да, я понимаю, от Сью Тэлбот, сестры брошенной тобой ради политической карьеры Маджи, ты будешь бежать как черт от ладана, однако, насколько я тебя знаю, ты не сможешь устоять перед чарами прекрасной молодой незнакомки, влюбленной в тебя всем своим «интересным местом», как говаривала старушенция Колт. И да поможет мне Бог и мои дорогие соотечественники избиратели».
Она навестила деда в его поместье в Новой Англии. Старик понемногу приходил в себя и ежедневно по утрам наговаривал на диктофон воспоминания о своих встречах с известными бизнесменами, политиками, писателями и прочим интересующим публику людом, намереваясь издать многотомный труд. Они закрылись в его кабинете. Сью вышла оттуда через час с небольшим веселая, с озорно поблескивающими глазами.
– Я выхожу замуж и уезжаю в Европу. Похоже, надолго, – сказала она мистеру Шрайберу, пресс-секретарю Тэлбота. – Это сообщение может появиться в колонке светской хроники, скажем, в «Нью-Йорк таймс». Фамилию моего будущего мужа, пожалуй, упоминать ни к чему, тем более что я оставляю свою – пускай читатели поломают себе мозги. Хотя нет, не стоит так зло играть с ними… Его зовут Арчибальд Гарнье. Он француз, но родился и вырос в Америке. В Нью-Орлеане.
– О'кей, мисс. Я вас поздравляю.
– Тони, когда я приеду сюда в следующий раз, мы непременно выпьем с тобой по бокалу шампанского и я сообщу для прессы кое-какие подробности моего замужества. А сейчас проследи, пожалуйста, чтобы газетчики не переврали фамилию моего будущего супруга и не исказили текст.
…Разувшись, Сью вошла по колено в бассейн и, глядя на нарисованные на стене океанские дали, прошептала:
– Все будет в полном порядке, кэп. Я обязательно ее найду.
На пресс-конференции она сидела в первом ряду – коротко стриженная темноволосая девушка в джинсах и кораллового цвета свитере – и то и дело переводила взгляд со своего включенного магнитофона на мужчину за столом, умно и с юмором отвечавшего на вопросы корреспондентов. Она пока не задала своего вопроса. Она выжидала.
– Я люблю свою жену, – говорил Бернард Конуэй, слегка откинувшись на спинку кресла и с ленивой брезгливостью разглядывая девицу неряшливого вида с длинными соломенного цвета волосами, на вопрос которой он в данный момент отвечал. – Каждую свободную минуту я стараюсь проводить с Син. Видите ли, я долго оставался холостяком, сидел у холодного камина и мечтал о той, которую рано или поздно встречу. Ну а теперь в моем камине ярко горят сухие поленья и я наслаждаюсь домашним уютом. Увы, в настоящий момент моя жена не совсем здорова, иначе бы она непременно сопровождала меня и в этой поездке. Без Син я чувствую себя одиноко. Как только завершится пресс-конференции, я свяжусь с женой по телефону и расскажу ей все в подробностях.
– Журнал для молодоженов «Флердоранж», – наконец подала голос девушка из первого ряда. – Мистер Конуэй, как и где вы познакомились с вашей будущей женой? Это была любовь с первого взгляда?
Конуэй на долю секунды прикрыл ладонью глаза. Это был безукоризненно отрепетированный жест, о чем, разумеется, все догадывались, и тем не менее он впечатлял.
– Да! – громко произнес Бернард и улыбнулся широкой мальчишеской улыбкой. – Син сразила меня своей необыкновенной красотой. Она оказалась чиста душой и телом, и я расцениваю это как подарок судьбы. Она… – Конуэй поперхнулся, это тоже было отрепетировано, и поднес к губам белоснежный платок. – У нас с ней большая разница в возрасте, но Син мудра и снисходительна к моим холостяцким привычкам, от которых я, увы, не в силах избавиться сразу. Но я торжественно обещаю превратиться со временем в идеального мужа.
Он как бы невзначай поднял руку и мельком глянул на часы. Это было условным знаком.
Время пресс-конференции истекло.
Девушка в свитере кораллового цвета поджидала его возле машины.
– Мистер Конуэй. – Девушка смело глядела ему в глаза. У нее были высокие скулы и по-детски наивное выражение лица. Бернард нахмурился, пытаясь что-то припомнить. Но девушка помешала ему. Она дотронулась до его локтя и сказала: – Я тоже родилась в Техасе. Если вы дадите мне сейчас интервью, шеф возьмет меня в штат. Я сделаю сногсшибательный материал о вашей счастливой семейной жизни. Вам будут подражать тысячи молодоженов.
Конуэй колебался секунды две, не больше.
– А почему бы и нет? – воскликнул он, дружелюбно хлопнув девушку по плечу, что успел запечатлеть фотограф из «Вашингтон пост». – О'кей. Как насчет того, чтобы выпить по чашечке кофе в клубе?
– Идет, – сказала девушка и проворно забралась на заднее сиденье большого черного «роллс-ройса». – Можно я напишу, что вы сами сидели за рулем и мы были в машине вдвоем? Ваша жена не очень ревнива?
– Пишите, – разрешил Конуэй. – Наши супружеские отношения построены на полном доверии друг другу. Кстати, вы замужем?..
В конце вечера Юнис, так звали девушку, рассказала Бернарду Конуэю историю своего нелегкого детства (отца не видела в глаза, старшая в семье, где, кроме нее, есть еще два брата и сестра), бедной на развлечения юности, в которой были лишь учеба и работа… Вернувшись к делу, она пообещала, что материал будет готов завтра к полудню. Бернард пригласил Юнис на ленч.
– А что, если нам с вами махнуть в один уютный загородный ресторанчик, где кормят отменными бифштексами? – предложил Конуэй, открывая перед Юнис переднюю дверцу своего лимузина. – Туда езды минут двадцать пять. За это время успеете прочитать свое сочинение. О'кей?
Юнис, удобно устроившись на сиденье рядом с Конуэем, достала из папки отпечатанное интервью. Бернард невольно отметил, что у девушки красивые длинные ноги – она была в довольно короткой, но в то же время скромной юбке. – Итак, я начинаю. «С Бернардом Конуэем чувствуешь себя так, словно знаком с ним долгие годы, – затараторила Юнис. – Красив, обаятелен, внимателен к собеседнику, предельно искренен в ответах даже на чересчур интимные вопросы. Эта искренность подкупает. Не проходит и пяти минут, как понимаешь: в такого человека нельзя не влюбиться. – Юнис сделала паузу, что-то зачеркнула в тексте. – Простите. – Она повернулась к Бернарду, словно намереваясь что-то сказать, но передумала. – Романтическая любовь встречается и в наши дни. Любовь, которую почувствовал Берни Конуэй к прекрасной Син Маклерой, была как девятый вал, едва не сбивший его с ног. Он стал совсем другим человеком, узнав эту женщину. Она вознесла его на такие высоты любви, что у него закружилась голова и захватило от восторга дух».
– Но я не говорил вам этого, – запротестовал Бернард. – У нас с Син было… м-м… несколько иначе.
– Позвольте мне пофантазировать, – невозмутимо парировала Юнис. – Ведь я пишу не для вас, а для юных невест и молодых жен.
– Да, но…
– Слушайте дальше. «Эта женщина завладела моей душой. Я просыпался и засыпал с мыслью о ней. Я готов был мчаться за ней на край земли, бросив самые важные дела. Когда я целовал ее, мне казалось, что я приобщаюсь к великому таинству. Мне казалось, Господь специально создал ее для меня, что она и есть та самая твоя половинка, на поиски которой иной раз уходит вся человеческая жизнь. Эта женщина заставила меня поверить в то, что любовь – самое главное в жизни, ее смысл, цель, квинтэссенция…»
– Прекратите! – рявкнул Конуэй, одновременно нажав на педаль тормоза. – Я не говорил вам подобной… чуши.
Юнис с невозмутимым видом повернула к нему голову.
– Не чушь, мистер Конуэй. И вы сами прекрасно это знаете.
Бернард уже овладел собой. О недавно пережитом волнении свидетельствовали лишь капельки пота на переносице. Он протянул к девушке руку и сказал, не глядя в ее сторону:
– Давайте сюда. Я ознакомлюсь с материалом сам. Она отдала ему листки.
– Сколько вам лет? – спросил через некоторое время Конуэй.
– Девятнадцать с половиной.
– Вы любили когда-нибудь?
– Да, – задумчиво ответила Юнис. – Но это была несчастная любовь. Он всегда думал о другой. Даже тогда, когда занимался любовью со мной.
Бернард непроизвольно вздохнул.
– Это тяжело, – сказал он. – Это… Черт, но почему мы всегда любим именно тех, для кого совсем мало значим? Как ты думаешь, Юнис?
– Потому что они никогда не принадлежат нам до конца.
Она вдруг по-детски жалобно всхлипнула.
– Что с тобой, малышка?
– Я… я отомстила ему за то, что он любил не меня. Я бросила его в самую тяжелую для него минуту, и он… – она всхлипнула еще громче, – он покончил с собой.
– Каким образом? – с нескрываемым любопытством спросил Бернард.
– Утопился в океане, – прошептала Юнис. – В тот день поднялся жуткий шторм, и его тело так и не нашли.
– Когда это случилось?
– Ровно месяц назад. Он попросил меня прийти, а я… Словом, я была озабочена устройством собственной карьеры. И вообще, мне хотелось проучить его за то, что он…
Она горько расплакалась.
Бернард обнял девушку за плечи и прижал к себе.
– Ну, ну, малышка, успокойся. Послушай, может, поедем ко мне на ранчо? Тут совсем недалеко. В ресторане уж слишком много любопытных глаз.
Юнис молча кивнула.
Бернард пил неразбавленное виски и безостановочно ходил по комнате. Юнис сидела на полу возле камина и глядела на огонь.
– Мне все равно, что скажут обо мне эти ублюдки-избиратели. Плевать я на них хотел. К черту Америку! К черту! В этой идиотской стране тебе выкручивают руки и принуждают делать то, чего ты не хочешь делать. Только потому, что так хотят другие. Кто? Ханжи-домохозяйки, которые, отправив детей в школу, предаются утолению своей похоти с молочником, зеленщиком или каким-нибудь бедным студентом, подрядившимся стричь газон. Еще эти чертовы пенсионеры – те идут к избирательным урнам дружной толпой, предварительно перемыв все до одной косточки кандидатам. Дерьмо! Они привыкли видеть в политическом деятеле евнуха, кастрата или в лучшем случае импотента. Бедняге строго-настрого запрещено влюбляться…
– Но разве вы не влюблены в вашу жену? – тихо спросила Юнис, не отрывая глаз от огня в камине.
– Влюблен! Ха-ха! Черт бы ее побрал вместе с ее мамашей, сующей свой длинный нос в чужие дела. Это дерьмо, в котором я вынужден сидеть во имя того, чтобы… – Он вдруг замолчал, глотнул из стакана виски и, бросив взгляд в сторону неподвижно сидевшей на полу девушки, спросил: – Но ведь ты не напишешь об этом в своем журнале, верно?
– Нет. Я люблю вас и желаю только одного: помочь вам.
– Помочь? Мне?.. – Бернард остановился сзади Юнис и, глядя на ее совсем детскую макушку, сказал: – Мне уже не поможет никто. Потому что я потерял ее навсегда. Она… она покончила с собой. И в этом виноват я. Она… – Он вдруг опустился на пол рядом с Юнис и прижался головой к ее груди. – Ее забрал океан. Она принадлежит вечности, а я… я остался здесь, в этом мерзком, вонючем…
Он плакал, а Юнис с материнской добротой гладила его по голове, щекам, спине.
– Я помогу тебе, Берни, – твердила она. – Только люби, люби меня…
Они провели на ранчо двое суток. Юнис оказалась на редкость искусной любовницей. Бернард стонал и извивался от наслаждения, когда она массировала его член своими умелыми пальцами. Юнис, казалось, знала сотни способов сделать мужчине приятное. Однажды в перерыве между изнуряющими ласками он спросил у девушки:
– Откуда тебе известны все эти штучки? Ничуть не смущаясь, она ответила:
– У меня был хороший гуру.[1] Он внушал мне, что цель жизни женщины – делать приятное мужчине. Искусство доставлять наслаждение почти утеряно в веках. Но есть люди, которые собрали эту мудрость по крупицам и передают ее другим. Это великое искусство, Берни. Но им можно пользоваться лишь в том случае, если любишь по-настоящему. А я люблю тебя. Люблю.
Он, разумеется, не заметил, что девушка при этом сложила за его спиной два кукиша, – он млел от тщеславного восторга, забыв про все на свете.
Ночью он разбудил Юнис и рассказал в подробностях историю своих отношений с Маджи. Она задала один-единственный вопрос:
– Ты все еще любишь ее?
– Она умерла. А мертвых любить невозможно, – сказал он.
Юнис показалось, он сам не верит в то, что говорит. Она до боли в суставах стиснула кулаки и спросила ангельским голоском:
– Значит, ты любишь меня?
– Да, – быстро ответил он. – Я уже не смогу без тебя.
За завтраком Юнис как бы ненароком обратила его внимание на заметку в колонке светской хроники, где сообщалось о замужестве Сьюзен Тэлбот.
– Я знаю эту женщину! – воскликнула Юнис. – Ее отец владеет контрольным пакетом акций издательства, в котором выходит наш журнал. Видела ее на одном приеме. Нос выше затылка. Но красотка, ничего не скажешь. А кто такой этот Арчибальд Гарнье?
– Понятия не имею, – пробормотал Бернард, пробегая глазами заметку. – Вот уж не думал, что Сью когда-нибудь выйдет замуж.
– Ты с ней знаком?
– Мы соседи по Беверли-Хиллз. Видел раза два. – Он вдруг скомкал газету и швырнул в камин. – Мне казалось, она так переживала гибель своей сестры…
– С ее сестрой что-то случилось? – Юнис была сама невинность. – А я и не знала, что у Сьюзен Тэлбот есть сестра.
Бернард хранил молчание до конца завтрака. Юнис, допив кофе, опустилась перед ним на колени и, расстегнув ширинку его брюк, сказала:
– Умру, если не отдашься мне сию же минуту. Здесь, на этом ковре…
Обессиленный, он лежал возле камина, а она творила над его телом чудеса лишь с помощью языка. Все его ощущения, казалось, слились в сплошной непрекращающийся оргазм. Наконец, утомившись, Юнис легла рядом, положила голову ему на грудь и, то и дело нежно касаясь подушечками пальцев его пениса, сказала:
– Знаешь, я припомнила одну историю, связанную с неким А. Гарнье. Кажется, его тоже звали Арчибальдом. О ней писали в газетах, но очень кратко. Парень, помнится, жил у Крауфордов в их поместье в Алабаме в качестве гувернера младшего мальчишки и, если верить сплетням, перетрахал всех горничных в округе. Горничных парню показалось мало, и он залез под юбку одной девице и чуть было не уломал ее выйти за него замуж. Однако в планы ее родителей не входило уступать дочь какому-то там гувернеру, чьи предки содержат бензоколонку в Нью-Орлеане. Мать мечтала выдать дочурку за будущего сенатора или конгрессмена. Этот Гарнье, судя по всему, вел себя нахально, и даже посмел сделать девице ребеночка. Но у нас, на Юге, как тебе известно, свои законы, и бедняге шерифу Макгаверну пришлось расписаться в своей беспомощности, когда он сделал сообщение для прессы, что Арчибальд Гарнье сломал себе шею, пьяным упав с лошади. Девицу тут же увезли в Европу и благополучно выдали замуж. Но, сдается мне, кто-то скоро будет растить чужого ребеночка, возлагая на него свои собственные отцовские надежды. – Юнис приподнялась над Бернардом, потерлась клитором о его пенис, чуть ли не мгновенно заставив его затвердеть, и ловко приняла в свое лоно. – Мой сладкий мальчик, – шептала она. – Что нам до этих потаскух и их рогатых мужей? Нам с тобой так хорошо вдвоем…
Бернард вернулся к этой теме за обедом. Они ели запеченные в гриле креветки, запивая их легким испанским вином. В окно глядела круглая техасская луна, на столе горела большая свеча в форме дорической колонны.
– Ты не помнишь случайно фамилии той девушки? – спросил он, нежно поглаживая руку сидевшей напротив Юнис.
– Какой? – удивленно спросила она.
– Той, которую соблазнил этот Гарнье. Бернард отвел взгляд в сторону.
– Нет. Не помню. Знаю только, что она дружила с Томасом Голдсмитом и даже, кажется, была с ним помолвлена. Мне говорил об этом сам Томас, у которого я брала интервью по случаю его победы на турнире по теннису на приз нашего журнала. По-моему, Хью Крауфорд бросил Йель и уехал в Сидней по делам, связанным с фирмой отца. Брат этой девушки… забыла, как его зовут, он, кажется, тоже живет сейчас не в Штатах. Мне говорили, он стажируется не то в Сорбонне, не то…
Бернард вдруг хряснул кулаком по столу, и свеча, завалившись набок, погасла.
– Я так и знал, – процедил он сквозь зубы. – Она не могла забеременеть от меня. Идиот, я был на седьмом небе от счастья.
– Кто не мог забеременеть от тебя? – Юнис вскочила, обошла вокруг стола и встала перед Бернардом на колени. – Любимый, что тебя так расстроило?
Он обхватил ее за пояс и сказал, уперевшись лбом в мягкий податливый живот:
– Я не могу иметь детей. Об этом не знает никто, кроме моего доктора. Но это так. Я думал, случилось чудо.
Юнис больше не задала ни одного вопроса. Она снова долго ласкала Бернарда, умело удерживая на грани оргазма.
– Я разведусь с этой сукой, – пообещал он, лежа на груди у Юнис. – И женюсь на тебе.
– А твоя политическая карьера? – спросила она с напускной тревогой.
Он выругался и мгновенно заснул.
– Не нужно разводиться, – сказала среди ночи Юнис, разбудив Бернарда своими искусными ласками. – Особенно сейчас. Если ты бросишь беременную жену, Америка никогда тебе этого не простит, а твоя Син станет в глазах этих идиотов национальной героиней. Вероятней всего, она родит либо недоноска, либо ребенка с массой психических отклонений – она пьет, как сезонный рабочий, и каждый день закатывает истерики. История о загадочной гибели Арчибальда Гарнье может появиться на страницах газет к моменту рождения ее ребенка.
– Кто тебя подослал? – вдруг спросил Бернард. Приподняв от подушки голову, он пытался заглянуть в глаза Юнис. – Тебя кто-то подослал, верно?
– Да, – ответила она, устраиваясь у него между ног и прижимаясь горячей щекой к его животу. – Любовь и жажда мести.
Конуэй снял свою кандидатуру, объяснив в телевизионном интервью, транслировавшемся на всю страну, что не может представить себя в роли политика. Он сказал, что намерен отныне посвящать больше времени семье, под которой подразумевал Юнис, – они последнее время были неразлучны, – а также бизнесу. Поскольку Луиза поместила Синтию в клинику санаторного типа в швейцарских Альпах, Бернард, совершая деловую поездку по Европе с Юнис в качестве секретарши, время от времени навещал жену. После каждого подобного визита на страницах американских газет появлялись цветные фотографии улыбающейся пары на фоне заснеженных горных вершин или тропических растений зимнего сада. Синтии внушали со всех сторон, что муж ее обожает. Больше всех, как ни странно, старалась Луиза – она тоже чувствовала себя вполне счастливой.
Однажды, когда они пили шампанское на веранде уютного ресторанчика на Елисейских полях, празднуя очередной из многочисленных юбилеев их удивительного союза, Юнис неожиданно сказала:
– Я перехитрила саму себя. Весело, правда?
– Что ты сделала, родная?
– Я в тебя по-настоящему влюбилась. И теперь уже поздно что-либо изменить.
– Но ведь ты призналась мне в этом чуть ли не в первый день нашей встречи.
– Я тебе бессовестно лгала.
Он расхохотался, откинувшись на спинку плетеного кресла.
– Маленькая лгунья сделала меня таким счастливым, – сказал он, беря ее руку в свои. – А я-то думал… – Он на мгновение нахмурил брови. – Увы, на этом свете не бывает ничего вечного.
Юнис вздохнула и осторожно высвободила свою руку.
– В чем дело? – удивился Бернард. – Я тебя обидел?
– Нет. Сейчас обидеться предстоит тебе. – Она достала из сумочки конверт и протянула его Бернарду. Он машинально открыл его, достал цветные фотографии и вдруг изменился в лице.
– Откуда у тебя ее фото? – спросил он, внимательно вглядываясь в лицо Юнис.
– Угадай.
Она лукаво улыбалась.
Бернард рассматривал фотографии. На одной из них Маджи стояла в обнимку с высокой девушкой с длинными волосами жемчужно-пепельного цвета, повернувшись к ней вполоборота.
– Ты – Сьюзен Тэлбот, – вдруг сказал Бернард. – Ты хотела уничтожить меня. Ты… Нет, я отказываюсь что-либо понимать.
– Я тоже, – кивнула она. – Я все провалила.
– Нет, ты меня на самом деле уничтожила. Потому что прежнего Бернарда Конуэя больше не существует. Ты вылепила из меня кого-то по своему желанию и вкусу.
– Та кассета, которую ты хранишь в сейфе, это… Бернард нахмурился.
– Да. Там мы занимаемся любовью. И она признается, что любит другого. Человека по имени Ян. Последнее время она была уверена в том, что он ей не брат по крови. И говорила об этом, особенно когда мы курили марихуану. Она всегда мечтала соединиться с ним.
Сью схватила Бернарда за руку и прошептала:
– Теперь я знаю точно, что она жива. И мы с тобой ее найдем.
– С трудом догнал тебя. Уф… Плаваешь, как дельфин, моя красавица.
Лиззи перевернулась на спину и внимательно посмотрела на загорелого парня, плывущего чуть сбоку и сзади от нее. Она уже где-то его видела, а потому совсем не испугалась. К тому же парень так приветливо ей улыбался.
Прозрачные голубые волны Атлантики ласковым теплом омывали их тела. Пляж с расположенными на одной линии отелями и виллами казался таким далеким и будто игрушечным.
– Меня зовут Джимми, – сказал парень на вполне сносном английском. – А ты Лиз, Элизабет. Я буду звать тебя Элиза, можно?
– Да, – сказала Лиззи, щурясь от ослепительно ярких лучей солнца. – Ты испанец?
– Нет конечно. – Джимми рассмеялся, и его черная в мелких завитках голова на какое-то время исчезла под водой. – Почему ты так решила? – спросил он, выныривая на поверхность. Лиззи невольно отметила, что завитки его волос сохранили прежнюю форму – в них лишь поблескивали капли воды.
– Можно потрогать? – спросила она и, не дожидаясь разрешения, провела ладонью по затылку Джимми. – О-о-о, – вырвалось у нее. – Я еще никогда не…
Она замолчала и отдернула руку. Ей показалось, будто от волос Джимми исходили разряды электричества.
– Чего ты испугалась? – Он схватил ее за руку и притянул к себе. Под ними была светло-голубая бездна. – Ты тоже не американка, – сказал Джимми, без тени смущения разглядывая ее. – Хоть и болтаешь на английском без акцента. Вот твоя мать – стопроцентная американка. Тоже очень красивая. – Джимми зажмурился, словно был ослеплен воспоминанием о красоте Сью. – Но ты мне нравишься больше, – неожиданно заключил он. – И мне безумно хочется тебя поцеловать. – Он тут же впился губами в ее губы, и оба мгновенно очутились под водой. Лиз барахталась, пытаясь высвободиться из цепких объятий Джимми. Когда их головы снова оказались на поверхности, он сказал как ни в чем не бывало: – Этим лучше заниматься на волнорезе. Поплыли?
Она послушно плыла за ним. Метрах в пятидесяти от берега длинные каменные руки волнорезов почти сходились вместе, защищая пляж от волн. Джимми вскарабкался на большой камень и помог выбраться из воды Лиз.
Вокруг было пустынно. Тишину нарушал лишь плеск волн о камни. Джимми крепко стиснул ладонь девушки.
– Хорошо, правда? – сказал он. – Иногда мне кажется, будто меня родили не отец с матерью, а Атлантический океан. Ты тоже его любишь?
– Да, – выдохнула Лиззи и попыталась высвободить свою руку.
– Зачем? – удивился он. – Ты моя девушка. Я тебя не отпущу. Разве тебе плохо со мной?
– Хорошо, – не колеблясь ответила та, – но я… я совсем тебя не знаю.
Он обнял ее, привлек к себе и поцеловал в губы, заставив их раскрыться. Он проник своим горячим упругим языком глубоко в ее рот и стал нежно ласкать нёбо.
Голова закружилась, и Лиз стала медленно заваливаться на горячий камень. Но прежде чем ее спина коснулась его поверхности, Джимми успел подложить свои руки, и Лиз вся очутилась в его объятьях. Она закрыла глаза, чувствуя, что сопротивляться бесполезно. Ей этого и не хотелось.
– Теперь ты меня знаешь? – прошептал Джимми, едва оторвавшись от ее губ. – Как же ты красива… Я влюбился в тебя с первого взгляда. Ты моя, слышишь?
– Да, – покорно ответила девушка и, подняв веки, посмотрела Джимми в глаза. Ей показалось, они лучатся, и их лучи проникают глубоко ей под кожу, вызывая странный жар.
Он быстро встал, не выпуская ее из своих рук, и сказал:
– Сегодня ночью приобщу тебя к серфингу. Будет полнолуние. Ты знаешь, что такое серфинг?
Она кивнула.
– Я видела, как мальчишки ныряют в волны, обхватив дощечку. Я тоже хочу научиться. Я… я должна быть такой же ловкой, как ты.
И она, вдруг ощутив робость, опустила глаза.
Джимми взял ее за запястья и поднес поочередно к своим губам ее ладошки, нежно поцеловав каждую в то место, где близко сходились линии жизни и любви.
– У тебя никогда не было приятеля? – утвердительным тоном спросил он, и когда она замотала головой, сказал серьезно и даже печально: – А ведь я мог опоздать. Но я, кажется, успел вовремя. – Он запрокинул голову и рассмеялся, обнажив белоснежные зубы. – Хвала и слава всем богам!.. Сколько тебе лет, Элиза?
– Шестнадцать, – сказал она.
– Я думал, тебе нет пятнадцати. А мне скоро двадцать четыре. Слушай, у меня перерыв кончается. Надо спешить – этот очкарик вычитает по песете за каждую минуту опоздания. Презираю очкариков. Он напоминает мне одного профессора биологии из Неаполитанского университета. Поплыли, а?
Они одновременно нырнули в воду и поплыли к берегу, держась рядом.
Оба вдруг испытали страх потерять друг друга. Но они еще не умели выразить это словами.
Тело Лиззи было в синяках и ссадинах, зато душа ликовала. Получилось!
Она бесстрашно нацеливала нос своей доски на самую высокую волну и, подхваченная ею, визжала, как настоящая дикарка. Не от страха – от восторга.
Когда Джимми стянул с нее на берегу грубую парусиновую рубаху и джинсы и увидел в свете луны эти ссадины, он готов был рвать на себе волосы. Но Лиззи сказала:
– Это мои трофеи. Я буду ими гордиться.
Она надела длинную широкую юбку.
– Хочешь, я покажу тебе свой дом? – Джимми взял девушку под руку.
– Хочу. Я еще не была в глубине острова.
– Откуда ты знаешь, что я живу там? – изумился Джимми и, прижав Лиз к себе, нежно поцеловал в мокрую макушку.
– Сама не знаю. Мне кажется, я представляю и как ты живешь.
Небольшой джип Джимми наматывал на свои могучие колеса километры извилистой дороги.
– Асфальт положили еще не до конца. Держись, – предупредил Джимми, и машину подбросило вверх, качнуло, швырнуло вбок. Запахло пылью и какой-то травой.
Они остановились возле небольшого трехэтажного дома в ряду таких же домов, стоящих вдоль узкой улицы без тротуаров. Почти во всех окнах было темно.
– Это новостройка, – пояснил Джимми. – Вокруг, можно сказать, ни души. Пустыня. Не страшно?
Она ничего не ответила. Когда они вышли из машины, она обняла его за шею, поднялась на цыпочки и провела языком по его пухлым влажным губам. Он взял ее за талию, поднял в воздух и страстно поцеловал.
– Я погиб. – Он с трудом перевел дыхание. – И дернуло же меня в тот день подменить Сантьяго и потащиться вместо него на пляж. «Сангрия, сандвичи, кока, пиво», – гнусаво затянул Джимми, подражая лотошникам. – Я увидел, как ты стоишь и ждешь, когда накатит волна, чтобы нырнуть. Ты не боишься, что от соленой воды у тебя спутаются волосы?
– У меня уже настоящий вшивый домик. – Лиззи весело рассмеялась и погладила Джимми по голове. – Как я тебе завидую. Если бы у меня были такие кудряшки!
– Глупышка. Наши женщины нарочно их распрямляют, чтобы походить на европеек.
– Ваши? А кто это – ваши? – спросила Лиззи.
– Моя мама марокканка. Отец – наполовину итальянец, наполовину индус. А вообще-то я толком о нем не знаю. Он плавал на какой-то шхуне и, по-моему, занимался контрабандой. Маме сказали, что он утонул. Мне тогда еще одиннадцати не было.
Джимми щелкнул выключателем, и взору Лиззи предстала маленькая чисто прибранная квартирка. Крошечные спальня и гостиная, разделенные деревянной стойкой-столом и электрической плитой.
– Зато это только мое, – поспешил Джимми опередить ее разочарование.
– У тебя так много книг и дисков. – Лиззи присела на корточки, разглядывая их. – И ты, оказывается, тоже любишь классическую музыку.
– Это уже в прошлом. Я понял, что и музыка не спасает.
– От чего? – глянув на него с удивлением, спросила Лиззи.
– От отчаяния. Тебе знакомо это чувство? – Он взял девушку за руку и, сев на диван, посадил ее к себе на колени. – Но ты спасешь меня от него, да?
– Если смогу, – честно ответила Лиззи. – Я очень неопытная. Я все время только и делала, что играла на рояле, слушала музыку, читала книги. Я…
– Но ты тоже любишь океан, – мягко перебил ее Джимми и привлек к себе. – Я знаю, ты очень любишь океан.
– Наверное. – Лиззи вздохнула. – Мне пора домой.
– У тебя строгие родители?
– У меня нет родителей, – сказала она просто. – Сью моя тетя, а Берни… Понимаешь, его когда-то любила моя мама, а теперь…
Она замолчала и отвернулась.
– Они тебя очень любят, – сказал Джимми, потершись щекой о ее щеку. – И все тебе простят. Останешься?
– Да, – сказала Лиззи. – Мне очень хочется остаться. Мне трудно уйти от тебя.
– Тогда во всем доверься мне. – Джимми спустил ее с колен. – Но ты не бойся – тебе будет со мной очень хорошо. Тебе это нужно. Без этого ты многого не сможешь понять. – Он быстро скинул одежду и теперь стоял перед ней совершенно нагой. У него было красивое загорелое тело, мускулистые руки и ноги, поджарый живот. Он напоминал Лиззи скульптуру античного бога, которую она видела в музее. Только мраморный фаллос был меньше и не вызывал у нее никаких эмоций. Сейчас же, глядя на большой фаллос Джимми, Лиззи почувствовала желание коснуться его и тем самым приобщиться к какой-то удивительной тайне.
И она положила на него свою ладонь. Внутри живота сделалось жарко. Закружилась голова.
– Красиво, – прошептала она. – Это… так красиво.
Джимми погасил свет, и комната наполнилась сиянием луны, нависшей над кратером вулкана. Это было фантастическое зрелище, и Лиззи, сверхчуткая ко всему прекрасному, вздрогнула. Ей хотелось плакать от счастья, но она понимала, что слезы недостойны ее, подруги Джимми, прошедшей испытание серфингом.
– Любимая… – Джимми сел на коврик возле дивана, широко расставив согнутые в коленях ноги, и протянул к ней руки. – Иди сюда. Мы с тобой должны соединиться. Я слышу голос бога Камы. Он велит мне творить любовь.
Он привез ее домой на рассвете. Расстаться было очень трудно, но Джимми ждала работа. Они поклялись друг другу встретиться в полдень на пляже.
Лиззи шла среди благоухающих кустов гибискуса. Она не чувствовала под собой гравия дорожки, хоть и была босая. Ей казалось, что ее возносят над землей вихри, клубящиеся в ее теле. Казалось, там, в вышине, с ней могло случиться что-то еще более прекрасное, чем сегодня ночью.
– Нет, я не хочу туда, – вслух произнесла она. – Я хочу быть с Джимми.
Услышав ее шаги, из спальни вышла Сью. На ней был прозрачный халат, который она не успела застегнуть, и Лиззи поразилась красоте своей тетки.
– Как же ты красива, Сью, – сказала она. – Господи, почему я не замечала этого раньше?
Сью улыбнулась.
– Свершилось, девочка моя?
– Да…
– И это тебя не разочаровало?
– О нет, нет, – горячо запротестовала Лиззи.
– Я так рада за тебя. – Сью подошла и, положив ладони девочке на плечи, заглянула в глаза. – Они у тебя как звезды. Иди поспи. – Когда Лиззи была уже посередине лестницы, Сью тихонько окликнула ее и, поднявшись на несколько ступенек, шепнула: – Берни мы ничего не скажем, верно?
Лиззи машинально кивнула. Перешагнув через порог своей спальни, она в сладком бессилии упала на кровать.
– Ты женщина, и я должен делать все для того, чтобы тебе было хорошо. Только через твое блаженство могу достичь блаженства я, – говорил Джимми. Они купались нагишом в теплой, отгороженной скалами бухте. Это была дикая часть острова. Сюда редко кто забредал.
– Ты уже испытал с кем-то это блаженство? – спросила Лиззи, любуясь его прекрасным торсом.
– Такого, как с тобой, – ни с кем! – воскликнул Джимми. – Но я знал, что оно существует. Я изучил много книг, пытаясь среди гор глупости отыскать золотое зерно. Я знал интуитивно: ни деньги, ни наркотики, ни продажные женщины не сумеют дать мне то, что я хочу. Но я попробовал в своей жизни все.
– О! – произнесла Лиззи, внезапно ощутив укол ревности.
Он обнял ее за плечи, прижал к себе и стал ласкать фаллосом ее живот.
– Это было неизбежно, любимая. Иначе я бы не смог узнать в толпе тебя. Но у меня уже девять месяцев не было женщины. Я словно родился заново за это время. Не сердись, любимая, – они все равно что книга с полезными советами, которая пылится на полке. Без этих советов пришлось бы идти наугад. Я мог причинить тебе много боли и зла.
– Но ведь я совсем ничего не знаю. Я…
– Это замечательно, Элиза. Такой и должна быть моя возлюбленная. И я обязан беречь ее от всего дурного, грязного, нехорошего. Я знаю, многие мужчины позволяют себе делать с женщинами такое, отчего те превращаются в путан. Многие мужчины думают только о том, как самим достичь оргазма. Во всех книгах и журналах они только и пишут об этом. Несчастные. Любовь – это непрекращающийся оргазм души и тела.
– Церковь считает плоть грязной и призывает усмирять ее, – сказала Лиззи, вспомнив проповеди отца Стефанио, настоятеля храма Девы Марии в Нью-Орлеане.
– Ты в это веришь? – Джимми приподнял девушку за талию и ласково вошел в ее лоно.
– Нет. Особенно теперь, – сказала она и закрыла глаза, вся отдаваясь любви.
– Я вижу радугу, – прошептал Джимми. – Боже, я вижу радугу…
Они всегда приезжали в эту бухту во время сиесты, когда кафе-бар, где работал Джимми, закрывался на три самых жарких часа. Он подхватывал Лиззи возле спуска с Лос-Кристианос на набережную, и они мчались на бешеной скорости на встречу с океаном. В той бухте он принадлежал только им, а они принадлежали друг другу.
– Я тоже видела радугу, – сказала в тот день Лиззи. – Мне даже стало немного страшно. Мне кажется, это зрелище не для смертных, – тихо добавила она.
– Мы с тобой бессмертны, – с уверенностью заявил Джимми. Они расположились в тени скалы и, оперевшись о ее теплую гладкую поверхность, пили кокосовое молоко, ели инжир и манго. – Я еще не рассказывал тебе про Будду. Слушай же. Однажды он сидел, погруженный в медитацию, долгое время не принимая пищи. Его тело стало дряхлым и изможденным. Но вдруг через какое-то время его правая рука коснулась земли, из лесу вышла прекрасная женщина с чашей, в которой была простокваша. Она поставила чашу у ног Будды, и он весь наполнился лучезарностью. Потом он совершил еще четыре мистических жеста, и появились еще четыре женщины. Каждая из женщин символизировала собой Землю, Воду, Огонь, Воздух и Пространство. И все они умоляли Будду спасти их от страданий страстной любовью. И Будда осознал, что эти мистические фигуры, матери-богини, призваны помочь ему разорвать бесконечный цикл рождений и смертей. Он вошел в состояние «алмазной славы». Он творил любовь с этими богинями, исполняя желание каждой из них. С их помощью он достиг совершенства. И поднялся в запредельный мир по пятицветной радуге лучащегося света.
– Красивая легенда.
– Это не легенда. Я понял, что это не легенда, когда сам увидел эту радугу. Элиза, ты богиня. Настоящая богиня.
– Я одна, а у твоего Будды было пять женщин. – Лиззи усмехнулась. – Наверное, я не смогу заменить их всех.
– В тебе десять женщин, если не больше! – воскликнул Джимми. – Каждый раз, когда мы творим любовь, мне кажется, я делаю это с другой женщиной, еще более прекрасной, чем предыдущая. Откуда в тебе все это?
– Может, от музыки. Я с детства живу только ею. Сейчас я поняла…
Она вдруг осеклась – ее осенила какая-то мысль. Взгляд ее просветлел.
– Что ты поняла? Говори! – Он придвинулся к ней ближе, коснувшись ее своими коленями.
– Мне будто кто-то подсказал… Да, я сумела расшифровать то, что десятилетиями зашифровывалось в музыке, – быстро заговорила Лиззи. – Шопен, Лист, Шуман, все остальные – они мечтали о такой любви. Но почему-то не смогли ее испытать. Если бы они ее испытали, – говорила Лиззи, устремив взгляд куда-то вдаль, – они бы никогда – я это точно знаю, – никогда не написали такой прекрасной музыки. Ведь они в своей музыке искали спасения от пустоты, потому что у них не было настоящей любви в жизни. Они выдумывали ее. И рыдали над тем, что сами придумали. Потому что такого не может быть в жизни. – Лиззи вдруг глянула в упор на Джимми и спросила: – Но откуда все это знаю я? Откуда, Джимми?
– Со временем ты будешь знать еще больше. – Он ловко надколол об острый край скалы кокосовый орех и протянул его девушке. – Пей, моя мудрая Лакшми. Молоко кокосового ореха в некоторых странах Африки считается эликсиром любви. Ночью мы взберемся на вулкан. Я поклялся Каме, что поднимусь туда с девушкой, которая станет моей единственной и последней любовью. – Он боднул ее в грудь лбом и весело рассмеялся.
– Не думай, будто я до конца верю этим легендам. Но я согласен поклоняться всем на свете богам, только бы не потерять тебя.
– Меня беспокоит Лиз. Пропадает где-то ночами, почти никогда не обедает с нами, – говорил Бернард, лежа в шезлонге на балконе, откуда открывался вид на океан.
– У нее своя компания, – нехотя отозвалась Сью. – Она любит потанцевать, повеселиться. Ей скучно с нами.
– Она сильно изменилась за последнее время. И почти не садится за рояль, – продолжал Бернард. – Я заметил в ее глазах какой-то странный блеск. – Он вздохнул. – Она с каждым днем все больше и больше становится похожа на свою мать.
– Я рада за нее. Рояль никуда не денется. У девочки каникулы.
– Да, но…
– Никаких но. – Сью встала с шезлонга, подошла сзади к Бернарду и, положив ладони ему на плечи, сказала: – Если наша жизнь не задалась, не будем портить ее детям, верно?
– Ты считаешь, она не задалась? – Бернард склонил набок голову и поцеловал лежавшую на его плече руку Сью. – Я так не считаю. Но меня огорчает одно: почему ты не хочешь, чтобы мы поженились?
– Я думала, ты давно понял почему.
– Иногда мне кажется, что понимаю. Но когда мы занимаемся любовь и получаем оба такое наслаждение, мне эта преграда кажется надуманной и абсурдной.
– Берни, нам хорошо именно потому, что мы свободны, – сказала Сью, присаживаясь на стул рядом и наливая в стаканы пива. – К тому же если я и верю в магическую силу брака, то в силу со знаком минус.
– Поясни, если можешь, – слегка раздраженно попросил Бернард, принимая из ее рук стакан с пивом.
– Я не верю в вечные чувства. После того как предала кэпа, – тихо пояснила она. – Пройдет еще какое-то время, и мы начнем раздражать друг друга, как почти все на свете супруги со стажем.
– Вряд ли. Мы созданы друг для друга.
– Нет, Берни. Это не так. Нашу любовь создала она. Потому что я вдруг увидела тебя ее глазами. С кэпом все было иначе – я тогда еще ничего не знала. Берни…
– Да? – Он вопросительно поднял на нее взгляд, и она вдруг поняла, как дорог ей этот человек.
– Пообещай мне, что если я оттуда не вернусь, ты не оставишь Лиз. Но твоя забота должна быть не навязчивой, а дружеской. В первую очередь думай о ней, а не о каких-то там правилах приличия и здравом смысле. Обещаешь?
– Что за глупости. Ты вернешься оттуда. Россия стала совсем другой страной. Кстати, мы могли бы поехать туда вместе.
– Нет, Берни. Ты слишком известная личность. КГБ наверняка возьмет тебя на мушку, и перед тобой не откроются именно те двери, в которые я намереваюсь постучаться.
– Ты наивна, Сью.
Он смотрел на нее с ласковой иронией.
– У тебя была возможность убедиться в обратном, когда я спасла тебя от этой шлюхи Синтии и ее мамаши-монстра. Если бы я не вызнала своевременно историю с этим Гарнье, ты бы не смог без ущерба для своего имиджа и кармана развестись с женщиной, родившей ребенка с болезнью Дауна. Правда, твоя политическая карьера все равно полетела ко всем чертям, но я думаю, ты об этом не жалеешь.
– Я хочу тебя, Сью, – вдруг сказал Бернард, поднимаясь с шезлонга. – Ты настоящая колдунья.
Она счастливо рассмеялась…
– Помни о том, как прекрасно любить. Помни, – шептала она разомлевшему от ласк Бернарду. – Всегда помни, ладно? И помни, что Лиззи у нас одна…
Виза была готова через три дня, и Сью улетела в Мадрид, а оттуда в Москву. Бернард, поскучав два дня в одиночестве, решил смотаться в Ниццу и Монте-Карло, оставив Лиззи на попечение экономки мадам Дидье, которая была искренне привязана к девочке. В комнатах оплетенного диковинными растениями особняка было тихо, прохладно, полутемно.
Днем Лиззи любила лежать в своей спальне и слушать океан. Он напоминал ей могучий оркестр Вселенной, исполняющий гимн вечной жизни… Она незаметно засыпала и видела фантастические сны – огромные цветы с прохладными лепестками, в тени которых они с Джимми отдыхали, широкие глянцевые листья, служившие им убежищем от тропических ливней, пятицветную молнию, рассекающую небо над океаном…
Она заставляла себя садиться за рояль, но музыка, перестав быть целью ее жизни, утратила для нее прежний смысл. Пальцы уверенно бегали по клавишам, легко преодолевая труднейшие места из поздних сонат Бетховена, «Крейслерианы» Шумана, трансцендентных этюдов Листа. Играя, она думала о Джимми. Она видела его, освещенного солнцем, с корзиной, полной фруктов и банок с холодными напитками.
– Джимми, – шептали ее губы. На мгновение она замирала, но не убирала рук с клавиш. – Скорей бы наступила ночь…
Ее пальцы продолжали играть с того места, где остановились, а сама она уже шла рядом с Джимми по раскаленному песку пляжа, и они вместе мечтали: скорее, скорее бы наступила ночь.
– Нет, я не хочу появляться у тебя, – решительно заявил Джимми в ответ на приглашение девушки посетить их виллу. – Я не выношу косые взгляды всех этих взрослых, их пересуды за нашей спиной. Любовь – чувство для двоих, понимаешь?
– Нам не удастся долго сохранить ее в тайне, – возразила Лиззи.
– Посмотрим. Но сейчас прийти к тебе и тем самым в открытую признаться в своем чувстве – все равно что нырнуть в кипяток.
– Мы можем изобразить из себя друзей, – предложила Лиззи.
– Не получится. Вокруг нас особая аура, и скрыть ее невозможно.
– Ты прав. – Лиззи задумалась. – Тогда мы можем пробраться ко мне в спальню тайком. Мадам Дидье спит в левом крыле в комнате окнами в сад, привратник живет в комнате возле парадного входа. Моя спальня справа. Я спущу с балкона канат…
– Нет, любимая. Мы будем спать у меня. На рассвете я, как и прежде, буду возвращать мою богиню в ее дворец, а сам досыпать в своем джипе.
– Ты не высыпаешься все эти ночи. – Лиззи обняла его за шею и села к нему на колени, широко расставив в стороны ноги. – Моя йони хочет твой лингам, слышишь? – шепнула она ему на ухо. – О Господи, я иногда едва удерживаюсь, чтобы не крикнуть об этом во всеуслышание. – Она закрыла глаза, отдаваясь возлюбленному, сосредоточилась, с ходу попав в нужный ритм.
Летевший на дельтаплане человек залюбовался картиной прекрасной юной любви.
Как-то Лиззи опоздала на пять минут к спуску на пляж, где ее обычно ровно в полдень подхватывал Джимми на своем джипе – она забыла переобуться в босоножки на веревочной платформе и сбила о камень ноготь на большом пальце ноги. Боль была нестерпимой. Лиззи купила по пути пластырь и залепила им кровоточащий ноготь. На это у нее ушло ровно пять минут.
Джипа на привычном месте не оказалось. Она стояла на солнцепеке минут пятнадцать, вглядываясь в каждую сворачивающую со стороны парка Сантьяго машину. Пока наконец не поняла, что с Джимми что-то стряслось. Она подхватила такси и уже через пять минут была возле кафе-бара на Лас-Торвискас, где работал Джимми.
Несмотря на полуденный зной, здесь было оживленно. Прихрамывая, Лиззи доковыляла до стойки, за которой обычно стоял сам хозяин, сеньор Мигуэль, и, поздоровавшись, спросила по-испански, где Джимми.
– Сам бы хотел знать. Этому паршивцу хорошо известно, что у нас сегодня два дня рождения и помолвка.
Такой тяжелый день, а он дрыхнет где-нибудь в тенечке. – Бранясь, сеньор Мигуэль ни на секунду не переставал наполнять пивом стаканы. – Этого чертового лодыря давно пора перевести на кухню мыть посуду, что я и сделаю, как только закончится летний наплыв отдыхающих. Я покажу ему…
Лиззи уже не слышала, что собирается показать сеньор Мигуэль Джимми, – всхлипывая, она направилась к выходу.
– Сеньорита, что случилось? – поинтересовался Хуан, приятель Джимми, спешащий с подносом на террасу. – Что-то давно я не видел вас в нашем заведении. Джимми сегодня лодыря гоняет – небось опять к нему эта Айра приехала.
– Нет! – крикнула Лиззи. – Никто к нему не приехал. Он… С ним что-то случилось.
Она выскочила на набережную и бросилась вверх по лестнице.
– Постойте! – Хуан схватил ее за плечо и заставил обернуться. – Будьте осторожны, сеньорита. У него нехорошие дружки. Сам он нормальный парень, но его дружки…
– Вы знаете, где он? Отвечайте! – потребовала Лиззи.
– Тише, сеньорита, прошу вас. Вы такая чистая и красивая…
Лиззи так отпихнула Хуана, что тот едва удержался на ногах.
– Сам ты подонок! – крикнула она. – Пошел бы ты…
Она выругалась по-итальянски. Так ругались в Нью-Орлеане подвыпившие мужчины.
Она ехала в такси в сторону поселка, мучаясь в догадках, что могло случиться с Джимми после того, как они расстались. Как обычно, он привез ее домой в четверть пятого и, убедившись, что она вошла в палисадник, а дальше через террасу в дом, развернул свой джип и поехал к пляжу – вздремнуть часика три на лежаке. Она не верила, что какая-то там Айра могла помешать им с Джимми встретиться.
Да, она ревновала его к девушкам и женщинам, которые пожирали Джимми похотливыми взглядами, но ей и в голову прийти не могло, что одна из них может оказаться ее соперницей.
Дверь оказалась на замке, ключ лежал на прежнем месте – под камнем возле родника. Похоже, с тех пор как они вместе уехали отсюда, Джимми не появлялся.
– В этом поселке живет всякий сброд, – комментировал шофер-испанец. – Не знаю, куда смотрят власти. Здесь торгуют травкой, занимаются контрабандой… Скоро наш остров превратится во второй Сингапур – я не встретил там ни одного европейского лица, если не считать туристов.
– Ненавижу европейцев. Особенно мужчин, – неожиданно со злостью сказала Лиззи. – Вы не могли бы ехать побыстрей?
Шофер с удивлением глянул на девушку. Красива. Одета в скромное, но дорогое платье из натурального шелка. Что ей нужно в поселке, где обитают подозрительные люди чуть ли не всех национальностей, кроме испанцев? Наркоманка либо искательница приключений, решил он. Содом и Гоморра. Если не положить этому конец, остров поглотят воды океана, как некогда Атлантиду.
Шофер был ревностным католиком и безоговорочно верил в неотвратимость наказания за грехи.
ВСТРЕЧА
Сью Тэлбот не особенно разбиралась в политике. В России, как она знала, началась «перестройка» и «гласность». Она могла произносить эти слова по-русски, но что они означали, не знала. Даже Берни, живо интересовавшийся политикой, не мог объяснить ей толком их смысл.
– Гласность – это значит, что теперь им можно говорить о том, о чем нельзя было говорить раньше, – не слишком уверенно рассуждал Бернард. – О том, сколько людей погибло во время октябрьского переворота в семнадцатом году, во времена режима Сталина, в последнюю войну. Еще, кажется, теперь им можно говорить о том, что они проиграли войну в Афганистане, как мы проиграли Вьетнам.
– Но почему об этом нельзя было говорить прежде? – недоумевала Сью. – Разве это государственная тайна?
– У каждого государства свои охраняемые тайны. – Бернард пожал плечами. – Я читал кое-какие статьи, перепечатанные из русских газет и журналов. У меня сложилось впечатление, что в силу того, что люди были вынуждены долго молчать, сейчас они говорят слишком много, путая правду с вымыслом, подчас намеренно… Самые беспринципные делают на этом политическую карьеру.
– А что они задумали перестраивать? – расспрашивала Сью.
– Свою систему, насколько я понимаю. Горбачев хочет доказать всему миру, что и с коммунистами можно торговать, обмениваться ноу-хау и так далее. Он думает открыть границы. Знаешь, меня интересует этот человек – он довольно молод, умен, искренне настроен на сотрудничество с Западом. Но менталитет русских, как мне кажется, очень отличается от нашего. По крайней мере так говорит профессор Дорваль, известный русист и в прошлом коммунист. Он глубоко уверен в том, что западный образ жизни способны воспринять лишь немногие русские.
– Ладно, все это так скучно, – говорила Сью, собирая чемодан. – Как-нибудь разберусь на месте. Шубу и сапоги брать не буду – там вроде бы сейчас тоже лето. Я звонила в наше посольство в Москве, и мне посоветовали остановиться в отеле «Интерконтиненталь». Это в центре, рядом с нашим посольством. В Шереметьеве меня встретит Дэн Осборн – он живет в Москве уже полтора года и может пригодиться. Думаю, мне следует прежде всего нанести визит ее бывшему мужу – Дмитрию Павловскому.
Что Сью и сделала. С помощью одного из секретарей американского посольства она узнала служебный и домашний телефоны Димы. Вечером Сью позвонила ему домой.
Он был один и почти трезв. Он говорил на вполне сносном английском, и, когда узнал, что Сью американка, стал вставлять везде, где можно и нельзя, раскатистое и уж слишком русифицированное «р». Как бы там ни было, уже через пять минут он согласился приехать в «Международную», куда Сью пригласила его поужинать.
Она не сказала, по какому поводу хочет встретиться с ним, он не спросил.
Они узнали друг друга сразу.
Дима шел навстречу Сью с открытым от удивления ртом и машинально протягивал руки.
– Я, выходит, похожа на нее? – Сью грустно улыбнулась.
– На нее? На кого?
Он словно был в отключке.
– На вашу жену. Я ее младшая сестра.
Дима покачнулся, и Сью ухватила его за локоть.
– Все в порядке, – сказал он. – Да, это так. Но я понял это… подсознательно и лишь сейчас разумом. Вы не просто на нее похожи – вы такая, какой она была в тот последний год.
– Пошли в зал. Нам нужно кое-что обсудить. – Сью мягко, но решительно взяла его под руку и повела к лифту.
– Она жива? Она просила мне что-то передать? – начал Дима, когда метрдотель усадил их в отдельном кабинете. Сью обратила внимание, что у него дрожат руки. Она чуть помедлила.
– Маша исчезла при загадочных обстоятельствах почти три года тому назад. Полиция считает, что это было самоубийство. Но тела так и не обнаружили. Правда, к вечеру разыгрался шторм.
– Нет! – воскликнул Дима и вскочил, опрокинув бокал с минеральной водой. – Черт, я вас облил, простите, – пробормотал он.
– Не имеет значения. – Сью промокнула колени салфеткой. – Мне нравится ваша реакция. Я тоже не верю в то, что моя сестра могла наложить на себя руки.
– У нее была несчастная любовь? – В голосе Димы Сью уловила злорадство.
– Она, как и я, по отцу Ковальская, хотя при рождении мне дали фамилию матери. Ковальские всегда бросают первыми, ясно?
Сью самодовольно улыбнулась. Ей был чем-то симпатичен этот мужчина, который не соответствовал стереотипу советского человека, не скован, вполне прилично, даже модно одет. Правда, судя по всему, выпивает и склонен проводить ночи в чужих постелях…
– Вы так и не женились? – спросила Сью.
– Нет, – коротко ответил Дима. – Не вижу в этом смысла.
– Я расспросила всех людей, общавшихся последнее время с сестрой, – продолжала Сью, – и пришла к выводу, что если отбросить версию самоубийства, остается одно: ее похитили агенты вашего Комитета госбезопасности.
– Но почему они не сделали этого раньше?
– Я тоже задавала себе этот вопрос. И не смогла на него ответить. Я приехала в Россию только для того, чтобы повидать вас и с вашей помощью разыскать сестру.
Дима собрался закурить, уронил зажигалку. Сью достала свою и тоже закурила.
– Обдумайте эту проблему, – сказала Сью. – У вас наверняка есть друзья в КГБ. Вам ведь хочется, чтобы она нашлась?
– Да, – не сразу ответил Дима. – Я не сержусь на нее. Я ее очень любил. Когда она осталась там, я думал, моя жизнь кончена. Но такие, как я, не умирают. – Он горько усмехнулся. – И не кончают жизнь самоубийством, хоть их и посещает эта мысль и в уме они проигрывают всерьез способы ухода из жизни. Но она все равно не вернется ко мне, да я бы и не хотел этого. – Он вздохнул. – Я устал. Мне нужен покой.
– Вы поможете мне найти ее? – тихо спросила Сью.
– Не знаю… Я все еще работаю в МИДе. Конечно, времена сейчас иные.
– Но КГБ еще очень сильная организация, – уловила его мысль Сью, – и в случае чего может помешать вашей карьере?
– Плевать я хотел на карьеру, – заявил Дима. – Я вот уже двадцать лет протираю штаны в этой бездарной конторе под громким названием Министерство иностранных дел, где все до одного помешаны на загранкомандировках. Да провались они! Ну, съездил. Написал отчет. Настучал на кого надо… Я не стучу – я вообще не-вы-езд-ной. И знаете почему? Да потому, что моя любимая женушка сделала ручкой этой стране болванов и ублюдков. Вдруг я захочу воссоединиться с ней? Ведь это же будет такая антисоветская пропаганда.
– А что такое «не-вы-езд-ной»? – Сью глядела на Диму наивными – почти Машиными – глазами.
– Черт, вам все равно этого не понять. Объясняю в двух словах: только для белых. Апартеид, понимаете? В нашей конторе, как и в любом советском учреждении, люди делятся на белых и черных. Белые имеют заграничный паспорт. Черным его не дают. Усекла, красотка?
Сью кивнула.
– У меня есть идея, – внезапно сказал Дима. – Поскольку ты мне родственница и вообще девочка что надо, давай махнем ко мне? Здесь, уверен, стены напичканы всякими игрушками. У меня их нет – мой дедуля сам когда-то в них играл и обучил меня технике безопасности.
– Согласна, – ни секунды не колеблясь кивнула Сью.
В Диминой квартире стоял невыветриваемый запах сигаретных окурков, присущий почти всем холостяцким жилищам. Однако было чисто – раз в неделю приходила домработница – и даже уютно. Совсем недавно Дима, по настоянию своей очередной сожительницы, сделал ремонт и сменил мебель. Дама, сумевшая подвигнуть его на это отнюдь не легкое предприятие, рассчитывала женить Диму на себе, но в самый последний момент он взбрыкнул и дал ей пинка под зад. Сейчас он порадовался тому, что его квартира имеет вполне достойный вид – а ему не хотелось ударить в грязь лицом перед этой шикарной американкой.
Пока он сервировал столик, Сью ходила из комнаты в комнату и выглядывала в окна. Она была в Москве третий день. Дэн уже успел свозить ее туда, куда обычно возят туристов. Город произвел на Сью вполне цивилизованное впечатление, его жители не были похожи на дикарей, а тем более угрюмых ублюдков, какими их изображала американская пресса.
«Отец недаром любил эту страну, – думала она. – Отец… интересно, где он сейчас? А что, если это он виноват в том, что исчезла Маша?.. Нет, не может быть – в ФБР сказали, что он уехал в Афганистан в качестве внештатного корреспондента какой-то частной телекомпании и словно растворился. – Ей не хотелось, чтобы он погиб, хоть она его почти не помнила. В последнее время ей казалось, что они с Машей так привязались друг к другу именно благодаря тому, что в их жилах текла эта странная славянская – польская – кровь. – Сьюзен, нет, Сюзанна Ковальски. – Она усмехнулась. – Не исключено, что в один прекрасный момент я возьму и изменю фамилию…»
– Мой сын пропал без вести в Афганистане, – сказал Дима, когда они выпили по рюмке темного армянского коньяка. – В списках погибших его нет. Думаю, он попал в плен.
Он произнес это буднично и вроде равнодушно, но Сью почувствовала, что на самом деле он глубоко переживает эту трагедию.
– Мой племянник… – сказала она. – Сестра всегда боялась, что его отправят в Афганистан. Она очень этого боялась.
– Тогда еще был жив мой дед, – рассказывал Дима, – и его друзья готовы были помочь. Иван мог отслужить положенные два года в Подмосковье. Они с другом сами попросились в Афган. Мы узнали об этом, когда уже ничего нельзя было изменить. Да Иван бы и не позволил. – Дима снова наполнил коньяком крохотные хрустальные рюмки. – Выпьем за то, чтобы он уцелел. Ну а если ему суждено было погибнуть, пусть, как говорится, земля ему будет пухом.
– Он тоже один из Ковальских, – вдруг сказала Сью и поставила на стол рюмку. – Те, в чьих жилах течет кровь Ковальских, избранники судьбы. Я в этом убеждена. Самое странное, что я поняла это окончательно, когда переступила порог этой квартиры. Отчего это?
Она вопросительно смотрела на Диму.
– Как здорово, что мы с тобой встретились, Сью. – Он тоже поставил на столик полную рюмку. – Я, правда, не верю во всю эту белиберду про какую-то там особенную кровь и так далее. Но ты побуждаешь меня к размышлению и действию. – Дима встал, вышел в коридор и, чем-то там громыхнув, вернулся с большой картонной коробкой фотографий и высыпал их на ковер.
Сью опустилась на колени и засунула обе руки в зыбкую шелестящую груду. Машу она узнавала везде – даже на тех фотокарточках, где сестра была совсем ребенком. Про Ивана сказала, что он чем-то похож на ее брата-близнеца Эдварда. Фотографию Яна рассматривала долго и с каким-то особым – неутоляемым – интересом. По скупым Машиным рассказам она представляла его именно таким. Глядя на него, она вспомнила кэпа.
Сью вздохнула, поднялась с колен, не отрывая взгляда от фотографии в руке, и машинально выпила коньяк.
– Это ее так называемый брат, – сказал Дима без тени сарказма. – Выходит, и твой тоже. Мне кажется, он слегка с приветом. Ну а в общем неплохой парень. Только, по-моему, побаивается женщин. Он тоже тю-тю.
Сью обратила внимание, что Диму успело развезти, хоть он и пил наравне с ней. «Слабак, – подумала она, но не с презрением, а с жалостью. – Конечно же, Маша не могла любить такого мужчину».
– Где он сейчас? – спросила Сью, не отрывая глаз от фотографии.
– Кто его знает… Исчез, вроде бы снова появился, потом опять исчез. Я же говорю: у него не все дома.
– Быть может, они с Машей нашли наконец друг друга, – задумчиво сказала Сью и вдруг с ужасом поняла, что фраза получилась двусмысленной. – Нет, не на небесах, конечно, а здесь… Убежала к нему, разыграв самоубийство? – размышляла вслух Сью. – Но это на нее не похоже – она бы обязательно кого-нибудь поставила в известность. Правда, она рассказывала, отец инсценировал самоубийство, чтобы уйти из дома. Понимаю, это жестоко, но бывает, что иного выхода нет.
Сью села на диван с фотографией в руке, но теперь она смотрела не на нее, а на Диму. Он был жалок. Он плакал, кулаками размазывая слезы, и то и дело сморкался в скомканный платок кирпичного цвета.
– Я не хочу, чтобы он нашелся, не хочу, – твердил Дима. – Она любит его. Ради него она готова на все. Даже океан переплыть, только бы увидеться с ним. Она… она ненормальная, когда любит.
– Дима, прошу тебя, обратись к своим друзьям в КГБ, – сказала Сью, положив руку ему на плечо. – Покажи им фотографии. Вот эту. – Она протянула Диме то самое фото Яна, которое все время держала в руке. – И вот эту. – Сью подняла с пола фотографию Маши с распущенными по плечам волосами. – Завтра займешься этим, о'кей? Если понадобятся деньги, скажи мне. Я богатая, слышишь? Очень богатая. И ничего не боюсь. Надеюсь, ты тоже не из трусливых. Да, знаешь, мне вдруг пришло в голову, что я, быть может, смогу помочь тебе разыскать через Красный Крест сына. Не думай, что я этим самым тебя покупаю, – я все равно разыщу его, даже если ты откажешься мне помочь. Но ты ведь не откажешься, правда, Дима?
Он позвонил ей через два дня и сказал, что хочет показать Коломенское.
Она подъехала туда на такси, нарядная и яркая, как тропическая бабочка, обратив на себя внимание гуляющих в парке людей. Он схватил ее за руку и потащил к реке.
– Ты с ума сошла! Эти совки от тебя просто обалдели. Могла бы одеться попроще. За нами следят.
– Пускай. Тем, кто следит, плевать на то, что у меня красные шелковые штаны от Версаччи, – они будут делать свое дело, даже если я обую резиновые сапоги и надену… как это называется? – ват-ник, да? Но мы тоже будем делать свое дело. Тем более что у вас теперь гласность.
– Его сцапали и послали в Афган с какой-то секретной миссией.
– Когда это случилось? – деловито осведомилась Сью.
– Два с половиной года тому назад. Сперва он прошел интенсивный курс английского, американский вариант, освоил кое-какие восточные единоборства. Потом… Через полтора месяца после того, как его заслали туда, их группу взяли в плен моджахеды, хотя предполагалось, что их возьмут наши.
Дима замолчал и с испугом уставился на Сью. Она никак не прореагировала на его слова. Она соображала.
– Мне крепко достанется, если узнают… Это пока еще государственная тайна, хоть Горбачев и поговаривает о выводе наших войск из Афгана, – бормотал Дима.
– От меня никто ничего не узнает, – заверила его Сью. – К тому же я плевать хотела на политику. Ваши, наши… А что ты узнал про нее?
– Пока ничего. Того человека, с кем я хочу поговорить сейчас, нет в Москве. В наших органах ощущается паника по поводу архивов, но, как всегда, копать начинают с того, что лежит глубже. Я почти уверен…
Он оглянулся по сторонам.
– Здесь никого нет, – заверила Сью.
– Они умеют слышать на расстоянии. Тебе могли незаметно подсунуть ручку, зажигалку – да все что угодно.
Сью открыла сумочку и, покопавшись в ней, сказала:
– Все о'кей. Мои вещи слишком необычны, чтобы эти люди смогли их незаметно подменить. Я не пользуюсь ширпотребом… Ты хотел мне что-то сказать?
– Это всего лишь мои домыслы. Я страдаю бессонницей, как всякий алкоголик с солидным стажем, и последние две ночи перебираю возможные варианты того, что с ней могло случиться в Штатах. Вероятно, это похоже на бред, но ведь в этом треклятом ведомстве не все такие идиоты, какими их изображают в ваших книгах и фильмах. У моего деда, к примеру, мозги работали как компьютер.
– Кто-то знал, что Маше очень дорог Ян и наоборот, и решил…
– Да. Для того чтобы он согласился участвовать в этой странной… игре, ему могли дать понять, что жизнь дорогого ему человека зависит от него. Я немного знаю Яна – крепкий мужик и себе на уме.
– Я так и знала, – прошептала Сью. – Видимо, они следили за ней все эти годы.
– Ее отец был несколько раз в России. Мне говорил об этом дед. В последний раз он прожил здесь несколько лет, был женат на русской женщине…
– Опять! – вырвалось у Сью. – Но ведь он состоит в браке с моей матерью, которая в ту пору еще была жива.
Дима усмехнулся.
– Я тоже все еще состою в браке, хоть дед и сумел сделать чистый паспорт. Законы, которые действуют во всем мире, пробуксовывают у нас.
– Отец тоже пропал в Афганистане, – сказала Сью.
– Не семейка, а детективный роман. – Дима попытался улыбнуться, но вместо этого скривил рот в жалкой гримасе. – И Ванька там же. Дед, сын, внук…
Уголки его губ задергались, и Сью, испугавшись, что у Димы начнется истерика, поспешила сказать:
– Есть идея. Никогда в жизни не была в настоящем русском цирке. Если у тебя нет других планов на вечер, пожалуйста, будь моим спутником.
Она посмотрела на Диму слегка кокетливо, но в то же время не переступая определенной грани. Все-таки он был мужчиной, хоть и приходился ей родственником. Сью хотела сохранить с ним дружеские отношения.
Сейчас она как никогда верила в то, что найдет сестру.
– Она в Ленинграде… Там есть больница… Это психушка, но там отдельные палаты, которые охраняют, – слышала Сью в трубке срывающийся голос Димы. – Ты… ты ее найдешь. Адрес… – Он продиктовал его по-русски, и Сью намертво запомнила незнакомые слова и их последовательность.
– Я к тебе сейчас приеду, – сказала она, вскакивая с постели.
– Нет. Я звоню с вокзала. Я уезжаю. Далеко и надолго. Удачи тебе.
В трубке раздались гудки.
Если бы не они, Сью бы наверняка решила, что это сон. Она взглянула на часы. Четыре двадцать две утра. Синеву неба над городом уже слегка разбавил рассвет. Снова и снова она мысленно повторяла услышанный от Димы адрес, чувствуя интуитивно, что бумаге его доверить нельзя. Нужно позвонить Берни и сообщить о том, что она едет в Ленинград. Рука Сью непроизвольно потянулась к трубке. Нет, она сделает это потом, откуда-нибудь с улицы – наверняка ее люкс оснащен по первому классу всей этой мерзостью. Они не должны знать о ее намерениях.
Она позвонила Дэну Осборну и попросила его немедленно приехать.
– «Вещи не бери – купишь что надо там, – поучал ее Дэн. Они общались при помощи бумаги и шариковой ручки. Вслух произносили изредка «О, darling»[2] или «My baby».[3] Дэн даже поерзал задницей и несколько раз на ней подпрыгнул, и Сью с трудом удержалась от смеха. – Фирменный поезд отходит через два часа. – На отдельном листке бумаги он написал ей несколько телефонных номеров. – Это на всякий случай. Мои друзья. Портье скажешь, что едешь за город. Заплати за трое суток вперед. Надень джинсы и свитер, – поучал он ее в письменной форме. – Минимум косметики». – О, my sweety![4] – вдруг воскликнул он, комично скривив лицо. – «Тебя встретит Стив – я ему позвоню. С ним можешь быть откровенной».
…С вокзала они поехали по тому адресу, который сообщил по телефону Дима. Трехэтажное здание утопало в зелени и тополином пуху. Забор производил впечатление – высокий, оштукатуренный, покрашенный в желтый цвет.
– Здесь уже побывала группа правозащитников, – сообщил Стив. – После их визита выписали нескольких человек. Один из них через некоторое время убил молотком собственную жену.
– Забавно. В качестве кого ты собираешься меня туда провести?
Стив с нескрываемым удивлением и даже восхищением посмотрел на эту красивую, выхоленную женщину. Зачем ей это? Богатые американки, насколько ему известно, начинают интересоваться политикой лишь тогда, когда их мужья вступают в предвыборную кампанию.
– Послушай, Стив, – сказала Сью, положив руку на сгиб его локтя. – Это не каприз и не рекламный трюк. Я узнала, что за этим забором держат мою родную сестру. Я вызволю ее оттуда, чего бы мне это ни стоило.
Стив недоверчиво присвистнул.
– Она американская подданная? – поинтересовался он.
– И советская тоже. Думаю, ее никто не лишал гражданства.
– Запутанная история, – прокомментировал Стив, выслушав краткий рассказ Сью. – Имя твоего отца мне известно. Думаю, в КГБ знают, чья ты дочь.
– Черт с ними.
– Вот именно. – Стив задумался на минуту. – Слушай, а что, если ты закупишь партию одноразовых шприцов, катетеров и еще какой-нибудь ерунды и пожелаешь лично передать это в дар клинике? В России это сейчас в моде. Это называется «гуманитарная помощь». Они устроят тебе прием в кабинете главного врача, а ты, в свою очередь, захочешь ознакомиться с условиями, в которых содержатся больные.
– Она в отдельной палате. Под охраной. Думаю, меня к ней не поведут.
– Как сказать… – Стив задумчиво почесал подбородок. – Знаешь, я тут случайно познакомился с одной дамой – гипнотизером. Мы провели с ней прелюбопытнейший эксперимент, а именно: прошли в Смольный – это у них вроде мэрии, разумеется, с коммунистическим уклоном, – не имея на руках ни пропуска, ни даже какого бы то ни было удостоверения, – рассказывал Стив. – У меня создалось впечатление, что охранники – а мы на своем пути прошли через несколько дверей и дошли до покоев самого мэра – нас просто не заметили.
Какое-то время Сью внимательно смотрела на Стива, прищурив свои большие темно-зеленые глаза.
– Вези меня к ней, – потребовала она. – Сию минуту.
Женщина долго и, как показалось Сью, пристрастно рассматривала Машину фотографию. Потом перевела взгляд на посетительницу. Они были в комнате одни.
Стив предупредил Сью, что эта женщина читает мысли и для нее не существует языкового барьера.
– Будь осторожна, – напутствовал он ее. – Я не знаю, что за силы ею руководят. Честно говоря, рядом с ней я чувствую себя не в своей тарелке, но это так интересно.
«Она моя сестра, и я должна ее освободить, – думала Сью. – Я заплачу тебе. Много долларов. Сколько захочешь».
«Она не хочет, чтобы ее освобождали. Она боится, из-за нее может пострадать человек, которого она любит», – приняла Сью мысли гипнотизерши.
«Откуда тебе это известно?» – недоверчиво подумала Сью.
«Ты зря мне не веришь. Мне известно это от человека, которого она любит», – ответила мысленно женщина.
«Он пропал без вести. Возможно, его уже нет в живых».
«Это не так. Я в это не верю».
Сью почувствовала к женщине симпатию – она сама точно так же отказывалась верить в гибель сестры. Она подняла глаза и обратила внимание, что лицо женщины потеплело и на нем появилось некое подобие улыбки.
«Ты мне нравишься, – подумала Сью. – И ты обязательно мне поможешь».
«Да. Я ее освобожу».
«Сколько?..»
«Мне не нужны твои деньги. Ты поможешь мне уехать в Америку».
«Но…»
«Я научу тебя, как это сделать. Я не буду тебе обузой».
«Согласна, – не колеблясь, послала мысленный ответ Сью. – Когда?»
«Завтра. – Женщина встала. – Заезжай за мной в одиннадцать вечера».
– Это уже попахивает чертовщиной, – изрек Стив, когда Сью рассказала ему о своем свидании с гипнотизершей и их странном разговоре. – Что она забыла в Штатах?
– Думаю, в ее планы не входило сообщать мне это. Но, если она на самом деле освободит сестру, я согласна содержать ее до конца жизни, – сказала Сью.
– Я поеду с тобой. Дэн велел мне…
– Глупости, – решительно заявила Сью.
– Но я не могу пропустить такой восхитительный спектакль! – воскликнул Стив. – Вдруг у этой колдуньи все получится? Я тогда не прощу себе, что тебя послушал.
– Уговорил. Заедешь за мной в половине одиннадцатого, – распорядилась Сью. – А сейчас я должна позвонить Лиз. Она мне снилась сегодня маленькой… – Сью нахмурила брови. – Сестра тоже снилась мне маленькой перед тем, как исчезнуть. Нет, я не верю снам. – Она тряхнула головой. – Я позвоню Лиз тогда, когда Маша будет на свободе.
Они остановились в тени раскидистого дерева за квартал от клиники. На улице было довольно светло, однако ни людей, ни машин не было видно. Похоже, клиника располагалась в тупике.
Сью ни с того ни с сего вдруг захотелось спать. Она удобно вытянула ноги, откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза. Как вдруг услышала голос Стива:
– Нас заметили. Черт бы побрал эти белые ночи! Из ворот клиники вышли двое мужчин в штатском, но с весьма характерными физиономиями. Они направились прямо к машине.
– Черт! – прошептала Сью. – Кажется, влипли. Она обернулась и посмотрела на женщину. На губах гипнотизерши играла улыбка, в то время как лицо оставалось сосредоточенным, а между бровей залегла глубокая складка.
– У меня с собой видеокамера, – сказал Стив. – Эти типы больше всего на свете ненавидят лицезреть свои рожи на экранах телевизоров. Я свалял круглого…
– Они идут в нашу сторону, но смотрят мимо нас. – Сью стиснула локоть Стива. – Они нас не видят!
Мужчины прошли буквально в нескольких дюймах от машины. Сью даже уловила запах пота. Они о чем-то разговаривали между собой.
– О чем они говорят? – шепотом спросила Сью, когда мужчины удалились метров на десять в сторону шоссе.
– Один из них ругает жену президента за то, что она все время меняет наряды, а другой говорит, что она американская шпионка.
Сью прыснула со смеху.
– Я и не знала, что русские так похожи на американцев. Черт, а ведь эта Лидия настоящая колдунья.
Женщина открыла дверцу и вышла из машины.
«Оставайтесь здесь, – велела она им мысленно. – Я скоро вернусь».
«Я пойду с тобой! – Сью выскочила из машины. – И не пытайся мне помешать – у тебя это не выйдет».
Стив глядел вслед женщинам. Вдруг он вспомнил про камеру, выхватил ее из-под сиденья, желая запечатлеть начало этого сенсационного события, но обнаружил, что забыл зарядить кассету.
«Я знаю, где она. И она не спит».
«Почему ты ее не любишь?» – спросила она осторожно.
«Она отняла у меня того, кого я любила».
«Любовь – это болезнь. Люди не могут приказать себе любить или не любить», – возразила Сью.
«Ты можешь. Я уважаю тебя за это».
«Откуда ты знаешь про меня?» – изумилась Сью.
«Я сама еще не поняла, как у меня это получается».
Сью поежилась – по сей день ни одному человеческому существу не удавалось проникнуть так глубоко в ее душу. Впрочем, эту женщину человеческим существом можно назвать с большой натяжкой – она больше похожа на старую хищную птицу.
«Я постарела без любви, – сказала она, и Сью вздрогнула: она забыла, что Лидия ловит ее мысли. – Женщина без любви вянет. Твою сестру всегда любили мужчины. Она осталась молодой».
…Сью пришла в себя, очутившись в небольшой комнате, где горела настольная лампа. В ее ушах все еще стоял лязг отпираемых запоров, скрип тяжелых, обитых железом дверей.
На узкой койке, привинченной к полу или, скорее, росшей из него, сидела худенькая девочка-подросток с огромными сияющими глазами.
Сью сразу узнала в ней Машу.
– Я… я никуда отсюда не пойду, – сказала Маша, вставая и пятясь к зарешеченному окну. – Ты не сможешь меня заставить уйти отсюда.
Сью чуть не разрыдалась. Она вдруг поняла, что все ее усилия были напрасны.
– Пойми, они больше не имеют над ним власти! – воскликнула она, быстро взяв себя в руки. – Он исчез. Пропал. Сгинул. Растворился в воздухе.
– Ты врешь – он жив! – тихо, но с непоколебимой уверенностью произнесла Маша. – Лидия, – обратилась она к гипнотизерше, – он жив, правда?
Женщина улыбнулась, однако уже через секунду ее лицо приобрело сосредоточенное и даже злое выражение.
«Помоги мне увести ее отсюда, – умоляла она Лидию. – Я сделаю для тебя все что угодно».
«Я не могу с ней совладать, – отвечала ей та. – Она не поддается моему гипнозу».
Внезапно Сью сделала шаг вперед, положила руки на Машины плечи и сказала, глядя ей в глаза:
– Мы обязательно его найдем. Но для этого нужно, чтобы ты была свободна. Ты пойдешь сейчас с нами.
И Маша вдруг безропотно повиновалась. В коридорах было темно и пустынно, словно клиника вымерла. Им не встретилось ни одной души.
– Тут околачивались те двое, – сказал Стив, когда они вернулись к машине. – Похоже, запомнили мой номер. Да вон они снова идут.
Оба мужчины были пьяны в стельку. Создавалось впечатление, что они шли не по асфальту, а по голому льду, каким-то чудом сохраняя равновесие.
Стив показал Лидии большой палец, и она самодовольно усмехнулась.
– Вези нас на вокзал, – велела Сью. – Мы едем в Москву.
– Девушку хорошо бы одеть поприличней, – заметил Стив, с любопытством разглядывая Машу. – Жаль, что я забыл зарядить кассету, – оказывается, советские психушки мало чем отличаются от Освенцима или Бухенвальда.
– Я отказывалась от пищи, – сказала Маша. – Мне хотелось умереть. Но они мне не позволили… Да, я его видела, – откликнулась она на безмолвный вопрос Лидии. – Но он меня – нет. В той комнате было стекло, прозрачное с одной стороны. Мне позволили смотреть на него минут двадцать. Я уверена, он что-то чувствовал, хотя и не понял, в чем дело. Он был очень нервный и какой-то рассеянный, и человек в военной форме кричал на него и стучал кулаком по столу. Потом они показали ему мои фотографии, – старые, сделанные еще в России, американские и теперешние. Я не знаю, что они ему сказали – мне надели наушники, в которых звучала музыка. Он повел себя совсем по-другому, когда увидел мои последние фотографии – я на них уже была очень худая. Потом меня увели. Мне сказали, будто его послали с особым заданием в Афган. Они все время твердили, что я вовсе не пленница и это не тюрьма, – просто им очень дорога моя жизнь.
– С Лиз все в порядке. Они с… Берни в настоящий момент на Тенерифе. – Сью с опаской покосилась на сестру, но та никак не прореагировала на ее сообщение. – Мы сходим в наше посольство в Москве, и сам мистер Мэтлок займется твоей отправкой на родину. Пускай они только попробуют…
– Моя родина здесь, – сказала Маша, – и я никуда отсюда не поеду.
– Это безумие! – воскликнула Сью. – Мы еще вернемся к этому разговору – у нас впереди целая ночь.
«Она на самом деле никуда не поедет, – уловила Сью сигналы Лидии. – Она устала, и ей нужен покой».
– Но они не дадут ей покоя! – бушевала Сью. – Они снова схватят ее. Они ее сгноят, уничтожат. Они…
– Они меня не найдут, – тихо сказала Маша. – Я спрячусь и буду ждать своего часа. Я обязательно дождусь своего часа.
ПРОСТИ, ЛЮБИМАЯ
Лиззи обошла все места, где, как она знала, у Джимми были друзья, но никто ничего о нем не знал. В сумерках она искупалась в океане. Она заплыла за волнорез, на котором Джимми поцеловал ее в первый раз.
С тех пор прошла целая вечность.
Она перевернулась на спину, ощущая, как по щекам текут слезы. Сквозь них она видела кривой лунный лик, который, казалось, над ней насмехался. Она лежала на гладкой, мерно вздымающейся поверхности океана и думала, что ей делать. Она знала, знала твердо, что, если Джимми погиб, она тоже не будет жить.
– Но сначала я отомщу тем, кто его…
У нее язык не повернулся произнести это страшное слово.
Внезапно она нырнула и быстро поплыла к берегу. Она вдруг поняла, что Джимми жив.
В доме было темно, значит, Берни еще не вернулся. Это хорошо, подумала она. Лиззи нормально относилась к Бернарду и даже, вероятно, его любила. Но она не доверяла ему до такой степени, как доверяла Сью.
– Будешь ужинать? – спросила мадам Дидье. – Я приготовила салат из тропических фруктов, эскалопы по-венски…
– Нет, – перебила ее Лиззи. – Я хочу спать. Она через силу стала подниматься по лестнице.
– Звонил мистер Конуэй, – докладывала Дидье, стоя внизу. – Он прилетит завтра вечером. От мисс Тэлбот нет никаких вестей.
Лиззи переступила порог своей комнаты, щелкнула задвижкой, повалилась на кровать и разрыдалась, предусмотрительно спрятав голову под подушку.
Она не слышала, как скрипнула дверца шкафа. Она вдруг почувствовала на своих плечах тяжелые горячие ладони и стремительно перевернулась на спину.
Джимми сидел на краю кровати, прижимая к губам палец. Его глаза блестели от слез и счастья. Лиззи показалось, будто внутри у нее что-то с болью оборвалось. Она бросилась в его объятия и громко простонала.
Они сидели молча несколько минут. Наконец Джимми прошептал:
– Я так и знал, что ты не поверишь в мою измену. Я бы не смог изменить тебе, Элиза.
– Знаю, – сказала она куда-то ему под мышку.
– Нет, ты ничего не знаешь. Господи, у меня со вчерашнего дня крошки во рту не было. Живот судорогой сводит.
С трудом оторвавшись от Джимми, Лиз вскочила и бросилась к двери.
Мадам Дидье смотрела в своей комнате телевизор. Лиз взяла плетеную корзинку для зелени и фруктов и наполнила до краев всем самым вкусным. Она не забыла прихватить ножи с вилками, два бокала и бутылку вина.
Они пировали в оплетенной розами лоджии. Лиззи поставила кассету с записями испанских песен, которые так полюбила на этом удивительном острове. Когда все было съедено и выпито, их вдруг с невероятной силой потянуло друг к другу. Лиз казалось, что с каждым новым оргазмом она все выше и выше возносится над землей. Они заснули на циновке, переплетенные неразрывно руками, ногами, туловищами.
Проснувшись среди ночи, Джимми долго глядел на зыбкую цепочку далеких огней Punta Salema,[5] потом перевел взгляд на взлохмаченный затылок спавшей у него на плече девушки. Лиззи вздохнула, шевельнулась и прижалась к нему еще тесней.
– Я должен тебе кое-что рассказать. – Шепот Джимми был похож на шелест ветра в листьях.
– Да, – отозвалась она. – Если хочешь.
Он провел языком по ее лбу, щекам. Она вздохнула – это было удивительное ощущение.
– Я знаю, ты не отвернешься от меня после того, что я тебе расскажу.
– Я не смогу без тебя, – сказала она. – Это не от меня зависит.
– У меня на самом деле было много женщин. И мне нравилось делать с ними все, что я хотел. Они любили меня и во всем мне подчинялись. Но это было словно в другой моей жизни, понимаешь?
– Понимаю, – отозвалась она. – Мы такие, какими стали, не можем отвечать за то, что было с нами в наших других жизнях.
– У тебя была только музыка, а я…
– Ты не боялся делать то, чего тебе хотелось, а я боялась. Я мечтала о ласках, поцелуях, представляла себя в объятиях мужчины. Но я настоящая трусиха и сроду бы не осмелилась подойти первой к тому, кто мне нравится.
– Ты замечательная девчонка, – прошептал Джимми ей в самое ухо. – Моя и только моя. Я тоже только твой. До самой смерти.
Они слились в долгом поцелуе. Лиз снова захотелось заняться любовью, но Джимми, вздохнув, сказал:
– Сперва я расскажу тебе то, что хотел, идет? Она положила голову ему на живот и свернулась калачиком. Его фаллос был так близко, и она улавливала исходившие от него магические волны.
– Я ведь не знал, что встречу тебя… Когда отец исчез, мать уехала к себе на родину, в Марокко. Она хотела увезти туда меня, но я сбежал в день отъезда. Понимаешь, я люблю этот остров и не смог бы жить в горах, вдали от океана. Тут круглый год тепло, всегда есть работа и проблем с едой и жильем у меня не было. Когда я подрос, на меня стали заглядываться женщины. Сюда приезжает много богатых леди. У них есть все, кроме любви. Одна из них затянула меня в постель и сделала то, что хотела. Помню, я доставлял ей на виллу свежую зелень, фрукты, овощи. Она давала мне много денег и была ласкова, как мать. Она была американка… Понимаешь, мне было хорошо с ней – я очень тосковал по матери, по ее ласкам. Она говорила, что я хороший, умный мальчик, что напоминаю ей сына, который пропал без вести во Вьетнаме. Еще она говорила, будто это не грех заниматься любовью, а если и грех, она весь его берет на себя и будет вымаливать у Бога прощения. Потом она внезапно уехала. Оставила мне записку, что едет во Вьетнам искать своего сына. Не знаю, нашла она его или нет. Я бы хотел, чтоб нашла… Теперь уж я сам стал обращать внимание на женщин, – продолжал свой рассказ Джимми. – Я попробовал заниматься любовью со своими сверстницами, но мне не понравилось – девчонки показались мне неуклюжими и холодными. Потом я познакомился с итальянкой. Эта леди всегда ходила одна. На нее обращали внимание мужчины – она была очень красивая и еще не старая. Как-то она села за крайний столик над обрывом. Курила и смотрела на океан. Я спросил, не хочет ли она пива или вина. Она заказала кружку пива.
На следующий день она пришла снова и оставила мне большие чаевые. Так продолжалось несколько дней. За все это время мы с ней обменялись десятком слов, не больше. Потом она не пришла, и я весь день поглядывал на тот столик на отшибе, за который она обычно садилась. Но он почти всегда пустовал – большинство людей предпочитает жаться друг к другу и быть подальше от стихии. Туда, где стоял тот столик, иногда долетали брызги волн. Она появилась, когда я заканчивал работу. Вечером наш бар превращался в ресторан, и посетителей обслуживали молоденькие смазливые девицы, одетые а-ля торреро. На ней было длинное платье, волосы уложены в высокую прическу. На нее смотрели все мужчины, но она шла прямо ко мне.
«Я хочу, чтобы мы с тобой поехали куда-нибудь потанцевать, – сказала она. – Надеюсь, ты не очень устал за день?»
Она повезла меня в дорогой ресторан на берегу океана, и мы чуть ли не до утра протанцевали на открытой площадке. Оба напились – со мной это случилось впервые в жизни, – и женщина, ее звали Изабелла, рассказала, что ее бросил муж, что она хотела покончить с собой, но в последний момент что-то ее удержало от рокового шага. Изабелла жила в отеле неподалеку. Она сказала, я могу у нее переночевать. Там стояла широченная кровать. Я заснул с ходу. Когда я проснулся, она сидела на кресле в лоджии совершенно голая и курила. Солнце только-только показалось из-за океана.
«Оставайся у меня, – сказала Изабелла. – Потом мы вместе уедем в Неаполь. Если захочешь, навсегда».
Мы занимались любовью до изнеможения. Изабелла рассказала мне, что ее муж в этих делах слабак, что у нее был любовник, но она все равно очень любила мужа – между ними была прочная духовная связь еще с их детства.
«Я его больше не люблю, – как-то сказала она. Помню, мы обедали в постели. – Он развратник. Потому рано стал импотентом. Природа ему отомстила. Ты знаешь, что такое развратник?» – спросила она меня.
Разумеется, я этого не знал. Да и откуда? Она стала объяснять мне, перемежая свой рассказ ругательствами на разных языках.
«О, я ненавижу развратников, – говорила Изабелла. – Это они втоптали в грязь самое светлое, что может быть на свете – любовь, превратив ее в пошлость и мерзость. Они не знают и не могут знать, что такое любовь, – они путают это понятие с похотью. Но природа жестоко мстит им за это. Я знаю, что такое любовь. Я много страдала, я заслужила, чтоб меня любили. Джимми, ты должен меня любить».
Я думал, что по-настоящему люблю эту грустную чувственную женщину.
У нее оказалась роскошная квартира в Неаполе, все стены которой были завешаны картинами. Изабелла сама великолепно рисовала. Она заставила меня читать книги, учиться, и я этим увлекся. Она не ограничивала мою свободу, завела на мое имя счет в банке. Ей доставляло удовольствие обучать меня искусству любви, Изабелла увлекалась Камасутрой – индийской философией любви. Она казалась мне замечательной женщиной, я считал ее чуть ли не своей ровесницей, пока не узнал случайно, что ей уже сорок девять лет. Тогда я стал понимать, почему она не каждую ночь позволяет мне спать в ее кровати, почему всегда поднимается раньше меня – приводит себя в порядок, делает гидромассаж.
Вскоре я поступил в университет. Мне легко давались науки, но в учебе я не видел цели. Кроме того, я очень скучал по океану.
Потом я застал Изабеллу в постели с каким-то художником. Она ничуть не смутилась и предложила мне заняться сексом втроем. Я отказался.
«Я тоже стала развратницей, – сказала в тот вечер за ужином Изабелла. – И я больше не верю в любовь. Я старею с каждым днем, а ты делаешься все красивей и желанней. Наступит день, когда ты бросишь меня. Я не перенесу этого. Уходи сейчас. Немедленно. – Она вдруг затопала ногами, лицо ее покраснело. – Мне плевать, что станет с тобой, потому что мужчинам всегда было наплевать на то, что будет со мной. И ты всего лишь один из них».
Я ушел. Устроиться на работу оказалось почти невозможно, да и я здорово разленился за эти два года. Меня приютила девушка из моей группы – она снимала небольшую квартирку и вечерами подрабатывала на панели. Она познакомила меня со своей состоятельной подругой. Меня стали приглашать на уикэнды на загородные виллы, платили за это деньги. Я продолжал посещать университет, хотя учеба меня интересовала мало.
Однажды я взобрался на Везувий и увидел оттуда морские дали. Передо мной, я знал, было всего лишь море, но оно напомнило мне океан. Отныне я мечтал об одном – вернуться на мой остров. К тому же я вдруг понял, что Изабелла была права: природа мстит за разврат. Я чувствовал, как с каждым днем притупляются ощущения. Запахи и те я теперь чувствовал не так остро, как раньше.
Я собрал деньги на билет и вернулся сюда. Дело было осенью, работу я найти не смог. Они попросили отвезти кое-что на Мальорку, оттуда меня снабдили контрабандным жемчугом. У меня появились деньги, жилье, я купил машину. Потом встретил Айру…
Он почувствовал, как беспокойно шевельнулась Лиз.
– Понимаешь, я видел в ней свое спасение. Ведь я все больше и больше погружался в разврат, стал пить. Я думал, стоит мне жениться, и я стану другим.
– Она твоя жена? – тихо спросила Лиззи.
– Да. Но… Понимаешь, сейчас это уже не имеет никакого значения. Мы расстались почти год назад. Я понял, что жить с женщиной, не любя ее, это тоже своего рода разврат. Даже если эта женщина твоя жена. Я ушел от нее, нашел честную работу. Я много передумал за эти месяцы полного одиночества и стал совсем другим. Как будто сменил кожу. И все внутри. И вдруг встретил тебя…
Лиззи тихонько стала ласкать языком пупок Джимми. Она почувствовала, как внутри его живота запульсировала кровь.
– Они пришли за мной, когда я спал на пляже. Я был такой расслабленный после твоих ласк, – говорил Джимми. – Теперь всем заправляет Айра. Она стала очень богатой. И она хочет, чтобы я к ней вернулся. – Он громко простонал. – Сам не знаю, как мне удалось убежать. Но я все время видел перед глазами твое лицо и чувствовал, что ты меня ждешь.
– Любимый… Они тебя били? – спрашивала Лиззи, нежно поглаживая рукой его тело.
– Да… То есть нет. Нет, конечно. Просто Айра хотела, чтобы мы с ней немедленно занялись любовью. Но у меня все равно бы ничего не получилось. Они хотели увезти меня на Лансароте, но я спрыгнул в воду. К счастью, она была мутная. Я доплыл до волнореза и спрятался в валунах. Я видел, как ты шла со стороны Авенида Суэциа. Мне так хотелось окликнуть тебя, броситься навстречу!..
– Что будем делать? – прошептала Лиззи, нежно обнимая возлюбленного за плечи.
– Нужно бежать. Немедленно.
– Куда?
– В Марокко. Мать и братья спрячут нас. Они живут в горном селении.
– Мы можем уехать в Штаты, – сказала Лиззи.
– Нет. – Джимми тяжело вздохнул. – Там ты бросишь меня.
Лиззи тихонько рассмеялась.
– Чепуха. Скоро вернется Сью и придумает, как нам незаметно слинять в Штаты.
– Сью – это та красивая леди? А если она не захочет нам помочь? Вдруг она попытается нас разлучить?
– Глупый. Она совсем не такая. Она все понимает.
– Я тебе верю. Но… Давай лучше уедем в Марокко!
– Давай, если хочешь. Но нам все равно никак не обойтись без помощи Сью.
– Я попрошу друзей. У меня есть друг – капитан теплохода. Я однажды выручил его. Элиза…
– Да?
– А что ты там будешь делать?
– Я буду с тобой.
– Да, но… ты привыкла к роскоши. И ты не сможешь прожить без своей музыки. Там, где живут моя мать и братья, думаю, никогда не видели рояля. Элиза, я не хочу, чтобы из-за меня…
Он вдруг стал покрывать поцелуями ее лицо, волосы, плечи.
– Мы всегда будем вместе, – прошептала она. – Мне рассказала о тебе музыка. У меня есть ты, и мне больше ничего не нужно, Джимми.
Он вдруг резко приподнялся на локтях и сказал:
– Я не позволю, чтобы ты превратилась… – Он стиснул кулаки. – У меня есть ты и океан. Там я потеряю вас обоих.
Они сидели обнявшись и смотрели на начинающее бирюзово бледнеть небо. Вдруг Лиззи тихонько рассмеялась.
– Это напоминает мне сказку, которую когда-то рассказывала мама. Кажется, это была русская сказка. Всадник остановился возле камня, от которого начиналось несколько дорог, в раздумье, какую из них выбрать. На этом камне было написано: «Направо свернешь – убитым будешь. Налево – коня потеряешь. Прямо пойдешь – убьют и тебя и коня». Не помню, какую он выбрал дорогу. Помню только, что этот человек не сдавался на милость судьбы, а боролся с ней. Мы с тобой тоже будем бороться, правда?
День они провели в постели. Лиззи спустилась вниз, когда услышала, как мадам Дидье уехала на своем «фиате» за покупками. Вместе с ней уехал и Виктор, охранник, – он помогал ей. Они заперли входную дверь и включили сигнализацию. Разумеется, Лиззи могла отпереть ее изнутри, но она не стала этого делать. Она сварила кофе, приготовила тосты, выжала сок из апельсинов. Она делала все это впервые в жизни и чувствовала себя очень счастливой. Прежде чем подняться с подносом к себе, она написала мадам Дидье записку – по-французски и очень крупными буквами – и оставила на столе в кухне: «Я вчера перекупалась и перегрелась на солнце. Позавтракаю у себя и никуда не пойду. Лиз».
Они больше не строили планов на будущее – спали, творили любовь, просто лежали, прижавшись друг к другу. Они слышали, как мадам Дидье ходила по дому, наводила порядок. Виктор, видимо, как обычно, сидел под навесом у входа и читал газету. Они с мадам Дидье не могли разговаривать, ибо не понимали языка друг друга.
Потом Лиз слышала, как мадам Дидье разговаривала по телефону с Берни. Она поняла, что Берни звонит из местного аэропорта Tenerife Sur.
– Я боюсь его, – вырвалось у нее.
– Почему? Ведь он муж твоей тети, да? – спросил Джимми.
– Да. Но он… Понимаешь, я не знаю, как он может себя повести.
– Ты права. Белые ведут себя иной раз так странно.
– Белые? А разве ты не белый?
– Нет. – Джимми покачал головой. – Отец мамы, мой родной дед, был из Сенегала. Я-то получился белым, а вот братья… Они все темнокожие и очень красивые.
– О, Джимми! – Лиз взяла его руку и поднесла ее к губам. – Как же ты мне дорог, Джимми!
Вскоре после приезда Бернард постучался в комнату Лиззи. Девушка вздрогнула, хотя давно ожидала этого стука.
– Я сейчас спущусь к тебе, – сказала она нарочито хриплым, сонным голосом.
Она продела руки в рукава ярко-красного шелкового пеньюара и прошептала в самое ухо Джимми:
– Я скоро. Не скучай. И ради Бога не вставай с кровати – этот проклятый дом будто из фанеры.
Лиззи провела щеткой по волосам, брызнула на шею туалетной водой: она знала, Берни очень чувствителен к запахам и вполне может учуять посторонний – мужского тела.
Бернард был хмур и явно не в духе. Он пил виски, полулежа в шезлонге на балконе. Лиззи отметила невольно, что у него на макушке начали редеть волосы, – раньше она почему-то не обращала на это внимания. Бернард кивнул Лиззи, улыбнулся одними губами. Вдруг он выпрямился и впился в нее глазами.
– В чем дело? – удивилась она.
– Ты… так изменилась. Ты расцвела за эти несколько дней.
– Я много купалась и загорала, – сказала Лиззи, машинально присаживаясь на подлокотник его шезлонга, – так у них было заведено очень давно.
– Вижу. – Он улыбнулся девушке и обнял ее за талию. Это тоже было у них принято, и Лиззи никогда не реагировала на этот жест. Сейчас она невольно вздрогнула.
– Я сделал тебе больно? – поинтересовался Берни.
– Нет… Да. У меня слегка обгорела спина, – нашлась Лиззи.
– Рояль молчит. М-м-м, от тебя так чудесно пахнет. Это…
– «Obsession»,[6] – сказала Лиззи. – Нравится?
– Очень. – Берни не сводил с девушки глаз. – А с тобой тоже приключилось это наваждение? – в упор спросил он.
Она резко встала и повернулась к нему спиной.
– Я тебя не понимаю, – пробормотала она.
– Ладно. Оставим этот разговор, – примирительно сказал Берни. – Я попросил тебя спуститься, чтобы сообщить важную новость.
Она не переменила позы и даже не повернула в его сторону головы.
– Вчера мне звонила Сью. – Берни понизил голос до шепота. – Она сказала, что нашла ее.
Лиззи резко обернулась, посмотрела на него испуганно и, как показалось Бернарду, затравленно.
– Ты не рада? – удивился он. – Или ты так поглощена чем-то другим, что все остальное не имеет для тебя значения?
– Наверное… – Девушка опустила глаза. – Нет, я не могу этого объяснить.
Бернард встал, приблизился к ней и, взяв в ладони ее лицо, попытался заглянуть в глаза.
– Лиз, детка, прошу тебя об одном: будь осторожна. С тех пор как позвонила Сью, за мной стали следить. Они теперь знают, где нас найти. Уверяю тебя, эти люди способны на все.
– Кто они? – спросила Лиззи, высвобождаясь из ладоней Бернарда.
– Может быть, русские, а может, и кто-то еще. В этом мире все перепуталось. Одно я знаю точно: мы должны держать язык за зубами. В противном случае…
– Что? – Лиззи прищурилась и посмотрела на него в упор. В ее глазах не было и тени страха.
– Все что угодно. Мир кишит террористами. К нам могут подослать, под видом садовника, горничной, зеленщика и так далее, профессионального убийцу. Лиз, детка, прошу тебя: посиди несколько дней дома. Искупаться можно и в бассейне.
– Я и так последнее время сижу дома, – неожиданно резко сказала Лиззи. – Прости, я, кажется… ну да, мне не по себе. – Она передернула плечами. – Обещаю тебе быть осторожной. Спокойной ночи, Берни.
– Ты не хочешь поужинать со мной? – удивился Бернард.
– Нет. Мне хочется остаться одной.
– Да, разумеется. Что ж, спокойной ночи. Лиззи уже была на пороге гостиной, когда он окликнул ее. Она вздрогнула.
– Да? – отозвалась она и повернула к нему бледное, растерянное лицо.
– Я понимаю, тебе сейчас нелегко. Но увидишь: все образуется и встанет на свое место. У Сью умная голова. Лиз?
Он смотрел на нее испытующе и, как ей показалось, слегка иронично.
– Да, Берни?
– У тебя есть друзья среди местных парней?
– Думаю, что да.
– И тот, в кого ты влюбилась, тоже из местных? Ее лицо жалко сморщилось. Какое-то мгновение казалось, она вот-вот расплачется. Как вдруг она стиснула кулаки и, сделав шаг в сторону Берни, закричала срывающимся от волнения голосом:
– Это не твое дело, слышишь? Я не спрашиваю, с кем ты спал в Ницце и в Париже. Какое ты имеешь право задавать мне такие вопросы?
– Согласен: не имею. Успокойся. – Он потрепал ее по плечу. – Просто я люблю тебя, детка. Иди спать и не думай ни о чем дурном.
Поднявшись к себе, Лиззи обессиленно повалилась на кровать и громко всхлипнула.
– Я все слышал, – прошептал ей в самое ухо Джимми. – Я был в лоджии. Ты такая умница, Элиза…
Ночью они плавали в бассейне. Это была идея Лиззи, и Джимми с восторгом ее поддержал.
Они отключили во дворе освещение: так делала Сью, любительница ночных купаний. Лиз знала: Виктор напился пива и может среагировать лишь на вой сирены, который непременно раздастся, стоит кому-то сунуться во двор, – на ночь всегда включали электронную охрану. Потом они долго творили любовь на траве под звездами, чувство опасности обостряло наслаждение.
– Ты не девчонка, а настоящий корсар, – сказал Джимми. – И в то же время такая нежная и настоящая леди. Господи, что я несу – я совсем одурел от счастья.
– Будто в последний раз, – задумчиво произнесла Лиззи.
Он больно стиснул ее талию.
– Не смей так говорить, слышишь? Я побью тебя, если ты скажешь так еще раз. Повторяй за мной: рассеет ветер в океане прах глупых слов моих…
– Рассеет ветер в океане… – послушно повторяла Лиззи.
– Они пойдут на дно, как камни…
– …как камни.
– Они лежать там будут неподвижно в холодной синей глубине. А мы любить друг друга будем. Мы поклянемся, что никто другой отныне не посмеет прикоснуться… Нет, последнюю фразу не повторяй. Не надо, – вдруг сказал он.
– Скажу. – Лиззи повторила ее два раза. – Почему ты не хотел, чтобы я ее повторила?
– Я верю в силу слова.
– Я тоже.
– Но ты все равно должна считать себя свободной. Он грустно усмехнулся.
– Ты тоже. – Она едва сдержала слезы обиды. – Глупый! – вдруг воскликнула она. – Ты сейчас подумал о том, что тебя могут…
Лиззи зажала рот обеими ладонями, чтобы удержать это страшное слово.
– И жизнь, и смерть – это все Космос, вечный океан. Я знаю это точно. Я ничего не боюсь. И ты не должна бояться, любимая.
Пластиковая бомба оказалась в корзине с чистым бельем из прачечной. Мадам Дидье вышвырнула ее в раскрытое окно. Бомба не взорвалась. Прибывшая через десять минут полиция обнаружила, что вместо взрывчатки в нее насыпали обычный песок. Бернард не позволил полицейским обыскивать дом и допрашивать прислугу.
– Это частное владение, – сказал он толстощекому капитану в насквозь промокшей от пота белой рубашке. – Мы привыкли доверять своей прислуге.
– Сеньор, каждого человека можно купить. В этот раз вас хотели всего лишь напугать. Не думаю, чтобы это была шутка. Уверен, вы тоже так считаете.
– Черт возьми, вы правы. Но у меня на этот счет свое мнение. Вы можете сделать так, чтобы ваши люди почаще наведывались в этот квартал?
– Машина с радиотелефоном будет патрулировать день и ночь.
И капитан сообщил Бернарду, как связаться с патрулем.
Он сказал на прощание:
– Мы разыскиваем одного местного парня. Он пырнул ножом своего бывшего сообщника и слинял. Обычные бандитские разборки. Думаю, к вам это не имеет никакого отношения.
– …Это ложь! Послушай, Элиза, это ложь! – воскликнул Джимми, слышавший разговор Бернарда с полицейским. – Они сами пырнули этого безмозглого Саида в его толстую ляжку, чтобы натравить на меня полицию. Уверен, Айра дала полицейским мою фотографию.
– Как она могла! Ведь она тебя любит!
– Ты прекрасна в своей наивности, моя милая Элиза. Женщина любит мужчину до тех пор, пока не осознает, что он для нее безвозвратно утерян. С этой секунды она начинает его ненавидеть. Я не могу осуждать Айру за это.
– Выходит, они знают, где ты, – прошептала Лиззи.
– Да. И я очень боюсь за тебя. Послушай, я…
– Нет! – почти выкрикнула она. – Ты этого не сделаешь! Я убью тебя и эту Айру! – У Лиззи так блеснули глаза, что Джимми понял: она не шутит. – Знаешь, я поговорю с Берни – он что-нибудь придумает.
– Дорогая моя девочка, твой Берни – это почти то же самое, что моя Айра. Он любит тебя отнюдь не родственной любовью. Хотя сам себе боится в этом признаться. Я слышал, как он с тобой разговаривал.
– Наверное, ты прав, – задумчиво произнесла Лиззи. – Скорей бы вернулась Сью.
В тот вечер они не творили любовь – они лежали крепко обнявшись, думая каждый о своем. Лиззи мучительно пыталась найти выход…
Она не знала, что Джимми его уже нашел.
Она задремала, обессиленная безысходностью. Он осторожно выскользнул из ее объятий, постоял с минуту возле кровати, любуясь спящей девушкой. И решительно шагнул к лоджии.
Он без особого труда спустился вниз – в полуметре от лоджии росла финиковая пальма. Джимми был в одних плавках и босой. Его мускулистое загорелое тело матово поблескивало в свете фонаря над входной дверью.
Он отполз в тень олеандровых деревьев. Он знал, как обращаться с проводкой сигнализации – на это ушло не больше трех минут. Перемахнув через забор, Джимми очутился на темной пустынной набережной. Океан с ревом дохнул ему в лицо, и он с ним мысленно попрощался.
Он шел по набережной, шатаясь, словно пьяный. Он заставлял себя идти вперед, хотя все его существо осталось навечно в мягких, теплых объятиях этой удивительной полуженщины-полуребенка – Элизы.
Ему хотелось навечно отдаться океану, но он боялся, что пока волны вынесут на берег его труп, бывшие друзья сделают что-нибудь страшное с Элизой. Он знал: Бернард не в состоянии защитить ее от них.
Ему хотелось крикнуть: «Я здесь! Возьмите меня!» – но он наверняка разбудит Элизу… Сами заметят, думал он. Еще лучше, если это случится подальше от ее дома. Пускай спит…
Он вдруг покрылся холодным потом, представив вдруг, что почувствует Элиза, когда поймет, что он сдался Айре. Но пусть лучше она возненавидит его, чем увидит его труп на тротуаре с дыркой в голове, рассудил он.
Он понял, что Элиза не сможет возненавидеть его, что бы он ни сделал, когда уже было слишком поздно. Он машинально закрыл лицо ладонями… От яркого света фар глазам стало больно.
– Это он! – услыхал Джимми. – Руки за голову! Из машины выскочили двое полицейских. Один из них наступил каблуком своего ботинка на большой палец его левой ноги и сорвал ноготь.
Раздался выстрел, звук которого на мгновение заглушил рев прибоя. Оба полицейских очутились возле его ног. Один из них выругался – он никак не мог расстегнуть кобуру.
Джимми наблюдал все это как бы со стороны и немного сверху. Он видел летящую к нему Элизу. Она была похожа на большую бабочку, привлеченную ярким светом. Когда она обхватила его руками и прижалась к нему, обволакивая мягким красным шелком своего пеньюара, он испытал лишь досаду оттого, что не удалось осуществить задуманное. «Она увидит мою кровь и никогда не сможет забыть о ней», – промелькнуло в голове.
На территории стройки в темноте шевелились фигуры. Полицейские их не замечали – они были испанцами, а из европейцев редко кто обладает способностью видеть в темноте. Ему казалось, он слышит торжествующий смех Айры – правда, в этом он не был уверен.
– Отдайте его нам, иначе мы перебьем вас всех! – послышалось со стороны волнореза. Джимми узнал этот голос – он принадлежал его бывшему другу Армандо, который надул его в афере с жемчугом.
– Я должен идти, – сказал он, обращаясь не к Элизе, а в темное пространство между ним и океаном. – Я так решил.
– Я пойду с тобой, – сказала она обыденным голосом, словно разговор шел об обычной прогулке.
– Можешь прихватить с собой и девчонку! – крикнул Армандо. – Эй, быстро к забору!
Пуля просвистела в нескольких дюймах от них, и Джимми обхватил руками возлюбленную, пытаясь со всех сторон заслонить ее собой.
– Пошли, – сказал он. – Эти ребята не любят шутить.
Они были уже возле забора, когда раздался вой сирен и на набережную одна за другой вылетели три полицейские машины.
– Ни с места! – раздался приказ в мегафон. – Вы окружены.
Послышался хриплый смех. Это смеялась женщина.
Все произошло за несколько секунд. Полицейские подняли беспорядочную пальбу. Джимми и Лиз стояли, тесно прижавшись друг к другу, как вдруг Лиз почувствовала, что Джимми стал оседать на землю.
Лиз стала оседать вместе с ним – плавно, медленно, целиком подчиняясь его воле.
Ей удалось сделать так, что он упал на нее и совсем не ударился. Она же ударилась спиной и головой о камни, но не ощутила боли. У нее закружилась голова. Показалось на какое-то мгновение, что они сейчас начнут творить любовь. Но потом она очнулась и дико закричала. Она лежала, прижав к своей груди голову Джимми, и громко кричала.
– Стойте! Прекратите стрельбу! Вы убьете ее!
Это был голос Берни. Она слышала его сквозь свой собственный крик.
И снова засмеялась эта женщина. Потом громко выругалась и сказала что-то на незнакомом Лиззи языке. Лиззи ощутила, что вся она мокрая. Умолкнув, она приподняла голову и, превозмогая подкатившую к горлу тошноту, попыталась заглянуть в глаза лежавшему у нее на груди Джимми.
– Нет! – сказала она, увидев их.
И потеряла сознание.
Сью прилетела через сутки.
Берни встречал ее в аэропорту. Ей показалось, он постарел на двадцать лет.
– Едем к ней, – сказала Сью, вместо приветствия крепко сжав его руку.
– Она без сознания.
– Все равно. Ты в состоянии вести машину?
– Пожалуй, да, – не сразу ответил он. – Сью… Мне кажется, я виноват в случившемся, я…
– Поговорим в машине, – перебила его Сью и решительно направилась к выходу.
Ночь близилась к концу. Дыхание океана нежно ласкало кожу. Воздух был совсем другой, не тот сухой, обжигающе колючий воздух России.
– Она осталась там, – сказала Сью, стараясь не смотреть на Берни. – За ней приехал Анатолий, ее сводный брат. Мне показалось, он того… Они очень обрадовались друг другу. – Она затянулась сигаретой. – Они все время плакали, – тихо продолжала она. – Русские, мне кажется слишком много плачут. – Она вспомнила женщин, стоящих на Красной площади с фотографиями погибших либо пропавших без вести в Афганистане сыновей. Их щеки были мокрыми от слез. – Он увез ее в тот же день туда, где прошло ее детство. Нет, КГБ оставит ее в покое, – сказала Сью, предвосхищая вопрос Берни. – Дэн сказал, они боятся, когда подобные дела становятся достоянием гласности. Сейчас их пресса вроде вышла из-под контроля. – Сью вдруг переменила тему: – Ты думаешь, она поправится?
– У нее легкое сотрясение мозга, больше ничего, – ответил Берни.
– Я о другом. Боюсь, ее чувство к этому парню было так велико и безоглядно… – Сью замолчала и отвернулась. – У меня не было никакого дурного предчувствия, когда я уезжала отсюда, – тихо сказала она. – Мне казалось, на этом острове с человеком не может случиться ничего плохого. Какая наивность!..
– У Джимми было темное прошлое, – сказал Берни. – Он занимался контрабандой и…
– У кого из нас оно было светлым? Я была профессиональной проституткой. Возможно, я бы осталась ею до смерти, если бы… Да, если бы не погиб кэп. Странно: когда он был жив, я могла иметь дело с десятками мужчин и не чувствовать при этом никаких угрызений совести. – Сью грустно усмехнулась. – Его не стало, и я превратилась чуть ли не в святошу. Если бы не жажда отомстить за сестру… – Сью тяжело вздохнула. – Знаешь, она даже не спросила про Лиз. Она все время говорила об этом Яне. А его, вероятно, уже нет в живых. Черт, эта колдунья собирается искать его в Америке. Запутанная история. Какое-то средневековье. Я никогда раньше не верила в гипноз и прочий бред, но теперь… – Она снова повернулась к Берни. – Лиз знает, что этот парень погиб?
– Она зовет его в бреду. Она потеряла сознание, когда поняла, что его убили. С тех пор она в себя не приходила.
– Где он? – вдруг спросила Сью.
– В морге в Санта-Крус. Его жена вызвала мать и братьев. Они живут в Марокко.
– Жена? – удивилась Сью. – Господи. Бедняжка Лиз.
– Она уверена, его убил бывший сообщник – побоялся, что парень расскажет полиции про какие-то делишки в прошлом. Говорят, последнее время Джимми вел вполне благопристойный образ жизни.
– Я хочу увидеть его, – сказала Сью. – Ты можешь это устроить?
Он посмотрел на нее с интересом.
– Мне кажется, да.
– Прямо сейчас. До того, как я увижу Лиз.
– Послушай, Сью, – начал было Бернард и осекся, встретившись с ее полным одержимости взглядом. – Да, я это сделаю.
До самой клиники она не проронила больше ни слова. Бернард то и дело посматривал на свою подругу краешком глаза, пытаясь уловить ее настроение, но лицо Сью оставалось непроницаемым.
Когда они шли по пустынному коридору клиники – Сью впереди, по-мужски размашисто и стремительно, а Бернард едва за ней поспевая, – она сказала:
– Я бы тоже пошла за таким хоть на край света. Она встретила своего единственного мужчину. Как бездарно и жестоко устроен этот мир!
Сью переступила порог палаты и чуть не вскрикнула – Лиззи сейчас была точной копией своей матери. Она лежала с закрытыми глазами, и на ее лице, казалось, застыл покой. Но это была маска, скрывавшая, – Сью ощущала это, – лицо ребенка, искаженное недетскими муками.
Сью села на стул возле кровати и, чтобы не расплакаться, сделала несколько круговых движений глазами – этому научила ее подружка по развеселой жизни в Нью-Орлеане. Помогло. Она попыталась улыбнуться.
И тут Лиззи открыла глаза.
Они у нее были темные и бездонные. Они смотрели в пространство, не концентрируясь на отдельных предметах. Но Сью знала, что Лиззи видит ее.
– Все хорошо, детка, – сказала Сью, чувствуя, как по ее щекам, несмотря на упражнения, текут слезы. – Я теперь всегда буду с тобой. Клянусь.
– Не надо, – прошептала Лиззи, поворачивая глаза в сторону Сью. – Я боюсь клятв, Сью. Я боюсь вечности, понимаешь?
– Понимаю.
Сью коснулась руки Лиззи – рука была холодной и жесткой.
– Там темно, и мы можем не найти друг друга. Он будет искать меня, а я… – Она закрыла глаза. – Я поняла, что для того чтоб там не потеряться, нужно стать одним целым. Я пока не могу быть одним целым. Я… я будто вся из кусочков. Но я стану такой, как надо. И тогда я найду его там.
– Да, моя милая. Прости меня.
– Ты не виновата. Я заснула, понимаешь? Мне нельзя было спать ни минуты.
– Ты все знаешь?
– Я узнала это несколько минут назад. Понимаешь, я увидела перед собой путь, по которому прошел он. Я видела его удаляющуюся спину.
– Лиззи, детка, мне тоже казалось, когда погиб твой папа… – начала было Сью.
– Мне не кажется, пойми. Я знаю, как все будет. Мы встретимся с ним там. И больше никогда не расстанемся. Там все будет иначе. Но здесь… – Она вдруг задохнулась. – Здесь было слишком хорошо.
– Ты хочешь домой? – спросила Сью.
– Домой? Ты имеешь в виду Штаты? Да, я хочу туда, но это не мой дом. Это… как бы тебе объяснить… В общем, я устала, я плохо выгляжу и вообще мне необходимо собрать себя в одно целое. Из кусков. Ты поможешь мне?
Она с мольбой смотрела на Сью.
– Да.
– И ты не станешь… – у Лиззи опять перехватило дыхание, – ты не станешь противиться моему желанию воссоединиться с Джимми? Скажи, не станешь?
– Нет, – выдавила Сью, чувствуя, как по ее спине от ужаса забегали мурашки. – Я всегда буду на твоей стороне, моя милая, милая девочка.
– Я так и знала. – Сью показалось, будто в глазах Лиззи блеснули слезы. Но ей, наверное, это только показалось. – Он хотел, чтоб его похоронили в океане. Вблизи этого острова. Он любил этот остров. Сью?..
– Да, детка?
– Поговори с его матерью и братьями. Они все поймут. Я знаю, они сделают так, как хотел Джимми.
– Но есть еще и Айра, – осторожно заметила Сью.
– Она не имеет никакого значения. Она даже не сможет взять его тело. Понимаешь, существует закон, согласно которому вращаются планеты, день сменяется ночью и так далее. И это тоже подчиняется такому же закону. Ты поняла меня, Сью?
– Кажется, да, милая.
– Я знала, что ты поймешь. А теперь уходи. Про маму мне расскажешь потом. Я сейчас все равно ничего не смогу понять.
АНДЖЕЙ КОВАЛЬСКИ, ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ И ТОГО, ЧЕГО НЕ БЫВАЕТ НА ЭТОМ СВЕТЕ
Солнце заходило медленно и торжественно. Под его лучами ослепительно блестели снежные вершины гор. Это было потрясающее зрелище, пир для глаз, однако Анджей знал: стоит исчезнуть за горизонтом последним лучам, и на землю падет зверский холод, от которого не спасет вечно барахливший обогреватель в его стареньком «лендровере» – вездеходе.
Ему осточертела эта страна, где люди убивают друг друга из страха, от лени что-либо понять, в силу природной – генетической – жестокости. Ему казалось порой, что сюда собрались маньяки со всего света, которых, как наркотик, возбуждает вид пролитой крови. Таких людей было слишком много, а потому, думал Анджей, войны на Земле не прекратятся никогда.
Его репортажи будут читать те, кто и без того осуждает эту бессмысленную войну. Другие, ее одобряющие, ничего подобного не читают. А потому занимается он бессмысленным делом. К черту эту профессиональную одержимость – он забыл, когда в последний раз принимал ванну и ел нормальную европейскую пищу.
Если верить карте, которую дал ему в Джелалабаде коллега, корреспондент «Радио Рома», эта территория не контролируется никем. Однако Анджей знал, что карты составляются людьми, ни хрена не разбирающимися в расстановке сил. Впрочем, кто в ней разбирается?
Русские скоро уйдут, думал он. И начнется страшная междоусобица, пока власть не достанется кому-нибудь сверхкровожадному и бесчеловечному. Как ни парадоксально это звучит, но лишь такой человек способен спасти истерзанную войной страну и силой заставить людей растить деревья и злаки, а не сеять смерть. Таких людей обычно осуждают современники, зато возвеличивают потомки. Тому пример Петр Первый. Когда-то с ним рядом наверняка поставят Сталина. Это сейчас русские вытирают об его давно сгнивший труп ноги.
Анджей встречался и разговаривал с местными жителями. Все они, даже интеллигенция, казались ему религиозными фанатиками. Но он вскоре понял, что такими их сделала война. Ему приходилось бывать в мусульманских странах, где люди спокойно жили и занимались мирным трудом. Да, почти все без исключения мусульмане почитают аллаха и его пророка Магомета, но фанатики среди них встречаются не чаще, чем среди католиков или протестантов.
Он вспомнил Россию послевоенных лет и идеологический фанатизм, которым были заражены все эти оборванные, полуголодные люди. Ни тогда, ни сейчас он их не осуждал, но и не жалел. Каждый выбирает то, что ему по душе. Афганцев он жалел – им навязали эту войну люди другой веры, а точнее, те, которые не верят ни во что, сумев поссорить между собой мусульман.
Нет, определение «русские» очень неточное. Здесь, в этом страшном котле войны, варится не один десяток людей различных национальностей, да и те русские, с кем ему довелось встретиться, очень разные. Одни с пеной у рта доказывают свою правоту и искренне верят, что пришли в чужую страну с освободительной миссией. Это не русские – это советские, новая раса, выращенная на щедро удобренной марксистской утопией почве. Другие – их, оказывается, не так уж и мало – стыдятся того, что вынуждены делать. Их грызет совесть. Ему рассказывали про одного старшего лейтенанта, который пустил себе пулю в лоб, узнав, что в колонне, которую обстреляло из гранатометов его подразделение, были в основном женщины, дети, старики…
Его раздумья прервал нарастающий гул вертолета. Он огляделся по сторонам. Пустыня. Укрыться можно разве что под машиной. Но это не имело никакого смысла. Будь что будет.
Ему не хотелось быть расстрелянным и съеденным шакалами и хищными птицами, но в то же время он не чувствовал страха. Анджей горько усмехнулся. Последнее время он вообще ничего не чувствовал.
Рев нарастал. Вертолет летел над седловиной между двух горных вершин. Он был похож на огромную пиявку, с сытым урчанием переваривающую кровь.
Анджей заглушил мотор. Есть шанс, что его не заметят, – тьма успеет накрыть землю прежде, чем вертолет окажется над его головой. В этой стране ночь как густые паркеровские чернила и наступает внезапно.
Он закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья, борясь со сном. Зазвучала музыка – последнее время в его голове часто звучала музыка. Он видел перед глазами изуродованные – без головы и конечностей – трупы людей, и обычно это зрелище сопровождалось Баркаролой либо Третьей балладой Шопена. Он думал о том, что такую прекрасную музыку мог написать лишь безумец.
Судя по звуку, вертолет приближался медленно либо совсем не приближался.
Анджей открыл глаза. Сумерки уже начали превращаться в ночь. Большая черная пиявка странно болталась из стороны в сторону, словно воздушный шар в потоках воздуха.
Либо попал в аэродинамическую трубу, либо…
Анджей включил зажигание и нажал на газ. Машина с ревом помчалась по кочкам. Он понимал, что представляет собой прекрасную мишень, но профессиональное любопытство взяло верх.
Пока он доехал до места, над которым болтался вертолет, стемнело окончательно. Рев стоял оглушительный. Прислушавшись, Анджей определил: что-то случилось с мотором.
И вдруг он понял, что машина падает на землю. Сперва он уловил это каким-то чутьем, потом увидел само падение, которое продолжалось, как ему показалось, очень долго, хотя в действительности длилось считанные секунды.
Он всем телом ощутил толчок от соприкосновения с землей груды тяжелого металла и весь сжался, ожидая нестерпимого для барабанных перепонок грохота взрыва.
Но взрыва не последовало. Его окружала тишина, полная упоенно восторженных звуков финала Баркаролы.
Анджей развернул машину и погнал к месту катастрофы. Фары осветили лежащий на боку советский десантный вертолет МИ-24, оснащенный пушками и пулеметами.
Понимая, что он рискует жизнью, Анджей затормозил свой «лендровер» метрах в десяти от него, погасил фары и достал из-под сиденья фонарь, который купил в Кабуле в лавке, помимо прочего в открытую торгующей оружием и боеприпасами советского производства.
Прежде чем он успел вылезти из машины, со стороны вертолета донеслись отнюдь не военные звуки – кто-то насвистывал до боли знакомую мелодию и, похоже, мочился.
Анджей направил фонарь, ориентируясь на эти звуки, и нажал на кнопку. Сноп света выхватил трогательную картинку: высокий парень в ядовито-пятнистой форме советского десантника стоял на боку вертолета и с упоением орошал сухую, бесплодную землю пустыни. Его лицо выражало блаженство.
– Эй, нельзя ли без световых эффектов? – воскликнул он, не прекращая своего занятия. – Я думал, у меня лопнет мочевой пузырь, когда мы хряснулись об эти чертовы кочки.
Анджей направил луч чуть вбок и приблизился к парню.
– Дуэли не будет, верно? – сказал он по-русски. – Думаю, стоит отойти подальше от этого поверженного динозавра – он может плеваться огнем.
– Верно, старина. – Парень неторопливо застегнул ширинку. – Вылазь, красотка: этот джентльмен прав. – Он топнул ногой по металлической обшивке вертолета. – Эй, мадемуазель, пошевеливайся.
Анджей снова направил луч фонаря в сторону парня. Теперь рядом с ним стояла белокурая женщина, тоже одетая в десантную форму, которая была ей явно велика. Она сморщила свое хорошенькое кукольное личико и закрылась от света рукой.
– Быстро вниз! – скомандовал Анджей, ощутив опасность, – от вертолета разило керосином. – За мной! – Он кинулся бежать, освещая дорогу фонариком и слыша за собой топот ног. – Ложись! – И упал на холодную жесткую землю.
Фонарь погас. Очевидно, от сотрясения что-то случилось с контактом. Стало совершенно темно. Было тихо по-прежнему…
Взрыв грянул тогда, когда Анджей уже перестал его ждать. Земля отозвалась глухим надрывным стоном.
Анджей поднял голову и оглянулся. В двух шагах от него лежали эти двое. В волосах женщины отражались блики беснующегося пламени.
– Встать! По машинам! – скомандовал Анджей и, легко вскочив на ноги, побежал в сторону своего «лендровера». Он вдруг почувствовал себя молодым и бесшабашным. Этот бой со смертью выиграл он. Обыграв смерть, человек обычно начинает верить в то, что он супермен.
Он сел за руль. Женщина плюхнулась на переднее сиденье и рассмеялась. Парень растянулся ничком на заднем сиденье. Он прерывисто дышал.
– А теперь – полный вперед! – скомандовал Анджей самому себе. – Этот маяк привлечет целую стаю стервятников.
Он рванул с места, крутанул руль налево, на восток. Он принял твердое решение: его война закончилась. Сейчас главное выбраться из этого страшного перпетуум-мобиле кровавой бойни. Выбраться физически, ибо духовно он уже порвал с войной. Навсегда.
– Ты следил за нами? – спросила вдруг женщина, резким движением отбросив с лица волосы. – Ну и как я управляю этим чудовищем?
– Фантастически. Ты за несколько минут обратила меня в свою веру. Хоть я от рождения неверующий.
– Откуда ты знаешь, какую веру я исповедую? – Женщина повернула к нему голову.
– Ту же самую, что отныне исповедую я.
– Забавно. Я всегда считала себя убежденной атеисткой.
– Это тоже своего рода религия, – сказал Анджей. – Она существует только благодаря тому, что на свете есть другие религии. Как растение-паразит.
– Ты хочешь сказать, что я тоже… паразитка? Анджей весело рассмеялся.
– Восхитительное русское ругательство. О, я так соскучился по русским ругательствам! Это самые точные, и самые емкие слова в мире. Думаю, именно их произнес Создатель, когда изгнал из Эдема Адама и Еву.
Парень на заднем сиденье громко икнул и, судя по донесшемуся через секунду запаху, представил на всеобщее обозрение содержимое своего желудка.
– Ленька, какая же ты свинья, – беззлобно сказала женщина. – Ты же знаешь, я, как и все беременные, не переношу никаких запахов.
– Извини.
– Извиняю. Спасибо, что ты еще не усрался. Она произнесла это грубое слово с особой, ненатужной естественностью, и Анджею стало так весело, как давно уже не было. Он поднял руки, сжал в кулаки, стукнул ими по рулю, тряхнул головой. Черт, всего каких-нибудь полчаса назад он чувствовал себя дряхлым, ни на что не годным стариком.
Между тем женщина обратилась к нему с вопросом. Он прозвучал вполне серьезно, и Анджей вдруг ощутил тоску по тому, что он называл «лунным затмением цивилизации» – по интеллектуальным беседам, раскрепощающим фантазию и делающим трухлявым и ненадежным, словно древоточец деревянные балки стропил, такое убогое понятие, как «здравый смысл». Она спросила:
– Прошу уточнить: Бог произнес эти слова до или после?
– Разумеется, после, – сказал Анджей. – В Эдеме Адам и Ева находились под его неусыпным присмотром и согрешили тайком. Когда он изгнал их из этого скучного местечка, оба поняли, как много потеряли за все эти годы сидения под райскими яблонями – и стали наверстывать упущенное. И тут Создатель понял, что монастырь и бордель населяют люди, родственные душой и телом. И выругался по-русски.
– Потому, что понял это слишком поздно?
– Ну да. Настолько поздно, что уже не мог извлечь для себя ничего полезного из этого знания. Вас, я вижу, эта история заинтриговала, – добавил Анджей, неожиданно переходя на «вы».
– Быть может, потому, что меня зовут Евой.
– Вы красивы, как она. Думаю, я не ошибаюсь, хотя с освещением у нас проблема.
– О, меня тоже начинает тошнить. У вас не найдется глотка водки?
Анджей протянул ей флягу с разбавленным спиртом. Женщина сделала большой шумный глоток, потом глубоко вздохнула.
– Полегчало? – поинтересовался он.
– Кажется. Я, правда, не уверена, что на самом деле влипла, но на этот раз мне этого хотелось. Я женщина, которая хочет забеременеть. Вы не находите это парадоксальным?
– Нет, – сказал Анджей. – Парадоксален мир, в котором женщина может задаваться подобным вопросом.
– Вы это серьезно? – Она недоверчиво хмыкнула. – Странно, почему мы вдруг перешли на «вы».
– Только потому, что, затеяв интеллектуальный разговор, забыли на какое-то время, что мы всего лишь мужчина и женщина.
– С удовольствием взяла бы тебя в придворные шуты. Надо сказать Папашке, чтобы нацепил тебе для начала капитанские погоны. Если не секрет, куда ты нас везешь?
– Секрет, но шут непременно откроет его своей королеве. Война закончена. Из Джелалабада иногда бывает самолет в Карачи. А там через Гонолулу можно попасть в Лос-Анджелес и потом в Нью-Йорк. Как пожелает моя королева.
– Вы американец? – чуть испуганно спросила она.
– Никогда не поверю, что ты могла принять меня за корреспондента «Правды».
– Но я думала, ты русский. Папашке здорово влетит, если узнают, что его жена разъезжает по пустыне с американцем.
– Папашке влетит еще больше, когда выяснится, что его жена угнала МИ-24, напичканный боевыми игрушками, – в тон ей заметил Анджей.
– Да, угнала. – Она весело расхохоталась. – Этот Ленька такой трус. Но я стащила у Папашки сигареты… Знаешь, такие маленькие и тоненькие, как макаронники, но он сразу превратился в героя. Ленька вообще-то летает на МИГе, но я сказала, что боюсь высоты. И потом, в этом чертовом МИГе столько всяких лампочек и кнопок. А здесь все просто – как в обыкновенном грузовике… И что, мы правда летим в Гонолулу? – спросила она. – А куда девать Леньку?
– Решим на месте, – сказал Анджей.
– Эй, а ты случаем не папашкин шпион? – вдруг спросила Ева. – Уж больно складно ты врешь.
Анджей почувствовал, что его забавляет эта игра, что ему нравится холодная непроглядная ночь, что он на самом деле хотел бы увезти эту женщину, так неожиданно свалившуюся с неба, в Гонолулу. Он резко затормозил свой «лендровер».
– Вылезай, – приказал он. – И не забудь прихватить своего МИГа. Гонолулу отменяется.
– Прости, – сказала она и, протянув руку, крепко стиснула его плечо. – Не будь злопамятным…
– Постараюсь. – Машина медленно тронулась. – Бензина осталось миль на тридцать, не больше. Нужно связаться по рации с твоим Папашкой, чтоб прислал бензовоз. Ты знаешь его позывные?
– Разумеется. Омега два, четырнадцать… – Она внезапно замолчала. – Это военная тайна. Я дала клятву.
Анджей улыбнулся, обнял женщину за плечи и слегка – по-дружески – привлек к себе.
– Пустыня умеет хранить тайны. Особенно военные. К тому же у меня нет рации. Ладно, мы позвоним ему с пляжа в Гонолулу и попросим прощения за то, что уехали без спроса. Только я боюсь, наш маршрут будет не слишком прямым.
Анджей глянул влево и присвистнул. Из-за горизонта землю ощупывали лучи мощных прожекторов.
Эти люди говорили по-английски.
Анджей показал им свое корреспондентское удостоверение и объяснил, что ни разу не принимал участия в военных действиях, а лишь описывал их в своих репортажах. Еще он сказал, показывая на Еву и Леонида, что эти русские обратились к нему за помощью, поскольку желают сменить гражданство.
– Дезертиры? – спросил на чисто русском языке один из афганцев. – У вас есть документы? – обратился он к Еве.
– Они сгорели вместе с вертолетом, который мы угнали, – сказала она, ничуть не робея. – Это было там. – Она махнула рукой назад и вправо.
– Муса разберется, – сказал по-английски другой афганец. – Их нужно отвести к Мусе.
– Кто устроил эту бойню? – спросил Анджей, указывая на мертвых людей и верблюдов, застигнутых среди пустыни шквальным огнем с воздуха.
– Наши, – ответил по-русски афганец. – Они везли продовольствие людям Наджибуллы. Я знал, что этот караван не дойдет, но Муса все сделал по-своему.
– Значит, Муса – тоже человек Наджибуллы? – уточнил Анджей, нисколько не обрадованный подобным открытием.
– Он сам по себе. Наджибулла оказал Мусе услугу, и Муса не мог не отплатить за нее. Теперь они квиты.
– Ты хорошо говоришь по-русски, – сказал Анджей афганцу. – Это наводит меня на мысль…
Он не успел закончить фразы. Из-за кустов в предгорье раздалась автоматная очередь. Все разом попадали на землю, инстинктивно пытаясь вжаться в нее как можно глубже. Но здешняя земля, твердая и сухая, отторгала людей. Анджею казалось, будто от нее пахнет старым, изъеденным ржавчиной железом.
Раздалась новая очередь. Теперь Анджей понял безошибочно, что тот, кто спрятался за кустами, стрелял в небо. А значит, по какой-то причине хотел привлечь к себе внимание. Он сказал об этом лежавшему рядом афганцу.
– Он предупреждает нас, что впереди засада, – пояснил тот. – Придется идти в обход, через перевал. Это часов на двадцать дольше, если считать с ночевкой. Там есть лачуга.
Камин – он больше напоминал костер, отгороженный кривой ржавой решеткой, – дымил и распространял горячий смолистый аромат. Они пили чай, сидя на полу, – пленные и те, кто их пленил. Всего в лачуге собралось семеро. Пленных не обыскивали, не заставляли держать руки за спиной во время трудной, длинной дороги. Анджея это поразило. Он сказал об этом вслух.
– Мы вас не держим, – пояснил один из афганцев. – Тебя и женщину. Тот, русский, нам пригодится – быть может, подвернется возможность обменять на кого-то из наших. Мы не сделаем ему ничего плохого.
– Его расстреляют соотечественники, – встревожился Анджей. – Он угнал вертолет и угробил его.
– Иншалла,[7] – с философским спокойствием произнес другой афганец.
– Это жестоко… – начал было Анджей и осекся. Он вспомнил деревню, мимо которой лежал их путь. Вернее, то, что от нее осталось.
– Пускай остается с нами, – сказал самый старший из афганцев. – Нам нужны хорошие воины.
Им отвели отдельную комнату с топчаном, на котором лежали тюфяк и драное одеяло.
– Для женщины, – пояснил афганец. – Женщина не может спать на полу.
– Не бросайте меня, – попросил Леонид, когда афганец удалился. – Я боюсь. Вдруг они на самом деле решат обменять меня…
Он шмыгнул носом, опустился на циновку и лег, свернувшись калачиком. Анджею он казался большим ребенком.
– Что-нибудь придумаем, парень. У этих людей по крайней мере есть какие-то принципы.
– Они объявили всем русским джихад. Мусульмане – страшная сила.
– Но сперва джихад начали против них русские. Без всякого объявления.
– Пустые разговоры, – вмешалась Ева. – Нужно думать о том, как выжить. – Она стояла возле маленького грязного оконца и смотрела на склон горы, заросший пихтовыми деревьями. Сумерки, притаившись за скалами, дожидались момента, когда погаснет последний луч солнца, опустившегося в седловину между гор. – Эти места наверняка вдохновили бы Шекспира на создание очередной трагедии, которую последующие поколения превратили бы в фарс либо водевиль. Интересно, почему в конце двадцатого века трагедия не воспринимается в чистом виде? – спросила Ева, не поворачивая головы от окна.
Анджею все больше и больше нравилась эта женщина. В ней чувствовалась какая-то недосказанность. «Но пусть лучше она не говорит то, что ей положено сказать, – подумал он. – Это может оказаться скучным».
– Сколько тебе лет? – Впервые в жизни он задавал такой вопрос женщине.
– Скоро тридцать. Я выгляжу моложе, но это обман зрения. Я очень старая душой.
Она присела на топчан и взглянула на Анджея так, словно увидела его впервые.
– Да, я уже так стар, что мог бы быть тебе дедушкой, – сказал он. – Но это тоже обман зрения – у меня молодая душа. Я говорю это вполне серьезно.
– Ты на самом деле возьмешь меня в Гонолулу? – Женщина не спускала с него серьезных серых глаз.
– Если захочешь, даже дальше, – сказал Анджей. – Думаю, с этим проблем не возникнет.
– Я буду твоим военным трофеем. Настоящий мужчина обязательно должен привезти с войны трофей.
– О да. Если хочешь, я могу на тебе жениться. Я вдовец. Разумеется, это будет фиктивный брак, и ты…
– Почему же фиктивный? – удивилась Ева. – Разве я тебе не нравлюсь?
Он вспомнил, что у него уже есть русская жена, про которую он в последнее время совсем забыл, и рассмеялся. Ну да, у него всегда было по две жены, а теперь, после смерти Сьюзен Тэлбот, матери Сью и Тэда, осталась всего одна. Вот, наверное, почему он и поспешил сделать Еве предложение. Он сказал ей об этом.
– Странно. Ты совсем не производишь впечатления многоженца… Знаешь, если честно, я бы хотела попробовать с тобой сегодня. – Она бросила быстрый взгляд на спавшего на циновке Леонида. – Он побоялся заиметь интрижку с женой своего командира. Даже под кайфом. Чудило. Поначалу меня это распалило, но потом я поняла, что не стоит стараться. Наверняка он неинтересен в постели – сунул, вынул…
Она говорила циничные вещи, но при этом выражение ее лица оставалось ангельски чистым. Анджея возбуждал этот контраст, и тем не менее он сказал:
– Нет, сегодня мы этого делать не будем. Тебе придется потерпеть по крайней мере до Гонолулу. Война и секс, как сказал классик, вещи несовместимые.
В свои тридцать лет Эдвард Тэлбот все еще оставался девственником. Но это вовсе не значит, что его совсем не интересовали проблемы секса, – напротив, они его слишком интересовали, и был момент, когда Эдвард даже стал опасаться за свой рассудок. Понимая, что всему виной его добровольное воздержание, Эдвард, тем не менее, никак не мог переступить грань, отделяющую жизнь вымышленную от жизни реальной.
В своих фантазиях он обладал самыми красивыми и сексапильными женщинами в мире. Они отдавались ему в романтичнейшей обстановке: на необитаемом острове, на пустынном пляже под рев прибоя, в широченной кровати средневекового замка, со всех сторон освещенной гроздьями свечей… Казалось, его фантазиям нет предела, и очень часто, погружаясь в них, он испытывал оргазм, при этом даже не прикасаясь к своим гениталиям. Оргазм обычно был очень сильным, и после него Эдвард долго лежал в своей узкой холостяцкой постели, не в силах пошевельнуться.
Утром, разглядывая себя во время бритья в зеркале, он обращал внимание на желтоватые круги под глазами. Эдвард знал, его коллеги по клинике уверены в том, что он проводит ночи в оргиях – об этом намекнул как-то за ленчем анестезиолог Кристофер Браун, картежник и ловелас.
– Хотел бы я хоть одним глазком взглянуть на твоих женщин, – сказал он и дружески подмигнул Эдварду. – Мне казалось, в Нью-Йорке даже у шлюх и тех темперамент улитки.
Эдвард поднял глаза от тарелки с овсяным пудингом и недоуменно посмотрел на Кристофера.
– Ладно, ладно, молчу. Просто многие наши девицы заводятся от твоей холодности, разумеется, объясняя ее не отсутствием у них обаяния, а твоей пресыщенностью женскими ласками. Да и видок у тебя другой раз бывает… гм… достойный восхищенной зависти.
Эдвард молча поглощал пудинг. Слова Кристофера его поразили. Он никогда не замечал, чтобы кто-то из женского медперсонала клиники проявлял к нему повышенное внимание. Разумеется, шутки и обмен любезностями в счет не шли – у них был дружный, отлично подобранный состав служащих. И все благодаря стараниям управляющего, который проводил много часов за изучением всесторонних данных нанимаемых на работу людей, будь то уборщик туалетов или нейрохирург.
Эдвард стал приглядываться к работающим с ним бок о бок девушкам, невольно сравнивая их с женщинами из своих фантазий. У одной из них были слишком толстые икры, другая часто морщила лоб, третья… Словом, они его совсем не возбуждали. Очевидно, это была какая-то аномалия, и Эдварду захотелось во всем разобраться самому, не прибегая к помощи психиатра, – ведь он сам до мозга костей был человеком науки.
Одно Эдвард знал о себе точно: гомосексуальных наклонностей у него нет. И это значительно облегчало его задачу познания собственного сексуального «я».
Ему не хотелось, чтобы коллеги по клинике знали о том, что он решил поставить над собой эксперимент, преследуя как научные, так и глубоко интимные цели, – ему казалось, это подпортит его имидж. Эдвард чрезвычайно дорожил своим имиджем талантливого нейрохирурга без каких-либо заметных комплексов, столь мешающих человеку отдаваться целиком и полностью любимому делу.
Американки, в особенности жительницы Нью-Йорка, казались ему стерильной расой, удовлетворяющей свои сексуальные потребности с помощью вибраторов. Разумеется, тому виной был еще и страх перед этим таинственным заболеванием, аббревиатура которого – AIDS[8] – напоминала Эварду рекламу известной фирмы по производству спортивных товаров. Искусственный член был столь же безопасен в этом отношении, как и его ночные фантазии. Но, как понимал Эдвард, и то и другое было всего лишь суррогатом.
Отец свалился как снег на голову. Отец – поджарый загорелый мужчина с веселым, немного дерзким взглядом был для Эдварда совершенно чужим человеком, к которому он не испытывал никаких чувств. Отец позвонил ему домой и, не пускаясь в длинные беседы, пригласил пообедать, как он выразился, «У Цезарей», то есть в ресторане «Двенадцать Цезарей».. Поколебавшись немного, Эдвард принял приглашение. Ему вдруг пришло в голову, что, возможно, взаимоотношения с этим человеком служат в какой-то степени причиной его, Эдварда, сексуальных аномалий. Он едва дождался условленной встречи.
– Как вы похожи! – воскликнула на ломаном английском спутница отца, молодая белокурая женщина с правильными чертами лица. – Нет, вы совершенно разные, – заявила она уже через пять минут. – «Волна и камень. Стихи и проза, лед и пламень…» – процитировала она по-русски, и отец перевел сыну, пояснив, что это пушкинские строки.
– Моя жена, твоя мамочка, – представил он женщину. – Не осуждай своего старого родителя за то, что он слишком любит жизнь, а следовательно, женщин. Она русская, и я вывез ее из Афгана в качестве военного трофея.
Вечер оказался на редкость веселым. Рассказы отца об афганской войне не то чтобы заинтересовали Эдварда, но расширили его представление о реальном мире, в котором, как выяснилось, кроме стерильных операционных палат, медицинских книг и прочих будничных дел, существуют холодные пустыни с выжженной дотла землей, вертолеты, плюющиеся смертоносным огнем, воины аллаха – моджахеды, стойко защищающие свое отечество. Нью-Йорк был скучным, цивилизованным до неприличия городом. Эдвард вдруг подумал о том, что его с детства окружала стерильность во всем, прежде всего – в чувствах. Не исключено, что это и есть одна из причин, если не главная, его сегодняшней сексуальной проблемы.
Когда принесли кофе, отец внезапно предложил:
– Поехали к нам. Если не ошибаюсь, у тебя завтра выходной.
Эдвард не раздумывая согласился. Женщина взяла его под руку.
– Ты мне нравишься, сыночек, – сказала она, склонив голову ему на плечо. – А тебе известно, что я беременна и у тебя скоро будет сестричка или братик? Правда, не по крови, но ведь это не имеет никакого значения, верно?
Отец широко улыбался. Он явно был доволен жизнью. Его квартира все еще напоминала холостяцкую берлогу, хотя в ней теперь стойко пахло «Poison».[9]
Они пили виски со льдом и содовой, курили, болтали, слушали оперные увертюры Моцарта и Россини.
Эдвард поймал себя на том, что давно, а возможно, и никогда, не чувствовал себя столь раскованно и непринужденно. Когда женщина за чем-то вышла, отец доверительно склонился к сыну:
– Вообще-то она мне не жена – я имею в виду физиологическую сторону. Понимаешь, мне кажется, нет у меня никакого права вторгаться в таинственную жизнь зреющего в ней ребенка. Если бы это был мой ребенок, другое дело. А главное, я в нее не влюблен.
Отец, как показалось Эдварду, виновато усмехнулся и стал задумчиво крутить между ладонями свой стакан. Льдинки весело позванивали о стекло.
И Эдвард вдруг понял, почему сегодня ему было так хорошо – эта женщина не принадлежит отцу, что он, по-видимому, ощутил подсознательно. Он вдруг захотел, чтобы она принадлежала ему, вместе с ребенком, растущим в недрах ее существа.
– Мне необходимо отлучиться, – сказал Анджей и ободряюще улыбнулся сыну. – Дело в том, что старые холостяки иногда любят собираться вместе и вспоминать свою романтическую юность. Ты не романтик и тебе этого не понять. – Анджей встал, надел пиджак, пригладил еще густые, лишь слегка тронутые сединой волосы. – Душенька, – обратился он по-русски к вернувшейся в гостиную женщине, – мой сын расскажет тебе кое-что, о чем напрочь позабыл я. Извини уж – склероз, мадам, склероз, как говорят у нас в России.
Он вышел из дома, беспечно хлопнув дверью.
СЕКСУАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ЭДВАРДА ТЭЛБОТА
На следующий день Ева (Эдвард называл ее на американский манер Ив) переселилась в роскошную квартиру с видом на Центральный парк, в которой поддерживали идеально сказочный порядок трое вышколенных слуг. Аристократическая роскошь подействовала на нее немного странно. Она лишь сказала:
– Когда-то я мечтала о такой квартирке.
И, как показалось Эдварду, горестно вздохнула.
Впрочем, ночью в постели она была весела и оживленна, обучая Эдварда, как она выразилась, «новым приемчикам любви». Он оказался прилежным учеником, хотя не все получилось у него сразу, – Ив пришлось изрядно попотеть, чтобы восстанавливать эрекцию его нетренированного пениса. Но пальчики этой белокурой бестии, как мысленно называл свою новую подружку Эдвард, были ловки и искусны, а ее небольшой ротик оказался неиссякаемым кладезем наслаждения. Ее очень позабавило, что Эдвард, как и большинство американцев послевоенных поколений, подвергся в младенчестве обрезанию.
– У меня был один знакомый еврейчик. Он просто мечтал отрастить крайнюю плоть, – с воодушевлением рассказывала Ив. – Он вешал на свою штуковину какие-то гирьки, и один раз… – Она хихикнула. – Ну да, один раз он как-то неудачно сел… Знаешь, его шомпол здорово распух. Мне очень нравилось, а он говорил, что ему больно. Хороший был мальчик.
Подобные истории, а Ив рассказывала их беспрестанно, Эдварда сильно возбуждали. Он представил свою подружку в объятьях этого еврея и почувствовал, как твердеет его собственный член.
– Ты очень сексуальный типчик, – сказала как-то Ив. – Интересно, почему ты так долго держал свой инструмент в футляре? Еще чуть-чуть, и он бы у тебя заржавел и превратился бы в металлолом.
– Ты появилась вовремя, милая.
– Скажи спасибо своему папочке. – Она хохотала и колотила пятками по постели. – Мне жутко хотелось его совратить. Понимаешь, это был вопрос моей девичьей чести. К каким ухищрениям я только не прибегала… – Она залихватски шмыгнула носом и уселась верхом на грудь Эдварду. В лицо ему пахнуло влажным жаром ее вагины. – Помню, мы как-то валялись на пляже в Гонолулу. Это был пляж нудистов, но твой папочка купил себе узенькие плавки телесного цвета. Там было столько соблазнительных совершенно голых женщин. Он разрешал мне баловаться с ними, когда узнал, что я не прочь полакомиться их аппетитным телом. Но я там не больно этим увлекалась – я все думала и думала, как заставить твоего папочку трахнуть меня. Так вот, там, на пляже, я взяла и села с размаху ему на лицо и стала ерзать по нему. Вот так. – Она пересела Эдварду на лицо и, поерзав, вернулась на прежнее место. – Как ты думаешь, что он сделал?
– Понятия не имею, – пробормотал Эдвард, чувствуя, что заводится.
– Он взял меня за ягодицы, приподнял над собой и опустил на песок. А сам встал и вытер лицо платком.
– Вероятно, он импотент, – предположил Эдвард, живо представляя эту сцену и с каждой секундой возбуждаясь все больше.
– О нет, мой мальчик, ты глубоко заблуждаешься… – Она шутливо погрозила ему пальчиком, завела обе руки за спину, взяла в ладони его член и стала массировать вверх-вниз. – Я заметила: его плавки чуть не лопнули. И он заметил, что я это видела. Он не хотел меня обижать – твой папуля в этом смысле очень щепетильный чувак, – вот и придумал эту свою версию насчет того, что нет у него никакого права куда-то там вторгаться. Он, кажется, говорил тебе об этом?
– Да, – выдавил из себя Эдвард. – Пожалуйста, не так сильно, иначе я сейчас… – Он застонал и закатил глаза.
Ив в мгновение ока переместилась вниз, захватив его фаллос в тугие объятья своей горячей вагины. Сеанс любви на этот раз длился дольше обычного. Наконец тело Эдварда сотрясли конвульсии, и он, извергнув семя, в изнеможении откинулся на подушку.
– Молодец, my Teddy bear,[10] – прошептала Ив. – Ты становишься суперменом в сексе.
– Просто я наверстываю упущенное, – отозвался Эдвард, поглаживая тугие ягодицы Ив. – Знаешь, я сейчас подумал о том, что у моего отца странные и даже старомодные представления о взаимоотношении полов.
– Именно это мне в нем и понравилось, – заметила Ив. – Среди сверстников я не встречала ничего подобного. Правда, я жила в той дремучей больной стране. Как-то, помню, мне встретился парень… – Ив перевернулась на спину и продолжала, словно беседуя сама с собой: – Я тогда была совсем девчонкой и пережила нечто вроде шока. Я тоже верила в любовь или думала, что верю, а меня, как говорят у нас в Совковии, с удовольствием повозили фейсом об тейбл. Этот парень спас меня от чего-то нехорошего – я на самом деле в то время могла отмочить все что угодно. Разумеется, с собой бы я ничего не сделала – это исключено. Я могла кое-кого отравить, плеснуть в лицо серной кислотой и так далее. Тот парень предложил мне свое покровительство и дружбу. Он смотрел на меня как на женщину – уж что-что, а в этих вещах я кумекаю, но даже не подумал завести со мной романчик. Понимаешь, я видела, как он борется с собой, как ненавидит себя за то, что очень хочет меня. Черт, в конце концов я попросту взбесилась. Мы жили с ним вдвоем в каких-то развалинах, он топил печку, готовил еду. Придурок настоящий. Знаешь, что я сделала?
– Что? – с интересом спросил Эдвард, чувствуя, как снова оживает его член.
– Отомстила ему. Сбежала от него, оставив свой дневник. Разумеется, это была наивная девчоночья месть. Я вернулась домой, в Москву. Там у меня был муж-педрило, который все время трясся от страха, что его возьмут за жопу и посадят в конверт…
– Что-что? – не понял Эдвард. – Как это – в конверт?
Она рассмеялась.
– Ну да, вы, американцы, такие наивные. У вас не сажают в тюрьму за то, что кто-то засовывает свой собственный член не в ту дырку, в какую положено по советскому закону. Мой муженек жуть как боялся советской тюряги, и я служила ему прикрытием. Ну а я тоже слегка нашкодила и тоже побаивалась ментов, то есть полиции по-вашему.
– Что ты сделала? – спрашивал Эдвард, предвкушая возбуждающий в сексуальном плане рассказ.
Ив нахмурилась, но всего на секунду.
– Ладно, расскажу – ты сегодня заслужил, – изрекла она, поглаживая Эдварда по начинающему затвердевать пенису. – У меня был любовник, тоже актер. Как оказалось, и в жизни. Его старуха-жена была такой богатой, естественно, по нашим меркам. Пела в Большом, раскатывала по всему свету. Она мечтала заиметь ребеночка от своего Сашули, но сама уже давным-давно пережила климакс и вообще, подозреваю, годилась только на то, чтобы ее драили ручкой от метлы. А этот Сашуля трахал подряд всех баб. Меня тоже взял и трахнул, а я вообразила себе, что это и есть любовь. Ну да, я тогда из себя Джульетту изображала. Я сказала ему, что забеременела, – надеялась, наверное, что он уйдет от старухи и женится на мне. Но он еще тот орешек оказался. Представляешь, доложил обо всем своей старушенции, и та стала осыпать меня подарками. Она так хотела, чтобы я родила этого ребеночка и отдала им. Навсегда. Ну да, мне-то он совсем был ни к чему, и я бы от него все равно избавилась, но иногда я смотрела на свой безобразный живот и думала о том, что чем больше и безобразней он становится, тем щедрее делается старушка. Когда я родила, я тут же скумекала, что стоит мне отдать им младенца, и я на веки вечные лишусь покоя. Я к тому времени их так ненавидела…
– Странно с психологической точки зрения. Это опровергает теорию… – начал было Эдвард, но Ив его перебила:
– Катись в жопу со своими теориями. Вы, американцы, только тем и занимаетесь, что из всего выводите теории и закономерности. Сплошная математика, а не жизнь. Еще Некрасов, кажется, сказал: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть». Хотя ты наверняка не знаешь поэзии – в этой стране читают только рекламу и иногда заголовки книг.
– Ты не права, – попытался возразить Эдвард. – Наша нация одна из самых…
– Да ладно, я уже это слыхала. Вы патриоты, а мы устали ими быть. Так вот, я взяла и скормила этого ребеночка двум миленьким песикам.
Эдвард почувствовал, как его член буквально взмыл вверх, и это не ускользнуло от внимания Ив.
– Ты, я вижу, вполне нормальный парень, хоть иногда и плетешь всякую чушь, – сказала она.
– Ты его убила, а потом…
– Дурачок. – Ив истерично хохотнула. – Разве я похожа на людоедку? Просто я пару деньков не кормила этих милых песиков, а они без сырого мяса жить не могли. Тебе необходимо знать все-все подробности? – вдруг спросила она, наклоняясь к Эдварду.
– Да, – выдавил он и с натугой сглотнул слюну. – Расскажи мне все-все, как было. Это… это безумно интересно.
– Ха, а мы с тобой похожи даже больше, чем я думала, доктор Тэлбот, – заметила Ив. – Так вот, один придурок, которому я вдолбила в голову, что это его отпрыск, комсорг и вообще совок до кончиков ногтей, выкрал меня из роддома и спрятал на даче у своего друга, который в то время был в загранке. Он навещал меня почти каждый день, привозил продукты и сюсюкался с ребенком. И все уговаривал меня развестись с моим геем и стать его гейшей. Как-то на досуге я представила себе картинку из нашей будущей семейной жизни и поняла, что сыграю в ящик, если сделаю так, как он просит. Короче, план созрел в одночасье. А чтоб эти песики не слопали заодно и меня, я ушла прогуляться в лес. Но перед тем как уйти, открыла двери в комнату, где спал малыш. Ну и капнула в постельку сукровицы от мяса. Больше, видит Бог, не сделала ничего. Я гуляла в лесу часа четыре, если не больше, – читала вслух сонеты Петрарки, целые сцены из пьес Шекспира, стихи Лермонтова и прочую ерунду. Наконец, усекла каким-то десятым чувством: пора возвращаться. Я к тому времени жуть как проголодалась и замерзла. Когда я пришла, песики рвали окровавленную тряпочку. У них все еще были очень голодные глазки. И тут вдруг появился этот придурок. Я разыграла великолепную сцену в стиле Еврипида. Комсорг взвыл, разорвал на себе рубашку, схватил ружье и пристрелил песиков. Я думала, он свихнется, но он по-быстрому залил нутро водкой и захрапел прямо на полу. Он мерзкий тип. Я когда-то переспала с ним разик от тоски и горя, но в тот момент мне его бешено захотелось. Увы, у него между ног болталась настоящая мочалка, которую я не смогла превратить даже в гнилой огурец. Я, разумеется, смылась с этой дачки, а он поднял такой хиппеж… Мой супружник-педрило увез меня на курорт подальше от театра непредсказуемых действий. Но этот псих достал меня и там. Парень, про которого я рассказывала тебе вначале, оказался очень кстати. – Она замолчала, положила голову на живот Эдварда и, глядя куда-то в потолок, задумчиво произнесла: – Мне кажется, он из той же породы, что и твой папуля. Интересно, почему русские постоянно находятся в противоречии со своим так называемым внутренним «я»? И что такое – это «я»? Тэдди, а ты любишь страдать?
– Нет, – решительно сказал Эдвард. – Как можно любить страдать?
– Но они самым искренним образом это любят. Им кажется, они очищаются в страдании. От чего, спрашивается? Еще кое-кто из них считает, что плоть мешает духу достичь каких-то там высот. Мне тоже когда-то так казалось – начиталась я всяких книжек, к тому же в ту пору мое тело было совсем не тренированным и я не умела получать от него удовольствия. Но я-то думала, что стоит только полюбить и… Черт, какой же я была сентиментальной идиоткой. – Она резко приподняла голову и сказала, глядя в стену: – Но к таким, как они, так тянет. Почему, как ты считаешь?
У Эдварда на этот счет не оказалось никаких соображений. Он стонал и извивался от желания. Он стиснул груди Ив, но она грубо оттолкнула его.
– Наверное, потому, – медленно начала она, – что им известно что-то такое, чего не знаем мы. Тот парень, мне кажется, любил кого-то. Он никогда об этом не говорил, но я догадывалась. Эта женщина всегда была перед его глазами. Разумеется, он выдумал ее, как в свое время Петрарка выдумал Лауру. Это была его мечта. И он оставался ей верен. Боже, как же мне хотелось отомстить ему за то, что он меня оттолкнул! И я подумала: пускай прочитает в дневнике про все эти мерзости, пускай окунется в них, измажется с ног до головы. Правда, я очень скоро поняла, что к таким, как он, не липнет никакая грязь. К этим чертовым романтикам. Твой папуля тоже из их породы. Проклятье, как же мне иногда хотелось, чтобы он меня трахнул.
Ив заколотила кулаками по кровати. Ее лицо исказила капризная гримаса.
Эдвард больше был не в силах терпеть. Он прижался грудью к ее спине, просунул под ягодицы ноги и резким движением заставил сесть на свой затвердевший, как кусок деревяшки, фаллос. Она расслабилась и отдалась ему.
На этот раз сеанс любви длился около часа.
Эдвард стал замечать, что потерял какой бы то ни было интерес к работе. Да, он все еще делал сложные операции, но это уже была не творческая работа, а ремесло. Так сказать, ловкость рук, которым лишь в критических ситуациях приходил на помощь разум.
В клинике это не осталось незамеченным. Как и то, что с недавних пор Эдвард, закончив рабочий день, сломя голову спешил домой.
Ив сказала ему однажды:
– У тебя такая куча денег. Какого черта тебе работать? Работают для того, чтоб иметь деньги. Разве не так?
Эдвард нахмурился.
– Да, но…
– Брось, – перебила его Ив. – Это все из той же сентиментальной оперы: призвание, наука, искусство, вдохновение и тэ дэ и тэ пэ. Сказки для пионеров или, как их у вас называют, бойскаутов.
– Мне кажется, я уже не смог бы жить без своей работы, – как-то неуверенно промямлил Эдвард.
– Ты правильно выразился – кажется. – Ив вертелась перед зеркалом, примеряя только что доставленное из магазина платье. Она почти каждый день покупала по платью и по нескольку пар туфель. Она сама смеялась над этой своей совковой привычкой покупать все впрок, но ничего с собой поделать не могла. – А мне кажется, нам следует провести медовый месяц в Европе. Я всегда мечтала посетить парижские магазины. Еще я хочу попасть в Ватикан и получить благословение папы римского.
– Зачем оно тебе? – удивился Эдвард. Он был католиком и даже изредка посещал мессы, но никогда не думал о Боге всерьез.
– Нужно, – упрямо заявила Ив. – Именно благословение, а вовсе не отпущение грехов, как ты можешь подумать. – Она сняла платье и швырнула его на пол, оставшись в узких трусиках и чулках с ажурной резинкой и маленькими красными бантиками по бокам. У нее уже начал обрисовываться живот, и Эдварда это обстоятельство ужасно возбуждало. – Я хочу, чтобы папа благословил мое прошлое. – Она хрипло рассмеялась. – Я буду всем рассказывать об этом. А когда попаду в Россию, обязательно расскажу Старковой и тому козлу, который трахает ее за деньги, квартиру, за то, чтобы сниматься в кино и играть в театре героев-любовников, а сам при этом говорит, что любит, как родную мать, и никогда не бросит. Тэд…
Она подошла, прижалась к нему, обвила руками за шею и затихла.
– Я хочу тебя, – прошептал он.
– Знаю. Малыш сегодня зашевелился, – прошептала Ив. – Это твой ребенок, Тэд. Пускай его сделал другой, но ты после этого столько раз орошал меня своей спермой… Она у меня уже в крови, а он питается этой кровью.
– Я знаю, – сказал Эдвард, увлекая Ив в сторону дивана.
– Почему ты не женился на мне до сих пор? – спросила она, поднимая на него свои большие серые глаза.
– Мне… мне как-то не приходило это в голову, – шептал Эдвард, продолжая пятиться в сторону большого кожаного дивана.
– Нет, я не хочу там – давай на ковре, – сказала она, подгибая колени. – Тэдди, я буду замечательной женой, и тебе не придется со мной скучать. Я тебе обещаю это торжественно и на полном серьезе, как выражаются в той Тмутаракани, откуда я, как выяснилось, очень даже по делу слиняла.
Ив Тэлбот благополучно разрешилась мальчиком, которого назвали Брюс Александр – оба имени придумала Ив. Она лежала в отдельной палате лучшей парижской клиники, окруженная букетами орхидей. Эдвард, как и все цивилизованные мужья, присутствовал при родах и сейчас чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Он бросил работу в клинике, и последние четыре месяца они путешествовали по Европе, останавливаясь в лучших отелях или же снимали виллы.
Ив вдруг протянула мужу руку и сказала:
– Дорогой, нам нельзя будет заниматься сексом целый месяц. Разумеется, я буду ласкать тебя всеми возможными и невозможными способами, но я не хочу, чтобы ты потерял форму. В Париже уйма мест, где можно хорошо потренироваться и набраться опыта. Ты обещаешь мне посетить хотя бы парочку из них?
– Я… я боюсь без тебя, – пробормотал Эдвард.
– Глупости, медвежонок. В этих заведениях работают очень опытные и ласковые женщины. Они обучат тебя тому, чего не знаю я.
– Но… существуют всякие болезни. Этот AIDS…
– Там заниматься сексом гораздо безопасней, чем с какой-нибудь коллегой по работе, которая ходит к гинекологу два раза в год, а то и реже. Там их проверяют чуть ли не каждый день.
– Послушай, Ив, мне что-то не хочется, – хныкал Эдвард. – Лучше я схожу в оперу или в Лувр.
– Дурачок. Туда мы сходим вместе, если захочется. Пользуйся случаем, пока твоя жена лежит в клинике.
– Ладно. Но только сегодня я… я чувствую себя не совсем в форме. Голова болит и…
– Маленький притворщик, – сказала Ив и погрозила мужу пальчиком. – Со мной этот номер не пройдет. Завтра я заставлю тебя рассказать все, что ты чувствовал. Причем в деталях. Если ты думаешь, что мне можно наплести кучу небылиц, ты очень ошибаешься, мой медвежонок. Поцелуй на прощание свою любимую женушку, и полный вперед. Только сперва проконсультируйся с нашим ночным портье Жоржем. Этот пройдоха наверняка знает, где пошикарней обслуживают. Передай ему от меня привет. – Она вздохнула. – Доктор Ксавье говорит, что моя вагина очень скоро станет такой же пластичной и чувствительной, как раньше. Но я, помню, читала где-то, что женщина, родившая второго ребенка, становится менее чувствительной и ей труднее достичь оргазма. Правда, в другой книжке пишут наоборот…
Она закрыла глаза и погрузилась в сон.
Эдвард тихонько встал и направился к двери. Ему не хотелось идти в публичный дом, но он не мог ослушаться Ив.
Маленький Брюс Ли – так звали его родители – был отдан в полное распоряжение кормилицы и няньки, хотя раза два в неделю Ив, нарядная, благоухающая дорогой косметикой и духами, заходила в детскую и, склонившись над колыбелькой, с самодовольной улыбкой вглядывалась в черты младенца. Она как будто пыталась что-то для себя решить и все никак не могла это сделать. Эдвард навещал ребенка несколько раз в день. Прислуга утверждала в один голос, что Брюс Ли – вылитый отец.
– Нет, все-таки это не папашкин сын, – сказала как-то Ив, когда мальчик открыл глаза и скривил свой беззубый ротик в похожей на улыбку гримасе. – И не Пашки Колодного. Черт побери, чей же тогда? – разговаривала она сама с собой по-русски. – Неужели папашкиного замполита? Бедный мальчик! У того типа харя похожа на гибрид свиньи с бульдогом. Сучок, правда, большой и крепкий, да только дураку достался. Ну-ка, покажи свой сучок. – Она отвернула одеяльце, отогнула подгузник. У мальчика был довольно длинный член, хотя Ив ни черта не смыслила в членах младенцев. Она подозвала кормилицу-итальянку и спросила у нее, что она думает по этому поводу. Женщина широко улыбнулась и сказала:
– Bene. – И тут же добавила: – Molto bene.[11]
– Черт, скорее всего это работа замполита, – процедила сквозь зубы Ив. – Надо же: сунул, вынул, ущипнул за задницу и готов ребеночек. Ну и умелец факовый…[12]
– Скукотища в Европе такая же, как и в Америке, – говорила Ив Эдварду, загорая на пляже нудистов в Сен-Тропезе. Она заметно пополнела за последнее время, а волосы теперь красила в медно-золотистый цвет – таковы были требования последней моды, а моду Ив уважала. – Эх, видели бы меня бывшие приятели и эта жопа Старкова со своим провинциальным трахалем. Как жаль, что они меня не видят, – сокрушалась она. – Нет, ну это просто такая обида! – Она повернулась на другой бок. – Они бы сдохли от зависти. Ну а бабье из театра, те бы просто… – У нее явно не хватало слов. – Только они, гады, ни за что не поверят, что муж у меня самый настоящий американский миллионер. Тэдди, а ты мог бы сделать себе удостоверение миллионера? Ты больше похож на официанта или конторского клерка. – Она перевернулась на спину и вздохнула. – Не житуха пошла, а стоячее болото: никто тебе не завидует, анонимок не строчит, не интригует и даже на хер не посылает. Я потолстела килограммов на десять. Нет, Тэдди, тут просто невозможно жить…
После обеда она спровадила мужа в казино, а сама спустилась в бар отеля. Вечер был душный. В воздухе пахло озоном и грозой.
Ив заказала фирменный коктейль и, потягивая пахнущее ванилью густое розовое пойло, разглядывала посетителей бара. В основном эта была молодежь. Парни показались ей хилыми и узкоплечими. Вообще французы и итальянцы, думала Ив, в постели берут своим мастерством, а не природными данными. А потому, сделала вывод она, не может быть среди них гениев секса. Американцы же довольно однообразны в любви. Что касается русских…
Ив вздохнула, отодвинула от себя коктейль и велела официанту принести on the Rocks.[13]
Да, русских, по крайней мере многих из них, природа-мать одарила от души, размышляла Ив, закуривая сигарету и пытаясь «словить кайф». Вот только пользоваться своими приборами они, как правило, не умеют. Образно выражаясь, все еще работают по старинке – молотком и кувалдой, в то время как французы давным-давно овладели электронной техникой. Даже эти недоделанные американцы начинают постигать ее азы.
Затуманенный взгляд Ив упал на вошедшего в бар японца. Парень был невысок ростом, к тому же очкарик, зато под плавками у него явно кое-что было. Ив пока еще не приходилось иметь дело с японцами, что она считала пробелом в своем образовании. Японец поймал ее взгляд и сел на соседний табурет.
Она взмахнула рукой, и стакан с виски упал ему на колени.
– Пардон, мсье, – сказала она. – У меня в апартаментах навалом этой гадости. К тому же там работает кондиционер.
Она слезла с табурета и направилась к выходу в холл. Возле лифта оглянулась. Японец шел за ней.
– Херато, – сказал он. – Мадам говорит по-английски?
– О, да. Замечательное у тебя имя, но ты вряд ли способен это оценить.
– Pardon? – осклабился японец.
– Я сказала, у нас в Штатах нет таких сексапильных парней.
Они вошли в ярко освещенный лифт.
Японец смотрел на Ив в зеркало. Его взгляд почему-то не спускался ниже ее грудей, и Ив это заинтриговало.
На каком-то этаже в лифт вошла девица в шортах и узенькой прозрачной маечке, за которой скрывались провисшие недоразвитые груди. Японец протянул руку, взял девицу за запястье и сказал, глядя ей в глаза:
– Свинг.
Она молча кивнула.
Они втроем вошли в роскошный люкс Ив.
– Вода, мыло, – сказал японец и скрылся за дверями ванной.
– Надо же, какой чистюля, – комментировала по-русски Ив и, стащив свое бикини, велела девице: – Раздевайся и марш подмываться.
…Когда Эдвард вернулся вскоре после двенадцати из казино, их было уже пятеро. Они катались клубком по полу, сцепленные между собой самыми вообразимыми и невообразимыми способами. Эдвард лишь успел заметить, что Ив трахал какой-то японец, а она тискала за сиськи белобрысую девицу, которая стояла над ней раком. Девицу же…
Впрочем, они столь быстро меняли позиции, что Эдвард не смог ничего толком понять.
Ив увидела его почти сразу.
– Быстро под душ и давай сюда! – скомандовала она и взвизгнула.
Оргия продолжалась до утра. Когда партнеры наконец ушли, Ив облачилась в ночную рубашку и легла рядом с мужем, который последнее время тоже перестал спать голым.
– Помнишь, я обещала тебе, что ты со мной не соскучишься? – спросила она и сладко зевнула.
– Да, – ответил Эдвард. – Но это… это называется…
– Обыкновенный свинг, – сказала она. – Кстати, очень распространенный способ сексуального общения в Москве. Вошел в моду в конце семидесятых, хотя кое-кто успел попробовать пораньше.
– Но это… это называется… оргия! – наконец завершил фразу Эдвард.
– А, это все чепуха. – Ив широко зевнула. – Тебе было хорошо, милый?
– Да, но…
– Ну да, в тебе тоже есть эта странная славянская кровь, хоть ты и считаешь себя стопроцентным американцем. Интересно, что бы сказал по этому поводу твой папуля? И тот странный парень с иконописным лицом? Уже забыла, как его звали… Ах, да, его звали…
Ив провалилась в глубокий сон.
БРАТ И СЕСТРА. В ОТЗВУКАХ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
Толя вез Машу в двухместном купе. Она была так слаба, что несколько раз останавливалась передохнуть и собраться с силами, пока они шли по платформе.
– Нет, больше не могу, – сказала она возле входа в вагон и стала оседать на землю. Толя подхватил ее на руки, с трудом протискиваясь через узкий коридор, внес в купе и опустил на полку.
– Здесь такой знакомый запах, – прошептала она. – Помню, мы возвращались с Устиньей из Одессы точно в таком купе.
Толя вспомнил их встречу у холодного зимнего моря. Так, словно это случилось не двадцать с лишним лет назад, а уже после всего того, что он пережил после. Это было горькое воспоминание, но теперь оно еще сильней привязывало его к Маше. Как будто можно было привязаться сильней…
– Ты легкая, как девочка, – сказал он, садясь у нее в ногах. – Как только тронется поезд, пойдем в ресторан.
– Нет. Мы закроемся в купе и никуда не будем выходить, – возразила Маша. – Наступит ночь, в окно засветят звезды. Они будут указывать нам путь домой.
– Нонна обрадуется тебе. Она приберет в мансарде. Ты хочешь жить в мансарде?
– Наверное… Там, я помню, было большое окно. Мне казалось в детстве, будто в нем умещается половина неба.
– Так оно и есть. В полнолуние туда заглядывает луна.
– А как ты думаешь, духи, которые жили в том доме, они… переселились в этот?
– Да, – не колеблясь, ответил Толя. – Они частенько устраивают хороводы. – Он нахмурился. – Среди них есть и злые, но ты их не бойся. Я умею ими управлять.
– Знаю. – Она слабо улыбнулась. – Ты стал мужественным и… красивым. Я всегда мечтала иметь такого отца. Мне кажется, у меня никогда не было отца. Этот Анджей… он все что угодно, только не отец. Странно, правда? Я даже ухитрилась – ненадолго – влюбиться в него… Наверное, потому, что мы с ним очень похожи. Знаешь в чем?
Толя смотрел на нее не отрываясь, весь отдавшись этому новому чувству нежности, любви, восхищения, сострадания. Он делал над собой усилие, чтобы вникать в смысл ее слов.
– В чем? – спросил он, испытывая интерес не к тому, что она рассказывает, а как.
– Нам с ним кажется прекрасным только то, что не сбылось. Еще мы не умеем ценить, когда нас любят. Хотя потом об этом сожалеем. Франко любит меня больше жизни.
Она вздохнула и обессиленно вытянула руки.
– Поспи, – сказал Толя. – Сейчас поезд тронется. На небе вот-вот появятся звезды. Те же самые, что светили нам…
Он замолчал, решив, что Маша заснула.
– Нет, ты рассказывай, а я буду дремать под твой рассказ. Мне очень, очень интересно знать, как ты жил эти годы.
Толя открыл было рот, но вдруг понял, что Маша спит уже на самом деле. Во сне у нее было такое юное, прежнее лицо… Толя едва сдержал слезы.
Когда в купе вошла проводница с бельем, он приложил к губам палец и сказал совсем тихо:
– Заснула. Пускай спит. Она такая… слабая и худая.
– Сестра? – шепотом спросила проводница.
– Откуда вы знаете? – удивился Толя.
– Вы очень похожи. Хотя она намного младше вас.
Проводница постелила Толе на верхней полке и, приветливо кивнув, вышла, тихо прикрыв за собой дверь.
Поезд останавливался на каких-то станциях и полустанках, и фонари освещали Машино лицо. Потом мчался дальше, рассекая, как чудилось Толе, звездную тьму и спеша соединить искусственно разделенные точки. «Из пункта А в пункт Б…» – пришли на ум слова из школьной задачки.
Толя беззвучно рассмеялся и затряс головой. Он никак не мог поверить, что Маша с ним.
…Когда он услышал в трубке ее слабый голос – на какое-то мгновение лишился дара речи.
– Прошу тебя, приезжай за мной. Скорей, – сказала она и расплакалась.
Через час он уже был в пути.
И все шло словно по маслу – успел на последнюю «Ракету», достал билет на ближайший самолет, в Москве сразу же схватил такси.
Маша спала, когда он без стука ворвался в роскошный люкс. Навстречу ему поднялась высокая красивая девушка с распущенными по плечам светлыми волосами и улыбаясь протянула руку. Она сказала что-то по-английски, но Толя не вникал в смысл ее слов – он вглядывался в лежавшую на диване женщину, в ее до боли родное лицо. Оно расплывалось перед глазами, превращаясь в тающие в воздухе светлые круги. Девушка теребила его за локоть, и наконец он повернул к ней голову.
– Вы говорите по-английски? – спросила она, и, когда Толя кивнул, сказала, медленно выговаривая каждое слово: – Вы должны увезти ее отсюда как можно скорей. Я дам вам денег.
– У меня есть деньги, – ответил он, снова поворачивая голову в сторону дивана, на котором спала Маша. – Господи, я не верю, что это она.
– Я ее сестра Сьюзен. – Девушка тоже смотрела на Машу. – Я, как и она, американская подданная. Я могла бы увезти ее домой, в Штаты, но она не хочет. Она хочет уехать к вам. – Девушка понизила голос до шепота и сказала, наклонившись к Толиному уху: – За ней следит КГБ. Они выкрали ее и поместили в психиатрическую клинику. Но она совершенно здорова. Вы сможете обеспечить ей уход и нормальное питание?
– Да, – ответил Толя по-русски и тут же поправился: – Yes, of course.
Девушка улыбнулась и вдруг, обняв его за плечи, прижалась к его груди. Он смотрел на ее светлый затылок, от которого исходил незнакомый ему запах. Наконец, осторожно положил ей на спину руки.
– Ты и мой брат тоже… Как страшно жить в этом мире… Господи, береги ее… Она так мне дорога, – шептала девушка, обжигая его грудь горячим дыханием.
– Сберегу, – сказал Толя. – Не беспокойся, сестра. Все потихоньку наладится.
Потом в номер принесли роскошный ужин и шампанское. Толя никогда в жизни не видел таких красивых, похожих на цветочные клумбы блюд, но ему не хотелось есть, хотя с утра не было во рту ни крошки.
– Ешь, – велела девушка. – А она пускай спит. Во сне многое забывается. Ей нужно многое забыть.
Толя послушно взял в руку вилку, пригубил бокал с пенящимся вином. Но он чувствовал, его что-то распирает изнутри. Казалось, останься он сидеть на месте, и это что-то взорвет его тело, разметав на мелкие кусочки.
– Что с тобой? – спросила девушка. У нее были красивые и добрые глаза.
– Эхма! – шепотом воскликнул Толя, положил вилку, допил бокал и вдруг пошел колесом по ковру. Потом лег на спину, задрал ноги, рывком завел их за голову и перевернулся на грудь. Все это он проделал совершенно бесшумно.
– Браво! – девушка беззвучно захлопала в ладоши. – Теперь я знаю наверняка: все будет в порядке. Ты хороший. Но тебе обязательно нужно поесть.
И тут Толя заметил, что Машины веки вздрогнули и она открыла глаза.
Одним длинным прыжком он очутился возле дивана, встал перед ней на колени, хотел что-то сказать, но не смог, вместо этого откуда-то из глубины его существа поднялся стон-вопль радости.
– То-ля, – произнесла нараспев Маша, повернула к нему голову, медленно, с трудом подняла свою тоненькую, как спичка, руку и коснулась пальцами его щеки. – Милый, милый, милый…
Он вдруг просунул под ее спину обе руки ладонями кверху, поднял ее невесомое тело и понес к столу, держа впереди себя на вытянутых руках.
– Сьюзен, мы очень проголодались, – сказал он, мешая русские слова с английскими. – Hungry. Ясно?
Он усадил Машу к себе на колени и, подхватив на вилку хрустящей картошки, поднес к Машиному рту.
Они скорее развлекались таким образом: съела Маша совсем немного. Сью все это время смотрела на них возбужденно блестевшими глазами.
Потом Маша тихо заплакала. Толя стал утирать ей слезы и что-то шептать на ухо.
Сьюзен ушла в спальню, легла поверх покрывала на кровать и стала смотреть в потолок. Но ее влекло в ту комнату, где остались Толя с Машей.
Они сидели рядышком на ковре, вытянув ноги и оперевшись спинами о диван. Маша смеялась. Увидев Сью, повернула к ней голову.
– Он говорит, что я буду спать на семи перинах в кровати под балдахином. А еще у меня будет ручной петух, ученый кот и… Нет, Толька, ужей я боюсь – ужа заберешь себе. – Она шутя шлепнула брата по ноге. – Да, а вход в мансарду будет стеречь большой лохматый пес.
– Толя, возьми, пожалуйста, деньги. – Сью доставала из шкафа перевязанный бечевкой сверток. – Потом я привезу еще. Понимаешь, мне бы хотелось завтра уехать. У меня… дела.
Она хотела сказать, что у нее болит душа за Лиззи, но решила не нарушать зыбкий Машин покой.
– Деньги? – переспросил Толя, машинально протягивая руку. – А зачем нам деньги? У нас в Плавнях все свое.
– Я знаю. И все равно возьми. Пригодятся.
– Бери – она ужас какая богатая. – Маша лукаво подмигнула Толе. – Купишь мне обезьяну и говорящего попугая. И я стану бродячей циркачкой. С детства мечтала быть бродячей циркачкой…
Рано утром Толя съездил за билетами. Он вернулся очень счастливый и с большим букетом алых гвоздик.
В его отсутствие в номере побывали два водопроводчика, хотя с сантехникой все было в полном порядке и их, разумеется, никто не вызывал.
– Я позвонила Дэну. Это мой приятель-журналист, – сказала Сью. – Он сейчас подъедет и отвезет вас к себе. Давайте попрощаемся…
В эту минуту запищал радиотелефон, и Сью кинулась к аппарату. Сняв трубку и услышав голос Берни, она оглянулась на Машу и направилась в спальню. Когда она вышла, на ней не было лица.
– Умерла мать. – Это была первая пришедшая на ум ложь, но отрезанная от всего мира Маша наверняка не могла знать, что Сьюзен Тэлбот-старшая почила почти два года назад.
– Бедняжка, – посочувствовала Маша. – Немедленно вылетай домой. У нас все будет в порядке.
Они распрощались на скорую руку. Маша с Толей плакали. У Сью тоже поблескивали глаза…
Дэн, веселый молодой парень, отвез их на какую-то квартиру. Потом они вышли через черный ход во двор и сели в другую машину. Дэн велел им лечь на заднее сиденье.
Их развлекала эта таинственность, и они, лежа валетом на мягком широком сиденье роскошного лимузина, тихонько посмеивались. Внезапно Маша сделалась серьезной.
– А он все еще у них…
Толя понял, что она имеет в виду Яна. Дэн привез их на вокзал за час до отхода поезда и сказал:
– Хвоста пока нет. Я смываюсь. А вы – быстро в толпу. Да хранит вас Бог.
…Толя проснулся от толчка. Поезд резко затормозил и остановился. За окном простиралось черное беззвездное пространство. Слышно было, как по стеклу стучали крупные капли дождя.
Маша безмятежно спала. В голубом свете ночника ее лицо казалось прозрачным.
По коридору шли какие-то люди, громко переговариваясь между собой.
Толю вдруг обуял страх. Откуда-то из детства нахлынуло воспоминание: двое мужчин в милицейской форме пытаются вывести мать из дома, а она упирается и причитает: «Господи, прости их, грешных. Прости, Господи…»
Он протянул руку и защелкнул замок в двери. Потом нагнулся и вытащил из сумки небольшой топорик.
Он знал, что изрубит на куски каждого, кто посмеет прикоснуться к Маше. Он будет сражаться до тех пор, пока сам не рухнет замертво. Но, пока жив, он не отдаст им ее.
Поезд тронулся. В коридоре стало тихо. Остаток ночи Толя не сомкнул глаз.
В «Ракете» Маша съела початок вареной кукурузы, которым ее угостила сидевшая рядом старуха. И, утомленная, снова заснула.
Когда, уже сойдя на берег, они шли по знойной пыльной, окаймленной редкими тополями дороге, она сказала:
– Жаль, что мы не побывали у Устиньи. – И вдруг, повернувшись всем телом к Толе, повисла на его локте и спросила, заглядывая в глаза:
– А что с ним? Его забрали в Афган?
Толя понял, что на этот раз она говорит о сыне.
– Он сам попросился туда. – Толя отвернулся, прячась от ее взгляда. – Он был здесь в восьмидесятом, потом приезжал с приятелем на следующий год. Они увлекались дзюдо, карате и еще какими-то восточными единоборствами. Иван накачал мощные мышцы. Славный парень – мы его очень полюбили. Он пропал без вести два года назад. За месяц до дембеля. Диме сообщили, что их десант высадили по ошибке в районе, контролируемом моджахедами. Среди убитых ни его, ни этого Игоря не обнаружили. – Толя заставил себя повернуться к Маше. Глаза ее были безжизненными. – Нужно надеяться на лучшее, – тихо добавил он и увлек ее в сторону дома.
Обняв встречавшую их Нонну, Маша сказала:
– Он мне брат – не больше. Но он мне очень дорог. Прошу тебя, не ревнуй – я этого не вынесу.
– Мама танцевала… Я лежала, боясь пошевелиться. Это был ритуальный танец, – вспоминала Маша. – Перед тем как заняться с отцом любовью, она танцевала. Я помню, как возбуждал отца этот танец, хотя я тогда, конечно, еще ничего не понимала. Но это было великолепное зрелище. Они так красиво любили друг друга…
Маша лежала в гамаке, привязанном за стволы старых груш, Толя сидел рядом на маленькой скамеечке и вырезал из деревянной чурки идола – ими он собирался заставить весь двор. В последнее время Толя превратился в настоящего язычника.
– У меня никогда не было такой красивой любви, – продолжала Маша. – Зато была «Солнечная долина»… Ты на самом деле веришь в то, что эти твои идолы изгонят отсюда злых духов? – вдруг спросила она, подавшись всем телом к брату.
– Да, – не сразу ответил он. – Дело в том, что я заряжаю их своей энергией. Жаль, что в этой местности нет скал и больших камней – каменные идолы долговечней деревянных.
– Мне так спокойно с тобой, – сказала Маша, глядя в безоблачное небо. – Покой лучше счастья. Оно утомляет. И заставляет жить в вечном напряжении.
Толя молча трудился над чуркой.
– Мама не любила покой. Или же просто не успела его полюбить. А вот про Устинью я не знаю почти ничего. Я столько лет прожила с ней рядом, но она так и осталась для меня загадкой. Как ты думаешь, она стремилась к покою?
– Да, – ответил Толя. – Только ей не суждено было его обрести. Кто постоянно жертвует собой, вряд ли когда обретет покой.
– Странно… Мне казалось наоборот, хотя, быть может, ты и прав. Сью вообще не понимает, что значит жертвовать собой. Хотя она очень любит мою Лиззи и, как мне кажется, готова сделать для нее все что угодно. Большинство американцев вообще считает, что, если у тебя есть деньги, тебе никогда не придется жертвовать собой – достаточно пожертвовать своими деньгами.
Вдруг Толя перестал строгать, поднял голову и сказал, глядя сквозь Машу:
– Я не позволю тебе вернуться туда. Ты останешься здесь. Ты принадлежишь этому месту.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛИЗЗИ В НЬЮ-ОРЛЕАН
– Берни приглашает нас погостить у него на ранчо, – говорила Сью, расчесывая отросшие за время болезни волосы Лиззи. – Мы будем там одни. Он сейчас очень занят. – Сью вздохнула. – Эта негодяйка Луиза никак не может успокоиться по поводу того, что всплыли шашни ее дочурки с этим Гарнье. Она в ярости и пакостит Берни на каждом шагу. Теперь она угрожает какими-то бумагами, которые якобы свидетельствуют о том, что его брат был связан с мафией.
– Ты очень его любишь? – тихо спросила Лиззи, глядя в большое сводчатое окно на залитый утренним солнцем Мадрид.
Сью опустила руку со щеткой.
– Я не умею любить, Лиз. Я слишком хорошо знаю мужчин, чтоб их любить.
– Но ведь ты любила… моего отца.
– Это чувство накрыло меня с головой. Я не могла собой управлять. И я его погубила. Он приехал в Париж из-за меня.
– А я погубила Джимми, – эхом откликнулась Лиззи. – Если бы я не приехала на…
– Не говори так, детка, прошу тебя. Подумай о малыше. Твое состояние отражается на нем. Не будь грустной. Ты должна родить красивого, сильного ребенка.
– Сью…
– Да, родная?
– Ты никогда не рассказывала мне, как прошли… похороны. Прошу тебя, расскажи – я должна знать все.
– На шхуне были только его родственники и эта… Айра с двумя дружками. Знаешь, у нее очень нехорошее, злое лицо.
– Оно было совсем другим, когда Джимми любил ее, – сказала Лиззи. – Я это точно знаю. Мой отец, когда мама его разлюбила, сразу внешне изменился. До того он был таким красивым. Я хорошо его помню, хоть и была совсем маленькой.
Сью с трудом подавила вздох.
– Мать Джимми еще совсем не старая, хотя лицо в морщинах. Глаза живые. А братья…
– Они все черные, я знаю, и замечательно красивые, – подхватила Лиззи. – Джимми мне рассказывал про них.
– Я поняла, что они его очень любили. Когда мать взяла урну и стала разбрасывать прах по волнам, все запели… От этой песни на душе стало умиротворенно. Они не плакали.
– И я не плакала. Он не хочет, чтобы я плакала.
– Ты у меня молодчина. – Сью положила ладони на плечи Лиз и тоже засмотрелась в окно. – Мадрид меня успокаивает. Здесь веришь в вечность, – прошептала она.
– Сью…
– Да, моя милая?
– Мне кажется, мой ребенок будет смуглокожим, хотя Джимми был совсем белым. Я хочу, чтобы мой ребенок был смуглокожим.
– Господи, Лиз… – Сью с трудом подавила в себе желание возразить ей. – Конечно, моя родная. Твой ребенок будет очень красивым.
Еще Сью подумала, как было бы хорошо, если бы ребенок оказался похожим на Франко.
– Сью?.. – Лиззи повернула голову и вопросительно посмотрела на тетку. – Ты не обидишься, если я тебе кое-что скажу?
– Нет, моя хорошая.
– Знаешь, мне не хочется ехать на это ранчо. Лучше я поеду к дедушке и бабушке в Нью-Орлеан. Они мне обрадуются. Я буду играть на рояле и ждать, когда появится мой малыш. Сью, я так хочу, чтобы он поскорее появился. – Она едва заметно улыбнулась. – Я буду счастливой, когда он появится. А ты… ты поезжай к Берни. Он без тебя скучает.
– Мне бы не хотелось расставаться с тобой, моя девочка.
– Я буду тебе звонить. Берни передай, пусть не сердится на меня. Но я… я, наверное, не скоро захочу его увидеть. – Она встала и подошла к окну. От ее длинных прямых волос, казалось, исходило сияние. Внезапно Лиззи обернулась. – У меня есть брат в Нью-Орлеане. Я должна его найти. Сью, прошу тебя, давай улетим туда сегодня.
Родители Франческо обрадовались их приезду. После приветствий и неизбежной, как при любой встрече, суеты Лиззи ушла к себе, а Сью рассказала о последних событиях в жизни их внучки. Старики слушали ее с испуганным видом.
– Она хочет разыскать своего брата, – сказала под конец Сью. – А раз Лиз хочет, она это сделает во что бы то ни стало. Прошу вас, не препятствуйте ей.
Аделина всплеснула руками.
– Святая Мадонна, да ведь этот Томми только что вышел из тюрьмы для несовершеннолетних преступников. И потом никакой он ей не…
– Погоди, – перебил жену Джельсомино. – Он так похож на нашего Франко, что сердце переворачивается. Я встретил его два дня назад у Сичилиано – он взял мальчишку мыть полы на кухне. Говорит, малый расторопный и…
– Да как он посмел! – воскликнула Аделина. – Эта тварь Лила какой только грязью не поливала нашу семью.
– Замолчи! – прикрикнул на жену Джельсомино. – Сичилиано сделал это по моей просьбе. Иначе мальчишка снова залезет в чей-нибудь карман и загремит в кутузку. Ты что, хочешь, чтобы твой внук всю жизнь сидел на шее у федеральных властей штата Луизиана?
– Какой он мне внук! – Аделина вскочила, с грохотом отодвинув стул. – Ты совсем спятил или объелся за ужином равиоли. Да я сейчас пойду и перебью у этого кретина Сичилиано окна и обмажу дерьмом дверь!
– Никуда ты не пойдешь! – рявкнул Джельсомино, но тут же, убоявшись гнева жены, вобрал голову в плечи. – Я не пущу тебя, слышишь? – совсем уж негрозно пообещал он.
Аделина уперлась руками в свои разъехавшиеся бедра и сказала, глядя мужу в затылок:
– Может, ты еще захочешь, чтобы этот черномазый ублюдок приходил к нам по праздникам есть спагетти с грибным соусом? Или чтобы я угощала его толстожопую мамашу «марсалой» и финиками?
– Лила тут ни при чем – меня самого тошнит от этой шлюхи, – буркнул Джельсомино. – Но мальчишка не виноват. Из него еще может получиться нормальный человек. Если, конечно, мы ему поможем.
– Чтоб я когда-нибудь позволила этому черножопому ублюдку переступить порог моего…
– Прошу вас, выслушайте меня, – вмешалась в перебранку Сью. – Дело в том, что я забыла сказать вам, пожалуй, самое главное. Парень, которого любила Лиз, был белым, но кожа его родного деда черна как уголь. Он родом из Сенегала. Все братья этого Джимми тоже черные. Не исключено, что ваша внучка родит смуглокожего ребенка.
– Бедняжка Лиз! – вырвалось у Аделины. – Что же ты за ней так плохо смотрела? – накинулась она на Сью. – Нужно было посадить девчонку под замок.
– От любви не спасет никакой замок, – возразила Сью. – Лиз очень любила Джимми, и если вы желаете внучке добра, не попрекайте ее ни единым словом. Я вас очень прошу, – добавила она. – В память о вашем сыне Франко.
Старики вдруг сникли. Аделина полезла в карман за носовым платком, Джельсомино стал громко откашливаться. Затем смущенно произнес:
– Послушай, Сюзанна, я думаю, мы скажем соседям и родственникам, что наша Лиззи вышла замуж за очень богатого человека. Гм, правда, они начнут задавать кучу вопросов – где он, почему ее не навещает и так далее. Ты ведь знаешь, Сюзанна, у нас, итальянцев, очень длинные носы и языки тоже.
– Лиз не захочет лгать, – возразила Сью. – Да ей и наплевать, что скажут соседи и родственники. Так что с этим вам придется смириться.
– Племянница этого болтуна Массимо родила от какого-то китайца или японца. Он весь татуированный, да и вообще с ним страшно столкнуться нос к носу на темной улице, – вмешалась в разговор Аделина. – Мануэла говорит, он курит гашиш и ест собачье мясо. А тут как-то она видела его…
– Помолчи, Аделина. Сюзанна завтра утром уедет, а нам еще надо кое-что обсудить. Я так считаю… Никому не должно быть дела до того, кто родится у нашей дорогой внучки Лиззи. Пускай только попробуют что-либо сказать, я возьму дрель и просверлю в языке каждого сплетника дырку. Ну а нам с тобой, мамочка, сам Бог велел любить и холить нашего правнука, даже если у него будет такая же черная кожа, как у этого Сэма-Угольные Яйца, что торгует на набережной деревянными масками. В нас, сицилийцах, тоже всяких кровей понамешано, и кожа у нас посмуглее, чем у тех же северных итальянцев. Но мозги от этого ничуть не хуже работают. А что касается другого места… – Он смущенно кашлянул в кулак. – Словом, с этим делом все у нас обстоит благополучно. Ты, Сюзанна, молодец, что о нашей Лиззи так печешься. Господь простит тебе за это грехи, если они у тебя были. Аделина, неси «марсалу», которую я припрятал на свой день рождения. Мы все равно теперь не будем его справлять – гости всегда шумят, а нашей Лиззи нужны покой и тишина. Позовем только Сичилиано с семейством, ну и, разумеется, Массимо. Наверное, еще и Альфредо. Ну да и крестных нашего Франко придется позвать… Аделина, неси gelato.[14] Сюзанна, как и все красивые девушки, наверняка сладкоежка. – Когда Аделина вышла, Джельсомино коснулся запястья Сью. – Не волнуйся, дочка, я все улажу. И с Томми тоже. Видела бы ты – вылитый Франко, только будто его на солнце долго жарили. У матери нашей душа добрая, она только на язык такая. – Он вздохнул. – Мария, говоришь, не захотела сюда ехать? А мы по ней скучаем…
– Она приедет. Ей нужно прийти в себя. Вы не волнуйтесь: Россия стала совсем другой. Берни считает, у коммунистов скоро окончательно отнимут власть.
– Берни? Ты говоришь про сына Джека Конуэя? – вдруг оживился Джельсомино. – Уж не хочешь ли ты сказать, что простила его после всего того, что он сотворил с нашей Марией?
Сью ответила не сразу.
– Он проявил слабость. Ему так хотелось стать конгрессменом. К тому же он понимал, что сестра его не любила.
– Это верно: она его не любила. Она и нашего Франко по-настоящему не любила, хотя никогда бы не изменила ему первая. Странная она… Мне другой раз так хотелось узнать, что у нее в душе, да только она туда никого не впускала. И правильно делала, скажу я тебе. Если увидишь Марию, передай ей привет от нас с мамой. Это Франко виноват, что жизнь у них не сложилась. Мама тоже так считает.
Они пили густую сладкую «марсалу», изредка обмениваясь ничего не значащими фразами. Важные дела они уже успели обсудить и, похоже, пришли к обоюдному согласию.
Поутру Сью вылетела в Филадельфию, где ее ждал Берни.
На этот раз она по нему соскучилась – они не виделись полтора месяца.
ТОММИ, БРАТ ЛИЗЗИ
Томми с матерью жили в африканском квартале, который местные жители называли «осиным гнездом». Вероятно потому, что здесь водилось много кусачих ос.
Квартирка была небольшая, но у Томми была своя комната – он оборудовал чердак, который хозяин сдавал ему за десять долларов в месяц. (Чердак никому не был нужен, разве что крысам, которых в «осином гнезде» тоже водилось несметное количество.)
Комната, а вернее коробка, размером десять футов на двенадцать принадлежала только ему. Томми обшил потолок и стены дощечками от ящиков, покрыл темным лаком, провел электричество, повесил над узким, застланным старым пледом матрацем большую карту, на которой маняще синели моря и океаны. Сердце Томми рвалось на простор, однако здравый смысл подсказывал, что полы драить лучше на суше и в тепле. К тому же Томми был довольно ленивым малым, а боцманы всех без исключения судов, как он справедливо подозревал, больше всего не любят лентяев.
Томми почти случайно влез в карман девчонки, его ровесницы, – он оттопыривался от бумажных денег, а Томми очень хотелось пива и сигарет. Он тут же попался, и его на три месяца спровадили в тюрьму для подростков, хотя в кармане у девчонки оказалось всего-навсего семь долларов. Мать его ни разу не проведала, чему он был даже рад, поскольку стыдился ее. Он вышел из «Акапулько» – так прозвали это заведение его обитатели – отъевшийся на казенной картошке и кроличьем мясе и, разумеется, направился к себе домой.
Мать была в стельку пьяная, холодильник пуст и даже отключен. Томми нашел на подоконнике кусок черствой булки и две дольки чеснока. Это был его обед.
Но худшее ждало впереди.
Чердак залило водой и он стал совершенно непригоден для жилья. Когда Томми просунул голову в узкий люк, открывающийся из коридора, на него пахнуло гнилью и крысиным дерьмом. На полу валялись обрывки размокшей карты, матрац покрылся сизой плесенью.
В ту ночь он спал на пляже.
Утром Томми пошел искать работу, но все места были заняты такими же подростками, как и он. Хозяин какой-то пиццерии, сжалившись, дал Томми большой кусок горячей пиццы. Это заменило ему завтрак, обед и ужин. Он снова провел ночь на пляже. Наутро вспомнил, что Зелда Крэмптон, инспектор полиции, несколько раз беседовавшая с ним на темы жизни и морали, дала ему свой телефон и просила сообщить, как идут его дела.
Он инстинктивно не любил полицейских, но в желудке урчало, сосало и покалывало. Томми знал с детства, как обмануть телефон-автомат – этому искусству обучила еще мать. Он набрал номер. Ответил мужчина. У Томми дрогнула рука с трубкой, но он совладал со своим страхом и, пытаясь говорить «взрослым» голосом, попросил позвать мисс Крэмптон. Она мгновенно ответила. Через полчаса Томми уже сидел на переднем сиденье ее видавшей виды «тойоты» и уплетал сандвич с ветчиной, огурцом и этой гадостью под названием «майонез», которую он в конце концов собрал салфеткой и выкинул в окно.
– Поедем ко мне, – предложила Зелда. – Матери нужен помощник в саду. Она чокнулась на своих цветах и баклажанах. Знаешь, что такое лопата и грабли?
– В принципе да, – ответил Томми, ни на секунду не переставая жевать. – Но я ими сроду не пользовался.
– Научишься. Это легче, чем шнырять по карманам. Прости. – Она повернула к нему свое широкоскулое лицо и примиряюще коснулась рукава его ковбойки. – Без обиды, ладно?
Томми кивнул. Собственно говоря, он ничуть не обиделся.
Зелда жила с родителями в небольшом домике на западной окраине Нью-Орлеана. Домик снаружи и внутри был похож на игрушечный – цветные стекляшки, циновки, пестрые коврики, разукрашенные маски по стенам. Миссис и мистер Крэмптон сидели на крытом балкончике, выходившем на мощенный цветной мозаичной плиткой patio,[15] и пили чай из больших керамических пиал. Мистер Крэмптон был пожилым мулатом крепкого телосложения с седой копной курчавых волос. Его жена – совсем еще не старая, хрупкая, небольшого роста женщина с волосами черного цвета, отливающего синевой стали, который присущ индейцам племени билокси. Она встала, когда Зелда с Томми вошли на балкон.
– Мои предки, – представила Зелда, – добрые и очень старомодные. Па ленив, как все мулаты, ма напоминает мне челнок швейной машины старой конструкции. Ма, это Томми. Он будет вскапывать грядки, стричь траву и кусты, ну, и вообще поддерживать в саду порядок. Но для начала принеси ему побольше мяса.
Садик был небольшой, но очень уютный, с фонтанчиком и рыбками, беседкой, похожей на индейский вигвам, несколькими рядами грядок со всевозможной зеленью и овощами. В первый день Томми вкалывал дотемна. Он расхаживал в плавках, с удовольствием ощущая кожей влажное тепло луизианской весны. Поужинав, улегся спать в беседке – так распорядилась миссис Крэмптон, собственноручно постелившая ему постель на кровати с железными спинками, которую он принес из сарайчика и собрал под ее руководством.
За неделю Томми загорел и окреп. Вместе с миссис Крэмптон он радовался тому, что садик его трудами преобразился.
Как-то вечером, когда он снял майку и шорты и уже собирался нырнуть под сетку от москитов, в беседку вошла Зелда. Она была в узкой белой юбке с разрезом и синем жакетике. Томми понял, что Зелда только вернулась с работы.
– Взяли Пола и его дружков, – сообщила она с порога. – Они раскололись с ходу. Признались, что одно время хранили травку на твоем чердаке.
– Но меня три месяца не было дома, – возразил Томми, так и оставшись стоять с поднятой ногой.
– Цыпленок, они клянутся, что это было еще до того, как ты загремел. Этот прыщавый Пол говорит, будто нарочно отодрал на крыше пластинку черепицы, чтоб смыло все следы. Орландо ему верит. У Орландо не голова, а настоящая мексиканская тыква без семечек. Собака унюхала в твоей берлоге остатки былой роскоши.
– Они могли хранить ее там в мое отсутствие, – продолжал отпираться Томми, чувствуя, как от страха покрывается с ног до головы липким потом.
– Ты один, а их пятеро. – Зелда подошла и положила руку ему на плечо. – Придется сделать ноги. Во второй раз в «Акапулько» не отправят. Эти мерзавцы постараются списать на тебя все грешки.
– Но ведь можно доказать… – начал было Томми и замолк, потому что Зелда вдруг положила ему на плечи другую руку и как-то странно посмотрела в глаза.
– Цыпленок, давай ляжем в кроватку и все обсудим.
Он безропотно подчинился.
Он наблюдал, как Зелда сняла юбку, потом жакет, аккуратно повесила их на спинку единственного стула и осталась в узких красных трусиках и туфлях на высоких каблуках. У нее была тонкая талия и высокая упругая грудь, но Томми не мог оценить ее прелестей – его обуял страх.
– Подвинься, – велела она, укладываясь с ним рядом. – Мне просто захотелось живого человеческого тепла. Этот ублюдок Орландо Лопес меня бросил. Знаешь, с кем он спутался?
– Нет, – машинально ответил Томми.
– С этой толстухой Ширли из отдела нравов. Смех один – сама шлюха. – Зелда выругалась по-испански. Томми знал, это очень нехорошее ругательство – его часто употребляла пьяная мать.
– Ты намного красивей ее. Я не перевариваю бледнолицых блондинок, – сказал он вполне искренне, хотя до сих пор вообще не задумывался над этим, потому что не имел никаких отношений с женщинами.
– Цыпленок, а у тебя не шевелится эта штуковина, что между ног? – вдруг спросила Зелда, и Томми понял по запаху, что она накурилась Эм Джей.[16]
– Нет, – сказал он. – Я очень боюсь Пола и его дружков.
– Ха-ха. – Она обняла его за шею и прижалась к его боку, положив согнутую в колене ногу ему на живот. – Тебе уже есть шестнадцать, верно?
– Да. Но я еще не пробовал с женщинами.
– Противный мальчишка. – Зелда приподнялась на локте, шутливо погрозила ему пальцем и вдруг больно впилась в губы. Когда язык Зелды коснулся нёба и стал нежно его ласкать, по его телу пробежала дрожь и он ответил на ее поцелуй.
– Вот. Видишь, как хорошо, – сказала она, наконец оторвавшись от него. – Неужели с мужчинами лучше?
– Не знаю. – Томми с трудом перевел дух.
– Ты занимаешься онанизмом, – догадалась Зелда. – Ну да, в «Акапулько» это считают детскими шалостями. И правильно делают. Я буду твоей первой женщиной, хочешь?
– У меня ничего не получится, – буркнул Томми. – Я как вспомню сержанта Лопеса…
– Дурачок. Думаешь, мне самой не хочется ему насолить? Ведь стоит ему тебя сцапать, и тебя заставят подписать бумагу – уж он-то знает, как это сделать. А так ему придется повозиться с этим Полом и его недоносками. Я уже кое-что придумала. Но сперва мы отомстим ему за меня.
Зелда вдруг легла на Томми, и он увидел прямо возле своего рта ее большие темные соски.
– Только чур не кусаться! – воскликнула она, ерзая животом по его груди. – Ты такой высокий и стройный, а этот мудило коротышка, да еще с брюшком. Я сейчас стащу с тебя плавки… – Она тяжело дышала и закатывала глаза. – О, совсем неплохо для первого раза, – шептала она, крепко сжимая ладонями его горячий фаллос. – С мужчинами тебе никогда не будет так хорошо… Они грубые и бесчувственные. Помедленней… Вот так. Остановись и потри мне эту штуковину. – Зелда положила указательный палец его правой руки на свой клитор. – Запомни: женщины это очень любят. Кому-то нравится, когда нежно, а кому-то наоборот… Ой, как ты меня распалил. Я сейчас кончу…
Зелда громко простонала и впилась ногтями в его плечи. Томми вдруг почувствовал приятное облегчение. Оно было похоже на то, какое он испытывал, когда занимался онанизмом, но сейчас ощущение было гораздо сильнее и пронзило все его тело.
– Здорово, – прошептал он. – Я и не знал, что это так здорово.
Зелда уже спала, прижавшись щекой к его плечу. Он вгляделся в ее лицо: пухлые, слегка вывернутые губы, широкий нос, чуть-чуть раскосые глаза под пухлыми веками. По сравнению с кожей Зелды его, Томми, кожа кажется почти белой. А ведь его мать еще темней, чем эта девушка. Отец, правда, был белым… Интересно, кто же все-таки на самом деле его отец? Неужели тот шериф, от которого всегда разило виски?..
Он вспомнил, мать говорила, его отец итальянец и капитан. Томми напрягся, вороша память. Он был совсем ребенком, когда к ним домой приходил молодой красивый мужчина с печальными глазами. Как-то он подошел к его кроватке, протянул к нему руки, но тут же опустил их и со вздохом отошел. Больше Томми ничего не смог вспомнить про этого человека. У матери всегда было много приятелей и почти все они хорошо относились к нему, Томми.
Он незаметно заснул. Когда проснулся, первое, что увидел, была Зелда. Она уже оделась и причесалась.
– Вставай, слышишь? Пока этот кретин Орландо ни о чем не догадался. Скоро начнет светать.
Томми мигом оделся.
Зелда велела ему лечь на заднее сиденье и лихо рванула с места. Она молчала почти всю дорогу, а он лежал, то и дело проваливаясь в сон. Почему-то теперь он думал о сержанте Орландо Лопесе без страха.
Машина вдруг резко затормозила. Он открыл глаза. Сквозь ветки деревьев пробивались лучи недавно вставшего солнца. Томми сел и огляделся по сторонам.
Со всех сторон машину окружали деревья. Зелды на переднем сиденье не было.
– Ау, – сказала она, открывая заднюю дверцу. – Я ходила пописать. Хочешь закрепить урок?
Он увидел, что она в одном жакете и без трусов. Это его очень возбудило. Он стянул шорты. Она плюхнулась ему на колени.
– Так можно не со всеми женщинами, – шептала она, извиваясь всем телом. – Это зависит от строения вагины. Нам с тобой, я вижу, хорошо по-всякому. Теперь тебе наверняка не захочется пробовать это с мужчинами.
В селении, куда привезла Томми Зелда, жили индейцы и мексиканцы. Дома здесь были однотипные – деревянный каркас, крыша из зеленой либо синей черепицы – и аккуратные. Возле одного из них Зелда затормозила.
– Мой дядя. Ему нужен помощник. Полгода назад он потерял жену и сына. – Она взглянула на Томми слегка встревоженно. – Будь осторожен. Я бы не хотела, чтобы ты последовал за ними. Дядя Джо – заклинатель змей.
…Томми провел у дяди Джо три месяца и, вероятно, остался в живых лишь потому, что спал в старом пикапе с наглухо закрытыми окнами. Змеи – а их здесь было несчетное количество, к тому же дяде Джо почти каждый день приносили новых, – ползали по всему дому и спали на всех кроватях и креслах. Томми не заходил в дом даже когда шел дождь. Он вообще никогда не заходил за плексигласовую загородку из матового стекла, окружающую патио. Он закупал продукты для дяди Джо и его террариума в местной лавке, ставил сумки и коробки возле входа, нажимал на кнопку звонка и отходил шагов на пять назад. Точно так же, видел Томми, делали посетители дяди Джо, приходившие к нему за снадобьями от всех хворей. Их основой, как понял Томми, служил змеиный яд.
Иногда дядя Джо выходил погулять. Обычно в компании калифорнийской блестящей змеи Нины, его любимицы. Она обвивалась несколько раз вокруг его тонкой морщинистой шеи и, касаясь своей изящной маленькой головкой большого оттопыренного уха с серебряной серьгой, то и дело высовывала язык, словно что-то нашептывая.
Дядю Джо в селении уважали, однако, завидев издали, предпочитали свернуть либо во двор, либо в ближайший переулок. Томми получал за свою работу сто долларов в месяц. Дядя Джо готов был отвалить ему двести, только бы он согласился прибирать раз в неделю в доме. Томми не стал бы делать это и за три тысячи.
К концу этих трех месяцев приехала Зелда и, зазвав его к себе в машину, сказала:
– Я помирилась с Орландо. Валяй отсюда как можно скорей, а то еще проговорюсь в постели. Черт, только я не должна знать, куда ты двинешь.
– А я сам еще не знаю. Пола посадили?
– На два года. Тебя разыскивает мать. Она была у Орландо, и он пообещал ей достать тебя хоть из-под земли.
Томми сделал фигу.
– Ты… ты не скучал по мне? – вдруг спросила Зелда, глядя на него своими загадочно поблескивающими глазами.
– Поначалу. Я знал, что ты меня бросишь.
– Почему? – удивилась Зелда.
– Потому что я еще ничего не умею, а этот сержант Орландо Лопес наверняка перетрахал сотни две баб и многому научился, – без всякой обиды сказал Томми.
– Глупый… – Зелда попыталась улыбнуться, но вместо этого всхлипнула. – Он правда очень неверный, и я сама не знаю, почему липну к нему… Да, мама просила передать тебе привет. Она тоже не любит Орландо. Но ей нечего бояться – он никогда на мне не женится. Никогда. Томми, ты хотел бы заняться со мной сексом? – вдруг спросила она и схватила его за колени. – Я покажу тебе еще один приемчик. Ему, к слову, научил меня сержант Лопес. Думаю, он научил ему всех своих шлюх. От этого приемчика мужчина тает, как студень на солнышке. – Она завела мотор и медленно поехала по улице. – Дядя Джо к тебе не приставал?
– Он звал меня спать в дом, но я боюсь этих тварей, – сказал Томми. – Еще он один раз заглядывал в пикап, а я как раз проснулся – приспичило пописать. Он постучал в окно, но у него на шее сидела эта гадина Нина, и я, разумеется, ему не открыл.
– И правильно сделал. Дядя Джо бисексуал. Знаешь, что это такое?
Томми кивнул.
– Ну да, тебя наверняка просветили на этот счет в «Акапулько». Эти люди страшнее всего, поверь мне. Им недоступно понятие «любовь». Томми, а ты меня хоть капельку любишь?
– Не знаю. Нет, наверное. Потому что ты не можешь жить без своего Орландо Лопеса.
Она резко нажала на тормоз, и Томми стукнулся лбом о стекло.
– Дурак, – сказала она. – Сопляк недоношенный. Орландо мужчина, а ты…
Она уронила голову на руль и расплакалась.
Потом они занимались сексом в роще за селением, но Томми на этот раз не получил удовольствия – он все время представлял, что это не он, а сержант Лопес трахает стоящую на четвереньках Зелду. Томми не любил сержанта Лопеса и не хотел, чтобы он получал от этого занятия наслаждение.
Зелда дала ему на прощание пятьдесят долларов. Вместе с теми, что Томми заработал у дяди Джо, это составило три сотни. Пятьдесят он истратил на сигареты и мороженое.
Он почувствовал себя миллионером.
Томми ушел на рассвете, оставив дяде Джо записку, которую просунул под дверь. Он был благодарным юношей, и его «спасибо» шло от сердца.
Он сел на автобус и доехал бесплатно до Лафайетта – водитель лечился снадобьями дяди Джо и считал, что они ему помогают. Он ведь не знал еще, что помощник знахаря-чародея сделал ноги.
Томми собирался махнуть через Техас в Мексику, и конкретно в Гвадалахару – ему очень нравилась песня «Гвадалахара» из фильма «Веселые времена в Акапулько», и он напевал ее, откинувшись на спинку сиденья дребезжащего от старости автобуса. Он бы, наверное, так и сделал, если бы не встретил на площади в Лафайетте, куда привез его автобус, мексиканских музыкантов.
Через неделю он сам пел «Гвадалахару» и другие песни под нестройное бренчание гитар, в сомбреро и пестрой хламиде-пончо. Томми, как выяснилось, обладал абсолютным слухом и удивительным чувством ритма. К тому же он был на голову выше низкорослых мексиканцев, и это привлекало внимание публики. В стареньком «фольксвагене» они исколесили Техас, Нью-Мексико и Аризону, предпочитая давать представления в небольших городах и селениях.
Потом ансамбль распался сам собой – музыканты заскучали по семьям.
Томми было не по кому скучать.
И тем не менее он вернулся в Нью-Орлеан.
Матери в городе не оказалось. Соседка сообщила, что она уехала в Таллахасси к двоюродной сестре. В их квартире жил какой-то бродяга. Он пообещал убить Томми и швырнул в него бутылкой из-под рома.
Томми вспомнил про Зелду и ее родителей и через час с небольшим уже стоял возле порога знакомого дома на западной окраине города. Но на его звонок дверь открыл белый мужчина в темных очках. Из-за его спины слышался злобный собачий рык.
– Мне нужна мисс Крэмптон, Зелда Крэмптон, – сказал Томми. – Я работал у них садовником.
Мужчина что-то приказал собаке на незнакомом Томми языке и посторонился, пропуская его в дом. Он стал совсем другим – обычным жильем белого человека с не слишком большим достатком.
– Проходите на веранду. – Мужчина говорил по-английски с легким акцентом. – Джильда, – обратился он к серой овчарке, все еще скалившей свои клыки, – это хороший человек. У него добрая карма.
Томми обратил внимание, что балкон застеклили, сквозь мозаичные плиты патио пробивались сорняки, кусты и деревья переплелись между собой ветками, образовав труднопроходимые заросли.
Мужчина достал из холодильника две банки пива и жестом пригласил Томми сесть за плетеный стол. По тому, как осторожно и бесшумно он двигался, Томми понял, что перед ним слепой.
– Я живу здесь уже семь месяцев, – сказал мужчина, открывая банку с пивом и пододвигая ее Томми. – Один, как сыч. Раз в две недели двоюродная племянница привозит продукты и делает уборку. Больше у меня нет никого. Пожалуйста, посидите со мной.
– А вы не знаете, куда переехали Крэмптоны? – спросил Томми.
– Купчую оформляла моя племянница. Она говорит, здесь жила пожилая пара – муж и жена. У них погибла дочь, и они решили продать дом и уехать к родственникам в резервацию.
– Зелда погибла? – Томми чуть не выронил банку с пивом. – Но ведь она… она работала в полиции.
– Совершенно верно. Гертруда, это моя племянница, рассказывала со слов ее матери, миссис Крэмптон, что якобы эта Зелда прыгнула с прогулочного катера и утонула в заливе.
– Этого не может быть. – Томми стало трудно дышать. – Она наверняка умела плавать. Зелда… она много чего умела.
– Вы были в нее влюблены? – Мужчина глядел на Томми своими невидящими глазами. – Простите за столь нескромный вопрос.
– Да, – неожиданно ответил Томми. – Но она любила другого, а я был… ну, вроде успокоительных таблеток. Их глотают, когда совсем невмоготу. В другое время о них и не вспоминают.
Томми большими глотками выпил пиво и жадно закурил.
– Миссис Крэмптон рассказывала Гертруде, что Зелда собиралась выйти замуж за своего коллегу по работе.
– За сержанта Орландо Лопеса, что ли?
– Кажется, его звали именно так. Они были помолвлены, и он часто приезжал сюда, даже оставался ночевать. Миссис Крэмптон говорила, что будущий зять ей не нравился. У них на этой почве возникали размолвки с дочерью.
– Он был бисексуалом, – вдруг осенило Томми. – Это о нем она тогда говорила.
– Так вы знаете, что с ним случилось? – спросил мужчина и снова полез в холодильник за пивом.
– Нет. Я только сегодня приехал в Нью-Орлеан и еще не видел никого из знакомых. Да их у меня здесь и нет.
– Говорят, он умер в страшных муках. У машины отказали тормоза, и он врезался на полной скорости в зад прицепа, на котором везли стальные прутья. Его живьем нанизало на несколько вертел. Он был еще жив, когда приехали медики.
– Так ему и надо, – вырвалось у Томми. – Это ему за Зелду. Она говорила, он не знал, что такое любовь. У него было столько женщин. Наверное, и мужчин тоже.
Они беседовали часа два и выпили по нескольку банок пива. Наконец Томми поднялся, хотя идти ему было некуда. Мужчина вдруг предложил:
– Если хочешь, оставайся у меня, парень. Мои кров и стол взамен на твое общество за банкой пива, ну и, может, кое-когда сводишь меня на прогулку.
По-моему, я не слишком занудливый старик, но, если начну в него превращаться, скажи мне об этом без обиняков. Меня зовут Вильгельм Хоффман. По рукам?
Томми остался у мистера Хоффмана.
– Эй, Сичилиано, куда подевался этот твой Аполлон со шваброй? – спросил Джельсомино брата, с важным видом расхаживая по пустому в это время дня залу ресторана. – Смотри, у тебя грязные полы. Что, у мальчишки отсохли руки? Смотри, солома и какие-то перья. – Он кряхтя нагнулся и извлек из-под стула кусочек соломинки и птичье перышко. – Это что, Pasta alla Siciliano?[17]
Толстяк Сичилиано покраснел от стыда. Он выругался на диалекте и, подойдя к кузену, взял у него из рук вещественные доказательства и сделал вид, будто внимательно их разглядывает.
– Ха, да ведь это же из гнезда! – воскликнул он. – Эти пичужки свили его над самым окном, и его теперь ни закрыть, ни открыть. Я велел Томмазино сшибить гнездо палкой, а он заглянул в него, увидел три яичка и попросил меня не трогать гнезда. Божьи твари эти ласточки. Грешно божьих тварей обижать.
– Гм, гм, – похмыкал Джельсомино. – Все ясно. Ну, где он, этот твой Франциск Ассизский?[18] – постарался спросить он как можно безразличней. – Небось дрыхнет в тенечке.
– Я послал его с важным поручением, – изрек Сичилиано, напустив на себя таинственный вид. – С очень важным поручением.
– В Вашингтон, что ли, к старине Ронни? – съязвил Джельсомино. – С пиццей и пучком салата?
– Нет, с веточкой жасмина[19] для старушки Нэнси, – не остался в долгу Сичилиано. – Он мигом обернется и вечером уже будет петь свои развеселые песенки про Маргариту, Роситу, Челиту и прочих девчонок. Вот посмотришь, этот смазливый чертенок сделает мой ресторан самым популярным в квартале. Гм, что я говорю – в квартале, да во всем Нью-Орлеане и штате Луизиана. И это говорю тебе я, Сичилиано-младший, прямой потомок…
– Постой, постой. Петь? – прервал монолог кузена изумленный Джельсомино. – Ты позволил этому мальчишке петь? Может, ты собрался превратить свой ресторан в оперный театр?
– Ха-ха. При чем тут опера? Да и кому она нужна в наше время? В наше время в ресторан приходит одна молодежь, а им бы задом да передом повертеть. – Сичилиано попытался изобразить один из элементов современного танца, но со стоном схватился за поясницу. – Черт бы побрал эту спину, – проворчал он. – Да, эти нынешние танцы не для стариков. Но ты бы видел Томмазино – мне другой раз кажется, он состоит из тысячи частей, и каждая из них живет сама по себе. Вчера он так всех наэлектризовал, что я боялся, как бы посуду не побили. Зато шампанское лилось рекой. Интересно, от кого Томмазино взял эти свои фигли-мигли? Помнится, твой Франко хорошо в детстве пел, но я не видел, чтобы он мог крутиться как на…
– Тсс. – Джельсомино приложил к губам указательный палец и завертел головой по сторонам. – Франко тоже хотел быть певцом, но наша мамочка, ты же знаешь ее, она вся в причудах и предрассудках, даже думать ему об этом запрещала. Все грехом стращала и Страшным судом. Если бы Франко ослушался… – Джельсомино безнадежно махнул рукой, извлек из кармана большой темно-красный платок и высморкался. – Так где этот твой Элвис Пресли?
– Скоро придет, – уклончиво ответил толстяк. – Небось синьоры усадили его попить чайку или чего покрепче. Они вчера смотрели на него так, словно он устрица, которую глотают не жуя. Богатые синьоры, красивые. Сегодня обещали снова прийти. Браво, Сичилиано, брависсимо!
Толстяк звонко хлопнул себя по ляжкам и радостно блеснул глазами.
– Женщины мальчишек балуют и учат всяким глупостям, – проворчал Джельсомино. – Они наводят на них порчу, как эта Лила на нашего Франко. Он был таким хорошим, послушным мальчиком, пока не спутался с этой шлюхой.
– А вот и Томмазино! – воскликнул Сичилиано. – Тебя тут дожидаются. – Он кивнул в сторону Джельсомино. – Мой двоюродный брат синьор Грамито-Риччи.
Джельсомино показалось, будто брови юноши удивленно взлетели вверх. Но нет, показалось – его взгляд излучал безмятежность, а губы расплылись в приветливой улыбке.
– Присаживайся, сынок. – Джельсомино с трудом сдерживал волнение. – Сюда вот, в уголок, чтобы нам с тобой никто не помешал. Сичилиано, принеси-ка имбирного пива и соленых орешков. И чтоб пиво было не слишком холодным. Верно, Томмазино? А то мы с тобой охрипнем и будем кукарекать, как два молодых петушка. – Джельсомино суетился, отодвигая стулья для себя и юноши. – Вот, садись подальше от сквозняка. Эй, Сичилиано, почему у тебя отовсюду дует? Ты что, жалеешь денег на замазку?
Томми с любопытством разглядывал этого странного старика, которого уже видел несколько раз в ресторане. Тот всегда смотрел на него внимательно, словно ощупывая взглядом. Фамилию Грамито-Риччи Томми уже где-то слыхал. Редкая и красивая фамилия. Юг, как он убедился, вообще богат звучными фамилиями.
Сичилиано принес пиво и орешки. Ему явно не хотелось уходить, но Джельсомино посмотрел на него строго, – а он как-никак старший брат, к тому же его отец славился столь виртуозным сквернословием, что у тех, кому оно предназначалось, потом долго еще горели уши. И Сичилиано, вздохнув, удалился за стойку бара и от нечего делать принялся переставлять с места на место бутылки в витрине.
– Томмазино, – Джельсомино опустил глаза, – а тебе известно, как звали твоего отца?
Он сосредоточенно разглядывал узор на скатерти.
– Нет. Я только знаю, что он был белый. Я тоже почти белый, правда?
– Да, сынок. – Джельсомино не поднимал глаз. – Главное быть душой белым, то есть чистым. А кожа, она может быть хоть зеленой. Твой отец…
– Но я точно знаю, что он белый. У меня и черты лица совсем не такие, как у всех этих ниггеров. Мистер Хоффман даже не подозревает о том, что моя мать мулатка. Я сказал ему, что она умерла.
Джельсомино, наконец, осмелился взглянуть на юношу. И снова поразился его сходству с Франческо. Нет, ошибки быть не может – перед ним родной внук, в жилах которого течет славная кровь Грамито-Риччи.
– Он был итальянцем, как и я. Он был моим сыном. А ты – мой родной внук, – выпалил Джельсомино не переводя дыхания и, схватив бокал, стал пить пиво жадными глотками.
Казалось, юноша никак не прореагировал на это признание. Правда, он сидел спиной к свету и лицо его оставалось в тени. Да Джельсомино и не осмелился бы сейчас глядеть ему в лицо.
– Ты – мой дедушка, – сказал Томми. – Вот забавно. Сегодня же расскажу об этом мистеру Хоффману. А то он наверняка думает, будто я родился в больнице для бедных. Да я и сам сказал ему, что моя мать проститутка. – Томми весело шмыгнул носом. – Значит, ты – мой родной дедушка. А бабушка у меня есть? Я слышал, бабушки жарят вкусные пончики с кремом и персиковым джемом и обожают своих внуков.
– Гм, бабушка у тебя тоже есть. – Джельсомино замялся. – Понимаешь, Томмазино, ты свалился нам на голову так неожиданно, что Аделина, твоя бабушка, еще ничего толком не успела понять. У нее вообще с этим делом, – Джельсомино выразительно постучал себя костяшками пальцев по голове, – не совсем благополучно. Хотя она очень добрая женщина.
– Она что, ненормальная? – уточнил Томми. – Черт побери, еще не хватало, чтобы у меня оказалась ненормальная бабушка.
– Да нет, ты меня не так понял, приятель. – Джельсомино достал платок и стал сморкаться, обдумывая тем временем, как бы объяснить внуку, что Аделина не желает его видеть и в то же время не настроить парня против родной бабушки, которая, он был в этом уверен, рано или поздно сменит гнев на милость и заключит в свои объятия этого юного отпрыска их доброго и непутевого сына. – Как бы это тебе объяснить… Ей нужно поверить в то, что ты на самом деле ее родной внук. А для этого необходимо какое-то время.
– Это ее дело, – сказал Томми с задиристостью, свойственной его возрасту. Мне и так хорошо. Ты тоже можешь не верить. Собственно говоря, это еще нужно доказать, что я твой внук. Мало ли кто захочет называться моим дедушкой.
– Язычок тебе следовало бы немножко подрезать, Томмазино. – Джельсомино сделал вид, что сердится, на самом же деле на этого красавца парня с открытой улыбкой на лице цвета кофе, щедро разбавленного сливками, сердиться было просто невозможно. – Говоришь, доказать нужно? А это тебе не доказательство?
Он вынул из кармана бумажник. В его наружном отделении с окошком из прозрачной пластмассы была фотография: Мария, Франческо и маленькая Лиззи. На этой фотографии сын счастливо улыбался и выглядел совсем юным. Почти как Томми.
Джельсомино осторожно извлек фотографию и протянул юноше.
– Ха, я его помню. Да, да, это был он! – воскликнул Томми и беспокойно заерзал на стуле. – Ну да, он подходил ко мне и как-то странно на меня смотрел. А один раз… – Томми задумался и посерьезнел. – Один раз он принес мне игрушечный парусник. Я играл с ним на полу.
Потом… Да, потом на него наступил этот страшный шериф, и парусник… В глазах Томми стояли слезы.
– Ладно, Томмазино, не стоит вспоминать всякие грустные истории. Давай лучше поговорим о чем-нибудь веселом и приятном для души. Ты видишь эту девочку?
– Моя сестра, – уверенно сказал Томми. – А эта… красивая леди ее мама? Проклятье, да как отец мог спать с моей матерью – она ведь настоящая обезьяна, к тому же черножопая.
– Полегче, Томмазино. – Джельсомино вздохнул и засунул фотографию в бумажник. Если бы наш Франко не спал с… Лилой, не было бы на свете тебя, и мы бы сейчас не сидели с тобой за этим столом и не пили имбирное пиво. Я сам ругал Франко за то, что он изменял Марии. Помню, даже из дома выгнать хотел после того, как Лила заявилась к нам и устроила настоящий погром. Это из-за нее Мария травилась. Ну да, бедная девочка от горя лишилась своего великолепного голоса, и ее освистали на концерте в Палермо. Бабушка твоя не позволила выгнать Франко – он у нее в любимчиках ходил. Э-хе-хе…
– Он что, умер? – Безразличный тон Томми не удался.
– Франко разорвало на куски бомбой. Но он успел в последний момент прикрыть собой эту красивую синьору. Знаешь, Томмазино, мы, мужчины, подчас ведем себя как круглые дураки – таскаемся по всяким грязным притонам, вместо того чтобы наслаждаться жизнью в своем богатом дворце. Франко, могу поклясться своим здоровьем и всем, что нажил, Марию любил больше жизни.
– А эта… девочка теперь большая? – помолчав, спросил Томми.
– Лиззи? О, если она наденет туфли на высоких каблуках, то будет почти с тебя ростом. Тебе сколько лет-то?
– Восемнадцать недавно исполнилось. Я родился в День благодарения.
– Вот оно что… – Джельсомино опять достал свой платок, но, повертев в руках, засунул обратно. – Выходит, Франко связался с Лилой еще до того, как встретил Марию. И ты у них родился еще до их встречи. Сдается мне, Лила его все время шантажировала тобой, а он, дурачок, вместо того, чтобы рассказать все как есть Марии, молчал и наливался по вечерам джином. Мария добрая, она бы все поняла и простила. Еще бы и тебя взяла… – Он затряс головой, словно пытаясь отогнать непрошеные мысли. – Святая Мадонна, вразуми: что делать? Рад я внуку, с ума можно сойти от такой радости, но не знаю, какой он человек. Хочется, ой как хочется верить, что хороший и в нашу породу, а там кто его знает…
– Мистер Хоффман говорит, у меня добрая карма, – сказал Томми. – Вряд ли мистер Хоффман ошибается – слепые очень чувствительные люди.
– Мистер Хоффман? А кто такой этот мистер Хоффман? – Джельсомино внимательно смотрел на внука.
– Он долго жил в Африке. Он… он пустил меня к себе, хотя видел в первый раз. – Томми улыбнулся. – Нет, он меня, конечно же, не видел, а почувствовал мою карму. Честно говоря, я не знаю, что такое карма. А ты, дедушка?
– Это… это какие-то токи или волны, которые исходят от каждого из нас. – Джельсомино сам толком не знал, что это такое, но не мог же он ударить лицом в грязь перед внуком, тем более в их первую встречу.
– У тебя тогда тоже добрая карма. – Томми коснулся плеча Джельсомино. – Да-да. Это похоже на солнечное тепло. Правда! Есть люди-солнце, а есть ледяные… как их там… айсберги.
Джельсомино был окончательно покорен. Он готов был сию минуту посадить юношу в свой «фиат» и повезти к Лиззи, но опасался гнева Аделины. Внезапно в голове у него созрел план.
– Томмазино, а ты хотел бы увидеть свою сестру? – спросил он, перегнувшись через стол и глядя на юношу снизу вверх.
– Да, – неуверенно ответил тот. И тут же широко улыбнулся. – Это было бы замечательно, дедушка. Я всегда мечтал иметь младшую сестренку.
– Тогда посиди здесь, а я за ней смотаюсь. Я мигом! Идет?
Джельсомино бросился к выходу.
– Что это с ним? – спросил Сичилиано, подходя к столику. – Вообще-то он добрый старикашка, но иногда может сболтнуть такое…
– Он замечательный старик! – воскликнул Томми, вскакивая со стула. – Синьор Сичилиано, почему вы никогда не говорили мне о том, что у меня есть дедушка, бабушка и даже младшая сестренка? Почему мне никто никогда об этом не рассказывал? Да я… я был бы совсем другим, если бы знал об этом. Я думал, никому я в этом мире не нужен, а оказалось…
Ему не удалось сдержать слезы.
…Лиззи облачилась в одно из платьев Маши. Его когда-то привез из Дакара Франческо. Это был национальный костюм – длинное платье в талию из темно-зеленой в мелкий черный цветочек хлопковой материи с широкой юбкой и головной убор в виде тюрбана.
– Я похожа на африканскую женщину? – спросила Лиззи, садясь на переднее сиденье.
– Наверняка похожа. Только вот беда – я никогда не был в Африке и не видел их, – ответил Джельсомино. – Ну а те, что здесь расхаживают, черт знает на кого похожи – не то на попугаев, не то на этих мартышек из телесериалов. Ты у меня, Лиза, девочка что надо.
– А он… красивый?
– Томмазино? Пожалуй. Да ты сама скоро увидишь. Скорее, чем бабушка успеет нас хватиться. Скажем ей, что ездили смотреть на корабли, ладно?
– Ладно. – Лиззи вздохнула. – Ей самой очень скоро захочется на него взглянуть. Я знаю.
Томми поджидал их возле входа в ресторан. Он оторопел, увидев тоненькую высокую девушку в длинном платье с многочисленными фалдами и оборками. Она остановилась, едва ступив на мощенную плитками в зеленые ромбики и красные звездочки дорожку, и слегка приподняла рукой подол длинной юбки.
– Ты собралась на маскарад, сестренка? Томми ухмылялся во весь рот.
Лиззи молча повернулась и направилась к машине.
– Эй, куда ты? – В мгновение ока он очутился рядом с ней. – Я пошутил. Я, наверное, всегда так неумело шучу. Не обижайся.
Она внимательно посмотрела в его большие темные глаза. В их загадочной глубине вспыхивали веселые искорки.
– Все в порядке. Я забыла, что у дылд мозги не поспевают за ростом. Ничего, годика через два, может, и догонят.
Томми расхохотался, и они обнялись.
ЛУИЗА МАКЛЕРОЙ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ МЕСТИ
Луиза Маклерой не находила себе места с тех самых пор, как эта мерзавка Сьюзен Тэлбот обвела их вокруг пальца, сумев повернуть все таким образом, что Синтия при разводе осталась ни с чем. Вдобавок ко всему пресса вылила на их семью целые бочки грязи и только на ее бедную малышку взвалила вину за то, что ребенок родился неполноценным.
И она, Луиза, ничего не могла поделать – ведь ее собственный сын Мейсон был замешан в этом грязном деле со смертью Гарнье. Этот дебил Хью Крауфорд от страха намочил штаны и показал на суде, что Синтия Маклерой, в замужестве Конуэй, была в течение месяца с лишним любовницей Арчибальда Гарнье. И даже сумел назвать даты их свиданий.
Все сошлось одно к одному. Врачи свидетельствовали, что ребенок родился вполне доношенным. Более того, его группа крови и все остальные показатели совпали с показателями Арчибальда Гарнье.
Луиза не могла забыть улыбку Сьюзен Тэлбот, которая подошла к ней после вынесения вердикта, полностью лишавшего Синтию каких-либо притязаний на деньги Конуэев.
– Поздравляю тебя с внуком, Луиза, – во всеуслышание заявила она и, кивнув в сторону Бернарда, добавила: – А этот тип оказался никудышним отцом – не смог починить бракованное изделие Гарнье.
Сьюзен взяла Бернарда под руку и победоносно проследовала к выходу.
Синтию пришлось поместить в частную клинику в Австрии – после рождения ребенка она стала пить и колоться, в результате чего опустилась до такой степени, что могла по нескольку дней не мыться, не менять нижнего белья и не чистить зубы.
И вообще фортуна повернулась к Маклероям своим отнюдь не самым симпатичным местом с тех пор, как за них взялась эта стерва. Начать с того, что акции нефтяной компании в Техасе, в которые муж вбухал чуть ли не весь свободный капитал, резко упали в цене, и компания прекратила свое существование. В тот же злополучный год Мейсон, возвращаясь здорово навеселе с какой-то вечеринки, сбил старика-негра, переходившего дорогу в неположенном месте. Старик умер от страха – травмы, полученные при падении, оказались незначительными. Однако процент алкоголя в крови Мейсона превысил все допустимые для штата Джорджия нормы, и суд оштрафовал его на кругленькую сумму в сто тысяч долларов. К тому же пришлось выплатить компенсацию семейству старика.
Но и это еще не все. Если бы не эта гадина Сьюзен, Луиза ни за что бы не связалась с Алленом Хилпатриком, этим юристом-дилетантом, зато большим профессионалом по части секса. Он вел на начальной стадии это и без того крайне запутанное дело и запутал все еще больше, решив съездить в Нью-Орлеан к родителям этого Гарнье. Луиза, разумеется, вызвалась сопровождать. Она вымоталась за последние месяцы и вообще чувствовала себя не в форме, а этот молодой – на два года старше Мейсона – красавец-юрист всегда говорил ей столько комплиментов и так выразительно жал локоть… Они стали любовниками, превратив деловую поездку в своеобразный медовый месяц. Луиза потом долго краснела, вспоминая, что они вытворяли в том бунгало на берегу Мексиканского залива. Она вновь ощутила себя молодой, красивой, желанной. Недолгие праздники сменились суровыми буднями. Всего через каких-нибудь три месяца после этой сексуальной идиллии в бунгало окнами на посеребренный лунным светом залив в крови Луизы Маклерой обнаружили вирус этого страшного заболевания – AIDS.
Врачи утешали как могли. Они говорили ей, что вероятность заболеть этой вульгарной болезнью ничтожно мала, что она вполне может умереть естественной смертью лет в 85–90. Хотя, конечно, вероятность того, что… не исключена. Словом, она поняла, сами врачи ничего толком не знают.
Луиза позвонила в Атланту Аллену и набросилась на него с угрозами, обильно орошенными слезами отчаяния. В ответ получила столь звонкую оплеуху по своему самолюбию, что едва не лишилась рассудка.
Этот подонок обозвал ее дохлой клячей и сказал, что она должна быть на седьмом небе от счастья, что его (следовало нецензурное слово) встал на ее драную (снова нецензурное слово) и что таким старым обезьянам, как она, давно бы пора сыграть в ящик. Ну, и в подобном духе.
А ведь Луиза истратила на этого Аллена Хилпатрика целое состояние.
Она впала в уныние. Потом ударилась в благотворительность, создав в Атланте фонд для борьбы с AIDS. Но туда обращались главным образом черные.
Луиза с детства презирала их и прочих цветных, а потому ее благие порывы быстро угасли.
Она навестила дочь. Синтия жаловалась на врачей.
– Они все до одного импотенты, – говорила она матери. – Я все время хожу голая – здесь такая жарища стоит, к тому же вся одежда трет и колется. Знаешь, мамочка, я поняла, одежду придумали для того, чтобы скрывать дефекты фигуры. У меня исключительная фигура. Эта красотка Линда в сравнении со мной кривая палка с сучками, хоть и считается первой моделью в мире. Уверена, у нее куча сексуальных проблем – вижу это по ее вертлявой походке. У меня сроду не было сексуальных проблем, правда, мамочка? Но бедняжка Линда выросла в Европе, а я в Америке. Если бы я выросла в Европе, где все мужчины такие хлюпики, у меня бы у самой наверняка была масса сексуальных проблем. Мамочка, ну хоть ты скажи этим кретинам, какая я сексуальная девочка. Скажи, ладно?
Луиза кивала, думая, разумеется, о собственных невзгодах. Она уже успела поговорить с врачами. Диагноз оказался на редкость единодушным – Синтия страдает нарциссоманией, осложненной маниакальным психозом, возникшим на почве сексуальной неудовлетворенности. Она не опасна для окружающих, и ее в любой момент можно выписать из клиники. Разумеется, ей требуется неусыпное внимание.
Подумав немного, Луиза сказала, что ее дочь останется в клинике, и выписала чек на сумму, покрывающую расходы за трехмесячное пребывание.
Она не желала взваливать на свои плечи лишнюю обузу.
Луиза прожила неделю в роскошном отеле в австрийских Альпах. Она готова была согласиться с дочерью, что мужчины в Европе, по крайней мере в той ее части, где она находилась, настоящие импотенты – за все это время к ней не проявило интереса ни одно из этих двуногих млекопитающих.
Она вернулась в Штаты и поселилась на своем семейном ранчо. Муж, с которым она с незапамятных времен прекратила супружеские отношения и который имел на стороне женщин, вдруг показался ей вполне сносным в сексуальном плане мужчиной. Разумеется, он не догадывался, что в крови жены обнаружили этот ужасный вирус… Луиза в итоге получила двойное удовольствие – оргазм плюс небезосновательную надежду, что Теренс заразит своих шлюх.
Она почитывала газеты, время от времени наталкиваясь в колонках светской хроники на сообщения о том, что техасского бизнесмена и мультимиллионера Бернарда Конуэя часто сопровождает в деловых поездках внучка издательского магната Энтони Тэлбота Сьюзен. Луиза вырезала эти заметки и приклеивала их на листы блокнота. С какой целью – она не знала сама.
Однажды ночью раздался телефонный звонок. Трубку взял приехавший на уик-энд Теренс.
Звонили из клиники врожденной патологии в Атланте. Ребенок, Джей Би Маклерой, скончался от острой сердечной недостаточности. Далее следовал пышный букет его прижизненных диагнозов. Луиза мысленно перекрестилась.
Похороны были богатыми и многолюдными. Синтии очень шел траур, и на следующий день ее фотографии появились на страницах газет. Ясное дело, никто из репортеров не знал, каких трудов стоило Луизе убедить дочь не раздеваться на кладбище. Мать с дочерью заключили своеобразную сделку: за то, что Синтия иногда будет появляться одетой на людях, Луиза разрешит ей ходить совершенно голой дома. Да еще поможет находить на каждую ночь любовника.
Синтия разболтала это по телефону всем бывшим подружкам. А поскольку на Юге все еще пышно цвела консервативно-ханжеская мораль времен гражданской войны, пришлось в спешном порядке сматываться в северо-западном направлении.
Но в Беверли-Хиллз Синтия внезапно захандрила и совершенно отбилась от рук. Плюс ко всему там, как и в Нью-Йорке, царили богемно-космополитические нравы, примириться с которыми Луиза никак не могла и не хотела. Когда Синтия угнала «роллс-ройс» известного итальянского режиссера, снимавшего в Голливуде свой очередной шедевр, и вылезла из машины на бульваре Сансет совершенно голая в сопровождении негра в набедренной повязке, которую сдернула с него на виду у всех, пришлось в очередной раз поменять место жительства.
В Европу Синтия отказалась ехать наотрез. Африка отпадала сама собой – там слишком много черных. Что касается Австралии с Океанией и Южной Америки, тут Луиза проявила непреклонность: москиты, лихорадка, туземцы, тайфуны и так далее. Синтия предложила поехать в Россию.
Неожиданно для себя Луиза согласилась.
…В Москве стояли трескучие морозы. В их отеле, на счастье, было более чем прохладно, и Синтия ходила в ресторан в короткой шубе из черно-бурой лисицы, которую надевала прямо на голое тело, и в высоких замшевых сапогах. На нее обращали восхищенное внимание русские – обслуга отеля, официанты ресторана, молоденькие смазливые девушки, вечно кого-то ждавшие в вестибюле. Через несколько дней, к изумлению Луизы, появились «двойники» – девушки в лисьих жакетах и высоких замшевых сапогах. В отличие от Синтии они носили прозрачные колготки и длинные свитера телесного цвета с декольте чуть ли не до пупка.
Луизе очень понравилась восприимчивость русских к веяниям американской моды вкупе с их находчивостью.
Морозы как будто остудили сексуальные порывы Синтии, и Луиза позволила себе перевести дух. Тем более, эти странные русские были так гостеприимны и так снисходительны к иностранцам.
В буфете Большого театра, который Луиза решила почтить своим присутствием, к ним за столик подсел немолодой мужчина. Он довольно бойко говорил по-английски, но его «прононс» коробил чуткое Луизино ухо. Он представился как великий русский поэт, сказал, что его стихи читают во всем мире (Луиза их, разумеется, не читала), что он неоднократно выступал в Америке и даже был приглашен в Белый дом (Луиза этому не поверила), что…
Поэт говорил и говорил, переводя свои тускло-желтые глаза с одной женщины на другую. Наконец обратился к отрешенно сидящей Синтии:
– Вы напоминаете мне молодую Ахматову. Это наша великая поэтесса, гордость нации. Она была, как и вы, неприступна и всегда погружена в себя. Я и раньше считал, что русские и американцы родственные народы. После спектакля приглашаю вас к себе на дачу.
На поэте был довольно приличный костюм современного покроя и отличные ботинки из натуральной кожи. Луиза кивнула в знак согласия. Синтия зарылась подбородком в воротник своего неизменного мехового жакета.
У поэта было трудновыговариваемое имя, и Луиза сказала, что будет звать его Бобом. Они долго ехали в его машине среди снегов и тусклого мерцания фонарей. В небольшом, но довольно уютном и вполне современно обставленном доме Боба было жарко, и Луиза поначалу испугалась, что Синтия разденется. Но дочь все с таким же отрешенно-загадочным видом куталась в свой меховой жакет и не отрываясь глядела в расписанное морозом окно.
Потом они – Луиза и Боб – пили «са-мо-гон», закусывая шоколадными конфетами и пряниками. Дальше у нее в голове все сместилось, и она, протрезвев, так и не могла восстановить последовательность событий. Всему виной, разумеется, был этот экзотический напиток. Как справедливо заметил Боб, его действие на организм человека непредсказуемо, а поскольку русские этот напиток обожают, их поступки тоже непредсказуемы с точки зрения цивилизованного, то есть западного, человека.
Короче, Луиза помнит, как они с Бобом бегали друг за другом нагишом по дому и даже выскакивали во двор, где был маленький бревенчатый домик. Там Боб стегал Луизу по спине и заднице большим веником. Она тоже его стегала, но он предпочитал лежать в это время на спине и все просил ее бить по низу живота к гениталиям. Потом (а возможно, это было сначала) Боб сидел голый в кресле у камина и читал свои стихи, обращаясь к Синтии, все так же укутанной в меховой жакет. Еще Луиза помнит, что пыталась сорвать с дочери этот жакет и похвалиться перед Бобом ее роскошным телом, но Синтия молча отпихнула ее, больно ударив в живот сапогом.
Нет, они не занимались с Бобом любовью – уж что-что, а это Луиза бы точно запомнила: у нее уже несколько месяцев никого не было, если не считать, разумеется, Теренса с его членом, напоминающим детскую соску. (Это сравнение, помнится, очень понравилось Бобу, и он сказал, что непременно использует его в своей новой – автобиографической – книге.) Боб сказал, что у него кончились презервативы, а без них он остерегается иметь «сексуальный контакт» с американками, ибо считает Америку родиной СПИДа. Девочек для траханья, сказал Боб, навалом и в России.
Луиза попыталась его изнасиловать, но из этой затеи ничего не вышло – он взобрался на массивный шкаф и читал оттуда свои стихи, которые построчно переводил на английский.
Они уехали в Москву лишь к вечеру следующего дня. Луизе с большим трудом удалось уговорить дочь сесть в машину – последние пять часов Синтия стояла на коленях на полу холодной веранды, задумчиво положив подбородок на подоконник, и соскребала ногтями лед со стекол.
– Я посвящу вам стихи, – пообещал Боб Синтии, которая полулежала на переднем сиденье его «волги»-пикапа и не отрываясь смотрела вперед. – Я их уже написал сегодня утром. – Когда Боб мог это сделать, Луиза так и не поняла – насколько она помнила, они до полудня спали валетом на неудобной узкой кровати с низкими деревянными спинками, и у Боба дурно пахло от ног. – Осталось только отвезти в редакцию газеты. Я посвящаю их всем американкам, ибо вижу вас квинтэссенцию женского начала, от библейской Евы и до современниц. Вы – американская Татьяна Ларина, увиденная глазами русского поэта-космополита, обретшего второе дыхание благодаря перестройке и гласности. Я назову его «Девушка из страны Вирджиния».[20] Просто до гениальности. – Он обернулся к Луизе. – Если бы я не был женат, я стоял бы сейчас на коленях в снегу и просил у вас руки вашей… младшей сестры.
Вечером Боб повез Луизу на какой-то фуршет. Синтия осталась в отеле: Боб договорился с неизвестным фотокорреспондентом, чтобы тот поснимал ее для какого-то журнала.
Луиза валилась с ног от усталости, но держалась. Она была потрясена вниманием, оказанным ей на приеме в честь одного из самых известных русских модельеров. Подчас ей казалось, будто прием устроен ради нее – глаза слепили магниевые вспышки, бокалы с шампанским многократно позвякивали в честь ее красоты и благополучия. Боб то и дело хлопал Луизу по плечу и называл «my fair lady».[21] Он повторил несколько раз, что, несмотря на свою напряженную творческую работу и политическую деятельность на благо перестройки, он готов найти время и проведать своих лучших друзей, даже если они живут за океаном.
– Только пришли мне билет. Заказным письмом, – повторял он, склонившись к уху Луизы. – У нас большие проблемы с авиабилетами. Ты присылаешь мне вызов и авиабилет…
Когда Синтия заявила, что выходит замуж, Луиза чуть не упала в обморок. С одной стороны, это означало, что она наконец будет свободна. Но с другой…
Уж больно эти русские загадочные.
Фотограф Миша снимал ее дочь сначала в номере отеля. Он балдел от находки, подсказанной ему самой Синтией, – роскошный мех, обнаженное тело, длинные волосы, ноги в сапогах выше колен, пушистый темный треугольник волос под мраморной белизной живота…
Синтия оказалась прирожденной фотомоделью, страстно отдающейся объективу. Миша свозил ее к знакомому модельеру в меховое ателье. Они не спали целые сутки. Вернувшись на рассвете в отель, Синтия сообщила Луизе свою новость, стоя на пороге их люкса, – босая, в белоснежной песцовой шубе до пят.
– И я остаюсь в России, – добавила она. – Это страна будущего. Мне осточертело жить на кладбище.
Луиза безуспешно пыталась дозвониться мужу – в западном полушарии уже наступил вечер, и Теренс, по-видимому, расслаблялся в объятиях шлюх. Она позвонила одному из секретарей американского посольства, с которым ее познакомили на приеме, и тот чуть ли не слово в слово повторил высказывание дочери о России и, соответственно, о Западе.
– Я поступлю, как Понтий Пилат, – говорила Луиза Мейсону, сонному (в Атланте было всего девять вечера) и по обыкновению угрюмому. – Соберу чемоданы и уеду… Нет, только не домой. Что ты, я вовсе не собираюсь мешать счастью собственной дочери, нарушать гармонию двух любящих сердец… Да, конечно, я оставлю ей несколько тысяч наличными… Нет-нет, кредитной карточкой она пользоваться не может… Ты полагаешь, этот Миша захочет переехать в Штаты? Гм… В таком случае нужно будет продумать условия брачного контракта… Да, мне здесь тоже нравится, но я говорю, что не хочу мешать им своим присутствием.
На следующий день она улетела в Штаты, ибо в России, как и в Европе, ей не повезло с сексом. Зеркальце косметички, в которое она часто смотрелась во время полета, сказало ей о том, что пора всерьез заняться своей внешностью. Что Луиза и сделала, едва ступив на родную землю. Два месяца, проведенных в клинике профессора Гопкинса, вернули ей ощущение молодости. Отныне все зеркала кричали в один голос, что она хороша собой. Луиза изменила прическу, цвет волос, макияж и, разумеется, стиль одежды: слишком рано, это ясно, обрекла она себя на элегантные туалеты для дам забальзаковского возраста. Современные кутюрье предлагали столько моделей, чтобы женщина выглядела молодо и привлекательно. Еще почти месяц Луиза провела в Беверли-Хиллз, усердно посещая заведения, где при помощи особой гимнастики обычных женщин превращали в секс-бомб.
Она была неутомима… Как вдруг ей все наскучило, и она пустилась в загул.
…Дней через десять, глянув на себя в зеркало, Луиза ахнула, прикинув, сколько денег и усилий брошено на ветер. На нее смотрела пожилая дама с желтоватыми припухлостями под все еще красивыми глазами и дряблой шеей.
Она достала из шкафа бутылку виски, но в последний момент передумала пить. Через пять минут она уже звонила в Нью-Орлеан – там жила ее единственная школьная подруга, с которой Луиза умудрилась сохранить хорошие отношения.
Ей захотелось выплакаться у нее на груди, в тишине и покое зализать все еще саднящие раны.
– Героиня моей новеллы, за которую я получила премию журнала «Woman's World»,[22] говорит в одном из телевизионных шоу: «Такой болезни, как AIDS, не существует в природе. Она – выдумка мужчин-импотентов в ответ на сексуальную революцию шестидесятых годов, их жалкая, немощная, как и их усохшие члены, месть».
Движением руки Стефани откинула со лба свои прямые темно-каштановые волосы и улыбнулась сидящей напротив Луизе. Они завтракали на веранде большого деревянного дома, доставшегося Стефани в наследство от бабушки по материнской линии. Вокруг был сельский простор, хоть дом давно оказался в черте разросшегося города. В придачу к дому Стефани получила несколько акров земли, с которой не пожелала расстаться ни за какие деньги.
– Ты на самом деле так считаешь? – с робкой надеждой спросила Луиза подругу. – Но ведь они сумели выделить этот проклятый вирус и утверждают, что он якобы передается…
– Я все это слышала! – воскликнула Стефани. – А что им еще остается делать, спрашивается? Государство развалится как карточный домик, если люди вдруг почувствуют себя свободными и от обязанности обзаводиться семьями тоже. Из чего я сделала вывод, что политики наверняка финансируют эту новую антисексуальную кампанию.
– Какое счастье, что я вспомнила про тебя! – Луиза вдруг заметила, что на дворе чудесное утро, что светит солнце, щебечут птицы, что волшебно пахнут цветы и травы. Это было болезненно-радостное осознание, и на глазах у нее выступили слезы. – Ты удивительная женщина, Стефани, – сказала она, промокая уголком платка глаза. – Такое впечатление, что годы не только не сломили тебя, а сделали сильнее.
– Ломают не годы, а мужчины, которых мы подпускаем слишком близко к сердцу, а то и в самое сердце впускаем. – Стефани невесело усмехнулась. – Я постигла это каким-то десятым чувством еще в детстве. Ну да, передо мной был трагический, хотя нет, скорее трагикомический пример моих родителей. Илона Лукач изо всех сил пыталась сохранить свой брак с Эриком Голдстейном, искренне думая, что делает это ради меня. Плюс ко всему прочему бедняжка была непоколебимо уверена, что Эрик скатится в болото, стоит ей бросить его. Что ж, они оказались там оба.
– Твои родители еще живы?
– О да. Люди подобного склада, как правило, доживают до глубокой маразматической старости. Илону я отвезла к сестре в Линкольн, штат Небраска, Эрик в пятьдесят два женился наконец на одной из своих многочисленных подружек. Через год с небольшим его парализовало. Сейчас он находится в приюте для престарелых в Джеймстауне, Северная Дакота. Никого не узнает, кроме моей матери. Правда, к нему, кроме нее, никто и не ездит. Я никогда не любила отца. Я всегда знала, как он относится к женщинам – взять, взять, еще раз взять и ничего не дать взамен. Увы, мать поняла это слишком поздно, когда жизнь уже прошла. А ведь все могло сложиться по-другому: у нее был такой замечательный голос… Нет, я не люблю своих родителей – отца за то, что он такой, какой есть, ну, а мать за ее слабость, из-за которой она не стала тем, кем вполне могла стать. И я не притворяюсь – лицемерие, быть может, самый опасный человеческий порок.
– Ты можешь себе позволить рассуждать подобным образом, ведь ты – настоящая знаменитость. Я видела тебя несколько раз по телевизору. По твоему роману сняли фильм.
– Черт, да они все испортили! – воскликнула Стефани. – Киношники непременно должны сгладить острые углы и втиснуть любой сюжет в опробованную схему. Ну да, они уверены в том, что их стряпню смотрят миллионы, девяносто девять процентов из которых они привыкли считать дебилами. Увы, иной раз приходится идти на сознательный компромисс со своим «я». Ведь кино – прекрасное паблисити. Главное – не тешить себя иллюзиями и не пытаться оправдываться перед прессой и самим собой.
– Это правда, что… – Луиза замялась, не осмеливаясь задать подруге вопрос, который с момента их встречи вертелся у нее на языке. – Понимаешь, я читала в какой-то газете, что ты…
Стефани откинулась на спинку стула и весело рассмеялась.
– Ну да, они писали, что я лесбиянка. Они уверены в этом. И знаешь почему? Потому что я никогда не была замужем, не появлялась нигде в общественных местах с мужчиной, а главное, они считают, что я нападаю в своих произведениях на мужчин, хотя я всего лишь говорю о них правду. Но лесбиянкой меня считают только мужчины. Что касается женщин, они теряются в догадках, и кое-кто последнее время высказывает предположение о том, что моя сексуальность вообще на нуле. Сознание многих устроено довольно примитивно: в порок верят с готовностью, сведения же противоположного характера воспринимаются с большой неохотой и подозрением. Я все время пытаюсь понять, в чем причина этого. Идею первородного греха я, признаться, не воспринимаю всерьез. Скажи честно, а ты могла бы поверить в то, что женщина может находить в себе и своем творчестве все, что ей необходимо для вполне нормальной и даже счастливой жизни?
– Как тебе сказать… – Луиза была в нерешительности. – Дело в том, что, как ты помнишь, я влюбилась в первый раз в десятилетнем возрасте. С тех пор в моей жизни, похоже, не было свободного от любви времени. Разве что сейчас. Правда, я все еще не потеряла надежду встретить…
– Обыкновенное млекопитающее, к которому тебя потянет лишь в силу того, что у него в крови преобладает тестостерон,[23] в то время как у тебя эстрон[24] и его производные. Разумеется, тебе бы и в голову не пришло, что для нормального функционирования в этой жизни женщине необходим самец, если бы нам не внушали это с детства. Согласись, редко кто из нас выходит замуж за того мужчину, С кем хорошо и в постели, и вообще. Обычно в семейные партнеры подбирают человека, занимающего определенную ступень на лестнице социального и материального благополучия. Я отказалась следовать этим законам. В отместку мне приписали массу пороков.
– Так ты… неужели ты на самом деле старая дева? – со жгучим любопытством в глазах спросила Луиза. – Вот уж сроду бы в голову не пришло, что такая красивая современная…
Стефани опять расхохоталась. Лежавшая возле ее ног колли Нана вскочила и звонко залаяла.
– Успокойся, моя девочка. – Стефани потрепала собаку по лохматой холке. – Ты прелесть, Луиза, хотя уверена, не прочитала ни одной из моих книжек. Мне задали этот вопрос во время одного телешоу. Угадай, что я ответила?
Луиза пожала плечами.
– Что я не понимаю значения этого слова и попросила задававшего его – кстати, им оказался молодой и довольно интересный мужчина из породы самоуверенных самцов – объяснить мне его значение. Он что-то такое мямлил, а публика вволю над ним потешалась. Потом газеты написали, что я Дон-Жуан в юбке, ловко скрывающий свою личную жизнь от посторонних.
– Но ты так и не ответила на мой вопрос, – напомнила Луиза. – Поверь: я умею хранить тайну, а тем более своей единственной подруги.
– А здесь нет никакой тайны, – сказала Стефани, закуривая сигарету. – Ты видишь то, что я из себя в данный момент представляю. Повторяю, я не умела и не умею притворяться. Это знала еще моя бабушка, жившая в этом доме. Меня много, понимаешь? И все они – это я. – Она вдруг прищурила свои большие светло-карие глаза и спросила: – Хочешь стать участницей невероятных приключений?
– Да, – ни секунды не колеблясь, ответила Луиза. – Но при условии, что это будут сексуальные приключения.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БОГАТЫХ ЛЕДИ
Они бросили «пежо» возле супермаркета и пересели в серебристый «ауди», стоявший в десяти шагах. Накрапывал дождик. Центр города сверкал яркой радугой неона.
Луиза разглядывала себя в ручное зеркальце: короткие черные волосы, ярко-красные губы, длинные нейлоновые ресницы. Лет тридцать – больше дать нельзя. На ней был жакет из белой замши, красная юбка с разрезом чуть ли не до пояса – ну да, у нее до сих пор по-девичьи стройные ноги и красивые продолговатые коленки.
Стефани по-мужски лихо вела машину. Впрочем, Луизе казалось, что за рулем не ее школьная подруга, а молодой красивый незнакомец. Это она подобрала Стефани парик и рубашку фасона а ля-лорд Байрон.
– Сейчас мы заедем за одной милашкой, которая с удовольствием составит нам компанию, – говорила Стефани, сворачивая в темную аллею. – Настоящая Афродита Каллипига.[25] Да ты сама в этом убедишься.
Едва машина остановилась возле многоквартирного дома, как из освещенного подъезда выпорхнуло длинноногое создание в прозрачном дождевике с капюшоном.
– Привет, Фа, – сказала Стефани, когда девушка очутилась на заднем сиденье «ауди»: – Это Лулу, моя подруга. Едем в «Сфинкс».
Машина вынырнула на освещенную улицу, и Луиза разглядела в зеркальце заднего обзора симпатичную, искусно накрашенную мордашку в обрамлении длинных прямых волос темно-пепельного цвета. Этой Фа было лет двадцать. Она производила впечатление девушки из хорошей семьи, отметила мысленно Луиза.
Вход в «Сфинкс», заведение, расположенное в прибрежной зоне города, – Луиза явственно ощущала свежий запах моря – был тускло освещен одним-единственным фонарем в виде большого оранжевого шара. Их провели в полутемную комнату, где полукругом были расположены кресла, возле сцены, отделенной от зрительного зала толстым прозрачным стеклом. На ней стояла кадка с раскидистой пальмой, цветущий куст гибискуса и лежал пушистый ковер, напоминающий хорошо ухоженную лужайку.
Фа хихикнула, с удовольствием потирая руки.
– Руди говорит, Уош сегодня в ударе, – сказала Стефани, наклонив голову к Фа. – Даже пришлось выпустить его в сад, чтобы он не поломал мебель. Лулу, я не буду тебе ничего рассказывать. Увидишь все своими глазами.
Луиза огляделась. Кроме них, в зале было человек семь, судя по внешнему виду, люди из общества. У одного мужчины, заметила Луиза, были накрашены губы, а длинные черные волосы заплетены в мелкие косички. Его спутница, девушка в длинном белом платье с черными геометрическими фигурами на груди и широким бархатным поясом показалась ей настоящей кинозвездой.
Сцена вдруг ярко осветилась. На нее вышла девушка в короткой белой тунике и с венком на голове. Заиграла негромкая музыка – это было «Болеро» Равеля. Девушка села на ковер, вытянула ноги, подставив лицо воображаемому солнцу. Потом легла, подняла ноги и стала болтать ими в воздухе в такт набирающей обороты музыке.
Из-за куста гибискуса появилась большая человекоподобная обезьяна. Луиза определила это по физиономии, но в то же время ее одолевали сомнения: уж очень человеческой была манера ее поведения. Нет, все-таки обезьяна, решила в конце концов Луиза – передние конечности чуть ли не до пола, темные очки с трудом держатся на приплюснутом с вывернутыми ноздрями носу, вместо губ – длинные узкие полоски. На обезьяне был лохматый черный парик с маленькими рожками на макушке. На теле ни волоска. Настоящий фавн, только вместо копыт черные сандалии.
По залу прокатилась волна возбуждения. Музыка играла все громче. Фавн приблизился к беззаботно валявшейся на травке нимфе, наклонился, схватил ее за лодыжки и поднял в воздух. Туника слетела, обнажив трусики в форме фигового листа.
– Давай, Уош, приступай к делу! – услышала Луиза возбужденный женский голос из зала. Она повернула голову. Кричала девушка в платье с геометрическими фигурами на груди.
– Нет, ты ее сперва заведи! – возразил не менее возбужденный баритон. – Ты же настоящий мужчина, Уош!
Уош широко развел ноги девушки, и Луизе в какой-то момент показалось, что он собирается разорвать ее тело надвое. Она невольно вскрикнула и тут же почувствовала, как в ней пробуждается желание. Она представила себя на сцене во власти этого страшного зверя.
А тот поднял девушку еще выше. Ее вагина оказалась на уровне шеи обезьяны. Луиза затаила дыхание. Горилла высунула длинный красный язык.
Свет на сцене погас, и зрительный зал погрузился во мрак, лишь мерцали красные ромбы неона над выходом.
В зале началось нечто невообразимое. Кто-то стонал. Какая-то женщина монотонно твердила:
– Fuck you, fuck you, fuck you…[26]
– Заткнитесь! – раздался срывающийся на фальцет мужской голос. – Вы мешаете ему сосредоточиться.
Сцена вспыхнула мягким приглушенным светом. Уош уже не держал девушку за ноги. Луиза обратила внимание на его фаллос – он был невероятных размеров и стоял не перпендикулярно, а под углом кверху. Обезьяна, гримасничая, ожесточенно массировала его. Если бы Луиза не почувствовала приближения оргазма, она бы расхохоталась.
Когда Уош схватил нимфу за талию и посадил с размаху на свой чудо-фаллос, зал слился в чувственном реве. Луиза чуть не потеряла сознание. Девушка обхватила туловище обезьяны ногами. Огромные ручищи Уоша впились в ее покрасневшие ягодицы.
– На куннилингус Руди сегодня не решился, – услышала Луиза шепот Стефани. – Это могло бы кончиться бедой.
Между тем девушка ерзала все быстрей и быстрей, в конце концов попав в ритм «Болеро». Вдруг она перегнулась назад так, что волосы коснулись пола. Горилла стиснула ее талию.
Луизе казалось, она видит, как фаллос Уоша двигается в вагине девушки. Она поняла, что взорвется, если сию же минуту не…
Луиза вскочила и бросилась к сцене. Но ее опередили. Это был тот самый мужчина с длинными черными косичками и накрашенными губами. Они столкнулись, и Луиза очутилась в его объятьях. От мужчины пахло «Паломой Пикассо». У него под пиджаком оказались довольно большие упругие груди.
– У тебя намокла «киска», – сказал «мужчина», засунув руку между ног Луизе. – У меня тоже. Попробуй. – Ее рука каким-то образом очутилась в его штанах. – Ущипни меня посильней, – попросил мужчина.
Луиза повиновалась, но пальцы были слабые и плохо слушались. «Мужчина» взвизгнул. Луиза посмотрела на сцену.
Девушка теперь стояла на четвереньках, и Уош от души обрабатывал ее. Эта поза, очевидно, была для него особенно приятной – он издавал странные, похожие на плач младенца звуки, которые, должно быть, выражали крайнюю степень удовольствия.
– Я буду там послезавтра. Приходи, – сказал «мужчина», кивая в сторону сцены, и ущипнул Луизу за задницу. – Надеюсь, Уош не подкачает. Сильвии повезло – сегодня наш зверюга в ударе.
И тут до Луизы дошло, что в происходящем на сцене шоу участвуют сами зрители. Она, очевидно, тоже может стать его участницей. При этой мысли у нее подкосились колени, и если бы не «мужчина» с косичками, подхвативший ее под мышки, она бы рухнула на пол.
– Ты здесь в первый раз? – догадался «мужчина». – В первый раз это может показаться отталкивающим.
– Вовсе нет, – возразила Луиза. – Это то, о чем втайне мечтает каждая женщина.
Свет на сцене погас. На стенах вспыхнули светильники. Зрители пребывали в каком-то оцепенении. Кроме Стефании и, пожалуй, Фа, – они оживленно болтали вполголоса.
– А ты была там? – спросила Луиза у подруги, когда они садились в машину.
Стефани усмехнулась.
– Куда мне – я же старая дева. К тому же очень жадная. Той энергии, что отдала сегодня Сильвия, мне бы хватило на хорошую новеллу. Роль наблюдателя мне нравится больше. Едем в «Версаль», – предложила она. – Там только начинают.
Луиза молчала, снова и снова восстанавливая в памяти только что пережитые ощущения, чрезвычайно острые, хоть сидела она в зрительном зале. Она вдруг поняла, что, несмотря, на любовников, которых у нее было не так уж и мало, она вела до скучного пристойный и даже консервативный образ жизни. Интим вдвоем и в уединении давно и безнадежно устарел. Человечество нашло более сильный и возбуждающий способ услаждения плоти – групповой экстаз. То, что вовсю, и открыто практиковали язычники и на что на долгие годы наложила табу христианская мораль.
Рассуждения Стефании прозвучали как ответ на ее мысли.
– Человеку нельзя запрещать делать то, что он хочет. Тот, кто не умеет сублимировать сексуальную энергию, должен от нее освобождаться, не причиняя вреда окружающим. Запрет порождает маниакальные страсти. Войны и революции, как правило, затевались людьми, у которых были сексуальные проблемы. Наполеон, Гитлер, Ленин… То, что ты сейчас видела, я считаю одним из самых безобидных способов обезвреживания взрывчатки, заложенной в каждом из нас. Правда, у Руди будут крупные неприятности, если фараоны скумекают, для каких целей он посадил себе на шею этого лодыря и обжору Уошингтона Африканского.
Когда они остановились перед заведением с большой, светящейся сиреневым вывеской «Бар-ресторан «Уютный Версаль», Стефани достала из бардачка большие очки в тонкой пластмассовой оправе и повязала шею красным шелковым шарфом. Ее лицо преобразилось, но, как невольно отметила Луиза, очки и шарф здесь были ни при чем – оно изменилось изнутри. Перед ней теперь была очаровательная молодая женщина, одетая в ностальгической манере золотого века романтики.
Они очутились в просторном помещении, где стояло столиков пятнадцать, не больше. Луизе бросилось в глаза обилие цветов – это все были нежные, хрупкие орхидеи всевозможных видов и оттенков.
Метрдотель в черном вельветовом костюме провел их к столику. На нем, как и на остальных, горели три тонкие белые свечки в изящном подсвечнике и стояла большая орхидея под куполом из тонкой пластмассы.
Теперь, наконец, Луиза смогла как следует рассмотреть Фа. Девушка сидела напротив, задумчиво положив подбородок на переплетенные руки. У нее были довольно правильные черты лица и широкие скулы. «Что-то есть странное в ее лице, – подумала Луиза. – Хотя хороша. Очень».
Принесли коктейли. В большом пузатом бокале со светло-желтой прозрачной жидкостью плавали лепестки орхидеи. Луиза сделала большой глоток и откинулась на спинку кресла. Она вдруг почувствовала себя необычайно легко.
Подали блюдо с салатом из тропических фруктов, тоже украшенное цветком орхидеи. Луиза обратила внимание, что за соседними столиками едят и пьют то же самое. Это ее удивило. В чем она и призналась подруге.
– Расслабься и ешь и пей все что подают. Здесь знают в этом толк. Своеобразный ритуал для посвященных. Сегодня ты одна из нас, – сказала Стефани.
Фа внезапно встала и начала крутить бедрами. Она делала это как профессиональная танцовщица. К ней тут же приблизился красивый высокий молодой человек. Музыка – это был добрый старый рок-н-ролл времен Луизиной юности – зазвучала громче.
Следующие полтора часа – а то, что прошло уже целых полтора часа, Луиза узнала потом от Стефани, ей казалось, что пролетело каких-нибудь пять минут, – Луиза, подхваченная вихрем музыки, вертела бедрами, задирала ноги, перегибалась, крутилась вокруг своей оси, как почти и все в зале. Она вернулась на свое место обессиленная, но очищенная и умиротворенная. Стефани, пребывавшая в стороне от происходящего, сказала:
– Это тоже своего рода оргия, верно? Но, мне кажется, рок-н-ролл изобрели люди, восхищающиеся человеческим телом. Его смело можно назвать гимном нового Ренессанса.
– Но как ты смогла, усидеть на месте? – недоумевала Луиза. – Боишься расплескать сосуд со своей драгоценной энергией?
– Не в том дело, – задумчиво сказала Стефани. – Я начинаю новый роман. Когда я пишу, мне необходимо забыть о том, что у меня есть тело.
И следующую ночь они посвятили посещению заведений подобного рода. В одном из них лев вылизывал обнаженную женщину с ног до головы, уделяя особое внимание ее интимным местам, в другом – змея, обернувшись вокруг талии молодой красивой мулатки, полулежавшей на ярко освещенном диване с широко расставленными ногами, несколько раз проникала в ее вагину своей головкой с беспрестанно шевелящимся раздвоенным язычком.
– Завтра меняем маршрут, – сказала Стефани, когда они уже на рассвете подъезжали к дому. – Этот город нравится мне тем, что здесь все делают с полной отдачей и всерьез. Не люблю полутонов. Обожаю ослепительно яркие краски.
В ресторане Сичилиано царила уютная домашняя атмосфера. Сюда приходили обедать семьями, влюбленные приглашали своих подруг, счастливые отцы в кругу друзей и родственников отмечали рождение ребенка. Сичилиано знал по именам своих завсегдатаев и для каждого находил веселую шутку либо теплое слово. Завидев Стефани, он сообщил, радостно улыбаясь:
– Сегодня к Chianty Classico[27] Томмазино piccolo[28] а-ля мексикана. Canellonni[29] Пьетро делал под увертюры к операм Россини. Как обычно, Abbacchio е carciofi alla romana?[30]
Юноша слегка смущался, но у него был замечательный голос – настоящий мягкий баритон. К тому же он был красив, как языческий бог. У его гитары, казалось, было два десятка струн, а у него самого столько же пальцев. Стефани пришла в восторг после первой же песни. Ее глаза заблестели, щеки покрылись румянцем.
– Где ты откопал это сокровище? – спросила она, когда Сичилиано подошел к их столику.
– О, это большой секрет. – Итальянец хитро ухмыльнулся. – Он напоминает мне нитку чудесного розового жемчуга, которую случайно обронили в пыль. Но Сичилиано не такой дурак, чтобы не разглядеть, что жемчуг не поддельный, а самый настоящий. О, Сичилиано – продувная итальянская бестия.
Он отошел, довольно мурлыкая себе под нос каватину Фигаро из «Севильского цирюльника».
К концу вечера Стефани удалилась на кухню кое о чем поговорить с Сичилиано.
…Томми приехал к ним на следующий день вскоре после полудня. К седлу его мопеда была привязана коробка со свежей пиццей и бутылкой отличной «марсалы». Женщины пили на веранде кофе. Стефани пригласила юношу к столу, и он не стал отказываться. Между ним и Фа завязалась оживленная беседа. Наметанный глаз Луизы безошибочно определил, что в жилах парня течет и черная кровь. Как ни странно, впервые в жизни ее не шокировало то обстоятельство, что она сидит за одним столом с цветным.
Томми провел у них в доме больше часа. Фа пошла его провожать. Когда молодые люди вышли, Стефани задумчиво сказала:
– Подчас Жизнь заимствует из моих романов самые невероятные сюжеты. Мне это чрезвычайно льстит. Однако посмотрим, как будут развиваться события.
Она встала и удалилась в павильон в саду, где она работала.
В тот вечер Фа повезла Луизу в ресторан Сичилиано.
Томми пел «Маргариту», когда они вошли в зал. Он не сводил взгляда с одного из столиков, за которым сидела молоденькая девушка в экзотическом наряде и тюрбане на голове и пожилые мужчина и женщина. Закончив петь, он встал перед девушкой на одно колено и, взяв ее руку в свои, нежно поцеловал.
Луиза поняла, что знает эту девушку. Через секунду она вспомнила и ее имя.
Перед ней была Элизабет Грамито-Риччи собственной персоной. Дочь женщины, разрушившей, как считала Луиза Маклерой, брак ее дочери Синтии с Бернардом Конуэем, и родная племянница этой стервы Сьюзен Тэлбот.
Она задохнулась от злости, но взяла себя в руки. «Никто не должен ничего знать, – говорила она себе. – Ни даже подозревать. Луиза Маклерой, только не упусти свой шанс».
Увидев Фа, Томми направился к их столику.
– Пошли, я познакомлю тебя с моей сестрой, – сказал он, поздоровавшись с женщинами. – Представляешь, у меня есть не только дедушка с бабушкой, но еще и сестра. Я такой счастливый!..
Когда Фа вернулась, Луиза заметила как бы небрежно:
– Ты в него влюбилась, и он в тебя, кажется, тоже. Эта девушка вам будет мешать. Сестры всегда ревнуют братьев.
Фа опустила глаза. Она была странной девушкой. В чем именно заключалась эта странность, Луиза пока не могла определить. Но порой ей хотелось, чтобы Фа прижалась к ней, поцеловала в губы и даже…
Луиза себя одергивала. Она относилась с брезгливостью к однополой любви.
ВЗРОСЛАЯ ДЕВОЧКА
Лиззи рассказала брату историю своего недолгого счастья. Они плакали, обнявшись. Это были слезы облегчения.
– Я тоже верю в бессмертие души. Мистер Хоффман говорит, что, если бы душа была смертной, люди все еще жили бы в пещерах. Душа – это факел, который мы, умирая, передаем другому. Так говорит мистер Хоффман.
– Если это так, я бы хотела знать, к кому перешла душа Джимми, – сказала Лиззи. – Спроси у мистера Хоффмана, как это можно сделать.
– Ладно, – пообещал Томми и наморщил свой гладкий лоб, что-то соображая. – В селении, где живет дядя Джо, есть одна колдунья. Говорят, она умеет вызывать души умерших. Мы можем обратиться к ней и вызвать душу твоего…
– Нет! – воскликнула Лиззи. – Я не стану беспокоить его душу. Это… это жестоко и эгоистично. Мир умерших не должен соприкасаться с миром живых. Это противоестественно.
– Ты должна родить белого ребенка. Быть цветным в этом мире тяжело. Ты говоришь, Джимми выглядел как белый?
– Я рожу чернокожего, – тихо, но уверенно заявила Лиззи. – Я знаю, так хочет Джимми. И мой сын будет гордиться цветом своей кожи. Неужели ты не гордишься тем, что принадлежишь и Африке тоже?
Томми пожал плечами. Он привык с детства считать белых высшими существами. А главное, он не любил свою мать.
– Я бы все-таки хотел, чтобы ты родила белого ребенка. Но я, наверное, буду любить его, если у него будет такая, как у меня, кожа. Или даже темней. – Он помолчал, затем смущенно рассмеялся. – А знаешь, та девчонка, с которой я познакомил тебя в ресторане… она мне немножко нравится. Но мы с ней еще даже не успели поцеловаться. Леди, что постарше, расспрашивала про тебя. Она добрая – отвалила мне двадцать долларов. Я хочу пригласить Фа в кино и угостить мороженым. Как ты думаешь, она пойдет?
– Не знаю. – Лиззи вздохнула, невольно вспоминая свои так стремительно развивавшиеся отношения с Джимми. О, с ним она готова была пойти хоть в ад. Может, она сама виновата в том, что случилось, – такая любовь наверняка возмущает магнитные поля, создает завихрения, разряды высокого напряжения. Или же побуждает к действию какие-то враждебные силы. Присутствие их Лиззи последнее время ощущала все острее.
– Я бы хотел влюбиться, – сказал Томми. – Ты будешь знать об этом первой, сестра.
ИВАН, СЫН МАШИ И АНАТОЛИЯ. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ – ЕЕ ТРУДНО ЗАБЫТЬ
– Не надо. – Ваня, положив руку на горячий ствол АК-16, опустил его к земле. – Она такая красивая. Мне надоела кровь.
– Но мы сами пойдем на корм шакалам, если в ближайшее время не добудем чего-нибудь поесть, – возразил Игорь. – Или свихнемся и перестреляем друг друга. Честно: я боюсь сойти с ума.
– Тебе это не грозит. Мне, наверное, тоже. Ну а она пускай живет.
Птица – это был большой беркут – сделала круг над их головами и взмыла ввысь. Иван снял с плеча автомат и, подняв его высоко над собой, швырнул в пропасть. Игорь с недоумением смотрел на друга.
– Все, – сказал Иван в ответ на его немой вопрос. – Больше ни капли крови. Никогда в жизни. Клянусь.
– В рай собрался. Таких, как мы с тобой, туда не берут. – Игорь криво усмехнулся. – Ну а в аду мы с тобой уже побывали.
– Кидай, – велел Иван. – Я загадал желание.
Игорь нехотя повиновался. Его автомат, ударившись о камни, выпустил короткую очередь. Ее подхватило и усилило эхо.
– Сбудется. А сейчас – пошли. Эта тропа наверняка ведет к границе. Теперь я знаю точно: нас будут охранять добрые духи.
– Тут был человек с Запада, – сказал монах. – Мы думали, он умрет. Мы положили его в храме – здесь днем прохладно и нет мух. Мы оставили ему еду и питье. Мы ушли в долину – нужно было собрать урожай. Мы вернулись через две недели. Его здесь не было. Он оставил письмо. Оно на странном языке. Хотя с нами он говорил по-английски. Вот оно.
Монах протянул Ивану сложенный вчетверо пожелтевший листок с потрепанными краями. Иван развернул его.
Письмо было написано по-русски.
«Нужно отказаться от того, что очень хочешь. Тогда на тебя снизойдет покой. И ты будешь жить вечно. Все движется по кругу. Я был когда-то оленем или змеей. Кем я буду потом? Откажись от любви к ней, и тебе станет хорошо. Кто предлагает мне эту сделку? Кому принадлежат голоса, которые слышатся по ночам в храме? О Будда, неужели ты никогда не испытывал любви к женщине?..»
Буквы были кривые. Чувствовалось, что каждое слово давалось пишущему с трудом. Этот русский, как и они, решил раз и навсегда покончить с войной и пришел к этому храму той же самой тропой, которая привела сюда и их, думал Иван.
– Какой-то чокнутый, – резюмировал Игорь, послушав письмо. – Помешан на женщинах.
– Ты ошибаешься: он любит только одну из них, – возразил Иван, засовывая письмо в карман куртки. – Как его звали? – спросил он у монаха.
– Он написал свое имя на камне. Вот.
Монах указал рукой на скалу позади Ивана. Обернувшись, Иван прочитал: «Анджей Мечислав Ясенский», выцарапанное чем-то острым. И чуть пониже и мельче: «Я тебя люблю».
– Поляк, – заметил Иван. – Моего деда тоже звали Анджеем. – Я никогда его не видел. Но его фамилия Ковальски. – Иван повернулся к монаху. – Давно ушел?
– С тех пор минуло две зимы. Будда принял его и дал ему силы. С ним ничего дурного не случится.
– Будем надеяться. Покажешь, как выйти к морю?
– Надо взобраться на скалу Золотого Будды. Оттуда в ясную погоду видно море.
Они добрались в Гвадар, портовый город в Пакистане, без особых приключений, если не считать растертые в кровь ноги. Монахи снабдили их лохмотьями, которые подобрали в долине: две пары рваных штанов, дырявые майки. В Гвадаре было много беженцев и просто бродяг. Местная полиция давно перестала интересоваться документами – ведь тех, у кого их не оказывалось, приходилось сажать на казенный паек, что было слишком накладно.
Капитан небольшого греческого судна, окинув их хитрым взглядом прирожденного торговца, сказал, что готов подвезти до Адена за сотню долларов с носа. Они предложили себя в качестве рабочей силы, и через полчаса уже таскали в трюм тяжелые ящики.
– Я видел у пирса советское судно, – говорил Игорь Ивану – оба лежали на одеяле, которое бросили на еще не остывший настил палубы. – Я, наверное, не смогу без родины. Ты меня прости, но…
– Родина… Что такое Родина? – задумчиво произнес Иван.
– Я не могу тебе объяснить. Я вспоминаю какие-то запахи, и мне хочется плакать. Я любил себя там. Здесь я себя ненавижу.
– Это пройдет. Там мы не сможем собой распоряжаться. Я больше не хочу так жить. Я понял это уже давно.
– Но ведь мы сами попросились в Афган – нас никто не… – начал было Игорь. Но Иван его перебил:
– Да, мы с тобой попросились сами. Но других послали силой. Этого Анджея Мечислава Ясенского, например. И тех, что лежат с выклеванными глазами. Помнишь поле, где росли колючие оранжевые цветы?
– Но войны на Земле были всегда. И будут, – возразил Игорь. – Иначе людей расплодится слишком много и им станет тесно.
– Это придумали те, кого устраивает существующий миропорядок. Меня он больше не устраивает.
Они молчали какое-то время, каждый думая о своем. Наконец Игорь сказал:
– Проведу парочку лет в тюрьме, зато потом буду дома. Устроюсь на радиозавод. Буду каждый день ходить в кино. Я так скучаю по кино.
– Сломался…
– Нет, ты не понимаешь. По-другому я жить не смогу.
– Спокойной ночи. – Иван повернулся к нему спиной.
Когда он проснулся, рядом с ним было пусто.
– Сбежал, – сказал появившийся невесть откуда грек. – Я так и знал. Евреи не любят тяжелой работы.
– Но он не еврей, – возразил Иван. – И потом, разве это имеет…
– Еврей – он и в Африке еврей, а уж я эту чертову нацию знаю как облупленную, – перебил его грек. – Ладно, марш в камбуз и давай за работу. В три ноль-ноль отдаем концы.
– Инга, я не мог, не мог это сделать, – шептал Иван, мечась по подушке. – Я все помню: я пил анальгин, а не этот чертов алголизин. Я знаю их на вкус – я всегда разжевываю таблетки. Я… я любил тебя. Это сделал кто-то другой, кто тебя ненавидел. Другой, другой…
И все начиналось по новому кругу: он видел Ингу на дне реки, видел тяжелый чугунный якорь и цепь, которой были обмотаны ее ноги. Ее волосы шевелились словно живые.
– С тобой это случилось потому, что я слишком сильно тебя хотел, – бормотал Иван. – Я больше никого не смогу так хотеть… Тот Анджей очень хотел какую-то женщину… Дядя Ян… дядя Ян любил маму. Инга, Инга, я люблю тебя… Прости.
Очнувшись, он обнаружил, что наволочка мокрая от слез.
В небольшой комнате была кровать, на которой он лежал, столик в изголовье, два стула. И на всем – солнечные зайчики, как когда-то в его детской комнате на даче в Пахре.
«Родина», – подумал он и вспомнил Игоря.
С тех пор, как они расстались, прошло почти три года. За это время Иван успел избороздить почти все моря и океаны, побывать во многих портах мира. Он все так же плавал матросом на торговых судах, получая за эту работу вдвое, а то и втрое меньше, чем другие матросы. Он был никем, ибо на своей бывшей родине наверняка числился в пропавших без вести, то есть вычеркнутых из жизни. Второй его родиной стал мировой океан. И Иван не собирался ему изменять. В портах на него заглядывались девушки, зазывали в гости… Девушки были веселые, красивые, и их восхищенное внимание поднимало ему настроение. Дальше поцелуев дело не шло, и приятели над ним подтрунивали. Они называли это «синдромом морского волка». Они не знали прошлого Ивана.
Сам он называл это «синдромом Инги».
Последнее время он стал испытывать чувство вины за то, что с ней случилось.
Малярией Иван заболел давно, еще когда сингапурский танкер, на котором он плавал, стоял на траверзе в Нахо, Окинава. Тогда его вылечил матрос-тай из их команды. Последние три месяца он плавал на марокканском сухогрузе. Приступ малярии начался, едва они отплыли из Валлетты. В Мальтийском проливе штормило, и Иван чуть не отдал Богу душу. Когда судно бросило якорь в Сиракузах, капитан сам отвез его в больницу – не хватало ему еще иметь на своем судне мертвеца. Иван помнил жаркую палату, где их лежало человек шесть, если не больше. Еще он помнил женщину, которая давала ему пить и клала на лоб пузырь со льдом.
Больше он не помнил ничего.
Он заснул. Сон был глубокий и принес облегчение. Проснувшись, увидел женщину, которая ухаживала за ним в больнице.
– Parla italiano?[31] – спросил он, вспомнив, что Сиракузы – это Сицилия, где говорят хоть и на трудно понятном, но все-таки итальянском языке.
– Да, но я могу и по-английски, – ответила она на вполне сносном английском. – Меня зовут Анна. Анна Джулия Каталаньи. Ты находишься у меня дома. Они думали, ты умрешь.
Женщина присела на стул возле столика. Она смотрела на Ивана с состраданием и любопытством.
– Мне получше, – сказал он по-английски и добавил по-итальянски: – Спасибо, синьора. Вы спасли мне жизнь.
– Нет, мой мальчик, ты бы все равно выжил. Такова воля Святой Мадонны. – Она взяла его руку в свою. Иван закрыл глаза. Давно ему не было так хорошо. – Температура нормальная, – сказала Анна. – Но тебе еще надо лежать. Мой дом в твоем распоряжении.
– Спасибо, – прошептал Иван, не открывая глаз, и сжал руку Анны.
– Я принесу бульона и фруктов, – сказала она, вставая.
Иван почувствовал вдруг сильный голод.
На следующее утро она вывела его в сад.
Сад был большой и запущенный. На земле валялись спелые апельсины, своей яркой желтизной придавая пейзажу осеннюю окраску.
– Я живу одна, – рассказывала Анна. Она сидела напротив него в плетеном кресле. – Они убили моего мужа.
– Кто? – спросил Иван.
– Те, на кого он работал. Брат говорит, Адриано осмелился не послушаться приказа. Скарафаджио ему этого не простил, хотя он и приходится мне троюродным братом.
– Ты говоришь о…
Анна прижала палец к губам.
– Не произноси этого слова. Оно приносит несчастье, – сказала она, все так же пристально глядя на Ивана.
Он смутился под взглядом ее больших черных глаз.
– Ты смотришь на меня так, словно…
– Да, мой мальчик. Ты очень похож на Паоло. Когда я увидела тебя в больнице, я чуть не лишилась чувств. Я знаю, ты не Паоло – мой мальчик утонул, когда ему не было семи лет, но я всегда представляла, что он, когда вырастет, будет таким, как ты. – Анна встала и, подойдя вплотную к Ивану, положила руки ему на плечи. Она смотрела ему в глаза, и он не в силах был отвести свои. Он знал, она не хочет, чтобы он это делал. – Я всю ночь молилась. Я просила Мадонну избавить меня от этого наваждения. Я спрашивала у нее: скажи, это проделки дьявола? Но зачем ему нужно искушать меня? Чтоб довести до исступления и забрать мою душу? Души исступленных для дьявола легкая и желанная добыча. Я так боюсь стать добычей дьявола – ведь если я попаду в ад, я не встречусь с моим мальчиком. О, Господи! – Анна сжала руки в кулаки и с силой стукнула ими по спинке кресла, на котором сидел Иван. – Я так боюсь козней дьявола, а Мадонна не хочет дать мне совета. Ты… ты не Паоло, скажи мне?
– Меня зовут Иван. Если хочешь, называй меня Яном, – последнее время меня многие так зовут.
– Ты не Паоло, – эхом откликнулась Анна. Она ссутулилась и отошла, повернувшись к Ивану спиной.
– У меня не было матери. Я всю жизнь мечтал о ней. Подойди поближе.
Он протянул к ней руки и попытался встать… Голова закружилась вдруг в бешеном ритме, и на несколько секунд он потерял сознание.
– Паоло, Паоло, Паоло… – звучало вокруг. Он вспомнил, что слышал это имя как бы в бреду, когда лежал в больничной палате. И медленно открыл глаза.
– Мама… Я так давно тебя ищу. Где ты была все это время? – сказал он вдруг на чистейшем итальянском, хотя всегда говорил на нем с акцентом. И снова потерял сознание. На этот раз надолго.
Теперь Анна ни на секунду не отходила от него. Он много спал. Проснувшись, тянулся к ней, как ребенок. Анна бросила работу в больнице. Она объяснила ему, что работала там только от тоски, – у нее были кое-какие капиталы, к тому же помогал брат.
– Он считает себя виноватым в смерти моего мужа, – рассказывала Анна. – Он говорит, что должен был предупредить Адриано, чтобы тот успел скрыться. Но не сделал этого. – Замявшись на секунду, она продолжила: – Адриано со мной плохо обращался, и Пьетро это знал. Святая Мадонна, я не хотела его смерти, но когда они внесли его в дом и я увидела его вонючую кровь, я готова была задушить убийцу в объятиях. Мне пришлось притворяться и носить траур. Я себя за это презираю. Но я боялась родственников Адриано – они бы утопили меня в море, если б догадались о моей радости. О, Мадонна, прости!..
Когда Анна уходила, Иван лежал и думал. Он ловил себя на том, что теперь и думает по-итальянски, хотя не помнил, на каком языке думал в последние годы, – ведь говорил он на нескольких. Он еще раньше замечал за собой одну особенность: любая, даже самая необычная обстановка быстро становилась для него привычной. Это началось в Афгане, когда они с Игорем, двое оставшихся в живых из отряда десантников, сброшенного на плато в окрестностях Кандагара, попали в плен к моджахедам. Через неделю Иван уже вполне сносно объяснялся со своими конвоирами на их языке – это был пашто – и, глядя на них, исступленно творящих молитвы Аллаху под бомбежкой либо минометным огнем, вдруг понял, что сам мысленно к нему обращается. Он обратился к Аллаху в ночь перед тем, как их с Игорем должны были казнить. Помнится, поднялась пыльная буря. Они бежали под ее надежным покровом, сумев даже прихватить с собой оружие и съестные припасы. И команда судна, состоявшая главным образом из греков, тоже почти сразу приняла его за своего. Что удивительно, он и сам чувствовал себя среди них своим. Так было на всех судах.
Он лежал и смотрел в окно. Он ждал Анну. Такое с ним было впервые.
Она показала ему комнату Паоло, его книги, игрушки, велосипед. Она рассказывала ему о нем все что помнила. А помнила она немало, поскольку была одиноким человеком и жила воспоминаниями. Анна попросила Ивана рассказать о его детстве. Он сбился через минуту. Он вроде ничего не забыл. Он помнил, как звали его родственников, помнил, где что стояло в квартире в Москве и в доме отца в Плавнях. Помнил лица друзей, знакомых, какие-то события из своей жизни. Но это была чужая жизнь, и ему совсем не хотелось о ней говорить.
Зато он любил слушать Анну.
– Ты говоришь, что встретила меня через год после смерти Адриано. Мне кажется, я не мог появиться раньше именно из-за него, – как-то сказал он.
Она крепко прижала его к себе…С паспорта, который принесла ему Анна, на него глянуло знакомое лицо.
– Знаешь, а он мне нравится, этот Паоло, – сказал он, всматриваясь в фотографию. – Отличный парень.
Он поднял глаза на Анну и улыбнулся.
Она возила его к родственникам, каждый раз к новым. Казалось, весь город был населен родственниками Анны Каталаньи.
– Паоло нашелся, – говорила она им с порога и вела его в глубь комнаты. – Он тогда не утонул. Мы ведь так и не нашли его тела, помните? Его возвратила мне святая Мадонна. Мой Паоло… Смотрите, какой он красавец.
Они разглядывали его – доверчиво и не очень. Но всем без исключения он нравился. Это было видно по их лицам.
В машине Анна говорила:
– Они хитрые. Но я заставлю их поверить. И Пьетро хочет, чтобы они поверили. И тот человек Скарафаджио, который распорядился убить Адриано, он тоже хочет, чтоб они поверили. Так что им придется это сделать.
Она купала его. Он был еще слаб, и Анна боялась, что ему может сделаться плохо.
– Я помню эту родинку. Она была с маковое зернышко, а теперь стала почти с вишневую косточку. О, я очень хорошо помню эту родинку. – Она прижималась к ней щекой. – У моей матери была родинка на этом месте. Моя мать была урожденная Джиротти. Это очень древний и славный род.
Она намыливала ему спину рукавицей, сплетенной из какой-то жесткой травы. Он думал о том, что многие из парней, с которыми он ходил в плавание, брали с собой фотографии матерей. Он сказал Анне:
– Я хочу, чтобы ты сделала свое фото.
– Я всегда буду с тобой. Зачем тебе мое фото? Она шутливо шлепнула его ладошкой по спине.
– Нет, прошу тебя. Обещай, что сделаешь свое фото.
Он не отставал, пока она не пришла и не положила на тумбочку возле его кровати три цветные фотографии.
– Тебе идет с распущенными волосами, – сказал он, рассматривая их. – Почему ты носишь этот старческий узел?
– Я вдова. Меня обязывают к этому. Все эти люди. – Она вдруг закрыла глаза и что-то прошептала на каком-то диалекте. Он не знал этого диалекта, но понял, что она сказала.
– Почему ты их ненавидишь? – спросил он.
– Они хотят моей смерти. Чтобы получить наследство. Но теперь у меня есть ты. Все достанется тебе. Так сказал Скарафаджио.
– Но ведь он отдал приказ убить Адриано.
– Скарафаджио был моим любовником, – сказала Анна.
– Был? А сейчас?
Она уловила нотки ревности в его голосе и рассмеялась.
– Сейчас мне не нужен никто.
В ту ночь он вспомнил Ингу и дом у реки. Он больше не испытывал чувства вины за ее смерть. То была чужая жизнь. Книга, которую ему довелось когда-то прочитать. Он не все в ней понял. Вспоминая, он перечитывал заново некоторые страницы.
За окном шумел дождь.
Человек, которого звали Иваном, любил девушку по имени Инга. Он хотел, чтобы она принадлежала только ему. Отец Ивана тоже ее хотел, хоть любил другую женщину, мать Ивана…
У него закружилась голова. Он захлопнул книгу.
Но она лежала под подушкой, и он все время думал о ней. И в конце концов снова ее раскрыл.
Отец Ивана хотел, чтобы Инга умерла, но он никогда бы не смог убить ее сам. А Иван смог бы?..
Он стрелял в Афгане в женщин и детей. Но то был другой Иван. Потому что Инга к тому времени погибла.
Отец Ивана хотел, чтобы Инга…
Он пропустил несколько страниц.
Нонна, жена отца Ивана, хотела, чтобы Инга умерла. Она ревновала ее к мужу.
Она сказала Ивану, что он выпил вместо анальгина алголизин.
Она работала фельдшером. Она была очень сильная. Чугунный якорь такой тяжелый…
Нет, она бы не смогла его поднять, если бы… Он захлопнул книжку и крепко заснул.
Анна кормила его из серебряной ложечки яйцом всмятку. Обоих это забавляло. За кофе они смотрели друг на друга.
– Мама, – вдруг сказал он, – я хочу уехать отсюда.
Она вздрогнула, но сказала спокойно:
– Обязательно уедем, мой любимый. Мы поедем путешествовать. А когда вернемся сюда…
– Мы не вернемся сюда, – перебил он ее. – Мы купим дом в Неаполе. Я очень люблю Неаполь.
– Хорошо. – Она поставила на блюдце недопитую чашку с кофе, вытерла рот салфеткой и встала.
– Когда мы едем? – спросил он, зевая и беспечно потягиваясь.
– Я съезжу к Пьетро. Он даст денег.
– Но ведь ты говорила, будто у нас много денег. – Он стал насвистывать «Casta diva»[32] – эту арию здесь пели все, вплоть до портовых грузчиков. Но он вспомнил ее по другой причине: то была музыка его детства.
– Это твои деньги. Пьетро не хочет, чтобы мы их тратили.
– Ха, не слушай этого индюка Пьетро, хоть он мне и родной дядя. Деньги нужно тратить, а не копить.
– Они тебе пригодятся, – возразила Анна.
– Я хочу потратить их вместе с тобой. – Он встал и, положив ей на плечи руки, заглянул в глаза. – Давай уедем сегодня?
Она выскользнула из его объятий.
– Завтра, – сказала она. – Сегодня мы уже не успеем на самолет.
– Из Палермо есть прямой рейс в Неаполь.
Ночью.
– Нужно найти человека, чтоб присматривал за домом и садом. А главное – кормил кошек.
– Запри этот дом. Кошки прокормят себя сами. Ма…
Она обернулась. Он смотрел на нее испытующе и будто с сожалением.
– Все будет хорошо, бамбино. – Анна схватила с вешалки плащ. – Я закажу билеты.
Она выскочила на улицу.
Он слышал, как быстро стучат по плитам ее каблучки.
Он гулял в саду, когда раздался телефонный звонок. Он вскочил в окно и снял трубку.
– Бамбино, я не смогла выполнить обещание. Мы улетим завтра. О'кей?
– Но почему?
На другом конце провода послышался какой-то странный звук – точно там запустили на большую скорость магнитофонную пленку.
– Нет билетов, – ответила Анна с интонацией автоответчика. – Нет билетов, понимаешь? – повторила она почти нормальным голосом.
– Понимаю. – Он внезапно почувствовал облегчение. – Но завтра мы обязательно улетим, о'кей?
– О'кей, бамбино.
В трубке послышались гудки.
Он зашел в ванную и посмотрел на себя в зеркало.
– Все о'кей, – сказал он своему отражению. И стал мыть руки.
Эту заметку он прочитал уже в салоне «Боинга-747», выполняющего рейс Неаполь – Рим – Лос-Анджелес:
«Вдова Адриано Каталаньи, убитого год и три месяца назад в Сиракузах (Сицилия) местной мафией, сорокатрехлетняя Анна Джулия Каталаньи пыталась вчера ночью убить чугунным утюгом своего сына, двадцатитрехлетнего Паоло Федерико Каталаньи, которого нашла после долгой (шестнадцатилетней!) разлуки в палате смертников муниципальной больницы Святой Елены и самоотверженными усилиями вернула к жизни. К счастью, молодой человек еще не спал и сумел уклониться от удара. Он выпрыгнул в окно и убежал, а обезумевшая Анна Джулия молотила утюгом его постель. Потом она выскочила на улицу и с криком: «Бамбино, я не виновата!» – бросилась под проходивший мимо автобус. Женщина умерла за несколько минут до приезда «скорой помощи» и полиции. Очевидцы слышали, как она звала своего сына Паоло и проклинала какого-то Пьетро. Судя по всему, этот человек, Пьетро Гульельми, ее родной брат, по слухам, связанный с мафией Скарафаджио.[33] (Кто скрывается под этой странной кличкой, никто толком не знает.)
Согласно брачному контракту супругов Каталаньи, после смерти Анны Джулии все имущество и капитал должны были перейти кровным родственникам Каталаньи, коим и является ее сын Паоло. Однако, согласно тому же контракту, Анна Джулия становится единственной наследницей состояния в том случае, если ее сын умирает, достигнув совершеннолетия. Полиция отказывается что-либо комментировать. Пьетро Гульельми в злополучную ночь гибели своей сестры находился дома в кругу друзей. Однако комиссар Эудженио Валетта, желавший побеседовать с синьором Гульельми, вынужден был довольствоваться обществом его жены, которая и сообщила, что муж срочно вылетел по делам в Панаму. По слухам, тот же комиссар Валетта посоветовал Паоло Каталаньи, единственному бесспорному наследнику состояния Адриано Каталаньи, покинуть на какое-то время Сиракузы и вообще Италию».
«Я и без него собирался это сделать, – думал Иван. – Я всегда считал этого Пьетро скользким типом».
Он вздохнул, вспомнив Анну.
Анна его любила, а он оказался слабым и не смог ее защитить. Правда, он слишком поздно понял, что она всего лишь марионетка в руках тех типов.
Теперь он думал о том, что в Лос-Анджелесе живет его настоящая мать. Он откинулся на спинку кресла и, прикрыв глаза, стал тихо насвистывать мелодию «Casta diva».
ПОСЛАННИК ДЖИММИ
Лиззи поняла, что ревнует брата к Фа.
В воскресенье они устроили пикник на берегу залива. Было прохладно и ветрено, пришлось надеть ветровки и джинсы.
Фа очень шел этот наряд – у девушки были длинные ноги и тонкая талия. Томми вертелся возле нее, готовый исполнить любое ее желание. Он рассказывал забавные истории из своей жизни, вспоминал дядю Джо и его змей, пел мексиканские и испанские песни.
Рядом дышал океан. Лиззи закрыла глаза. И почувствовала, что вот-вот расплачется.
Вернувшись домой, она сразу поднялась к себе – с недавних пор она жила в бывшей родительской спальне – и, сняв кроссовки и джинсы, завалилась на кровать.
«Джимми… Нет, я не выдержу. Всегда одна… Мне нужен кто-то… Кто-то должен меня очень сильно любить… Не так, конечно, как любил ты… Ты единственный, и я больше ни с кем не смогу творить любовь. Пусть Томми любит меня… Мне очень нужно, чтоб он меня любил… Ведь он мне родной брат…»
Она встала и зажгла свет.
В зеркале отразилось бледное, осунувшееся лицо и заметно округлившийся живот.
Лиззи опустилась на колени и, уронив голову на туалетный столик, заплакала. Она думала о том, что не выдержит эти оставшиеся четыре с половиной месяца до рождения сына. Одна, всегда одна…
Ей хотелось, чтобы Томми остался у них сегодня ночевать, и она намекнула ему об этом еще на пляже, но он сделал вид, что ничего не понял или не расслышал. Они с Фа завезли Лиззи домой. Томми вышел из машины, проводил ее до двери и даже зашел в дом поприветствовать дедушку с бабушкой. Но он так торопился, что даже не ответил на вопрос Джельсомино, удался ли пикник. Еще бы: в машине его ждала Фа.
«Я ненавижу ее, – подумала Лиззи. – Да, да, ненавижу. Она настоящая шлюха – зачем так вульгарно красить ресницы и подводить глаза? Неужели Томми не видит, что она шлюха? Джимми никогда бы не обратил внимания на такую девушку, как эта Фа».
Но почему она все время сравнивает Томми с Джимми? Ведь Томми ей всего лишь брат, и у него, конечно же, должна быть личная жизнь. Ведь если бы был жив Джимми, она тоже не стала бы проводить столько времени в обществе брата.
Был бы жив Джимми…
Ее внезапно бросило в жар, по спине прокатилась волна дрожи. Из горла вырвалось рыдание, но она зажала рот руками, чтобы не услыхали дедушка с бабушкой, – от их жалости иной раз хотелось куда-нибудь спрятаться.
«Что делать? – думала она. – Что делать? Может, когда родится Джимми-младший, станет легче?» Но Лиззи знала – когда родится сын, станет еще непереносимей: сын каждую минуту будет напоминать ей о том, кого она потеряла навсегда.
«Но ведь можно все это прекратить. И воссоединиться с Джимми ТАМ. Попросить у него прощения за то, что не смогла без него жить. Он поймет… Он все поймет. О, Господи, но как, как это сделать?..»
Тут она вспомнила, что бабушка пьет снотворное, – после смерти отца она страдает бессонницей. Она держит таблетки на кухне, потому что обычно запивает теплым молоком.
Лиззи спустилась в холл, стараясь ступать как можно тише. Из гостиной доносились голоса и музыка – дедушка с бабушкой смотрели очередной телесериал. Последнее время они все больше и больше проводили время перед экраном телевизора. И почти не разговаривали друг с другом.
Таблетки лежали на столе возле плиты. Их было семь штук – темно-розовые и продолговатые. Бабушка, кажется, пьет по половинке – так велел доктор Бартоломео. Значит, это очень сильное снотворное. Семи таблеток вполне хватит для того, чтобы…
Лиззи достала из холодильника банку с кока-колой и положила таблетки на ладонь. Вид их ее завораживал и пугал одновременно. Ноги стали ватными, а в ушах противно зазвенело.
Она взяла двумя пальцами одну таблетку, положила ее в рот и потянулась за банкой с кока-колой. Внезапно с грохотом распахнулось окно, ворвался порыв ветра, и вслед за ним на пол спрыгнул Томми.
– Что ты здесь делаешь? – спросил он испуганно уставившуюся на него Лиззи. – Что у тебя в руке? Ну-ка покажи!
Она зажала таблетки в кулак и спрятала руку за спину, одновременно силясь проглотить таблетку, что была во рту. Но закашлялась, и таблетка упала на пол.
Томми схватил сестру за запястье и заставил разжать кулак.
– Этот мистер Хоффман настоящий ясновидящий! – воскликнул он. – А я-то думал, старик малость того. – Собрав с пола таблетки, Томми понюхал их, даже лизнул одну и, брезгливо поморщившись, вышвырнул в окно. – Чего только не придумают эти доктора. Дядя Джо говорил, все их лекарства не стоят одной капли змеиного яда. Представляешь, этим ядом он лечил даже понос. А еще он смешивал его с пеплом от костей лягушек и ящериц и давал женщинам, и те подмешивали эту гадость в суп своим мужьям. При этом надо шепнуть: «Коньи Тикси Вира-коча чихнул, муж захотел жену». Забыл, как это на его языке. – Томми обнял Лиззи, и она, прижавшись к его груди, всхлипнула. – Какие же вы, девчонки, дурочки, – приговаривал Томми, гладя ее по волосам. – Дядя Джо говорит, что змеи в сто раз умней людей, а особенно женщин. Они и кусают-то людей потому, что люди глупые. Дядя Джо считает, что если человек выживет после укуса змеи, он станет намного умнее. Его самого змеи искусали с ног до головы. Я видел, он весь в белых точечках – это шрамы. Такое впечатление, что у него дырявая кожа. Еще он говорит…
– Спасибо тебе, Томми, – тихо сказала Лиззи. – И за дядю Джо тоже.
– Хочешь, я отвезу тебя к нему, и он все сам тебе расскажет? – предложил Томми. – Только сначала мы купим тебе комбинезон из змеенепрокусываемой материи. Я не хочу, чтоб моя младшая сестренка стала умнее своего…
Лиззи приподнялась на цыпочки и поцеловала Томми в щеку.
– Прости.
– За что?
– Ты очень хороший брат. А я твоя глупая младшая сестренка. А тебе очень нравится Фа? – осторожно спросила она.
– Сам не знаю. Мне нравилась Зелда, потому что она хотела сделать мне приятно. Я не знал, что заниматься сексом так приятно, – это она меня научила. Я ее даже не просил об этом. А Фа, мне кажется, не хочет мне сделать приятное.
– Ты эгоист, Томми! – Лиззи шутливо ткнула брата кулаком в грудь. – Почему девушки должны это делать? Это ты должен делать так, чтобы им было приятно.
– Ха, и не подумаю. Чего ради?
– Любовь – это взаимно, понимаешь? – Лиззи отстранилась от брата и опустилась на табуретку. – Оба стараются сделать друг другу, как ты выражаешься, приятно. И чем лучше одному, тем лучше другому. Не знаю, почему так бывает, но это… это так здорово. И это бывает с одним-единственным человеком.
– Так я тебе и поверил. На свете столько симпатичных девчонок. С одной наверняка быстро надоест.
– Интересно, в кого ты такой уродился? – Лиззи улыбнулась и погрозила брату пальцем. – Но я тебя перевоспитаю. Ты должен быть верным той, кого полюбишь, ясно?
– А я не собираюсь влюбляться, – заявил Томми. – Если влюбишься, тебя будут как за веревочку держать. Помню, этот сержант Лопес, в которого была влюблена Зелда, все время дергал ее за веревочки, и она делала все, что он хотел. Так вот и я кого-то за веревочки буду дергать. – Он вдруг хлопнул себя по лбу и сказал: – Какой же я дурак! Ведь мистер Хоффман сказал, чтобы я привез тебя к нему. Сегодня. Прямо сейчас. А я тут расселся и болтаю. Сестренка, надевай джинсы и свитер – там ужасно холодно. Я рассказывал мистеру Хоффману про тебя, и он очень хочет с тобой познакомиться.
– Я мигом. – Лиззи вскочила и побежала одеваться. На пороге кухни она обернулась. – Тебя послал ко мне Джимми…
СНОВИДЕНИЯ МИСТЕРА ХОФФМАНА
Мистер Хоффман сидел на веранде в кресле-качалке. Его тень на стене шевелилась, но это был обман зрения – он сидел неподвижно, шевелилось пламя от толстой свечи, которую зажег Томми: по веранде гуляли сквозняки.
– Я рад, что ты приехала к нам, Элизабет, – сказал мистер Хоффман. – Томми много про тебя рассказывал. Он все говорит, какая ты красивая и изысканная. Ты наполовину русская, верно? А ведь я когда-то был в России… Садись, пожалуйста.
– Я родилась в Штатах, – сказала Лиззи садясь. – Я никогда не была в России. Моя родина здесь. Хотя нет. – Она вздохнула. – Моя родина – Атлантический океан.
– Это твое прошлое, Элизабет. Но у тебя есть и будущее. Представь себе, что ты идешь по канату над глубоким ущельем. Ты сделала несколько шагов и остановилась. И пытаешься удержать равновесие. Канатоходцу, чтобы не упасть, нужно все время идти вперед.
– Но я не хочу идти вперед, – возразила Лиззи. – Зачем? Там я вижу только чужие лица. Будущее – это холодно и неуютно.
Она зябко повела плечами, и Томми накрыл ее ноги пледом. Они сидели рядом на низком диванчике в углу веранды.
– Я тоже когда-то так думал. Я никому не рассказывал то, что хочу сейчас рассказать вам, дети мои. Если вам станет скучно слушать, так мне и скажите. Я не обижусь. Потому что чужая жизнь, тем более жизнь такого старого человека, как я, вам, молодым, может показаться непонятной и неинтересной. Мы люди разных эпох, к тому же наше поколение было воспитано на романтике войны и расизме. Пацифизм во времена моей юности считался одним из самых страшных грехов. Я имею в виду прежде всего Германию, где родился и вырос. Но я не считаю эту страну своей родиной – она не подарила мне ничего светлого, если не считать любви моей бедной матери. Но она умерла, когда мне было пять с половиной лет, и я остался с отцом.
Мой отец, – рассказывал мистер Хоффман, – был из знатного рода и гордился своим арийским происхождением. У нас в доме, сколько я помню, звучала музыка Вагнера, а потом, когда к власти пришел Гитлер, стали звучать и военные марши. Помнится, я просыпался под их бодрый жизнеутверждающий ритм, делал зарядку, обливался холодной водой… Потом отправлялся в школу. Влияние музыки и ритма на человеческий, а в особенности детский организм, еще мало изучено. Я склонен думать, что оно безгранично.
Как-то, придя из школы, я увидел, что на стене вместо маминой большой фотографии висит портрет тети Шарлотты, ее младшей сестры, которая умерла на год раньше мамы и тоже от туберкулеза. Помнится, отец уже ходил в нацистской форме – он занимал важный пост в ведомстве Геринга. В тот вечер он был возбужден и чем-то озабочен.
– Вильгельм, мне нужно с тобой серьезно поговорить, – сказал он. – Пойдем ко мне в кабинет.
Прежде чем начать разговор, он запер двери, завел патефон и поставил пластинку с увертюрой к опере Вагнера «Тангейзер».
– Ты уже большой и все понимаешь, – обратился он ко мне. – Ты любишь Германию и будешь служить ей до последнего вздоха. – Он не смотрел мне в глаза. – Понимаешь, твоя мама, которую я нежно любил, была наполовину еврейкой. Я этого не знал, когда женился на ней, – ее мать к тому времени уже умерла, а отец, твой дедушка Франц, был чистокровным немцем. Бабушка Эльза, мать тети Шарлотты, тоже была чистокровной немкой. Твоей матери она приходилась мачехой».
В тот момент зазвучало мое любимое место из увертюры – гимн Тангейзера, в котором он славит богиню Венеру, а в ее лице земную любовь. Кто-кто, а Вагнер, думаю, знал толк в любви.
Отец тоже слушал музыку. Его лицо просветлело, расправилась складка на переносице.
– Черт возьми, а ведь жена старины Рихарда, Козима фон Бюллов, в девичестве Лист, была дочерью Мари д'Агу, происходившей из семейства еврейских банкиров. Именно его родной внук стал основоположником учения о чистоте арийской расы. Любопытный поворот. – Отец задумчиво покачал головой. – В этом что-то есть, верно? По действию это напоминает прививку от оспы. Тебе в организм вводят ослабленный вирус этой страшной болезни, ты ею переболеваешь в легкой форме и надолго, если не навсегда, приобретаешь иммунитет. Однако для наших так называемых мудрецов из Geheime Staats-polizei[34] это слишком сложно. А потому я решил облегчить их задачу. Я уничтожил мой брачный контракт с твоей матерью и твое свидетельство о рождении. В архиве мэрии в Цвиккау, где хранятся регистрационные книги, случился пожар. Мне выписали новые документы. Тетя Шарлотта была чистокровной немкой – твой дедушка Франц, молодчина, во второй раз женился правильно. Так что, мой мальчик, нам с тобой ничего не угрожает.
Открытие, что в моих жилах течет еврейская кровь, произвело на меня удручающее впечатление – в Германии к тому времени уже вовсю закрутилась машина антисемитской пропаганды. Слово «Jude»[35] стало чуть ли не самым ругательным. Я знал из газет, что повсюду, даже в кругах, приближенных к Гитлеру, идут чистки.
– Не расстраивайся, сынок, – успокаивал меня отец. – Помни мое сравнение с прививкой. Похоже, это так и есть на самом деле. И ты наверняка это докажешь в самом ближайшем будущем.
Помню, ночью у меня поднялся жар. Мне казалось, моя арийская кровь бунтует, вступая в реакцию с кровью еврейской и пытаясь ее нейтрализовать. Я даже слышал шипение, характерное для химической реакции. Еврейская кровь отступала, освобождая артерии, вены, капилляры для крови арийской. Но она все равно оставалась в моем теле, и я ничего не мог с этим поделать.
Отцу сошла с рук махинация с документами – меньше чем через полгода он стал большой шишкой, и у нас в доме замелькали лица будущих подсудимых на Нюрнбергском процессе. Я смотрел на них восхищенными глазами юноши, безоговорочно уверовавшего в идею превосходства одной расы над всеми остальными. Цензура к тому времени потрудилась на славу, и отовсюду были изъяты книги и прочие документы, которые могли бы рассказать таким, как я, наивным молодым людям, не только о том, что подобное в истории уже случалось, но и о том, как плачевно все заканчивалось для возомнившей себя венцом творения расы.
Но об этом даже не стоит говорить – это пройденный урок. Правда, мне кажется, человечество, усвоив его, благополучно забыло. Я не пророк и не собираюсь ничего предсказывать, но, будь моя воля, я бы во всех современных школах хотя бы по десять минут в неделю демонстрировал кадры из кинохроники времен третьего рейха. И без всяких комментариев.
Друзья отца составили мне протекцию, и я поступил в секретную службу. Осенью сорок второго я оказался в России, в занятом нашими войсками городе на юге. Это был Новочеркасск, столица донских казаков.
Прежде чем попасть в этот город, я прошел соответствующую подготовку и перечитал много исторической литературы. В ней рассказывалось о нелегкой судьбе казаков, об их военных подвигах на благо Российской империи. Кажется, Толстой сказал, что казаки создали Россию. В Октябрьскую революцию с ними жестоко расправились большевики – они истребили около двух миллионов, не только мужчин, но женщин и детей. Казаков почему-то ненавидели евреи, которые преобладали в среде революционеров. Так писали немецкие историки.
Погода стояла холодная, хоть это была южная провинция России, в ноябре установились морозы, выпал снег. Я поселился в особняке великолепной старой архитектуры. По всему видно было, что строил его богатый человек: печи, а их в доме оказалось четыре, были обложены затейливыми изразцами, комнаты просторные, с огромными окнами, на потолке лепные украшения, паркет дубовый.
Жильцы уехали в эвакуацию, остались лишь две девушки. Они называли себя сестрами, хотя сходства между ними было не больше, чем между негром и китайцем.
Старшая, ее звали Клаудиа, – черноглазая, белокожая, широкобедрая – настоящая пышка, при виде которой текут слюнки. В первую же ночь она пришла ко мне, хоть я вовсе не настаивал, а лишь походя ущипнул ее за задницу. Младшая – Лора, Лорхен – белокурое голубоглазое создание, точно с картинки из журнала последних лет. Томная романтичная особа. К такой просто так не подъедешь. Первое время меня вполне устраивала Клаудиа с ее отнюдь не славянским темпераментом. Хотя, честно говоря, я и по сей день не знаю, каков он, славянский темперамент. Кое-кто из наших говорил, что славянки настоящие ледышки. Клаудиа, как выяснилось, была чистокровной казачкой. Думаю, она бы дала сто очков вперед француженкам и даже испанкам. Но мне быстро приелись доступные ласки, и я обратил свое внимание на Лорхен.
В отличие от Клаудии, работавшей машинисткой в издаваемой нами на русском языке газете, Лорхен целыми днями сидела дома. Я видел ее с книжкой, реже – с вязанием или шитьем. А однажды я услышал, как она пела, играя на гитаре. В ее грудном контральто было столько страсти! Словом, я был заинтригован.
Как-то я умышленно приехал домой среди дня. В комнатах, где жили сестры, было тихо. Дверь в одну из них была приотворена. Я увидел Лорхен. Она сидела ко мне спиной и что-то писала.
Я разулся возле входной двери – таков был здешний обычай, и она не слыхала моих шагов. В комнате было холодно, и Лорхен накинула на плечи полушубок. Длинные прядки светлых волос выпали из пучка и рассыпались по плечам. Комната утопала в солнечном свете.
Я подкрался к ней сзади – я умею ходить так, что даже самая старая половица и та не скрипнет подо мной, и заглянул через плечо. Она писала что-то в толстой тетрадке в линейку. К тому времени я знал несколько русских слов. У Лорхен был разборчивый почерк. «Любовь… немец… патриот… судьба» – сумел понять я слова. Лорхен вздрогнула, закрыла ладонями написанное и обернулась. В ее глазах не было испуга, в них было что-то другое…
– Немец, которого ты любишь, это я?
Она смутилась, но только на секунду. Ответила не дрогнувшим голосом:
– Да. Но я не имею на это права.
– Почему?
– Ты враг. Я должна тебя ненавидеть.
Лорхен говорила по-немецки, что меня удивило. Я думал, она знает всего несколько слов. Как и Клаудиа. Хотя Клаудии, мне кажется, ни к чему было знать и их.
– Ты выучила немецкий потому, что любишь меня? – спросил я.
– Да. И я буду владеть им в совершенстве. Вот увидишь.
Если бы на ее месте была Клаудиа, я бы вел себя по-другому. Я знал, чего хотят женщины ее типа. Но чего хотят такие, как Лорхен, не знал. В Германии, где так сильны традиции романтизма, девушки в мое время воспитывались в преклонении перед мужчиной-воином. Им с детства внушалось, что такому мужчине они должны подчиняться во всем.
Я опустился на колено и, взяв ее руку, – у Лорхен была изумительно нежная и тонкая кожа – поднес к губам и поцеловал. Я сделал это первый раз в жизни. Быть может, подобное было недостойно воина победоносной армии фюрера, но в тот момент я не думал об этом. Она вздрогнула и быстро отняла руку.
– Переведи, что ты написала, – попросил я. – Мне интересно.
– Вряд ли, – возразила она. – Тебя, как и всех мужчин, интересует только постель.
– Кто тебе сказал?
– Клаудиа.
– А что еще она тебе сказала?
– Что ты – хороший любовник, – ничуть не смущаясь, ответила Лорхен. – Но я не знаю, что это такое. Я еще никогда не была с мужчиной.
– Мне очень повезло, что ты в меня влюбилась. А то я уже потерял надежду.
– Затащить меня в постель? – в ее голосе не было иронии. – Знаешь, я так боюсь в тебе разочароваться. Ведь ты – моя первая любовь.
Она покраснела до корней волос.
– Нет, я не буду этого делать, – сказал я.
– Ты будешь, как и прежде, спать с Клаудией.
– Черт! – вырвалось у меня. – Твоя сестра, оказывается, болтунья.
– Вовсе нет. Она хочет предостеречь меня от ошибок. Кто еще обо мне позаботится? Я – круглая сирота.
– Но разве это ошибка – любить мужчину? – возразил я.
– Я полюбила врага.
– Я буду твоим рыцарем.
– Не будешь. Для немецкого солдата долг прежде всего. Я не люблю русских за то, что они, если им прикажут, могут убить родную мать. Но и вы, немцы, ничуть не лучше.
– Но ты ведь полюбила меня. – Я протянул к Лорхен руки. – Иди сюда. Я хочу тебя поцеловать.
Она послушно встала. Полушубок свалился с ее плеч. Девушка была в тоненьком штапельном платье. Я чувствовал под ним ее острые плечи. Она не умела целоваться – она делала это как в кинофильмах. Я разжал языком ее губы. Она слегка отстранилась, но я крепко держал ее за плечи. Она была так покорна и так беззащитна. И я на самом деле почувствовал себя ее рыцарем и потихоньку отстранил от себя.
– Почему? – удивилась Лорхен.
– Мне нужно в комендатуру, – сказал я, глядя на часы.
Лорхен наверняка заметила, что у меня дрожат руки. Но я почему-то совсем не боялся выглядеть в ее глазах слабым.
Вечером собралась веселая компания. Лорхен надела черную юбку и белую шелковую блузку. Я еще не видел ее такой нарядной. Остальные девушки по сравнению с ней казались вульгарными. И Клаудиа тоже.
Мы танцевали под патефон. Лорхен была великолепной партнершей. Раньше она не танцевала, а сидела с шитьем или вязанием и меняла пластинки. Сегодня она танцевала только со мной, это было замечено.
– Серьезная интрижка с белокурой фрейлейн, – язвил Людвиг. – Эта бестия не вызывает у меня доверия. Она одержимая. Больше всего меня пугает в женщинах одержимость.
– А меня – порочность. У нас разные вкусы, – парировал я.
– Дело не во вкусах, а в безопасности. Эта фрейлейн настоящая партизанка. Мы вешали таких в Белоруссии.
У меня так и вертелось на языке: «Мы только и умеем, что вешать». Но он был мой начальник, и я сдержался.
Парочки разбрелись по комнатам. Мы с Лорхен остались в столовой в окружении пустых бутылок и табачного дыма.
– Будем смотреть на луну и читать друг другу стихи, – сказал я. – Правда, я не люблю поэзию, особенно немецкую. А луна хороша.
– Пойдем гулять, – предложила она.
– В такой-то мороз? Да и ночами в городе не спокойно.
– Чего бояться? Если убьют, то обоих. А это не страшно.
Я не стал возражать. Решено было покататься на машине.
Она надела полушубок и валенки. Теперь она и в самом деле была похожа на партизанку, какой изображали ее на наших карикатурах. Я улыбнулся.
– В чем дело? – спросила она.
– Ты наверняка договорилась со своими товарищами, чтоб они устроили мне засаду, и за это получишь от Сталина награду, – пошутил я.
И понял, что обидел Лорхен.
Я взял ее за подбородок и поцеловал в губы. И почувствовал, что теряю над собой контроль.
– Пошли, – прошептал я, с трудом отняв губы. – Ты скажешь им, что я твой лучший друг.
Луна была сумасшедшая – желтая, огромная – над заснеженной равниной. В степь захотелось Лорхен, я лишь подчинился ее желанию, хотя патруль на выезде из города предупредил, что в степи небезопасно.
– Я на самом деле связана с партизанами, – сказала Лорхен, когда я остановил машину перед большим сугробом, – дальше дороги не было. – Можешь пытать меня, но больше я ничего не скажу.
Я почти не слушал ее. Я ничего не понимал. Я обнял ее и стал целовать, все глубже и глубже проникая руками под полушубок. Она не сопротивлялась. Она таяла в моих объятиях, отвечая на поцелуи. Обычно девушки шарят руками по телу, пытаются расстегнуть ширинку… Раньше меня все это возбуждало. А тут я понял, что настоящая женщина должна вести себя так, как Лорхен.
– Любовь сильнее, чем война, правда? – шептала она между поцелуями. – Но если бы не война, мы бы не встретились. Война кончится, и мы расстанемся.
– Нет, – возразил я. – Мы поженимся и будем жить в этом же доме. У нас будет много детей.
Вдруг она с силой вырвалась и крикнула:
– Вас погонят из России в три шеи! Ненавижу вас, ненавижу!
Я опешил. Я попытался опять прижать ее к себе, но она больно толкнула меня в грудь кулаками. Во мне проснулся зверь. Я набросился на нее. Борьба длилась минуты две. Я овладел ею… Она снова обмякла. Губы ее, искусанные мной до крови, шептали: «Люблю… люблю…»
Потом она сказала, поправляя юбку:
– Ты настоящая немецкая скотина. Я вас такими и представляла.
Когда мы вернулись, гости уже разъехались. Клаудиа стояла перед зеркалом в прихожей.
Лорхен тут же ушла к себе. Клаудиа положила руки мне на плечи и привстала на цыпочки, намереваясь поцеловать. Я отвернулся.
Она пожала плечами. Она была у меня в спальне в прошлую ночь и в позапрошлую тоже, хотя я уже целую неделю беспрестанно думал о Лорхен. Я решил закрыться сегодня на ключ.
В ту ночь мне не спалось. Я думал о словах Лорхен. Я знал, что русские считают нас скотами, но раньше меня это не задевало. Сказанное же Лорхен задело. Надо объяснить ей, что это не так. По крайней мере по отношению ко мне. Она ведь сама предложила прогуляться. Неужели она не знает, чем чревата для девушки прогулка при луне с молодым здоровым мужчиной?
Впрочем, конечно же, не знает – ведь я ее первый мужчина.
Я пошарил ногой в поисках комнатных туфель, надел халат.
В доме было холодно, хотя топились все четыре печи. Мой денщик Себастьян, которого я звал Бахом, спал в маленькой комнатке возле кухни. Он вставал раза два или три за ночь, чтоб проверить, не погасли ли печи и подсыпал в них уголь.
Дверь в ее комнату была приоткрыта.
Я знал, что Лорхен спит на диване с высокой спинкой и полочками наверху. Она не убирала постель и днем, лишь накрывала ее ватным одеялом. Луна высвечивала середину комнаты, превращая темноту по углам в настоящие сгустки смолы. Приглядевшись, я увидел, что диван пуст.
– Лорхен! – тихо окликнул я и добавил немного погодя: – Прости меня.
Мне никто не ответил.
Я достал из кармана спички. В комнате было много мебели, и сейчас каждую тумбочку и комод я принимал за Лорхен. Но ее нигде не оказалось.
Пошла жаловаться Клаудии, подумал было я. И тут же понял, что Лорхен никому не расскажет о том, что сегодня случилось.
Я уныло поплелся к себе, лег и закурил. Эта девушка слишком уж завладела моими мыслями. И это заметно со стороны! У меня могут быть крупные неприятности.
Нас старательно готовили к отправке в Россию. В брошюрах, которыми нас щедро снабдили, солдату фюрера (а мы все, включая офицеров Генштаба, назывались солдатами фюрера) строго-настрого запрещалось заводить романы с жителями оккупированных территорий. Насиловать, пользоваться услугами продажных девок особо не возбранялось – настоящий воин на какое-то время может забыться от смертельной опасности в объятиях женщины.
Я заснул уже под утро, мой денщик Бах с трудом разбудил меня.
Людвиг вызвал меня к себе в кабинет и сообщил, что минувшей ночью на Ермаковской улице зарезали патрульного. Кто-то вонзил ему нож в спину. Людвиг показал нож: длинный, с деревянной ручкой. Обыкновенный кухонный нож.
Мне было поручено заняться расследованием.
Когда я пришел домой, сестры сидели на кухне. Лорхен куталась в дырявый пуховый платок. Клаудиа улыбнулась мне и предложила тарелку супа с пшеном.
– Я заходил к тебе ночью попросить у тебя прощения, – сказал я Лорхен по-немецки, надеясь, что Клаудиа не поймет. – Где ты была?
– Мы спали с сестрой. – Лорхен подняла на меня свои большие голубые глаза. – У меня в комнате ужасно холодно.
Клаудиа произнесла что-то по-русски. Лорхен ответила ей и перевела на немецкий:
– Она спрашивает: нашли убийцу? Я ответила: не нашли. Я не ошиблась?
– Не нашли. Но обязательно найдем. Порядок в городе будет ужесточен. Кое-кого из мирных граждан посадят за решетку, кого-то отправят в Германию в трудовой лагерь. Партизаны избрали опасную тактику.
– Это не партизаны. Это я его убила, – спокойно сказала Лорхен.
– Странная выдумка. Никто не поверит, что это могла сделать хрупкая женщина. Чтобы вонзить между лопаток одетого в меховой полушубок солдата нож, нужна мужская сила.
Клаудиа снова что-то спросила, и Лорхен, ответив ей, перевела:
– Она тоже считает, что это сделала я – еще в детстве я гуляла в полнолуние по крыше, но ничего не помню.
– Бог с ним, с этим патрулем, – сказал я. – Мне нужно с тобой поговорить, Лорхен.
Клаудиа вышла из кухни, словно поняла, что я сказал. Мы остались вдвоем.
– Лорхен, я вел себя, как последняя скотина, и прошу у тебя…
– Ты вел себя, как настоящий мужчина. Мужчина моей мечты. Если бы ты вел себя иначе, я бы тебя возненавидела. И себя тоже.
Но я все равно попросил у нее прощения.
Знал бы Людвиг о том, как далеко зашли отношения одного из его подчиненных с жительницей оккупированной территории, он занес бы меня в свой черный список. Это не шутка. Но я чувствовал, что уже поздно что-либо изменить. Лорхен, эта нежная голубоглазая Лорхен была настоящей ведьмой. И если все женщины, с которыми я имел дело, интересовали меня лишь с одной стороны – как источник физического наслаждения, Лорхен – вся притягивала к себе, словно магнит. В ней было неразделимо желанно все: лицо, волосы, руки, душа. И это в какой-то степени притупляло желание обладать ее телом в таком смысле, в каком привык обладать женщиной почти каждый мужчина.
Мы сидели и держали друг друга за руки. Нам обоим было очень хорошо и ничего другого не хотелось.
Потом мы втроем пили чай. Потом к Клаудии приехал Людвиг с коробкой шоколадных конфет и бутылкой вина. Увидев нас с Лорхен рядом, усмехнулся:
– Тебе придется подыскать другую квартиру.
– Я пока не собираюсь жениться, герр начальник, а потому мне и здесь хватает места. Если, конечно, вы женитесь на Клаудии…
– Зубоскал. Ваш младший сестра, – обратился он к Клаудии, – попал руки сексуальный маньяк. – И стал насвистывать арию Дон-Жуана.
– В доме свистеть нельзя, – по-немецки сказала Лорхен. – Это к беде. Идите свистеть во двор.
Людвиг вытаращил глаза – никто из жителей оккупированных территорий с ним еще так не разговаривал. Лорхен не отрываясь смотрела на него.
– Прошу прощения, фрейлейн, – пробурчал он и быстро ретировался, уводя с собой Клаудию.
– Жалко, что он никогда не ходит по городу пешком, – сказала Лорхен.
– Почему? – не понял я.
– Я бы его тоже убила.
Я весело рассмеялся и привлек Лорхен к себе.
Мы целовались и тискались, как два подростка, устроившись на ее диване. Я на самом деле чувствовал себя мальчишкой. Потом Лорхен отправила меня спать.
– Я тебя люблю, – сказал я, обернувшись на пороге.
Мои слова, казалось, застигли ее врасплох.
Людвиг устроил в городе несколько облав, в результате которых в школе, превращенной в тюрьму, оказались женщины, инвалиды и подростки. Спекулянтов – тех, кто торговал на рынке вещами и продуктами, – отпустили, конфисковав их товар в пользу третьего рейха, для них же попросту не осталось места. Отпустили и двух стариков, которых взяли накануне по наводке местного полицая, утверждавшего, что они евреи.
– Старый еврей – обрезанный еврей, – втолковывал Людвиг полицаю. – Это молодой может быть необрезанным. Почаще надо ходить в баню, дурак. От тебя воняет, как из ватерклозета, когда забудешь дернуть ручку.
Людвиг был доволен – город опустел. И хотя и наступила оттепель, даже дети сидели по домам.
– Меньше народу, меньше хлопот, – говорил он, когда мы ужинали в его кабинете салом со свежим хлебом и яйцами вкрутую, запивая все это крепким сухим вином из подвала какого-то чудака. Он сбежал, оставив нам подробное описание на немецком языке всех сортов вин в бочках и бутылках. Людвиг, тонкий знаток вин, сказал, отведав разных сортов, что местные вина напоминают букетом рейнские, но только они более крепкие. – Передай своим барышням, чтоб не выходили завтра из дому, – у меня тут есть одна идейка… – Он взял со стола бокал с темно-желтым прозрачным вином и стал рассматривать его на свет. – С этими казаками мы бы вполне поладили. Особенно с казачками, но тут нужно избрать чрезвычайно гибкую тактику. Зачем ломать дверь, когда к ней можно подобрать ключ? – глубокомысленно изрек он и выпил бокал до дна.
Я не знал, что на уме у Людвига – он редко делился своими планами с подчиненными, даже если считал их друзьями.
Дома я увидел сестер на кухне в обществе молодого человека.
– Двоюродный брат Семен, – сказала Лорхен. – Привез с хутора продукты. Он поживет у нас несколько дней. Людвиг сегодня не придет? – спросила она. Хотя, как мне казалось, Людвиг интересовал ее не больше телеграфного столба.
– У него дела, – ответил я.
У Семена был семитский тип лица, причем ярко выраженный. И на деревенского жителя он походил не больше, чем я на фюрера. Типичный провинциальный учитель или инженер. Людвигу его показывать нельзя – у того нюх на евреев.
Лорхен перехватила мой взгляд и, похоже, прочитала мои мысли. Она вдруг подошла ко мне, просунула под локоть руку и на мгновение ко мне прижалась.
– Он будет жить в моей комнате. Даже Бах ничего не узнает. А я переселюсь к тебе…
Лорхен оказалась темпераментной женщиной, хотя и очень неопытной. Это последнее обстоятельство меня обрадовало – не люблю женщин, практикующих в постели приемчики, которым их научили другие мужчины. У Лорхен не было никаких приемов, лишь интуиция и желание сделать мне приятно. Я это оценил.
– Этот Семен типичный еврей, – сказал я Лорхен, примостившейся на моем плече. – Откуда ты его выкопала?
– Почему вы их так ненавидите? – ответила она вопросом на вопрос.
– Мы не хотим, чтобы они сделали с Германией то, что сделали четверть века назад с Россией. Евреи – пятая колонна в любом государстве. Они делают все возможное, чтобы подорвать его устои и в конце концов добиться мирового господства. Будь осторожна: если Людвиг узнает, он посадит вас с Клаудиой в тюрьму либо отправит в Германию.
– Не отправит, – уверенно заявила она. – Без Клаудии ему будет скучно. А тебе без меня.
На следующий день Людвиг воплотил свою идею в жизнь. На улице взяли дюжину девушек в качестве заложниц, которых он пообещал отпустить, если убивший патрульного явится с повинной. Об этом он оповестил согнанных на площадь возле собора жителей города. Он сказал, что девушкам не сделают ничего плохого, а всего лишь отправят в казармы к солдатам.
– Мы – гуманная нация, – распинался в рупор переводчик из местных. – Мы не признаем библейской заповеди «око за око». Это большая честь для русских девушек – развлекать доблестных немецких солдат, товарищей погибшего Зигмунда Герца.
Вечером Лорхен встретила нас словами:
– Нация дикарей и ублюдков. Вам никогда не удастся нас завоевать.
Людвиг был в приподнятом настроении, а потому возразил довольно добродушно:
– Мы уже вас завоевали. Но это не относится к таким красивым женщинам, как ты, маленькая Лорхен. Красота должна оставаться свободной.
Ужин прошел относительно спокойно, хотя девушки почти ничего не ели. Я заметил, что Людвиг часто поглядывает на Лорхен. Это был очень похотливый взгляд.
– Послушай, может, уступишь на одну ночку свою белокурую подружку? – спросил он у меня, когда обе девушки вышли на кухню. – Люблю пробовать новые блюда.
– Она не согласится. К тому же она еще девушка, – солгал я.
– Брось! Так я и поверил, что такой ловелас, как ты, не успел сорвать этот цветок. Но если это так на самом деле, его сорву я.
Лорхен слышала последнюю фразу и все поняла. Она стояла на пороге столовой с горячим чайником в руке. Мне показалось на секунду, что сейчас она выльет его на голову сидевшего к ней спиной Людвига. Но она сдержалась. Молча поставила на стол чайник, полезла в буфет за посудой. Людвиг следил за ней, как кот за птичкой.
– Это мое право, – сказал я нарочито развязным голосом. – Думаешь, я зря так долго обхаживал эту строптивую фрейлин?
Я подошел и обнял Лорхен за талию. Она вздрогнула, но вырываться не стала. Я заставил ее повернуться и поцеловал в губы. Она не ответила на мой поцелуй – она словно вся застыла.
– Браво! – воскликнул Людвиг и захлопал в ладоши. – Но я опасаюсь, как бы ты не замерз сегодня ночью. Я на расстоянии чувствую, какой от нее идет холод. Желаю удачи.
Он встал и направился на кухню, где была Клаудиа.
– У Семена температура и бред, – шепнула мне Лорхен. – Похоже на корь.
– Из-за этого проклятого еврея мы влипнем в историю! – не выдержал я. – Теперь еще он всех заразит корью.
– Он не виноват, что родился евреем. Ты тоже вполне мог им родиться.
– Ну уж нет! – воскликнул я и вдруг вспомнил о той ядовитой капле, которая текла в моих жилах. Последние годы я о ней забыл. – Мои родители стопроцентные арийцы. Уж лучше родиться прокаженным, чем евреем.
Лорхен ничего не ответила. Она смотрела на меня, словно увидела впервые. В ее взгляде не было ненависти, а сожаление и даже сострадание. Так, вероятно, смотрит священник на приговоренного к смертной казни. Она вздохнула.
– Доктор дал жаропонижающую микстуру. Он считает, у Семена крепкое сердце.
– Доктор? Ты вызывала к нему доктора? Но ведь он может рассказать…
– Не расскажет. Он наш.
Я понял, в какой переплет попал. Стоит Людвигу узнать о Семене… Я даже думать боялся о том, что будет. Я тешил себя надеждой на то, что этот Семен помрет, и его можно будет тайно похоронить. Другого выхода я не видел.
– Я думала, немцы – это не люди, а какие-то чудовища, – говорила в ту ночь Лорхен, осыпая меня поцелуями. – Нам внушали, что вы… А, плевать теперь, что нам внушали. Ты красивый и очень ласковый. И совсем не злой. Клаудиа говорит, Людвиг с ней тоже ласковый. Но я терпеть не могу этого Людвига. Он словно из железа. Ты, наверное, из очень хорошей семьи, да?
Мне вдруг захотелось рассказать Лорхен о матери. Я с трудом подавил в себе это желание. Я побоялся, что, сделав это интимнейшее из признаний, окажусь весь во власти девушки. Признания подобного рода делают только самым любимым.
Я боялся признаться себе в том, что люблю Лорхен больше жизни.
С повинной никто, разумеется, не явился.
Солдаты забавлялись с девушками-заложницами. Недовольство населения росло. Ситуация становилась взрывоопасной. Людвиг велел усилить охрану особняка, где располагалась наша служба. Ходили слухи, будто ночами в городе бывают партизаны.
Бах наткнулся на Семена в отсутствие Лорхен – задымила одна из печей, и он решил прочистить дымоход, колено которого с задвижкой находилось в комнате Лорхен. Семен забыл закрыться изнутри. Он крепко спал, измученный болезнью.
Бах доложил об этом открытии мне. Я сделал вид, будто пришел в ярость и бросился в комнату Лорхен. Семен уже не спал.
Я знал, что Бах стоит за дверью, и закричал во всю мочь легких:
– Вставай немедленно! Кто ты такой? Отвечай!!!
Я кричал что-то еще, пытаясь потянуть время, чтобы придумать выход из положения… Как вдруг распахнулась дверь, и на пороге комнаты вырос Людвиг.
Я обратил внимание, как налились кровью его глаза, когда он увидел Семена. Он приблизился к дивану большими крадущимися шагами хищника, увидевшего верную добычу. Рука его потянулась к «вальтеру».
– Jude, – прошипел он почти по-змеиному. – Чистокровный. В доме, где живет офицер секретной службы, под самым его носом. Хороши девушки… Партизанки!
– Девушки ни при чем, – сказал на хорошем немецком Семен, медленно вставая с постели. – Я влез в окно. Мне негде ночевать.
– А это что? – Людвиг показывал на грязную тарелку, ложку и стакан с недопитым чаем, стоявшие на табуретке возле дивана.
– Это… это я взял на кухне, – голос Семена дрогнул.
– Врешь! – рявкнул Людвиг. – Встать! Руки вверх!
Семен повиновался. Он был худой, как палка, и здорово сутулил спину. Я вдруг вспомнил, что в детстве одно время тоже взял в привычку сутулиться, и отец привязывал мне к спине дощечку.
– Герр Хоффман, выведите пленного во двор. Живей! – Семен был босой и в одних рваных кальсонах. Он замешкался в коридоре, и Людвиг пнул его ногой под зад. Семен рухнул на пол. – Вставай! – орал Людвиг. – На улицу!
Мы вышли на улицу – Людвиг, Семен, я и Бах. В это время дня там было довольно людно. Нестерпимо больно блестел на солнце снег. Сгорбленная фигура Семена казалась грязным пятном на его ослепительной белизне. Я заметил, кое-кто из прохожих остановился, другие же, наоборот, ускорили шаги.
– Герр Хоффман, доставьте пленного в штаб. Я займусь им лично, – распорядился Людвиг, засовывая свой «вальтер» в кобуру.
– Я ничего не знаю, – твердил Семен. – Мне негде ночевать…
– Молчать, грязная еврейская свинья! – прикрикнул на него Людвиг.
Семен подпрыгнул на месте и вдруг бросился бежать. Метрах в семи от того места, где мы стояли, были развалины церкви, взорванной большевиками. Они были засыпаны снегом, и укрыться среди них смог бы разве что воробей. Первым пришел в себя Людвиг.
– Стреляй! – заорал он, возясь с кобурой своего «вальтера», которая как нарочно не открывалась.
Я выхватил револьвер. Я был метким стрелком и мог с первого выстрела попасть в движущуюся мишень. На этот раз я долго прицеливался, и выстрел Людвига прозвучал первым. Он промахнулся и злобно выругался. Наконец, я нажал на курок. Я не слышал выстрела. Я увидел, как Семен вдруг застыл на месте и рухнул на землю.
– Молодец! – похвалил Людвиг, глядя на меня с недоброй завистью. – Но все равно тебя ждет выговор – допустил такое у себя под носом.
Я молчал. Я думал о Лорхен. Что с ней теперь будет? Людвиг не простит подобное даже родной матери.
Я поднял голову. Я увидел бегущую к нам Клаудиу. Она запыхалась, платок сбился и густые черные волосы рассыпались по плечам.
– Что случилось? – спросила она по-немецки. – Кто стрелял?
– А, прекрасная фрейлейн заговорила наконец на цивилизованном языке. – Людвиг измерил девушку недобрым взглядом. – Мы с герром Хоффманом упражнялись в стрельбе по движущейся мишени. Он обнаружил эту мишень в комнате фрейлейн Лорхен спящей в ее постели.
Она все поняла. Клаудиа, выходит, знала немецкий, но притворялась, что понимает всего несколько слов. Почему? – всплывал невольный вопрос.
Я заметил, Клаудиа старается не смотреть в ту сторону, где на уже успевшем покраснеть снегу лежал Семен. Похоже, я сразил его наповал. Меня почему-то обрадовал этот факт.
– Фрейлейн угостит чаем? – с издевкой спросил Людвиг и подтолкнул Клаудию к крыльцу. – У нас с герром Хоффманом есть полчасика.
Она поднялась по ступенькам, раздеваясь на ходу, так же молча налила в чайник воды и поставила на плиту. Людвиг наблюдал за ней со злорадством. Она уже была его добычей, и он мог себе позволить поиграть с ней.
– Фрейлейн отпустили домой? Какой добрый начальник у прекрасной фрейлейн. Только он почему-то забыл предупредить ее о том, как опасно прятать у себя дома евреев.
Клаудиа гремела чайной посудой, стоя к нам спиной. Мне казалось, она плачет.
Внезапно она обернулась. В ее руках была граната…
Меня допрашивал шеф секретной службы из Ростова. Я рассказал про Семена то же самое, что, уверен, рассказал и Бах, который не знал, что Семен прожил в доме несколько дней. Людвига похоронили с почестями. Клаудию закопали в каком-то рве вместе с расстрелянными преступниками. Лорхен бесследно исчезла. Я переселился в другой дом, в котором жили муж с женой, оба довольно преклонных лет. Я с ними почти не общался.
Мы проигрывали Сталинград. Партизаны обнаглели, и ночами в городе стало очень опасно. Возле каждого дома, где жили немецкие офицеры, круглосуточно нес службу патруль.
Я часто думал о Лорхен. Почему-то я был уверен, что она жива. Теперь я твердо знал, что она, как и Клаудиа, вела двойную игру. Но, вспоминая ее ласки в постели, – мы провели с ней восемь ночей, не считая той, в заснеженной степи, – я приходил к выводу, что она меня по-настоящему любила. Я хотел ее увидеть, хотя порой на меня накатывала такая злость, что я скрипел зубами: еще ни одна женщина мной так не играла. Лорхен к тому же была русской, а мы привыкли считать славян низшей расой. Тем более русских, позволивших евреям и коммунистам сделать с ними то, что они сделали.
Дел было по горло. Домой я приходил только спать. Приятели, я знал, развлекаются по-прежнему с девушками – меня не раз приглашали в подобные веселые компании. Мне почему-то не хотелось. Возможно, сказывались усталость и напряжение последних недель.
Как-то ночью я услышал слабый стук в окно моей спальни. Оно выходило в сад, и поначалу я решил, что это стукнула ветка дерева, – дул сильный западный ветер, снова принесший оттепель. Стук повторился. Я понял, это не ветка, и, вскочив с постели, подошел к окну. Сердце бешено колотилось.
Это была Лорхен. Я дернул на себя створки окна, протянул руки и втащил ее в комнату.
Она быстро прижалась ко мне всем телом. От ее волос пахло фиалками. Всему виной была эта совсем весенняя оттепель.
Лорхен в мгновение ока разделась и очутилась под одеялом. Я слышал, как Бах подошел к двери и спросил, все ли у меня в порядке: он слышал стук.
– Это ветер, – ответил я, прижимая к себе Лорхен. – Рама раскрылась, но я запер. Все в порядке, Бах.
Мы молча слушали его удаляющиеся шаги.
– Кругом патрули. Как тебе удалось…
Вместо ответа она поцеловала меня. Нас обоих захлестнуло волной и куда-то понесло. Она пришла в себя первая. Прошептала:
– Они убьют меня, если узнают.
– Кто? – не понял я.
– Наши. Они ненавидят тех, кто спит с немцами просто так.
– Но как тебе удалось проникнуть в город? Мне кажется, и птица не пролетит без нашего ведома.
– Я из него никуда и не уходила.
– Не может быть. Мы обыскали каждый дом.
– «Мы обыскали», – с издевкой повторила она. – «Мы» – это непобедимая армия арийцев, из которой дикие нецивилизованные русские под Сталинградом сделали котлеты?
Во мне вдруг поднялась такая ярость и ненависть к девушке, с которой я всего несколько минут назад занимался любовью. Не помню, как я очутился на ней верхом. Руки сами потянулись к ее горлу.
Я пришел в себя, когда услышал ее хрип.
– Прости. – Я взял в ладони ее лицо. – Черт бы побрал эту войну.
Я лег и повернулся к ней спиной. Я очень любил Лорхен. И в то же время люто ненавидел.
– Если бы не война, мы бы не встретились, – снова сказала она. – Как меня угораздило влюбиться в немца?
– Вы с сестрой использовали меня в своих целях, – сказал я, чувствуя новый прилив ярости. – Вы…
– Она мне не сестра, – сказала Лорхен. – Я познакомилась с ней, когда немцы заняли город. Она жила раньше в Ростове, преподавала в университете немецкий. Я осталась на оккупированной территории только потому, что не хотела бросать дом, в котором родилась и умерла моя мама.
– У тебя больше никого нет? – спросил я.
– Отец пропал без вести под Москвой. Брат погиб недавно под Сталинградом.
Она говорила спокойно, без злобы. Я повернулся к ней.
– Иди сюда, моя девочка. Теперь у тебя есть я.
Эти слова вырвались сами собой. Да, я был влюблен в Лорхен, но не мог ее защитить. Машина войны, запущенная на полные обороты, способна переломать кости не только побежденным, но и победителям тоже.
Она ушла до рассвета. И не сказала – куда. Я не мог остановить ее. Она сказала, перелезая с моей помощью через подоконник:
– Я не могу без тебя. Обязательно увидимся.
Я ждал ее на следующую ночь, прислушиваясь к каждому шороху.
В эти бессонные ночи, полные шорохов, мышиного писка и воя ветра за окном, я вдруг понял, что меня совершенно не волнует тот факт, что наша армия терпит поражение за поражением. Хотя вру, на самом деле он волновал меня – я не хотел расставаться с Лорхен.
Как это обычно случается, я проспал ее появление. Проснулся уже когда стук в окно стал таким отчетливым, что его нельзя было спутать ни с каким другим звуком.
Она стояла в палисаднике. Простоволосая и в легком платье. На ее руках были ссадины и синяки.
– Я убежала. Они посадили меня в чулан. Они все знают.
– Кто? – не понял я.
– Наши, – тихо сказала она. – Вилен говорит, что немецких овчарок нужно вешать. Они собирались повесить меня утром.
– Мы сами их повесим. Ты только скажи: где они?
– Этого я сделать не могу… Она расплакалась на моей груди.
Мы проговорили до рассвета, обсуждая всевозможные варианты ее спасения. Ни один из них не годился. Наконец я сказал:
– Останешься у меня. Запру тебя в спальне. Я всегда ее запираю: там у меня сейф.
И не стал слушать ее возражений.
В тот день город бомбила русская авиация. Мы сидели в подвале штаба, переоборудованном под бомбоубежище. Я беспокоился за Лорхен.
Когда я вернулся домой, она спала, свернувшись калачиком под одеялом. Светлые локоны разметались по подушке.
Мы пили в постели белое вино из того же подвала, доставшегося нам в наследство от чудака-русского – я принес его в двухлитровой банке. Вино оказалось очень крепким, и мы быстро захмелели. Лорхен беззаботно смеялась. От ее улыбки я сходил с ума.
– Знаешь, с чего началась моя любовь к тебе? Ты напомнил мне одного русского киноактера.
– Не хочу быть ничьим отражением.
– Не обижайся. – Она взяла мою руку, поднесла к губам и поцеловала. Потом еще и еще. – Пусть ты немец, враг, а я все равно люблю тебя. – Она помолчала. – Как ты думаешь, теперь русские всегда будут ненавидеть немцев?
– Может, и не всегда, но очень долго, – ответил я. – Мне очень жаль…
Я не закончил фразы. Я еще не знал, чего конкретно мне жаль, – просто вдруг нахлынуло сожаление о том, что тот небольшой отрезок жизни, который я прожил, я прожил не так, как надо.
– Мне тоже, – эхом откликнулась Лорхен. И добавила: – Ведь у меня будет… – Она моментально поправилась: – Я беременна…
Я медленно поднес ее руку к губам. Я видел эту картину со стороны. Я поставил бы под ней подпись: «Без надежды»…
Мы выпили все вино. За окном повалил крупный снег. Мне это напомнило детство, рождественские праздники. Я сказал:
– Ты – моя жена. Другой у меня не будет никогда. На следующий день меня встретил у порога встревоженный Бах.
– Герр Хоффман, к вам в спальню кто-то влез, – сказал он шепотом. – Я видел следы в палисаднике. Я хотел взломать дверь, но не осмелился. Я доложил обо всем герру Шубарту. Он ждет нас в столовой.
Я кинулся туда.
Эрих Шубарт, мой заместитель, толстый флегматичный австриец с лицом вечно чем-то недовольного ребенка, пил чай.
– В чем дело?! – от волнения я сорвался на визг.
– Мы обследовали палисадник. Следы ведут в переулок, где уже протоптали тропинку. Собаки…
– Черт побери, вы были в моей спальне?!
– Герр Хоффман, позвольте закончить. Собаки взяли след…
Оттолкнув денщика, я направился в спальню. Казалось, минула целая вечность, прежде чем мне удалось вставить ключ в замок. В спальне было холодно, я обратил внимание, что окно приоткрыто.
– Лорхен, – тихо окликнул я. Мне никто не ответил.
Я схватил с тумбочки фонарь. Постель была скомкана, словно на ней боролись. На тумбочке стояла нетронутся еда – завтрак и обед Лорхен, лежала плитка шоколада. Я услышал шаги. Бах нес керосиновую лампу, за ним шел Шубарт. Последнее время в городе почти всегда не было света.
– Сейф цел, – констатировал он, довольно потирая руки. – Я так и знал. А вообще, в дальнейшем советую вам держать все бумаги…
– Катись к черту со своими советами! – рявкнул я и заглянул под кровать. Я плохо понимал, что делаю: ведь если бы Лорхен оказалась там…
– Собаки взяли след, – невозмутимо продолжал Шубарт. – Он привел к дому номер пять по улице… – Он справился в своем блокноте. – По улице Базарной. Дом был пуст, дверь не заперта. В чулане мы обнаружили труп молодой женщины. Она висела с кляпом во рту. К груди прикреплена картонка с надписью, как это обычно делают партизаны.
Я сел на кровать, обхватив голову руками. Шубарт продолжал свой бесстрастный рассказ. Я слышал, как Бах закрыл окно и запер рамы.
– …Они наверняка где-то в городе, – бубнил над моим ухом Шубарт. – Я отдал приказ оцепить Базарную и прилегающие к ней улицы. Жители соседних домов клянутся, что ничего не видели и не слышали. Они, разумеется, врут, и с ними уже работает герр…
– Довольно, Шубарт, – тихо сказал я.
– Труп опознали почти мгновенно, – продолжал толстяк, не обращая внимания на мои слова. – Эта женщина жила в том доме…
– Довольно! – рявкнул я. – У меня был тяжелый день.
– Как угодно. – Шубарт захлопнул блокнот. – Она была одной из них. Странно, что они ее повесили. Впрочем…
Он протянул мне кусок картона, который, по-видимому, все это время держал в руках. На нем было два слова: «Немецкая овчарка».
– Вилен, – вспомнил я. – Среди них есть человек по имени Вилен. Правда, может оказаться, что это кличка.
Вилена взяли ночью, вытащив из постели, где он безмятежно спал. Это был пожилой мужчина с физиономией, изрядно подпорченной оспой. Он работал на городской станции водоснабжения мастером. Я с удовольствием избивал его, и если бы не Шубарт, силой оттащивший меня, наверняка бы убил.
Труп Лорхен лежал у нас на заднем дворе прямо на снегу. Мне казалось, ей холодно и она простудится. Кажется, я сказал об этом Шубарту. Впрочем, к тому времени у меня поднялась температура и начался бред.
Это оказалось воспаление легких. Я выжил благодаря Лорхен – она приходила ко мне каждую ночь, я мог бы в этом поклясться. Как всегда, тихонько стучала в окно. Я вскакивал с постели и втаскивал ее в комнату. Мы занимались любовью, а Бах дремал в углу на стуле.
Мистер Хоффман умолк и долго сидел задумавшись. Потом встал и полез в холодильник.
Томми обнял сестру за плечи и привлек к себе. Она почти успокоилась. Джильда, все это время неподвижно лежавшая у ног хозяина, вскочила и, положив голову Лиззи на колени, заскулила.
– Она тебя жалеет, – сказал Хоффман, протягивая девушке банку с лимонадом. – Это она подсказала нам с Томми, что у тебя не все в порядке. Томми начал рассказывать, как вы провели день, а Джильда вдруг вскочила и стала тянуть его за рукав. Если бы он не встал, она бы его укусила.
Лиззи улыбнулась собаке и погладила ее.
– Спасибо, Джильда. – Она вздохнула. – Хотела бы я знать, кем ты была раньше.
– Дядя Джо говорил, многие люди после смерти превращаются в крыс и только некоторые – самые умные – в змей. Про собак я у него не спрашивал, – сказал Томми.
Мистер Хоффман поставил на столик недопитую банку с пивом и стал раскачиваться в кресле.
– Я бы хотел превратиться в пламенную лилию Gloriosa. Этот цветок растет только в Африке. Но сначала, очевидно, придется пожить какое-то время в шкуре хамелеона. – Он усмехнулся. – В Африке живут хамелеоны, кожа которых может принимать окраску не только листьев, но и цветов. Вообще в Африке с человеком могут случиться самые неправдоподобные вещи. Но об этом надо рассказывать по порядку.
Лиззи устроилась поудобнее возле брата. Мистер Хоффман закинул руки за голову и начал:
– Не буду вспоминать о том, сколько крови пролил я в России, превратившись из воина третьего рейха в одержимого, который мстит за смерть возлюбленной. Я убивал с каким-то неистовым наслаждением. Мою тайну я, разумеется, не доверил никому, и одни считали меня героем, другие – сумасшедшим. К концу войны многие стали понимать, что их одурачили при помощи самого страшного из всех гипнозов – воинствующего шовинизма. Кое-кто испытывал чувство вины. Мой близкий друг пустил себе пулю в лоб после массового расстрела мирных граждан под Минском. Я, быть может, в конце концов сделал бы то же самое, если бы машина, в которой я ехал, не подорвалась на мине.
Я очутился в госпитале в Кракове. Отец, узнав о моем состоянии, увез меня в Берлин.
Врачи были уверены, что зрение вернется. Однако это оказался тот самый случай, когда им пришлось попросту развести руками. Отец привез из Вены известного окулиста, который подтвердил выводы лечивших меня врачей относительно благополучного исхода. Он сказал то же, что и они, – зрение может вернуться в любой момент. Но может и никогда не вернуться, добавил он.
Я лежал в отдельной палате, отрезанный от всего мира. Радио я слушать не хотел – я был сыт по горло бодрыми маршами и истеричными призывами фюрера отдать жизнь за великую Германию. Мне казалось, я уже отдал за нее нечто большее. Я жалел о том, что остался жив, и в то же время понимал, что не смогу наложить на себя руки. Я никогда не считал себя верующим – религия не была в особом почете в Германии коричневых, но мысль о Боге посещала все чаще и чаще, пока я не поверил в то, что моя слепота не что иное, как Божья кара.
При мысли об этом мне стало легче. И даже появилось желание жить. Я представлял, каково в этом мире слепому, и со злорадным удовольствием предвкушал свои будущие страдания.
Как раз в это время в моей жизни появился Генрих. Однажды он зашел без стука в мою палату. Он передвигался на костылях, и я догадался, что это кто-то из больных.
– Я слышал, ты из нас самый счастливый, – обратился он ко мне наигранно веселым голосом. – Все у тебя на месте и на лице ни единого шрама. А вот я превратился в огородное пугало. Генрих Фангауз, – представился он и пожал мне руку.
Мы сдружились. Генрих принадлежал к числу мыслящих немцев и фюрера называл не иначе, как солдафон и душегуб. Генрих, по его собственному выражению, оставил в окопе под Одессой правую ногу, три пальца левой руки и веру в непобедимость Германии. Вдобавок ко всему ему изуродовало осколком лицо. Мы проводили с Генрихом дни и ночи – обоих мучила бессонница. Это была настоящая эпидемия: почти все вернувшиеся с Восточного фронта страдали бессонницей.
Однажды Генрих сказал:
– Эта страна отняла у нас все что могла. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Я давно подумываю о том, в какой бы дальний угол забраться. Европа не подходит – известно почему. Западное полушарие мне всегда казалось кривым зеркалом восточного. Это какая-то топологическая головоломка, а я, признаться, побаиваюсь всего непонятного. Да и там слишком много воды. Слушай, а почему бы нам с тобой не податься в Южную Африку?
Отец одобрил мое решение и помог с отъездом.
Когда мы прощались, оба чувствовали – расстаемся навсегда. Родители Генриха умерли еще до войны, невеста нашла себе другого, а потому его никто не провожал. Отец давно перевел на мое имя приличные деньги на счет одного международного банка. Генриху удалось вывезти кое-что из фамильных драгоценностей и доллары.
В Кейптауне жили знакомые Генриха, тоже немцы, но родившиеся в Южной Африке. Они помогли нам на первых порах. Мы с Генрихом купили дом у подножия Столовой горы. Говорят, редкое по красоте место. Увы, я не видел всей этой экзотики, но Генрих так зримо описывал мне ее!.. Я по сей день представляю вид с нашей террасы: серебристые деревья в цвету. Генрих, помню, говорил, что протея, этот розовый цветок, напоминающий формой большой одуванчик, так непривычен для глаза европейца. Мне кажется, европейцы причинили Африке много вреда главным образом потому, что всегда смотрели на нее непонимающими глазами.
Я привыкал постепенно к своей слепоте, если, разумеется, к этому можно когда-нибудь привыкнуть. Генрих подарил мне щенка – это была прабабка Джильды. Мы стали неразлучны. Клара была моими глазами, а в ту пору я еще был слеп той самой слепотой, которую представляет себе зрячий, – ведь я сам совсем недавно был зрячим. Я проводил время в садике. С помощью Генриха я разбил большую клумбу, которую засадил лилиями. Генрих утверждал, что второй такой клумбы нет во всем городе, а может, и во всей Капской провинции, где расположен Кейптаун. Однако пламенной лилии, этого дикорастущего цветка тропических лесов, у меня на клумбе не было. Она появилась потом…
Мистер Хоффман взял со стола банку с пивом, сделал глоток и вдруг раскашлялся. Джильда вскочила, забегала вокруг кресла-качалки, сотрясая воздух лаем.
– Все в порядке, моя девочка. – Мистер Хоффман похлопал Джильду по холке, и она улеглась на прежнее место возле его ног. – Она тоже верит в то, что человек начинает кашлять, если в него вселяются злые духи. Говорят, их отпугивает собачий лай. Об этом рассказывала прабабке Джильды Глориоза.
Глориоза была приходящей прислугой. Три раза в неделю она убирала в доме, стирала, варила нам обед, выполняла другие поручения. Жила она в так называемом Шестом районе. Это было гетто для цветных.
У Глориозы был низкий гортанный голос, и от нее исходил неповторимый запах. Так не пахнут ни одни духи в мире – то был здоровый живой запах. И мне, слепцу, он напоминал о том, что вокруг благоухает и цветет всеми красками мир.
– Она настоящая недотрога, – сказал мне как-то Генрих. – Я всего лишь хотел чуть-чуть ее потискать, а она меня как отпихнет. Хорошо еще диван рядом оказался. Тоже мне, Артемида Африканская.
Надо сказать, у нас с Генрихом несколько лет не было женщин. У меня – еще со времен нашей с Лорхен любви, что касается Генриха, то он, по его признанию, влюблен не был никогда, что не помешало ему переспать со всеми более-менее смазливыми женщинами в его родном Бонне. Разумеется, еще до того, как он лишился ноги и пальцев. Последнее время мы стали чаще говорить о женщинах. Война искалечила наши тела и души, но ей оказалось не под силу усмирить инстинкты.
Глориоза принадлежала к одному из самых многочисленных африканских племен – банту. Она немного говорила по-немецки и по-английски. Генрих сказал поначалу, что она похожа на обезьяну, но с фигурой первоклассной проститутки. Потом – что в ее лице есть изюминка. В конце концов он назвал ее африканской Евой.
Я знал, Генрих потихоньку пристрастился к алкоголю. Он открыл магазинчик в квартале, где жили бедные белые. Каждое утро он садился за руль своего «студебеккера» с ручным управлением и ехал на работу. Торговля, думаю, шла не слишком бойко, а потому от скуки он наливался пивом. В жару его здорово развозило. Вечер он заканчивал виски со льдом.
Я редко выходил на улицу. В те дни, когда приходила Глориоза, я старался быть дома. Шумел пылесос, крутился барабан стиральной машины, из кухни доносились запахи запекающейся в духовке дичи или мяса и тихое, как мурлыканье, пение Глориозы.
Как-то в отсутствие Генриха Глориоза подавала мне чай. Я сидел на террасе, откуда открывался вид на рощу серебристых деревьев. В моем воображении она была настоящим Эдемом.
– Глориоза, – спросил я, услышав ее легкие, как бы скользящие по поверхности пола шаги, – скажи мне: там очень красиво?
Я слышал, как она поставила на стол поднос с чайной посудой.
– Да. – Она почему-то вздохнула.
– Я так и думал. Попьем чаю и пойдем гулять в рощу.
– Но, герр Хоффман…
– Никаких «но». Я так давно не гулял там. Генриху теперь некогда.
Я слышал, как она разливает по чашкам чай, шуршит оберткой от бисквитов. Потом слегка скрипнул плетеный стул. Я понял – Глориоза села за стол.
– Замечательно. Значит, либо меня ты боишься меньше, чем Генриха, либо совсем не боишься. Он говорит, при нем ты никогда не садишься. Это правда, Глориоза?
– Да, герр Хоффман.
– Называй меня Вилли – я, кажется, еще не совсем старик.
– Да, Вилли, – покорно произнесла она. Я рассмеялся.
– Ты на самом деле его боишься? Но почему?
– Он опасный человек. Очень опасный человек. Потому что он очень слабый.
– Я знаю Генриха уже больше десяти лет и никогда не видел его злым или даже сердитым, – возразил я. – Мне кажется, ты ошибаешься, Глориоза.
– Нет, герр… Вилли. В него часто вселяются злые духи. И подолгу живут в его теле. Злые духи любят выбирать своим домом тела слабых людей.
– А мое тело они не выбирают своим домом? – серьезно спросил я.
– Не знаю. Я никогда не видела. Может, когда ты спишь. Правда, один раз я видела, как он в тебя влез. Но скоро вышел из тебя. Это был страшный дух – дух тайной смерти. Он может выесть все нутро человека, но человек догадается об этом только тогда, когда от него останется одна оболочка.
– Глориоза, сколько тебе лет?
– Пятнадцать. Но это те годы, которые я помню. До этого я жила много-много лет. И много-много училась жить. Меня учили жить добрые духи. Когда я стала умной, мне разрешили выйти сюда.
– И тебе здесь нравится?
– И да, и нет. Здесь развелось слишком много злых духов. Огон говорит, они пришли сюда с белыми. Но Нва считает иначе. Нва очень умный.
– И что же считает твой умный Нва? Глориоза ответила не сразу.
– Нва говорит, у белых людей есть свои злые и добрые духи. Они очень молодые и неопытные. Злые духи белых людей не могут сделать злое дело африканцу.
– А добрые могут сделать доброе?
– Да, – уверенно кивнула она. – Могут.
Мы попили чай. Девушка унесла посуду на кухню. Я слышал, как там журчит вода. Потом Глориоза запела.
Мелодия песни пробуждала во мне странные видения. Мне казалось, я вижу, как распускаются на деревьях почки, как свет восходящей луны скользит по краю скалистого ущелья, как течет полноводная река… Я много что увидел, и это не были картины из памяти – их нарисовала перед моим мысленным взором мелодия. Еще я видел землю с высоты птичьего полета, и у меня даже кружилась голова. Я встал и направился на кухню. Глориоза перестала петь.
– Почему ты замолчала? – спросил я. – Твоя песня доставила мне столько радости. Мне показалось, я могу видеть. Только я видел не то, что вокруг, а то, что ты заставила меня увидеть.
Глориоза тихо рассмеялась.
– Я пела для тебя, Вулото.[36] Я хочу, чтобы ты видел, какой добрый и красивый наш мир. – Она сказала что-то на своем языке. Каком – я не знал. Глориоза принадлежала к так называемым капским цветным, расовые корни которых установить практически невозможно. Они появились еще на заре европейской колонизации от смешанных браков европейцев с коренными жителями юга Африки. В те времена, о которых идет речь в моем рассказе, браки между представителями различных расовых групп были запрещены. Хотя это отнюдь не значило, что такие браки не имели места.
– Что ты сказала, Глориоза? Переведи, – попросил я.
– Зови меня Пламенной Лилией. Тебе нравится это имя?..
Она ушла еще до того, как появился Генрих, по обыкновению пьяный и болтливый. Мы обедали в столовой – на террасе одолевали москиты. Генрих ругал «белых оборванцев», которые так и норовят стащить с прилавка бутылку пива или пачку сигарет.
– А сами называют себя белыми людьми, – говорил он, с громким бульканьем наливая в свой стакан виски. – Они хуже африканцев. Ты бы видел, как хлещут пиво их женщины! И не только пиво. Они все как на подбор уродки – плоскозадые, жилистые, сиськи висят до пупка. А вот среди цветных девушек есть такие, что пальчики оближешь. Глориоза давно ушла? – спросил вдруг он.
– Минут сорок назад.
– Не могла меня дождаться. Я ее последнее время почти не вижу. Это ты счастливчик. Ну и как продвигаются дела на сексуальном фронте?
– Я их не продвигаю. Глориоза честная девушка.
– Ты хочешь сказать, что у нас в доме не пропадают вещи? – съязвил Генрих.
– Я хочу сказать, что в жару вредно много пить. Тем более виски. У тебя плохое здоровье.
– Черт бы его побрал, это здоровье. Гм, здоровье инвалида. Этим чертовым сучкам нужно, чтоб машинка работала на полных оборотах. У меня же мотор часто глохнет, а потом долго не заводится. Тьфу! – Генрих выругался. Это была смесь немецких, английских и голландских ругательств, заправленная солеными словечками из нгуни.[37]
Мне стало его жаль. Я протянул через стол руку и пожал его, похожую на клешню большого омара. Наши ужины все чаще проходили под такие вот разговоры. Я вдруг понял, что нам пора расстаться, – уж слишком навязчиво напоминаем мы друг другу о том, о чем лучше бы давно забыть. Генрих словно прочитал мои мысли.
– Знаешь, два холостяка под одной крышей – это слишком. Тут неподалеку продается дом. Правда, поменьше нашего, зато с видом на бухту. Да и цена по нынешним временам вполне сносная. Мне оттуда до магазина рукой подать.
Через неделю мы разделили поровну наше нехитрое хозяйство и зажили каждый сам по себе. Генрих пообещал, что будет меня навещать. Еще он сказал, что попросил Глориозу приходить к нему по субботам и вторникам, что он не может отказаться от ее услуг, что общество этой африканской Артемиды действует на него очень благотворно.
Я не ждал Глориозу в следующую субботу – я был уверен, она пойдет к Генриху. Я настроился поскучать в обществе Клары под музыку Брамса. В роще серебристых деревьев пела какая-то птица. Ее трели напоминали соловьиные. Я почувствовал щемящую тоску.
Вдруг мне на плечи легли прохладные ладони, и у меня закружилась голова от аромата, по которому я безошибочно узнал Глориозу или, как она велела называть себя, Пламенную Лилию.
– Вулото не должен грустить, – сказала она. – Вулото самый счастливый человек на свете.
– Да. – Я и в самом деле был очень счастлив, что она пришла. – А я думал, ты у Генриха.
– Ты потому и грустил? – спросила Пламенная Лилия, усаживаясь на пол возле моих ног. Я был слепым с большим стажем и в мире звуков ориентировался, как обезьяна в родных джунглях.
– Да. – Я погладил жесткие мелкие кудряшки на ее голове.
– О, Вулото знает, что Пламенная Лилия его любит. Зачем ей идти к Генриху? Пламенная Лилия никогда больше к нему не пойдет.
– Вы поссорились? Когда это случилось?
– Это никогда не случалось. Это было всегда. Белый Нгахола[38] сделан из глины склона, где живут алева.[39] Как хорошо, что ты теперь живешь один.
Она положила голову мне на колени. Мы вместе слушали скрипичный концерт Брамса, в который вплетались звучные рулады африканского соловья. Вдруг я вспомнил Лорхен – я давно ее не вспоминал. Я вздрогнул и застыл, пронзенный этим воспоминанием.
Пламенная Лилия взяла мои руки в свои и спрятала лицо в моих ладонях.
– Теперь я только твоя, – прошептала она. – Никто другой не посмеет ко мне прикоснуться. Я буду с Вулото всегда, и он не будет грустить.
Пламенная Лилия осталась жить в моем доме. Каждую ночь она делила со мной ложе, но под утро всегда уходила в свою комнату окнами на склон Столовой горы, хоть я и просил ее остаться.
– Ни[40] приходят на рассвете повидаться со своими детьми. Этой встрече никто не должен мешать. Любовь все равно что стена. Она делает мужчин и женщин безразличными к своим предкам. Ни будут рады увидеть, что Вулото лежит в постели один.
– Значит, они эгоисты, эти ни, – говорил я Пламенной Лилии. – Мне хорошо с тобой. Я хочу проснуться в твоих объятиях.
– Кулотиоло сделал для Вулото Вулоно.[41] Я твоя женщина. Я никогда тебя не брошу. Но я буду делать так, как хотят ни.
Днем она всегда была занята по хозяйству. Представляю, какая чистота воцарилась в нашем доме с тех пор, как здесь поселилась Пламенная Лилия.
Однажды, когда она ушла за покупками, ко мне заглянула соседка, миссис Кэлворт, Джейн Кэлворт, вдова в летах, проводящая время в безделье и в занятиях мелкой благотворительностью. Она и раньше заглядывала к нам с Генрихом. Он называл ее Jane-of-all-trades[42] и говорил, что мог бы прожить с ней в одном шалаше на необитаемом острове лет двадцать пять и остаться девственником. Джейн Кэлворт было под шестьдесят. От нее всегда терпко пахло духами.
Я угостил ее лимонадом и мороженым. Мы сидели на террасе с видом на рощу серебристых деревьев. Африканского соловья в тот день не было слышно.
– У вас стало так уютно в доме, мистер Хоффман, – констатировала Джейн Кэлворт. – Вам повезло с прислугой – эта Гло такая расторопная. Моя Мвамба по сравнению с ней неповоротливая тумба. Вы не смогли бы одолжить мне на несколько дней Гло? Я хочу разобрать шкафы с посудой и повесить на окна новые шторы. Мвамба обязательно что-нибудь разобьет.
– Прошу прощения, миссис Кэлворт, но… Гло требуется мне чуть ли не каждую минуту. Ведь я слепой.
– О да, я понимаю. Я все прекрасно понимаю. – В голосе ее сквозило ехидство. – Мой покойный муж, бывало, говорил, что африканские женщины умеют ублажать белых мужчин. Причем сразу нескольких. Дело в том, что они в силу ограниченности своего интеллекта не способны понять, что такое элементарная женская верность. Моя Мвамба имеет трех, а то и четырех…
Я резко встал.
– Миссис Кэлворт, прошу прощения, но я должен встретить Гло – ей не под силу дотащить к нам наверх сумки с продуктами.
– Да, конечно. – Она встала. – Не буду вас задерживать, мистер Хоффман. Заходите как-нибудь на чашку чая.
Я поспел вовремя – Пламенная Лилия отдыхала у подножия лестницы, ведущей на нашу улицу. Я подхватил сумки и стал подниматься – я знал наизусть каждую ступеньку. Она пыталась вырвать их у меня, и мы чуть не скатились вниз. Наверху я поставил сумки на землю и обнял ее на виду у всей улицы. Я не делал так никогда.
Как-то в отсутствие Пламенной Лилии меня навестил Генрих. Мы с ним давно не виделись, лишь изредка разговаривая по телефону. Я знал, что Генрих надумал жениться.
– Она не первой молодости, – рассказывал он, как обычно потягивая виски с содовой, – но и не совсем еще старая. Признаться, в постели от нее проку мало, да и я уже к этим штучкам-дрючкам поостыл… Знаешь, – вдруг прервал он свой рассказ, – ты выглядишь, как мальчишка, хоть у нас с тобой всего каких-то два с половиной года разницы. Но ты еще хлебнешь с ней горя.
В тоне его голоса я уловил злорадство.
Я попросил его не совать нос в чужие дела.
Генрих хмыкнул и долил виски в стакан.
– Надеюсь, ты придешь к нам на бракосочетание, – сказал он после довольно длинной паузы. – Хильда тоже тебя приглашает. Послушай, я должен обязательно познакомить тебя с Хильдой. У меня есть идея: мы завтра же приедем к тебе обедать.
– Мы с Глориозой будем рады вас видеть.
– Э-э-э, как бы это сказать… – Генрих болтал в воздухе стаканом, и я слышал, как о его стенки звякают льдинки. – Я понимаю, ты очень привязался к Глориозе, и она ухаживает за тобой, как… Словом, замечательно ухаживает. Но Хильда… Хильда родилась и выросла в этой стране.
– Мы с тобой тоже родились и выросли в расистском государстве. И воевали за идеи фюрера. Но Германия за минувшие годы стала совсем другой. Почему же в нас ничего не изменилось?
– Прежней Германии больше не существует, – с явным сожалением подтвердил Генрих. – Эти проклятые коммунисты скоро и сюда доберутся. – Он ударил кулаком по столу. – Я сам возьму в руки автомат, если они сюда придут.
– Успокойся, этого не случится. Если мы снова не полезем со своими порядками туда, где нас не ждут.
Я чувствовал, как во мне поднимается волна гнева. Дело было не в Генрихе и даже не в его Хильде – последнее время мне чуть ли не на каждом шагу напоминали о том, что я обязан жить согласно законам, придуманным духовными близнецами нашего фюрера.
– Прости. – Генрих вдруг крепко стиснул мне запястье. – На меня словно нашло затмение. Жди нас завтра с Хильдой.
Я пересказал Пламенной Лилии мой разговор с Генрихом – она в это время стелила нашу постель. Она каждый день стелила чистое прохладное белье, пахнущее экзотически сладко и успокаивающе. Она молча стелила нашу постель. Потом так же молча расстегнула пуговицы на моей рубашке, поцеловала меня три раза в грудь и взяла за руку, приглашая лечь. Она никогда не ложилась первая.
– Я собралась завтра к сандугу,[43] – сказала Пламенная Лилия, укладываясь рядом со мной. – Я приготовлю обед, расставлю букеты цветов, накрою на стол. Прошу тебя, Вулото, отпусти меня завтра к сан-дугу.
– Ты умная девочка, но ты никуда завтра не пойдешь. Ты будешь сидеть с нами за столом как хозяйка этого дома и моя жена. Пусть только эта Хильда попробует пикнуть.
– Нет, Вулото, нет. Ты ничего не понимаешь. Гомана[44] и Сели[45] родные братья. Они повздорили между собой, но помирятся, когда поймут, что поругались из-за пустяка… И они снова станут любить друг друга. Но пускай они это поймут сами.
– Но я не желаю сидеть за одним столом с людьми, которые считают тебя… существом низшей расы.
Пламенная Лилия прижалась щекой к моей щеке.
– Вулото, прошу тебя, думай о том, что Гомана и Сели родные братья. Они не могут не любить друг друга. Думай о том, как они помирятся и будут радоваться, что снова вместе. Прошу тебя, Вулото.
Пламенная Лилия сделала все по-своему. Уходя, она сказала:
– Вернусь и сварю вам кофе. Мне нужно спросить у сандугу. Мне нужно очень много спросить у сан-дугу.
Она на самом деле появилась к концу обеда. Я услышал ее легкие скользящие шаги еще раньше, чем их услышали собаки. Генрих начал было подниматься ей навстречу – он всегда так делал, как вдруг плюхнулся на место. Думаю, не без помощи Хильды.
– Послушай, – сказал Генрих, когда Хильда ненадолго отлучилась, – если бы эта девушка была моей женой, у меня бы наверняка не барахлила эта чертова машинка. Видел бы ты образину, на которой я собираюсь жениться. – Он выругался по-еврейски – недаром Кейптаун называют Новым Вавилоном. – Слава Богу, хоть уродов не наплодим. Эх, как же я тебе другой раз завидую!..
В постели Пламенная Лилия завела разговор о том, что должна родить от меня ребенка. Так ей сказала сандугу. Я испытал радость. Но тут же больно сжалось сердце. Она почувствовала это.
– Если Вулото не хочет, маленького у нас не будет. Его душа еще не вселилась в мое тело, но она очень стремится туда вселиться. Я слышала, как она стучала в мое окошко.
– Лорхен, – прошептал я. – Так звали девушку, которую я любил в России. Она должна была родить мне ребенка. Я не мог на ней жениться. Я даже не смог ее защитить. Ее убили. Бог наказал меня за трусость слепотой.
– Нет, Вулото. Гомана, как и его брат Сели, больше любит прощать, чем наказывать. Это душа того ребенка просится в мир. Мы должны его впустить.
Она на самом деле забеременела. Как мне кажется, именно в ту ночь. Она ушла к себе позже обычного – в роще уже защебетали птицы. В тот день, помню, мы не отходили друг от друга. Впервые за много лет я почувствовал, что еще не утратил способность чувствовать себя счастливым.
Вскоре после своей женитьбы Генрих по-настоящему запил. Он часто приходил ко мне, пил виски, ругал «эту свинскую жизнь» и Хильду.
– Не женщина, а фельдфебель в юбке. У нее и задница, как у мужика: плоская, не за что ущипнуть. Ну, а все остальное… Доска с дыркой, вокруг которой щетина и та почти не растет. Моту себе представить, как прекрасно это место у твоей Глориозы.
Когда-то в молодости я тоже мог обсуждать в компании таких же великовозрастных балбесов, каким был сам, достоинства и недостатки подружек. Но к тем женщинам я не испытывал никаких чувств. Теперь мне были неприятны подобные разговоры.
Генрих менял тему.
– Эх, смотаться хоть бы на недельку в фатерлянд. Интересно, уцелел дом, в котором я вырос? А тебя разве не тянет в родные края?
Честно говоря, меня туда не тянуло. Отец, как мне передали, уехал куда-то в Южную Америку. Думаю, он сменил фамилию, а может, даже сделал пластическую операцию. Я редко вспоминал отца, и мне, в сущности, было безразлично, жив он или умер.
Последнее время я часто вспоминал маму…
Однажды я рассказал о ней Пламенной Лилии. То, о чем никому не рассказывал: как, спасая собственную шкуру, предал родную мать. Когда я закончил рассказ, Пламенная Лилия вдруг взобралась на меня и легла животом поперек моего живота.
– Положи одну руку мне на макушку, – велела она, – а другую руку – на то место, откуда должен расти хвост. Мизинец на последний позвонок. Теперь подними большой палец и повторяй за мной…
Она заговорила на языке нгуни. Мне нравилось, как звучит этот язык, хоть я мог понять всего несколько слов. Я повторял за ней, стараясь имитировать ее интонацию. Судя по всему, это было заклинание духов.
Потом Пламенная Лилия легла рядом со мной. Я слышал, как бьется ее сердце.
– Я разговаривала с кра.[46] Я попросила их передать ей наше послание. Я сказала ей, что мы ее любим и что у нее будет внук. Я поклялась воспитать его добрым и сильным. Вулото, мы не обманем твою маму.
Я не мог официально зарегистрировать свой брак с Пламенной Лилией, хоть и называл ее при всех своей женой. Кое-кому это не нравилось. Джейн Кэлворт перестала ко мне заходить даже в отсутствие Пламенной Лилии. Я слышал, как она говорила соседке:
– Таких мужчин нужно отправлять в сумасшедший дом. Вокруг столько незамужних белых женщин, а он спутался с этой грязной цветной. Был бы жив мой Дик, он бы линчевал этого эсэсовца.
Не знаю, что сказала соседка, однако ответ Джейн Кэлворт прозвучал в еще более раздраженных тонах:
– Понаехали сюда устанавливать свои порядки. Мало их побили в войну.
Думаю, Пламенной Лилии тоже приходилось слышать разные пересуды, но она никогда мне не жаловалась. Как-то я предложил ей продать дом и уехать в Сенегал или Замбию.
Она отказалась.
– Наш мальчик должен родиться здесь, в этом доме, – мягко, но решительно возразила Пламенная Лилия. – Я пообещала кра, что он родится здесь. Душа твоей мамы прилетит полюбоваться им. Нам нельзя уезжать.
Как-то днем я пошел к дантисту. Идти было недалеко, я знал каждый бугорок и камешек на своем пути. Пламенная Лилия возилась на кухне. Клара к тому времени уже умерла от старости, ее дочка Исеба пошла со мной. Она, как и ее мать, была прекрасной собакой-поводырем.
– Запри входную дверь, – велел я Пламенной Лилии.
Она только рассмеялась в ответ.
– Вулото, злые духи проникают в дом через щели в полу и стенах. Но я их не боюсь.
– Я тоже их не боюсь. Но если ты запрешь входную дверь, в дом не смогут войти злые люди. А они куда опасней всех твоих духов.
– Ладно, Вулото, раз ты хочешь, я запру дверь. – Она проводила меня до самой калитки. – Пускай тебя хранят лилимы.[47]
Вернулся я часа через полтора. В доме пахло моим любимым супом из креветок и миног, который прекрасно готовила Пламенная Лилия. Исеба, вбежавшая в дом первой, жалобно заскулила.
– Пламенная Лилия! – окликнул я. – Где ты? – Мне показалось, кто-то тихо простонал, потом я услышал со стороны нашей спальни знакомые шаги.
– Что случилось?
Мне стало очень тревожно.
– Вулото… – У нее был какой-то чужой голос. – Чуть-чуть плохо стало. Пришлось прилечь. Сейчас лучше. Вулото…
– Да, моя девочка?
– Я сегодня вечером уеду. Вулото, пожалуйста, не спрашивай – куда.
Меня будто ударили.
– Надолго? – смог лишь выдавить я.
– Пока не знаю. Я вернусь к тебе, Вулото. Не думай обо мне плохо.
Я был убит. Я понял вдруг, как сильно привязался к Пламеной Лилии. Она была мне матерью, сестрой, другом, женой и возлюбленной. Она примирила меня с окружающим миром, который я долгие годы считал враждебным и безобразным.
– Что ж, если ты хочешь…
– Нет, Вулото, я не хочу расставаться с тобой, но… Мне показалось, будто в доме пахнет виски.
– Без меня кто-то был? – спросил я.
– Почтальон принес мне письмо. Вулото, не спрашивай больше ни о чем, прошу тебя.
Обедали мы в полном молчании. Потом я вышел на террасу покурить. Пламенная Лилия принесла мне туда крепкий черный кофе.
– Вулото, я всегда буду только твоей женщиной. Злые духи стараются нас разлучить. Вулото, не слушай, что тебе будут нашептывать злые духи.
Я думал, она подойдет ко мне, обнимет, положит на плечо свою голову. Она всегда так делала, когда я был чем-то расстроен. Но она даже не прикоснулась ко мне.
Я слышал, как она молча моет на кухне посуду. Пришла Исеба и, жалобно заскулив, устроилась возле моих ног. Обычно после обеда она вертелась на кухне, где ей перепадали от Пламенной Лилии лакомые кусочки. В роще серебристых деревьев было тихо. Лето кончилось, хотя дни стояли на редкость жаркие. Вот-вот польет дождь и задует промозглый ветер, с унынием думал я.
Я не знал, что и думать. Когда я уходил к дантисту, Пламенная Лилия была весела и никуда не собиралась. Что же произошло? Почему в доме пахло виски? Почтальон, дядюшка Джекоб, здесь ни при чем, он вообще не пьет.
– Вулото…
Она приблизилась сзади и остановилась в метре от меня.
Я обернулся. От нее пахло совсем не так, как прежде. Так пахнет от вымотавшейся до предела лошади. Это был не просто запах пота – это был запах бессилия.
– Может, поцелуешь меня на прощание? – спросил я и раскрыл объятия.
– Нет, Вулото. – Она вздохнула. – Только не слушай, что тебе будут нашептывать про меня злые духи. Обещаешь?
Я обещал ей это.
– Проводи меня до калитки…
– Я провожу тебя до остановки, – сказал я.
– Нет, Вулото, только до калитки, ладно? После отъезда Пламенной Лилии в доме стало пусто и неуютно. Я не знал, когда она вернется, а потому не считал дни. Я был лишен занятия успокаивающего того, кто ждет, и вселяющего надежду. Я почувствовал себя одиноким инвалидом. Дождь, зарядивший на следующий день после ее отъезда, мерно стучал по черепичной крыше террасы. В открытое окно веяло холодом и тоской.
Я ставил на проигрыватель пластинки с симфониями Брамса. Его музыка теперь казалась мне исповедью нытика. Немцы всегда были нытиками и меланхоликами, думал я. Временами их охватывала злость на самих себя за столь тоскливое существование, и они преображались в нацию вояк-роботов. Я подумал о Генрихе. Что-то давно он не появлялся и не звонил.
Промаявшись два дня наедине со своими безрадостными мыслями, вечер третьего я решил скоротать в баре «Синий баобаб» в трех кварталах от меня. Я замкнул входную дверь и взял с собой Исебу.
Я провел в баре часа три. Хайнц, хозяин заведения, был симпатичным, веселым парнем. Генрих раньше тоже сюда захаживал, но, как мне сказали завсегдатаи, его здесь давненько не видели. Очевидно, Хильде удалось посадить мужа на короткий поводок.
Я брел по лужам, думая о том, что пора включать в доме электрическое отопление, что завтра надо сходить в магазин… Я снова превратился в холостяка.
Когда я открыл дверь, на меня пахнуло жилым теплом и знакомым запахом только что приготовленной пищи.
– Пламенная Лилия! – Я бросился на кухню. – Ты вернулась?
Мне никто не ответил. Исеба бегала из комнаты в комнату и тихонько скулила. Я вышел на террасу и закурил. Я догадался: Пламенная Лилия была в мое отсутствие. Выходит, она не хочет встречаться со мной.
Генрих позвонил на следующий день утром. У него был хриплый, раздраженный голос.
– Почему ты мне не звонишь? – начал он с выговора. – Меня вполне могли похоронить за то время, что мы с тобой не разговаривали.
– Извини, Генрих, – сказал я, почувствовав к другу жалость. – Если хочешь – приезжай. Я буду тебе рад.
Через полчаса мы уже сидели в нашей столовой. Он пил виски с содовой, я пиво, хотя обычно с утра не пью спиртного.
– А где Глориоза? – спросил он вкрадчиво.
– Уехала к родственникам.
– К родственникам? – переспросил он. – И надолго?
– Не знаю.
– Что это она вдруг тебя бросила? Или вы поссорились?
– У нас нет причин для размолвок, – ответил я резко.
– Да, хорошо быть слепым. Я всегда тебе завидовал.
Я молчал. Присутствие Генриха угнетало и раздражало меня. Но я не мог указать на дверь человеку, с которым был столько лет в дружбе. И мне все еще было жаль его.
Он стал изливать душу. Оказывается, Хильда приревновала его к цветной служанке и жестоко избила девушку. Чтобы история не получила огласки, Генриху пришлось заплатить кругленькую сумму. Их новая служанка настоящая кви,[48] рассказывал Генрих. К тому же грязнуля и совсем не умеет готовить.
– У нас в доме теперь, как в самом захудалом портовом баре, – жаловался он. – Черт бы побрал этих старых жен-мегер!
– Зато у нее белая кожа, – ввернул я не без ехидства. – Быть белокожим в этой стране, все равно что иметь бессрочный пропуск в рай.
– Черт бы побрал эту страну! – рявкнул Генрих. – Они все тут круглые идиоты. И твои цветные тоже. Почему они позволили белым вытирать об себя ноги?..
Он бушевал еще несколько минут, потом внезапно сник. Вскоре я услышал его храп. Значит, он здорово накачался виски.
Меня потянуло на воздух. Я кликнул Исебу и вышел на улицу. Дождь прекратился. Лучи осеннего солнца, вырываясь из-за туч, робко ласкали мое лицо.
Она где-то рядом, думал я. Пламенная Лилия, ну почему ты не хочешь со мной встречаться? Неужели я тебя чем-то обидел? Прости, если это так.
Я вернулся домой минут через сорок. Генриха уже не было. Запах, который он оставил после себя, что-то мне напомнил. Я напряг память…
Конечно! Именно так пахло в доме в тот день, когда я вернулся от дантиста и Пламенная Лилия сказала мне, что ей нужно уехать. Именно так.
Мой мозг лихорадочно заработал. Генрих побывал в мое отсутствие и что-то такое сказал Пламенной Лилии обо мне, о моем прошлом. Но что? О Лорхен я ей рассказывал. К тому же я знал отношение Пламенной Лилии к прошлому – она считала, наша жизнь состоит из не связанных между собой длинных сновидений и человек не властен в них что-либо изменить… Ей хотелось, чтобы сон про нас длился дольше всех остальных.
Но она сама его нарушила.
Я набрал номер телефона Генриха. Хильда раздраженно ответила, что его нет дома.
Я не мог сидеть сложа руки. Я должен был найти Генриха и добиться от него признания. Любым способом.
Генрих сидел в «Синем баобабе». Об этом мне сказал Хайнц, едва я туда вошел. Еще он шепнул мне, что Генрих грозился меня убить.
– Быть может, стоит позвонить в полицию, мистер Хоффман? – предложил Хайнц. – У него глаза, как у бешеного быка.
– Я сам с ним разберусь. Я шагнул к стойке.
Генрих встал мне навстречу, скрипнув протезом.
– Говори: что ты сказал Глориозе, подонок! – потребовал я.
– Что я ей сказал? – Он мерзко расхохотался и грязно, по-солдатски, выругался. – Вот что я ей сказал. Но только не словами.
В бешенстве я бросился на него. Если бы не Хайнц, успевший схватить меня за руку, клянусь, быть бы Генриху на том свете. Хайнц позвал кого-то на помощь, и мне больно скрутили за спиной руки. Боль эта, вероятно, спасла меня от худшего – мое сердце могло не выдержать того, что я узнал.
Генрих не унимался.
– Эта грязная тварь еще сопротивлялась. Я оказал такую честь ее вонючей п… Она расцарапала мне физиономию, и моя старая сука после этого окончательно взбесилась. Пришлось отходить ее по сраке ремнем. У этой твоей штучки… – Он снова заговорил на солдатском лексиконе.
Кто-то влепил ему затрещину. Хайнц и его жена отвезли меня домой и уложили в постель.
– Мистер Хоффман, я думаю, он врет, – говорил Хайнц. – Я почти уверен в этом. Он законченный алкоголик. Я видел Глориозу только вчера. Она была вся в белом. Очень нарядная и…
– Где ты ее видел, Хайнц? – нетерпеливо перебил я его.
– В квартале от вашего дома. Возле аптеки мистера Бернштейна. Вы ведь знаете, он обслуживает и цветных тоже.
Я вскочил, несмотря на протесты Хайнца и Греты. Через пять минут я уже был в аптеке мистера Бернштейна.
– Она покупала у меня марлю. Много марли, – сказал старик. – Я спросил, зачем ей столько марли, а она говорит, ей велела купить столько марли эта… как ее… словом, ворожея. Хорошая девушка эта ваша Глориоза, мистер Хоффман. Она к вам вернется, вот увидите. Я прожил в этой стране всю жизнь и хорошо знаю местных женщин. Они преданы мужчине душой и телом. После того как придумали этот глупый закон о смешанных браках, белые мужчины стали гораздо больше пить.
Я вернулся домой и лег на кровать. Меня знобило. К вечеру подскочила температура и начался бред. Круги Дантова ада в сравнении с ним могут показаться лишь комнатой страха в детском парке. Нет смысла пересказывать эти кошмары. Они были возмездием за военные преступления, про которые я стал было забывать в объятиях Пламенной Лилии. Я прожил за одну ночь жизнь длиной в вечность. Страшную жизнь. Очнулся я вконец обессиленный.
И услышал ее шаги.
Я силился встать. Мне удалось это с третьей попытки. Я слышал, как на кухне льется вода. Я шел на этот восхитительный звук, цепляясь за стены.
– Вам нельзя вставать, – услышал я незнакомый женский голос. – Доктор сказал, у вас лихорадка.
– А где она? Я слышал ее шаги. Где Пламенная Лилия?
– Она ушла. Она была с вами всю ночь.
– Кто вы?
– Меня зовут Протея. Я – старшая сестра Пламенной Лилии. Я буду с вами весь день.
Я опустился на табурет и разрыдался. Подобное со мной случилось впервые – я не плакал даже в детстве.
Протея заставила меня принять какое-то сладковатое пойло. Мне стало легче.
– Почему Пламенная Лилия меня избегает? – спросил я у Протеи. – Прошу вас, ответьте мне.
– Она… Нет, я не могу выдать ее тайну. Она взяла с меня клятву.
Меня снова охватило отчаяние. Я готов был опять разрыдаться. Протея сжалилась надо мной.
– Вы должны все знать, раз вы так ее любите. Сестра считает себя нечистой после того, что с ней сделал этот Нгакола. Он…
– Я все знаю, – перебил я Протею. – Но, пожалуйста, передайте сестре, что я не могу без нее жить.
– Она не позволит вам к ней прикоснуться, пока не пройдет ритуал очищения. Так поступали наши предки. Как вы знаете, у нас было темное прошлое. Сестра еще так молода и наивна. Она верит всем этим колдунам и ворожеям. Ей нужно учиться. Ей нужно поступить в колледж. Я бы могла помочь ей найти место учительницы. Я сама преподаю в школе.
Меня потрясло то, что рассказала Протея. Ритуал очищения! Пламенная Лилия боится запачкать меня своим прикосновением, потому что этот мерзавец ее изнасиловал… Дело не только в темном прошлом этого загадочного континента – дело в том, что Пламенная Лилия видит во мне чуть ли не Бога.
Я почувствовал себя последним подлецом – во второй раз в жизни я не смог защитить любимую женщину.
– Сестра могла бы получить с этого человека большую сумму денег, которой ей вполне бы хватило на обучение в колледже, – услышал я голос Протеи. – В суд, разумеется, подавать бессмысленно: в ситуациях подобного рода белого признают виновным в трех случаях из ста. Быть может, вы сможете что-то сделать?
– Где ее найти? Если вы не скажете, я обыщу весь город.
Протея назвала адрес. Через десять минут я уже сидел в такси.
Мистер Хоффман вскочил с кресла: спавшая возле его ног Джильда вдруг зарычала и разразилась злобным лаем.
– Успокойся. – Мистер Хоффман ласково погладил ее. – Тебе приснилось страшное. Вся наша жизнь состоит из одних страшных снов.
Он подошел к окну и застыл в позе человека, созерцающего подлунный пейзаж. Это было печальное зрелище – слепой, пытающийся что-то увидеть.
– Ее не удалось спасти, – послышался его хриплый голос. – Эта чертова сандугу напоила ее какой-то отравой. Бедняжка умерла в страшных муках. Она узнала меня за несколько минут до смерти и что-то прошептала на каком-то странном языке. Никто, даже эта проклятая сандугу, не понял ни слова. Она умерла, глядя на меня. Так мне сказала Протея.
Мистер Хоффман какое-то время молча стоял у окна, потом вернулся на свое место.
– Думаю, вам интересно знать, что было дальше. Я остался жить, потому что мне следовало отдать кое-какие долги. У меня ушло пять с половиной лет на то, чтоб расплатиться с Генрихом. Узнав о смерти Пламенной Лилии, он куда-то скрылся, бросив Хильду, дом, магазин. Но я знал, что он вернется. Я жил в ожидании его.
И он вернулся. Он пытался передать через наших близких знакомых, что просит у меня прощения. Как-то даже позвонил мне. Я сказал, что все равно рано или поздно убью его.
У него, очевидно, не выдержали нервы, и он явился ко мне ночью в надежде застать врасплох. Генрих не знал, что с тех пор как он вернулся в город, я окончательно лишился сна. Я услыхал его крадущиеся шаги в палисаднике раньше, чем их услышали собаки. Я приказал им молчать. Входная дверь была не заперта – я оставлял ее открытой с тех пор, как потерял Пламенную Лилию. Сам не знаю почему. Жизнь состоит из снов, и я, вероятно, надеялся втайне, что наш с ней сон вернется. Генрих вошел в прихожую. Я догадался, что он вооружен. Мне казалось, я вижу в темноте очертания его фигуры, дуло револьвера, нацеленное в пустоту. Я щелкнул выключателем. Его револьвер выстрелил. Пуля попала в зеркало в гостиной – я услышал звон падающих осколков. Он расстрелял всю обойму, паля наугад, а я стоял с ним совсем рядом и ждал. Он выругался. Я прицелился на звук, сказал «За Пламенную Лилию» и нажал на курок. Он рухнул на пол.
Наступила тишина.
Прибежали соседи, приехала полиция. Меня арестовали. Я проспал трое суток. Суд присяжных меня оправдал, расценив мои действия как самозащиту, хоть я не сказал в свое оправдание ни слова. Потом я долго лежал в клинике для нервнобольных. За домом и собаками присматривала Протея. Она живет там и поныне, несмотря на протесты кое-кого из белых соседей. Но в ЮАР теперь наступили иные времена. – Мистер Хоффман вздохнул. – Я съездил на могилу матери в Цвиккау и попросил у нее прощения. В Нью-Орлеане я очутился, можно сказать, случайно. Моя дальняя родственница по материнской линии сказала, что там живет ее дочь. Я понял еще в аэропорту, что приживусь здесь. Для слепого запахи имеют, быть может, решающее значение. А потом Бог или кто-то еще послал мне Томми. Вот и все… все.
Мистер Хоффман стал раскачиваться в качалке…
– Я больше не буду пытаться что-то сделать с собой, – сказала Лиззи брату, когда они подъехали к ее дому. – Клянусь тебе.
МЕСТЬ ЛУИЗЫ МАКЛЕРОЙ
Луиза Маклерой сидела в шезлонге на краю бассейна, потягивая марсалу от Сичилиано и вынашивая план мести. Она уже отбросила несколько вариантов ввиду их банальности – Луизе, пристрастившейся в последнее время к марсале и джину с тоником по вечерам, хотелось придумать что-то необычное.
Покачиваясь, Луиза прошлась взад-вперед по краю бассейна. Стефани она не видела уже дня три, Фа куда-то укатила с утра – небось к своему красавчику Томми. Луиза налила еще марсалы из бутылки на маленьком столике, поднесла к губам рюмку и замерла. Ей в голову пришла идея.
Разъезжая в компании Стефани и Фа по злачным местам города, Луиза обратила внимание на скромную вывеску: «Предсказание судьбы. Предотвращение неминуемых бед. Помощь в щекотливых ситуациях. Внушение». Луиза отчаянно ворошила память: где, где она видела эту вывеску?.. Вспомнила: неподалеку от дома, где живет Фа.
Через час с небольшим Луиза, одетая в строгий черный костюм и шляпу из тонкого фетра с мелкой вуалью, сидела в комнате, оклеенной темно-синими обоями с серебристыми кабалистическими знаками, и большим паласом на полу, воспроизводящим довольно подробно план Нью-Орлеана. Ее ноги, обутые в модные туфельки из крокодиловой кожи, покоились на том месте, где синела гладь Мексиканского залива.
Мистер Оливьера был в очках, отлично сшитом светлом костюме и белой сорочке. Своим внешним видом он скорее походил на ученого, нежели на колдуна. На экране компьютера, стоящего на небольшом столике, высветилось ее полное имя, год и дата рождения, рост, вес, размер обуви и одежды. Луиза заметила ошибку – она носила 48-й размер, а не 46-й, как там было указано. Правда, она всем говорила, будто носит 46-й. Мистеру же Оливьере она вообще ничего не говорила.
– Откуда вы… – начала было она, но колдун поднял обе руки, призывая ее к молчанию.
– Вопросы задаю я. – У него был тонкий голос кастрата. – Закройте глаза, расслабьтесь.
Луиза впала в странное состояние. Ощущение было такое, будто ей на голову надели полиэтиленовый мешок и под ним уже кончается кислород.
…Она пришла в себя, хватая воздух широко раскрытым ртом. Мистер Оливьера стоял перед ней.
– Вы все запомнили, мадам?
– Да, – ответила Луиза. – Я должна купить…
– Это нельзя выражать словами. Нельзя выражать словами. Нельзя выражать…
Луиза Маклерой вышла от мистера Оливьеры, беспрестанно твердя: «Нельзя выражать словами. Нельзя выражать словами…»
Из дома она позвонила Сичилиано и попросила его немедленно прислать с Томми свежую пиццу и две бутылки марсалы. Она сказала, что такси оплатит она. А через два часа Луиза и Томми уже были в огромном зале магазин-салона, специализирующегося на торговле мотоциклами.
У Томми разбегались глаза.
– Я так давно мечтаю об этом, миссис…
– Хопкинс.
– Да, миссис Хопкинс. Простите, что я забыл вашу фамилию. Вот этот… нет, лучше вот эту модель – на ней можно выжимать сто миль. Но она стоит целое состояние!..
– Пускай тебя это не волнует, мой мальчик. Я достаточно богата, чтобы подарить тебе эту великолепную игрушку. Думаю, твоя сестра одобрит наш выбор.
– О да… Хотя я не знаю. Мне кажется, Лиз… Впрочем, она будет рада за меня. О, миссис Хопкинс, какая же вы добрая!
– У тебя есть права? – поинтересовалась Луиза. Томми кивнул, любовно поглаживая высокое седло «кавасаки».
– Точно на таком ездил Терминатор.[49] Миссис Хопкинс, вы видели это кино?
– Конечно, мой мальчик, – не моргнув глазом, солгала Луиза. – Я сама с удовольствием бы промчалась на этой штуковине, но у меня кружится голова от быстрой езды.
– Жаль. Но, может, все-таки попробуем? Если вам вдруг станет плохо, я…
– Нет-нет! – Луиза в ужасе отшатнулась. – У меня уже кружится голова. Томми, прошу тебя, посади меня в такси.
– Я буду приезжать к вам каждый день, миссис Хопкинс. Отныне у вас к обеду всегда будет горячая пицца. Обещаю вам.
Луиза в изнеможении откинулась на спинку машины: силы покинули ее.
– Лиз, ты только взгляни… Вот здесь потрогай. И вот здесь. Чувствуешь, как он дышит? Он живой. Я назову его… Слушай, я назову его Амару. Знаешь, что это такое? Это огромная змея. Дядя Джо говорил, это самая сильная и благородная змея. Еще он говорил, она быстрая, как молния. Тебе нравится имя Амару?
– Я боюсь змей, – призналась Лиззи. – Они часто снятся мне. Особенно последнее время.
– Нет, Лиз, амару – добрая змея. Вообще, среди змей добрых больше, чем среди людей. Но миссис Хопкинс – добрая. Правда, у нее много денег. Лиз, знаешь, если бы у меня было столько денег, я бы открыл свой ресторан и пел бы там все что захочу, а не что заставляет петь дядюшка Сичилиано. Почему ты плачешь, Лиз?
– Сама не знаю. – Она вытерла слезы. – Я надену джинсы и свитер, и ты прокатишь меня на этой своей змее, – сказала она, глядя на брата еще влажными от слез глазами. – Только дедушке с бабушкой мы ничего не скажем.
– Послушай, Лиз, тебе ведь…
Она махнула рукой и скрылась в доме.
Шоссе было почти пустынно. Вдоль него не было ни мотелей, ни ресторанов, ни даже придорожных закусочных. Томми отлично знал эту дорогу – она вела в селение, где жил дядя Джо. Туда редко кто приезжал на машине, а из местных жителей автомобили имели единицы. Автобус курсировал всего два раза в день. Изредка попадались допотопные «форды» и прочий металлолом – на своем мерно ревущем «кавасаки» Томми обходил их играючи. Лиззи крепко обняла брата за пояс и прижалась щекой к его спине. Она была почти счастлива. Скорость словно вырвала ее из привычной колеи и приподняла над землей.
– Давай, еще быстрей, – подзадоривала она брата. – Ну же.
И Томми жал на газ. «Кавасаки» оказался на редкость послушным. До этого Томми лишь дважды довелось управлять мотоциклом. Он соврал Луизе, сказав, что имеет права.
– Проведаем дядю Джо? – предложил он сестре. Лиззи согласилась. Ей было все равно, куда ехать.
Лишь бы не сидеть на месте. Лишь бы не думать…
– Черт, кажется, кончается бензин. Раньше здесь была заправочная станция. – Томми сбавил скорость, глядя по сторонам. – Похоже, ее закрыли, – пробормотал он, и Лиззи увидела справа от дороги покосившуюся вывеску со стершимися буквами. – Что же нам делать?..
Они остановились. Лиззи ощутила приступ тошноты. Она едва успела соскочить с седла. Ее вывернуло наизнанку, но позывы к рвоте не прекратились. Живот свело болезненной судорогой.
– Что с тобой? – Томми обеспокоенно суетился возле нее. – Чем тебе помочь?
– Пить, – прошептала она и покачнулась. Томми успел подхватить ее на руки.
– Здесь нет воды… Да ты совсем как перышко. Слушай, до дяди Джо мили полторы. Потерпи немного. Скоро будет автобус, мы обогнали его возле… Черт, то не наш автобус. – Он посмотрел на часы. – Последний уже прошел. Ничего, Лиз, кто-нибудь обязательно будет ехать. Увидишь, мы будем у дяди Джо еще засветло. Он так обрадуется нам. Лиз, сестренка, ну что с тобой?..
Тело Лиз обмякло. Лицо стало белым как мел, зрачки широко раскрытых глаз уставились в одну точку. Томми подхватил ее поудобней и припустил бегом, приговаривая: «Потерпи, потерпи, сестренка… Я с тобой… Все будет хорошо…»
Он окончательно выдохся, когда их наконец нагнал «фиат», за рулем которого сидел местный арарива – сторож в поле. Лиз осторожно положили на заднее сиденье, Томми протиснулся на устланный соломой пол между спинками и сиденьем. Он не сводил с сестры глаз.
– Ньаньа?[50] – спросил хозяин машины. Томми кивнул и сказал:
– Она… она беременная. Хуан, а вдруг ей пора рожать?
– Нет. Он еще совсем маленький. Не больше детеныша курку.[51] Когда он вырастет и станет, как два больших че'льо,[52] тогда твоя ньанье будет рожать. А сейчас мы отвезем ее к моей сестре. Она знает, что нужно делать с беременной женщиной, чтоб она не родила прежде срока. У тебя очень красивая ньаньа.
По щекам Томми текли слезы. Он смотрел на Лиззи и думал о том, что если с ней что-то случится, он сядет на свой «кавасаки», разгонит его и направит в лоб фургону или рефрижератору. Он плакал оттого, что ему было жаль Лиззи, себя и, конечно же, Амару – новенького, блестящего и совсем ручного.
Они подъехали к домику с верандой, из которого вышла пожилая женщина со смолисто-черными прямыми волосами до плеч и глиняной трубкой в зубах. Арарива сказал ей что-то. Она кивнула.
– Неси ньаньа в дом, – велел Томми Хуан.
КОВАЛЬСКИХ ТЯНЕТ ДРУГ К ДРУГУ
Отыскать виллу «Дафнис и Хлоя» не составило большого труда. Бич, которого Паоло накормил ленчем в баре-закусочной возле галереи поп-арта, сообщил, что однажды в него стрелял сторож, охраняющий виллу напротив, – принял за воришку, хотя Попкорн[53] (так звали бича его приятели) хотел всего лишь искупаться в бассейне.
– Хозяева в Европе – сейчас в Калифорнии сезон дождей, – рассказывал Попкорн, поглощая гамбургеры. – Богатые люди, шикарная жизнь. – Он наклонился к Паоло, понизив голос до доверительного шепота. – Там у них электронная охрана. Сработает, если даже пробежит опоссум, не то что… Не советую связываться с потомственными миллионерами. Можно взять один ювелирный магазинчик…
Паоло не стал дальше слушать его болтовню. Он расстроился, узнав, что хозяев «Дафниса и Хлои» нет дома. Денег оставалось дня на три, а без них человеку в Беверли-Хилл, штат Калифорния, делать нечего.
Паоло знал, как перехитрить электронику. Это была своего рода наука выживания, которую преподал ему безжалостный двадцатый век. Паоло проник на территорию поместья так же легко, как перелетает с одного дерева на другое птица. В гроте, воздвигнутом фантазией человека, привыкшего жить, чтобы тратить деньги, Паоло укрылся от дождя. Когда стемнело, он нарвал травы и сделал себе постель. Трава была сырая, и он вздохнул, невольно вспомнив шалаш на берегу реки. В этом вздохе не было сожаления – прошлое, понял он, должно оставаться прошлым. Паоло оно представлялось рядами книг на полке. Можно взять и почитать на ночь ту, где пишут про любовь. Когда-то, возможно, ему захочется прочитать и про войну.
Он натянул на голову куртку и заснул под шум дождя. Проснулся ровно через два часа – в голове, как он и рассчитывал, раздался звонок. Жить по звонку было не слишком уютно, зато давало шанс выжить. Особенно на страницах той книги, где люди ожесточенно и с наслаждением убивали друг друга, оправдывая свои безумные поступки коротким и столь многозначительным в своей кажущейся привычности словом – война.
Паоло выглянул наружу. Дом казался большой бесформенной глыбой, отбрасывающей тусклую тень на лужайку и ведущую к самшитовой роще аллею.
Он вышел, передвигаясь на обезьяний манер. Этот способ передвижения он усвоил там, где слово «жизнь» значило куда меньше любого другого слова – на всех языках. Хотелось есть. Обычно желудок вдохновлял Паоло на самые невероятные подвиги. По зову желудка он совершил несколько героических поступков.
Он знал, как заставить электронного сторожа поверить в то, что человек еще менее материален, чем привидение. Электронный мозг более доверчив и предсказуем, чем мозг хомо сапиенс, – это Паоло за свою жизнь тоже усвоил.
Он очутился в большой комнате. Посередине стояла огромная застланная мягким светлым покрывалом кровать. Он предвкушал, как отдастся ее беззаботному уюту. Но сперва нужно ублажить желудок.
Кухня располагалась в противоположном конце дома. Туда его привели едва ощутимые, а оттого еще более соблазнительные запахи съестного. Кофеварка работала бесшумно, а чтобы по дому не распространялся аромат кофе, Паоло включил вытяжку.
Он изучил холодильник с мясными продуктами. Достал из него пакет с тонкими ломтиками копченого бекона и кусок жареной свинины на ребрах. Хлеб заменили галеты – похоже, в этом доме экономили на хлебе, за день съедая его весь, до последней крошки.
Ужин получился королевским. Паоло слил в раковину кофейную гущу, вымыл чашку и ложку, собрал ладонью со стола крошки. Теперь можно отдаться сну.
Паоло проспал четырнадцать часов – это он определил по тем же внутренним часам, которые его никогда не подводили. Проснувшись, он мысленно пожелал себе доброго утра. В спальне пахло пылью, из чего можно было сделать вывод, что в отсутствие хозяев прислуга не слишком усердствует в поддержании чистоты. Это открытие его обрадовало. При мысли о хозяевах этого дома он испытал странное смятение чувств.
Когда в коридоре раздались шаги, Паоло мгновенно привел в порядок постель. Покрывало было синтетическим и в отличие от естественных материалов, не хранило в себе память о контурах человеческого тела. Под кроватью было безопасно. Он видел вдалеке женские ноги в босоножках. Конечно, ни босоножки, ни грубая походка не могли принадлежать хозяйке столь роскошного особняка.
Прислуга открыла окно, не обратив внимания на то, что его уже открывали ночью во время дождя и на подоконнике остались следы от высохших капель. Она сказала кому-то снаружи, что сломался замок на двери и она не может убрать на балконе.
Потом женщина небрежно прошлась щеткой пылесоса по мягкому синтетическому покрытию пола, изображающему траву в каплях росы. На этом ритуал уборки завершился. Фальшиво напевая себе под нос мелодию из репертуара Эллы Фитцджеральд, женщина удалилась.
Паоло вылез из-под кровати. Из окна спальни был виден бассейн. Вчера его чуть ли не полдня мыл ленивый толстый мулат. Паоло наблюдал за ним из своего грота и думал, что справился бы с этой работой максимум за полтора часа. Сегодня бассейн был до краев наполнен голубоватой водой. Однако шезлонги и столики все еще стояли под навесом. Из чего Паоло тоже сделал вывод, что хозяев сегодня не ждут.
Он решил не пользоваться ванной и душем – стенка выходила в коридор, где в это время дня вполне мог околачиваться кто-нибудь из прислуги. Судя по всему, в доме ее было немало – Паоло уже успел насчитать пять человек плюс ноги в босоножках, которые он только что видел из-под кровати.
В комнате стало душно – включили электрическое отопление. Паоло смотрел на невозмутимо гладкую поверхность бассейна и испытывал сильную жажду. Спасти от нее его может только бассейн.
Садовник подрезал живую изгородь вдоль аллеи. Бассейн располагался таким образом, что из других комнат первого этажа, кроме той, в которой сейчас находился Паоло, его не было видно. Прислуге на втором этаже делать нечего. Если бы не этот садовник…
Он вспомнил, как однажды, попав под гранатометный обстрел в пустынном предгорье, они с Игорем залегли в небольшой выемке – ребята из их подразделения успели спрятаться за валунами. «Нас нет, нас нет, нас нет…» – мысленно твердил он тогда, старясь не думать про то, что они оба просматриваются и с воздуха, и с вражеской стороны.
Вертолеты улетели, моджахеды, добив раненых, ушли в горы. Их же никто так и не заметил. Они боялись поверить в это. Игорь сказал, что их спас Господь.
Паоло закрыл глаза.
«Меня нет, меня нет, меня нет…» – стал говорить он про себя, мысленно обращаясь к садовнику. Открыл раму, осторожно спустился вниз и направился к бассейну.
Вдруг садовник повернулся к нему лицом. Паоло застыл на месте, но секундой позже понял, что мужчина его не видит – он смотрел сквозь него.
Паоло продолжал свой путь. Вода в бассейне была теплой и благоухала какими-то цветами. Он бесшумно плавал из конца в конец, потом лежал на спине, глядя в затянутое тучами небо. Наконец вылез из воды. Садовник трудился теперь в дальнем конце аллеи и стоял спиной к Паоло. Он незаметно пробрался в дом.
Хотелось есть. Он слышал отдаленные шаги – большой богатый дом, набит кучей бесполезных вещей, для ухода за которыми требовалось много дармоедов-слуг, жил своей обычной жизнью. Однако прислушавшись, Паоло понял, что шаги принадлежат одному человеку. Несомненно немолодой женщине.
Паоло выглянул в холл. Дорогу на кухню он помнил прекрасно. Шаги доносились со стороны большой комнаты с двустворчатыми дверями из венецианского стекла. Он проходил мимо нее ночью. Паоло на мгновение закрыл глаза. «Меня нет, меня нет, меня нет…» – стал он прокручивать в мозгу. Он шел легким стелящимся шагом снежного барса, крадущегося к своей жертве. Краем левого глаза он видел женщину – она сидела за бюро и просматривала какие-то бумаги. Судя по всему это была экономка.
Он беспрепятственно прошел на кухню и, не рискнув заводиться с кофе, обследовал холодильник со всевозможными напитками. Взяв с полки банку с оранджадом, он открыл другой холодильник, где, как ему было известно, хранились мясные продукты. И тут услышал шаги экономки. Прятаться было бесполезно – вся мебель в кухне стояла по стенам. Он опустился на стул с высокой спинкой, закрыл глаза, расслабил мышцы, одновременно напрягая волю.
– Ну и память у меня стала, – ворчала женщина, засовывая банку назад в холодильник. – Хуже дырявой кошелки. – Она подошла к холодильнику с мясными продуктами и, открыв его, пошарила глазами по полкам. – Ну да, свинину я отдала Гарри – она бы все равно пропала. Помнится, я дала ему банку пива и… Ну конечно же, я дала ему копченый бекон. Гарри стал так много есть…
Женщина закрыла холодильник и, потоптавшись с полминуты возле стола, за которым сидел Паоло, вышла.
Он понял: Гарри – это садовник. Он сам не знал, как он это понял. Он твердил, представив себя Гарри: «Я съел жареную свинину и копченый бекон. Я съел жареную свинину и…»
Поев, Паоло вернулся к себе в комнату и лег на кровать. Смеркалось. Хотелось спать. Он знал, сегодня сюда больше никто не зайдет.
Он заснул сном младенца.
Паоло прожил таким образом одиннадцать дней, значительно усовершенствовав свою систему воздействия на окружающих. Теперь он мог заставить экономку, миссис Уинстон, послать Люси, горничную, за клубничным мороженым – Паоло обожал клубничное мороженое. Миссис Уинстон вдруг тоже полюбила клубничное мороженое и теперь поглощала его в невероятных количествах. Нэду, сторожу, он внушил, что собак не надо выпускать на ночь из загона – они гадили на дорожки, и приходивший через день белый уборщик обзывал Нэда «черножопым пугалом» и «помойной крысой», а один раз даже замахнулся на него своей пластмассовой метлой. Дело в том, что последнее время Паоло спал днем, ночами же ему нравилось гулять и купаться в бассейне. Он не собирался тратить свою энергию на собак. Да и с животными, казалось Паоло, этот трюк мог не сработать.
Ему понравилась такая жизнь, и он уже перестал ждать хозяев дома, зная заведомо, что с их появлением в распорядке его времяпрепровождения неминуемо произойдут изменения. Он лежал в шезлонге на балконе, укутавшись в плед, когда раздался телефонный звонок.
– Да, да, мисс Тэлбот, все у нас в порядке… Спасибо… Сегодня вечером? Номер рейса… да, я записала. Пришлю Фрэнка… Вам приготовить желтую спальню?.. Разумеется, мисс Тэлбот… Я очень рада, мисс Тэлбот… До скорого свидания.
Паоло напрягся. Но когда понял, что приедет не мать, а его американская тетка, расслабился.
Что ж, посмотрим, думал он. Переселяться я не буду – там очень удобная кровать и шикарный вид из окна. Тетушка Сьюзен, интересно, как мы с тобой уживемся? Пожалуй, прежде чем себя обнаруживать, стоит к тебе присмотреться.
Он встречал ее вместе с прислугой, стоя чуть поодаль от них. Она скользнула по нему (или сквозь?) равнодушным взглядом широко поставленных зеленых глаз. Она была похожа на маму, какой он помнил ее в своем детстве. Но это была чужая женщина. Паоло определил это с первого взгляда.
Она обернулась, поднимаясь по лестнице в дом. Их глаза встретились на какую-то долю секунды. Он понял, что сейчас она смотрела на него, и усмехнулся.
Игра обещала быть интересной.
Луиза Маклерой блефовала – никаких документов, свидетельствующих о связи Джека Конуэя-младшего с мафией, у нее не было, однако эти угрозы роковым образом подействовали на Конуэя-старшего. Старик занемог и окончательно отошел от дел, укрывшись на своем ранчо. Состояние его здоровья, однако, не внушало особого опасения врачам, о чем они и сообщили Бернарду. Впрочем, последнее время Джек Конуэй врачей к себе не подпускал.
На ранчо были великолепные породистые скакуны. Старик проводил дни напролет в обществе конюхов и жокеев.
Известие о его смерти настигло Бернарда в Токио – Сью и он обедали в ресторане с президентом японской компании и его супругой. Это был деловой обед, который японцы устроили в честь американского компаньона. Бернард был доволен ходом переговоров и очень оживлен.
После короткого телефонного разговора он изменился в лице. Положив трубку, сказал, обращаясь почему-то не к Сью, а к улыбающимся японцам:
– Умер мой отец. – И, помолчав, добавил: – Я остался совсем один.
В самолете Бернард напился до чертиков. Сперва он рыдал на груди у Сью, потом вдруг, глянув на нее совершенно трезвыми глазами, произнес удивленным и растерянным голосом:
– Ты не она. Скажи, почему ты не она?..
Похороны были торжественными. Сью ни на минуту не отходила от Бернарда, но он не замечал ее. Когда же длинный трудный день кончился и смертельно уставшая Сью приняла душ и улеглась в постель, на пороге спальни появился Бернард с бутылкой виски.
– Будем пить. Ну-ка, Юнис, вылезай из-под одеяла, – велел он.
Сью попыталась отговорить Бернарда от этой затеи, но он подошел к кровати, бесцеремонно откинул одеяло и, больно схватив ее за руку, заставил встать.
– Изволите сопротивляться, мисс Seducer?[54] Ну же, не стройте из себя недотрогу. Вы созданы для того, чтоб ублажать мужчин.
Сью едва удержалась, чтоб не влепить ему пощечину. Она забралась с ногами в кресло и сделала глоток из стакана с неразбавленным виски, который сунул ей Бернард.
– Нет, Юнис, пей до дна. Помнишь, четыре года назад мы с тобой сидели в этой комнате, и ты делала все, что я хотел? Ты сама заставляла меня делать с тобой все, что я хотел. Ты была маленькой похотливой сучкой, прикинувшейся невинной девушкой. И я не смог устоять. Ни один мужчина не смог бы устоять против тех приемчиков, которые тебе известны, мисс Streetwalker.[55]
Сью выплеснула ему в лицо содержимое своего стакана. Он расхохотался.
– Заело, да? Бывшая шлюха в роли подружки бывшего плейбоя. Черт, как тебе удалось окрутить меня?
– Берни, ты пьян. Прошу тебя…
– Ты меня просишь? Интересно, о чем может просить крошка Юнис, внештатный сотрудник журнала для женщин, Бернарда Конуэя, будущего конгрессмена? О том, чтобы он расстегнул ширинку своих брюк?
– Ты пожалеешь об этих словах, – процедила сквозь зубы Сью. – Очень скоро пожалеешь.
– Изволите угрожать? Любопытно, что может сделать мисс Streetwalker мистеру Losteverything?[56] Наставить рога с Биллом, нашим конюхом? Хотя нет – он для тебя, пожалуй, слишком хорош. Все-таки он белый, а ты предпочитаешь…
Сью молнией вскочила с кресла и изо всей силы ударила Бернарда кулаком по лицу. Из его носа закапала кровь, расплываясь на белоснежной сорочке.
– Подонок, – сказала она. – Жалкий подонок. Да если бы не я…
Она задохнулась в бессильной ярости. Бернард снова расхохотался, кровь из носа закапала сильней. Но он не обращал на это внимания.
– Если бы не ты, малышка Юнис, я бы так и остался женатым на малышке Син, которая была шлюхой этого Арчибальда Гарнье. А ты помнишь, сколько у тебя было арчибальдов, прежде чем ты стала моей малышкой? Одного из них я знал – рогатый капитан-итальянец из Нью-Орлеана, которому ты, как и мне, расстегнула ширинку и…
От следующего удара голова Бернарда качнулась вбок и он выронил стакан с виски. Сью получала удовольствие, избивая своего бывшего любовника, а он и не думал ей сопротивляться.
Обессилев, она наконец упала в кресло и, грязно выругавшись, расплакалась. Лицо Бернарда заметно припухло, левый глаз почти заплыл.
– Спасибо, крошка, – сказал он утирая рукавом кровь с губ и подбородка. – Теперь я окончательно убедился в том, что ты – это не она. Сестры… – Он хмыкнул, поднялся с кресла и, пошатываясь, побрел к двери, но не дошел до нее, повернулся, сел на ковер, широко расставив колени. – Да если бы я посмел сказать Маджи то, что сейчас сказал тебе… – У него булькнуло в горле. – Нет. Я бы скорей застрелился, чем позволил себе сказать ей такое. Она… она такая чистая. Маджи, прости меня за все.
Бернард завалился на бок и отключился.
Сью смотрела на себя в большое зеркало в ванной комнате. Бледное, как безжизненная маска, лицо, губы – две узкие полоски, руки дрожат так, что невозможно унять.
Она не раздеваясь встала под горячий душ. Закружилась голова и пришлось схватиться за стенку, чтоб не упасть. Она закрыла воду, стащила мокрую пижаму и швырнула в бак для мусора.
– Сью Тэлбот, все кончено, – сказала она своему отражению в зеркале. – Все они неблагодарные твари. Двуногие животные. Ты должна быть свободной, Сью. Больше не доверяй ни одному из них. Никогда.
Она проглотила две таблетки снотворного, жадно запив их холодной водой из-под крана. Потом включила фен над головой и медленно промокнула тело полотенцем.
Сью перешагнула через спящего на полу Бернарда и легла в постель. Она не ощущала ничего, кроме пустоты. Снаружи и внутри – везде была пустота. Ей казалось, что от нее осталась одна оболочка, легкая, как сухой лист. Ее подхватил порыв ветра и закружил в пустом холодном пространстве.
Очнувшись от тяжелого наркотического сна, она не сразу вспомнила события минувшей ночи. Подняв голову, увидела на полу пятно запекшейся крови. Бернарда не было.
Привратник сказал, что мистер Конуэй уехал два часа назад в Даллас. Его повез на «роллс-ройсе» личный шофер Джека Конуэя. Мисс Тэлбот он просил передать… Привратник на секунду замялся, потом сказал, глядя куда-то вбок:
– Он не хочет, чтобы вы ему звонили. И чтобы вы… Словом, вы должны уехать отсюда как можно скорей. Извините, мэм, я только передаю то, что сказал мистер…
– Все о'кей, Харви, – перебила привратника Сью. – Мистер Конуэй узнал, что у меня есть любовник. Я бы не сказала ему об этом в столь тяжелую для него минуту, но он сам завел этот разговор, и я была вынуждена…
Сью не контролировала свой язык. Слова брались не из головы, а из этого пустого пространства, окружавшего ее оболочку. Она видела округлившиеся от изумления глаза старого Харви – он всегда относился к ней с почтением и даже симпатией. Это был преданный слуга из малочисленного племени слуг, болеющих душой за своих хозяев.
– Да, мэм, я понимаю, – бормотал он. – Как будет угодно, мэм… Скотт отвезет вас…
Сью быстро собрала чемоданы, покидав в них все до мелочей. Она действовала интуитивно, а интуиция подсказывала ей, что она не должна оставлять в этом доме ни единой своей молекулы. Вдруг Бернард, глядя на ее расческу или баночку с кремом, пожалеет о том, что произошло между ними, и…
Сью верила в магическую силу вещей. Не ведающая страха в настоящем, Сью боялась прошлого.
…Она заметила среди встречавшей ее прислуги новое – совсем молодое, дерзкое лицо. Что-то было в этом лице, это «что-то» заставило ее обернуться. Молодой человек смотрел на нее открытым взглядом, призывая ее к тому же. «Нужно спросить у миссис Уинстон, кто он», – думала Сью, поднимаясь по ступенькам в дом.
…После первой затяжки ей сделалось нехорошо. Подавив позыв к рвоте, она затянулась снова. И почувствовала легкость во всем теле. А главное – четко заработала голова.
«Я шла по ее следу, каждый раз раздувая угольки брошенного ею костра, – думала Сью, стоя у окна круглой гостиной на втором этаже. – Я тратила столько сил, чтоб раздуть эти угольки… Я всегда тратила столько сил. А она… Ей никогда не приходилось это делать – по ее следу всегда шли мужчины. Но почему?..»
Сью сделала еще одну затяжку. Приятно поплыла голова, оставаясь при этом более чем трезвой.
«Что в ней такого? Я красивей ее. На меня клюют все без исключения мужчины… Она нравится отнюдь не всем. Но она производит впечатление как раз на тех мужчин, которых хочу я. Они не спешат затянуть ее в постель – им нравится ее обхаживать, делать подарки… Черт, они все хотят иметь с ней серьезные отношения, хотя обожают лакомиться на стороне с такими, как я. Но наступает момент, когда они начинают презирать себя за это».
Она вспомнила выражение злорадного удовлетворения на окровавленном лице Берни и сделала еще одну затяжку.
– Скажите, какой мученик, – произнесла она вслух и показала язык своему отражению в окне. – Он получал наслаждение, когда я лупила его, потому что решил очиститься через боль. Мазохист проклятый. Какое счастье, что я не вышла за него замуж! – Сью почему-то вздохнула. И тут же на себя рассердилась.
– И жил бы себе с этой кретинкой Синтией, – продолжала она свой монолог. – Конгрессмен от штата Техас Бернард Конуэй и его очаровательная до придурковатости молодая жена присутствовали на обеде в их честь на ранчо президента…
Сью начала смеяться. Ее попросту распирало от смеха. Она подавилась дымом и, закашлявшись, швырнула недокуренную сигарету в камин.
– Шикарная шлюха Розалинда Глэтс[57] закатила грандиозный прием в честь конгрессмена-неудачника Берни Майэлти.[58] – Сью раздевалась медленно и по-профессиональному красиво. – Все присутствующие на приеме леди и джентльмены блистали великолепными туалетами от мистера Голая Задница и мадам Обнаженные Сиськи. – Сью уже стояла голая посреди комнаты. Ей очень хотелось взлететь, но мешал этот проклятый потолок. – Раз ты не хочешь, чтобы я была птицей, я превращусь в рыбу, – сказал она и, выйдя на балкон, стала спускаться по винтовой лестнице к бассейну. – На приеме присутствовала бывшая подружка этого самого Майэлти, которую он бросил, чтоб подняться на Капитолийский холм. Ну да, он бросил ее, а она бросилась в океан, но потом воскресла благодаря своей милой сестричке мисс Розалинде Глэтс, блистательной шлюхе и авантюристке. Черт, я еще заставлю тебя стонать и извиваться в постели, похотливая свинья Берни Майэлти…
Она плюхнулась в бассейн, взметнув за собой столб брызг, и поплыла под водой.
– Какой же ты кретин, мистер Берни Майэлти, – громко сказала она, вынырнув на поверхность. – Такими женщинами, как эта Розалинда Глэтс, разбрасываться нельзя. Кэпа я прощаю – он был романтичным морским волком, мой милый кэп. А ты, мистер Берни Горе-конгрессмен от штата… – Она нырнула, попыталась сесть на дне бассейна на шпагат, но ее вынесло на поверхность. – …Стопроцентный засранец.
Она перевернулась на спину, положила руки под голову и затихла. Ей показалось, в бассейне кто-то есть.
– Эй, – негромко крикнула она через минуту. – Я тебя вычислила. Но не потому, что я такая умная. Просто я накурилась этой гадости, от которой мозги заработали так, что даже слегка перегрелись. Я знаю, кто ты. Ты следишь за мной потому, что я тебе нравлюсь, верно? Ну да, ты в меня влюбился. – Она опустила ноги на дно, встала и огляделась по сторонам. Она не включила свет и теперь пожалела об этом. Впрочем, так оно даже было интересней. – Эй, романтичный незнакомец, ты предпочитаешь немного поухаживать за мной и только потом лечь в постельку? Некоторые женщины любят потянуть эту волынку – цветы, ужин при свечах, поцелуйчики, танцы в прижимку. Сью Тэлбот, то есть Розалинда Глэтс, не из таких – она любит сразу приниматься за то самое дело, ради которого мужчины дарят цветы и приглашают в ресторан. Чего тянуть, скажите пожалуйста? Все равно кончится-то постелькой. Эй, у меня очень красивая спальня – зеленая лужайка, а посреди нее куча мягкого шелковистого песка. И зеркала. Нас будет там много-много, но все эти много – ты и я, ты и я, ты и я… Знаешь, на этой куче песка я потеряла свою драгоценную невинность. – Она хихикнула. – Это было так давно и так неинтересно. Моим первым парнем был чернокожий с таким большим-большим и очень шустрым кукурузным початком между ног. Он сделал мне ребеночка. Представляешь, брюхатая шлюха Розалинда Глэтс? Но я тогда была еще не профессиональной шлюхой, а так, жалкой дилетанткой. Я просто хотела попробовать то, что запрещали делать нам, девчонкам, взрослые, хотя сами такое вытворяли… Но я бы, наверное, не стала шлюхой, если бы не этот мерзавец Дуглас, собачий гинеколог. Представляешь, он ставил на мне свои поганые опыты, а ребеночек себе преспокойно рос и рос внутри. И так прирос к моей начинке, что его потом вырезали вместе с ней. Ха! Для шлюхи Розалинды Глэтс это был такой подарочек – трахайся себе сколько влезет и никогда не влипнешь. Мне завидовали подружки – у них вечно были с этим делом проблемы. А Розалинда жила без проблем. У нее и сейчас нет никаких проблем. Эй, а тебе нравятся женщины, у которых никогда нет проблем? Или ты, как и этот Берни Майэлти, предпочитаешь тех, у кого их так много, что они прыгают вместе с ними в океан? Но это я, я воскресила ее из мертвых. И ничуть об этом не жалею. Потому что она все равно не любит этого засранца Майэлти, конгрессмена от штата Гэтбекит.[59] Представляешь, она любит нашего братика. Ха-ха, моя мамочка тоже любила своего братика, а мой дедушка взял и засунул ее в психушку. А ее в психушку засунула не я, а эти типы из КГБ. Я ее оттуда вытащила и отдала другому братику, от которого у нее ребеночек. Она сама рассказывала мне, что ее ребеночек не от алкаша Димы, а от бывшего попа. Его зовут А-на-то-лий. Красивое имя, верно? А сам он так себе. И по части секса, похоже, слабак. Берни Майэлти, если его хорошо заведешь, он ничего себе. Но только его нужно долго-долго заводить. А вот кэп – тот был готов с пол-оборота. Не мужчина, а настоящий «феррари». Знаешь, есть такой автомобильчик? Хочешь, прокатимся с тобой на нем?
– Хочу, – услышала она и обернулась.
Он стоял рядом – тот самый парень, который смотрел на нее, когда она приехала. Он был совершенно наг и великолепно сложен.
– О'кей, едем в Лас-Вегас. Ха-ха, вот бы заявиться туда в таком виде!.. Слушай, у меня есть идея.
Сью привстала на цыпочки и что-то прошептала ему на ухо.
– Идет, – ответил он и, перемахнув через край бассейна, протянул Сью руку.
– А ты, видать, ненормальный, папулька, – везешь меня в такую даль, чтоб трахнуть. Да это можно сделать в любом мотеле. Или в машине. Слушай, мне очень даже нравится заниматься этим делом в машине.
– А мне нет, – сказал Анджей. – Я консервативен в своих привычках. Еще ни разу в жизни не занимался этим делом в машине.
– Так я тебе и поверила. – Девица вытянула свои длинные мускулистые ноги в ажурных колготках и выгнула спину, выпятив размером с куриные яйца груди. – Лас-Вегас… Хи. Выходит, я подцепила богатого клиента. Или ты блефуешь?
– Может быть.
Анджей усмехнулся, не глядя на сидевшую рядом девицу.
– Эй, тогда поехали назад. Слышь, папуля?
– Меня зовут мистер Глитс,[60] – сказал Анджей, разворачивая свой видавший виды «шевроле». – Помню, я представился тебе по всем правилам этикета.
– Плевать я хотела на твой этикет. Эй ты, мистер Блитс,[61] куда мы едем?
– В Пассадену, штат Калифорния, в тот самый бар на углу бульвара Трех Кривоногих Шлюх, где я тебя снял.
– Не хочу! – взвизгнула девица и ударила кулаком по переднему стеклу. – Хочу в Лас-Вегас. Ты обещал отвезти меня в Лас-Вегас.
Анджей остановил машину посреди пустынного в этот поздний час шоссе и, достав из «бардачка» колоду карт, протянул девице.
– Держи, мисс… Ха, но ведь ты меня обманула. Тебя зовут вовсе не Кэт.
– Какая тебе разница? Допустим, не Кэт, а… Черт, но меня на самом деле зовут Кэт.
– Твоя подружка называла тебя иначе. Она называла тебя… – Девица согнула ноги в коленях и поставила их на сиденье. От нее пахло дешевыми духами, и Анджей с удовольствием вдохнул этот аромат. – Все о'кей: Кэт, так Кэт, – сказал он. – Только у меня сломалась челюсть и мне будет трудно выговорить это имя. Я буду называть тебя мадемуазель Ностальжи.
Девица недоверчиво взглянула на него и хмыкнула.
– Бери карты, – велел Анджей и, когда она взяла колоду, подбил ее руку снизу, и карты веером разлетелись по машине.
– Что ты делаешь, дерьмо собачье?.. – начала было девица, но Анджей, весело хохоча, схватил карту, оказавшуюся в подоле ее желтого в черную крапинку мини-платьица.
– Бубновый король, – сказал он. – Ну-ка поглядим, что у меня. Ха, бубновая дама! – воскликнул он, извлекая откуда-то из-под себя карту. – Итак, ты хочешь в Лас-Вегас. Что ж, мадемуазель Ностальжи, ваше желание – закон. – Он сделал два круга вправо, потом, развернувшись, круг влево и остановился на обочине – навстречу на бешеной скорости мчалась машина. Пропустив ее, Анджей резко крутанул руль. – Вперед! – скомандовал он самому себе. – Туда, куда едут эти безумцы.
Он поддал газу. Стрелка спидометра, качнувшись возле цифры «100», уверенно поползла вправо.
Девица спустила ноги с сиденья и пристегнулась ремнем.
– Ты, чокнутый, мистер… как там тебя. Думаешь догнать их на своем допотопном драндулете? Эй! – крикнула она через минуту, – ты что, решил сделать из меня бифштекс с кровью? Псих ненормальный!
Она вцепилась обеими руками ему в локоть, и «шевроле», сделав крутой вираж, едва не свалился с насыпи.
– Мадемуазель, мы едем в Лас-Вегас, а не на тот свет, – сказал Анджей, нажимая на всю железку. – Эти, что впереди, не должны попасть туда первыми. Иначе… Словом, я задумал желание. Угадай, какое?
– Черт бы тебя побрал, мистер Псих. Ты попросту передо мной выпендриваешься. – Девица нервно закурила. – Один такой довыпендривался – родная мамочка не смогла опознать. А меня, представляешь, эта чертова штуковина, как ее… Словом, как дало под задницу, и я запахала носом по травке. Платье, колготки – все в клочья. Еще два ногтя там оставила… А у тебя в машине есть эта штуковина, что бьет под задницу?
– Нет, – сказал Анджей. – Но ты не бойся: если мы перекинемся или врежемся в столб, взорвется бак с горючим и мы сгорим заживо.
– Врешь, мистер Блеф. – Девица рассмеялась.
Наконец-то я тебя раскусила. Никакой ты не псих и не самоубийца – ты настоящий мистер Блеф. А я-то думала, подцепила миллионера. Ну да, есть такие придурки – разъезжают на старых тачках и в дырявых штанах, а у самих до фига зеленых. Эй, мистер Блеф, ты хоть за ужин заплатишь? У меня от голода колики начались…
Машина затормозила возле придорожной закусочной. Анджей открыл дверцу и, подав руку, помог ей выбраться из машины.
Сонный негр-официант принес пиво, салат и жареные сосиски. В закусочной, кроме них, никого не было. Официант включил магнитофон – зазвучала музыка из кинофильма «Серенада Солнечной долины», который Анджей видел еще до войны в своем родном Вильно.
– Мистер Блеф, если ты будешь дуть пиво и курить сигареты, мы точно попадем на кладбище раньше тех психов на «феррари». – Девица утащила с тарелки Анджея последнюю сосиску. – Уф, обожралась. Придется расстегнуть молнию, а то еще треснет платье. Эй, что ты на меня так пялишься? Я думаю, в этой захудалой кормушке наверняка найдется чулан с тюфяком, на котором ты сможешь меня трахнуть. Правда, мне так хочется спать.
Она скинула туфли, вытянула ноги и положила их на сиденье пустого стула. У нее были широкие ступни деревенской девчонки, и Анджея вдруг захлестнула волна симпатии к ней. Он протянул руку, намереваясь их погладить, но передумал.
– Мадемуазель Ностальжи, – сказал он, – я буду трахать тебя прямо здесь, за столом.
– Слабо. – Она зевнула и лениво потянулась за сигаретой. Он только сейчас обратил внимание, что она левша.
– Одна из твоих тезок тоже была левшой, – сказал он. – Но самое интересное, что я узнал об этом уже тогда, когда бросил и ее, и вторую твою тезку. Догадайся, как я об этом узнал?
– Очень мне нужно. – Девица выпустила в Анджея струю дыма. – Ты, мистер Блеф, совсем еще не старый мужчина, а ведешь себя так, словно эта твоя штуковина между ног превратилась в гнилой банан. Ну да, слыхала я про таких типов – берут девчонку и вместо того, чтоб ее трахать, изливают свою душу. Валяй. Только я все равно не поверю твоей трепотне.
Вы все мастера хвастаться тем, что бросаете женщин. Но это все брехня. На самом деле бросаем вас мы.
– Ты сама не знаешь, как ты права. – Анджей подозвал официанта и велел ему принести еще пива. – Да, бросаете нас вы, но делаете это так тонко и хитро, что нам кажется – наоборот. Вы знаете, как мы тщеславны и самолюбивы, и щадите наши самые сокровенные чувства. Вы отдаете себе отчет в том, что брошенный женщиной мужчина в ста случаях из ста становится пациентом психиатрической клиники либо алкоголиком. Приятель, ну-ка прибавь звук! – крикнул он дремавшему за стойкой официанту. – Мадемуазель Сонные Глазки обожает песенки тридцатых годов. Помнишь, моя дорогая, как я играл их тебе на рояле в той комнате под самой крышей? Ты еще не была тогда Ностальжи. Ты была просто девушкой. У вас в Америке есть штат с замечательным названием – Вирджиния. Я бы желал прожить в нем от самого рождения до смерти.
– Ха, дурачок. Тебе нужно было пойти в монахи, а не в миллионеры, мистер Блеф. Правда, у монахов это все притворство сплошное. Я знала одного…
– Мадемуазель Болтливый Язычок, за ужин плачу я, а потому извольте сидеть тихо. Я разрешу вам высказаться потом. И даже готов выслушать ваше резюме.
– Валяй, папуля, блефуй. Тебе это очень даже идет.
Девица расстегнула молнию на платье и поудобней устроилась на стуле.
– Похоже, я подцепил самую что ни на есть лучшую собеседницу во всем Западном полушарии. И всего за какую-то сотню долларов и ужин в забегаловке у Солнечной долины. Так вот, мадемуазель Первое Причастие, я потерял невинность не тогда, когда переспал в первый раз с женщиной, и даже не тогда, когда влюбился в Мари и бросил Джустину. И даже не тогда, когда занимался с ними обеими любовью в том таинственном доме у реки… В ту пору я был еще романтиком, верящим в то, что идеал не выдумка музыкантов и поэтов, а нечто реальное для достижения чего нужно приложить максимум усилий. И я старался изо всех сил. Я ушел от Мари и Джустины или, скажем, от Джустины и Мари, потому что они обе любили меня слишком сильно. Понимаешь, мадемуазель Ироничная Гримаса, эти две женщины любили меня каждая по-своему слишком сильно. И, что самое ужасное, любя меня, все больше и больше привязывались друг к другу. А мне хотелось бурных страстей, ревности, театральных сцен. Я чувствовал, как в этом стоячем болоте безграничного обожания и всепрощения усыхает с каждым днем моя душа. Понимаешь, мадемуазель Кривые Губки, я родился эготистом, а следовательно, эгоистом. Я не знаю, как чувствует себя арабский шейх в окружении своего большого гарема – мне было совсем нечем дышать в моем мини-гаремчике. И знаешь, что я сделал, мадемуазель Полное Безразличие? Да-да, ты догадалась: взял и слинял.
– Ну и дурак, – констатировала девица. – А вообще-то я тебе не верю, мистер Блеф. Не бывает так ни в жизни, ни даже в киношке.
– Ты права. Но я совсем не знаю жизни, а в кино не был лет сорок. Это вам, мадемуазель Здравый Смысл, известны все схемы, по которым развиваются сюжеты. Вам известно, что в жизни их всего несколько. Меньше, чем тональностей у фортепьяно. А все остальное – сплошные вариации на тему. Так вот, твой мистер Блеф слинял в благословенную страну под названием Соединенные Штаты Америки. – Анджей прервал монолог, чтобы выпить пива. – Но и здесь, в этом искусственном раю, его тоже любили женщины. Одна из них, к несчастью, оказалась настоящей богачкой.
– Выходит, тебе крупно повезло, папуля, если ты, конечно, не врешь, – комментировала девица. – Мне что-то все сплошные голожопики попадаются.
– Счастливая. Но ты этого никогда не поймешь. Да и мне не очень-то верь, когда я начинаю пороть чушь про то, что богатство портит человека, лишая его характера и силы воли. Это придумали твои голожопики. Богатство, мадемуазель Насмешливый Ротик, делает человека свободным. От собственного «я» в первую очередь. А во вторую – от всего на свете. Вижу, ты со мной согласна, мадемуазель Ночная Подружка Бывшего Голожопика.
– Ой, папуля, ну и занудливый же ты оказался. Сроду не попадались такие клиенты. Черт меня дернул поверить твоей брехне про Лас-Вегас.
– О, моя дорогая мадемуазель Золушка, уверяю, ты об этом не пожалеешь. И на обещанный бал мы с тобой непременно попадем. Поскучай тут капельку – я еще не закончил свою сказку про Принца – и отчалим на бал. Этот принц, моя дорогая мадемуазель Не Знаю Кто, сбежал и от миллионерши тоже. Потому что все еще продолжал охотиться за призраком своего идеала. И он его, представь себе, нашел в одном заморском королевстве.
– Нашел-таки свою девственницу. – Девица криво усмехнулась. – Ну и что дальше? Уверена, попользовался и сделал от нее ноги.
– Вот тут ты не права, мадемуазель Острые Коготки. Ты, как и все стопроцентные жительницы этого континента, напрочь лишена романтики.
Девица фыркнула.
– Мистер Блеф здорово отстал от жизни. По телику только и крутят эти сериалы про любовь и всякую ерунду. И все проливают слезки, когда какой-нибудь Джо бросает какую-нибудь Энн, которая с горя сигает с моста. Ну а потом этот Джо приходит на ее могилку и так красиво плачет.
Анджей рассмеялся. Дремавший за стойкой официант поднял голову и бессмысленно посмотрел в их сторону.
– Браво, мадемуазель Умница, ты объяснила все гораздо лучше, чем это сделал бы я. Вообще вы, американцы, мудрая нация. Вот почему вам удалось за столь короткий период времени достичь невиданного благосостояния. Воистину, зачем смешивать в одном бокале то, что нужно пить отдельно и в разное время? Это мы, европейцы, привыкли наливать туда из всяких бутылок, а поутру хвататься за голову и похмеляться, чтобы вечером проделывать то же самое. Хотя все эти коктейли, как мне кажется, изобрели вы.
– Ладно тебе философствовать. Лучше расскажи, что случилось с той девчонкой, которую ты лишил невинности, – потребовала девица. – Знаю я вас, сволочей, – сорвал цветок и дал деру. Тот парень, который сделал это со мной, был большим негодяем.
– О, мадемуазель Проснувшийся Интерес, вы глубоко заблуждаетесь. А все потому, что жизнь, да и искусство тоже, как я уже заметил, безостановочно прокручивает одни и те же сюжеты. Но я же сказал вам, что не укладываюсь ни в один из них. Так вот, эту девушку я при всем желании не смог бы лишить невинности. Ибо невинной была и, надеюсь, остается ее душа, а я, в отличие от Мефистофеля, не занимаюсь покупкой человеческих душ. К тому же эта девушка оказалась моей родной дочерью. И я, узнав об этом, понял, что все эти разглагольствования церковников о первородном грехе на самом деле не что иное, как оправдание нашей духовной немощи, защитный панцирь, раковина, скорлупа. За ними же прячется крохотная, похожая на только что народившийся моллюск человеческая душонка, вместилище возвышенных помыслов и устремлений. Вот тогда-то я и лишился невинности, мадемуазель Сладко Сплю Под Вашу Чушь.
Анджей встал, растолкал официанта и заставил его опять поставить кассету с мелодией из «Серенады Солнечной долины». Он сидел на табурете, едва заметно покачиваясь в такт музыке, и курил сигарету за сигаретой. Когда кассета закончилась, бросил на стойку двадцать долларов и разбудил девицу, спавшую сидя за столом.
В машине он насвистывал песенку, которую играл когда-то в комнате под самой крышей своего родного Вильно. На душе было легко.
Ночами Маше казалось, будто по дому кто-то ходит.
Она спала в мансарде, вплотную придвинув кровать к большому окну. Она соскучилась по звездам и шелесту листьев на ветру. В ее больничной палате окна были покрыты белой краской и забраны решеткой. К тому же там были двойные рамы и никакие шумы извне не долетали. Маше казалось порой, что она оглохла и больше никогда не услышит щебета птиц, шелеста листьев, плеска и журчанья живой, а не водопроводной воды.
Ее спасло то, что в палате было радио. По нему транслировали программу, по которой с утра до вечера звучала классическая музыка. И никакой информации. Первое время ей так хотелось услышать новости. Ей казалось, из них она каким-то образом узнает, где Ян и что с ним. Сиделка изредка приносила газеты. Как правило, это была «Неделя». Маша прочитывала ее от корки до корки. Очень скоро она поняла, что это занятие так же бессмысленно, как и ее вопросы к медперсоналу клиники относительно судьбы Яна, – никто ничего не знал, а может, это было притворство.
Когда умер Черненко и к власти пришел Горбачев – об этом Маша узнала от той сиделки, которая приносила газеты, – несколько недель к ней не заходил никто, если не считать разносчицу еды. Потом как-то утром пришли двое в белых халатах и повели ее в кабинет главного врача. Там сидел мужчина в штатском неприметной – кагэбэшной – наружности. Машу оставили с ним с глазу на глаз.
– Мы можем выписать вас отсюда в любую минуту, – сказал мужчина, глядя на Машу глазами неопределенного цвета. – Но вы должны дать подписку, что никогда не будете разыскивать своего брата, упоминать его имени в разговорах с кем бы то ни было, а также никому не расскажете о том, что видели его.
– А если я не выполню ваше условие? – спросила Маша. – Что тогда?
– Тогда нам придется его устранить. – Он сделал резкое движение лежавшей на столе рукой, словно сбрасывая на пол мусор. – Другого выхода у нас нет.
– Где он сейчас? – Маша тут же поняла бессмысленность своего вопроса.
– У нас. И ему, уверяю вас, ничего не угрожает, пока вы будете держать язык за зубами.
– Я не хочу, чтобы меня выписывали, – твердо заявила Маша. – Мне здесь хорошо. Можно вас кое о чем попросить?
– Я вас слушаю. – Мужчина насторожился и удивленно поднял брови.
– Передайте ему от меня привет и скажите, что я его помню и… люблю, – едва слышно закончила она фразу. – И пускай не волнуется обо мне.
– Обязательно передам, – с явным облегчением пообещал кагэбэшник и протянул ей листок бумаги. – Если вас не затруднит, подпишите вот это.
Там было всего три строчки.
«Я, Мария Андреевна Павловская, действуя согласно своим убеждениям, обязуюсь докладывать любую информацию, связанную с антигосударственной деятельностью и подрывающую могущество СССР».
– Но я… Откуда я могу узнать сведения подобного рода, находясь…
– Это всего лишь формальность. – Он улыбнулся одними губами. – Это нужно в первую очередь вашему брату. Мы готовим его к очень важному заданию, а потому его анкета должна быть не просто безупречной, а идеальной.
– Но я… Хорошо, я подпишу. – Взяв протянутую ручку, Маша быстро расписалась.
– Я одно время работал в отделе у вашего свекра, – говорил мужчина, пряча листок в папку. – Это был человек старой гвардии. Нынче таких осталось раз, два и обчелся. Кстати, вас не интересует судьба вашего мужа?
– Мы с ним давно не виделись. Надеюсь, у него все в порядке?
– Относительно. Он иногда выполняет для нас кое-какие мелкие поручения. Но мы ему до конца не доверяем – пьет и много болтает. Пришлось даже лишить его загранкомандировок.
– Я думала, это из-за меня.
Мужчина засмеялся. При этом глаза его остались такими же серьезными и настороженными.
– И он так считает. Отлично. Надеюсь, вы не собираетесь с ним сходиться?
– Нет. – Маша замотала головой. – Это невозможно.
– Я вас понимаю. И по-человечески одобряю. Когда отец вашего мужа Дмитрия Павловского ушел в отставку и ваша семья лишилась привилегий, вы правильно решили воспользоваться случаем и сбежать куда подальше. Какие могут быть здесь перспективы у молодой красивой женщины, привыкшей…
– Вы… вы все передергиваете. – Маша привстала с кресла. – Я сделала это потому, что… Господи, какая разница – вам все равно этого не понять.
Она опять села.
– Ошибаетесь. Я все прекрасно понимаю. Этот дешевый авантюрист Ковальский, он же Смит, с которым вы встречались в России и обо всем договорились, разыграл ваш побег по нотам, написанным в ЦРУ. У нас есть доказательства сотрудничества этого человека с несколькими разведками как Запада, так и Востока.
До Маши больше не доходил смысл слов сидевшего напротив нее человека – они сливались в один монотонный гул. Ей казалось, голова постепенно наполняется густой и вязкой жидкостью, которая, переполнив ее, вот-вот потечет из ее ушей, глаз и запачкает лицо, шею, халат, тело – все вокруг.
– Довольно. – Она подняла обе руки, как бы защищаясь ими от монотонного словесного потока. – Я все поняла и приму к сведению. Прошу прощения, но мне пора обедать.
…Она глядела ночами на звезды. Ее успокаивал вид безбрежных небесных просторов, отвлекал от мрачных дум. Здесь звезды казались другими. Ей нравились здешние звезды.
Еще ей казалось, что дом хранит воспоминания о ее детстве, матери, отце, Юстине. Они жили здесь такими, какими были тогда. Пускай это другой дом и эти доски, штукатурка, стекла и все остальное никогда не видели ее маленькой, все равно она им доверяла, потому что поняла с самого начала: новый дом был не просто копией старого – в нем жила душа того дома.
Она засыпала под утро и, проснувшись уже ближе к полудню, еще не открывая глаз, с удовольствием вдыхала запах цветов, черешни, клубники. Она растягивала это удовольствие – вхождение в день через обоняние окружающего мира. Перед ее мысленным взором проносились картины цветущих садов под голубым небом, стаи птиц над головой, она видела реку такой, какой она была во времена ее детства, – манящей, что-то таинственно нашептывающей.
Открыв глаза, она любовалась букетом из белых лилий или гладиолусов, медленно переводила взгляд на блюдо с только что собранной клубникой и черешней. Прежде чем потянуться рукой за ягодой, снова закрывала глаза и представляла ее удивительный вкус.
Нонна, услышав скрип половицы под ногами Маши, поднималась по лестнице с большой кружкой молока. За ней шел улыбающийся Толя.
Они завтракали вдвоем под акацией – у Нонны к тому времени заканчивался перерыв, и она, собрав на стол, спешила в амбулаторию. Вокруг цвели цветы, жужжали пчелы. Внизу тихо плескались речные волны.
Толя сопровождал ее повсюду, передвигаясь бесшумно, как тень. Но она все время чувствовала его за спиной. Поначалу ее это радовало, она улыбалась ему и что-нибудь говорила. Потом она свыклась с его вечным присутствием и не замечала его. Наступил час, и оно начало действовать ей на нервы.
В то утро она проснулась с мыслью, что Ян, освободившись из плена, первым долгом приедет сюда, в дом у реки. Она почему-то была уверена в этом, как и в том, что он появится неожиданно. Возможно, сейчас он уже спускается той тропинкой меж двух холмов, по которой они с Юстиной ходили в степь за травами.
Она выскользнула из-под одеяла, надела на голое тело ситцевый сарафан, который ей сшила Нонна, и сбежала по лестнице.
– Куда? – спросил стоявший у ее подножья Толя. – На улице дождик.
– Я… – Она осеклась, встретившись с пытливым и, как ей показалось, недовольным Толиным взглядом. – Я люблю гулять под дождем, – сказала она, проходя мимо него с опущенной головой.
От мокрой дорожки пахло весной. У Маши подкосились ноги, когда она увидела приближающегося к дому мужчину. Она остановилась, прижав к груди руки, и закрыла глаза.
– Почта, – послышалось от калитки. – Дочка, забери газету – дождик намочит.
Она открыла глаза. Мужчина уже повернулся к ней спиной и стал удаляться. Он ни капли не был похож на Яна.
– Ты простудишься. – Толя взял ее за руку. – Пошли в дом.
Она вырвала руку и убежала в сад. Ее душили слезы. Она плакала, прислонившись к мокрому стволу яблони.
Минут через десять ее нашел Толя. Заботливо накинул на плечи шуршащий дождевик. Она позволила увести себя в дом.
Вечером они ужинали при свете керосиновой лампы – внезапно пронесшийся ураган оборвал электрические провода. Маша все время вздрагивала. Ей казалось, в окна кто-то стучит, хоть она и знала – это всего лишь мокрые ветки.
Собрав посуду, Нонна ушла к себе на веранду спать. Толя внимательно смотрел на Машу.
– Ты ждешь его. Но ведь он… твой родной брат.
– Я его люблю, – сказала Маша. – Мы много страдали. Мы уже не сможем друг без друга.
– А я? Что делать мне? – В его голосе звенели слезы. – Я тоже много страдал. И я не смогу без тебя. У нас общий сын.
Маша удивленно вскинула глаза. Она не ожидала этих слов.
– Но это невозможно. Я никогда не смогу стать твоей… женой. Ты мне брат, понимаешь? Я очень тебя люблю. Как брата, – добавила она потупившись.
– Но мы… любили друг друга еще когда были детьми. Это… это нельзя забыть. Это навсегда. Я все время жил этими воспоминаниями. Мне казалось, ты тоже… – Он нервно теребил скатерть. Пальцы его дрожали. – Понимаешь, ты не должна упрекать меня за то, что я ушел тогда в монастырь. Ведь если бы я этого не сделал, ты бы разлюбила меня еще быстрей. Потому что ты меня выдумала, а я… я был совсем не такой. Тогда я еще не знал этого, я понял это позже. Да, ты меня выдумала, но мне захотелось стать таким, каким ты меня выдумала. И я стал таким. Таким, каким ты когда-то любила меня.
– Но его я не выдумала. – Маша встала из-за стола. – Прости меня.
Он вскочил, больно схватил ее за руки, привлек к себе. Маша ощутила запах водки.
– Я выпил полстакана. – Толя пытался не дышать ей в лицо. – Но только для того, чтоб преодолеть эту проклятую робость. Я так робею перед тобой. С самой первой встречи. Я еще тогда боялся, что ты во мне разочаруешься.
– Не будем об этом. Пусть прошлое останется прошлым. Мы с тех пор много перечувствовали и пережили.
– Я понимаю – ты имеешь в виду Нонну. Но я… я сделал это из благодарности. Я давно с ней не живу. У меня… у меня уже почти десять лет не было женщины.
Маша с силой высвободила руки. На запястьях остались красные следы, похожие на следы от наручников.
– Мне не нужно было сюда приезжать, – тихо сказала она. – Юстина говорила, это заколдованное место. Здесь пересекаются какие-то космические потоки, и потому все начинаешь ощущать так остро и серьезно. – Она вздохнула и добавила: – Бедная мама.
…Маша не спала всю ночь, прислушиваясь к шуму деревьев и вою ветра. По дому опять кто-то ходил. Но это были не те легкие шаги, которые она слышала в первые ночи, шаги были тяжелые и безнадежные, и Маше казалось, будто они принадлежат приговоренному к смерти узнику.
На рассвете она вышла на балкон. Ветер стих, и река безмятежно млела в первых солнечных лучах. По ней почти бесшумно плыл большой белый пароход. Она проводила его взглядом, пока он не скрылся за излучиной. Она поняла, что плачет, почувствовав, как щекотно щекам.
Она была узницей. И эта темница казалась ей сейчас страшней ленинградской психушки.
…Она не сразу узнала Диму в обрюзгшем мужчине с темными кругами вокруг глаз и солидным брюшком. Она была в саду и, услышав звонок, побежала напрямик, не разбирая дороги.
– Вам Нонну Божидаровну? – Маша не смогла скрыть разочарования. – Она пошла доить… – Вдруг, закрыв лицо руками, она опустилась на траву. Она пожалела о том, что запретила Толе ходить за ней следом.
– А я сразу тебя узнал. Ты ни капельки не изменилась, – заговорил Дима. В его голосе улавливались прежние – бравадные – интонации. – Ну да, ведь ты жила в Америке, а я все это время торчал здесь. Там воздух и тот другой. Слава Богу, теперь и у нас чем-то свежим повеяло. Хотя этих проклятых комуняк еще не скоро отпихнут от кормушки. Ну что, может пожмем друг другу руки? – Он протянул ей свою, и она неуверенно ее пожала. – Обид не помню и ни в чем тебя не упрекаю. Я и отцу так говорил. И Ваньке нашему. Эта твоя американская сестрица обещала похлопотать за него через Красный Крест. Та еще штучка. Но, стерва, красивая. А где наш общий друг и брат? У вас как: совет да любовь?..
С вышедшим на крыльцо Толей они обнялись. Похоже, они обрадовались друг другу. Толя быстро собрал на стол. Маша поднялась к себе в мансарду.
Она легла на кровать и закрыла глаза. Ей казалось ужасным, что там внизу сидят за одним столом и мирно беседуют двое мужчин, с которыми у нее были интимные отношения. Почему-то сейчас, а не тогда, в максималистской юности, ей показалось это противоестественным и мерзким. Она вспомнила Франческо и Бернарда и почувствовала себя чуть ли не шлюхой.
«Ян такой чистый… Я не достойна… – проносилось в голове. – Но я и не могу любить его так, как хочу – он мне брат… И все равно я недостойна его… Я всю жизнь плыла по течению. Отдавалась всей душой страстям и вела себя, как плохая актриса… Нет, я его недостойна…»
Она вдруг вскочила и сбежала вниз. Мужчины сидели в бывшей комнате Юстины. Теперь здесь была столовая. Оба уже слегка захмелели. Увидев ее, замолчали и опустили глаза.
Она поняла: говорили о ней.
– Я хочу выпить. – Маша села за дальний от них конец стола. – Налейте мне водки.
Дима наполнил ее рюмку столь знакомым ей нарочито угодливым жестом. Она выпила молча, ни с кем не чокаясь. Попросила еще и снова выпила. И поняла, что опьянела. Она вдруг вспомнила, как почти четверть века назад плясала у костра перед этими двумя мужчинами, и ей захотелось взвыть от тоски и ненависти к себе. Этот дом, думала она, построил какой-то злой шутник или сам дьявол. Здесь прошлое неразрывно переплетается с настоящим и все пропитано разочарованием и горечью утрат.
– Я вышла замуж за тебя только потому, что нужно было спасать Толю, – сказала она, обращаясь к бывшему мужу, но не глядя в его сторону. – Теперь думаю, зачем я это сделала? Женщина, приносящая себя в жертву мужчине, превращается в вечную шлюху. Смешно, правда? Хотя, если быть честной, я вышла замуж за тебя, чтоб насолить этому монаху. Интересно, а в кого превращается женщина, делающая что-то назло?.. Увы, этого я не знаю. Я сейчас вообще ничего не знаю. Знаю только, что разлюбила себя. Но это случилось не сейчас, а давно. Тогда, когда Бернард бросил меня в первый раз и я вернулась к Франческо. Я сделала это не из-за нашей дочери Лиз и не из сострадания к Франческо, а из жалости к себе. И еще потому, что знала: если я вернусь к Бернарду, он меня снова бросит. Но я все равно потом вернулась к нему… И он меня бросил. Я слабая, понимаете? А вы все думаете, будто я очень сильная. И вы любите меня за то, что считаете сильной. Меня любить не надо. Меня надо презирать. Слышишь, Толя, я хочу, чтобы ты меня презирал. Зачем ты носишься со мной? Зачем завесил все стены в доме моими портретами? Ведь я уже не та принцесса из «Солнечной долины», ты все никак не поймешь этого. А еще я так боюсь твоих идолов. Они злые и хитрые. Они все время подсматривают за мной, даже когда я сплю. Скажи, ты правда зарядил их своей энергией? Если да, то почему у тебя такая недобрая энергия?..
– Ну, уморила. Это ты в своей Америке набралась? Идолы, заряды, энергия… Ванька, похоже, тоже на этом свихнулся. Когда мы провожали его в армию, он, помню, крепко набухался и все молол про то, что здесь якобы была какая-то ведьма, а он утопил ее по твоему, Толька, приказу. Еще он трепался, что вроде бы твоя жена считает, будто он наглотался каких-то там таблеток, стал невменяемым и в том состоянии сделал той бабе, гм, капут. Бредятина настоящая.
– Нет, – подал голос Толя. – Никакая не бредятина. Все так и было! Я очень хотел, чтобы Инги не стало. Я часто думал об этом и представлял ее на дне реки. Ноги опутаны цепью, чугунные якоря не позволяют всплыть на поверхность, волосы шевелятся в струях течения. – Лицо Толи сделалось прекрасным. Это было лицо вдохновенно творящего художника. – Я не смог бы сделать это сам: стоило мне к ней прикоснуться, и я терял рассудок. Но если бы она не сгинула, я бы стал врагом собственному… племяннику. Или бы он меня в конце концов убил.
– Ваня? Убил бы? Смеешься, что ли? Он тараканов и тех жалел – расплодил в квартире на Мосфильмовской целый питомник. И потом он на девок чихать хотел. Я даже стал было подумывать, а не педик ли он – последнее время вокруг него все этот красавчик Игорек увивался. Неразлучная была парочка. Но потом я понял… – Дима вздохнул и опрокинул в себя рюмку. – В общем, у них один секрет был, который они не выдали до самой последней минуты… Педикам в Афгане нечего делать.
– Дима, а ты знаешь… – Маша набрала в легкие воздуха и продолжила звенящим голосом, – он тебе вовсе не сын. По крови, я хочу сказать. Я понимаю, жестоко говорить тебе об этом сейчас, но я все равно должна это сделать. Я хочу, чтобы ты презирал меня еще больше, всей душой.
– Милая моя цыпочка, ты меня либо за дурака держишь, либо сама в дурочку играешь. – Дима смотрел на нее рачьими глазами, взглядом человека, чьи мозги проспиртовались настолько, что отказывались выполнять свои прямые обязанности. – Я усек это еще тогда, когда ты с пузом ползала и меня от себя отпихивала. Да ты бы видела его взрослым – вылитый братик. Но дедуня с бабуней по своей старческой глупости так ничего и не просекли. И слава Богу. Парень-то вполне нормальным получился. Я вряд ли бы сумел такого произвести. Как говорится, штучная работа и по спецзаказу. Одна моя подружка-поблядушка мечтала родить от меня ребеночка, но я сказал ей: и в мыслях не держи. Ногой на живот наступлю или бутылку в интересное место засуну. Не хватало мне на старости лет позора.
– Ты говоришь, он похож на… Яна? – тихо спросила Маша. – Но ведь это…
– Ну не на этого же деревенского козла? – воскликнул Дима, насмешливо уставившись на Толю. – Козел он и в Плавнях козел, хоть и может, конечно, прикинуться на минутку Аленом Делоном. Ты у меня шустрая бабенка оказалась. А сама все целочкой прикидывалась. У вас, баб, в крови играть в жмурки с нашим братом.
– Я тебя сейчас убью! – рявкнул Толя, медленно поднимаясь. – Ты… ты негодяй. Ты…
– Начинается. – Дима нисколько не испугался. – Что, претендуешь на отцовство? Не советую. Она все равно будет молчать и изображать оскорбленную невинность. Она баба хитрющая, к тому же стукачка. Мне показали одну бумаженцию. Думаешь, почему ей по америкам жить разрешили? Агентесса номер семь. Засветилась – и ее засунули в психушку. Чтоб других не засветила. Мой дед сходу просек, в чем дело. А я, дурак, ему не поверил. Но когда мне показали эту бумаженцию…
– Он врет? – Толя растерянно смотрел на Машу. – Я думал… Я безоговорочно поверил… Я…
Он схватился за голову и рухнул на стул.
– Семейная разборка а-ля поздний Бергман с примесью шпионской интриги. – Дима явно чувствовал себя на коне. – Нормальная семейка. Бывают и похуже.
– Это правда? – опять спросил Толя Машу. Лицо его стало неузнаваемо чужим. – Нет, это неправда. Он врет. Но почему ты молчишь?
– Сейчас она тебе скажет. Такое скажет, что ты… Хотя мне-то какое дело? Что скажет, то и скажет. Сами разберетесь.
Дима наполнил рюмку и торопливо выпил.
– Правда, – понял он по ее губам, настолько тихо она это произнесла. Ей стоило невероятных усилий смотреть Толе в глаза. – Правда то, что я подписала эту бумагу. Все остальное ложь.
– Они все так говорят, – комментировал Дима, похрустывая огурцом. – Стандартный кагэбэшный ответ. Подписывал, но на ближних не стучал. Не делал. Не состоял. Не поддерживал. Не одобрял. Ну и в том же духе. Твой драгоценный братец, дорогая, продался им с потрохами. Так сказать, действуя согласно своим убеждениям. Не удивлюсь, если он вдруг обнаружится где-нибудь в Брюсселе или Бостоне. Разумеется, под чужой фамилией и, возможно, с другой вывеской. Нынешние эскулапы способны сделать с нашей физиономией такое, что мама родная не признает, а если и признает, все равно на порог не пустит. Это ты зарылся в землю, как крот, и думаешь, что про такое лишь в кино показывают. А тут тебе взяли и подсунули живого прототипа. Как пишут нынче в газетах: человек-легенда, бывший диссидент-шестидесятник, правозащитник, и прочее, и прочее. Все они стукачи и карьеристы. Нас взрастил таковыми этот чертов социализм. Слава КПСС! Ура!!!
– Но я не жалею, что сделала это. И не собираюсь перед вами оправдываться, – сказал Маша. – Я знала, что они меня обманывают и хотят посадить на крючок. Я все равно не могла не подписать. А вдруг ему на самом деле это нужно? Ради него я подпишу тысячи бумажек. Пускай он будет чьим угодно агентом, для меня он останется Яном. Самым любимым человеком.
– Выпьем за твою святую принципиальность! – Дима нарочито галантно поцеловал Машину руку. – Мата Хари в советском переплете. Все встают и поют «Интернационал». – Дима, пошатываясь, встал, плеснув водкой в свою тарелку. – Пьем молча и торжественно. Да здравствует ленинская партия и ее центральный комитет. Не надо аплодисментов. Я еще не кончил.
Он опрокинул в рот рюмку и сел.
– Если хочешь, я сегодня же уеду, – сказала Маша, обращаясь к Толе. – Правда, у меня нет паспорта.
– No problems,[62] как выражаются твои бывшие сограждане и коллеги. – Дима полез во внутренний карман пиджака и протянул Маше новенький паспорт в прозрачной обложке. – Настоящий. Выданный, как говорится, по месту жительства. Тебе лишь осталось расписаться под собственной вывеской. Между прочим, ты на ней недурна собой. Очень даже недурна. Мастера у них первоклассные, не то что в нашей забегаловке на Арбате. Меня тут, было дело, родной гаишник не признал. Ты, говорит, с чужими правами разъезжаешь. Мы сейчас тебя за жопу и в конверт, а там пусть начальство разбирается. – Дима рыгнул. – Пардон… Только не надо благодарностей – я всего лишь обыкновенный связной. Положим, не совсем обыкновенный… Нет, подумать только: алкашу и рогоносцу доверили такое важное поручение, какое доверяют лишь людям с идеальной анкетой и длинным послужным списком предательств и прочих заслуг перед партией и правительством. Может, мне положено встать на колени ввиду особой значимости момента? – Дима вдруг достал из того же самого кармана сложенный вчетверо листок и, неуклюже опустившись на колени перед Машиным стулом, протянул ей на вытянутых ладонях. – Аж мурашки по спине. Сам от себя не ожидал. – Он снова рыгнул.
«Моя единственная сестра, мне тебя очень не хватает, – читала Маша прыгающие перед глазами строчки. – Пожалуйста, береги себя. Очень прошу тебя – береги себя. Мне хочется быть сейчас рядом с тобой, но вместо этого я буду думать о тебе день и ночь. Нежно тебя целую и люблю. Твой старший брат Ян».
– Это… Выходит, это неправда, что его взяли в плен моджахеды? – Маша вцепилась обеими руками в локоть Димы. – Значит, он у… нас?
– А где же еще? У вас, у вас, в конторе имени козлобородого Феликса, – сказал Дима, почему-то пряча глаза.
– Ты его видел? Скажи, ты видел его? – требовала Маша.
– Нет, конечно. Я слишком мелкая сошка, чтоб мне показывали таких важных особ. Небось уже до полковника дослужился. А там, глядишь, и генерала схлопочет.
– Я в это не верю. Что-то здесь не так, не так… – бормотала Маша. – А почему ты сказал Сью, будто его взяли в плен моджахеды? Ты соврал?
– Только передал то, что соврали мне. Связной, он и в Африке связной, никуда не денешься. – Дима вдруг сник. Похоже, его начало развозить. – Потом они вызвали меня к себе, дали это письмо и велели отвезти тебе вместе с паспортом. Ей-Богу, не ведаю зачем. Похоже, хотят, чтоб ты еще глубже заглотнула какой-то там крючок. Словом, тайны мадридского двора. Но я совсем не удивлюсь, если для тебя это никакая не тайна, а всего лишь условный знак к действию. Недаром они выправили тебе советский паспорт. «Эх, недаром, эх, недаром, отдаются наши девки гусарам», – пропел Дима. – Все, я свое задание выполнил и отключаюсь. Этот диванчик меня вполне устроит, если не возражаете. Всем пламенный привет.
Он улегся прямо в ботинках на узкий диванчик, пробормотал что-то и засопел.
Маша держала в руках письмо. Она пыталась представить себе Яна, когда он писал его, но вместо него видела молодого красивого мужчину в военной форме, писавшего что-то, положив на колени планшет. У мужчины было знакомое лицо. Это был ее отец. Такой, каким она помнила его памятью раннего детства. Тот самый человек, перед которым ее мать танцевала танец любви…
– Не верю. Ни тебе, ни тем более ему. – Толя обнял ее за плечи.
Она резко вывернулась, вскочила и крикнула с порога:
– Не прикасайся, слышишь? Не смей никогда-никогда ко мне прикасаться! Господи, как же я всех ненавижу! Ненавижу!! Особенно себя!!!
Она выскочила во двор и бросилась к реке. Деревянные идолы смеялись ей вслед своими беззубыми ртами. Ей казалось, они тянутся невидимыми руками, пытаясь схватить за сарафан, за ногу, чтоб замедлить, остановить ее бег.
– Нет! – крикнула она и замерла на мгновение над обрывом. – Нет, нет, – шептала она, быстро спускаясь по лестнице к реке. – Я вам не достанусь. Хватит. Не достанусь. Я раздавала себя всем. Но теперь я буду жадной. Очень жадной. Все должно достаться ему. Только ему…
Лодку несло течением в сторону большой песчаной косы, намытой на противоположном берегу реки земснарядом.
Девственная чистота речного песка слепила глаза.
РАСПЛАТА
Луиза Маклерой собралась за полчаса. Уже в дорожном костюме она позвонила по внутреннему телефону Стефани и сказала, что вынуждена немедленно вылететь в Вашингтон к Теренсу, который приглашен на обед в Белый Дом, поскольку строгий этикет требует присутствия супруги. Стефани пожелала подруге счастливого пути. У нее был усталый и безразличный голос.
Такси, в котором Луиза ехала в аэропорт, обогнал на бешеной скорости мотоциклист. Немолодой водитель сказал:
– Кандидат в покойники. И почему федеральные власти не обязывают торговцев этой железной смертью требовать с покупателей водительские права? Пацаны садятся в седло с такой уверенностью, словно это обыкновенный велосипед. Они и управляют им, как велосипедом. Мне рассказывал приятель – он давно работает в полиции, – что в одном только штате Луизиана за сутки разбивается в лепешку чуть ли не дюжина этих глупых детей. В живых редко кто остается.
Луиза не проронила ни слова. Она не знала, что случилось с Томми и Лиз, она знала лишь: их ищут со вчерашнего дня и пока безрезультатно. «Свершилось, свершилось», – звучало в ее голове. Она покидала поле битвы в надежде избежать возмездия. Луиза Маклерой трепетала при одной мысли о том, что может сделать с ней Сью Тэлбот, если догадается, кто…
– Но никто ни о чем не догадается, – произнесла она вслух и подумала: какое счастье, что ей пришло в голову расплатиться в магазине наличными деньгами.
– Вы что-то сказали, мэм? – водитель слегка повернул к ней голову. – Извините, не расслышал.
– Власти вашего штата отлично следят за состоянием дорог, – сказала Луиза. – И вообще мне здесь очень понравилось. Меня зовут Луиза Анна. Почти как ваш штат. Интересно, правда?
Разумеется она летела не в Вашингтон, а… Впрочем, она еще сама не решила – куда. Ближайший самолет – в Гонолулу – вылетал через полчаса. Гавайи были самым близким к востоку штатом, а потому, думала Луиза, в случае чего оттуда можно махнуть… В Москву, например. А почему бы и нет? В Москве у нее живет единственная дочь. Москва – это так далеко и… К тому же русские боготворят американцев.
Когда самолет поднялся в воздух, Луиза облегченно вздохнула. Нью-Орлеан… Ха, не приснилось ли ей все это?.. Она откинулась на спинку и закрыла глаза. Зло должно быть наказуемо, думала она. Эта стерва Сьюзен сделал ей уйму зла. Но как бы там ни было, последнее слово все-таки осталось за ней, Луизой.
Она задремала и даже увидела сон. Они с Бернардом Конуэем, красавчиком Берни, как звали его сверстники, ехали вдвоем в машине по прериям. Ветер развевал ее длинные черные волосы и шелковый шарф, мешая видеть дорогу впереди. Но она не смотрела вперед – она смотрела на Берни, на его большие красивые руки, с изящной небрежностью покоившиеся на руле, на мужественный профиль…
Он снял с руля правую руку и, обняв Луизу за плечи, привлек к себе. Они целовались под прикрытием ее тяжелых густых волос, а машина мчалась вперед, вперед… Луиза ничего не боялась – от поцелуя Берни у нее кружилась голова, и она готова была принять смерть, только бы он не выпускал ее из своих объятий… Вдруг она ощутила толчок, и вокруг стало темно. «Мы попали в аварию, – мелькнуло в мозгу. – Но почему мне совсем не больно?.. А где же Берни?..»
– Берни! – позвала она вслух и открыла глаза. Возле ее кресла стояла стюардесса и мужчина в форме пилота.
– Миссис Маклерой, – обратился к ней мужчина, – меня зовут Стюарт Макловски. Я командир этого лайнера. Прошу прощения, но мы только что приняли для вас сообщение. Очень срочное. Поверьте, миссис Маклерой, весь экипаж нашего лайнера выражает вам самые искренние и глубокие соболезнования.
Он протянул ей листок бумаги.
Луиза взяла его машинально, не ощущая ни страха, ни даже интереса, – она еще не успела стряхнуть с себя впечатления сна – и стала читать с конца, поднимаясь по строчкам все выше и выше, а потому смысл сообщения дошел до нее не сразу.
«Стефани.
Выражаю свое сочувствие. Мне очень жаль, но ты должна знать правду.
Врачи считают его состояние безнадежным.
Два часа назад Мейсон попал в автокатастрофу.
Лу, едва ты уехала, как позвонил из Атланты Теренс.
Миссис Луизе Анне Маклерой».
– Мейсон? А кто такой этот Мейсон? – Луиза переводила полный недоумения взгляд с командира корабля на стюардессу. – Я не знаю никакого Мейсона. Я знаю Бернарда, Берни…
Вдруг она почувствовала, что ей нечем дышать, широко раскрыла рот и вцепилась пальцами в подлокотники кресла.
– Миссис Маклерой, прошу вас, выпейте вот это. – Стюардесса протягивала ей пластмассовый стаканчик с какой-то жидкостью. – В Гонолулу мы посадим вас на самолет нашей компании, совершающий беспосадочный перелет в…
Луиза видела, как шевелятся губы девушки, продолжавшей что-то говорить, но кто-то будто выключил звук. Она выпила содержимое стаканчика, не ощутив вкуса.
– Я приказываю вам лететь в Москву! – сказала она, обращаясь к командиру лайнера. – У меня в сумке граната. Вот.
Она быстро расстегнула молнию и, выхватив пузырек с духами, изо всех сил швырнула его на пол.
– Хочу в Москву, – говорила она склонившемуся над ней пожилому мужчине в твидовом пиджаке, державшему ее за руки. – Я взорвала этот чертов самолет, сейчас он свалится в океан. Но я не хочу в океан, я хочу в Москву. Прошу вас, передайте это командиру. Он мне напомнил Берни Конуэя. Ах, вы не знаете, кто такой Берни Конуэй? Это моя первая любовь… Я так хочу в Москву, к Берни…
Луиза впала в беспамятство.
ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ ОБМАН
– Я знала, что мы встретимся, – едва слышно прошептала Лиззи и попыталась дотянуться рукой до юноши. Но ей это не удалось: окружавшее пространство было наполнено чем-то плотным и вязким. Она слабо улыбнулась. – Я… это, оказывается, так трудно сделать. Но главное, мы снова вместе. – Лицо Джимми расплывалось в нестерпимо ярком сиянии. Лиззи почувствовала, что по ее щекам текут слезы. – Странно. Я ощущаю себя. Я думала здесь – только душа. А ты… ты тоже чувствуешь свое тело?
Она увидела, что Джимми кивнул. Она закрыла глаза, пытаясь справиться с душившими ее слезами. Она не имеет права плакать даже от радости – ведь она прошла испытание серфингом.
– Я люблю тебя, – шептала она. – Люблю. Я не смогла жить без тебя там. Прости… Я потеряла нашего малыша. Но теперь это не имеет значения. Ведь мы снова вместе. И больше не расстанемся. Никогда. Почему ты молчишь, Джимми? – Она открыла глаза и увидела сквозь слезы склоненное над ней лицо-сияние возлюбленного. – Нет, – произнесла она одними губами. – Ты поцелуешь меня потом… Потом.
Стало холодно и сумрачно. Над ней беззвучно метались тени, изредка мягко касаясь её. Она видела свое обнаженное тело, носившееся в пространстве. Оно было темным и лишь изредка пульсировало сине-бирюзовым, как океан в предвечерний час, светом.
Сознание продолжало работать, задавая все новые и новые вопросы. Но они были несущественными. Теперь, когда с ней Джимми, все остальное не имело значения. Она ответит на эти вопросы потом.
«Томми, – вдруг вспомнила она. Это было важным. – Что с ним случилось?.. Мы ехали вместе на Амару. Нет – летели. Все быстрей и быстрей. И вдруг перелетели какую-то черту, за которой ждал Джимми. Но что случилось с Томми?..»
Она подняла веки и увидела лицо брата. Оно было очень печальным. «Ему здесь плохо, – мелькнуло в голове. – Потому что он один. Но я его не брошу. Джимми… Нет, он не станет ревновать меня к брату».
– Прости! – неожиданно громко сказала Лиззи. Эхо собственного голоса больно ударило по барабанным перепонкам, и она поморщилась. – Я буду с тобой, – произнесла она уже потише. – Нам будет хорошо втроем, потому что Джимми все понимает.
– Лиз, сестренка, – словно издалека услышала она голос брата. – Я должен сказать тебе…
– Я все знаю. И Джимми тоже знает. Он меня простил. Мне жаль, что я потеряла малыша, но зато я здесь… Я пожертвовала малышом, чтобы быть с Джимми. Не плачь – я не могла иначе.
– Это я во всем виноват. Дедушка с бабушкой меня прибьют. Меня все возненавидят – и мистер Хоффман. Со мной никто никогда не будет разговаривать…
Лиззи улыбнулась.
– Они все остались там, понимаешь? Они уже ничего не смогут нам сделать. – Она вздохнула. – Они будут плакать. Они же не знают, как хорошо здесь…
АМЕРИКАНКА ПОКОРЯЕТ РОССИЮ
Синтия блистала нездешней заокеанской красотой. Проведя в ее обществе хотя бы несколько минут, каждый начинал чувствовать свою обыденность, приземленность, а главное – и это особенно угнетающе действовало на психику – дремучую совковость.
Обычно она принимала посетителей лежа на широкой железной кровати с никелированными шишечками и керамическими фигурками херувимчиков. Это была антикварная вещь, приобретенная Мишей в качестве свадебного подарка. (В своей холостой жизни он спал на пружинном матраце без ножек. Теперь его бывшее ложе служило диваном для почетных гостей.)
Двери их однокомнатной квартиры на Малой Грузинской, можно сказать, не закрывались. О том, что здесь поселилась иностранка, сходу пронюхала вся богемная Москва, которая во все времена проявляла повышенный интерес к богеме западной. В данный момент интерес этот переживал настоящий бум – западная культура, идеология и вся остальная атрибутика цивилизованной жизни вышли наконец из подполья и представили перед восхищенным взором нашего интеллектуального соотечественника во всей своей красе.
Синтия лежала на антикварной кровати посреди комнаты, под перекрестными взглядами фотосинтий, взирающих на нее с четырех стен. В жизни она казалась еще загадочней своих фотодвойников, тем более что, случалось, за весь день она не произносила ни слова.
Ее приглашали на премьеры, вернисажи, презентации, демонстрации мод, банкеты по поводу и по случаю и так далее. Ее присутствие на мероприятиях подобного рода было своеобразным знаком качества данного события. Так же как отсутствие означало чуть ли не полный его провал. Коммерческим директором в их семье был Миша – Синтию не интересовала промежуточная инстанция, то есть деньги, тем более что ни о какой политэкономии она понятия не имела. Зато она обожала русскую старину, воплощенную в изделиях из драгметаллов и камней, свое восхитительное тело и, разумеется, меха. Что касается платьев и прочих более интимных предметов женского туалета, то она соглашалась надевать их только в порядке сделки. Молодой супруг быстро просек эту пикантную и вследствие чего очень выгодную особенность своей горячо любимой супруги, благо что от желающих провести несколько часов в постели с американкой не было отбоя. Многообещающий фотограф Миша превратился в еще более многообещающего коммерсанта, чей незаурядный талант смог проявиться лишь благодаря перестройке. Словом, их маленькая семья была обеспеченной, здоровой и дружной.
Как-то в отсутствие мужа в квартиру забрел мужчина, чья физиономия уже мелькала перед Синтией. Не снимая пальто, он направился к старенькому роялю-прямострунке возле окна, ударил обеими руками по серо-желтым клавишам и запел. У него был гнусавый дребезжащий голос, однако Синтия уловила в нем темперамент и страсть истинного самца, с которыми даже в России было не густо. Какое-то время она лежала в постели, слушая его и пытаясь разобраться в собственных ощущениях. (Она провела накануне довольно бурную ночь с каким-то художником-авангардистом и еще не успела как следует восстановить силы.) Организм явно потянуло на секс. Синтия выскользнула из постели и направилась в ванную – последнее время перед занятиями сексом она расчесывала щеткой волосы и натирала тело маслом авокадо. Через десять минут она вышла из ванной с серьезным лицом и в полной сексуальной готовности. И столкнулась в коридоре со своим гостем. В его руке тускло блеснуло дуло револьвера.
– Одевайся. Быстро и по-тихому, – скомандовал он по-английски.
– Я хочу заняться сексом. – Синтия попыталась пройти в комнату.
– Думаешь, я этого не хочу? – Мужчина сделал резкий выпад левой рукой, и Синтия ощутила у себя между ног жесткое и властное прикосновение его пальцев. – Я должен выполнить приказ, поняла?
– Нет, – сказала Синтия. – Сначала займемся сексом. Я не оденусь, пока ты меня не трахнешь.
Последнее слово она произнесла по-русски и совсем без акцента – оно было единственным в ее русскоязычном лексиконе. Она уже стояла возле кровати, когда мужчина крепко схватил ее за талию и одновременно засунул ей в вагину свой неимоверно большой и упругий член.
– Если пикнешь – выверну наизнанку всю начинку, – говорил он запыхавшимся голосом. – Черт, у тебя на самом деле не п… а настоящий капкан…
Через пять минут, когда все было закончено к общему удовольствию и Синтия надела на голое тело серебряные эластичные лосины и Мишину майку с американским флагом на груди, мужчина, тесня ее к двери и снимая с вешалки песцовую шубу, предупредил:
– В машине ко мне не приставай – этот Гера стукач.
– Но мне мало, – возразила Синтия, просовывая руки в рукава шубы. – Мне плохо, когда мало.
Мужчина издал стон и слегка подтолкнул ее коленкой под зад. Когда они спускались в лифте, он вдруг навалился на Синтию всем телом, прижал к стене и ущипнул за ягодицу.
– Больше нельзя, – сказал он, когда лифт остановился на первом этаже. – Я должен выполнить приказ.
Он распахнул заднюю дверцу серой «волги». Она села, за ней – он, и она оказалась зажатой между двумя мужчинами.
Это было восхитительное ощущение, Синтия наслаждалась им, пока они ехали по городу. Когда машина выехала за кольцевую дорогу, мужчины обменялись несколькими фразами. Синтия не поняла ни слова, но почувствовала, что разговор идет о ней. Машина остановилась, съехав на ведущий в березовый лес проселок, и Синтия поняла, что наступил звездный час ее сексуальной жизни.
…Из лесу они возвращались гуськом, и она все время оглядывалась на мужчину, замыкавшего их маленькую колонну – он был ее последним партнером и доставил самые незабываемые ощущения.
– Русские мужчины – это хорошо, – сказала она, преисполненная благодарности и восхищения. – Как замечательно, что Горбачев придумал перестройку.
– Заткнись, сука, – оборвал ее на едва понятном английском тот, кому Синтия адресовала эти слова. – Этому выродку скоро будет хана, и мы запульнем к вам десятка два наших игрушек. Рано радуетесь, буржуи недобитые…
ПОБЕГ
Нонна оставляла еду в летней кухне, хотя Маша ее об этом не просила. Но от того, что каждый вечер на кухне ее ждала вкусная пища, Маша чувствовала себя в странном сговоре с этой женщиной. Словно Нонна не просто поощряла ее побег, а давала понять, что готова встать на защиту ее свободы.
В кухне было душно, но после дня, проведенного вне дома, на ветру и в вечерней свежести реки Маша с удовольствием отдавалась уюту человеческого жилья, чувствуя себя странницей, обретшей временный кров и стол. Она сидела на табуретке возле стола и смотрела через небольшое, завешенное редким тюлем окошко на ковш Большой Медведицы, потягивая из кружки топленое молоко. Ей казалось, звезды запутались в неводе, и какой-то удачливый рыбак вытащил бесценный улов.
…И вдруг поняла, что этот удачливый рыбак – она.
План созрел в считанные секунды. Это даже был не план, а фантазия на тему детства. Взрослому человеку порой удается осуществить то, о чем безнадежно мечтает ребенок. Уж так устроен мир. Маша осторожно вздохнула, боясь спугнуть свою безумную надежду, и стала ждать, когда дом погрузится в темноту.
Дима уехал на следующий день после ее освобождения – она видела из зарослей на противоположном берегу реки, как они с Толей шли на пристань. Дима нелепо жестикулировал и несколько раз споткнулся на ровном месте. Потом она видела, как Толя не спеша возвращался домой, бросая пристальные взгляды в ее сторону. Поначалу от них ей сделалось не по себе, словно Толя пытался нанизать ее на тонкий длинный вертел. Но скоро она поняла, что вырвалась за пределы его власти над ней и отныне ей нечего бояться.
В течение нескольких вечеров она наблюдала за Толей, спрятавшись в густой листве яблони напротив его окна. Он ходил по диагонали из угла в угол комнаты, прикладываясь время от времени к бутылке с вином. Очень скоро его развозило, прямо в одежде он падал на кровать и мгновенно засыпал. Минут через пятнадцать в комнату входила Нонна, раздевала его, накрывала простыней и, перекрестив, удалялась к себе, выключив свет.
События развивались в привычной последовательности и в тот вечер, а потому Маша проникла в дом без особого труда, хотя соприкасавшаяся с крышей ветка была довольно тонкой. Маша была легкой, как бесплотный дух, под ее ногами не скрипнула ни одна половица балкона. Ее окно не было заперто. Забыли, решила она, но уже в следующую секунду поняла, что Нонна сделала это умышленно. И мысленно поблагодарила свою сообщницу.
Деньги лежали там, куда их положил Толя, – в ящике тумбочки возле ее кровати. Их было очень много, Маша взяла три пачки. Она подумала с минуту, стоит или нет брать привезенный Димой паспорт, который тоже оказался здесь. Решила взять.
Она шла в кромешной тьме, ориентируясь по плеску речных волн. Тропинка пролегала там же, что и тридцать с лишним лет назад, но то была уже не узкая тропинка, а накатанная дорога. Маша подумала, что эта дорога хранит воспоминание о ее детских босых ногах.
До речного трамвая в областной центр, где тоже проходило ее детство, оставалось двадцать минут, и она успела обменяться несколькими фразами с сонным матросом дебаркадера, принявшего ее за студентку-геолога: поблизости велись раскопки скифского городища. Она не стала его разочаровывать, тем более что сама собиралась заняться в некотором роде раскопками прошлого.
Когда речной трамвай проплывал мимо дома в окружении густых деревьев, Маша мысленно послала ему привет. Она собиралась вернуться. Правда, она уже не была уверена в том, что Ян, выйдя из плена, прежде всего приедет сюда.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
«Не связывай свои сокровенные надежды с каким-либо реальным человеческим существом. Не представляй исполнение своей мечты в поступках либо деяниях, ограниченных земным существованием…»
В голове Яна назойливо прокручивались эти слова буддийского монаха. В данный момент он был готов им поверить – он не ел ни крошки уже пятые сутки, и всем его существом овладевало то самое безразличие ко всему, которое возвещает о переходе материи в иное состояние. Ян сидел на набережной в порту, привалившись к стенке. Он думал, что умеет отличать галлюцинации, вызванные голодом, от событий, происходящих на самом деле, а потому верил в реальность того, что сейчас видел.
Пахло нагретой солнцем хвоей, от этого запаха, настоянного на морской свежести, кружилась голова. Кружилась очень сильно, и он клал ее на колени женщине, которая вела себя, как его мать. Но почему-то она не была его матерью. Голова переставала кружиться, зато очень захотелось спать. Подошла другая женщина, его настоящая мать. Но он не помнил, чтобы она вела себя когда-нибудь, как его мать, хотя и чувствовал ее притяжение, – она представлялась ему Солнцем, вокруг которого хотелось вращаться. Но голове было очень покойно на коленях женщины, называвшей себя его матерью…
Ян поднес ко рту губную гармошку, которую выменял на перочинный ножик у уличного торговца. Она отозвалась нестройным звучанием в ре миноре, от которого исчезла предыдущая картинка, сменившись видением девушки, плескавшейся на речной косе в окружении диких гусей и чаек. Длинное белое одеяние девушки, намокнув, облепило гибкое тело, обозначив все его волнующие впадины и изгибы. Ян выронил гармошку и попытался встать. Ему казалось, что если он не заключит девушку в свои объятья, оба они превратятся в пепел.
Девушка была совсем рядом. Он видел ее упругие темные соски, живот… Еще одно усилие, и Ян, обняв ее за мокрые плечи, упал вместе с ней в спасительно прохладную бездну.
– …Не надо вставать, – услышал он мужской голос. – Вы еще очень слабы. Не бойтесь, вам больше ничего не угрожает. Вы настрадались больше, чем способен вынести человек. Вы принадлежите, наверное, к особой касте. Добро пожаловать на «Сандхья». Я господин Чандар, владелец этого судна. Мы держим курс на Никобарские острова. Райское место. Вы заслужили отдых в Раю… Как вас зовут?
– Ян. Это… мое любимое имя. Но, возможно, меня зовут иначе. Я… я ничего толком про себя не знаю.
– Со временем вы обретете почву под ногами. Но помните: имя, которым тебя нарекают при рождении, предопределяет судьбу человека. Каждый человек должен знать свое настоящее имя. Тот, у кого их много, может не найти единственно верной дороги. Сейчас вы нездоровы. Отдыхайте и набирайтесь сил. У нас с вами еще будет время о многом поговорить.
Господин Чандар вышел из каюты. Это был невысокого роста мужчина с внешностью типичного индоевропейца. На нем был великолепно сшитый светлый костюм. Не только его одежда, а все вокруг свидетельствовало о том, что господину Чандару по душе внешние приметы европейского стиля. Большой современный сухогруз «Сандхья» был прекрасно приспособлен для комфортабельного морского путешествия – на корме располагалось несколько удобных уютных кают. Господин Чандар любил путешествовать. Он был богатым человеком, однако в отличие от многих себе подобных не позволял богатству мешать ему жить так, как хотелось. Возможно, в этом и состояла основная мудрость его древней религии.
Облокотившись о поручни, он засмотрелся в безмятежно синие океанские дали. Судно уверенно приближалось к пункту своего назначения. В ритме его движения господину Чандару слышалась гармония с мирозданием. Господин Чандар привык жить в гармонии с окружающим миром.
Сандхья – так звали дочь господина Чандара, чье имя он дал своему любимому судну, – была одиннадцатилетним подростком. Ее рождение стоило жизни горячо любимой женщине господина Чандара. Со временем он научился не скорбеть об этой потере. Он верил непоколебимо, что в следующем воплощении они с Лолой снова будут вместе.
Сейчас он перебирал в памяти подарки, которые разложит перед Сандхьей. Он смотрел на них глазами девочки и радовался ее радостью. Сандхья любит красивые дорогие вещи, драгоценные камни, мелодичную музыку. Она как магнит притягивает к себе все, радующее ум, душу, взор…
Господин Чандар вдруг вспомнил о человеке, лежавшем в полумраке каюты, и слегка нахмурил брови. Он признался себе, что и этого европейца везет в подарок дочери. Решение, принятое им на пыльной набережной Ормары, вдруг показалось опрометчивым. Но не мог же он оставить человека умирать на раскаленных камнях? В этом европейце, как безошибочно понял господин Чандар, тоже звучала гармония мироздания.
Он вернулся в полутемную каюту через два часа. Его гость, лежавший на спине под простыней, открыл глаза и попытался улыбнуться своему спасителю.
– Нет, – решительно сказал господин Чандар. – Никогда не благодарите меня за то, что я сделал. Я не хочу, чтобы мы оба жили в вечной зависимости друг от друга. Это кратчайший путь к взаимной ненависти. Я должен предупредить вас, что у меня есть дочь, которую я очень люблю. Если вам уготовано судьбой стать возлюбленным Сандхьи, пожалуйста, ни на минуту не забывайте, что одного фальшивого звука достаточно для того, чтобы нарушить навсегда гармонию божественной мелодии.
– Пошли, я покажу тебе садху. Он такой забавный и вовсе не страшный. Тина не велит мне ходить туда, где живет садху. Тина говорит, я еще девочка и мне нельзя видеть голое мужское тело. Но ведь садху не мужчина, а отшельник. Ты знаешь, Манматха, что садху не мужчина?..
Сандхья щебетала, увлекая Яна вдоль живой изгороди из такомы к тому месту, где кем-то был проделан лаз. Ян едва поспевал за девочкой.
Садху – бородатый длинноволосый тощий мужчина с большим от сырых овощей, которыми он только и питался, животом – жил в шалаше возле манговой рощи. Почти все свое время он проводил в молитвах каменному изваянию Шивы. Садху сидел в молитвенной позе – ноги согнуты в коленях, пятки прижаты к ягодицам – и смотрел на посеревшее от ветров и дождей лицо божества.
– Как ты думаешь, он притворяется или на самом деле верит в то, что Шива избрал его своим посредником? – громким шепотом спросила Сандхья, заглядывая Яну в глаза. – Манматха, ты очень мудрый, ты знаешь правду. Я думаю, ему так легче жить. Тина говорит, все садху просто лодыри. Но Тина не верит ни в каких богов. А ты, Манматха, веришь в кого-то?
Она задавала ему вопрос за вопросом, на которые он не всегда мог ответить. Девочка была развита не по годам. Впрочем, кто может знать, каким должен быть ум одиннадцатилетнего подростка?..
– Отвечаю на твой первый вопрос, – сказал Ян, во всем любивший порядок. – Мне кажется, этот садху внушил себе, что Шива избрал его своим посредником в общении с простыми смертными. Самовнушение и есть вера. Что касается моей веры… Да, наверное, я верую, иначе вряд ли бы сумел выжить в том аду. Но верю я не в Христа, не в Аллаха и не в Шиву – мой Бог многолик и в то же время един во всех лицах. Неважно, как его зовут, – важно, чтобы вера в него не вынуждала человека отказываться от дорогого для него и самого сокровенного. Вот почему, наверное, мне так близка ваша религия.
– Мы язычники, – сказала Сандхья. – Мы любим этот мир умом, душой, плотью и всем, чем его можно любить. Садху сам избрал путь отшельничества и умерщвления плоти, его никто не заставлял это делать. Я же точно знаю, что высший смысл жизни познается лишь через любовь мужчины и женщины. Манматха, ты тоже так думаешь? Ян кивнул. Ему стало грустно.
– Не грусти. – Девочка взяла его руку и прижала к своей груди. – У меня сильно бьется сердце, когда я с тобой. Слышишь? Но мне еще рано тебя любить. Я все время приказываю себе не любить тебя, но у меня ничего не получается. С тех пор, как ты появился в нашем доме, я думаю только о тебе. Но это произошло не потому, что пришла пора мне влюбиться. Я хотела бы пожить еще какое-то время беззаботно.
Ян с удивлением и восхищением смотрел на эту девушку-полуребенка с уже развитыми формами, смуглой бархатистой кожей и роскошными темно-каштановыми волосами. Чем-то неуловимо она напоминала ему Машу, хотя Маше было семнадцать, когда они встретились. Впрочем, здесь, в Индии, девушки созревают гораздо раньше.
– Ты думаешь о чем-то таком, что связано со мной, правда? Скажи мне, Манматха, а ты бы смог меня полюбить? Ну, не сейчас, а через год или два? Скажи мне честно – я не обижусь. Я знаю, чаще всего случается так, что искру роняет один, но пожар охватывает обоих. Манматха, ты хочешь, чтобы нас с тобой охватило этим пожаром?
– Я боюсь любви. Я не сумею сделать тебя счастливой. Мне никогда не везло в любви…
– Какой ты наивный, Манматха. – Сандхья уже прыгала на одной ножке вокруг муравьиной кучи. – Тебе и не должно было везти в любви. Если бы тебе повезло, нам сейчас не было бы так хорошо вместе, а я бы вообще ни в кого не влюбилась. Потому что я считаю, энергию любви нельзя тратить на тех, кто ее недостоин, и если не встретишь достойного, ее нужно направлять на другое занятие – наукой, например. Год назад я хотела стать танцовщицей, но очень скоро поняла, что это занятие не для меня. Танцовщицы зависят от своего тела, понимаешь? Они выражают свою суть с его помощью. Тело становится для них важнее всего, даже разума. Я не хочу, чтобы так было, хоть и очень люблю свое тело.
Она начала танцевать. Руки ее заговорили в плавном движении. Ян глядел на нее как завороженный – Сандхья была одной из причин, возможно, основной, его любви к этой стране.
– Нравится мой танец?
– Да. И ты мне нравишься. Мне кажется порой, что я только сейчас начинаю жить.
– Расскажи мне о той девушке, которую ты любишь, – попросила Сандхья, когда они уже подходили к дому. В воздухе был разлит щемящий аромат жасмина.
– Я рассказывал тебе о ней.
– Так мало… – Сандхья вздохнула. – Ну, пожалуйста, расскажи еще что-нибудь. Тебе ведь хочется рассказать мне о ней, потому что ты знаешь, я никогда не пожелаю этой девушке зла. Раз ты любишь ее, она для меня все равно что Рати.[63] Пошли в беседку. Я велю Мантхаре принести холодного кокосового молока и орешков. Ты будешь возлежать на диване, а я сяду в твоих ногах и превращусь в статую Ситы, восседающей у ног своего возлюбленного Рамы. Ты же знаешь, как я люблю тебя слушать.
В беседке было почти темно и пахло благовониями. Алтарь бога Камы утопал в красных цветах – Сандхья носила их сюда охапками.
– Здесь Манматха уже воплотился в Каму, – пояснила Сандхья Яну в первый же день их знакомства. – Шива превратил Манматху в кучку пепла за то, что тот осмелился оторвать его от медитаций и заставил воспылать любовью к женщине. Рати, жена Манматхи, собрала пепел и завязала в конец своего сари. Она уговорила Шиву воскресить мужа, и он снова превратился в красавца-юношу, но только для своей жены. Для всех остальных он отныне стал бестелесным.
Сандхья подошла к алтарю и, взяв в руки бронзовую статуэтку Камы, прижала на мгновение к сердцу. Она что-то прошептала на одном из местных языков – помимо английского и французского, Сандхья знала несколько языков своей многоязычной родины.
– Нет, это все игра, – вдруг сказал она, возвращая статуэтку на подставку среди цветов. – Для нас боги как куклы. Играем с ними мы, а не они с нами. И все равно больше всех на свете я люблю Манматху, который в своем следующем воплощении становится Камой. Моим богом Камой.
Она уселась в ногах Яна на маленькой парчовой подушечке, подоткнув под себя расшитое шелком и драгоценными камнями сари. Ян почувствовал, что ему и на самом деле хочется рассказать этой девушке о том, о чем он еще никому не рассказывал.
– Если бы я не считал ее моей сестрой, я бы не раздумывая увел ее от мужа, – начал он. – Увы, я и сейчас не верю в то, что она мне не сестра, – люди из КГБ могли сказать так намеренно, попросту обмануть. Я хочу и не хочу одновременно, чтобы она была мне сестрой. Любовь брата и сестры – это что-то ровное, спокойное, неизменное, в то же время, конечно, теплое и нежное… Я испытывал к ней еще и другие чувства. Дело даже не в зове плоти…
Он замолчал, вспомнив, что перед ним девочка-подросток.
– Почему ты говоришь в прошедшем времени? – удивленно спросила Сандхья. – Ведь любовь – это настоящее и будущее тоже.
– Но если она мне сестра, я не имею права любить ее так, как хочу. Это грех, преступление. Это карается всеми законами.
– Ты хочешь сказать, европейскими законами, христианской религией? Интересно, почему, как ты думаешь? От того, что брат и сестра будут любить друг друга еще и как любовники, окружающим не будет никакого зла.
– Я много думал об этом, – признался Ян. – Очень много. Но так и не сумел найти объяснения. Мне как-то не верится в то, что в результате подобной любви могут родиться неполноценные дети.
– Любовь рождает все самое совершенное, – с уверенностью заявила Сандхья. В этом и есть сила любви. Я верю в магическую силу любви. А ты?
– Меня потрясло сказание о Яме и Ями, – заговорил Ян, пораженный словами девочки. – Они родились от богов, но были смертными. Они полюбили друг друга, и Яма стал первым человеком на Земле, который умер. Может, это случилось потому, что он полюбил свою родную сестру?
– Это очень жестокая легенда, – сказал Сандхья. – Ями долго оплакивала возлюбленного, но когда боги сотворили ночь, она заснула и забыла его. Я ненавижу эту легенду. Любовь невозможно забыть во сне.
Ян вдруг подумал, что ему уже давно не снилась Маша. С тех пор, как он поселился в доме господина Чандара. С тех пор и воспоминания о ней уже не причиняли ему такой острой боли, как раньше.
Сандхья внезапно обернулась и устремила на Яна свои большие ярко блестевшие глаза. Ему казалось, они полны слез.
– Ваша любовь родила меня, – сказала она. – Я теперь в этом уверена.
Они проводили вместе дни напролет. Господин Чандар часто отлучался по делам, но даже когда был дома, старался не перегружать своего секретаря работой. Когда же Ян был занят разборкой бумаг или почты, Сандхья сидела тут же и не спускала с него глаз.
Жил он в похожей на уголок тропического сада комнате – крыша и стены были из прозрачного материала, сквозь заросли деревьев и вьющихся растений ночами пробивался лунный свет. Возле входа был большой пруд с цветущими лотосами. Ян полюбил эти цветы.
В сон он погружался с наслаждением. Это было наслаждение физиологическое – во сне его тело, отдыхая и набираясь сил, раскрывалось как этот удивительный цветок лотоса, предвкушая восторги. Проснувшись поутру, он обычно не помнил, что снилось, хотя ему всегда что-то снилось. Эти сны питали его плоть живительной энергией. Прежде чем выйти к завтраку, он подолгу плавал в бассейне, разглядывая свое тело. Последнее время ему доставляло удовольствие разглядывать собственное тело.
Сандхья купалась в бассейне, когда еще только начинало светать.
– Сандхья в переводе с санскрита означает зыбкий час между заходом солнца и сумерками, между концом ночи и рассветом, – рассказал Яну господин Чандар. – Это время приглушенных голосов, неясных мыслей, тающих или возникающих силуэтов. Сандхья, согласно сказанию, самое необычное творение бога Брахмы, дева, которую он создал, пребывая в особом вдохновении.
После купания Сандхья спала до десяти часов, а господин Чандар и Ян, позавтракав, занимались делами. Едва раздавался ее звонкий голос, господин Чандар говорил Яну:
– Вы свободны, мой друг. Выпейте мангового сока с кокосовыми пирожными. Если бы я мог себе позволить, то, наверное, засыпал и просыпался бы с кокосовыми пирожными во рту. Сандхье, пожалуйста, передайте, что завтра у нее будет книжка по китайской медицине, которую она просила. Хотя, как мне кажется, последнее время ей не до книг.
Господин Чандар оставался в своем большом прохладном кабинете, а Ян шел на террасу. Сандхья уже сидела за столом. Она вскакивала, бросалась ему навстречу и, замерев в полуметре от него, делала приветственный жест руками и вместе с ним возвращалась к столу. Иной раз они проводили на террасе часа два. Сандхья рассказывала Яну о своем детстве – это были очень забавные, полные юмора зарисовки о ее любимых животных и их проделках, морских путешествиях, прогулках в горы. Ян чаще молчал. Но как-то вспомнил мать, отца, кое-что из своего детства и вдруг необычайно остро, до боли в сердце, осознал, что его родителей уже нет в живых.
У них вошло в обычай рассказывать по очереди о себе. Все-все. Без утайки. Ян рассказал как-то о Юстине.
– Она тебе больше, чем мать! – воскликнула Сандхья. – Эта женщина воспитала твою возлюбленную. Такой, какой ты ее хотел видеть. А меня воспитала Тина. Она англичанка, но родилась и выросла в Индии. Знаешь, Манматха, Тина почему-то боится тебя.
Она лукаво сощурила глаза.
Тина была молодая женщина с крупными правильными чертами лица и длинными прямыми волосами темно-орехового цвета, которые иногда заплетала в несколько начинавшихся от самого затылка косичек. Обычно она ходила в джинсах или шортах и просторном балахоне-рубашке, однако могла появиться к обеду и в шелковых шароварах и изящной блузке с вышивкой или кружевами. Чаще всего она молчала, а если говорила, то исключительно по-английски, хотя, как догадался Ян, понимала местный язык. Яну иногда казалось, что Тина испытывает к нему антипатию. Впрочем, никаких видимых доказательств у него не было.
– Манматха, ты меня слышишь? Ты, наверное, догадываешься, почему Тина тебя боится. – Вывел Яна из задумчивости звонкий голос девушки. – Она в тебя влюблена. Но она не доверяет мужчинам. Мне кажется, ее когда-то обманул тот, кого она любила. А вот меня нельзя обмануть. Человек, который захочет меня обмануть, будет думать, что ему это удалось. Но на самом деле обманутым окажется он. Манматха, ты никогда никого не обманывал?
Сандхья наотрез отказалась вернуться в школу, – сообщил как-то Яну господин Чандар. Они были вдвоем в его кабинете – девочка еще спала после своего раннего купания. – Я не намерен применять силу, да силой от нее ничего и не добиться. Но вот Тина… – Господин Чандар сделал вид, будто читает лежавшее перед ним на столе письмо. – Тина грозится покинуть нас, если Сандхья не вернется в школу. – Он поднял на Яна глаза. – Я не могу представить моего дома без Тины.
Господин Чандар встал и вышел на балкон. Тропический ливень неожиданно обрушился на землю безудержным вселенским потопом. Его жемчужно-желтая пелена скрыла от взора океанские дали.
– Я предвидел это, – сказал он, стоя на пороге балкона. – И тем не менее поступил именно так, а не иначе. Я знал, что Тина полюбит вас, и очень этого боялся. Последнее время я привязался к Тине.
Ян пришел в замешательство. Он почти никогда не думал о Тине и порой даже не замечал ее присутствия. Сейчас же, вспомнив кое-что, понял, что господин Чандар прав.
…Однажды он возвращался с террасы, где они засиделись допоздна с Сандхьей, намеренно избрав самый дальний путь. Тропинки сада, похожего на тропический лес, вывели Яна к пруду с лотосами. Он обошел его вокруг – светила полная луна, и пруд казался ожившей картинкой из индийской легенды.
Лестница, ведущая в его комнату, вся была в густой тени от зарослей гвоздичных деревьев и молодых пальм. Едва он поставил ногу на ступеньку, как услышал какой-то шорох. Обернувшись, он успел заметить, как кто-то скрылся в зарослях. Сверкнула преломленная лунным светом грань драгоценного камня. Ян понял: то была женщина и блеснула ее серьга.
На следующий день за обедом он случайно обратил внимание, что Тина сняла свои бриллиантовые серьги. Никогда раньше он не видел ее без серег. Они были ее единственным украшением… Ян встретился с ней взглядом. Она не отвела своих глаз.
Вы ни в чем не виноваты, – продолжал господин Чандар. – Я вам очень благодарен за Сандхью… – Господин Чандар вернулся в кабинет и подошел к Яну. – Вы помните, я обещал выяснить, как вас зовут на самом деле? Вас на самом деле зовут не Ян. Только не спрашивайте, каким образом я это узнал. Ваше настоящее имя мне пока неизвестно. Надеюсь, со временем мы его узнаем, и тогда многое прояснится. Вы ведь хотите узнать, каким именем вас нарекли при рождении?
– Да – ответил Ян, чувствуя странное смятение. – Но пока я его не знаю, я… буду, наверное, чувствовать себя Яном. Я уже привык к этому имени.
Господин Чандар помолчал, потом улыбнулся Яну.
– Думаю, мне придется пойти на небольшой обман, чтобы удержать Тину в моем доме. Я отправлю Сандхью в свое поместье на Большой Никобар, а Тине мы скажем, что она уехала в Калькутту. Вас же я пошлю по делам… предположим, в Южную Африку или Америку. Вы присоединитесь к Сандхье через неделю. Выдержите неделю друг без друга?
У Яна вспыхнули щеки.
– Но Тина очень умна, к тому же, как всякая влюбленная женщина, хитра и подозрительна. А Сандхья не захочет притворяться. Поговорите с ней. Я больше не имею на нее влияния. – Господин Чандар вздохнул. – Да помогут вам наши добрые боги.
Дни без Сандхьи тянулись нескончаемо долго. Ян то и дело ловил себя на том, что делает все механически: пишет письма под диктовку господина Чандара, отвечает на телефонные звонки… С отъездом Сандхьи, казалось, умер сад, не распускались лотосы на пруду.
Однажды вернувшись к себе в комнату после ужина наедине с господином Чандаром, Ян, не зажигая света, залез под сетку-полог своей кровати и натянул до самого подбородка простыню.
«Еще два дня, – думал он. – Два дня и три ночи…»
Он не спал, думая о Сандхье, их встрече, представляя их жизнь в поместье. Сандхья пообещала отцу, что будет заниматься с учителями по программе колледжа, она решила изучать тибетскую медицину. Вечера, думал сейчас Ян, будут всецело принадлежать им, только им. Господин Чандар дал им полную свободу. Это такая ответственность, когда тебе дают полную, ничем не ограниченную свободу…
Вдруг он услышал, как по лестнице кто-то поднимается, стараясь ступать как можно тише. Откинулся дверной полог, и в полосе лунного света появилась чья-то фигура.
Это была Тина.
Она приблизилась к его кровати и опустилась на колени, потом села на пятки.
– Ты не спишь. Ты знаешь, что я здесь, – заговорила она. – Я пришла, чтоб отдать тебе мое тело. Ты мужчина, и тебе необходимо женское тело. Мужское тело чахнет без женского – ведь оно питается его соками. Мне трудно было решиться, но я пришла. Пусти меня под свой полог. Я не верю, что тебе не нужна женщина. Сандхья далеко, Сандхья ничего не узнает. Когда Сандхья подрастет и станет твоей женой, я сама не позволю тебе заниматься со мной любовью. Я люблю Сандхью как родную дочь. Я не принесу ей зла. Я решила стать твоей наложницей, иначе вы с Сандхьей займетесь взрослой любовью. А она еще ребенок. Пожалей ее, Манматха, займись любовью со мной…
Ян сжался в комок, не в силах вымолвить ни слова. Последнее время он часто испытывал желание. Общение с Сандхьей раскрепостило некогда им самим закрепощенную плоть. Но Сандхья на самом деле была ребенком.
– Это не измена, – шептала Тина. – Многие индийские мужья имеют наложниц, и жены знают об этом. Существует даже поверие, что если у мужа есть наложница, его жена проживет долго и в добром здравии. Я хочу Сандхье добра. И тебе, Манматха, тоже.
Тина поднялась с пяток и, встав на колени, положила голову на край его подушки. Теперь их разделяла лишь тонкая сетка от москитов. Ян ощущал пьянящий запах женского тела.
Ее руки уже поднимали полог.
– Не сопротивляйся, – шептали склоненные над ним губы. – Мое лоно оросит тебя влагой. Твое тело напоминает бесплодную пустыню с потрескавшейся от засухи землей…
Он вдруг очнулся от оцепенения, оттолкнул от себя женщину и вскочил с постели. Тина лежала, уткнувшись лицом в подушку и тихо плакала.
– Ты ответишь мне за это! – вдруг донесся до него ее злобный шепот. – Вы все ответите! Все мужчины – жалкие трусы!..
Ян ни словом не обмолвился господину Чандару о ночном происшествии. Однако тот, вглядевшись за обедом в его бледное поникшее лицо сказал:
– На вас, мистер Ковальски, очень плохо действуют дожди. Не подхватили бы лихорадку. – Он бросил быстрый взгляд на сидевшую напротив Тину. – Я думаю, в Иоганнесбурге сейчас ясно и сухо. Тем более там есть кое-какие дела. Мистер Ковальски, даю вам на сборы полтора часа. До Порта Блэр вас доставит вертолет. Если не возражаете, я составлю вам компанию в этом перелете. – Он добавил, обращаясь уже к Тине: – Вернусь завтра после полудня. Если позвонит из Калькутты Сандхья, скажи ей, что мистер Ковальски обязательно напишет ей из Иоганнесбурга письмо.
– Я хочу, чтобы было землетрясение, – говорила Сандхья Яну. – Я уже пережила землетрясение, когда была маленькая. Взрослые так перепугались! Слуги попрятались под деревьями и в постройках. А я стояла на лужайке перед домом. Меня качало, как на волнах. Вдруг я увидела, что ко мне подбирается трещина, и стала от нее убегать. Она меня так и не догнала. Это была глубокая трещина. Я заглянула в нее потом и не увидела дна. Манматха, а ты боишься землетрясения?
– Нет, наверное.
Ян невольно вспомнил буддийских монахов, сидящих в созерцательных позах на склоне качающейся горы. С вершины сыпались камни, но за несколько метров до сидящих монахов они словно по волшебству меняли направление… Землетрясение закончилось, и монахи отправились на поле собирать камни, чтобы потом сложить изгородь.
– Почему люди боятся смерти? Как ты думаешь? – спросила Сандхья и замерла на краю нависшей над заливом скалы. – Думаю, они не верят в вечное существование души. Им кажется, оно ограничено этим коротким отрезком времени, называемом жизнью. Но ведь никакому богу не под силу создавать каждое мгновение новую душу, а потом шаг за шагом вести ее по жизни. Весь космос населен душами. Моя душа тоже была там. – Она повернула к Яну внезапно погрустневшее лицо. – А ты знаешь, после маминой смерти отец сжег все ее фотографии и портреты и пепел развеял вместе с ее прахом. Это мама ему так велела. Она сказала, я не хочу, чтобы ты представлял меня такой, какой я была. Лучше представляй такой, какой я буду в следующем воплощении. Вот я и не знаю, какой была моя мама. – Девушка вздохнула. – Тина говорила – очень красивой. Ты, думаю, догадался, что Тина – жена отца…
Они жили на этом острове уже почти полгода. Господин Чандар время от времени навещал их, но, как правило, больше, чем на два дня, не оставался. Сандхья изо всех сил старалась проявлять усердие в учебе, но ей это не всегда удавалось. Ян изучал медицину под руководством жившего неподалеку в горной хижине старца, лечившего местных жителей с помощью растений, специальной диеты и упражнений. Ян любил приходить к нему, но и там его постоянно тянуло домой, к Сандхье.
Время летело незаметно.
Однажды они отправились на прогулку в лес на Айравате, ручном слоне, родившемся в один день с Сандхьей, прихватив с собой корзинку с едой, подушки, мягкие подстилки. Дорога пролегала мимо селения коренных никобарцев. Их хижины на деревянных сваях напоминали большие пчелиные ульи.
С востока медленно наползала туча, хотя с утра стрелка барометра указывала на ясную погоду. Айравата то и дело задирал хобот и весело трубил. Сандхья оживленно щебетала, прижимаясь щекой к плечу Яна.
– Давай искупаемся в бухте, – предложила она. – Смотри, океан спокойный. Айравата, тебе хочется искупаться в океане?
Слон наклонил голову, словно кивнул, и ускорил шаг. Они свернули на тропинку, проложенную среди скал и спускавшуюся в окруженную со всех сторон большими валунами вулканического происхождения бухту. У их ног томно вздыхал Индийский океан. Его воды были таинственно синими и бездонными.
Сандхья в мгновение ока оказалась в воде. Тонкое белое сари, намокнув, облепило ее тело.
– Догоняй! – крикнула она и поплыла, высоко выбрасывая сильные загорелые руки. Ему вдруг показалось, будто Сандхья улетает от него.
– Погоди!
Быстро стянув одежду, Ян бросился в воду.
– Не догонишь! – звонко откликнулась девушка и внезапно исчезла под водой.
Ян удивился. Он знал, Сандхья не любит нырять. Он продолжал плыть, не спуская глаз с того места, где только что она была. Его охватила тревога. Он нырнул с открытыми глазами. Под водой было темно – солнце в одно мгновение накрыла туча.
Ян вынырнул и огляделся. Девушки нигде не было.
– Сандхья! – во всю мощь своих легких закричал Ян. – Сандхья!!!
Океан был величественно спокоен. В нем отражалась зловещая туча, и Яну почудилось, будто небо обрушилось в воду.
Ян давно миновал то место, где всего несколько минут назад видел голову девушки. Он то и дело нырял, пытаясь просверлить взглядом густо-синюю толщу воды. Он задыхался и уже с трудом держался на поверхности. Когда он нырнул в последний раз, ему показалось, что где-то поблизости взревел мотор. А может, то был раскат грома. Окончательно выбившись из сил, Ян лег на спину, с трудом переводя дыхание. Он заметил вдалеке белую яхту. Она была там давно, еще когда они с Сандхьей ехали верхней дорогой.
«Я не хочу жить, – думал Ян, медленно погружаясь в воду. – Сандхья, где ты?..»
Его почти бездыханного вытащили из воды местные рыбаки. Кто-то догадался сходить за старцем, который обучал Яна тайнам тибетской медицины. Придя в себя, он рассказал, как исчезла Сандхья. Прилетел господин Чандар. Он был убит горем. – Местные люди утверждают, акулы не заплывают в эту бухту, – сказал он Яну. – Утонуть Сандхья не могла – она отлично плавает. Я думаю, девочка жива. Боюсь, она попала в чьи-то руки. Мир кишит недобрыми людьми, которые только тем и занимаются, что творят зло. Я вызвал частного детектива из Калькутты. Это мой большой друг, я ему очень доверяю.
…Мистер Сингх, детектив из Калькутты, задал Яну несколько вопросов и попросил как можно подробней описать белую яхту, маячившую вдали. У Яна было хорошее зрение, к тому же он когда-то был мореплавателем. Он старался не упустить ни одной детали. Мистер Сингх записывал его показания на диктофон.
– До нее было с полмили, – морской мили, разумеется, – рассказывал Ян. – Но я не заметил на ней каких-либо признаков жизни. Яхта, я уверен, стояла на месте.
– В этих местах очень сильное северо-западное течение, и ее бы обязательно отнесло к берегу, – вмешался в разговор господин Чандар. – Либо она стояла на якоре…
– Это исключено. Там очень глубокая впадина, – возразил Ян. – Я изучил рельеф морского дна вокруг острова.
– Но если бы работал дизель, вы бы это непременно услышали, – заметил мистер Сингх. – Ведь вы, как я понял, долго плыли под водой, а она является отличным проводником звука.
– Мне показалось один раз, будто я услышал отдаленный шум дизеля. Но, возможно, это был гром.
– Рыбаки утверждают, что эта яхта появилась на горизонте два дня назад, потом куда-то исчезла, – сказал мистер Сингх. – Еще они говорят, что прогулочные яхты в эту бухту не заходят, хотя их часто видят издалека. Один из рыбаков видел Сандхью за секунду перед тем, как ее голова исчезла под водой. Он поспешил на своей лодке к тому месту, но мистер Ковальски оказался там значительно раньше. Рыбак на всякий случай бросил сети. Вот что в них попалось.
Это был большой красный георгин, украшавший голову девушки. Ян помнил, цветок был на ее голове и в тот момент, когда она исчезла под водой. Он знал, что георгин был прочно приколот к волосам и сам по себе бы не выпал. Скорее всего его сорвали…
Он взял цветок в руки.
… – Водолазы ничего подозрительного не обнаружили, – донесся голос мистера Сингха. – Я попросил их обследовать дно еще раз.
– Она жива, – вдруг сказал Ян. – Тина… – Он повернулся к господину Чандару. – Вы давно видели Тину?
НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ СУДЬБЫ
– Вы говорите о женщине, которая взяла мальчика Юстины Ковальски? Ее звали Жанна. Жанна Милосердова. Она работала в нашей больнице медсестрой. Она не погибла. Кажется, за ней приехала мать и увезла на свой хутор. Правда, все это случилось давно и я могу что-то забыть. Думаю, вам стоит поговорить с моей сестрой – она работала в той же больнице. Когда Юстину Ковальски угнали в Германию, ее маленький сын какое-то время жил в больнице. Очень славный мальчик. Мы все его жалели.
Вильма Николаевна смотрела на Машу через толстые линзы очков. Она была очень стара, но выглядела довольно бодро.
– Ваша сестра тоже живет в Вильнюсе? – спросила Маша.
– Да. Инесса моложе меня на семь лет. Она все еще работает в той же самой больнице, но только в раздевалке. Неутомимая женщина. Да, я могу показать вам фотографии. До войны мы часто фотографировались. Главврач… забыла его фамилию, увлекался фотографией.
Женщина достала из ящика комода альбом.
На первой же фотографии Маша узнала Юстину. Она стояла в обнимку с молодой невысокого роста толстушкой и улыбалась.
– Июнь тридцать восьмого года. Это еще до того, как Юстина вышла замуж в первый раз. Она жила тогда у священника, его очень уважали в нашем городе, – вела хозяйство. Юстина влюбилась в красивого молодого… Как же его звали? Отец Антоний, кажется, но могу и ошибиться. Он часто бывал в доме священника, у которого жила Юстина. Вам, наверное, известно, что католические священники дают обет безбрачия. Мне кажется, это напрасно так постановили, а там Бог его знает. Словом, они уехали в Варшаву и там обвенчались. – Женщина рассказывала, листая альбом. – Мы об этом ничего не знали – Юстина была скрытной девушкой. Она сказала, будто у нее заболела тетка. Через какое-то время вернулась к… Да, вспомнила, того священника, в доме которого она жила, звали отцом Юлианом. Она рассказала Жанне, что ее муж застрелился, но как это случилось, не сказала.
Она очень переживала его смерть. Но когда появился этот молодой Ковальски, Юстина ожила.
Почти на каждой странице альбома Маша узнавала Юстину. Но эта молодая серьезная девушка с гладкими темными волосами была совсем не той Юстиной, которую она помнила. Эта Юстина нравилась ей все больше и больше. Особенно с того момента, как она встретила Анджея Ковальски.
– Влюбилась в него как сумасшедшая и подняла из мертвых. – Вильма Николаевна восхищенно улыбнулась. – Представляете, мы все были уверены, что он умрет. Еще бы, двустороннее воспаление легких, причем запущенное… А, вот и он. Главврач сфотографировал Анджея в день выписки из больницы.
Маша не могла оторвать глаз от выцветшей любительской фотографии. Ей вдруг сделалось душно. Перед ней был ее отец, Анджей Ковальски, примерно в том возрасте, в каком был Ян, когда она увидела его в первый раз. Они были совсем не схожи между собой, но Анджей смотрел на нее с фотографии так же, как когда-то смотрел Ян.
– Простите, а вы что, приходитесь родственницей Юстине Ковальски? – осторожно спросила женщина.
– Я ее дочь, – ответила Маша.
– Вот как? Выходит, она вышла замуж в третий раз? Мне рассказывали, она вернулась в сорок пятом из Германии и пыталась навести справки о сыне и муже. Мы с сестрой тогда жили у родственников под Каунасом, в наш дом попала бомба. Потом Юстина куда-то уехала и больше сюда не вернулась. Надеюсь, она жива?
– Мама умерла. Почти четверть века назад.
– Вот оно что… – Вильма Николаевна опустила голову и стала собирать выпавшие на стол фотографии. – Царство ей небесное. А вы не знаете, что случилось с Анджеем Ковальски? Я слышала только, что он воевал в партизанском отряде, был ранен, а потом тоже куда-то пропал. Юстина рассказывала вам о нем?
– Он мой отец, – сказала Маша, все еще разглядывая фотографию Анджея. – Он сейчас живет в Америке.
– Боже мой! – Вильма Николаевна всплеснула руками. – Вот ведь оно как случается! Надо же, я совсем старая стала – ведь до меня только сейчас дошло, что вы родная сестра этого самого мальчика… Постойте, как же его звали?..
– Ян, – тихо ответила Маша. – Я бы очень хотела узнать, что с ним случилось.
Женщина быстро встала и подошла к стоявшему на подоконнике телефону.
– Инесса, – сказала она в трубку, – здесь у меня дочь Юстины и Анджея Ковальских. Приходи. И купи, пожалуйста, по дороге чего-нибудь сладкого. Я сейчас поставлю чайник.
Я встретила Жанну года полтора назад на троллейбусной остановке, – начала рассказ Инесса Николаевна, когда они сели пить чай. – Она почти безвыездно живет на своем хуторе, ухаживает за старушкой-матерью и выращивает цветы. Она приглашала меня к себе, но я так и не выбралась.
– Мама говорила, Жанна погибла, когда в дом попала бомба. А… брат остался жив – взрывной волной его выбросило в окно. – По крайней мере, так ей рассказали, когда она вернулась из Германии. Что было с Яном потом, никто толком не знал.
– Жанна тоже осталась жива. Она была тяжело ранена и ее оперировали в военном госпитале. Там лежали главным образом немцы, но вскоре город освободили советские солдаты и госпиталь перешел в руки наших. – Инесса Николаевна грустно усмехнулась. – Правда, кое-кто теперь поговаривает, что русские не освободили, а оккупировали Вильнюс. Жанна, придя в сознание, написала письмо на хутор, и мать вскоре приехала за ней на подводе. А мальчика, кажется, отдали в приют. Но в том же доме погибла еще одна молодая женщина, маленький сын которой тоже остался жив. Он был ровесником вашего брата. Того мальчика забрали в приют, но года через два за ним приехали родственники из Львова. Как его звали, я не помню.
– Они были в одном приюте? – Маша с надеждой и испугом смотрела на Инессу Николаевну.
– Разумеется. Наш город в ту пору был, можно сказать, большой деревней. Моя подруга как раз работала в том приюте воспитательницей. Это здесь недалеко. Попьем чаю и поедем.
– Они оба не отвечали на вопрос, как их зовут, хоть им было года по три с половиной-четыре. Видимо сильно напугались. Да и контузить могло. – Маше повезло: эта полная седая женщина помнила все в деталях. – Назвался Яном, а другой, перестав плакать, тоже заявил, что он Ян. Так и записали. Одного вскоре забрала молодая пара – военный с женой, она такая черненькая маленького роста. – Женщина порылась в бумагах и достала пожелтевший листок. – Их фамилия Лемешевы.
– Я знаю их, – прошептала Маша. – А что… что случилось с другим мальчиком, с тем другим Яном, потом? Вы случайно не знаете?
– Могу вам дать его адрес. – Женщина выдвинула ящик стола и достала какой-то конверт. – Его зовут Анджей Мечислав Ясенский. Так по крайней мере утверждает та женщина из Львова, которая его забрала. Она приходится ему родной тетей. Правда, она видела его еще грудным младенцем…
– Ты на самом деле думаешь, что ты моя сестренка? Или тебе пришло в голову стать ею, потому что я знаменит и богат? А где ты была, когда я жил в гнилом подвале с окном на мусорные баки и питался в столовке на сорок копеек в день? – Высокий мужчина в ковбойке и джинсах расхаживал по огромной мастерской, завешенной и заставленной картинами, иконами, букетами живых цветов в больших напольных вазах, предметами антиквариата. Беспрестанно звонил телефон, пока мужчина со злостью не выдернул из розетки шнур. Маша сидела на низкой кушетке перед журнальным столиком с вином и фруктами и наблюдала за ним. Наконец он остановился перед ней и сказал, нервным движением руки отбросив со лба волосы. – Ты меня раздражаешь. Я не знаю, что тебе от меня нужно. Обычно я знаю, что хочет от меня женщина.
– Очень жаль. Но я рассказала вам все, как есть. Если вы на самом деле мой брат…
– Что от этого изменится? – прервал ее мужчина, не грубо, но довольно бесцеремонно. – Сестрой больше, сестрой меньше. У меня их целых три. Правда, все двоюродные. От родственников нет никакого проку. Только зависть. Лютая черная зависть. Я объехал полмира. Их это бесит. Они помешаны на тряпках и всякой чепухе. Они поражают меня своей тупостью и алчностью. Они уверены, все это мне упало с неба. Им не понять, что такое творчество. Моя бывшая жена считала меня чудовищем. Я и есть чудовище, если смотреть на меня их глазами. Мне скучно, скучно есть и спать, ходить по земле, скучно любить женщин. Все на меня нагоняет тоску. И если б не работа…
Похоже, мужчина выдохся. Он налил в бокал вина и выпил.
– Почему вы не пьете? – спросил он, садясь рядом с Машей на кушетку и подавая ей бокал с вином. – Давайте все-таки выпьем за нашу встречу. Признаю, я был груб. Я не имел никакого права вести себя подобным образом с милой и интеллигентной женщиной. Простите. Прошу от чистого сердца.
Он наклонил голову. Маша невольно обратила внимание на его густые темно-русые волосы. Ей вдруг пришли на память слова Юстины о том, что у всех Ковальских необыкновенно густые волосы.
– Я не сержусь на вас, – сказала она. – Сама виновата. Но дело в том… – Она отпила из бокала вина и поставила его на столик. – Дело в том, что мне необходимо знать, кто на самом деле мой родной брат – вы или Ян.
– Кажется, я все понял. Думаю, все-таки Ян. Знаете, почему? – Он посмотрел ей в глаза долгим взглядом. – Вы мне нравитесь. Как женщина, а не как родственница, хоть до меня это не сразу дошло. Вы уж извините, но мне что-то не хочется быть вашим братиком. Пускай им останется этот бедняга Ян.
Маша слегка отодвинулась, и это не ускользнуло от его внимания. Он улыбнулся и похлопал ее по плечу.
– Недотрога. Ладно, согласен поиграть какое-то время в милых родственничков. Итак, любезная сестра, ты спрашиваешь меня, помню ли я хоть что-нибудь из моего детства. Отвечаю: не помню ничего. Тетка показывала мне фотографии матери и отца. Я их не помню, хотя сказал ей, что узнал. Я был хитрющим ребенком. Таким и остался. Советую держать со мной ухо востро. Ну-ка покажи свои картинки…
Маша протянула ему фотографии отца и Юстины, которые подарила ей Вильма Николаевна. Мужчина взглянул на них мельком и уже собрался было вернуть Маше, но посмотрел еще раз, внимательней.
– Хорошая парочка. Но в родители не годятся. Он еще тот повеса. Вроде меня. Мужик, которого они считают моим батей, посолидней и поскучней. А вы не похожи ни на него, ни тем более на нее. Она совсем другой тип. Неужели она ваша родная мать?
– Нет. Она воспитала меня. Я люблю ее как родную мать. Может, даже больше.
– Отец, как я понимаю, вас бросил. Сначала эту женщину, потом вашу мать тоже. – Мужчина закурил. – Как могло случиться, что вас воспитала его первая жена? Или он жил с ними двумя одновременно?
– Да. – Маша опустила голову. – Юстина нашла его после войны, и моя родная мама очень ее полюбила. Думаю, она даже догадывалась, что отец изменял ей с Юстиной, но это всего лишь мое предположение. Юстина тоже любила мою маму.
– Давайте выпьем за их память. Кто знает, может, эта женщина на самом деле была моей матерью. Уж больно нетрадиционный сюжет взаимоотношений. На такое способны лишь незаурядные личности. А мои родители должны быть необычными людьми.
Они выпили, не чокаясь, и Маша вдруг почувствовала симпатию к этому Анджею. Он был искренен и импульсивен. Эти человеческие качества ей всегда импонировали.
– Ваш… отец тоже был художником? – спросила Маша.
– Ни боже мой. Коммивояжер. По-нашему торгаш и спекулянт. Правда, тетка уверяет, он хорошо пел. У матери лицо типичной домохозяйки. Они с теткой похожи как две капли воды. Я не люблю свою тетку. Возможно, потому и ухватился за вашу идею как за соломинку. А вот Юстина мне нравится. Страстная натура. Страсть ценю превыше всего на свете. И в жизни, и в искусстве.
– Отец жив, – сказала Маша. – По крайней мере пять лет назад он был жив-здоров. Потом наши контакты оборвались.
– Что, слинял за границу?
– Нет. Я попала в Россию. Вместо того, чтобы попасть на тот свет.
Анджей весело расхохотался, обнял Машу за плечи и привлек к себе.
– Веселая у меня сестричка. Не то что эти толстожопые кузины. Собираешься вернуться на родину?
– Сперва я должна найти его, брат он мне или не брат.
– Ладно уж, согласен побыть твоим братиком. Даже согласен вспомнить кое-что из далекого детства. – Анджей усмехнулся, откашлялся. – Мы жили в большом доме на окраине Вильно. Папочка каждый вечер ходил к девочкам, хотя мамочка была уверена, что он ходит по каким-то таинственным делам. Мамочка рассказывала мне сказки про… гусей-лебедей, Красную Шапочку, злого людоеда и… – Анджей затянулся сигаретой, – поила какой-то горькой травой. Она поила меня травой от всех болезней: кори, коклюша, простуды и так далее. Черт, но ведь это я не выдумал – мама на самом деле поила меня травой… – Андрей растерянно глядел перед собой, роняя пепел на пол. – Моя тетка поила меня всякими таблетками и порошками, траву она до сих пор называет «мертвому припарка». Разумеется, моя мамочка – я имею ввиду ту, с лицом домохозяйки – могла иметь иные взгляды на медицину и пользу трав, хоть это и маловероятно: они же похожи с сестрой как две капли воды. А, ладно, это все мое воображение. Ты даже представить себе не можешь, как разыгрывается мое воображение за бокалом вина и в обществе красивой женщины, хоть она почему-то жаждет стать моей сестрой. Неужели тот кандидат в братья представляет больший интерес как мужчина, чем я? Ей-Богу, в такое невозможно поверить. У тебя есть его фотография?
– Нет. – Маша вздохнула. – Ян не любил сниматься. Да и мы с ним расстались так внезапно.
– О, это обнадеживает. – Анджей снова наполнил бокалы, очистил апельсин и, разломив на дольки, протянул на салфетке Маше. – Кушай, милая сестричка. Признаться, впервые в жизни я чувствую себя с женщиной так легко и раскованно. И, кажется, впервые женщине от меня ничего не нужно, кроме воспоминаний о детстве. Или ты постарел, Анджей Мечислав Ясенский, или… Послушай, сестричка, а что если нам провести сегодняшний вечер вместе? Как говорится, по-родственному? Не бойся – я не собираюсь склонять тебя к инцесту. Нам не мешало бы кое-что обсудить серьезно. Обещаю припомнить кое-что еще из своего далекого детства. Общество тетки и кузин к воспоминаниям подобного рода не располагает. Согласна остаться у меня?
– Я сама собиралась напроситься к тебе в гости, – ответила Маша.
– Я мог бы сказать, что ты помогла мне все вспомнить. Что я узнал на фотографии отца с матерью, могу показать дом отца Юлиана, в котором мы жили, когда я был ребенком. Говоришь, там теперь офицерский клуб? Но ведь я на самом деле что-то такое помню… – Он морщился, закуривал сигарету, делал глоток вина из бокала. – Проклятое воображение. Ты его так распалила. Господи, да я вижу этот дом и сад, отца Юлиана на веранде… Я ведь свободно говорю по-польски, знаешь? У меня вообще талант к языкам, и я в любой европейской стране чувствую себя как рыба в воде. А тот… Ян… он знает языки?
– Да. Но польский забыл – мне рассказывали об этом его приемные родители. Он говорил свободно на английском и немецком. Любил музыку. А вы… ты любишь музыку?
– Только ту, что была до Бетховена. Этот чертов глухарь смешал в одну кучу землю и небо и тем, кто шел следом за ним, это понравилось. Правда, я делаю исключение для Шопена – наверное, всему виной голос крови. Но я не играю ни на чем, кроме гитары.
– Ты чем-то похож на Яна, – удивленно говорила Маша. – Да, да, ты на самом деле на него похож, хотя это противоречит всякой логике.
– Ты хочешь сказать, что и ко мне испытываешь не только сестринские чувства? Что ж, я не возражаю. Только мы об этом никому не скажем – провинция есть провинция.
– Нет, ты меня не так понял. Дело в том… Дело в том, что я совсем не помню Яна. Потому что я его выдумала. Как до этого выдумала Толю. Я тоже большая фантазерка, понимаешь?
…Она проснулась среди ночи в широкой кровати. Рядом спал мужчина. Она не сразу вспомнила, кто он, а вспомнив, заплакала.
– Ты что? – Мужчина поднял голову и протянул к ней руку. – Ну, ну, моя девочка, ты такая замечательная женщина, хоть и была здорово под кайфом. Мне очень жаль этого беднягу Яна.
– Мы… занимались любовью? – тихо спросила Маша.
– Да. И обоим было очень хорошо. Мне давно не было так хорошо с женщиной. Ты изумительно отдаешься. Наверное, вместо меня ты представляла этого Яна. – Анджей усмехнулся. – Брат он или не брат – вы оба жертвы предрассудков. А вот во мне их нет. Я готов любить тебя и как сестричку тоже. Не хлюпай носом. Я никому ничего не скажу. Я не из тех, кто хвалится победами в постели.
– Теперь уже поздно, поздно… Я тогда его потеряла и сейчас опять… Что мне теперь делать? – Она зарыдала.
– Что делать? Да взять и выйти за меня замуж. Мои родственнички лопнут от зависти – еще бы, оторвал себе американскую женушку, к тому же красотку. Но клянусь, я их и близко к нашей вилле не подпущу. Ведь у тебя есть вилла?
– Ничего у меня нет. Все принадлежит моей сестре Сью. Правда, она очень добрая. Но дело в том, что я… – Маша всхлипнула, – я все еще не разведена с первым мужем и меня из этой страны не выпустят. Они за мной следят.
– Кагэбэшники, что ли? Ну, этих дебилов мы обдурим за милую душу. Здесь у нас их не больно жалуют, да и польская граница рядом. Доберемся до Варшавы, а там обратимся в американское посольство. Ведь ты гражданка США. Я всегда мечтал слинять в эту страну. Если хочешь, наш брак может быть фиктивным, но я не думаю, что ты этого захочешь. – Он просунул руку под Машину спину и привлек ее к себе. – Ты меня сильно возбуждаешь. Да и вообще мне пора обзавестись наконец настоящей семьей.
– А если ты мне на самом деле брат…
– Снова здорово. Ну и что? Все люди братья, сказано в Библии. Одной тебе будет скучно. А я не позволю скучать такой чудесной девочке.
Он попытался снова заняться с ней любовью, но Маша резко отодвинулась.
С ней вдруг случилась настоящая истерика, и Анджей не на шутку испугался. Он подхватил Машу на руки и стал ходить с ней по комнате, бормоча слова утешения.
– Сломалась… Предала… Почему я не утонула тогда? – твердила Маша. – Шлюха… Грязная шлюха… Я так его любила… Я все бросила. Я не могла даже петь… А он, Берни… Ради карьеры…
– А это еще кто такой? – Анджей бросил Машу на кровать. – Ты не рассказывала мне про Берни. Он что, тоже имеет на тебя какие-то виды?
– Уже нет. Он давно меня забыл. Мне кажется, Берни был единственным мужчиной, с которым я могла быть счастливой. Но я тогда не понимала этого. Я была такой наивной и глупой…
В Варшаве их встречали друзья-художники, устроив в зале для VIP[64] небольшой прием в честь благополучного приземления коллеги. Компания состояла из подвыпивших мужчин, которые громко разговаривали на малознакомом Маше языке, обсуждая сугубо цеховые проблемы. Ей стало скучно. Никем не замеченная, она вышла в коридор и направилась в сторону балкона с видом на летное поле, по пути доставая из сумочки сигарету.
Can I give you a fire?[65] – услышала она знакомый голос и, вздрогнув, застыла на месте.
Через секунду она увидела Бернарда Конуэя, идущего ей навстречу.
СТЕФАНИ РАСКРЫВАЕТ СВОЮ ТАЙНУ
– Оставьте ее в покое. Ни в коем случае не говорите ей, что это не Джимми. Будьте милосердны. В нашей жизни наступают такие минуты, когда человек, не выдержав испытания реальностью закрывается наглухо подобно раковине моллюска и погружается в неведомые глубины. Этот процесс сродни творческому – ведь и художники, устав в один прекрасный момент от несуразиц окружающего мира, создают свой собственный мир, в который верят больше, чем в реальный. Мой сын готов сделать для Лиззи все. Он любит ее. Любит такой, какая она есть.
Стефани сидела на диване в гостиной дома Аделины и Джельсомино, куда ее примчал на своем мотоцикле Томми. Убитые горем дедушка и бабушка Лиззи окончательно потеряли голову и не знали, как им поступить. Они смотрели на эту красивую даму в красном шелковом платье и больших металлических серьгах словно на бога, вызванного с небес их молитвами.
– Ваш сын? Вы говорите, этот молодой человек ваш сын? – прокашлявшись в кулак, подал голос Джельсомино. – Но, помнится, Томми рассказывал, что у вас не сын, а дочь. Он даже говорил, что… гм… она ему нравится. Я что-то ничего не пойму. Наверное, я стал совсем старым и голова моя пришла в негодность…
– Помолчи, Джельсомино, – приказала Аделина. – Синьора приехала к нам, чтобы помочь нашей бедной девочке, а не слушать твою болтовню. Извините его, синьора Стефания, он очень добрый старик, хотя мозги у него последнее время и в самом деле работают плоховато.
– Все в порядке, – заверила их Стефани. – Синьор Грамито-Риччи задал тот самый вопрос, который и должен был задать. Мой сын Франсуа до самого последнего времени сожалел о том, что родился мальчиком, и даже подумывал об операции по изменению пола. Я очень переживала за Франсуа, потому что во всем винила себя. Дело в том, что двадцать лет назад меня угораздило влюбиться в гея. Мало сказать – влюбиться, я пыталась обратить этого молодого человека в свою веру, то есть сделать из него гетеросексуала. Это была пустая затея, и я очень переживала наш разрыв. Франсуа был зачат совершенно случайно. Он не знает, кто его отец, а его отец не знает, что Франсуа его сын. – Стефани невесело усмехнулась. – Дело усугубилось тем, что я, чувствуя себя виноватой, нежила его, как девочку. Он любил играть в куклы, носить платья и даже заплетать косы из своих длинных волос. Когда ему исполнилось четырнадцать и на него стали заглядываться мальчики и молодые люди, я забила тревогу. К счастью, в физическом плане Франсуа развивался медленно и к сексу особого интереса не проявлял. Но маскарад его очень забавлял. Я рано познакомила его с так называемой изнанкой жизни, таская по притонам Нью-Орлеана. Думаю, это сыграло роль прививки – Франсуа чист душой и телом. Разумеется, из-за маскарада он чувствовал себя не в своей тарелке, и я молила Бога о чуде: чтоб Франсуа влюбился в девушку. И чудо произошло. Поверьте, ваша Лиззи дорога мне как родная дочь. Прошу вас, оставьте ее в покое, и пускай все идет своим чередом.
Стефани откинулась на спинку дивана и щелкнула зажигалкой.
– Дела… – пробормотал Джельсомино. – А вдруг наша Лиза проснется в одно прекрасное утро и поймет, что рядом с ней лежит не ее Джимми, а… Что случится тогда?
– Не знаю. Этого не может предугадать никто, – ответила Стефани.
– Лиза может раскаяться, что изменила своему Джимми, и сделать с собой что-нибудь нехорошее, вот что, – сказал Джельсомино.
– Чтоб у тебя язык превратился в сухую мочалку! – воскликнула Аделина. – Лиза настоящая католичка и никогда не решится наложить на себя руки. Это твоя припадошная тетка Джозефина, которую бросил этот импотент Серджо, не придумала ничего лучшего, как прыгнуть в канаву с нечистотами и…
– Помолчи, – перебил ее Джельсомино. – Тебе бы все деревенские сплетни пересказывать. А тут дело очень даже серьезное. Наша Лиза такая чувствительная и необычная девочка.
– Вы правы, – согласилась Стефани. – Но я знаю своего сына. Он будет с ней так нежен и заботлив, что она полюбит его. Разумеется, она не забудет Джимми, но любовь Франсуа поможет ей залечить со временем эту рану. – Стефани встала и подошла к окну. – Взгляните, – она кивнула в сторону сада. – Да скорее же идите сюда!
Лиззи сидела на качелях, а Франсуа стоял рядом и медленно ее раскачивал. Когда качели с Лиззи стали взлетать чуть ли не до самой макушки эвкалипта, Франсуа ухватился обеими руками за веревки, ловко подтянулся и очутился рядом с Лиззи. Он был настоящий акробат, этот Франсуа. Они обнялись. Их губы слились в поцелуе.
– Подглядывать стыдно. – Стефани, увлекла Аделину и Джельсомино в глубь комнаты. – Они так счастливы, наши бедные дети. Быть может, Господь смилостивится и хотя бы в этот раз возьмет под свое крылышко влюбленных.
КОЛДУНЬЯ ИЗ РУССКИХ СТЕПЕЙ
Лидию определили в фермерскую семью в штате Арканзас. Поездка была организована обществом глухих в порядке обмена. Разумеется, Лидия без труда попала в группу двенадцати человек, которых расселили по семьям глухих.
Лидия давно превратилась в полную седую женщину, которой на вид можно было дать лет шестьдесят, хотя на самом деле ей еще не было пятидесяти. Она любила вкусно поесть, долго поспать, покрасоваться в блестящих побрякушках и пестрых платьях. Последнее время она жила привольно – гадалок, экстрасенсов и прорицателей в перестроечной России не преследовали, а, напротив, проявляли к ним повышенный интерес, а главное, им платили хорошие деньги.
Лидия жила уединенно, не желая сходиться с мужчинами. Еще работая в цирке, она поняла, что их намерения не совпадали с ее собственными. Лидия не собиралась себя переделывать и подстраивать под мужчин. Она жила так, как жилось. Дар гипноза давал ей некоторую власть над людьми. Те люди, над которыми она могла властвовать, интересовали ее мало. Лидия желала властвовать над одним-единственным человеком, но он от нее ускользнул. Лидия чувствовала каким-то десятым чувством, что этот человек жив и что судьба еще сведет их вместе.
Семейство Джексонов – так звали ее гостеприимных хозяев – состояло из отца, матери и четверых детей от четырнадцати до пяти лет. Это были люди среднего по американским стандартам достатка, чье благосостояние во многом зависело от капризов природы и цен на продукты животноводства. Работы хватало всем, даже младшим детям, с которыми Лидия нашла общий язык с первой минуты.
Она днями валялась в шезлонге на берегу небольшого пруда, где плескались гуси и утки, препорученные заботам семилетнего Тима и пятилетней Джоан. Троица бойко общалась между собой с помощью жестов – дети Джексонов тоже были глухими. Лидия, разумеется, читала их мысли, но они об этом не догадывались. Мысли детей обычно вращались вокруг сладостей и мороженого, прогулок в ближайший городок, где были карусели и горки, а также купания в речке, что строго-настрого запрещалось родителями. Американцы, как поняла Лидия, боялись природных водоемов, предпочитая плескаться в искусственных лужах с хлорированной водой. Старшие мальчики ходили на речку тайком, о чем Лидия тоже знала. Еще она знала, что у миссис Джексон недавно появился любовник, с которым она встречалась в ореховой роще за речкой. Мистер Джексон был очень ревнив, но пока не ведал об измене.
Лидия потянулась, сунула в рот поплывшую на солнцепеке шоколадку с клубничной начинкой и блаженно закрыла глаза. Гуси и утки часто вылезали на берег и, проходя мимо Лидии, махали мокрыми крыльями, отряхивая с перьев воду. На Лидию летели холодные брызги, которые она брезгливо промокала полотенцем.
«Черт бы побрал это вредное отродье, – подумал она. – Хоть бы соснули немножко…»
Кто-то тронул Лидию за плечо, и она нехотя открыла глаза. Перед ней стоял Тимми. У него был испуганный вид.
– Они все засунули головы под крыло, – сказал он на пальцах. – Они, наверное, заболели.
Лидия глянула в сторону пруда. Гуси и утки покачивались на легкой ряби волн в скрюченных позах. Некоторые устроились в траве и зарослях тростника на берегу.
Они спали.
Лидия рассмеялась и захлопала в ладоши.
– Что нам делать? – спрашивал жестами мальчик. – Мама с папой будут нас ругать.
Лидия сложила губы трубочкой и свистнула. Птицы как по команде подняли головы и захлопали крыльями.
– Ты фея, Ли, – показал на пальцах Тим, гладя восхищенно на Лидию. – Ты добрая фея. А ты можешь исполнить мое желание?
– Да, – не задумываясь ответила Лидия.
– Но оно очень трудное и серьезное. Мне даже кажется, что мое желание невыполнимое.
– Невыполнимых желаний не бывает, – уверенно заявила Лидия. – Тем более для меня. Ты же сам сказал, что я фея.
– Тогда, прошу тебя, сделай так, чтобы поправилась наша Чара. Мама сказала, она скоро умрет.
Чара была большой лохматой дворняжкой, которая уже вторые сутки лежала в тени под навесом и отказывалась от пищи.
– Попробую, – пообещала Лидия и закрыла глаза. Тим крепко схватил ее за плечо.
– Пошли прямо сейчас. А то она умрет, и тогда уже никакая фея ее не воскресит.
Лидии лень было вставать из удобного шезлонга и шлепать целый километр по солнцепеку, но мальчик оказался так настойчив. Да и ей самой вдруг захотелось исполнить его желание.
Собака лежала на боку и тяжело дышала. Вокруг нее жужжали большие зеленые мухи.
Лидия кряхтя присела на корточки и подумала, глядя в уже начавшие стекленеть глаза собаки:
«Ты здорова. У тебя ничего не болит. Вставай».
И она представила себе, как собака поднимается на все четыре лапы.
По телу Чары пробежала судорога. Она взвыла и задрыгала ногами, силясь встать.
«Встать!» – приказала ей Лидия.
Чара поднялась, лизнула ее в щеку и залаяла.
– Ты фея! Ты добрая предобрая фея! – радостно мычал Тим, – занятия в школе для глухих давали плоды. – Чара, ко мне!
Собака вильнула хвостом, сделала несколько шагов и свалилась как подкошенная.
– Она умерла! – Мальчик расплакался. – Ты не фея, ты злая ведьма!
– Она заснула, – возразила Лидия. – Она проснется и будет совсем здоровой. Накрой ее чем-нибудь от мух.
Чара проспала почти целые сутки. Тим часто наведывался под навес. Когда собака, проснувшись, наконец, съела миску кислого молока с овсяными хлопьями и принялась гонять по двору кота, мальчик бросился целовать Лидию.
В тот вечер за ужином все обсуждали чудесное исцеление Чары, и Лидия чувствовала себя героиней дня.
Молва о необычной женщине, поселившейся на ферме Джексонов, мгновенно облетела округу. На нее приезжали посмотреть даже из ближайшего городка. Босоногая девочка-негритянка принесла полудохлого индюка и стала умолять, чтобы Лидия его вылечила. Но индюк сдох, когда его доставали из корзины. Тетка жены Генри Петерсона, ближайшего соседа Джексонов, привела слепую козу, у той на глазах были бельма. Лидия знала траву, рассасывающую бельма у животных, – живя в скиту на Волге, она научилась кое-чему полезному у добрых старух-монашек. Эта трава, оказывается, росла и в Арканзасе. Через несколько дней коза прозрела. Отныне на Лидию стали смотреть с благоговением и страхом.
– Почему ты не попробуешь лечить людей? – спросила как-то Лидию миссис Джексон. – Ты могла бы заработать много денег. Местные фермеры не очень доверяют докторам и их лекарствам. Можно купить патент. У тебя есть медицинское образование?
– Нет. Но я хорошо знаю строение человеческого тела. Я изучала анатомию, когда работала в цирке.
– Ты работала в цирке? Вот здорово! – Вертевшийся поблизости Тим влез к Лидии на колени и, обхватив ее руками, прижался к ней.
– Ты лечила когда-нибудь людей? – не унималась Мэри Джексон. – Я видела по телевизору, как один гипнотизер помог женщине избавиться от…
– Я не люблю людей, – вдруг перебила Мэри Лидия и резко встала, намереваясь выйти из комнаты, однако Тим заставил ее снова сесть, и она, к своему удивлению, повиновалась.
Набожная Мэри Джексон пришла в ужас от слов Лидии, но постаралась не подать вида – как-никак Лидия была их гостьей.
– Надеюсь, ты никогда не напускала на людей порчу?
Она в испуге замолчала, вдруг подумав о том, что подвергает опасности себя и свое семейство, приютив у себя эту женщину.
– Нет. Мне это как-то ни к чему было. Хотя с теми, кто пытался сделать мне зло, потом обязательно что-то случалось.
Вечером Мэри поделилась своими опасениями с мужем.
– С какой целью она приехала в Штаты? – недоумевала миссис Джексон. – Я несколько раз звала ее на прогулку в Кингстаун, хотела показать каньон и водопад, но ее, похоже, ничего не интересует. Странная особа.
– Пустяки. Не верю я во всякие порчи и сглазы. Негры и те давно в них не верят, – возразил жене Ник Джексон. – Пускай делает что хочет. Дети к ней привязались, особенно Тим. Да и она, кажется, их полюбила.
– Она сказала, что не любит людей. Она, наверное, некрещеная и вообще…
– Кэрол Рид была крещеной и жуть какой набожной, а вот же, утопила своего ребеночка, – перебил жену Ник. – И, говорят, даже не раскаялась, когда к ней в тюрьму приходил отец Джон.
Мэри ничего не ответила мужу. Она замкнулась в себе. И стала исподтишка следить за Лидией.
Лидию это забавляло, но она ленилась что-либо предпринимать – пускай себе эта глупая женщина подглядывает за ней сколько душе угодно. Ей известны все ее мысли. В случае чего можно сделать так, что…
Лидия усмехнулась. Ну да, когда Мэри соберется на свидание с этим своим негром, можно сотворить с ними какой-нибудь фокус. Лидия презирала мужчин и женщин, идущих на поводу собственной похоти. Сама она давным-давно ничего подобного не испытывала – с тех самых пор, как ею пренебрег Ян. Он за это еще ответит, мстительно подумала Лидия.
Она вдруг ощутила резкую боль в затылке и попыталась расслабиться. Перед глазами возник Ян, таким, каким она увидела его в первый раз и полюбила. Вдруг его фигура стала уменьшаться и наконец превратилась в комок, который рассыпался в пыль. Мстить, мстить, мстить – интереснее этого нет ничего на свете. Да, мстить и потешаться над дурачками. Такими, как эта глупая курица Мэри Джексон.
Ник уехал на ярмарку в Фейествилл, и Лидия узнала уже за завтраком, что сегодня состоится свидание в ореховой роще. Младшие дети с утра ушли на пруд, старшие раздавали корм коровам и свиньям. Мэри варила на кухне обед для рабочих. Лидия вызвалась ей помочь.
Она перебирала рис и чечевицу, сбивала в миксере тесто на пирожки, потом, когда Мэри раскатала тесто и порезала его на ровные квадраты, принялась их лепить. Эта работа ее забавляла, напомнила ей юность, скит на Волге… Но Лидия заставила себя встряхнуться – ее голова должна быть свободной от чего бы то ни было, тем более от воспоминаний. Она сосредоточилась и, без труда проникнув в мысли Мэри, занялась их чтением.
«Сегодня у меня должна начаться менструация. Хоть бы не началась… Но вдруг я забеременела? Живот почему-то совсем не болит. Какое сегодня число? Ну да, пятнадцатое, а в прошлом месяце было тридцать дней. Значит, должна начаться сегодня к вечеру… Чак брезгует мной во время менструации. Заставит сосать его член. Это так противно… Но если я откажусь это делать, Чак меня бросит. Думаю, он изменяет мне с этой прыщавой Розой. Вот уж уродина, хоть ей еще и двадцати нет – живот как тыква, а вместо сисек два сморщенных мешочка… Чак прав: у меня такое тело, словно я не рожала. Правда, в позапрошлый раз он сказал, что у меня отвисшие ягодицы. Нужно заняться приседаниями… Я так устаю за день, что вечером не до приседаний…»
Лидия, увлекшись чтением мыслей Мэри, обнаружила вдруг, что вместо творога с изюмом зачерпнула из соседней миски зерна вареной кукурузы для салата и завернула их в квадратик теста.
Между тем Мэри продолжала свои размышления:
«Ник, слава Богу, ни о чем не догадывается. Нику достаточно одного раза в месяц, а то и реже. А мне этого так мало… Кровь в голову бросается, если… Господи, стыд какой… Но ведь я не виновата, что меня так устроил Бог. Другим женщинам этого совсем не надо. Мама говорит, ей никогда не хотелось мужчину. Она любила с ними потанцевать, сходить в пивной бар, поцеловаться. Мама до сих пор такая кокетка и выглядит лет на сорок, не больше. Как странно, что я не в нее… Интересно, почему я перестала следить за собой с тех пор, как связалась с Чаком?.. Какой позор, если вдруг узнают. Ник меня убьет… Он терпеть не может черных. Если он узнает… Но у Чака такой большой член… Не то что у Ника. У Ника эта штуковина похожа на бобовый стручок. Наверное, у всех черных эта штуковина большая. Господи, грех какой…»
Лидия подняла глаза на сидевшую напротив нее Мэри. Женщина залилась густым румянцем, вскочила, бросилась к плите и стала снимать с кипящего бульона несуществующую пену.
– Ты не пойдешь сегодня на пруд? – спросила она у Лидии.
– Чуть попозже. Я обещала детям, что обязательно приду.
– Они тебя любят, – сказала Мэри.
«Скорее бы ты отсюда убралась, – прочитала Лидия мысли Мэри. – Какая-то ты неискренняя. И вообще я не знаю, что тебе от нас нужно».
Вслух Мэри сказала:
– Скоро будут готовы пирожки. Сперва поешь, а потом пойдешь на пруд. Сегодня, кажется, не слишком жаркий день.
На самом деле на улице было жуткое пекло, хотя стрелки часов еще не достигли полудня.
Лидия съела с полдюжины горячих пирожков и, сняв с вешалки в прихожей соломенную шляпу, сделала вид, что идет на пруд. Она знала, Мэри стоит на крыльце и смотрит ей вслед.
Метрах в ста пятидесяти от дома дорога сворачивала влево, скрываясь за зарослями. Пройдя шагов десять, Лидия нырнула в них. Она специально надела сегодня неяркое – темно-зеленое в мелкий сиреневый горошек – платье, которое почти сливалось с зеленью.
Отсюда, из зарослей, как на ладони был виден двор и небольшой палисадник перед домом с беседкой из мелких розочек. Лидия села в траву, достала из кармана пакетик с попкорном и стала ждать.
Рабочие – их было четверо, все не первой молодости и белые, – ровно в пятнадцать минут первого приехали с поля на старом грузовике «форде» и, помыв руки, уселись за стол под навесом, на котором уже стояли тарелки, миска с кукурузным салатом и большая запотевшая бутыль яблочного сидра. Мужчины были нормальными, то есть не глухими, и Мэри внимательно смотрела на них. Она, разумеется, была обучена разговорной речи и понимала собеседника по губам.
Мэри суетливо разливала по тарелкам суп, и Лидия, отличавшаяся острым зрением, видела, как дрожат руки женщины, когда она подает рабочим тарелки с супом. Потом Мэри поспешила на кухню за пирожками, споткнулась на пороге, потеряла левую босоножку без задника, но не стала за ней возвращаться, а, скинув на ходу вторую, исчезла в сумраке кухни.
Перерыв у рабочих был до двух тридцати, поэтому они, пообедав, направились туда, где лежали надувные матрацы и были натянуты между стволами деревьев два гамака. Лидия не могла читать на таком расстоянии мысли Мэри, однако ощущала, что та полна нетерпения. Рабочие допивали сидр, не спеша жевали пирожки и, судя по всему, травили скабрезные анекдоты – они переставали шевелить губами, стоило на пороге кухни появиться Мэри. Наконец они угомонились в тени.
Мэри убрала посуду, засунула в бак для мусора бумажную скатерть и пошла в дом. Лидия знала: перед каждым свиданием с Чаком она принимает ароматическую ванну и втирает в тело специальный лосьон. К тому времени, как Мэри вышла из дома, одетая по обыкновению в парусиновые шорты и белую майку с коротким рукавом, мужчины заснули. Лишь один из них читал газету, слегка покачиваясь в гамаке. Он помахал Мэри рукой.
Мэри прикрепила к багажнику велосипеда картонную коробку и вскочила в седло. В коробке наверняка было угощение для Чака.
Лидия знала, как пройти напрямик к ореховой роще, – на велосипеде туда ехать минут десять, а то и больше.
Она поднялась, отряхнула платье. Ей вдруг ужасно захотелось посмотреть, как это происходит. Тем более парочка была уж больно колоритная: Чак лет на пятнадцать моложе своей подружки, к тому же еще и черный. Лидии никогда не доводилось видеть, как делают это черные. Она чувствовала себя сейчас маленькой девочкой, сгорающей от нетерпения приобщиться к волнующим тайнам взрослых.
В роще было тихо и прохладно. Лидия не знала, в каком месте встречаются влюбленные, и притаилась под низко нависающими над землей ветками ореха, наблюдая за дорогой, на которой вот-вот должна была появиться Мэри. А вот и она – с красным лицом и растрепанными волосами. Мэри жала на педали изо всех сил.
Мэри спрыгнула с седла и, взяв за руль велосипед, свернула на едва заметную тропинку. В ту же секунду откуда-то возник и Чак. Лидия оказалась достаточно близко от любовников и могла читать их мысли.
– Почему ты задержалась? – спросил парень, проворно отцепляя прикрепленную к багажнику картонную коробку. – Я не жрал с пяти утра.
– Прости. Мне пришлось их кормить. Фрида отпросилась домой. У нее заболела мать.
– Толстопузая бреховка. – Чак достал из коробки банку с пивом и большой ломоть жирной домашней ветчины, в который мгновенно вонзил зубы.
Лидия сглотнула слюну. При виде пищи она всегда испытывала чувство голода.
Мэри глядела на своего любовника похотливым взглядом. Чак перестал жевать и спросил:
– Ты что, не можешь потерпеть? Муж тебя совсем не трахает, что ли?
Мэри закусила губу и отвернулась. Чак продолжал свою трапезу. Он теперь уселся на траву, положив коробку рядом с собой. Лидии казалось, он глотал все не жуя.
– Ты меня совсем не любишь. – Мэри опустилась рядом с Чаком и положила голову ему на плечо.
– Я голодный, как шакал, а ты про всякую чепуху. Вдруг Мэри стянула с себя майку. Лидия никогда не видела ее обнаженной – у Мэри были недоразвитые, как у девочки-подростка, груди.
– Только не кусайся. Иначе Ник…
– Плевать я хотел на твоего Ника. Через неделю след мой простынет.
– То есть как?.. Почему ты не сказал мне об этом раньше?
– Я сам не знал. – (Парень соврал, и Лидия это сходу просекла.) – Мать прислала письмо. Она нашла мне хорошую работу. Постоянную.
– Я уеду с тобой. Я… я не смогу без тебя жить. Чак, запрокинув голову, расхохотался.
– Дурочка. У Ника куча денег, а я получаю двадцать долларов в день.
– Я возьму свои драгоценности. Еще у меня отложено три с половиной тысячи. Ник про них не знает. Возьми меня с собой!..
Чак ничего не ответил, вмиг стянул с себя шорты и повалил Мэри в траву. Лидия ощутила странное волнение – ей вдруг захотелось оказаться на месте Мэри.
– Ты делаешь мне больно…
– Хочу и делаю. Тебе ведь нравится.
– Но потом я… мне больно ходить.
– Сиди или лежи. Богатые могут себе это позволить.
– Какой ты грубый, Чак.
Лидия чувствовала, что теряет сознание. Она поняла, что Мэри недаром так влечет к этому Чаку – он не мужчина, а настоящий супермен.
Акт любви продолжался минут тридцать. Лидия несколько раз побывала на грани обморока – это случалось каждый раз, когда Мэри достигала оргазма. Лидия лежала на сухой твердой земле, тяжело дыша. Она завидовала Мэри. Она знала, что ненавидит ее.
Разумеется, она могла бы заставить этого Чака. Но ведь он черный… Нет, с черным она не сможет.
Мысли Лидии путались, она все больше злилась на Мэри, а заодно и на ее партнера.
Наконец парочка затихла. Лидия поняла, что Чак заснул – от него стали поступать какие-то странные сигналы-картинки пустынной местности с глинобитными хижинами вдалеке. Мэри не спала. Мэри напряжено соображала, что ей делать, и Лидия, читая ее мысли, чувствовала ломоту в затылке – мысли Мэри были лихорадочно путаными.
«Он уедет, и снова потянется прежняя тягомотина. Не выдержу я, не выдержу… Ника интересуют только его быки и пивнушка, где убивают время такие же импотенты, как он… После черного любовника с белым невозможно этим заниматься. Меня стошнит, когда Ник будет тужиться засунуть свой сморщенный член… Господи, прости меня – я окончательно лишилась рассудка. Бедные дети… Но я все равно сойду с ума либо утоплюсь, если останусь с Ником. Не смогу я, не смогу… Я обязательно уговорю Чака взять меня с собой. Ведь ему нравится заниматься со мной любовью, иначе бы он не приходил сюда. Или же ему нужна не я, а еда, которую я ему таскаю?.. О Господи, все равно я сбегу отсюда. А там будь что будет…»
Лидия незаметно задремала, утомленная пережитым. Проснувшись, обнаружила, что любовники исчезли. Солнце клонилось к закату. В пронизанной его низкими лучами роще было душно.
… – Где ты была? Мы так без тебя скучали! – Джоан и Тим повисли на ее руках и потащили к разложенному специально для нее шезлонгу. – Приходил папа и спрашивал, не видели ли мы маму, – жестами рассказывал Тим. – Он почему-то был очень сердитый. А ты не видела маму?
– Нет. – Мне стало нехорошо, а потом я заснула. Наверное, будет гроза.
Она опустилась в шезлонг и закрыла глаза. Дети, вооружившись длинными хворостинами сгоняли гусей и уток в стаю – пора было домой.
– Пошли. – Подошедшая сзади Джоан разбудила ее.
– Идем. Без тебя было так неинтересно и скучно.
На глаза Лидии навернулись слезы. Девочка говорила от чистого сердца. Она, как и Тим, всегда говорила то, что думала.
…Сверкала молния, лил дождь, и ужинали не как всегда под навесом возле кухни, а на большой квадратной веранде окнами на шоссе. Дети уплетали все подряд, Ник и Мэри лениво ковыряли вилками в тарелках. Лидия знала: супруги успели крупно повздорить.
«У нее кто-то есть, – уловила она мысли Ника. – Про спущенную шину она врала. Зачем ей было ехать в супермаркет на велосипеде?.. Кто это может быть?.. Петерсон все время торчал на ярмарке, Венсона-Черепаху я тоже там видел. Больше здесь нет белых. Разве что этот похожий на гниду швед Андерсен?.. Но ведь ему под восемьдесят. Черт, неужели она спуталась с кем-то из рабочих? Это вроде бы на нее не похоже. Да и они для этих штучек вряд ли годятся. Алкаши они, вот кто. А у алкаша эта штуковина все равно что плохо набитая сарделька. Кто же это может быть?..»
Ник то и дело бросал на Мэри хмурые исподлобные взгляды, и она все больше съеживалась под ними.
«Пускай удирает со своим Чаком, а я останусь здесь, – вдруг осенило Лидию. – Я уже разок обожглась на любви. Крепко обожглась. Все это сплошной обман. Дети любят меня, в доме достаток, Ник хороший хозяин. У плиты я стоять ни за что не буду: выгоню в три шеи эту Фриду и найму кого-нибудь попроворней. Если мне вдруг захочется переспать с Ником, я смогу сделать так, что его сарделька будет тугой. Вряд ли Ник станет возражать. – Она вздохнула, вспомнив невольно, как упорно сопротивлялся ей Ян. Но воспоминание уже не причинило боли. – В Америке такие вкусные сладости».
Последнее соображение окончательно перевесило чашу весов.
– Я… мне что-то душно! – Мэри, вскочив из-за стола, бросилась к двери.
Ник отшвырнул вилку и стиснул кулаки. Дети перестали жевать и в удивлении уставились на отца.
«Иди за ней, – мысленно велела Нику Лидия. – Но только пускай она об этом не знает. Увидишь все своими глазами. Не жалей ее. Не жалей. Не жалей. Она тебя не жалеет…»
Ник тоже вскочил, на ходу сдернул с вешалки дождевик и выскочил во двор.
Лидия не спеша подошла к окну. Сверкнула молния, и в свете ее Лидия успела разглядеть Мэри – та была уже возле ворот. Дождь лил как из ведра. Лидия вернулась за стол.
– Мама… Ее убьет гроза. – Джоан расплакалась.
– Ли не позволит, чтоб маму убила гроза, – успокоил сестренку Тим. – Ли добрая.
Ливень продолжался несколько часов. Погасло электричество, и Ник-младший принес из гаража большую керосиновую лампу. Джоан с Тимом не отходили от Лидии.
– Мы ляжем с тобой. Можно? – спросила Джоан. – Я очень боюсь грозы. И Тим боится грозы, только ни за что не признается. Мама с папой говорят, это глупости, и ругают нас. Ты не будешь нас ругать?
– Нет, – ответила Лидия. – Конечно, вы с Тимом ляжете со мной. – Она даже обрадовалась тому, что сегодня ночью будет не одна в своей широкой неуютной постели. – Быстро умываться и чистить зубы. И не забудьте помыть ноги.
Через десять минут дети уже лежали в постели, положив головки на плечи Лидии. От них пахло тиной и молоком. Лидию умиротворял этот запах. Она заснула сладким блаженным сном.
…Кто-то сильно тряс ее за плечо. Ей ужасно не хотелось открывать глаза. Ей снился скит, Перпетуя, кормившая ее, голодную и несчастную, молоком и теплым хлебом. Перпетуя гладила Лидию по руке и жалостливо на нее смотрела. Молоко было очень вкусным, а спину Лидии приятно покалывало от тепла – она сидела, привалившись спиной к горячей стенке печи…
Она с трудом открыла глаза.
Над ней стоял Ник. Вода с его дождевика капала ей на ночную рубашку. По выражению его лица Лидия поняла: свершилось.
Она поднялась, стараясь не потревожить детей. Накинула халат и вышла вслед за Ником в освещенный тусклым светом керосиновой лампы коридор. Она еще была во власти сна и не могла прочитать мысли Ника.
– Я убил их обоих, – сказал он, едва они очутились в гостиной и Лидия села на диван. Она теперь окончательно проснулась.
«Ты должна мне помочь, – прочитала Лидия мысли Ника. – Иначе я сойду с ума».
Лидия молча встала с дивана, вернулась в спальню и надела поверх ночной рубашки платье. Ник все это время стоял в дверях с лампой в руке. Уходя, Лидия поправила сползшее на пол одеяло и мысленно пожелала Джоан и Тиму счастливых сновидений.
…Они завернули тела Мэри и Чака в полиэтиленовую пленку, – каждое по отдельности.
«Каньон, – все время думал Ник. – Их съедят шакалы… Полиэтилен нужно снять… Горючего должно хватить туда и обратно… Каньон…»
Они погрузили тела в машину. Лидия села на переднее сиденье рядом с Ником.
«Я с тобой, – послала она ему сигнал. – Можешь мне доверять. Я люблю твоих детей».
Когда все было сделано, Ник намеревался бросить в каньон и полиэтилен тоже, но Лидия сказала:
– Положи в багажник на резиновый коврик. Я все вымою дома.
Дороги превратились в сплошное месиво из глины, но они все-таки успели вернуться на ферму до рассвета. Ник валился с ног от усталости, но Лидия заставила его помыть машину и поставить ее в гараж. Пленку и коврик она тщательно вымыла сама. Она велела Нику снять с себя всю одежду и засунула ее в стиральную машину вместе со своим платьем и ночной рубашкой.
На рассвете налетел ураган. Он сорвал с коровника крышу и животные подняли оглушительный рев. Обитатели фермы Джексонов его не слыхали, хотя старшие дети уже не спали, – они привыкли просыпаться с первыми лучами солнца. Ник-младший, выглянув в окно, сказал брату, что на улице настоящая буря, и ребята снова крепко заснули.
После завтрака Ник поехал к шерифу и сообщил ему, что пропала жена. Шериф попросил Ника изложить в письменном виде ход событий. Он написал:
«Во время ужина Мэри вышла на крыльцо, сказав, что ей душно. Я вышел минуты через две и увидел, что жена бежит по дороге в сторону фермы Петерсона. Было темно, дождь лил как из ведра, и мне пришлось вернуться в дом. Тем более что погасло электричество и дети боялись темноты. Я хотел поехать за женой на машине, но обнаружил, что бак почти пустой, а накачать горючего из подземной цистерны я не мог – у меня электрическая помпа».
Шериф Дуглас Франклин, знакомый накоротке со всеми фермерами в округе и навещавший их запросто, дружески похлопал Ника по плечу и пообещал в самое ближайшее время найти беглянку.
Ник вернулся домой и занялся починкой крыши. Дуглас Франклин подъехал к дому Джексонов вскоре после полудня и, протопав ботинками по дорожке, без стука вошел на кухню.
Толстая Фрида разливала рабочим суп – на улице было сыро и они обедали на кухне.
– Где мистер Джексон? – спросил он у нее.
– Они в доме с мисс… Лидией, – запнувшись, ответила Фрида и хихикнула. Рабочие переглянулись, что тоже не ускользнуло от внимания шерифа.
Шериф решил после разговора с хозяином фермы допросить всех пятерых, но не стал предупреждать их об этом заранее. Он знал этих придурков как свои пять пальцев: насочиняют всякую околесицу и будут потешаться вовсю, а потому их нужно захватить врасплох.
Ник и женщина из России сидели на диване в гостиной. Рядом играли дети. Шериф заметил, что Ник был мрачен и у него слегка дрожали руки.
– Есть новости, – обратился к нему шериф. – Я бы хотел поговорить с вами наедине.
Ему показалось, что эта русская смотрит на него с презрительной насмешкой. Правда, шериф Дуглас Франклин никогда раньше не встречал русских и не знал, соответствуют ли их мимика и жесты привычным.
Судя по всему, женщина поняла, что он сказал, – она встала и вместе с младшими Джексонами направилась к двери.
– Плохие дела, старина, – сказал шериф, присаживаясь рядом с Ником. – Мистер Петерсон говорит, что ваша жена была у них вечером. Собственно говоря, ей нужен был этот черномазый придурок Чак. Он уже спал, и мистеру Петерсону пришлось его разбудить. Они говорили о чем-то на веранде – мистер Петерсон оставил их одних. Он вернулся минут через пятнадцать, но их уже там не было. Куда они исчезли, он не знает. Чемодан Чака с его барахлом так и валяется под его кроватью. Деньги он держал в банке в Кингстауне. Я расспросил его дружков. Они говорят, что крепко спали и ничего не слыхали. Сдается мне, Ник…
Мистер Джексон вдруг скрипнул зубами и, уронив голову на грудь, разрыдался как ребенок. Чего только не повидал на своем веку шериф Дуглас Франклин, но такого от белого мужчины, жена которого сбежала с черномазым любовником, не ожидал. «Ну и дурак, – подумал шериф, не испытывая ни малейшей жалости к Нику. – Правильно сделала, что сбежала от такого рохли».
Вдруг Ник вскочил и замычал, размахивая руками перед носом шерифа. Он силился что-то рассказать, но Дуглас Франклин не понял ни слова.
– Пиши, – он подтолкнул Ника к столу и положил перед ним ручку и блокнот. – Не тяни – я еще должен допросить вашу Фриду и рабочих.
Ник быстро строчил в блокноте. Физиономия шерифа вытягивалась по мере того, как он читал неровные, наскакивающие друг на друга строчки.
«Она меня заставила. Она и Мэри заставила убежать из дома. Мэри любила детей. Я бы ее простил. Она заставила меня идти за ними и убить… Каньон Большого Медведя…»
– Кто заставил тебя их убить?
Шериф схватил Ника за плечи и встряхнул.
«Эта русская», – написал Ник.
«Но почему ты ее послушал?» – написал шериф.
«Сам не знаю», – ответил Ник.
– А где она была, когда ты их убивал? – Шериф смотрел на Ника взглядом хищника, выследившего добычу.
– Дома. Спала с Джоан и Тимом. Когда я их убил, я вернулся домой, разбудил ее и попросил мне помочь. Она согласилась. Мы сбросили трупы в каньон Большого Медведя.
Шериф был убежден, что Джексон сошел с ума. Такое случается с обманутыми мужьями. И очень даже часто. Шериф Дуглас Франклин был опытным человеком, а потому решение принял мгновенно. Мистера Джексона следует немедленно отвезти в психиатрическую клинику, иначе он натворит дел, чего доброго собственных детей убьет.
– Мистер Джексон, попрошу вас поехать со мной к окружному прокурору. – Шериф решительно взял Ника за руку. – Дело слишком важное и не терпит проволочек.
– Каньон Большого Медведя, – твердил в машине Ник. – Их еще не успели съесть шакалы… Мэри, прости меня…
Шериф Франклин Дуглас вспомнил, что забыл пристегнуть Ника ремнем. Он опоздал: внезапно с силой Ник дернул за ручку дверцы и вывалился на дорогу. Чуть сзади «судзуки» шерифа на большой скорости шел школьный автобус. Дуглас Франклин зажмурил глаза и с силой нажал на педаль тормоза.
Он не слышал предсмертного крика Джексона, он больше ничего не слышал: его старый «судзуки», вылетев на встречную полосу, был протаранен в лоб двадцатитонным рефрижератором со свиными тушами.
РАССКАЗ ГОСПОДИНА ЧАНДАРА
– Я не верю астрологам, хотя по привычке иногда обращаюсь к ним. В нашей стране принято составлять гороскопы жениха и невесты. Бывает, и довольно часто, что браки расстраиваются из-за предсказаний астрологов.
Господин Чандар расхаживал по каюте. Он старался не терять присутствия духа, но ему это не очень удавалось. Каких-нибудь пять минут назад он накричал на капитана за то, что «Сандхья» не пополнила в Коломбо запасы продовольствия, хотя знал прекрасно, что их хватит с лихвой еще минимум на три недели плаванья.
– Так вот, – продолжал господин Чандар, время от времени поглядывая на сидевшего в кресле Яна, – тот астролог, к которому ходила Тина, сказал, что ваш союз с Сандхьей закончится для нее трагически. Тина сообщила мне об этом по большому секрету спустя неделю после того, как я привез вас в свое поместье.
– Тина? – изумился Ян. – Но ведь Сандхья говорила мне, что Тина не верит ни в богов, ни в предсказания астрологов. Да и ей неизвестна дата моего рождения, уж не говоря о часе. Мне самому ничего об этом неизвестно. Я вообще не верю Тине.
– У вас есть на то причины?
Господин Чандар остановился и пристально посмотрел сверху вниз на Яна.
– Да. Хотя, возможно, я ошибаюсь.
– Говорите все, как есть. Ничего не утаивая.
В голосе господина Чандара зазвучал металл. Ян понял – откровенного рассказа не избежать.
Он постарался изложить события того вечера в деталях, хотя с тех пор минуло почти полгода. Господин Чандар выслушал его с большим вниманием.
– Очень жаль, что вы утаили от меня этот эпизод. Мне кажется, кое на что он проливает свет. Тина решила мне отомстить. Последнее время она стала безумно ревнива и… Впрочем, это было бы слишком просто. Насколько я знаю Тину, она отнюдь не примитивна. – Чандар направил на Яна долгий испытующий взгляд. – Скажите откровенно: вы были любовником Сандхьи?
– Да, – не задумываясь ответил Ян. – Но не в общепринятом смысле… – Он замолчал, опустив голову, но потом поднял ее и посмотрел господину Чандару в глаза. – Я люблю Сандхью. Мы поклялись стать мужем и женой. Мы собирались сказать вам об этом в самое ближайшее время. Но… мы думали, у нас впереди вечность и не спешили сделать то, к чему нас настойчиво призывала природа. Нам было слишком хорошо так, как было.
– Кто-нибудь еще знал о вашей клятве, или вы все хранили в тайне?
– Это невозможно было сохранить в тайне. Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту. Мы не могли жить друг без друга. Если с Сандхьей что-то случилось…
Он не докончил фразы, но господин Чандар все прекрасно понял.
– Вы не имеете права принимать опрометчивые решения, – сказал он, кладя руку Яну на плечо. – Вы каждую минуту должны помнить о том, что моя дочь жива и что она уже не сможет без вас. Поклянитесь мне в этом.
– Клянусь, – хриплым голосом сказал Ян. – Но если…
– Никаких если. Боги не допустят ее смерти. Лола искупила вину ценой собственной жизни. Хотя на самом деле умереть должен был я.
Ян с интересом посмотрел на него.
– Это очень печальная история, и я уже было уверовал в то, что мне не придется ворошить давно остывший пепел, однако я оказался неправ, – начал Чандар. – Наше существование в этом мире есть не что иное как непрерывная линия, которая в свою очередь состоит из многочисленных отрезков, незаметно переходящих один в другой. Нельзя отсечь и отбросить в сторону один из них, не повредив при этом всей линии. Человеческая память устроена так, что не просто хранит в ячейках мозга события давно минувших лет, а посылает импульсы в настоящее время. Память умирает вместе с телесной оболочкой, и это очень мудро. В противном случае жизнь любого человека превратится в сплошную череду страданий, которые начинались бы с его рождения. Я расскажу вам историю, предшествующую появлению Сандхьи в этом мире. Очевидно, мне следовало сделать это раньше.
Он опустился в кресло напротив.
– Отец определил меня в колледж в Лондоне, где я должен был изучать языки и международное право. Его фирма к тому времени расширила деловые контакты, надеясь выйти на мировой рынок. Вам, очевидно, известно, что каучук, несмотря на настоящий бум в производстве полимеров, все еще незаменим во многих отраслях промышленности. Отец в свое время не получил достаточного образования, хотя и принадлежал к касте, занимающей высокое положение. Я был его единственным сыном, и он мечтал, чтоб я не просто унаследовал его богатства, но и приумножил их на благо нашей страны.
В колледже я познакомился с англичанкой, которая выросла в Индии. Она считала Индию своей родиной и любила ее, хотя ее дед был полковником и, преданный британской короне, огнем и мечом подавлял восстания в Кашмире и Пенджабе. Тина тоже изучала право и мечтала стать адвокатом. Мы полюбили друг друга и скоро стали мужем и женой, разумеется, с согласия наших родителей. Мой отец хотел, чтобы мы не тянули с рождением наследника, но у Тины были иные планы – она хотела сперва закончить колледж. Я вернулся домой на год раньше, Тине же еще предстояло сдавать экзамены на степень бакалавра. Мой отец негодовал по поводу того, что муж оставил жену в большом чужом городе, а жена отпустила мужа от себя, таким образом превратив его, как выражался отец, в объект вожделения для других женщин. Мы с Тиной прожили несколько лет в Европе и на подобные вещи смотрели иначе. К тому же время от времени я бывал в Лондоне по делам фирмы. Наша любовь с Тиной была ровной и, как мне кажется сейчас, шла больше от рассудка, чем от сердца. Нас связывали общие интересы, взгляды на жизнь, да и в постели нам было неплохо. До меня Тина имела любовника, в чем призналась еще до свадьбы. Меня это не шокировало – в ту пору я во всем стремился подражать европейцам, но, похоже, мне это неплохо удавалось.
Лола была девадаси, то есть рабыня бога. Ее богом был Шива, бог созидатель и разрушитель, соединяющий в себе мужское и женское начала. Шива – воплощение космической энергии. Шива – творящий гармонию мира с помощью своего танца. Лола была обвенчана с Шивой, и ей предстояло до конца дней своих служить при храме, исполняя знаменитый на весь мир индийский танец бхарата-натьям.
Я увидел Лолу накануне своего отъезда в Лондон – отец отпустил меня на рождественские каникулы к жене. Я укрылся от внезапного ливня в храме. Мне и раньше случалось видеть храмовых танцовщиц, среди них попадались иногда по-настоящему красивые девушки, но я старался не обращать на них внимания. Моя старая няня-тамилка говорила, что все храмовые танцовщицы женщины легкого поведения.
В том храме было много цветов, источавших терпкий тяжелый аромат, и у меня поплыло перед глазами. Мне казалось, будто у этой девадаси не две, а четыре, шесть рук и несколько голов. Меня охватил мистический ужас, и я собрался улизнуть, как вдруг Лола, изогнувшись назад, обхватила руками мою шею.
– Шива хочет, чтобы ты творил со мной любовь, – сказал она. – Он вселился в тебя. Ты должен исполнить желание Шивы. Шива велик и всемогущ. Мы все должны быть послушны желаниям Шивы.
Я не помню, как очутился на циновке среди огромных букетов цветов под алтарем Шивы-Натараджи. Он смотрел на меня своими полуприкрытыми в экстазе танца глазами. Лола умащивала мое тело ароматическими маслами, нежно скользя по нему своими шелковистыми ладонями. Я был совершенно нагой и чувствовал себя только что родившимся младенцем в руках любящей матери. Ощущение это потрясло меня до глубины души. Лола прекрасно владела каждой мышцей своего волшебного тела, и я быстро оказался на верху блаженства.
В Лондон я, разумеется, не поехал – несколько дней и ночей подряд мы творили с Лолой любовь под всевидящим и благословляющим оком Шивы. Тина обрывала телефон в нашем доме и в офисе отца. Он обратился в полицию, меня нашли и силой доставили домой. Отец топал ногами, бил меня по щекам. Но я остался глух к его приказу, а потом уже мольбе уехать к жене в Лондон. В гневе он сказал, что лишит меня наследства. Меня это не трогало. Я направился к двери, чтоб идти к Лоле в храм. Но тут ноги подо мной подкосились, я рухнул на пол и крепко заснул.
Проснулся я в своей спальне и увидел перед собой заплаканное лицо Тины.
– Я тебя простила, – сказала она, едва я успел открыть глаза. – Это я во всем виновата. Твой отец правильно говорит: жена обязана всегда быть рядом с мужем. Зачем мне степень бакалавра, если ты разлюбишь меня?..
Я поднялся и стал молча одеваться, чтоб идти к Лоле.
– Куда? – спросила Тина, когда я был уже на пороге.
– Я люблю ее, – ответил я. – Прости. Я ничего не могу с собой поделать.
Тина заплакала. Но мне не было ее жалко. Я не любил ее. Я думал только о Лоле, ее ласках и поцелуях.
Мы предавались любовным утехам всю ночь и весь следующий день. За все это время мы обменялись всего несколькими словами. Лола пела и танцевала. Она обладала удивительным чувством ритма. Думаю, это был ритм танца бога Шивы. Ведь вам наверняка известно, что, согласно нашим преданиям, Шива создавал мир путем вовлечения в ритм своего танца всей движущейся материи. Это был ритм любви и созидания. А Шива смотрел на нас из-под своих полуопущенных век и загадочно улыбался.
Дома отец опять набросился на меня с кулаками, но Тина загородила меня.
– Прошу вас, господин Чандар, оставьте его. Он не виноват. Он жертва. И вынужден поступать так, как ему велят. Но я его никогда не брошу.
Отец пробормотал какое-то ругательство в мой адрес и вышел из комнаты. Тина усадила меня на диван, села у моих ног на пол и положила мне на колени голову. Я машинально коснулся ее волос – и тут же отдернул руку.
– Прости, – сказал я, – я не имею права…
– Глупый, – прошептала Тина. – Ты стал мне в тысячу раз дороже. Я и не подозревала, что так сильно тебя люблю. Это потому, что моя голова была забита всякими ненужными вещами. Настоящая женщина должна думать только о любимом мужчине, чтобы ему было хорошо. Европейцы дураки, что позволяют своим женам и возлюбленным заниматься делами. Я обучусь всем тонкостям любовной игры. Я стану твоей наложницей, рабыней – кем хочешь. Тебе будет очень хорошо со мной.
Я задремал под ее громкий шепот. Я чувствовал сквозь сон, как Тина раздевает меня, целует, ласкает мое тело. Меня не возбуждали ее ласки, но не были и противны – все-таки Тина была моей женой и я привык к ней почти за два года нашей совместной жизни. После Лолы ее ласки показались мне неумелыми, но, по-моему, не существует мужчины, способного не откликнуться на ласки молодой красивой женщины. Тина осталась мной довольна, я же, исполнив супружеский долг, не испытал ничего, кроме морального облегчения.
Наутро я снова собрался к Лоле. Тина не устраивала сцен, не просила остаться, за что я был ей благодарен. У нее было покорное лицо и жалкая улыбка рабыни. Я испытал укор совести. Но стоило мне очутиться на улице, как моя совесть смолкла. В конце концов, вспоминал я, у отца была наложница, даже не одна, и мать не возражала. Кажется, женщины неплохо друг к другу относились, хотя мать, конечно, занимала в доме главенствующее положение и могла их наказывать и даже бить. А у маминого брата, дяди Раджива, было целых три наложницы и они все его очень любили. Тетя не могла иметь детей, но она души не чаяла в сыне, рожденном от одной из наложниц дяди Раджива. В старости он доживал свой век с тетей, потому что она была его законной женой.
Но я не хотел доживать век с Тиной только потому, что она была моей законной женой. Я хотел всегда быть с Лолой. И в старости тоже. Я вдруг понял, что не могу без Лолы жить.
Меня знали в храме и относились с почтением – я пожертвовал Шиве довольно крупную сумму. Лола появилась минут через пять после того, как я пришел. Ее подружки успели увенчать меня гирляндами из цветов, усадив на место для почетных гостей.
Лола куда-то повела меня. Мы очутились в небольшой комнате с низкой лежанкой, застланной пестрым шелковым покрывалом. Тут она жила.
Вдруг она размотала свое огненно-красное сари и предстала передо мной во всем блеске своей юной красоты. У меня захватило дух. Я потянулся к ней, но Лола сделал шаг назад и сказала с улыбкой:
– Сегодня я не позволю тебе творить со мной любовь. Ты отдал свое золотое семя другой девушке. Сегодня ты будешь смотреть на меня и просить Шиву о том, чтобы в тебе поскорее созрело новое семя. Шива хочет, чтобы я родила. Но этого ребенка нельзя зачать из обычного семени. Я подготавливала тебя к торжественному моменту оплодотворения, и твое семя уже созрело, но его у меня украли. Шива гневается. Мне придется три дня и три ночи танцевать без отдыха. Ты будешь смотреть на меня. И тогда Шива нас простит.
Я чуть было не лишился рассудка от этой безумной оргии танца. Казалось, что тело Лолы больше не принадлежит мне. Она меняла одежду: шкура тигра, пояс в виде змей… В храме одна за другой гасли свечи. Лола, воздев к небу руки, издавала громкие крики, на ее обнаженное извивающееся в непрерывном танце тело сыпался дождь из цветов.
– Шива нас простил, – сказала она наконец, обдав меня жаром своего тела, и упала мне на руки. Я очнулся на лежанке в комнатке Лолы. Мы творили любовь как одержимые. Над нами звучала тихая умиротворяющая музыка, пахло благовониями, Шива, как всегда, взирал на нас с алтаря.
Лола сама велела мне вернуться домой.
– Я не позволю прикоснуться к себе до тех пор, пока не буду уверена в том, что зачала ребенка, – говорила она. – Я сообщу тебе как только узнаю это. Ступай к своей жене. Ей все равно не суждено родить этого ребенка.
Я продолжал жить – заниматься делами, есть, пить и заниматься сексом с Тиной. Увы, я не смог устоять. Тина домогалась моих ласк с настойчивостью и упорством. Она шла на любые ухищрения, только бы возбудить во мне желание. Она сказала, что превратилась в настоящую проститутку, но не жалеет об этом.
Я постоянно думал о Лоле. Я готов был бежать к ней по первому ее зову. Я не пытался анализировать свои чувства к ней – она была для меня не обычной смертной, а богиней. Богиням поклоняются, служат, им посвящают жизнь. Я всегда чтил богов, но ощущал незримую преграду между мной и ними. Лола была богиней, разрушившей эту преграду. Она увлекла меня в свой мир. Я остался смертным, но прикоснулся к бессмертию.
Тина украшала наш дом, занималась хозяйством, следила за своей внешностью, была приветлива и ласкова со мной, старалась предупредить любое желание. Бедняжка не понимала, что все это напрасно, – она потеряла меня навсегда. После любви богини любовь простой смертной все равно что стакан водопроводной воды после глотка амриты.[66] Отец больше не заводил со мной разговоров о Лоле. Я часто ловил на себе его сердитый взгляд. Я любил отца, но это меня не огорчало. Земные чувства, видимо, стали чужды мне.
Посланница от Лолы появилась в моем кабинете неожиданно. Я и по сей день не знаю, каким образом она проникла – офис отца строго охранялся.
Это была нищенка из тех, что сидят возле храмов. Она сунула мне в руку записку, обдав запахом плесени и сандала. Я дал ей несколько монет. Она исчезла. Я нетерпеливо развернул сложенный вчетверо листок.
Лола ждала меня. Она сообщала, что мы зачали ребенка.
Я бросился к выходу, едва не сбив с ног отца, стоявшего на пороге. Я не слышал, что он кричал мне вслед…
– Ты будешь отныне жить со мной, – сказала Лола. – Шива хочет, чтобы ты охранял нашего ребенка. Злые духи замыслили его убить. Они боятся детей, рожденных из золотого семени. Если такие дети будут рождаться часто, злым духам придет конец.
В комнате Лолы я увидел узел с вещами. Лежанка, на которой мы зачали ребенка была голой, а небольшая бронзовая статуэтка Шивы в ее изголовье исчезла. Я понял, что Лола покидает храм.
Я снял квартиру, которую приглядела Лола. Это были две уютные комнаты в небольшом двухэтажном доме, окруженном гранатовыми деревьями. Хозяева приходились Лоле дальними родственниками.
Я позвонил домой и сказал, что не вернусь. Тина восприняла это сообщение спокойно. Я попросил ее поговорить с отцом – я все еще побаивался его гнева – и она пообещала все уладить.
– Звони, – попросила она на прощание. – Я буду рада слышать твой голос.
Я положил трубку и вновь почувствовал укор совести. Но Лола обняла меня, и я забыл про все на свете.
Лола сказала мне, когда мы отдыхали от любовных ласк:
– Она хитрая и коварная. Не верь ни одному ее слову.
– Но ведь ты ее совсем не знаешь, – впервые осмелился я перечить моей богине. – Она любит меня и все еще надеется, что я к ней вернусь.
– Она тебя ненавидит, – возразила Лола. – Злые духи велели ей украсть золотое семя. Но оно не прорастет в ее чреве. А если прорастет – я вырву его собственными руками.
– Ты? – удивился я. – Неужели ты способна на это? Я не могу в это поверить. К тому же Тина…
Мне не нужно было произносить это имя. Лола вскочила как ужаленная, воздела руки к потолку и закричала на незнакомом мне языке. Ее волосы растрепались, рот перекосился, в его уголках появилась пена…
– Успокойся. – Я протянул к ней руки. – Я люблю только тебя.
Она опустилась на колени. Плечи ее поникли. По щекам текли слезы.
Я как мог, утешал ее.
В ту ночь я чувствовал себя богом.
Отец сохранил за мной право пользоваться счетом в банке, и мы с Лолой жили безбедно. Я усмотрел в этом заслугу Тины и поблагодарил в телефонном разговоре.
Она отмолчалась и лишь спросила:
– Ты счастлив?
– Да, – не колеблясь, ответил я.
– Я рада за тебя, – сказал Тина и, помолчав, добавила: – Твой отец хочет, чтобы я проведала родителей, но я не поеду – вдруг я тебе понадоблюсь.
Я промолчал, и Тина продолжала:
– Я собираюсь устроиться на работу. Временно, разумеется. Ты не возражаешь?
– Нет. Уверен, из тебя получится хороший адвокат.
– Я буду работать в аптеке, – сказал Тина. – Если ты помнишь, я рассказывала тебе, что мой дядя фармацевт и в детстве я часто помогала ему. Мне нравится эта работа. Она успокаивает. А мне сейчас…
Тина попрощалась и быстро положила трубку.
Отец приехал ко мне, когда Лолы не было дома. Он приехал на такси и был одет в старый костюм. Я удивился – никто не знал моего нового адреса.
Отец похудел и пожелтел. Мне стало жаль его. Но не настолько, чтоб раскаяться в содеянном. А потому я держался вызывающе.
Я предложил отцу чай и сладости – он отказался и лишь попросил стакан холодной минеральной воды. Он выпил его и сообщил, что Тина ждет ребенка.
Господин Чандар прервал свой рассказ, встал с кресла и подошел к иллюминатору.
– Будет шторм, – сказал он. – Команда той яхты, на которой увезли Сандхью, состоит из всякого сброда. К тому же в этой части океана легко скрыться: здесь столько мелких островов.
– Нужно обратиться в полицию, – подал голос Ян. – У них есть вертолеты. Мы можем их упустить.
– Мы не станем обращаться в полицию, – решительно заявил господин Чандар, не оборачиваясь. – Мы их не упустим. Я знаю, куда держит путь эта яхта. Полиция наделает шуму, и может случиться непоправимое… Сандхья, девочка моя, только бы с тобой все было в порядке!
Он вернулся в кресло и после недолгой паузы продолжил:
– Я поверил отцу. Я только спросил, почему она не сказала мне об этом по телефону.
– Тина не хочет давить на тебя, – ответил он. – Твоя жена, как ты, надеюсь, успел понять, порядочная и благородная женщина. Она не знает, что я поехал сюда. Она бы мне не позволила.
Я вдруг понял. Я понял, что сообщение отца вызвало у меня недовольство и раздражение, хотя, как любой нормальный мужчина, я должен был радоваться тому, что у меня будет ребенок.
– Она нарочно соблазнила меня, – услышал я собственный голос. – Все было вопреки моему желанию.
– Эти слова недостойны настоящего мужчины. – Отец с трудом сдерживал гнев. – Тина твоя законная жена, и ты обязан делить с ней ложе. Я подозревал, что ты стал болванчиком в чьих-то руках, но я не мог себе представить, что дело зашло столь далеко. Ты катишься в пропасть. Подумай хотя бы о своем будущем ребенке. Я уже слишком стар, чтобы стать ему отцом, а Тина англичанка, и ей вряд ли удастся воспитать ребенка согласно законам и обычаям нашей страны. – Отец встал и направился к двери. – Эта женщина колдунья. Она отняла тебя у семьи. Она…
Отец уже ступил на лестницу, как вдруг лицо его побагровело, и он, пошатнувшись, упал. Я выскочил вслед за ним и увидел Лолу, стоящую в холле внизу.
– В нем закипела ненависть, – сказала Лола, когда я вернулся из больницы, куда отвез отца. – Но он не виноват – это она подогревает в нем злые чувства. Она – источник зла, а твой отец лишь его проводник.
Отец пролежал в больнице целый месяц. Тина часто навещала его. Я звонил ей и справлялся о его здоровье. Она успокаивала меня.
– Ты на самом деле ждешь ребенка или же отец придумал это, чтобы вернуть меня в семью? – однажды спросил я у Тины.
– Врач подтвердил, что это так. – Я услышал ее вздох. – Но я еще не знаю, буду его рожать или нет. Если ты не хочешь, чтобы у нас был ребенок, я могу от него избавиться.
Лола попросила пересказать ей наш разговор.
– Она врет! – воскликнула Лола. – Она не будет избавляться от этого ребенка. Она родит его, и он погубит нашего младенца. Но Шива этого не допустит. Только кому-то придется принести в жертву собственную жизнь.
Лола стала часто отлучаться из дома. В ее отсутствие я слонялся без дела по квартире. Я не скучал по работе и не думал о том, что веду паразитический образ жизни, проедая деньги отца. Я думал все время о Лоле и очень по ней скучал.
Однажды я позвонил Тине, и она сообщила мне, что избавилась от ребенка.
– У меня больше никогда не будет детей, – сказала она. – Но я буду любить твоих и стану им настоящей матерью.
Лола встревожилась еще больше, чем в тот раз.
– Она хочет усыпить твою бдительность. Она задумала ужасное. Но меня ей не провести. Предупреди своего отца, чтобы он был очень осторожен с этой женщиной.
Разумеется, я не передал отцу слов Лолы. Я знал, что он не прислушается к ним.
Он навестил меня еще раз, и снова в отсутствие Лолы. У него был ужасный вид.
– Я написал в своем завещании, что оставляю тебе все движимое и недвижимое имущество, но при условии, что ты вернешься к Тине, – сказал он. Если же ты вздумаешь связать свою судьбу с этой женщиной, все достанется твоим будущим сыновьям – по достижении ими совершеннолетия, дочерям – со вступлением их в законный брак. До этого всем будет распоряжаться Тина. Если же с ней что-либо случится… Если с ней что-либо случится, – повторил он с угрозой в голосе, – тебе не видать ни одной рупии моих денег. Это я оговорил в моем завещании особо. Как и то, что если Тина…
Открылась дверь. В гостиную вошла Лола. Не знаю, слышала ли она наш разговор.
Отец почувствовал себя плохо. Это был сердечный приступ. Мы уложили его на диван. Я дал ему лекарство, которое он носил с собой. Лола принесла воды.
Ему как будто стало легче. Я укрыл его одеялом и вышел. Лола была на кухне.
– Он умрет, – сказала она. – Он должен умереть. Шива гневается на него. Шива хочет его смерти.
Она не мигая смотрела мне в глаза. На ее губах играла странная улыбка Шивы-Натараджи.
Я бросился в гостиную. Отец лежал не шевелясь. Глаза его были закрыты. На лице навсегда застыла маска отрешенного спокойствия.
Согласно завещанию, тело отца кремировали, пепел развеяли над Бенгальским заливом. Тина присутствовала при этом ритуале. Она еле держалась на ногах и дважды падала в обморок.
Я вернулся в дом отца, потому что Лола исчезла тотчас после его смерти и не подавала о себе никаких вестей. После похорон Тина заболела. Доктор определил пневмонию.
Смерть отца потрясла меня. Я был уверен, что в ней виновата Лола, но, странное дело, я не держал на нее зла. Напротив, я очень скучал по ней и мечтал, чтобы она вернулась ко мне.
Я побывал в храме Шивы, где когда-то встретил Лолу, но ее подруги ничего не знали о ней. Я расспрашивал нищих, торговцев цветами и благовониями, родственников, у которых мы снимали квартиру. Лола исчезла без следа.
Оправившись от болезни, Тина заявила, что хочет уехать в Дели к родителям. Я отвез ее в аэропорт.
Потянулись дни, похожие друг на друга как песчинки на дне океана. Главой фирмы отца стал господин Канпур – его школьный друг, долгие годы работавший под его началом. Я практически отошел от дел.
Однажды господин Канпур позвонил мне и сказал, что намечается выгодная сделка и он хотел бы обсудить со мной кое-какие детали… Постепенно я втянулся в работу, но прежнего интереса к ней не испытывал. Тем не менее фирма за короткое время заключила больше дюжины выгодных контрактов, приобрела по очень низкой цене десятки акров каучуковых и кофейных плантаций, недвижимость в Калькутте и Мадрасе и так далее. Мне везло в бизнесе, но совсем не везло в любви.
Я знал, Лола вот-вот должна родить, и мое беспокойство за нее и будущего ребенка росло день ото дня.
Однажды я увидел на улице ту нищенку, что приносила мне записку от Лолы, и незаметно пошел за ней. Я был очень осторожен, и она ничего не заподозрила. Я знал твердо: она идет к Лоле. И не ошибся.
Вслед за нищенкой я вошел в какой-то дом.
Это было убогое жилище, но алтарь бога Шивы утопал в роскошных живых цветах. Лола лежала на циновке под рваным одеялом. Она тяжело дышала.
Я опустился на корточки и взял ее лицо в свои ладони. Меня поразила его худоба, землистый цвет лица. Из-под полуприкрытых век едва виднелись тусклые, точно подернутые пленкой глаза. Она вздрогнула, узнав меня.
– Я сейчас позову доктора, – сказал я.
– Нет. Не делай этого, – испугалась она. – Он заберет нашего ребенка.
– Не бойся, я позову знакомого доктора, – настаивал я. – Все будет в порядке. Мы больше не расстанемся.
– Поздно. – Она заплакала. – Демоны уже разлучили нас. Они пролезли в узенькую щелку между нами и превратили ее в пропасть. Шива не захотел защитить меня – он ревновал меня к тебе. Потому что я любила тебя больше, чем его. Я не сразу поняла это. Сегодня Шива откроет свой третий глаз, и от меня останется горстка праха. Не сопротивляйся Шиве, иначе он и тебя превратит в прах.
У Лолы начался бред… Я послал за доктором. Он явился быстро, но, увы, уже было поздно. Он сказал лишь, что может спасти ребенка ценой жизни матери…
Сандхья родилась, когда на востоке стал брезжить рассвет. В ту же минуту не стало Лолы.
– Вот и все, – сказал господин Чандар обыденным голосом. – Через несколько дней вернулась из Дели Тина и взяла на себя заботы о Сандхье. Я постепенно приходил в себя – душевные раны редко бывают смертельными для мужчин. Тем более, рядом со мной была дочь Лолы и женщина, готовая разделить и облегчить мои страдания. Но потом все в одночасье рухнуло.
Ян резко встал, шагнул к господину Чандару и, крепко сжав его локоть, спросил:
– Вы не помните, что за видения были у Лолы перед смертью? Вспомните, пожалуйста! Это очень важно.
– С тех пор прошло столько лет… – с сомнением покачал головой господин Чандар. – Но я постараюсь вспомнить. Она видела красивого мальчика, который скакал на лошади по берегу океана. Его черные кудри развевались на ветру. Мальчик целился из лука в… – господин Чандар вскочил с кресла. – Он хотел убить Сандхью. Она тогда сказала, что мальчик целился из лука в сумеречный воздух. Ведь я еще не знал, что назову свою дочь Сандхья. Потом она сказала, что придет Кама и… заслонит собой, убережет. Что Кама должен успеть. Она видела, как старца растерзали демоны, потому что он хотел… поселить в одной пещере льва и антилопу. Еще она говорила… да, она говорила, лев знает дивес акуру.[67] – Господин Чандар забегал по каюте. – Но ведь Мальдивский архипелаг насчитывает несколько сот островов, и почти все они окаймлены кольцами барьерных рифов. Только местным лоцманам известны судоходные проливы, но они все настоящие разбойники. Как же я не догадался, что Тина…
– Распорядитесь, чтоб капитан Шоркар вооружил команду. Медлить дальше нельзя, – решительно заговорил Ян. – Господин Чандар, почему вы скрыли от меня, что у вас есть сын?..
ЛАС-ВЕГАС
– Зачем ты свернул с автострады? Мы только что проехали указатель, где было написано, что в Лас-Вегас нужно ехать прямо. Черт, куда ты меня везёшь? Здесь так темно и страшно. Анджей усмехнулся.
– Здесь не может быть страшно – здесь нет этих двуногих тварей, которые тянутся друг к другу и к свету. – Он уверенно крутил баранку. Свет фар выхватывал узкую заброшенную дорогу с остатками вдавленной в грунт щебенки. – Мне известен самый короткий путь. Зачем ехать в объезд, если можно прямо?
– Но почему другие едут по автостраде? – не унималась девица. – Они глупее тебя, что ли?
– Этого я не знаю. Зато я знаю, что они наивнее меня. Правда, глупость и наивность суть синонимы, разделенные между собой временем. Но в наш век фактор времени особой роли не играет.
– Снова ты за старое, папуля. – Девица откинулась на спинку сиденья. – Ладно, черт с тобой. Если бы ты хотел меня кокнуть, ты бы сделал это еще до ужина, потому что глупо кормить и поить того, кого собираешься отправить на тот свет. Трахать ты меня, судя по всему, не намерен. Значит, я могу спокойно поспать.
– Мудро. – Анджей включил приемник и, пошарив по шкале настройки, набрел на станцию, транслирующую классическую музыку. Передавали Шестую симфонию Чайковского. Ту самую, в которой романтический герой, с детства бросивший вызов судьбе, отдавался наконец в ее цепкие руки.
– Давно пора было это сделать, – говорил Анджей, обращаясь к музыке. – Поиски идеала обычно приводят тебя в самое грязное место, то есть в нужник с отходами духовной и интеллектуальной деятельности. Он расположен на неприступной заоблачной вершине, и путь к нему тернист. Одолевая его, ты оставляешь на колючках лохмотья своей души, но ты чувствуешь себя счастливым оттого, что впереди сияет вершина и ее свет становится все ближе и ближе.
Анджей замолчал, вслушиваясь в обманчиво прекрасные звуки «темы мечты» из первой части симфонии. Он горько усмехнулся тому, что его истерзанная в клочья душа все еще готова откликнуться на ее безумный зов.
– Но сил уже нет, – сказал он вслух, когда «тему мечты» заглушило злобное ворчание контрабасов и валторн. – И слава Богу. Тем более, высота взята, вершина покорена, и взору героя открылись прекрасные заоблачные дали.
Свет фар выхватил из темноты застывший посреди дороги красный «феррари». Дальше начиналось частное владение, о чем уведомлял указатель с табличкой. Анджей резко нажал на педаль тормоза. Девица сонно ругнулась.
– Милости прошу в Лас-Вегас. – Анджей открыл дверцу и подал девице руку. – Видишь, их без нас не пустили. – Он махнул рукой в сторону «феррари». – Ступай и пригласи их в этот сверкающий мир игры, надежд и воображения. Знаки препинания расставишь сама – я не слишком силен в пунктуации.
Девица заглянула в «феррари», охнула и бросилась к Анджею, спотыкаясь в темноте о кочки.
– Они… давай смываться отсюда. – Она с трудом перевела дыхание. – Они покойнички. Их кто-то укокал, а потом раздел. Проклятье, ну и вляпалась же я!
Анджей расхохотался и, схватив девицу в охапку, звонко поцеловал в обе щеки.
– Покойнички, говоришь? Ну-ка, давай поглядим. Черт, мне с каждой минутой становится все интересней жить, хоть я уже, считай, достиг этого нужника в заоблачных высотах.
Молодая красивая женщина лежала на груди у мускулистого загорелого парня, голова которого упиралась в боковое стекло.
– Они словили славный кайф, – констатировал Анджей. – Счастливчики. И почему, спрашивается, мне никогда не приходило в голову выбрать этот беспроигрышный вариант вместо того, чтобы с ослиным упрямством лезть в гору? Как жаль, что у меня в юности не оказалось такой подружки, как ты, мадемуазель Хапай Что Дают.
– Так ты думаешь, они под балдой? – разочарованно протянула девица. – А я-то думала… Но зачем богатым людям ездить по таким плохим дорогам? Папуля, как ты думаешь, что им здесь нужно?
– То же, что и нам, – сказал Анджей. – Ищут забвения. Каждый своего, хоть они и вдвоем. Идеальная парочка одиноких особей.
– И что мы будем с ними делать? Эй, может, у них осталась травка? Папуля, давай поглядим. И тогда мы с тобой…
– Отменяется, – перебил ее Анджей. – Взбираться всю жизнь на эту проклятую гору только для того, чтобы поспать на пороге нужника и с рассветом двинуться в обратный путь? Нет уж, поищи другого идиота. Коль я все-таки очутился здесь, я не хочу пропустить самое интересное. И тебе советую глядеть в оба. А этих голубков мы растормошим.
Он открыл дверцу с той стороны, где была женщина, и осторожно поднял ее на руки.
– Мальчишку можешь взять себе, – бросил Анджей девице. – Когда он снова очутится на земле, будешь первой, кого увидят его глаза. Не упусти свой шанс.
Он пошел со своей ношей в сторону темневшего неподалеку дома. Длинные волосы женщины цеплялись за высокую давно не кошенную траву лужайки. Анджей смотрел на ее лицо, освещенное скудным светом полумесяца. Оно, казалось, каждую секунду меняло выражение, поочередно примеряя маски греческой трагедии.
– Не хватает только бога из машины,[68] – рассуждал вслух Анджей, поднимаясь по ступенькам на крыльцо. – Они часто скрываются вот в таких уединенных домах, хозяева которых либо сошли с ума, либо переселились в мир иной. Что, впрочем, одно и то же. Ау, бог из машины, ты только не опоздай с появлением. Небось, твой интеллект тоже сгубила цивилизация, превратив в аппендикс компьютера-всезнайки.
Он открыл ногой несколько дверей, пока не очутился в большой комнате с окнами во всю стену. Оглядевшись, Анджей положил женщину на низкий диван возле стены. Он стоял и смотрел на ее расслабленное тело, находившееся в полной и безоговорочной власти земного притяжения. Он думал о том, что сопротивление притяжению Земли столь же бесполезное занятие, как и подъем на ту самую заоблачную вершину.
Ему вдруг пришло на ум, что подобные мысли посещают человека на краю могилы.
– Но я не хочу. Не хочу. Хотя и понимаю, что разочарованность, которую я пережил, хуже смерти. Я понял это еще в молодости. Но лишь разумом. Моя душа все время спорила с моим разумом, каждый раз признавая его правоту, но прежде, чем смириться с этим, устраивала бунт. Таков удел всех слабодушных – сперва побить окна в доме, где собираешься поселиться, а потом заняться вставкой стекол. – Он усмехнулся. – Правда, я поступал и наоборот.
Он ходил из комнаты в комнату, бесшумно открывая и закрывая за собой двери. В одних пахло очень знакомо, и он спешил покинуть их, в других царили чужие запахи. В этих комнатах Анджей задерживался чуть дольше. Но как только эти запахи обживались в нем, он бежал и от них.
В эркере большой комнаты стоял рояль-миньон. Его крышка оказалась запертой. Анджей поднял верх рояля и коснулся пальцами струн. Их звук был ему совсем незнаком – никогда в жизни не трогал он натянутых на деку струн, ибо по ним обычно ударяли молоточки, которые приводились в движение его бегающими по клавишам пальцами. Это была сложная механика, и Анджей сроду не вникал в нее. Сейчас он подумал о том, что клавиши рояля всего лишь холодный кусок пластмассы, такой же, из какой делают дешевую посуду, вставные челюсти, детские игрушки, бомбы, пули и так далее.
Он прогнал эти мысли. Он всегда любил музыку. Она казалась ему чем-то нематериальным. Как любовь к женщине. Как деньги, за которые он мечтал купить для себя свободу. Через его руки прошло много женщин, которых он любил, и денег, за которые ему так и не удалось купить для себя свободы.
Он подошел к светильнику в виде шара и нажал носком ботинка на выключатель.
Вместе со светом комната наполнилась музыкой. Она была незнакома Анджею, хоть и состояла из знакомых мелодий. Тут были Лист, Шопен, Бетховен, Шуберт, Рахманинов, Моцарт и Россини, изрубленные на кусочки и смешанные в одной большой миске под острым соусом современных ритмов.
– Нет, мне уже, кажется, не под силу вписаться в этот интерьер, – пробормотал Анджей, усаживаясь в кресло и закуривая сигарету. – Вместо меня придет кто-то другой. Он погрузит руки в эту кучу по локоть и отделит зерна от плевел. Вполне возможно, то, что я считал зернами, он назовет плевелами, и наоборот… И будет прав. Или же неправ. Какая разница?..
Анджей невольно отдался этому новому для него ритму. Он воображал, будто плывет на большом ярко освещенном корабле в компании веселых молодых гуляк. Он не знал, куда держит путь этот корабль, но был готов плыть в этой компании куда угодно.
– Эй, папуля. – Перед Анджеем стояла девица. – Этот мальчишка проснулся. Он говорит на каком-то тарабарском языке. Я ни слова не поняла. Может, эти двое свалились с летающего блюдца?
Анджей с трудом заставил себя подняться. Он шел следом за девицей по пустынному дому, все еще чувствуя в себе ритм этой странной музыки. «Вот тебе и бог из машины, вмешательства которого ты так жаждал», – подумал он и криво усмехнулся.
Парень уже успел переколотить окна в комнате, где на диване все в той же расслабленной позе лежала обнаженная женщина. Сейчас он стоял посреди комнаты и размахивал над головой саблей.
– Папуля, я боюсь… Ой, он к нам идет!
Парень сделал шаг в их сторону, покачнулся, но устоял на ногах.
– Она не умерла, – произнес он по-русски. – Она спит. Слышите, она спит? Ей снятся сны… А ты обманщица. – Парень смотрел на девицу. – Ты пообещала, что отвезешь ее в шалаш. Я тебе поверил. Я забыл: шалаша уже тогда не было. Я сам сломал шалаш. Инга, Инга, прости меня…
– Что он сказал? Он индеец, да? – шепотом спросила девица. – У меня был как-то один дружок индеец…
– Он марсианин, – перебил ее Анджей. – Надеюсь, у тебя не было приятелей-марсиан?
Девица обиженно поджала губы.
Парень сделал еще один шаг в их сторону.
– Инга… Я был уверен, что тебе нужен только я. А мне была нужна только ты. Мне и сейчас нужна только ты. Все эти годы я думал о тебе. Мне не нужны чужие женщины. Ты была родной. Тебя отняли!..
– Что он сказал, папуля? – теребила Анджея девица. – Никакой он не марсианин. Он грек, ясно тебе? Он сказал одно греческое ругательство. Это страшное ругательство. У меня был дружок-грек, и он часто говорил это…
– Он сказал, его обобрала одна девица. Забрала все до последнего и смылась в неизвестном направлении. Он говорит, она очень похожа на тебя.
– Шутишь. – Девица спряталась за спину Анджея. – Я сроду не связываюсь с громилами.
Парень вдруг размахнулся и с силой вонзил острие сабли в пол. Он опустился на корточки, потом сел, сложив ноги по-турецки.
– Продолжай, – бросил Анджей. – Я приехал сюда из Нью-Йорка только за тем, чтобы тебя послушать. Сдается мне, ты сейчас скажешь что-то весьма важное.
– Да. – Парень вздохнул и опустил плечи. – Самое важное. Оно мучило меня все эти годы. Целых восемь лет. Я хотел про это забыть, но она не позволила. Она – это Инга. Сказала, что отпустит меня, когда я вспомню все как было. Я обязан вспомнить как было. Ты мне поможешь?
– Валяй, – Анджей тоже устраивался на полу. – Жалко, что я не встретил тебя раньше, хотя, судя по всему, мы побывали в одних и тех же краях. И не просто побывали. Впрочем, просто побывать можно лишь в Аду или в Раю. Земля это такое местечко, где к тебе всегда прилипает пыль.
– Неужели ты тоже был в том доме? Страшный дом… В нем воздух пропитан желаниями, которые не могут сбыться. Они хранятся там, законсервированные временем. Нельзя открывать крышку. Когда открываешь крышку, они оттуда выскакивают. Обступают тебя со всех сторон и говорят… Они заставляют тебя поверить в то, во что нельзя верить. В том доме веришь во все самое несбыточное. Ты был когда-нибудь в том доме?
– Похоже, что да, – задумчиво ответил Анджей. – Но это в данный момент не имеет значения. Рассказывай дальше.
– Да, я буду рассказывать дальше. Инга так хотела, чтоб ее любили. Я ее очень любил, но ей было мало. Ей нужно было, чтобы ее все любили. И мой отец тоже. Он влюбился в нее вопреки своей воле. Когда влюбляешься вопреки своей воле, становишься злым. Тебе это известно?
– Я не пробовал сопротивляться любви, – серьезно сказал Анджей.
– Я прогнал Ингу и постарался ее разлюбить. Но так и не смог. И я стал очень злым. Она каждую ночь устраивала на крыше эти танцы. Если бы ты видел, как она танцевала… Она переплывала реку, чтоб танцевать на крыше. Для меня, понимаешь? Она думала, я захочу заниматься с ней любовью после танца. Мужчине всегда хочется заниматься любовью с женщиной, когда та для него танцует. Я очень хотел заниматься с Ингой любовью, но я дал себе клятву, что не буду этого делать. Я себе поклялся, понимаешь? Как ты думаешь, почему я себе поклялся?
– Мужчина всегда стремится быть сильнее женщины, – ответил Анджей. – Мы привыкли, женщина отдается нам, а мы ее берем. Мы очень редко отдаемся женщине, хотя нам порой этого хочется.
– Наверное, ты прав… – Парень опустил голову, согнул спину. Потом, резко выпрямившись, спросил, глядя в упор на Анджея: – Как ты думаешь, она на самом деле танцевала на той крыше, или же мне казалось, что она танцует? Знаешь, я так этого хотел… А когда я спал на веранде, мне хотелось, чтоб она ко мне пришла. Она пришла, а я ее не пустил. И очень этим гордился. Я думал, я поступил как настоящий мужчина.
– Папуля, что он тебе говорит? – шепотом спросила девица. – Смотри, не развешивай уши. Эти психи такое несут под балдой. Ну да, я как-то свистнула у одного типчика три сотни баксов, но он ни фига не заметил – у него бумажник был аж круглый от денег. И потом тот тип был блондин…
– Он говорит, что только вчера покрасил волосы. Блондины, говорит он, не могут быть настоящими мужчинами.
– Тоже мне, супермен засратый, – пробормотала девица. – Он не хотел платить. Я же не виновата, что у него… как это называется… Ну, когда эта штуковина стоит только когда он видит, как этим занимаются другие.
– Это называется инфантильностью, – сказал по-русски Анджей. – Настоящих мужчин можно отличить от всех остальных по их инфантильности.
– Я переплыл реку и сломал ее шалаш, – продолжал парень. – Мы с ней занимались в нем любовью. Когда я сломал этот шалаш, я понял, что смогу убить Ингу, и очень испугался. Но меня приласкала женщина с буксира. Она любила меня как собственного сына. И я остался на том буксире. Но домой приходил. Переплывал реку. Нонна кормила меня кашей на топленом молоке. Я очень полюбил манную кашу на топленом молоке.
Парень почмокал своими по-детски пухлыми губами.
– Нонна тоже любила меня как сына, это жена моего настоящего отца. Не того, что жил в Москве, а того, которого я считал своим дядей. Моя настоящая мама уехала в Америку, когда я был маленьким. Если бы она не уехала в Америку, я, наверное, стал бы другим. Но она влюбилась в американца. Женщина, если полюбит, может забыть про все на свете.
– Им это дается гораздо легче, чем нам, – сказал Анджей. – И знаешь почему, а? Да потому, что редко кто из них хвалится тем, что она стопроцентная женщина. Многие женщины наоборот стремятся подражать нам.
– Папуля, я хочу пописать, – захныкала девица. – Я мигом, ладно?
Она ползком добралась до двери и выскользнула в коридор. Анджей слышал, как протопали по коридору ее испуганные шаги.
– В тот вечер я был голодный, хотя мы ели шашлык и пили пиво, – продолжал свой рассказ парень. – Я поплыл домой, когда все заснули. Они подливали в пиво водку, я стал как чумной и сильно болела голова. Нонна накормила меня кашей в летней кухне. Отец спал – в его комнате было темно. Потом мне захотелось подняться в мансарду… Туда ведет узкая лестница из двенадцати крутых ступенек. Оттуда виден шалаш… – Парень вздохнул. – Было темно. Было очень темно. Кажется, отключили электричество. Она поднялась ко мне и легла рядом на полу. У меня так кружилась голова. Наверное, от этой каши… Мне очень ее захотелось. Больше я ничего не помню. Я проснулся, когда уже начало светать. Ее рядом не было. Я надел плавки и спустился вниз. Нонна сидела на лавке под деревом. Она сказала, у нее разболелась голова, и она не может заснуть. Она спросила, приплыву ли я завтра ночью, и я сказал: обязательно.
Женщина что-то пробормотала во сне. Парень посмотрел на нее.
– Знаю, она не Инга, но мне так вдруг захотелось, чтобы она была Ингой. Только у меня трезвые мозги. Это тяжело, когда трезвые мозги… Я приплыл на следующую ночь и все повторилось, как в предыдущую. Потом мне приснился сон… – Парень наморщил лоб, силясь что-то вспомнить. – Да, это был сон. После каши, которую варила Нонна, мне всегда снились сны. Странные сны… Мне снилось, будто это Нонна, а не Инга лежит рядом со мной на полу. Я занимался во сне любовью со своей мачехой. Она была такая ласковая… Думаю, отец знал про этот сон. Я отомстил отцу за Ингу.
Послышался рокот мотора. За рулем сидел неопытный водитель, мотор чихал и захлебывался.
– Сбежала, – констатировал Анджей. – А ведь могла сорвать хороший куш.
– Я переплыл домой и на следующую ночь тоже, – рассказывал парень, не обратив внимания на слова Анджея. – Нонны не оказалось дома. На плите стояла кастрюля с кашей. Я уже жить не мог без этой каши. Потом мы снова занимались любовью. Лодка плыла по течению, в реке отражались звезды, а мы занимались на дне любовью. Мне хотелось заниматься любовью до утра. Но чтобы лодка не плыла, а стояла на месте. Она сказала: брось якорь. Они лежали на корме, два больших чугунных якоря. Она помогла мне бросить эти якоря и прыгнула в воду. Она сказала, что искупается. Она вернулась, и мы опять занимались любовью. Но лодка все равно плыла. Она сказала, ее сорвало с якоря… Я проснулся в кустах возле того места, где был шалаш. Уже рассвело и мне стало холодно. Я пошел на буксир и лег спать в каюте.
– Я не знал, что маленькие дети так любят манную кашу, – заметил Анджей. – Думаю, ты поплыл туда на следующую ночь тоже.
– Да, – глухо ответил парень. – Меня точно за веревочки дергали. Я снова спал с ней и видел сон про то, что занимаюсь любовью с мачехой. В тот раз мне было стыдно во сне перед отцом. Но когда я проснулся, я понял, что снов стыдиться нельзя. Они от человека не зависят. Днем я не помнил про эти сны… А потом я увидел Ингу на дне. Она была такая красивая и совсем живая. Нонна, моя мачеха, плакала. Она думала, Ингу утопил я, и боялась, что меня посадят в тюрьму. А мне очень хотелось той каши, но она сказала, что у нее закончилась манная крупа… Я хочу в дом у реки…
Он качнулся, упал и провалился в сон. Анджей встал, зажег свет и внимательно всмотрелся в лицо парня.
– Мой внук, – пробормотал он. – Бог из машины пришел напомнить Анджею Ковальскому о том, что его семя бессмертно.
HAPPY END
– Умный человек всегда должен соображать, с кем ему выгодней ладить. Для этого нужно жить разумом. Тот, кто предпочитает жить чувствами, всегда остается в проигрыше. В молодости многие этого не понимают и превращаются в жертвы других людей. Чувства… Какая глупость. Испытывать чувства значит жить в постоянной зависимости от того, к кому их испытываешь. Один любит, другой уже разлюбил. Любовь не может длиться вечно. Разум дан человеку для того, чтобы он не зависел от своих чувств.
Одетая в черный кожаный комбинезон Тина сидела на подоконнике узкого окна-бойницы, из которого открывался вид на океан. Внизу торчали острые верхушки скал.
Загасив о подоконник сигарету, Тина встала, подошла к лежавшему на полу Яну, присела перед ним на корточки. Достав из кармана нож, ловко перерезала веревки, которыми были связаны его руки.
– Эти мерзавцы хотели выбить тебе зубы, – сказала она. – У тебя очень красивые зубы. Я заметила это в самый первый день. Я очень люблю мужчин с настоящими зубами. Сандхья скажет спасибо, что я сохранила их тебе. Эта девчонка тоже любит все натуральное. Она так похожа на меня. Я поняла с самого первого дня, что она в тебя влюбится.
– Где она? – спросил Ян, потирая затекшие пальцы. – Ты пообещала, что я увижу ее.
– Не сейчас. – Тина села на пол и обхватила руками колени. – Ты не понравишься ей в таком виде. Она, как и я, любит все красивое. Левый глаз у тебя почти совсем заплыл. Зачем ты затеял драку? Неужели ты не понял, что пролог к этому спектаклю был написан еще тогда, когда тебя подобрали на набережной в Ормаре? Мой слабоумный муж не смог придумать ничего лучшего, как привезти тебя в подарок Сандхье. Она еще совсем ребенок, и чувства в ней преобладают над разумом, хоть у нее и умная головка. Я твердила ему, что дело зашло слишком далеко, но он не торопился принять меры. И тогда их вынуждена была принять я. Сандхья, когда поправится, скажет мне спасибо.
– Она больна? – с тревогой спросил Ян. – Что ты с ней сделала?
– Какой же ты пылкий. Настоящий романтический влюбленный. Удивительно, что жизнь не охладила твои порывы. Я сделала с Сандхьей то, что должна сделать с дочерью любящая мать, чтобы уберечь от разочарований. Сейчас она спит и видит тебя во сне. Девичьи сны так сладки и нежны. Она думает, так же сладки и нежны поцелуи и ласки мужчин. Увы, она заблуждается. И очень скоро поймет это.
Тина поднялась с пола и позвонила в колокольчик. Вошел слуга в белой хламиде и тюрбане. Он остановился на пороге и низко поклонился.
– Али, пускай подают обед. Пришли сюда Ахмеда и Ромеша. Проследи, чтобы господин Чандар побрился и переоделся в приличный костюм. У меня портится настроение, когда я вижу неряшливо одетых мужчин.
Ромеш, молоденький тонкокостный юноша в большом фиолетовом тюрбане и красных шароварах обмыл лицо Яна мягкой губкой. Ахмед принес белую сорочку и синие бриджи. В столовую Яна сопровождали два здоровенных негра.
– Приветствую вас, молодой человек. – Господин Чандар приподнялся ему навстречу и протянул руку. – Очень рад, что вы почти не пострадали. Сожалею, что спектакль прошел на редкость бездарно. Мы замешкались с поднятием занавеса, и потому действие пришлось скомкать до неприличия. Я…
– Помолчи, Роби, – спокойно и властно остановила его Тина. Она успела переодеться в длинное платье из нежно-зеленого шелка. На плоской груди сияли крупные бриллианты. – Твой бывший секретарь интересуется здоровьем госпожи Сандхьи. Разумеется, это не очень тактично с его стороны, однако, думаю, мы простим ему столь досадную неловкость – он почти не знаком с обычаями и традициями нашей древней страны.
– Видите ли, молодой человек, моя дочь пережила потрясение, связанное с…
Послышалось поскрипывание колес и на пороге столовой появилось кресло-каталка, в котором сидел юноша с прямыми черными волосами до плеч и продолговатыми, как миндалины, глазами. Он окинул всех взглядом, на мгновение задержав его на Яне. На его губах играла ироничная улыбка.
Ян обратил внимание, как изменилось с появлением юноши выражение лица Тины – оно стало жалким и растерянным.
– Знакомьтесь – мой сын Ричард, – обратилась Тина к Яну. Господин Чандар открыл было рот, намереваясь что-то сказать, но Тина опередила его: – Да, он мой, только мой, хоть ты и усыновил его и дал свою фамилию. К счастью, у Дика мой характер. Характер стопроцентного мужчины, а не жалкого безвольного болванчика, который позволяет другим распоряжаться своей жизнью. Господин Ковальски, разве Сандхья не рассказывала вам, что у нее есть брат? О да, она очень скрытная девочка и вряд ли откроет первому встречному тайны своей семьи. Это ваш бывший хозяин любит болтать языком. Таков удел всех мужчин, потерпевших полное фиаско в жизни.
Ян бросил взгляд на господина Чандара. У того было лицо человека, понявшего, что в схватке с жизнью потерпел поражение он.
– Господин Ковальски, надеюсь, вам нравится наш остров? – заговорил юноша высоким ломким голосом. – Ах да, у вас еще не было возможности его осмотреть, но я готов вам ее предоставить. Здесь, в отличие от Европы, никогда не бывает зимы и снега. Ровный, умеренно жаркий климат, вечнозеленая растительность, безбрежный океан и усеянное экваториальными созвездиями небо над головой. Настоящий рай для тех, кто собрался провести остаток жизни в созерцательном покое и медитациях. Я думаю, мистер Ковальски, вы по натуре философ и мудрец. Сандхья пробудила в вас несбыточные надежды и желания. Влияние молодости на человеческий организм подобно действию вина. Однако человек не может прожить всю жизнь в опьянении. Я надеюсь, вам понравится на нашем острове. Я в свою очередь очень рад, что столь незаурядный человек, как вы, господин Ковальски, избрали его своим пожизненным пристанищем. Нет, я не советую вам пытаться изменить то, что в любом случае останется неизменным, – сказал Ричард Чандар, заметив, как сжались кулаки Яна. – Любое насилие уже доказало свою полную беспомощность в этом мире, где в итоге восторжествует разум. Только разум способен обуздать злую разрушительную энергию чувств и восстановить в первозданном виде некогда нарушенную человеком гармонию.
Ричард пустился в философские рассуждения, нить которых Ян быстро потерял. Он думал о Сандхье. Он силился понять суть происшедшего. И был вынужден признаться себе в том, что не в состоянии ее постичь.
…Когда он прыгнул на палубу терпящей бедствие шхуны и бросился на корму, где, как он знал, располагались каюты для пассажиров, ему навстречу выскочила Сандхья – босая, в тонкой ночной рубашке, с всклокоченными волосами. В ее руках был револьвер. «Не подходи! – крикнула она. – Предатель! Я тебя ненавижу!» Зажмурив глаза, она выстрелила. Пуля, пролетев в дюйме от его плеча, сразила бежавшего следом за ним матроса с «Сандхьи». В ту же секунду откуда-то возникшая Тина выбила из ее рук револьвер. Сандхья упала на палубу и стала по ней кататься, посылая проклятья в его адрес. Ян бросился к возлюбленной, но его сшибли с ног громилы в набедренных повязках. Они избивали его босыми ногами, а Тина стояла рядом и следила за тем, чтобы удары не приходились по лицу. Он очнулся на полу в маленькой комнатке с узким окном, похожим на бойницу, со связанными ногами и руками. И увидел перед собой Тину.
– Господин Ковальски, я вижу, вы меня не слушаете, а я, между прочим, говорю о вещах, которые касаются непосредственно вас, – слышал Ян почти срывающийся на визг голос Ричарда Чандара. – Послезавтра состоится ваше бракосочетание с моей дорогой и любимой сестрой Сандхьей. Вы рады? Признайтесь, вы ведь хотели назвать мою сестру своей женой?
– Она обозвала меня предателем, – перебил Ричарда Ян. – Сандхья говорит всегда то, что думает. Я это знаю.
Ричард дернулся, опрокинув на скатерть бокал с вином.
– Ничего ты не знаешь! – крикнул он. – Ты… Кто ты такой? Жалкий оборванец, сдыхавший от голода на набережной в Ормаре! А возомнил себя чуть ли не богом! – Он едва не задохнулся от злости. – Сандхья любит меня, одного меня, ясно тебе?
– Успокойся, Дик, – подала голос Тина. – Разумеется, Сандхья любит только тебя, но ведь господин Ковальски этого не знает. Мы все внушали ему, что Сандхья любит его. Она сама говорила ему об этом. Умная девочка. Сандхья в этой жизни не пропадет.
– Мама, а если он не захочет… – Ричард бросил испуганный взгляд на Яна и откинулся на спинку инвалидной коляски. – Мама, я хочу, чтобы он на ней женился.
– Господин Ковальски обязательно женится на твоей сестре. – Тина встала и, подойдя к Дику, прижала его голову к своей груди. – Не волнуйся. У него нет выхода. Это будет замечательная пара. Жена будет наставлять рога своему дорогому муженьку, а он – предаваться медитациям на тему недолговечности чувств и обманчивости надежд. Думаю, этими размышлениями господин Ковальски доведет себя до такого экстаза, что на нашем острове появится собственный садху. Дик, тебе вредно нервничать, – Тина нежно поцеловала Ричарда в макушку. – Ты не забыл выпить лекарство? Успокойся, пожалуйста, и предоставь все мне.
– Да, мама. Ты сделаешь все, как надо. Только зачем ты заставила отца меня усыновить? Ведь если бы он меня не усыновил, я и Сандхья…
– Дик, возьми себя в руки. – Тина бросила быстрый взгляд на Яна. – Сандхья твоя сестра. Она очень тебя любит.
Еще раз поцеловав Ричарда, Тина вернулась на свое место.
– Господин Ковальски, – в голосе ее звучал металл, – вы поступите так, как распоряжусь я. В противном случае…
Господин Чандар вдруг закашлялся и приложил ко рту салфетку. Она тут же пропиталась кровью.
– Надеюсь, ты наконец понял, что сопротивляться бесполезно, – говорила Яну Тина. Они прогулялись по острову и теперь стояли на смотровой площадке на вершине самой высокой скалы. Они поднялись туда в лифте, представлявшем собой герметично закрывающийся куб с прозрачными стенами. Внизу под их ногами был океан. Ян догадался, что лифт спускается на океанское дно, и Тина подтвердила его догадку. – Под островом расположен подводный замок, – рассказывала она. – Мой сын любит наблюдать за жизнью обитателей морских глубин. Он чувствует себя хорошо лишь вдали от цивилизации. Дик не может жить в большом городе. Сандхья тоже любит природу. У них с Диком много общих интересов.
Ян вглядывался в океанские дали. Остров был небольшой – мили две с половиной в длину и примерно полторы в ширину. Он напоминал огромного крокодила, отдыхавшего на поверхности воды с поднятыми кверху лапами и раскрытой пастью. Замок удачно вписывался в окружающий пейзаж – естественное нагромождение розоватых камней, искусно подправленное рукой человека. Густая тропическая растительность покрывала изумрудным ковром свободную от скал сушу. Все цвело и благоухало непреходящей весной.
– Я должен повидаться с Сандхьей, – сказал Ян, переведя взгляд на Тину. – Да, я согласен стать ее мужем, но я не собираюсь быть пешкой ни в чьих руках. Если вы не предоставите мне возможность повидаться с Сандхьей до нашего бракосочетания, я откажусь от него.
Тина рассмеялась. Оборвав смех, сказала Яну устало и с сожалением:
– Ну и дурак. А ты мне очень нравился. Я все надеялась, что мы найдем общий язык. Зачем тебе эта девочка? В твоем возрасте скучно возвращаться к давно пройденному. Пусть дети играют в свои игрушки. Мы с тобой придумаем что-нибудь поинтересней.
Она смотрела на него с вожделением.
– Нет, – упрямо возразил Ян. – Я должен увидеть Сандхью.
– Что ж, как хочешь. Мне не хотелось доставлять тебе лишние страдания. Но таких упрямцев, как ты, жалеть ни к чему.
Они спустились в лифте под воду. Когда стеклянный куб достиг дна, его обхватили сильные резиновые щупальцы и втянули в щель между двух скал. Стало темно. Через минуту вспыхнул яркий свет, и они очутились в большой комнате, заставленной цветущими растениями в кадках и горшках. Ян обратил внимание на вооруженных мулатов в набедренных повязках.
– Бракосочетание, я полагаю, нужно провести наверху. – Тина взяла Яна под руку. – Это в традициях нашей страны. Сандхья уважает традиции.
Девушка сидела на усыпанном цветами полу, поджав под себя ноги. Она подняла голову и посмотрела на Яна испуганно и недоверчиво.
– Он хотел видеть тебя, – сказал Тина. – Я оставлю вас вдвоем.
– Не уходи. – Сандхья не сводила с Яна настороженных глаз. – Я боюсь его. Я боюсь… себя.
– Сандхья, я люблю тебя, – сказал Ян, приближаясь к девушке и склоняя перед ней голову. – Почему ты назвала меня предателем?
– Неужели ты сам не догадался, Манматха? Ты занимался любовью с Тиной. Я думала, тебе хватало нашей любви. Я слышала, мужчина не может долго обходиться без женщины, но мне казалось, что ты – особенный мужчина. Я так верила тебе. – Она горько вздохнула. – Я не поверю теперь ни одному мужчине, кроме Дика. Дик меня по-настоящему любит и никогда не изменит.
– Сандхья, это неправда! – воскликнул он, почему-то не надеясь, что девушка ему поверит. – Как ты могла подумать, что…
– Не надо, Манматха, – перебила его Сандхья. – Ты не виноват, что не смог стать моим богом. Сперва я очень рассердилась на тебя за это и даже хотела твоей смерти. Но теперь я поняла, что не вправе сердиться. Я слишком многого хотела от жизни. И от любви тоже… Я больше не хочу тебя любить. Это очень больно. Прошу тебя, Манмахта, уйди. У меня болит все внутри. Тина, пожалуйста, уведи его.
– Они хотят, чтобы мы стали мужем и женой, – сказал Ян. – Я отказываюсь участвовать в этом…
– Манматха, сделай это для меня. – Сандхья снова подняла на него свои большие печальные глаза. – Ты будешь свободен, Манматха. Я никогда не стану принуждать тебя делать то, чего ты не хочешь. Я не буду делить с тобой ложе. Тине нужно, чтобы я вышла за тебя замуж. Я верю ей. Тина заменила мне маму. Прошу тебя, Манматха, сделай так, как нужно Тине.
– Я сделаю так, как ты хочешь.
Он повернулся и поспешил выйти из комнаты, боясь, что Сандхья увидит его слезы.
– Смотри: это все твои владенья. Этот остров, коралловые рифы вокруг, тот остров, на котором дымится вулкан. И весь океан тоже. Ты – очень богатый человек.
Тина управляла небольшим вертолетом. Они были вдвоем в кабине, если не считать большого сонного ротвейлера. Собака то и дело поглядывала на Яна настороженными глазами, но вела себя вполне дружелюбно. Тина предупредила его, что Ариэль, так звали собаку, не выносит резких движений.
– У тебя красавица-жена и солидный счет в банке, – продолжала Тина. – В брачном контракте, который ты подписал, оговорено, что со смертью одного из супругов все состояние переходит другому. Надеюсь, ты не желаешь Сандхье смерти? Думаю, со временем у вас все наладится. Девочка поймет в конце концов, что ни один мужчина не способен на верность. Даже если ты не поддался соблазну сейчас, ты поддашься ему через неделю, месяц, год. Какая разница? Фактор времени имеет значение лишь для европейцев. В этой стране на время смотрят иначе. Оно взаимообратимо. Будущее здесь часто принимают за прошлое. Потому Что индуизм – самая мудрая из всех религий.
Ян молча слушал Тину. Минул месяц с того дня, как состоялось их с Сандхьей бракосочетание. Свадебный пир длился два дня. Все это время они возлежали рядом на высоком, украшенном цветами ложе, принимая подарки и поздравления. Они старались не смотреть друг на друга и улыбались только когда того требовал брачный этикет. Однажды рука Яна случайно коснулась руки жены, и девушка тут же отдернула ее.
Потом они спускались вдвоем в прозрачном кубе-лифте навестить заболевшего господина Чандара. Сандхья тихо сказала глядя себе под ноги:
– Спасибо тебе, Манматха. За то, что ты не оправдываешься. Я боялась, что ты будешь…
Ей изменил голос.
Больше они не обменялись ни словом.
Ян был свободен в своих передвижениях по острову. Он часами сидел среди скал на дальнем его конце и глядел на океан. Во время своих многочасовых прогулок он ни разу не встретился с женой. Зато Тина попадалась ему часто. Он подозревал что не случайно. Тина была с ним приветлива и разговорчива. Сегодня она пригласила его на прогулку по воздуху. К своему удивлению, Ян согласился.
– Меня пьянит высота, – призналась Тина. – Я чувствую себя очень счастливой. И знаешь почему? – Она кокетливо улыбнулась. – Ты согласился провести время со мной по собственной воле. Я не принуждала тебя, ведь правда? Я вовсе не такой монстр, каким ты меня наверняка считаешь. Просто я всю свою жизнь вынуждена была бороться за то, что другим падало с неба. А главное, меня никто не любил по-настоящему. Вряд ли мужчины подозревают, во что превращается женщина, которую никто не любит. Нет, не в монстра – это было бы слишком примитивно. Монстр всем без исключения делает зло или хотя бы его желает. Я не люблю делать зло. Напротив, я всегда вступаюсь за тех, кому сделали либо пытаются сделать зло. Да, я презираю мужчин и уверена, что среди них нет ни одного, кто мог бы долго хранить верность женщине, которую любит. Мужчина считает, будто он снисходит до женщины, выбирая ее себе в возлюбленные. Почему ты молчишь, Ян? – вдруг спросила Тина. – Сандхья недаром называет тебя Манматхой – это самый лукавый и загадочный бог. Если верить легенде, сам Шива его опасался и превратил в нечто бестелесное. Разве это не насмешка над природой?
Вертолет пошел на снижение. Под ними был небольшой остров – круглая ровная площадка, окруженная высокими пальмовыми деревьями, явно посаженными человеческой рукой. Океан вокруг острова просвечивал розоватыми кружевами коралловых рифов.
– Люблю здесь бывать, – сказала Тина, когда вертолет мягко сел в самом центре площадки. – Порой я провожу здесь в полном одиночестве несколько часов. Все фантазирую, как бы сложилась моя жизнь, если бы я вдруг встретила мужчину, способного хранить мне верность. Последнее время все больше и больше прихожу к выводу, что жизнь моя в таком случае сложилась бы однообразно и скучно. Уж лучше пускай меня считают монстром…
Ян шел следом за Тиной по узкой тропке среди скал. В пещере, куда она его привела, стояли мягкие диваны, обитые белой кожей. Посередине был небольшой бассейн в форме морской звезды. Тина нагнулась и извлекла из него бутылку. Стаканы стояли в баре.
– Местное вино. Говорят, раскрепощает сознание, и человек становится свободным от влияния прошлого. – Тина наполнила стаканы прозрачной розовато-золотистой жидкостью. – Он помнит его, но не связывает с собой. Я выпила очень много этого вина. Мне так хочется почувствовать себя свободной от прошлого. Подчас мне кажется, я на самом деле освобождаюсь от него, вылезая из прошлого как змея из собственной кожи. И мне вдруг делается легко и хорошо. – Она протянула стакан Яну. – Выпей и ты. Забвение врачует раны. Я думаю, у тебя много ран…
– Я крепко полюбила его, хотя уже была довольно опытной в любовных делах, – рассказывала Тина, забравшись с ногами на кресло. – К тому времени я прожила два с половиной года с одним богатым персом, родила сына. Мы собирались пожениться, когда появился Рабиндранат, Роби, как звали его сокурсники. Внешне ничего примечательного: невысок ростом, в лице что-то женственное. Поначалу мы думали, Роби гомосексуалист, и девушки не проявляли к нему особого интереса. Он много занимался и редко появлялся на студенческих вечеринках. Однажды мы справляли чей-то день рождения и здорово выпили, потом еще курили травку. Я задремала рядом с ним на диване. Когда проснулась, в комнате, кроме нас, никого не было. Я чувствовала себя расслабленной, мне захотелось любви. Роби оказался очень нежным и ласковым любовником.
Мы стали встречаться. Его ласки были необычны – индусы искусные любовники. Женщина млеет под ласками мужчины-индуса, потому что их религия учит: высшего наслаждения можно достичь лишь через наслаждение женщины. Скоро мы решили пожениться, и наши родители этому браку не препятствовали. На первых порах все шло замечательно – общие интересы, радости в постели, мечты о будущем. Я скрыла от Роби, что у меня есть сын. В ту пору Дик жил у моих родителей в Дели. Он был болезненным ребенком. У меня дурная наследственность по линии матери, и я боялась, что и наш с Роби ребенок родится неполноценным. Отец Роби, господин Чандар-старший, очень хотел, чтобы у нас были дети. Я же убеждала Роби повременить, ссылаясь на то, что сперва нужно закончить колледж. Он со мной согласился.
Как-то я улетела в Дели на рождественские каникулы. Меня не было две недели – Дик заболел корью, и врачи считали положение весьма серьезным. Когда опасность миновала, я вернулась в Лондон. Я сразу поняла, что Роби завел себе подружку. Когда я сказала ему об этом, он и не подумал отпираться. «Я не могу долго без женщины», – заявил он. Я плакала, я хотела развестись с Роби, но он уговорил меня не делать этого. Мы занимались любовью, и я старалась не думать о том, что Роби совсем недавно так же ласкал другую женщину. На мои упреки он отвечал: «Какая разница, когда это было – до или после того, как я тебя встретил? У тебя тоже был любовник. Я у тебя не первый и не последний. Я не упрекаю тебя за это». Спорить с Роби было бесполезно. Отныне я ревновала его ко всем женщинам.
– Оно помогает, – заметила Тина, допивая остатки вина в стакане. – Прошлое уже кажется мне кинофильмом. Героям сопереживаешь, но как-то не всерьез.
Потом я застала Роби в постели со своей подругой – в тот день у него не было занятий, а я почему-то пришла раньше. Я обозвала эту Хелен шлюхой и вцепилась ей в волосы. Но Роби сказал, что я очень глупая, – ведь он занимался любовью не с чужой девушкой, а с моей лучшей подругой. А это нельзя назвать изменой.
Таких эпизодов было немало. Я опять подумывала о разводе, я превратилась в настоящую мегеру, со мной случались истерики, я завалила почти все экзамены. Вдобавок ко всему потерпела крах компания моего отца, а на лечение Дика требовалось много денег. Я смирила гордыню и подчинилась обстоятельствам. Мы даже занимались с Роби любовью – я всегда была рабой своей плоти.
Он закончил колледж и вернулся в Мадрас. Его отец настаивал, чтобы я бросила учебу и приехала к мужу, но мне хотелось получить степень бакалавра и стать полностью независимой. К тому времени я уже не верила ни одному мужчине.
Господин Чандар позвонил мне как-то и сказал, чтобы я немедленно вернулась домой. Он сообщил, что его сын связался с девицей легкого поведения. Я бросила колледж и прилетела в Мадрас.
Думаю, он успел рассказать тебе про эту Лолу и даже, наверное, пустил слезу. Не знаю, что он тебе о ней говорил, но это была обыкновенная храмовая шлюха, которая может отдаться любому мужчине за несколько рупий или просто так. Их специально обучают искусству отдаваться мужчине. Я встретилась с ней и сказала, что, если она родит ребенка от Роби, я дам ей три тысячи долларов. Она не ответила ни «да» ни «нет». Они ненормальные, эти девадаси. Они доводят себя до экстаза своими танцами и у них начинаются всякие видения.
Роби бросил работу в фирме отца и поселился с этой Лолой на окраине Мадраса. Господин Чандар был вне себя от ярости и составил завещание, согласно которому его сын лишался наследства. Это было не в моих интересах. Я уговорила господина Чандара завещать все нашим будущим детям.
Я зачала ребенка от Роби – он не гнушался моими ласками, хоть и был влюблен в эту Лолу как безумный.
Господин Чандар воспрянул духом, узнав о том, что будет наследник. Он переписал завещание, и после его смерти наследством должна была распоряжаться я. Потом кто-то донес, что у меня есть Дик. Господин Чандар снова переписал завещание. Он оставлял все сыну, но при том условии, что Роби вернется ко мне. Я боялась, что старику может прийти в голову еще раз переписать завещание. Я боялась остаться ни с чем.
Тина встала, наполнила свой стакан и сделала несколько глотков.
– Нет, это уже совсем не страшно. Это было в кино. В том старом кино про чужие страсти. Я работала от нечего делать в аптеке – мне с детства нравилось иметь дело с лекарствами, этими безобидными с виду жидкостями и порошками, от которых зависит жизнь и смерть человека. Это казалось мне какой-то игрой… Когда господин Чандар умер, я испытала угрызения совести. Но потом я вспомнила о том, что после инфаркта врачи твердили в один голос, что дни господина Чандара сочтены. Он умер в доме, где Роби жил с этой Лолой. Она перепугалась и удрала. Я к тому времени уже знала, что она беременна. Я наняла сыщиков и, когда они ее нашли, поручила одной бывшей девадаси приглядывать за этой девчонкой. Я посылала ей фрукты и разную еду – я очень хотела иметь этого ребенка. Я больше не собиралась зависеть от своего бесхарактерного мужа. Я была уверена с самого начала: этот ребенок будет любить меня как родную мать.
У меня случился выкидыш, и врачи сказали, что я больше никогда не смогу иметь детей.
Я знала, Лола вот-вот должна родить – мы с ней зачали почти одновременно. Та самая нищенка – бывшая девадаси, которая ухаживала за девчонкой, нарочно попалась ему на глаза. Она привела Роби в квартирку, где его возлюбленная корчилась в предродовых схватках. Девочка родилась вполне здоровой. А мать умерла.
Тина допила стакан до дна.
– Старая мелодрама. Не люблю этот жанр. В моих жилах течет все-таки англо-саксонская кровь, хоть я родилась и выросла в этой непостижимой разумом стране.
Роби быстро оправился от потрясения и принялся за старое. Но он был очень благодарен мне за то, что я по-настоящему полюбила Сандхью. Как-то в приступе благодушия он сказал, что усыновит моего Дика. Сандхья не знала, что у нее есть брат, – Дик провел почти всю жизнь в европейских клиниках. Я боялась, девочка будет его стыдиться. Но у нее оказалось очень доброе сердце. Дик влюбился в Сандхью с первого взгляда. Бедняга не подозревал, что даже если бы они не были братом и сестрой, он никогда не смог бы стать ее мужем. Ведь у Дика парализована нижняя часть туловища. Врачи внушают ему надежды, но я-то знаю, что он безнадежен.
Какое-то время она молчала, потом сказала, глядя Яну в глаза:
– Не осуждай меня за то, что я сказала Сандхье неправду. Я позавидовала вашей любви. Быть может, ты не такой, как все остальные мужчины, и ты бы никогда ей не изменил. Но я не могла допустить, чтобы эта девочка, дочь малограмотной шлюхи и безвольного рохли с неутомимым фаллосом вместо мозгов, была счастливей меня. Это выше моих сил.
…Судя по всему, Ариэль считал его теперь своим. Он даже не поднял головы, когда Ян встал с дивана и начал неторопливо натягивать штаны. Тина спала, бесстыдно раскинув ноги.
Он наконец совершил то, в чем его, безвинного, обвинила Сандхья. И стало легче. До этого боль была нестерпимой, и он подумывал о смерти. Теперь эти мысли отступили.
Он вышел из пещеры и опустил полог. Еще с воздуха он приметил в заливчике, окруженном с трех сторон скалами, небольшую шхуну. С такой шхуной вполне можно управиться одному, без команды. А если поднимется буря…
Из всех смертей Ян предпочел бы смерть в открытом море.
Он не чувствовал вины перед Садхьей. Он любил ее всей душой и не боялся уйти в эту любовь с головой. Он вспомнил слова буддийского монаха и усмехнулся.
Отныне он никогда не свяжет свои сокровенные надежды с реальным человеческим существом. И не будет представлять исполнение своей мечты в поступках либо деяниях, ограниченных земным существованием.
Сокровенных надежд у него нет. Вообще слова «мечта» и «несбыточность» он воспринимает как синонимы.
У него не было интимных отношений с женщинами еще со времен Лидии. Когда-то в молодости он был уверен, что первая любовь станет и последней его любовью.
Это было так наивно…
Он рос наивным, огражденным от жизни ревнивой материнской любовью. Родители, мать в особенности, жили им и для него. Он был уверен, им и ради него будет жить любимая женщина.
Лидия была согласна на все. Лидия жила только им. Он ее бросил. Он сам не знает почему.
Ну а потом появилась Маша и заполнила собой весь мир.
Их было двое – мать и дочь.
Которую из них он любил больше?..
Ян стоял в штурманской рубке и смотрел вперед. Он держал курс на норд-норд-вест. Там, за этой безбрежной безмятежной голубизной была суша. Огромный материк, распластавшийся на спине мирового океана.
Последнее время его со всех сторон окружал океан. Ему вдруг захотелось на сушу, домой.
Дом, подумал Ян, это объятия любимой женщины, в которой он готов был раствориться без остатка.
Он вспомнил слова буддийского монаха, и, чтобы не разрыдаться, до боли в суставах стиснул штурвал.
Роскошная прогулочная яхта «Мария», скользя по гладкой поверхности Оманского залива, чудом избежала столкновения с небольшой яхтой «Макара».[69] Это случилось в ноль часов восемнадцать минут по Гринвичу 22 ноября 1988 года, о чем была сделана соответствующая запись в судовом журнале «Марии». На шхуне было темно, и второй помощник доложил капитану, что встречное судно либо терпит бедствие, либо на нем никого нет.
Капитан Харви Эл Маккензи приказал спустить шлюпку с двумя матросами, чтобы они обследовали «Макару» и выяснили в чем дело.
Через двадцать три минуты радист доставил капитану Маккензи радиограмму. В ней сообщалось, что на шхуне обнаружен мужчина, привязанный веревками к койке. Мистер Гудмен также доводил до сведения капитана, что мужчина находился в невменяемом состоянии.
Капитан Маккензи был старым морским волком и мгновенно принял решение. Он продиктовал радисту ответную радиограмму. Через двадцать восемь минут матросы подняли на борт «Марии» худого, обросшего густой рыжеватой щетиной мужчину. Он кричал на непонятном языке и дико вращал глазами.
– Что случилось? – спросила Маша, всем телом прижимаясь к Бернарду. – Там… там кто-то кричит.
– Спи спокойно, любимая. – Он положил ладонь на ее горячий живот. – Какой-нибудь матрос выпил слишком много виски. Капитан быстро приведет его в чувство.
– Берни?..
– Да, моя девочка?
– Мне кажется… Я очень счастлива. И я люблю только тебя. Я, наверное, всю жизнь любила только тебя.
Он ласково укусил ее за мочку и нежно проник кончиком языка в ушное отверстие.
– Берни?..
– Да, моя маленькая Маджи?
– Это правда?
– Что? – не понял он.
– То, что мы любим друг друга. Или нам это снится?
– Пускай снится. Какая разница? В медовый месяц должны сниться волшебные сны.
– А когда… когда мы проснемся? Что случится тогда? – Маша чувствовала, как ее захлестывает волна желания.
– Напьемся виски и будет орать, как этот матрос. Уверен, он сейчас чувствует себя еще счастливей, чем мы.
– Счастливей не может быть, – шептала Маша, отдаваясь Бернарду. – Нет, я не хочу, не хочу просыпаться…
«Мария» держала курс на Цейлон и дальше в Австралию и Новую Зеландию. Маша и Бернард Конуэй решили ознаменовать свое бракосочетание путешествием вокруг света.
– С ним все в порядке, – доложил капитану доктор Шекли, выходя из каюты, в которую поместили мужчину со шхуны «Макара». – Этот парень решил свести счеты с жизнью. Причем, как он признался, ему захотелось сделать это с особой жестокостью к себе. Он привязал себя к койке таким образом, что развязать узлы сам он бы не смог. На столике рядом он оставил бутылку с питьевой водой и пачку галет. Похоже, его «подвиг» запечатлят на страницах «Гиннеса». Мир кишит чудаками.
– Он не сказал, как его зовут? – спросил капитан Харви Эл Маккензи.
– О, это еще тот пройдоха. – Доктор Шекли загадочно улыбнулся и, стащив резиновые перчатки, швырнул их в бачок для мусора. – Мистер Маккензи, вам приходилось читать легенду о боге Каме?
– Нет, – признался капитан. – Я предпочитаю книги по навигации и детективы.
– И правильно делаете. – Доктор Шекли вздохнул. – Да, кстати, что вы собираетесь сделать с его шхуной?
– Я отдал приказ взять ее на буксир.
– Этот чудак говорит, ее нужно потопить. Иначе ему снова захочется проделать с собой тот же фокус.
– Мы сдадим его медикам в Коломбо, – проворчал капитан. – Еще мне не хватало на борту психов.
Доктор Шекли тряхнул головой и, лукаво прищурившись, спросил:
– Вы давно влюблялись в последний раз, мистер Харви Эл Маккензи?
– Похоже, резиновые перчатки предохраняют далеко не от всех микробов, – проворчал капитан и стал подниматься к себе на мостик.
– Вы совершенно правы, – согласился доктор Шекли. – Дело в том, что некоторые из них передаются… как бы это точнее сказать… Ну да, через мысли, слова и вообще… Очень жаль, что я не стал психиатром. Мне кажется, нет веселей местечка, чем сумасшедший дом.