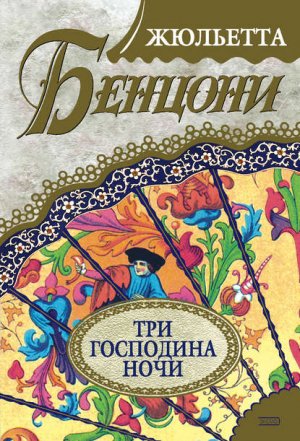
Предисловие
В век Просвещения ночи были, наверное, темнее ночей минувших веков, потому что никогда прежде человек в поисках собственной сути и в стремлении к совершенству не обращался так решительно к наслаждению, золоту и тайне.
Калиостро, Казанова и Картуш – Чародей, Распутник и Разбойник – в каждом из них по-своему воплотилось желание выйти за рамки Судьбы. Судьбы, которая изначально не предвещала ни того, что они займут место на ярко освещенных подмостках Истории, ни того, что на них упадет отсвет сверкающих огней рампы.
Если бы не легкое помешательство высшей Воли, которой подвластна участь всякого живущего, Картуш остался бы бочаром в Бельвиле, Калиостро – цирюльником в Палермо, а Казанова пиликал бы на скрипке в жалком венецианском оркестрике или прозябал бы в безвестности среди низших чинов духовенства. И тогда слегка поблекло бы роскошное празднество XVIII века…
Кроме того, эти три человека оставили такой след в своем столетии, что их темные, прихотливые и временами почти сходившиеся пути безраздельно заполняли сладкие или кошмарные сны современников. И более того, они еще долго будут тревожить воображение потомков и возбуждать их любопытство. Несомненно, дольше, чем судьбы многих королей.
Еще больше их сближает общий инициал, тонкий полумесяц третьей буквы латинского алфавита,[1] соединяющий их в мрачную тройную звезду. Она сверкает во тьме ночей, каждая из которых была для них путешествием, приключением и возможностью все начать сначала…
Смерть в заточении, одиночестве и на эшафоте была для них равно жестокой, но – «в царстве ночи нет ни времени, ни пространства…», и потому их тени выросли до беспредельных размеров, став Легендой.
Остается узнать, что скажет об этом История…
Казанова
1. Первые шаги соблазнителя
Промозглым октябрьским утром 1733 года по лагуне скользила, направляясь к Мурано, узкая черная гондола. В ней, тесно прижавшись друг к другу, сидели всего два пассажира: женщина в годах, одетая в лиловое бархатное платье, такие носят зажиточные горожанки, и заморыш лет восьми или девяти, одной рукой вцепившийся в ее юбку, а другой прижимавший к узкому личику испачканный кровью платок. Видно было, что мальчику страшно очутиться за пределами родной Венеции, и женщина время от времени склонялась над ним, чтобы подбодрить.
– Не бойся, мой Джакомо! Главное – не бойся! Тебя вылечат, я совершенно в этом уверена.
Гондола наконец подошла к острову Мурано, окутанному серым дымом от огней стеклодувов, пристала к берегу рядом с великолепной романской апсидой церкви Санта-Мария-и-Донато.
– Подождите нас! – приказала дама двум гондольерам. – И не вздумайте уйти в кабак и пьянствовать. Мы можем задержаться!
Держа мальчика за руку, она вместе с ним прошла из конца в конец единственную улицу деревушки и, остановившись перед обветшалой лачугой, наверное, самой жалкой на всем острове, условным стуком постучала в дверь.
На пороге появилась старуха, за которой по пятам следовало целое полчище черных кошек. На грязном лице этой немытой оборванки горели раскаленными угольями глаза, такие же черные, как ее кошки. Она взглянула на женщину, потом перевела взгляд на ребенка.
– Вы – синьора Фарузи? – прошамкала старуха.
– Да, это я. Вот мальчик, о котором вам говорили.
– Хорошо, входите.
Комната была под стать хозяйке: заваленная отбросами и провонявшая кошачьей мочой конура, где чуть ли не единственным предметом обстановки была высокая этажерка, заставленная склянками, горшочками и коробками разного размера и всевозможных форм. И потому, когда старуха потянула мальчика к себе, тот испуганно захныкал и еще теснее прижался к бабушке. Из носа у него потекла тонкая струйка крови. Старуха передернула плечами.
– Незачем его и осматривать, – сказала она. – Я уже знаю, что с ним!
– Значит ли это, что вы ничем не можете ему помочь? Он почти не говорит, без конца болеет, и при малейшем волнении у него носом идет кровь.
– Сама вижу. Можно попробовать кое-что сделать, но вы должны уговорить его залезть в эту коробку. – С такими словами она придвинула к камину пустой ящик и сняла с него крышку.
С силой, которой никто бы в ней не смог предположить, синьора Фарузи схватила орущего мальчика и засунула в ящик. Потом, не обращая внимания на его вопли, женщины опустили крышку.
Малыш Джакомо, запертый в темном ящике, перестал кричать, сжался в комочек и, ни жив ни мертв, стал ждать нападения неведомого врага. Но ничего не произошло, если не считать того, что раздался оглушительный шум, в котором смешались пение, крики, мяуканье, топот ног, звон тамбурина, плач и даже хохот. Слушая этот дьявольский концерт, мальчик лихорадочно припоминал обрывки молитв: он не сомневался, что попал в ад! Но звуки были такими разнообразными, что он поневоле стал прислушиваться и понемногу забыл о страхе. Все происходящее было похоже на представление в приюте умалишенных…
Когда крышка наконец поднялась, ребенок увидел, что ведьма из серой стала красной, как кирпич, и обливается потом, зато румяное лицо его бабушки сделалось зеленовато-желтым. Она едва держалась на ногах и судорожно нюхала соли из флакончика.
– Смотрите! – торжествующе провозгласила ведьма. – Кровь уже не идет!.. Мы на верном пути.
Не теряя времени даром, она подхватила мальчика, уложила его на свою жалкую постель и, окружив ее горшочками с раскаленными углями, стала бросать туда травы и зерна. Вскоре комната наполнилась ароматным дымом.
– Дыши! – приказала она. – Дыши глубже!
Затем, сняв с полки белый фаянсовый горшочек, она зачерпнула оттуда густую мазь и принялась осторожно втирать ее в виски и затылок ребенка. Положив немного мази в другой, меньший горшочек, она вручила его синьоре Фарузи.
– Делайте каждый вечер то, что я делала сейчас, до тех пор, пока мазь не кончится. Его ум проснется…
Тем временем ребенок уснул, да так глубоко, что пришлось позвать одного из гондольеров, чтобы отнести его в лодку.
Проснулся мальчик только на следующий день, в своей комнатке на Рио-Сан-Самуэле, и ему показалось, будто он видел страшный сон.
Тем не менее с этого дня он совершенно переменился, и позже, считая, что в это утро он по-настоящему родился на свет, Джакомо Казанова напишет: «До восьми с половиной лет я оставался слабоумным…»
Однако слабоумие вовсе не было распространенным в семье изъяном, и его родные умели устраиваться довольно ловко. Родители, Гаэтано Казанова и Дзанетта Фарузи, были четой обаятельных итальянских комедиантов, беспечных и легкомысленных, но одаренных живым умом, музыкальных и жизнерадостных.
Гаэтано родился в Парме. Когда ему шел двадцатый год, он влюбился в немолодую актрису по прозвищу Фраголетта,[2] поступившую в городской театр. Несмотря на возраст, эта дама была достаточно привлекательна для того, чтобы Гаэтано потерял голову и, пылая безумной страстью, последовал за любовницей, когда та из Пармы перебралась в Венецию, где должна была выступать в театре Сан-Самуэле.
А там, приходится признаться, нежные чувства вскоре иссякли. У Гаэтано, занятого в маленькой роли, свободного времени было более чем достаточно, и он занялся сравнениями, которые оказались далеко не в пользу его подруги. В Венеции было полным-полно хорошеньких юных девушек, одна другой лучше, и среди прочих – прелестная дочка башмачника Фарузи. Его мастерская находилась рядом с театром, и актрисы – королевы, императрицы и танцовщицы – частенько забегали к нему починить котурны или подклеить подметки своих туфелек.
Дзанетте едва исполнилось шестнадцать лет, а Гаэтано был красивым малым. Любви их угрожала, с одной стороны, бешеная ревность Фраголетты, с другой – гнев папаши Фарузи, намеревавшегося выдать дочку за серьезного человека. Чтобы избежать того и другого, влюбленные решились на побег, с тем чтобы потом спокойно пожениться где-нибудь подальше от Венеции.
Когда, по прошествии нескольких месяцев, они вернулись обратно, все такие же влюбленные, но заметно обнищавшие, Дзанетта была беременна, и это обстоятельство заставило семейство Фарузи все им простить. Произошла трогательная сцена примирения из тех, какие так хорошо удаются итальянцам.
Малыш, которого они ждали, а это как раз и был Джакомо, появился на свет 2 апреля 1725 года. В каком-то смысле своим рождением он дал свободу своей матери: в Дзанетту, едва она обрела прежнюю стройность, вселился бес театра, и она вслед за супругом устремилась на подмостки, оставив ребенка на попечение своей матери.
Чета имела успех и продолжала жить на бегу. В Лондоне Дзанетта родила второго сына, потом еще четверых детей, овдовела, перебралась в Германию, в Дрезден, где пленила разом и театральную публику, и самого курфюрста, и в конце концов так и осталась жить в этом красивом новом городе, подарив матери дом на улице Комедии, где та, как могла, растила слабого здоровьем первенца.
С каждым днем синьора Фарузи все больше хвалила себя за ту поездку на остров Мурано, потому что Джакомо, едва освободившись из ведьминых когтей, начал развиваться удивительно быстро. Бабушка выбрала ему в наставники известного поэта по имени Баффо. К несчастью, ее выбор пал на весьма игривого поэта, чьи на редкость непристойные сочинения далеко не всем должны были попадать в руки. Джакомо под его руководством выучился не только читать и писать, но заодно усвоил и начатки более причудливых наук, и когда он наконец отправился в Падую, чтобы получить «классическое образование» в университете, то явился туда с явной склонностью к магии, оккультным наукам, игре, вину… и женщинам. Причем последние внушали ему страх, смешанный с вожделением.
В Падуе он поселился в доме аббата Гоцци, простого и вполне благопристойного человека. Но у того была сестра по имени Беттина, достаточно свеженькая и кокетливая для того, чтобы студент принялся мечтать о ней по ночам. И поскольку студент, о котором идет речь, к тому времени превратился в красивого темноволосого, хорошо сложенного юношу с бойким взглядом, большим дерзким носом и ртом, созданным скорее для смеха, чем для чтения молитв, Беттина почти сразу же запылала ответной страстью. На ее долю выпало счастье сделаться наставницей Джакомо, и ночи под мирным кровом аббата были куда как беспокойными.
Тем не менее, предаваясь – и с каким пылом! – изучению науки любви, Джакомо ради нее не забрасывал и прочих наук. Прекрасно зная латынь, он в кратчайший срок сделался доктором права. Получив эту ученую степень, распрощался с аббатом Гоцци, в последний раз поцеловал опечаленную Беттину и весело вскочил на баржу, которая должна была доставить его в милую Венецию, где, как ему казалось, его ожидали всевозможные радости, а для начала, само собой, слава и богатство.
Но у встречавшей внука на пристани бабушки Фарузи были свои виды на его будущее.
– Теперь, когда ты сделался ученым, – сказала она, – ты должен стать аббатом. С твоей внешностью и твоими знаниями ты далеко пойдешь! Может быть, когда-нибудь ты будешь кардиналом!
– Но мне совершенно не хочется становиться священником! Неужели для парня не найдется другого дела, кроме того, чтобы служить мессу?
– Это лучший способ получить свободу. Священник может делать почти все, что захочет. К тому же ты небогат…
Джакомо, не слишком убежденный этими доводами, все же позволил отвести себя к приходскому священнику Сан-Самуэле, и тот, разумеется, заявил, что призвание юноши прямо-таки бросается в глаза. В мгновение ока ему выбрили тонзуру и произвели в младшие чины церкви, благодаря чему юноша сделался в своем приходе помощником человека, уверявшего, будто именно он открыл его.
Джакомо был поистине удивительным дьяконом. Во время богослужений, в которых он, впрочем, участвовал довольно рассеянно, он стоял, возвышаясь над алтарем – еще бы, при его-то росте в метр восемьдесят шесть сантиметров, – и не сводил сверкающих глаз с толпы коленопреклоненных женщин и девиц, которые нередко бросали из-под своих кружев на красавчика дьякона восхищенные взгляды.
Одна гостеприимная вдова, синьора Орио, приблизила его к себе, почти не скрывая намерения сделать юношу своим верным рыцарем. Она была еще свежа, с нежной кожей и приятной полнотой. Джакомо не заставил долго себя упрашивать и согласился несколько раз встретиться с ней наедине для подготовки к исповеди; результатом таких свиданий стало то, что теперь его всегда, утром и вечером, ждали к столу этой синьоры.
Впрочем, нашему красавцу это доставляло немалое удовольствие, поскольку вместе с ними за стол садились еще две дочери Евы: племянницы хозяйки, Мартон и Нанетта, обе хорошенькие и аппетитные, к тому же обладавшие сердцем не менее чувствительным, чем у их тетушки.
Джакомо вскоре обнаружил, что и по части темперамента юные девы ни в чем ей не уступают, и с тех пор ночи странного дьякона все больше напоминали оргии: он влезал в дом через окно, выходившее на улицу Святых Апостолов, и сначала, соблюдая строжайшую иерархию, являлся к хозяйке дома. Воздав ей должное, он перебирался к той или другой из девиц… если только они обе не ждали его вместе.
При таком образе жизни, наверное, вскоре и следа не осталось бы от крепкого здоровья, которое подарила ему ведьма с острова Мурано, но, когда все три дамы разом забеременели, он понял, что должен хотя бы временно этот образ жизни изменить, если не хочет, чтобы его подвиги были преданы огласке.
И вот Джакомо, оказавшийся предоставленным самому себе, немедленно влюбился, на этот раз сделав выбор самостоятельно.
Девушку, которая жила по соседству с ним, звали Терезой Имер. Она усердно занималась пением и танцами, мечтая как можно скорее поступить в театр. Красота этой томной брюнетки со светло-голубыми глазами и молочной кожей расцветала в теплице под неусыпной опекой старого сенатора Малипьеро, ее покровителя.
Тереза жила одна с двоими слугами и приставленной к ней усатой дуэньей, дальней родственницей Цербера. Выражение лица этой дамы было настолько угрожающим, что и думать нечего было подойти к девушке на улице или в церкви. Но если женщина казалась Джакомо соблазнительной, он готов был на любые безумства, лишь бы добиться своего.
Благодаря выигрышу в бириби[3] он располагал некоторой суммой денег и смог подкупить одного из слуг, условившись с ним, что в такую-то ночь определенное окно дома останется приоткрытым, и расспросив, как пройти в комнату хозяйки. Ровно в полночь Джакомо, оставив гондолу под тем самым окном, бесшумно забрался в дом и прокрался в спальню.
Тереза спала глубоким сном, и Джакомо не стал ее будить. Так же спокойно, как если бы находился в собственной спальне, он разделся и, скользнув под одеяло, устроился рядом с девушкой. Внезапно проснувшись в объятиях голого мужчины, она и крикнуть не успела – он ловко закрыл ей рот поцелуем.
Прелестная Тереза, надлежащим образом изнасилованная, тем не менее осталась довольна. Более того, она нашла это занятие настолько приятным, что юный Казанова получил позволение вернуться на следующую же ночь.
– Малипьеро будет дома не раньше чем через три дня, – сообщила новоявленному любовнику Тереза. – Он отправился в свое поместье на материке…
Увы, на третью ночь, когда влюбленные были на седьмом небе, это небо внезапно омрачилось грозовыми тучами: сенатор, вернувшись без предупреждения, внезапно появился под балдахином постели, где они предавались своим утехам.
Минутой позже два крепких лакея уже держали опрометчивого любовника, не давая ему подняться с колен, и на него, как на нашкодившего мальчишку, градом сыпались унизительные палочные удары. Тем временем Тереза, забившись под одеяло, отчаянно рыдала и, спасая себя, нагло врала покровителю, будто ее изнасиловали.
Еще через час Джакомо, уже одетого, двое полицейских доставили в крепость Святого Андрея, куда в Венеции имели обыкновение отправлять чрезмерно ловких или чересчур дерзких юношей, и ночь, начавшаяся для него так приятно, закончилась на охапке гнилой соломы в сыром карцере.
Там и нашла его мать, которую известила обо всем бабушка Фарузи, смертельно боявшаяся, как бы ее обожаемого внука не повесили. Покинув Дрезден, Дзанетта Казанова бросилась выручать старшего сына, к которому питала некоторую слабость, поскольку он был плодом ее первой любви.
– Я могу вытащить тебя отсюда, бедный мой дурачок, но при одном условии, – сказала она ему. – Ты немедленно покинешь Венецию.
– Куда же я должен уехать?
– В Марторано в Калабрии. Благодаря своим связям я добилась того, что епископом туда назначили одного святого отца из числа моих друзей. Ты, в конце концов, служитель церкви, и ты поедешь к нему. По крайней мере, о тебе забудут.
– Неужели это на самом деле единственный выход? – простонал Джакомо. – Калабрия? Да это же на краю света!
– Во всяком случае, это намного ближе, чем тот свет. А именно туда тебя отправят, если ты не согласишься!
– Ну, тогда еду в Калабрию! Но я буду там ужасно скучать…
Прошло несколько дней, и поневоле раскаявшийся Джакомо покинул крепость. Почти насильно облаченный в одежду священника, со слезами на глазах он отправился на край света к своему епископу.
Погода стояла восхитительная. Венеция никогда еще не была так прекрасна. Ему было семнадцать лет, и его ссылали в пустыню.
2. Три венецианских старца
Тот молодой человек, который годом позже, покинув борт одной из галер эскадры, стоявшей на якоре в лагуне, ступил на набережную Скьявони, ничем не походил на робкого и испуганного священника, только что выпущенного из крепости Святого Андрея и с полными слез глазами отплывшего к месту своего назначения, затерянному где-то в Калабрии.
Новоприбывший с уверенностью носил очень шедший ему бело-голубой мундир испанского кавалериста, с бантом на плече, золотым и серебряным темляком, элегантным головным убором. Он был высок ростом и великолепен с головы до ног, от загорелого мужественного лица до ослепительно сверкающих сапог.
Его возвращение на улицу Комедии выглядело настоящим триумфом. Бабуля Фарузи, толком не понимая, при помощи какого колдовства ее внук, уехавший священником, вернулся к ней испанским солдатом, сжимала его в объятиях и рыдала у него на груди – ей пришлось встать на цыпочки, чтобы до него дотянуться, но называла она его при этом своим «маленьким Джакомо». Тем временем Франческо, младший брат, созывал всех соседей, приглашая полюбоваться этим чудом. Разумеется, все приглашенные сбежались, в первую очередь – девушки, и дом Фарузи словно превратился в вольер, полный щебечущих созданий, которые смеялись чуть громче, чем надо, и не сводили с красавчика кавалериста влюбленных глаз. Но, как ни странно, Казанове, похоже, было не по себе, и на все обольщения он отвечал лишь вымученной улыбкой, что не могло в конце концов не заинтриговать брата.
– Что это с тобой, Джакомо? Тебе разонравились девушки?
– Конечно, нет! Только сейчас лучше мне держаться от них подальше. Я не… вполне здоров. Скажи, а что, та старуха из Мурано, которая так хорошо меня вылечила, когда я был ребенком…
– Серафина?
– Да. Она еще жива?
– Должно быть. Она тебе нужна?
– Еще как! Отведешь меня к ней завтра?
– Договорились. А пока расскажи мне про свои приключения. Что с тобой такое произошло за этот год, почему ты так изменился? Ты подался в солдаты, и что – разбогател?
– Ничуть не бывало. А насчет того, что я стал солдатом – даже если допустить, что я когда-то им был, – то сейчас я уже не солдат. Просто этот мундир – единственная пристойная одежда, какая у меня осталась. И, если хочешь знать, у меня ни гроша за душой!
Спустилась ночь, бабушка Фарузи, счастливая оттого, что ее Джакомо вернулся к ней, да еще таким красавцем, давно уснула сном праведницы, а Казанова все рассказывал брату о своих приключениях…
Путешествие в Калабрию оказалось не таким безрадостным, как ему представлялось. Мать дала на дорогу пятьдесят цехинов, Казанова их проиграл, отыграл, снова проиграл, поставил на кон сутану, но проиграл и ее. В конце концов его спас нищенствующий монах, который странствовал в тех местах и пожалел беднягу, бредущего по пыльным дорогам. Прежде всего он снабдил юношу монашеским платьем, и именно в таком виде, что было в высшей степени поучительно, новый коадъютор епископа явился в Марторано.
Епископ был славным человеком, и, поскольку свое епископство получил благодаря связям Дзанетты Казановы, ее сына он встретил с распростертыми объятиями.
Конечно, епархия была невеселым местом: беспредельная голая равнина, по которой были рассыпаны жалкие деревушки, прямо-таки пустыня на краю света. Казанова не испытывал ни малейшего желания похоронить там свою цветущую молодость. Он вежливо предложил святому отцу покинуть эту забытую богом землю и вместе с ним отправиться искать счастья по свету. Но епископ, который был поистине святым человеком, считал, что должен испить свою чашу до дна.
– Я охотно признаю, сын мой, что Марторано – неподходящее место для вас, но я уже стар и вполне к нему приспособился. Хотите поехать в Рим?
– В Рим?
– Да. Кардинал Аквавива удостаивает меня своей дружбой. Вы могли бы при нем сделать карьеру; я дам вам рекомендательное письмо. Собственно, это все, что я могу вам дать, потому что отнюдь не богат…
Все же, вывернув кошелек наизнанку, добрый епископ наскреб немного денег, и Казанова с легким сердцем отправился в Вечный город. Его совершенно не привлекала возможность остаться служителем Церкви, но Рим – это все-таки не Марторано.
И, едва прибыв на место, он принялся убеждать в этом самого себя. Еще и недели не пробыв на службе у кардинала, он уже соблазнял красавицу патрицианку Лукрецию Монти. Она без малейшего сопротивления упала в его объятия, но зато сопротивлялась долго и упорно, когда пришлось их покинуть, уступая место самой хорошенькой из ее горничных.
Горничную сменила актриса, актрису – танцовщица, танцовщицу… монашка. После того как Казанова совершил этот подвиг, кардинал Аквавива решил, что, пожалуй, его секретарь не вполне на месте в доме служителя божия. Из уважения к епископу Марторано, который покровительствовал этому юному шалопаю, он его не выгнал, но все же дал понять, что римские мостовые горят у него под ногами: монашка – это уже было серьезно, и он рисковал угодить на эшафот.
– Лучше бы вам на некоторое время покинуть Италию, – сказал Казанове кардинал. – Куда вы думаете направиться?
– В Константинополь! – заявил Казанова тем же тоном, каким сообщил бы о своем намерении отправиться в ад.
Если его острота и задела кардинала, тот постарался не подавать виду. Главным для него сейчас было как можно скорее выпроводить из Вечного города этого развратного охальника.
Дело устроилось быстро. Именно в Константинополе, так неосторожно названном Казановой в качестве цели своего не совсем добровольного путешествия, у Аквавивы оказался друг, некий Осман-паша, весьма живописный персонаж. Его дружбу с римским прелатом никак нельзя было бы объяснить, если не знать, что до того, как принять ислам, он был французом и звался маркизом де Бонневалем. И этот человек поистине был одарен талантом ссориться со всем светом.
Для начала он поссорился с собственным королем и стал служить Австрии под началом принца Евгения, с которым… также поссорился достаточно скоро. Пришлось перебираться в Боснию, а оттуда – в Константинополь. Здесь ему удалось оказать султану значительные услуги… и не превратить его в своего смертельного врага. К этому-то незаурядному человеку кардинал и отправил Казанову, посоветовав все же сменить сутану на какой-нибудь другой наряд, не такой вызывающий и менее опасный на исламской территории.
Вот так и получилось, что, проезжая через Болонью, нейтральный город, где австрийские войска встречались с испанскими, наш искатель приключений выбрал последние: мундир испанской армии понравился ему больше, чем австрийский.
Бонневаль-паша приветливо встретил этого милого юношу, поселил в своем доме и пригласил посещать свою «библиотеку» – на самом деле в зарешеченных шкафах хранилось сказочное собрание бутылок.
– Я уже стар, – сказал он. – Женщины укоротили бы мне жизнь, тогда как доброе вино ее поддерживает.
Но поскольку у юного друга Бонневаль-паши не было никаких причин для того, чтобы обречь себя на воздержание, он познакомил гостя с множеством красивых девушек, с которыми молодой венецианец вступил в приятнейшие… и вместе с тем запретнейшие отношения. Дело в том, что, как правило, самых прекрасных гурий и охраняли надежнее всего, и Казанова не замедлил навлечь на себя гнев нескольких могучих стражей и владельцев гаремов… И для того чтобы не оказаться на дне Босфора зашитым в кожаный мешок, с привязанным к ногам пушечным ядром, пришлось ему снова и без промедления выйти в море.
На этот раз Казанову занесло на Корфу, но перед тем он ненадолго задержался на Закинфе, где красавица куртизанка Меллула дала ему приют как в своем доме, так и в своей постели, но, к несчастью, наградила его болезнью и для всякого мужчины весьма неприятной, а для соблазнителя – в особенности. Эта болезнь помешала ему стать любовником самой красивой девушки Корфу, которая была в то же время и возлюбленной губернатора, и наш соблазнитель, пострадавший и совершенно разочарованный, решил, что пора ему возвращаться в Венецию. Там по крайней мере его ждет дом на улице Комедии, и какое-то время он не будет ни в чем нуждаться, уж, во всяком случае, с голоду не умрет.
– И что ты теперь собираешься делать? – спросил Франческо, как только брат закончил свой долгий рассказ. – Опять уедешь?
– Ты с ума сошел! Сначала посмотрим, сможет ли Серафина меня вылечить, потом поищу, чем бы мне заняться, чтобы заработать какие-то деньги. В Венеции для меня всегда найдется дело!
Серафина по-прежнему жила в своей грязной лачуге, нимало не утратила своего искусства и быстро поставила Казанову на ноги. Выздоровев, он вспомнил, как добрый аббат Гоцци из Падуи учил его играть на скрипке. Решив применить свое умение, он нанялся в театр Сан-Самуэле: директор принял его как родного не только потому, что он был сыном Дзанетты, но и в память о Фраголетте, которая когда-то была подругой его отца. За работу Казанова получал экю в день.
Богатством такую мелочь никак нельзя было назвать, но Казанова старался как можно лучше потратить эти деньги и вместе с братом ночами бурно проводил время в кабаках и игорных притонах. Кроме того, он все больше интересовался магией и алхимией. Магией он увлекся еще в Константинополе, а теперь, подружившись с Серафиной, несколько раз навестил ее и узнал от нее кое-какие секреты.
Может быть, именно благодаря этому он сможет бросить наконец свою трудовую жизнь и бойко взбежать по первым ступенькам удачи…
Однажды вечером Джакомо, держа свою скрипку под мышкой, выходил из дворца Фоскари, где играл вместе с другими оркестрантами на свадебном балу. В это время кто-то из гостей, неуверенным шагом спустившись по дворцовой лестнице, подошел к своей гондоле и рухнул рядом с ней, растянувшись во весь рост.
Казанова бросился поднимать его и увидел, что перед ним старик, что этот старик задыхается и из его перекошенного рта течет струйка слюны.
– Помогите мне! – крикнул он перепуганным слугам. – У вашего хозяина апоплексический удар. Надо отвезти его домой. – И, решительно усевшись в богатую гондолу, он пристроил голову больного к себе на колени. – Везите его домой! – приказал он. – Где он живет?
– Во дворце Брагадино. Это сам сенатор.
– Ну, так во дворец Брагадино. И поживее!
Через несколько минут он сам отнес бесчувственного старика в постель и послал за врачом, в ожидании которого уселся у изголовья больного, который явно все больше его интересовал.
Врач явился, налепил на грудь сенатору, который тем временем успел прийти в себя, ртутный пластырь и удалился, заверив, что больному немедленно станет лучше. Но ничего подобного не произошло, совсем напротив: казалось, старику, вцепившемуся в руку добровольного санитара, с каждой минутой становится хуже.
– Я задыхаюсь, – хрипел он. – Я сейчас совсем задохнусь! Ты так милосердно помог мне, неужели ты не можешь ничего для меня сделать?
Казанова колебался лишь мгновение. Припарка, сделанная лекарем, совершенно ему не нравилась. Ртуть должна была слишком большой тяжестью лечь на и без того стесненную грудь. Он сорвал пластырь, послал за оливковым маслом, сделал несколько легких втираний и, вспомнив одно из снадобий Серафины, велел приготовить отвар и сам напоил им сенатора.
Лекарство подействовало магическим образом. Брагадино, которому тотчас стало легче, прижал Казанову к сердцу, назвал своим сыном, а целителя, когда тот пришел узнать, помогло ли его лечение, выгнал вон из дома.
– Этот молодой скрипач понимает больше, чем все городские врачи, вместе взятые, – сказал он лекарю. – Отныне он всегда будет при мне.
Эта внезапно вспыхнувшая привязанность перешла всякие границы, когда юноша рассказал своему новому покровителю, что он весьма сведущ в магии и каббалистической науке.
– Мне известен, – признался Казанова, – некий числовой расчет, благодаря которому я могу, в ответ на записанный и превращенный в цифры вопрос, получить ответ, который также будет записан в виде цифр и в котором будет содержаться все, что я пожелаю узнать. Меня научил этому один отшельник.
Брагадино тотчас снова прижал его к сердцу, объявил, что усыновляет его, и представил двоим своим ближайшим друзьям, сенаторам Дандоло и Барбаро, тоже увлекавшимся магией. И все трое, с общего согласия, решили позаботиться о том, чтобы такой чудесный юноша отныне ни в чем не нуждался.
– Если хочешь стать моим сыном, – сказал ему Брагадино, – тебе надо всего лишь признать меня твоим отцом. Квартира для тебя готова. Вели перенести туда свои вещи. У тебя будет слуга, будет гондола и десять цехинов в месяц на всякие приятные шалости.
Райская жизнь, о которой Казанова еще совсем недавно не мог и мечтать!
Джакомо, не теряя ни минуты, бросился в самую гущу золотой венецианской молодежи. Его видели одетым как вельможа – в широком черном плаще, табарро, белой маске с птичьим клювом и треуголке с перьями – в самых шикарных игорных домах и в обществе самых знаменитых куртизанок. Он танцевал ночи напролет, пил как сапожник, ел соответственно, но эти пиршества нисколько не сказывались на его фигуре.
К несчастью, он, кроме того, очень усердно посещал магов-каббалистов, таившихся в своих логовах по всей Венеции, присутствовал на сеансах черной магии и занимался некромантией. И при этом, разумеется, не переставал коллекционировать победы и менял любовниц не реже, чем рубашки.
Между тем всем было известно, что в Венеции не стоит связываться с оккультными науками. Пасть каменного льва, служившего почтовым ящиком для тайных доносов, адресованных Совету Десяти, проглотила несколько ядовитых писем, брошенных туда, должно быть, покинутыми Казановой красотками. Страшная тайная полиция этого не менее, если не более, тайного трибунала начала работать, но, к счастью для Казановы, у сенатора Брагадино были длинные руки и немалые связи. Он пронюхал о том, что готовилось, и, всполошившись, предупредил об этом приемного сына.
– Ты должен уехать, Джакомо! Сегодня же ночью моя гондола отвезет тебя на материк. У меня сердце обливается кровью при мысли о разлуке с тобой, но лучше тебе уехать, потому что твоя жизнь в опасности.
Старик был искренне расстроен, но сам Казанова был совсем не прочь уехать. Он еще не утолил свою страсть к путешествиям; к тому же Брагадино, проявив щедрость, достойную родного отца, только что вручил ему «на дорогу» туго набитый кошелек и пару переводных векселей. Но куда же ему направиться?
Решение подсказал Антонио Балетти, один из самых давних его друзей. Антонио был внуком Фраголетты и сыном Сильвии Балетти, очень известной в те годы певицы, выступавшей на сцене Итальянской комедии в Париже.
– Давай поедем во Францию! – предложил он. – Моя мать говорит, что это чудесная страна. Мама нас и приютит.
Предложение было дельным. Казанова решил последовать совету и вместе с Антонио занял место в гондоле. В ней они переправились на материк, где их ждала зафрахтованная Брагадино фелука, которая должна была увезти их подальше от Венеции.
Несколько дней спустя они высадились в Пезаро, маленьком адриатическом порту, где можно было уже не опасаться Совета Десяти. Там друзья раздобыли лошадей и приготовились совершить насколько возможно приятное путешествие. Им предстояло пересечь всю Италию, чтобы добраться до французской границы… Но на самом деле Казанова не так уж и стремился к ней приблизиться. Дело было в том, что однажды вечером, остановившись в лучшей гостинице маленького городка Чезена, он заметил странную пару: старого и явно очень богатого венгерского офицера и красивого молодого брюнета, которого тот называл Анри. У этого красивого молодого человека были восхитительные ноги, самое прелестное в мире лицо и совершенно удивительное для юноши телосложение.
Казанова всегда любил тайны. И потом, спешить было некуда. Он решил на время остаться в Чезене, хотя бы для того, чтобы самому выяснить, что именно облегает – и очень тесно! – бархатный наряд юного Анри.
3. Марсельская красавица
Гостиница «Золотой лев», стоявшая на пьяцца-дель-Пополо в Чезене, была отделана с большим вкусом. Чистая, прекрасно оборудованная, она, со своей отменной кухней и удобными комнатами, привлекала всех знатных проезжающих. Венгерский дворянин и его юный спутник, так сильно возбудившие любопытство Казановы, занимали там две великолепные комнаты на втором этаже и, похоже, нисколько не торопились покинуть столь приятное жилище. Джакомо и его друг Антонио Балетти поселились в комнате, соседней с той, где жил юный Анри; впрочем, Антонио это не так уж и нравилось.
– Городок прелестный, гостиница превосходная… И этот молоденький мальчик слишком уж красив для мальчика, готов признать. Но неужели мы должны из-за этого задерживаться здесь? Мы, кажется, собирались во Францию?
– Скажем, теперь мы торопимся туда несколько меньше. Я уверен, что этот мальчик – женщина, и женщина слишком обольстительная для того, чтобы довольствоваться таким старикашкой, как этот венгр. Я хочу знать, что они делают вместе.
– А что им, по-твоему, делать? Может быть, она его дочь…
– Ты глуп или глух. Она француженка, это бросается в глаза и лезет в уши, а он – настоящий венгр. Он не говорит ни на одном известном языке… разве что на латыни. Но если тебе не терпится, можешь двигаться дальше. Я тебя догоню…
– Если ты за три дня не образумишься, я так и сделаю, – проворчал Антонио.
Разумеется, через три дня он уехал один, предоставив Казанове наслаждаться предпринятой им по всем правилам осадой, которая, впрочем, обещала оказаться не из легких. Венгр и Анри с поразительным упорством уклонялись от знакомства. Самое большее, чего смог добиться венецианец, – обменяться с ними несколькими латинскими или французскими словами за столом, поверх ломтя хлеба или тарелки спагетти.
И все же по тем взглядам, которые лже-юноша – Джакомо все больше убеждался в том, что истинная его природа женская, – порой бросал на него украдкой, пока венгр поглощал пищу в неимоверных количествах или опорожнял бесчисленные кувшины вина, он пришел к выводу, что это прелестное, немного раздражающее и обаятельное двуполое создание не вполне к нему равнодушно.
Поскольку их спальни располагались по соседству, ему нетрудно было убедиться в том, что между Анри и венгром не существовало никаких интимных отношений. Последний, как только ложился в постель, начинал храпеть так, что дом едва не рушился, и он никогда не переступал порога комнаты своего «секретаря».
И вот как-то ночью Казанова, который, как всякий венецианец, еще не разбитый подагрой, умел лазить по веревочным лестницам и забираться в окна и на балконы, спокойно перебрался с собственного подоконника на подоконник таинственного соседа, как только убедился, что Анри после ужина вернулся к себе.
Пьяцца-дель-Пополо была пуста. Ночь случилась темная, и наш ухватившийся за балюстраду повеса мог не опасаться, что его заметит какой-нибудь запоздалый прохожий. Убедившись в том, что нужное ему окно не заперто, а только притворено, Казанова благословил бога влюбленных. Конечно, занавеси были задернуты, но Джакомо не составило ни малейшего труда чуть-чуть раздвинуть полотнища. Совсем чуть-чуть, но этого оказалось достаточно для того, чтобы ему открылось зрелище, от которого он пришел в восхищение… и едва не свалился на площадь: Анри, стоя перед зеркалом, как раз начал раздеваться…
Бархатный камзол уже лежал на полу, и Анри, сбросив длинный жилет из красного муара, который носил под камзолом, отправил его туда же. Теперь, оставшись только в сорочке и коротких штанах, он сел, чтобы снять башмаки и чулки, снова встал, стащил штаны, расстегнул жабо и сорочку, сорвал с себя тесную широкую повязку, которую носил под одеждой, и выпустил на волю… пару весьма вызывающих грудей. Рубашка, в свою очередь, была сдернута с достойной фокусника ловкостью, и восхищенный Казанова смог любоваться самым женственным и самым прелестным телом, какое ему когда-либо доводилось видеть.
Впрочем, и Анри, должно быть, разделял его мнение, поскольку долго стоял перед зеркалом, распуская черную ленту, которая безжалостно стягивала его волосы на затылке. Освобожденные, они окутали Анри роскошным черным блестящим и шелковистым плащом, в который он, высоко подняв руки, зарылся пальцами.
Теплый отсвет свечей мягко ложился на золотистую кожу, скользил по безупречным линиям юного тела, и Казанова вспыхнул, словно охапка соломы. Шагнув через подоконник и резко распахнув створки окна, он упал к ногам искусительницы, не переставая при этом бормотать довольно-таки бессвязные, но полные страсти слова. Он приготовился получить пару звонких пощечин, услышать крик ужаса, увидеть отчаянное бегство в альков или за ширму; вместо всего этого раздался взрыв юного, звонкого, веселого смеха.
– Ну вот! Долго же вы заставили себя ждать, друг мой! Я уже сомневалась, решитесь ли вы когда-нибудь расстаться с этим окном. Но ведь вам, наверное, было там не слишком удобно?..
Ему оставалось лишь раскрыть объятия, а его уже обволакивали мягкие тени постели…
Только гораздо позже, глубокой ночью, Анриетта – потому что на самом деле ее, разумеется, звали Анриеттой! – рассказала ему свою историю.
– Я родом из Прованса, моя семья живет в Марселе, только не спрашивай, кто они, я все равно тебе не скажу. Тебе достаточно знать, что я принадлежу к одной из лучших семей города и что год назад меня по расчету выдали за человека, который по возрасту годился мне не только в отцы, но даже в деды…
Это был мерзкий старик, – продолжала она, – и в первую же ночь я поняла, что мне противно к нему прикоснуться. Назавтра, не в силах снова подвергнуться этой пытке, я с помощью верной служанки усыпила своего супруга и, пока он мирно храпел всю долгую ночь, поспешила в порт, где еще раньше за огромные деньги купила себе место на отплывающем торговом судне, капитан которого был не слишком любопытен, любил золото и не испытывал отвращения к женщинам. И когда рассвело, я была уже далеко от берега…
Путешествие Анриетты закончилось в Риме, где она нашла приют у родственницы, которая была замужем за римским вельможей. К сожалению, ее родным в Марселе не составило никакого труда напасть на ее след. Мать, взбешенная побегом, который мог поссорить их с человеком, которого они выбрали в мужья для дочери из-за его богатства и щедрости, послала в погоню собственного супруга, и в одно прекрасное утро отчим Анриетты прибыл в Рим.
Анриетту вовремя предупредили, и она в последнюю минуту сумела ускользнуть от охотившейся за ней папской полиции; девушку собирались на то время, пока будет решаться ее судьба, заточить в монастырь.
– Вот тогда-то, – рассказывала дальше Анриетта, – я и встретила Ференца. Я выбилась из сил, едва дышала и спряталась в церкви. Он меня там увидел, его разжалобили мои слезы и мой затравленный вид, он посадил меня в свою карету и увез к себе домой.
По правде сказать, нам нелегко было с ним договориться: я не знаю его языка, он – моего, как ты сам мог видеть, мы кое-как управляемся при помощи латыни; но он все же понял, что мне легче умереть, чем вернуться к мужу, и тогда он принес мне вот эту мужскую одежду, велел заложить карету, и той же ночью мы уехали из Рима в Неаполь.
С тех пор мы и странствуем, как ему заблагорассудится. Он очень добр и великодушен ко мне, и тем не менее с ним я умираю от скуки…
– Ну а я-то, – заметил Джакомо, целуя новую возлюбленную, – конечно, куда забавнее.
– Ты?.. Ты – мужчина, которого я люблю… полюбила с первого взгляда. Я знала, что ты сможешь сделать меня счастливой. Интуиция меня не подвела. Люби меня! Люби меня, насколько хватит сил…
Ей не пришлось повторять приглашение дважды, и рассвет едва не застал нашего соблазнителя в объятиях Анриетты, что сильно затруднило бы акробатическое возвращение через окно…
Но, конечно же, страсть, в которой только что открылись друг другу молодые люди, уже не могла довольствоваться тайной жизнью и несколькими крадеными часами ночи за спиной Ференца. Собственно говоря, Казанова не понимал, почему Анриетта и он должны и дальше обременять себя венгром и великой отеческой любовью, которую тот испытывал к юной женщине.
– Если хочешь знать, – сказал он подруге на исходе третьей ночи, – на самом деле мне совершенно не доставляет удовольствия целый день видеть тебя одетой мальчиком. Венера мне всегда нравилась куда больше Ганимеда! Поедем со мной! Бежим!..
Когда женщина влюблена, она легко забывает о благодарности за недавно оказанные услуги. Анриетта без большого труда дала себя уговорить и в один прекрасный вечер села на коня позади своего любовника и сбежала вместе с ним, предоставив бедняге Ференцу полную возможность продолжать свои сравнительные исследования различных итальянских вин и сортов ветчины. Так они добрались до Пармы, независимого государства, достаточно далекого от Чезены, чтобы беглецы могли не бояться свирепых взглядов и огромных пистолетов венгра.
Парма оказалась приятным городом, удачно построенным и буквально заполоненным творениями Корреджо. Кроме того, она была веселым городом, поскольку инфанту дону Филиппу Испанскому, несколькими годами раньше женившемуся на принцессе Луизе-Елизавете, дочери Людовика XV, только что было пожаловано герцогство Парма и Гвастала, и он поселился там, окружив себя молодым и блестящим двором.
Праздники следовали за праздниками, и обворожительная пара, Джакомо и Анриетта, узнала поистине чудесные дни. Юная красавица из Прованса в любви расцвела. Она была хороша, как никогда, кроме того, она обладала живым умом, соединенным с неплохим образованием, и потому наш неисправимый соблазнитель начал подумывать о том, чтобы неспешно прожить с этой полной очарования подругой долгие безмятежные годы.
Но от своей судьбы не уйдешь. Судьбе Джакомо было угодно, чтобы он сделался Казановой, и как-то вечером, во время праздника, судьба постучалась у дверей влюбленной пары.
В тот вечер в городском театре давали концерт, и это был благотворительный концерт, устроенный директором театра с участием нескольких прославленных артистов. Но в ту самую минуту, как должен был начать играть знаменитый струнный квартет, стало известно, что с виолончелистом случилось несчастье. Это была катастрофа!
И тогда, к величайшему изумлению Джакомо, Анриетта спокойно предложила свои услуги.
– Я умею играть на виолончели и даже приобрела в Провансе некоторую известность…
– Само Небо послало вас, сударыня! – воскликнул директор театра. – Мы сейчас же прослушаем вас, и если все будет хорошо…
Все прошло хорошо. И даже более того, молодая женщина выступила с огромным успехом. Их Королевские Высочества соблаговолили бурно аплодировать и настаивали на том, чтобы она явилась засвидетельствовать им свое почтение. Увы…
Увы, в то время фаворитом принца Филиппа был некий дворянин из Марселя, господин д'Антуан, и, разумеется, он присутствовал на концерте. Анриетта, выпрямляясь после реверанса, очутилась с ним лицом к лицу.
– Вот это да! – ошеломленно произнес господин д'Антуан. – Черт меня побери, кузина, если я ожидал встретиться с вами здесь! Знаете ли вы, что вас повсюду разыскивают?
– Бога ради, кузен, – еле выговорила девушка, сильно побледнев, – ради бога и из любви ко мне молчите! Никому не говорите, что встретили меня! Это означало бы обречь меня на заточение в монастырь и на величайшие несчастья. Я ни за что не вернусь к господину де С…
– К вашему мужу? Но, дитя мое, вот уже шесть месяцев, как он отошел в мир иной! Вы – вдова… и к тому же еще наследница. Думаю, в ваших интересах помириться с вашей семьей, и, если вы этого хотите, я готов взять это на себя.
Так и было сделано. Господин д'Антуан с большим тактом, соблюдая интересы своей прелестной кузины, добился для нее родительского прощения, которое она и получила в один прекрасный вечер вместе с очень приличной суммой золотом, и, надо признаться, это золото пришло как раз вовремя, потому что в карманах у любовников было абсолютно пусто.
Только ведь у всякой медали есть оборотная сторона, а может быть, Фортуне попросту надоело улыбаться нашей парочке, но, как бы там ни было, семья Анриетты стала решительно настаивать на том, чтобы молодая женщина немедленно вернулась в Марсель…
Обсуждение этого вопроса было долгим и мучительным. Анриетта искренне привязалась к Джакомо, но, с другой стороны, она мыслила достаточно здраво для того, чтобы понять, что с человеком такого склада вряд ли удастся построить совместную жизнь. И потом, едва ли эта страсть окажется долговечной. Вернуться к родному очагу означало вступить во владение своим имуществом, вновь обрести свое имя, положение в обществе, забыть обо всех перипетиях, начать новую жизнь. С Джакомо ее ждет более чем ненадежное будущее. Само собой, и речи не может быть о том, чтобы ввести ветреника, венецианца в суровый круг ее семьи.
– Мы должны расстаться, – сказала Анриетта после долгих обсуждений. – Мы были счастливы вместе, но всему приходит конец, и я чувствую, что не создана для бродячей жизни.
Джакомо опустил голову, впервые в жизни у него защемило сердце. Ему больно было расставаться с Анриеттой, но стоять у нее на пути он не хотел.
«Я был счастлив так же, – напишет он впоследствии, – как была счастлива со мной эта прелестная женщина. Мы любили друг друга со всей силой, на какую были способны…»
Было решено, что один из дядей Анриетты приедет за ней в Женеву, и любовники вместе направились к берегам озера Леман.
Комната в гостинице «Весы» приютила их на последнюю ночь любви, самую печальную и, несомненно, самую страстную из всех, какие только выпадали им на долю; ночь, в которую они не сомкнули глаз. И все же усталость взяла свое, Джакомо в конце концов уснул. Проснувшись, он увидел, что давно рассвело и что он один. В комнате не осталось никаких следов пребывания его прекрасной возлюбленной, разве что едва уловимый аромат и на стекле – надпись, вырезанная алмазом кольца, которое он ей подарил: «Забудешь и Анриетту…»
Он нашел еще кое-что: пять столбиков золотых монет, по сто луидоров в каждом, – нежный знак внимания любящей подруги и своего рода подъемные на дорогу, о которой ни тот, ни другая не знали, куда она приведет.
Казанова провел в Женеве еще несколько дней и успел получить от своей возлюбленной короткую и нежную записку:
«Будем благоразумны, будем считать, что видели сон, и не станем сетовать на судьбу, потому что никогда еще ни один сладкий сон не был таким долгим…»
Расставание было окончательным, никакого пути назад… И тогда Казанова вспомнил, что в Лионе его ждет друг, Антонио Балетти. В Женеве ему было больше делать нечего, и он заказал себе место в почтовой карете, направляющейся в Лион. Оттуда он наконец доберется до столицы Франции. Он лелеял в сердце тайную надежду, что парижские красавицы, может быть, заставят его позабыть о прелестной, но слишком благоразумной Анриетте…
4. Поставщик оленьего парка
День тянулся долго. Почтовая карета не останавливалась с самого утра, и измученным путешественникам уже начинало казаться, что этот перегон не закончится никогда. Чем ближе был Париж, тем больше было нетерпение, и расстояния словно растягивались до бесконечности. И все же волшебное зрелище угасающего над лесом Фонтенбло осеннего дня притягивало взгляды и завораживало. Роскошные рыжие оттенки листвы ярко выделялись на фоне серых камней и пленительно отражались в стоячей воде сонных прудов. На повороте большой дороги, за водной гладью и просторными лужайками, внезапно возникли очертания розового королевского дворца, и оба итальянца невольно вскрикнули от изумления.
– Похоже, ты был прав, – произнес Казанова, к тому времени уже вполне оправившийся после швейцарского расставания со своей любовью. – Франция, несомненно, красивая страна.
И она показалась ему еще более прекрасной несколько минут спустя, когда внезапно показавшийся нарядный экипаж, двигаясь им навстречу, загородил дорогу почтовой карете. Кучер кареты злобно выругался, но из экипажа уже выпорхнула закутанная в шелка, восхитительно причесанная довольно молодая женщина. Незнакомка направилась к задержанной из-за нее почтовой карете, на ходу бросив кучеру золотую монету, отчего тот мгновенно смягчился. Пассажиры, знающие, что в лесу часто случались нападения, испуганно выглядывали из окон, но Антонио радостно воскликнул:
– Мама! Это моя мать! Она нас встречает!.. Господа! – закричал он, обводя широким жестом своих недовольных и уже начинающих ворчать спутников. – Господа, позвольте мне представить вас великой Сильвии Балетти, звезде Итальянской комедии и…
– Ты все такой же болтун, Tonio mio, – засмеялась актриса. – Лучше выйди из кареты, подойди сюда и поцелуй меня. Я приехала за тобой…
Минутой позже Антонио, тащивший за собой на буксире Казанову, уже был в объятиях Сильвии, а она целовала друга своего сына не менее пылко, чем самого сына. Еще одной монеты оказалось достаточно, чтобы убедить кучера выгрузить багаж обоих венецианцев, затем почтовая карета продолжила свой путь, а Сильвия и ее «дети», весело усевшись в экипаж актрисы, направились в лучшую гостиницу Фонтенбло.
Пока мать и сын засыпали друг друга новостями, Казанова разглядывал Сильвию. Она была не так уж молода, пожалуй, под пятьдесят, что в те времена приближалось к старости, но все-таки еще очень красива: большие черные глаза с огненным взглядом, довольно низкий лоб, свежий цвет лица, ни единого седого волоса, и при этом – девичья талия, выгодно подчеркивающая очень соблазнительную грудь.
Сильвия хорошо знала мужчин и не могла не заметить того, какое впечатление произвела на этого молодого человека, друга ее сына. И все же, встретившись глазами с жгучим взглядом Джакомо, невольно залилась румянцем.
– Значит, вы и есть тот самый Казанова, перед которым, как утверждает Антонио, не может устоять ни одна женщина?.. Вы, сударь, должно быть, ужасный шалопай…
– Разве любоваться красотой везде, где бы я ее ни встретил, и не скрывать своего восхищения означает быть шалопаем? Я всего лишь любитель, но, поверьте, очень страстный!
Сильвия кокетливо надула губки и ничего не ответила, но на следующий день, когда вся троица прибыла в Париж, она и Джакомо уже были довольно близкими друзьями… в ожидании лучшего!
В Париже семья Балетти жила в красивом, хорошо обставленном доме на улице Де-Порт-Сен-Совер (теперь это улица Дюссу), принадлежавшем некоей маркизе д'Юрфе. Эта знатная дама, весьма зрелого возраста и слегка повредившаяся в уме, испытывала настоящую страсть к оккультным наукам. Впоследствии ей суждено было сыграть в жизни Казановы нелепую и вместе с тем забавную роль.
Помимо Сильвии, семья состояла из ее мужа Марио, ее дочери, малышки Манон, которая была тогда еще совсем ребенком, и, разумеется, ее сына Антонио. Но хотя дом был очень просторным, Казанову, во избежание сплетен, решили поселить где-нибудь в другом месте.
– Репутация актрисы – такая хрупкая вещь, – жеманно промурлыкала Сильвия, – а вы, мой дорогой Джакомо, принадлежите к числу мужчин, которые способны испортить любую, даже самую великолепную репутацию.
На самом деле плутовка уже нимало не сомневалась в том, какой оборот примут ее отношения с красавцем венецианцем, и предпочитала, чтобы у того было свое жилье, где ей было бы удобно и приятно его навещать, не возбуждая подозрений Марио. Ее муж по натуре был человеком ревнивым.
А потому Джакомо поселился на улице Моконсей в Бургундском отеле, владелицей которого была некая госпожа Кенсон. Кроме отеля, у этой дамы была еще хорошенькая дочка по имени Мими, девушка лет пятнадцати или шестнадцати, по профессии танцовщица. Не станем скрывать, что, едва поселившись там, наш соблазнитель одним выстрелом уложил двух зайцев: Сильвия Балетти и маленькая Мими одновременно сделались его любовницами, возможно даже и не слишком обольщаясь при этом насчет его верности.
«В Париже, – говорила Сильвия, – мужчина, у которого всего одна любовница, выглядит почти так же смешно, как верный муж».
Яснее не скажешь. Впрочем, актриса была славной женщиной и заботилась прежде всего о том, чтобы ее подопечный немедленно усвоил парижский дух. И потому она не только содержала его, но еще и принялась искать для него учителей, способных исправить его несколько дикарские манеры, а главное – «отшлифовать» его произношение, сгладить очень уж шероховатый итальянский акцент и приобщить молодого человека к красотам французской речи.
Вообще-то Казанова уже неплохо говорил по-французски. На пути из Женевы в Париж они с Антонио надолго задержались в Лионе, где некий господин де Рошбарон воспылал дружескими чувствами к Джакомо, а тот побаловал его кое-какими своими магическими фокусами. Так же, как в свое время добрый Брагадино, Рошбарон относился к Казанове по-отечески и простер свою привязанность до того, что приобщил нового друга к «новейшим франкмасонским штучкам»: франкмасонство было последним новомодным увлечением, всеобщим помешательством, и без этого, по утверждениям приобщившихся к нему, никак нельзя было сделать мало-мальски приличной карьеры в обществе.
У Сильвии Казанова встретился с учителем, который мог дать молодому человеку именно то, чего ему недоставало. Это был драматург Кребийон, злейший враг Вольтера, здоровенный краснощекий детина, который только и любил на всем свете, что свою трубку, своих кошек (у него их было десять!) и своих собак (а их у него было двадцать две!). Всем этим хозяйством, теснившимся в его доме в Марэ, управляла желчного нрава экономка. Но Казанова, неизменно обольстительный, сумел приручить и угрюмого медведя Кребийона, который великодушно причислил его к своим «зверюшкам»… и обучил его французскому языку вплоть до самых изысканных тонкостей.
Кроме того, благодаря своим тесным связям с семейством Балетти, Казанова оказался вхож и в театральный мир, где, разумеется, сокрушил множество сердец. Кроме танцовщицы Мими Кенсон, Казанова соблазнил обеих прелестных дочек актера Веронеза, Камиллу и Каролину, потом еще одну Камиллу, тоже актрису Итальянской комедии. Красотка Камилла Везиан, помимо таланта комедиантки, обладала еще и несравненным умением вытягивать из мужчин не только все необходимое ей, но даже и лишнее.
Она до безумия влюбилась в Джакомо, но любовь быстро угасла, как только на сцене появился некий чрезвычайно богатый маркиз, осыпавший красавицу бриллиантами, каждый из которых был куда крупнее ее собственного мозга. Казанова отнесся к этому философски и нашел себе другую любовницу. На этот раз не такую дорогостоящую, потому что деньги Брагадино давно закончились, деньги Анриетты остались лежать на карточных столах, и если Казанова охотно пользовался гостеприимством семьи Балетти, то просить у них деньги на шалости он все же стеснялся.
И тогда наш герой задумался о том, нельзя ли ему раздобыть эти деньги, прибегнув к своим талантам «целителя» и «мага-каббалиста». Однажды он случайно услышал о том, что у герцогини Шартрской, дочери принца Конде и принцессы крови, со времени ее брака с наследником Орлеанского дома здоровье несколько расстроено. Казанова решил брать наглостью и явился к ней.
Герцогиня охотно его приняла. Дело в том, что с ее лица из-за слишком возбуждающей пищи – герцогиня была безудержной лакомкой! – не сходили мелкие прыщики, и она была готова хоть черту продаться, лишь бы избавиться от этой ужасной напасти.
– Сударь, – сказала она, – если ваше искусство может мне помочь, я сумею вас отблагодарить.
– Ваше высочество, я сделаю все, что в моих силах, но чудеса могут совершаться лишь в том случае, если больной сам охотно помогает врачу. Готовы ли вы во всем повиноваться мне?
Герцогиня пообещала сделать все, что потребует от нее прекрасный венецианец, который для начала, желая привести ее в нужное состояние, прибег к «каббалистическому средству», вопросил свой оракул, превратив буквы в цифры и составив из них пирамиду, а после ее разрушив. Затем, получив от оракула нужные сведения или по крайней мере сделав вид, что получил ответ, он прописал герцогине легкое слабительное, промывания настоем подорожника… и «особый режим», воздающий должное уму Казановы, поскольку этот режим представлял собой не что иное, как простейшую диету.
Результат оказался поразительным. Герцогиня, лицо которой мгновенно обрело нежные оттенки лилий и роз, вручила «своему милому лекарю» туго набитый кошелек, поклялась исполнить любое его желание, что бы он только ни попросил, пообещала рассказать о нем королю… и потихоньку вернулась к прежним привычкам. Через две недели прыщики были тут как тут.
Казанова, которого немедленно снова призвали к герцогине, очень рассердился, заставил свою августейшую пациентку признаться в том, что она ела блюда, строжайше запрещенные его диетой, опять на какое-то время привел ее в порядок, и в конце концов у него вошло в привычку время от времени наведываться в Пале-Рояль и прописывать герцогине «режим» после особенно крупных излишеств. Впрочем, желая сохранить ее доверие к себе, он с пафосом разглагольствовал о неких исследованиях, предпринятых им с целью открыть эликсир молодости, тот самый эликсир, из-за которого весь Париж толпился у дверей знаменитого графа де Сен-Жермен.
Теперь, когда Казанова, благодаря щедрости герцогини, разделался с долгами, он смог более основательно заняться своей новой любовной интрижкой.
Напротив того дома, где обитало семейство Балетти, жила одна любопытная ирландская семья, у которой часто выходили неприятности с полицией. Фамилия этих людей была О'Мэрфи, и надо сказать, люди это были подозрительные. Отец занимался одновременно двумя ремеслами: холодного сапожника, что не приносило ему никакого дохода, и вора-карманника, что все же приносило ему кое-какой доход в те дни, когда он не сидел в тюрьме. Мать была перекупщицей и, как и отец, приторговывала также и другим товаром, явно более доходным: собственными прелестями и прелестями своих дочерей. А поскольку дочек у нее было пять, дела шли, в общем, неплохо.
По правде сказать, младшую из дочерей пока не выставили на продажу, поскольку она была еще слишком молода: ей и пятнадцати не исполнилось. Кроме того, она была до того грязной и оборванной – ни дать ни взять Золушка, – что никто не смог бы сказать, какого цвета на самом деле у нее кожа.
Но для того чтобы обмануть чутье такого охотника на женщин, каким был Казанова, слоя грязи было недостаточно. Фигурка у маленькой Луизон была такой, что мужчины на улицах оборачивались ей вслед. Итак, прежде всего он постарался расположить девочку к себе, ласково говорил с ней, делал маленькие подарочки. Потом, в один прекрасный день, когда вся семья ушла «по своим делам», он посадил Луизон в карету и отвез ее в Шайо, к одной из своих подруг, некоей госпоже Пари, которая держала игорный притон и роскошный дом терпимости. Впрочем, делая это, он вовсе не имел намерения оставить девушку там, а лишь на время поручил Луизон этой превосходной женщине для того, чтобы та ее основательно вымыла и облачила в новые платья.
Результат был поистине чудесным: Луизон, которая вошла в этот дом в самом неприглядном виде и больше всего напоминала ком грязи, вышла оттуда преображенной, достойной кисти художника – ну просто настоящая Греза! Темноволосая, с большими голубыми глазами, свеженькая, пухленькая, с самым прелестным личиком, какое только можно вообразить, и… с кожей несравненной белизны.
Покоренный своей находкой Казанова даже и не думал возвращать ее матери. После того как одно из самых щедрых вознаграждений, полученных им от его герцогини, перешло в грязные руки госпожи О'Мэрфи, девушка поселилась у него.
Несколько недель протекли в восхитительных наслаждениях. Луизон оказалась чудесной любовницей, пылкой и простодушной, к тому же она, похоже, была без памяти влюблена в своего соблазнителя. Ей нравилось выходить с ним вместе, показываться с ним под руку в Кур-ла-Рен. Но вскоре она, по примеру своих сестер, стала выставлять Джакомо кое-какие финансовые требования. Как бы ни был привлекателен Казанова, ему все-таки трудно было соперничать со всеми мужчинами, пожиравшими его подругу во время прогулок страстными взглядами.
В конце концов он стал раздумывать над тем, нельзя ли сделать так, чтобы прелестная Луизон, вместо того чтобы разорять его, принесла ему прибыль. Он даже призадумался над этим, и очень серьезно, в тот день, когда в отеле «Трансильвания», модном игорном доме, познакомился с первым камердинером короля.
Лапорт вечно охотился за какой-нибудь новой мордашкой, которую мог бы преподнести своему царствующему господину. Ему показалось, что обворожительная ирландка – как раз то, что он ищет, и он поспешил завязать дружеские отношения с ее официальным покровителем. По прошествии некоторого времени он намекнул синьору Казанове, что для него могло бы быть крайне выгодно «доставить удовольствие» Его Величеству…
Доставить удовольствие королю Людовику XV! Да Казанова ни о чем большем и не мечтал! Но требовалось еще, чтобы монарх лично мог убедиться в красоте Луизон, а маркиза де Помпадур в Версале подозрительно присматривалась к появлявшимся там молодым женщинам, если только не она сама их выбрала.
– Есть один очень простой способ, – решил Казанова. – Я закажу портрет моей юной подруги, а вам, господин Лапорт, останется лишь сделать так, чтобы он попался на глаза королю.
Именно так и поступили. Немецкий художник, чьего имени история не сохранила для потомства, написал портрет обольстительно раздетой Луизон, и этот портрет в один прекрасный вечер был неусыпными стараниями Лапорта тайно доставлен в Версаль и в подходящее время показан королю.
Людовик XV был поражен.
– Я и представить себе не могу, – воскликнул он, – чтобы природа могла произвести на свет столь прекрасное дитя! Это, наверное, всего лишь плод фантазии живописца…
– Натурщица существует на самом деле, сир, могу заверить в этом Ваше Величество… Я видел ее собственными глазами!
– Хотел бы я видеть ее собственными глазами, – с улыбкой произнес король. – Возможно ли это?
– Если только Ваше Величество этого желает…
Несколько дней спустя Луизон, упакованная во множество слоев шелка и кружев, была потихоньку проведена в некое укромное здание на улице Оленьего парка, который служил временным пристанищем для хорошеньких девушек, коим не посчастливилось принадлежать ко двору, зато выпала удача понравиться королю.
Луизон в этом преуспела как нельзя лучше, вплоть до того, что сумела подарить королю сына, и в конце концов вызвала большую озабоченность госпожи де Помпадур.
Но для Казановы она была потеряна безвозвратно. Конечно, он нашел немалое утешение в «благодарности» Лапорта, но тем не менее погрузился в некоторую меланхолию оттого, что так бесповоротно был разлучен со своей прелестной находкой.
Стараясь хоть немного забыться, он с удвоенным усердием обратился к игре в фараон, играл по-крупному, даже немного плутовал и наконец поссорился с неким виконтом де Тальви, который был, вероятно, не честнее его самого, но сумел поймать его с поличным. Дело приняло неприятный для нашего авантюриста оборот.
Состоялась дуэль, его противник был ранен и совершил некрасивый поступок, выдав Казанову полиции, которая на этот раз проявила расторопность.
Несчастный Джакомо, вовремя предупрежденный Сильвией, у которой повсюду были связи, вынужден был поспешно бежать, поскольку его путь, который только-только обещал стать блестящим, теперь, стоило ему попасться, мог привести его прямиком на средиземноморские галеры Его Величества. Конечно, Средиземноморье – это Средиземноморье… Но в те времена еще не вошел в моду отдых на Лазурном берегу, да и такой способ плавания по морям очень мало напоминал развлечение.
Толком не зная, куда податься, Казанова подумал, что, в конце концов, он до сих пор не познакомился с Германией, что его мать по-прежнему живет в Дрездене, где у нее по-прежнему завидное положение, и что обязанность хорошей матери – прийти на помощь несчастному сыну.
И потому он отправился в Дрезден, перед тем тысячу раз поклявшись до слез расстроенному семейству Балетти вернуться через самое непродолжительное время.
5. Узник свинцовой темницы
Итак, наш герой отправился в Германию. Однако Венеция с ее притягательностью, с ее игорными домами и ее куртизанками была слишком дорога сердцу Казановы, чтобы он согласился надолго расстаться с ней… И потому, когда прошли первые дни после встречи с матерью, как только улеглись первые восторги, вызванные городом Дрезденом и пышными зданиями, воздвигнутыми в собственную честь польским королем – саксонским курфюрстом, наш странник пришел к заключению, что саксонская dolce vita[4] ему совершенно не подходит. Слишком частые попойки… да еще и пьют-то пиво! Это было непереносимо для приемного сына Дзуана Брагадино и двоих его друзей.
И в один прекрасный день, основывая свое решение на том обстоятельстве, что у Совета Десяти в настоящее время должны быть дела поважнее, и вместе с тем чувствуя, что готов на любой риск, лишь бы только снова увидеть свою Светлейшую родину, Казанова уложил свои вещички, расцеловался с матерью, обнял брата Франческо, который тоже, пожелав испытать свои силы как художник, явился к саксонскому двору, и весело тронулся в путь к родной стране.
Возвращение его оказалось почти триумфальным, потому что трое старцев в честь блудного сына, разумеется, закололи жирного тельца. И потом, через два дня после возвращения Джакомо, Венеция отмечала главный праздник года, праздник Вознесения, во время которого дож на борту «Буцентавра» отправляется возобновлять союз Светлейшей республики с Морем. Удачное время для того, чтобы вернуть себе утраченное расположение…
Казанова с наслаждением вновь окунулся в беспечную венецианскую жизнь – возможность ее вести давало ему богатство его покровителей. Его снова видели обряженным в «бауту», с черным покрывалом, спускающимся из-под треуголки с перьями и окутывающим голову и плечи, разодетым в шелка и бархат, скрывающим лицо под полюбившейся щеголям белой маской с птичьим клювом. Он снова появлялся на площади Святого Марка, излюбленном месте прогулок все тех же щеголей, появлялся в ridotti, то есть игорных домах, и casini, тайных притонах, где много пили в обществе красивых и не слишком добродетельных дам.
Он снова начал отчаянно прожигать жизнь. Он проводил ночи в оргиях или у столов, где играли в фараон и бассет, а потом, когда рассветало, отправлялся на Эрберию, к Большому каналу, вдохнуть свежего утреннего воздуха и поглядеть на груженные овощами и фруктами лодки, плывущие к рынку Риальто.
Конечно, он не забывал и о любви, которая оставалась его неизменной спутницей. Казанова снова встретился с Терезой Имер, той самой красивой девушкой, которую он осмелился похитить у сенатора Малипьеро и из-за которой принужден был отправиться на дикие земли Калабрии. Встреча была приятной, не более того, и то для одного лишь Джакомо, поскольку Тереза, прошедшая прекрасную школу в Байройте, в Южной Баварии, у маркграфа, вскоре поняла, что покинутая женщина становится для бывшего возлюбленного забытой женщиной.
Любовное приключение оказалось коротким, и, когда оно закончилось, Тереза почувствовала себя разочарованной и оскорбленной. Ни одной женщине не доставит удовольствия почувствовать, что для своего избранника она всего лишь мимолетное увлечение. Но, на ее беду, случилось так, что сердце Казановы оказалось занятым не ею.
Во время одной из безумных партий игры в бассет в ridotto на площади Святого Марка он подружился с выслужившимся из рядовых офицером по имени Пьетро Кампана, приятным человеком, несмотря на то что он никак не мог выпутаться из денежных затруднений. Казанова ссудил ему несколько дукатов, и тот, не зная, как вернуть долг, поскольку фортуна по-прежнему была к нему неблагосклонна, внезапно нашел довольно любопытный способ разрешить эту проблему.
– Дайте мне еще несколько цехинов, – взмолился он. – Не может же удача вечно от меня отворачиваться! А я, – прибавил он, видя, что его друг намеревается отказать, – познакомлю вас с самой красивой девушкой во всей Венеции!
– Самой красивой? Я их всех знаю и не вижу…
– С этой вы еще незнакомы. Это моя сестра Катарина! Ей пятнадцать лет, и она прекрасна, как майский день: стройная, гибкая, с огненными глазами, роскошные черные волосы, кожа, в которой словно поселилось солнце. А тело…
– Ну, хватит! Вы вполне уверены в том, что говорите о своей сестре? Вы ее расписываете, как барышник – кобылу!
– Потому что я люблю ее и потому что вас я тоже люблю! Ничто не могло бы сделать меня таким счастливым, как видеть вас вместе. Катарина – скромная и простодушная девушка, но мне кажется, что вы ей понравитесь.
Кампана получил свои цехины, а Казанова был представлен Катарине. Незачем и говорить о том, что и у него, и у нее любовь вспыхнула мгновенно. Кампана не преувеличивал: Катарина действительно была обворожительна, и Казанова страстно влюбился в нее с первого взгляда. Девушка, со своей стороны, не могла противиться чарам этого высокого тридцатилетнего мужчины со смуглым лицом и дерзким взглядом, склонявшегося перед ней, словно испанский гранд перед своей королевой.
Однажды вечером, когда отца девушки не было дома, он даже позвал музыкантов, чтобы исполнить для нее серенаду. Но если первую часть концерта влюбленные слушали порознь, он – из лодки, а она – со своего балкона, то вторая звучала контрапунктом к стонам Катарины, которая в своей постели отдавалась Джакомо со всем свойственным юности пылом.
Это был прелестный и типично венецианский роман, состоявший из пламенных свиданий украдкой, неспешных прогулок в гондоле, вздохов, клятв и звона мандолины. Но роман оказался коротким, потому что старик Кампана, как и положено хорошему отцу, озабоченному и продолжением рода, и будущим своей дочери, нашел для нее мужа, как и он сам, торговца, богатого и обеспеченного.
Торговец этот обладал одним изъяном – он не только был далеко не красавцем, но к тому же оказался еще и не очень молод. Катарина, без памяти влюбленная в своего Джакомо, наотрез отказалась от жениха, и в красивом доме на улице Святых Апостолов разыгралась одна из тех трагикомических сцен, какие, к величайшей радости французов, будет в изобилии сочинять в грядущем веке автор известных комедий Лабиш.
Кампана-отец едва не задохнулся от бешенства, поколотил дочку, и, поскольку она продолжала упорствовать в своем намерении выйти замуж за этого негодяя Казанову, ему оставалось лишь прибегнуть к единственному доступному для венецианских отцов средству, способному заставить призадуматься непокорную дочь: отправить ее в монастырь.
– Не видать тебе больше Катарины, – сообщил однажды вечером Пьетро своему другу Джакомо. – Отец отослал ее в монастырь. Сегодня утром ее увезли в Мурано.
– В Мурано? А ты знаешь, в какой монастырь ее отправили?
– Конечно, знаю! Сан-Джакомо Галицийского!
Лицо Казановы, поначалу омрачившееся, вмиг просияло. Благодарение богу, не все венецианские «клетки для девушек» были одинаковы. Конечно, монастыри, которые принимали девушек, следовавших истинному призванию, имели тот строгий уклад, какого желала святая Тереза д'Авила, но другие, служившие семьям чем-то вроде чулана, куда удобно было засовывать слишком многочисленных или чересчур непокорных дочек, и не думали порывать с радостями жизни. Эти монастыри, запечатленные кистью Лонги, больше напоминали светские салоны, чем уединенный приют монахинь. Монашки, если их вообще можно назвать этим именем, одевались по последней моде и ежедневно, изящно причесанные и нарумяненные, принимали друзей, если только сами не отправлялись с визитами к знакомым… или на свидания. Тот монастырь, куда старый Кампана отправил свою дочку, принадлежал к числу последних.
Но поскольку этот славный малый тоже не вчера родился, он в обмен на свои деньги потребовал, чтобы к дочери никого не пускали, в особенности же просил по крайней мере на некоторое время запретить ее навещать мужчинам. И в день, когда Казанова, с головы до ног разряженный в зеленый атлас, явился в монастырь, ему вежливо сообщили, что синьорина Катарина Кампана больна и не принимает.
Наверное, ее болезнь была не такой уж тяжелой, поскольку на следующий день он получил от Катарины облитое слезами письмецо, в котором затворница горестно жаловалась ему на свои несчастья. Она, конечно, не в силах была бы их вытерпеть, если бы рядом с ней не было сестры Марии-Маддалены, которая прониклась к ней нежнейшим сочувствием, всячески ее баловала и вообще обращалась с ней, как обращалась бы настоящая старшая сестра.
«Именно ей, возлюбленный мой, вы должны адресовать ваши письма, если, конечно, вы возьмете на себя труд писать к несчастной девушке, которая чахнет от любви к вам. Она неизменно будет передавать их мне и озаботится тем, чтобы доставлять вам мои письма. Она настоящий ангел…»
Через посредство вышеупомянутого ангела влюбленный Казанова и нежная Катарина обменялись несколькими пламенными посланиями, которые, впрочем, со временем без всякой видимой причины стали реже.
Это уже начинало тревожить Казанову, но в одно прекрасное утро он внезапно получил коротенькую записку, подписанную инициалами «М.М.». Этой запиской его приглашали во второй половине дня прийти в монастырь Сан-Джакомо.
Он не заставил повторять приглашение, нанял гондолу и устремился к острову Мурано в надежде увидеться наконец со своей юной любовницей, поскольку в письме за подписью «М.М.» было сказано, что он, несомненно, получит удовольствие от этого посещения.
Сидя в монастырской приемной, он смотрел сквозь изящные завитки широкой решетки на приближающуюся к нему девушку. Она была очень хороша собой, с молочной кожей, прекрасными голубыми глазами. Платье на ней было скромное, но из-под кружевного покрывала на голове выбивались роскошные волосы чудесного светло-каштанового оттенка.
– Так, значит, вы – господин Казанова? – спросила она. – Спасибо, что пришли. Я давно хотела с вами познакомиться. Катарина без конца про вас рассказывает.
– Надеюсь, она здорова, ничего не случилось…
– Не беспокойтесь! Все хорошо. Сегодня она занята другими делами. Это я хотела с вами встретиться.
– Зачем?
– Просто-напросто для того, чтобы вас увидеть. Мне было интересно, понравитесь вы мне или нет, – прибавила она, так томно взглянув на Казанову, что он вмиг позабыл про Катарину. Эта девушка была вдвое прекраснее его бывшей подруги.
– Ну, так что же? – еле выговорил он от волнения.
– Приходите сегодня вечером по адресу, написанному на этом листке бумаги, – ответила она, просовывая между завитками решетки маленькую белую трубочку, – и вы это узнаете.
В тот же вечер Джакомо снова встретился с Марией-Маддаленой, на этот раз – в маленьком домике на берегу лагуны. Она была одета как мальчик – в розовый бархатный камзол, расшитый золотыми блестками, и короткие черные атласные штаны, туго обтянувшие божественные ножки. На маленьком столике посреди комнаты, обитой розовым шелком, был накрыт ужин. Увидев, как изумился всему этому ее гость, Мария-Маддалена улыбнулась:
– Вам не нравится?
– Очень нравится. Но где мы?
– У меня. Вернее, дом принадлежит моему любовнику. Он француз, очень богатый, и исполняет все мои прихоти. Вы – тоже один из моих капризов. И я готова показать вам, как сильно вы мне нравитесь, – прибавила она, начиная раздеваться.
Свидания в маленьком домике следовали одно за другим, страстные и вместе с тем дразнящие, потому что прекрасная Маддалена отдавала Казанове лишь свое тело, но не приоткрывала и краешка своей личности или своей настоящей жизни. Но душе Маддалены было свойственно милосердие, а может быть, и коварство, потому что однажды ночью, явившись на свидание, изумленный Джакомо обнаружил, что в уже разобранной постели его ждет… обнаженная Катарина.
– Мария-Маддалена присоединится к нам чуть позже, – с улыбкой объяснила Катарина своему опешившему любовнику.
Девушка, несомненно, сделала большие успехи. В самом деле, прошло несколько минут, и Мария-Маддалена, на которой, как и на Катарине, не было никакой одежды, присоединилась к сладострастникам, вплелась в их объятия и наконец сообщила, что ее французский любовник тоже не замедлит явиться.
Вот таким образом, в ходе более чем интимной оргии, Казанова познакомился с французским послом в Венеции, аббатом де Берни, и сделался одним из ближайших его друзей.
Следующие недели наша четверка провела как нельзя более приятно. Каждую ночь они встречались, чтобы пировать и совместно предаваться любовным играм. Берни знал, что вскоре ему предстоит вернуться в Париж, и старался, так сказать, урвать все, что можно, устраивая один праздник за другим. Если бы Казанова этим довольствовался, то, пожалуй, смог бы избежать крупных неприятностей. Но его страсть к женщинам была поистине неутолима. Ему мало было то и дело переходить от Катарины к Маддалене, а то и заниматься обеими разом, поскольку у аббата, который был постарше, здоровье было уже не то. Ему опять захотелось чего-то новенького, неизведанного. Кроме того, он снова начал заниматься алхимией, что было совершенно неуместно, если принять во внимание его новую любовь.
В самом деле, на этот раз он остановил свой выбор на красавице патрицианке Лючиане Дзорци, которая, разумеется, недолго оставалась бесчувственной к его пламенным взглядам. К несчастью, Лючиану еще кое-кто любил, но так и не сумел добиться ее благосклонности; и этим неудачником был Паоло Кондульмеро, государственный инквизитор, которого со страхом называли «Красным Инквизитором».
Кондульмеро был святошей, обуреваемым страстями тем более неукротимыми, чем сильнее он их подавлял. Он быстро понял, что женщина, в которую он влюблен, готова отдаться этому исчадию ада, носившему имя Джакомо Казановы. И он натравил на злодея некоего Мануцци, который для отвода глаз занимался комиссионной продажей драгоценностей, но на самом деле был самым ловким шпионом инквизиции.
И вот однажды июльским утром 1755 года Казанова, как обычно, отправился подышать свежим воздухом Эрберии, а вернувшись домой, увидел взломанный замок, распахнутую дверь, перевернутые вверх дном комнаты и рыдающую квартирную хозяйку.
– Сюда приходил важный человек, а с ним – люди в черном, – не переставая плакать, объяснила она. – Они все здесь переворошили и ушли, прихватив с собой множество книг. И этот важный человек… он смеялся!
Казанова почувствовал, как кровь отливает от его лица. Эти книги могли означать для него смертный приговор, поскольку по большей части это были сочинения по алхимии, такие, как «Ключи Соломона» или «Zacorben». Кроме того, там были каббалистические труды и множество менее опасных книг вроде «Диалогов» Аретино.
Но к числу его достоинств принадлежало мужество, и, когда несчастная женщина стала умолять его бежать из города, он ответил:
– Каждый имеет право читать, что захочет. Я не стану бежать из-за нескольких книг, потому что я никому не причинил зла.
Тот же ответ он дал перепуганному Брагадино, который прибежал в эту самую минуту к «своему дорогому мальчику», чтобы дать ему денег и упросить его снова бежать из Венеции, если только он испытывает к Брагадино хоть четверть той нежности, какую он, Брагадино, питает к нему.
– Мне не в чем себя упрекнуть! – повторил Джакомо. – Бежать означало бы признать свою вину.
– Но, несчастный, ты не знаешь, что тебе грозит. Красный Инквизитор утверждает, будто ты околдовываешь женщин, прибегая для этого к сатанинским обрядам.
– Что за глупости! Не моя вина, если я нравлюсь женщинам!
– Я и сам прекрасно это понимаю, но я знаю, что говорю. Кондульмеро нашел свидетелей. Говорят, позапрошлой ночью графиня Бонафеде выбежала из твоего дома совершенно нагая, с распущенными волосами, крича, что ты околдовал ее, и осыпая тебя проклятиями…
– Неправда! И я не собираюсь бежать!
– Ну, тогда мне остается лишь умереть от горя, сынок, потому что Красный Инквизитор никогда не выпускает добычу из когтей.
– Так пусть он привлечет меня к суду! Я сумею защитить себя. Успокойтесь, отец, я пока что жив. Нельзя же арестовать человека из-за бреда сумасшедшей и нескольких книг.
Это означало отрицать очевидное и проявлять упорство, которое могло показаться глупым. Но Казанова, хотя и не говорил этого вслух, рассчитывал на то, что всемогущие франкмасоны помогут ему выпутаться из этой истории. Он поднялся на достаточно высокую ступень для того, чтобы и государственный инквизитор призадумался, прежде чем отправлять его за решетку.
К сожалению, Кондульмеро был настолько же тупым и мстительным, насколько упрям был сам Казанова. Ранним утром 26 июля сбиры Светлейшей республики вытащили преступника из постели и, едва дав ему время одеться, бросили в закрытую гондолу, которая открылась, после долгого и извилистого пути, лишь у дверей венецианской тюрьмы. Теперь оставалось лишь выяснить, бросят ли узника в «Колодцы», постоянно затопленное водой подземелье, или в «Свинцовые кровли», в одну из камер под свинцовой крышей, где летом стояла невыносимая жара, а зимой – ледяная стужа. Ему достался «Свинец»!
6. Отчаянный побег
Оказаться в июле в венецианской тюрьме, да еще под самой крышей, для узника было примерно то же самое, что попасть в пекло. Свинцовые листы кровли впитывали жар и с утроенной силой отдавали его, делая почти нестерпимым.
Камера, в которой заперли Джакомо, была практически лишена освещения. Скудный свет попадал в нее лишь через маленькое отверстие в двери. Другая, еще более узкая дверь вела из камеры на чердак без окон, где были свалены кучи отбросов. Каждый день сторож засовывал туда пленника на то время, пока убирал его камеру.
Этот сторож, Лоренцо Бассадона, оказался неплохим человеком. Тюремщик исправно нес свою службу, но, поскольку Казанова ему скорее нравился, чем наоборот, он иногда оставался ненадолго поболтать с симпатичным арестантом. Вот во время этих бесед Джакомо и узнал от охранника точное расположение места своего заточения: прямо над комнатой Кавалли, секретаря инквизиции, того самого, который встретил его по прибытии и распорядился поместить в одиночную камеру.
Этих незначительных сведений Казанове оказалось достаточно для того, чтобы выстроить план побега. В самом деле, от суда ничего хорошего ждать не приходилось. Те несколько слов, которыми он успел обменяться с Доменико Кавалли, более или менее прояснили его судьбу: он, несомненно, останется томиться под своей свинцовой кровлей до тех пор, пока смерть не сжалится над ним.
Как-то раз, шагая взад и вперед по соседнему чердаку, пока в камере делали уборку, Джакомо нашел два предмета, и эти находки показались ему не лишенными интереса: железный стержень дверного засова и кусок черного мрамора. Обе свои находки он спрятал под одеждой, что было, правду сказать, не так-то легко сделать: из-за нестерпимой жары он ходил почти голым, прикрываясь лишь на ночь, чтобы защитить себя от крыс, которые так и кишели в камере, внушая ему непреодолимый ужас и отвращение.
Вернувшись в свою камеру, узник, предоставленный сам себе, принялся за дело с неистощимым терпением, свойственным тем, для кого время утратило какое бы то ни было значение. Постепенно ему удалось придать стержню нужную форму и заточить его, превратив в некое подобие полупики с восьмигранным лезвием. Изготовленное им орудие было достаточно прочным для того, чтобы он мог предпринять куда более важную работу. Он собирался проделать дыру в полу своей камеры, затем пробить насквозь потолок комнаты Кавалли, затем в одну прекрасную ночь спуститься на простынях во дворец и, спрятавшись под ковром, покрывающим стол в Большой палате правосудия, спокойно дождаться там, пока откроют двери…
К несчастью, он не смог безотлагательно приступить к намеченному им и столь детально продуманному делу. Духота и беспрерывная война с крысами довели арестанта до полного изнеможения. У него началась лихорадка, и Лоренцо Бассадона, которому славный Брагадино исправно и щедро платил за внимание к своему подопечному, испугался, что может потерять такого выгодного клиента. Он позвал врача, и тот прописал больному ячменный отвар и велел произвести в камере тщательную уборку, чтобы выгнать оттуда крыс.
Так и было сделано. И Джакомо, как только немного окреп, сразу принялся за работу. Но едва он ее начал, перед ним встала другая проблема: Лоренцо каждый день подметал камеру. Куда девать щепки, чтобы он их не нашел?
Воображение довольно быстро подсказало узнику решение: он проколол палец, выдавил на платок несколько капель крови и, наконец, позвал на помощь. Лоренцо, который как раз закончил подметать, прибежал на зов и увидел, что арестант лежит на кровати и прижимает ко рту платок с пятнами крови.
– Ты вздымаешь при уборке целые тучи пыли, – еле слышным голосом произнес Джакомо. – Смотри, приятель, я уже кашляю кровью. Теперь я не долго протяну!
– Я сейчас позову врача! – обнадежил его сторож.
Врач пришел снова, но его медицинские познания были весьма ограниченными, и, кроме того, ему надоел этот арестант, из-за которого то и дело приходилось лезть чуть ли не на крышу. Поэтому он заявил, что подметать в камере и в самом деле опасно для здоровья узника и что вплоть до нового распоряжения нельзя ничего трогать с места. Казанова, разумеется, не стал спорить. Оставшись один, он принялся дырявить пол.
Работа грозила оказаться изнурительной. Пленнику предстояло пробить три слоя толстых досок и слой прессованного мрамора. Так что трудиться предстояло еще долго.
Прошло лето, за ним осень. Наступила зима, темница из раскаленного пекла, каким была летом, превратилась в ледник, и Казанова, который в течение долгих месяцев не раз был близок к смерти от удушья, теперь боялся насмерть замерзнуть.
К счастью, Брагадино по-прежнему истово заботился о нем. К Рождеству он передал Джакомо через того же Лоренцо Бассадону теплый халат, подбитый лисьим мехом, стеганное на вате шелковое одеяло и мешок из медвежьей шкуры, чтобы согревать ноги.
Но холод был не единственным врагом, какой появился у Казановы с приходом зимы: еще больше досаждала ему темнота. День стал намного короче ночи, и Казанова уже не мог подолгу расширять дыру, на которую возлагал столько надежд. Ему срочно необходим был светильник! И он сумел его смастерить благодаря нескольким выдуманным болезням.
Лоренцо поочередно принес ему масло из Лукки, чтобы заправлять салат, поскольку Казанова уверял, будто его кишечник не переносит обычного масла, кремень и уксус, поскольку считалось, будто вымоченный в уксусе кремень унимает зубную боль, и серу, предназначенную для исцеления от «нестерпимого зуда», который якобы причиняли ему паразиты.
Получив все это, Казанова добыл еще и трут из пройм своего камзола: у портных было принято подкладывать туда трут для того, чтобы на нежных шелковых тканях не оставалось пятен от пота. Потом сделал огниво из пряжки от пояса. И наконец, старая плошка, найденная на чердаке, помогла ему завершить творение, которым он по праву гордился… но которым не смог воспользоваться, потому что едва светильник был закончен, как у Джакомо появился сосед по камере, молодой парикмахер, обрюхативший дочку патриция.
Этот несчастный не обращал ни малейшего внимания на товарища по заключению. Дни и ночи напролет он только и делал, что стонал и плакал; впрочем, он больше оплакивал свою утраченную свободу, чем честь подруги. Но Казанова слишком хорошо был знаком с методами инквизиции, чтобы поверить в эту великую скорбь. Чересчур уж этот безутешный страдалец походил на «наседку»!
Впрочем, этот плаксивый парень надолго в камере Казановы не задержался. Его сменил еврей-ростовщик Габриэль Шалон. С ним Казанове уже приходилось иметь дело, и как раз его-то он знал слишком хорошо. При нем работа тоже не могла сдвинуться с места: Шалон мать родную продал бы только ради того, чтобы вернуться к своим денежкам.
К счастью, он тоже гостил в камере недолго, и к концу первого года заключения, в самом разгаре лета, Казанова увидел, что его работа подошла к концу. Ему оставалось пробить лишь потолок комнаты Кавалли, на эту операцию у него уйдет не больше часа. Итак, он решил бежать в ночь на 27 августа…
Увы, трижды увы! За два дня до назначенной даты к нему явился сияющий Лоренцо.
– Решено перевести вас в другую камеру, – расплывшись в улыбке, радостно сообщил он. – Теперь у вас будет два окна, сколько угодно воздуха и вид на всю Венецию.
Годом раньше подобное известие привело бы узника в восторг. Теперь же оно повергло его в отчаяние…
«Если бы я мог унести с собой дыру…» – напишет он позже в своих воспоминаниях.
Как бы там ни было, пришлось покориться. Новая «квартира» была куда лучше прежней, что и говорить, и к тому же Лоренцо сказал, что теперь арестант может получать книги. Но дыра-то осталась в старой камере!
Из-за нее Казанова чуть было не поссорился со своим тюремщиком, что было бы весьма прискорбно. Естественно, когда Лоренцо стал убирать прежнюю темницу, тайна раскрылась. И он, разъярившись, явился к своему постояльцу с обвинениями в предательстве и с требованием немедленно отдать инструменты, которыми он орудовал.
– У меня их уже нет, – хладнокровно заявил тот. – Впрочем, я вполне мог бы сказать, что это ты мне их доставил. На твоем месте я бы умолчал об этом открытии. Так было бы разумнее, если не хочешь нажить неприятностей.
Лоренцо внял благоразумному совету, заделал, как мог, отверстие, убрал мусор и зарыл топор войны, а Казанова снова принялся размышлять над тем, каким же способом ему все-таки бежать из тюрьмы.
Побег стал для него еще более нелегким делом, потому что теперь за ним пристально наблюдали, а его камеру каждый день осматривали и выстукивали. Что можно сделать в таких условиях? Но Казанова не был бы Казановой, если бы не нашел выхода из положения. Ему пришла в голову счастливая идея: можно ведь найти для побега товарища, который сделал бы всю работу за него. А надо-то всего-навсего – пробить дыру на этот раз не в полу, а в потолке, конечно, при условии, что камера сообщника расположена по соседству, приподнять один из свинцовых листов кровли, потом вернуться на чердак и проделать отверстие в потолке камеры Казановы. Но где взять такого самоотверженного друга?
Решение подсказал, сам того не ведая, все тот же верный Лоренцо. Сосед по заключению, монах, арестованный за то, что слишком усердно бегал за девушками, предложил одалживать Казанове книги, если тот тоже даст ему что-нибудь почитать. Монаха звали Марино Бальби, и Лоренцо говорил, что он силен, как Геркулес.
При помощи книг, кочевавших из одной камеры в другую, между узниками завязалась переписка. Бальби охотно согласился помочь Казанове и готов был бежать вместе с ним, но у него не было инструментов…
При посредстве Библии полупика перешла из рук в руки, и Бальби принялся долбить потолок. В камеру монаха не заглядывали, и к тому же он, по совету своего невидимого друга, попросил прислать и получил картинки с изображениями святых, которыми прикрывал следы своей работы. Через неделю над головой Казановы раздался условный сигнал: три легких удара…
Оставалось назначить время побега. После недолгих колебаний была выбрана ночь на 31 октября, потому что к этому времени инквизиторы обычно уезжали в свои поместья на материке, чтобы встретить там праздник Всех Святых, а Лоренцо, воспользовавшись их отсутствием, основательно напивался.
К девяти часам вечера Казанова едва мог справиться с волнением. Наконец часть потолка обрушилась, и показался здоровенный малый, который, несомненно, не блистал умом, зато обладал недюжинной силой. Не тратя времени на взаимные приветствия, сообщники прихватили каждый свой сверток с одеждой и веревки, которые им удалось скрутить из простыней и одеял, и вскарабкались на тюремную крышу.
Ночь была светлая, пришлось дожидаться, пока луна соизволит куда-нибудь спрятаться, но при ее свете Казанова разглядел слуховое окно, расположенное на середине ската крыши, который оказался не таким крутым, как он опасался. Беглецы с самой большой скоростью, на какую только были способны, поползли к спасительному окошку. Бальби при этом не переставал ворчать, потому что упустил свой сверток и он теперь покачивался на воде под мостом Вздохов.
Через открытое окошко они разглядели чердак, который оказался очень высоким – не меньше шести метров.
– Вам легко будет спуститься по веревке, – сказал Казанова, – но ее совершенно не к чему прикрепить, и я не смогу последовать за вами.
– Нет уж! – воскликнул тот. – Сначала спустите меня! А потом у вас будет достаточно времени поразмыслить над тем, как ко мне присоединиться.
Казанова начал косо посматривать на своего товарища, который оказался не совсем таким, каким он его себе представлял. Тем не менее он опустил сообщника на чердак и, избавившись от его бесконечных жалоб и упреков, принялся внимательно исследовать крышу. Удача ему улыбнулась: до него на крыше побывали рабочие и, кроме большого чана, оставили приставную лестницу, которая теперь лежала рядом с трубой.
Обрадованный беглец попытался подтащить ее к слуховому окну. Лестница оказалась тяжелой, но ему все же удалось засунуть внутрь один ее конец. Сделав неловкое движение, он поскользнулся и, тихо подвывая от страха, сполз по скату крыши. Еще немного – и он разбился бы о мостовую!..
Но удача редко изменяла Казанове: на этот раз ему спасла жизнь водосточная труба, за которую он уцепился. Правда, для того чтобы проделать обратный путь, пришлось собрать все силы. Наконец, мокрый от пота, дрожащий всем телом, он опять сидел на крыше и старался унять отчаянно колотившееся сердце.
Вскоре Джакомо смог снова вскарабкаться к слуховому окну, и только теперь ему удалось наконец просунуть в него лестницу. Бальби, который остался на чердаке, ее подхватил. Минутой позже Казанова уже был рядом с ним. Едва коснувшись пола, он упал без сознания…
Приведенный в чувство увесистыми пощечинами своего спутника, он немедленно вновь ощутил готовность к бою. Чердак, на котором они оба сейчас находились, уже не был тюрьмой. Отсюда можно было выбраться.
Дверь была заперта на замок, но все же верная полупика помогла без особого труда ее открыть. Они прошли коридором, спустились по лестнице и оказались в большом зале: там располагались архивы города Венеции. Отсюда небольшая каменная лестница вела в канцелярию. Но здесь тоже была дверь, и эта дверь так легко не отпиралась.
– Сейчас рассветет, – проворчал Бальби. – Если мы отсюда не выберемся, нас наверняка поймают.
– Нас не поймают. Я это знаю. Я в этом уверен… – возразил ему Казанова.
Замок на двери был крепким и никак не поддавался полупике. Тогда Джакомо взялся за деревянную филенку и сумел проделать в ней отверстие, в которое мог бы протиснуться человек. Но только протиснуться… не более того! Пролезая в пробитую Казановой дыру, беглецы исцарапались и порвали одежду. Сам Казанова, к примеру, выбрался оттуда совершенно ободранным, в лохмотьях. И на этом дело не кончилось, оставалось еще одно препятствие: парадная дверь, с которой было не справиться никакому инструменту!
Тогда Казанова решил действовать наглостью. Усевшись на пол, он развязал свой узел с одеждой и вытащил оттуда нарядный камзол, который бережно хранил, и шляпу с перьями. Облачившись в камзол и надев шляпу, он подбежал к окну и выглянул наружу. Пробило шесть часов, и ранние прохожие уже шли в церковь Святого Марка к утренней мессе.
– Эй! Послушайте! – уверенным голосом крикнул им Казанова. – Сходите за привратником, пусть он немедленно отопрет двери. Нас нечаянно здесь закрыли.
Вид этого украшенного перьями знатного господина не возбуждал ни малейших подозрений. Минутой позже дверь распахнулась, Казанова накинул Бальби на плечи свой плащ, на ходу небрежно поблагодарил, выбежал на набережную и вскочил в гондолу. Бальби последовал за ним.
– В Фузину! – бросил гондольеру Казанова. – И поживее, мы торопимся!
Гондольер заработал веслом, и гондола вышла в открытое море.
Тогда беглец сказал:
– Собственно говоря, ни в какую Фузину нам не надо. Мы едем в Местре.
– Это будет дороже.
– Не имеет значения. Деньги у меня есть. Давай, приятель, пошевеливайся!
В Местре гондольера отпустили, хорошо ему заплатив, пересели в карету и отправились в Тревизо. Главным для беглецов сейчас было насколько возможно увеличить расстояние между ними и сбирами Светлейшей республики. Но дальше им пришлось идти пешком, потому что деньги кончились. Осталось ровно столько, сколько нужно, чтобы не умереть с голоду. Беглецы остановились лишь за пределами Венеции.
Из первой же деревни, где они остановились отдохнуть на постоялом дворе, наш герой отправил гонца к своему неизменному покровителю, Брагадино. Затем он улегся в постель и проспал шесть дней и шесть ночей, открывая глаза лишь для того, чтобы открыть заодно рот и перекусить: именно столько времени потребовалось гонцу для того, чтобы добраться до Венеции и вернуться назад с сотней цехинов.
На этот раз ужасы закончились, снова начиналась прекрасная жизнь. Казанова и Бальби, воспрянув духом, отправились в Мюнхен, где, к обоюдному удовольствию, и расстались: товарищи по несчастью уже начинали ненавидеть друг друга…
Джакомо решил, что слишком много времени провел вдали от Парижа, и, с легким сердцем и тяжелым, плотно набитым кошельком, спокойно отправился покупать себе место в дилижансе, который через Страсбург отвезет его в этот город, средоточие всех наслаждений и любви. С тех пор как он покинул Венецию, ни одной женщине не удавалось привлечь его внимание даже на несколько минут. Что ж, раз нельзя находиться в родном городе, Париж тоже вполне может быть подходящим местом для того, чтобы возродиться к жизни…
7. Гульнуар и Семирамида
Казанова снова увидел Париж в самые первые дни 1757 года, испытав при этом приятное чувство, словно вернулся домой после трудного и слишком затянувшегося путешествия.
День был холодный и сырой. Крыши побелели от снега, на мостовых застыла черная зловонная грязь, но для человека, вырвавшегося из «Свинцовых кровель», этот зимний Париж, где катили в кабриолетах девицы из «Опера», а обыватели, весело шлепая по грязи, спешили вернуться домой, в тепло, к горящему камину, мало чем отличался от рая.
Конечно, в прошлый раз пребывание в этом городе закончилось для Джакомо довольно печально и оборвалось внезапно. Но время так хорошо умеет все улаживать, в песочных часах старого Кроноса просыпалось достаточно много песка, и милые легкомысленные парижане давным-давно забыли о мелких грешках синьора Казановы. И потом, разве не было у него на этой благословенной земле множества добрых друзей, которые помогут ему в случае затруднений?
Наконец, Казанова чувствовал, что сейчас, в расцвете лет, став зрелым мужчиной, он красив, как никогда прежде, и понимал, что если женщины и раньше не скупились для него ни на благосклонность, ни на деньги, то теперь у них тем более нет никаких серьезных причин отказывать ему.
И потому он с уверенностью постучался в дверь дома своих добрых друзей Балетти. Его встретили радостными восклицаниями. Постаревшая и больная Сильвия обнимала милого гостя со слезами на глазах и волновалась, словно родная мать, увидевшая наконец блудного сына после долгой разлуки. Антонио тоже плакал, сжимая его в объятиях, а Марио, многократно с ним расцеловавшись, звучно высморкался. И только прелестная девушка лет пятнадцати, не осмеливаясь приблизиться, лишь смотрела на него большими сияющими глазами. Казанова восхищенно взглянул на нее.
– Кто это? – спросил он, посылая девушке самую обворожительную улыбку, на какую только был способен.
Антонио покатился со смеху:
– Но, послушай, дорогой друг, кто же, по-твоему, это мог бы быть? Да это же Манон, моя сестренка…
Гость в изумлении уставился на него:
– Манон, та самая малышка Манон? В это невозможно поверить…
– Придется поверить! С тех пор как ты нас покинул, Джакомо, прошло почти семь лет. Она из девочки стала девушкой.
Это-то Казанова и сам сразу же заметил. Более того – она стала очаровательной девушкой, и он с первой же минуты был ею просто околдован. А поскольку и он, было видно по всему, обворожил прелестное создание, поскольку речь здесь явно шла о взаимной любви с первого взгляда, то Казанова… Нечестивец Казанова, чародей Казанова, каббалист, франкмасон и розенкрейцер Казанова, засыпая в этот первый свой вечер в Париже в прежней своей кровати на улице Ришелье, блаженно возблагодарил Господа и всех святых за то, что они помогли ему благополучно добраться до Парижа, где ему удалось так пламенно влюбиться в первый же день.
Но теперь, когда ему так повезло и он сумел этого дождаться, ему надо было как можно скорее вернуть себе утраченное богатство. Сотня цехинов, присланная добрым Брагадино, была почти истрачена, а для того чтобы покорить Манон, чьей руки он твердо намеревался просить, Казанове нужны были деньги, много денег.
Впрочем, несмотря на неприятности с полицией, у него все же остались в Версале кое-какие друзья, кое-какие связи, кое-какие значительные покровители, такие хотя бы, как маршал де Ришелье и даже маркиза де Помпадур, которую он развлекал когда-то. Но не они помогли ему. С созданием, на которое он отныне будет возлагать главные свои упования, с женщиной, которая должна была помочь ему разбогатеть, Казанова встретился в доме герцога де Шуазеля: тот привязался к нему до такой степени, что помог другу устроить сомнительную историю с лотереей и использовал его для некоторых тайных поручений. Так вот, этой женщиной оказалась Жанна де Понкарре, маркиза д'Юрфе, та самая, которую Казотт за неумеренное пристрастие к оккультным наукам прозвал Медеей.
Конечно, и до этого Казанова много раз ее видел, давно обратил на нее внимание и прекрасно знал, кто она такая. Впрочем, чему ж тут удивляться, ведь дом, в котором жила семья Балетти, принадлежал именно госпоже д'Юрфе! Итак, он знал ее и раньше, но у Шуазеля, который, впрочем, жил в соседнем доме, он впервые встретился с ней на равных.
Этой женщине было тогда пятьдесят два года, и она еще не совсем одряхлела, так что и сейчас смотреть на нее было вовсе не противно. А в молодости маркиза принадлежала к числу безрассудных любовниц регента, и так продолжалось до тех пор, пока она в конце концов не вышла замуж за очень знатного и очень обеспеченного человека. Ее мужем стал Луи-Кристоф де Ларошфуко де Ласкарис д'Юрфе, потомок прославленного автора «Астреи». Их брак оказался более чем недолговечным: уже в 1734 году прекрасная Жанна осталась вдовой и одновременно сделалась очень богатой.
Считая, что теперь для нее настало время пожить в свое удовольствие и распоряжаться собой по собственному усмотрению, она решила, несмотря на то что многие просили ее руки, больше замуж не выходить и безраздельно посвятить себя эзотерическим изысканиям, которыми страстно увлекалась. Изыскания эти заключались главным образом в том, что она скупала в невероятных количествах каббалистические сочинения, а кроме того, устроила в своем роскошном особняке на набережной Театинцев (ныне набережная Вольтера) алхимическую лабораторию, от которой пришел бы в восторг и сам доктор Фауст.
Благодаря графу де Сен-Жермен изыскания подобного рода сделались настолько модными, что, если бы не кое-какие особенные причуды, резко отличавшие госпожу д'Юрфе от прочих учениц чародея, она, пожалуй, затерялась бы в этой толпе. К числу ее причуд принадлежала, например, привычка постоянно носить на шее вместо ожерелья здоровенный магнит, что, по ее представлениям, должно было оградить ее от всех подстерегающих человека в жизни неожиданностей.
Неизвестно, помог ли благородной даме ее магнит, но точно известно, что неожиданность подстерегала скорее Джакомо. Когда племянник госпожи д'Юрфе, молодой граф де Латур д'Овернь, представил его своей тетке, она после нескольких минут самого банального разговора преспокойно заявила, что все ее ученые изыскания направлены преимущественно на то, чтобы она вновь смогла обрести молодость, но только сделавшись мужчиной.
– Мужчиной? – удивившись, переспросил Казанова. – Почему мужчиной?
– Потому что вся сила исходит от мужчины, изначального принципа, а женщина – всего лишь его частичка. Перечитайте Книгу Бытия, друг мой, – глубокомысленно изрекла она. – Только мужчина обладает способностью достигать высочайших вершин. Я знаю это из верного источника.
Джакомо тоже кое-что знал наверняка, а именно то, что безумцам никогда не следует противоречить. С другой стороны, он почувствовал, что эта сплошь увешанная золотом и драгоценными камнями женщина окажется источником солидных доходов, которые достаточно ловкий человек с легкостью сможет извлечь. А себя он считал как раз таким человеком. Эта полоумная старуха созрела для его великого магического фокуса.
– Для того чтобы так много знать, сударыня, – произнес он, понизив голос и испытывая на собеседнице на этот раз вполне реальный магнетизм своего взгляда, – вы должны быть… посвященной? Неужели мне выпало безмерное счастье встретить здесь наконец сестру по духу?
Огонек, вспыхнувший в глазах маркизы, доказал ему, что он попал в точку.
– Ваша догадка верна, – прошептала маркиза, – и я очень рада с вами познакомиться. Мой племянник сказал, что у розенкрейцеров вы достигли степени магистра.
Рука Казановы поспешно легла на руку маркизы и многозначительно ее сжала.
– Тише! Некоторые слова опасно произносить… даже посвященным. Разве вам неизвестно, что эта гостиная – нечистое место?
Испугавшись, она принялась извиняться и униженно молить «Учителя», чтобы тот соблаговолил нанести ей визит в ее собственный особняк, где она сможет более свободно изъясняться и где он сможет одарить ее своими бесценными знаниями. Разумеется, Казанова со всем величием, какого требовали обстоятельства, согласился нанести ей этот «дружеский» визит.
«Если бы я мог разубедить ее, – напишет он позже в своих „Мемуарах“, – думаю, я попытался бы это сделать. Но я с первого же дня убедился в том, что ее помешательство неизлечимо. А потому я решил, что наилучшим выходом будет потворствовать ее безумию и использовать его к своей выгоде…»
Вот уж правда – точнее не скажешь.
Оказавшись в лаборатории на набережной Театинцев, «Учитель» прежде всего заметил большую реторту, которая подогревалась на спиртовке под присмотром глухой старухи.
– Этот порошок, – с серьезным видом пояснила ему хозяйка дома, – стоит на огне уже пятнадцать лет и должен так простоять еще года четыре, а может быть, и пять лет. Служанка, которую вы видите перед собой, специально приставлена для поддержания огня. Когда истечет срок в двадцать лет, порошок приобретет способность обращать в чистейшее золото любой металл, который с ним соприкоснется. Но это не самое главное мое достижение.
Бросив испуганный взгляд на реторту, где медленно прокаливалась ртуть, и на удивительную весталку, к ней приставленную, Казанова со всей приличествующей отменному розенкрейцеру серьезностью выслушал объяснения маркизы, касавшиеся того, каким образом она надеется в один прекрасный день превратиться в красивого юношу. Впрочем, вера в собственные силы нисколько не помешала госпоже д'Юрфе, закончив свой рассказ, обратиться к Казанове с вопросом, в его ли власти помочь ей в этом.
Он, не отвечая, лишь медленно покачал головой с видом человека, глубоко погруженного в свои мысли. Затем, поскольку маркиза продолжала приставать с расспросами, он наотрез отказался немедленно дать ответ и ограничился заявлением, что дело это исключительно важное и потому требует от него долгих размышлений при полной сосредоточенности.
Так он «размышлял» добрых три месяца, не переставая приятнейшим образом развивать свои отношения с Манон, которая была от него без ума и уговаривала объявить об их помолвке. С другой стороны, госпожа д'Юрфе, охваченная безумной надеждой, принялась буквально облизывать «дорогого Учителя» и осыпать его богатыми подарками, полагая, вероятно, что это будет способствовать его ученым размышлениям. Наконец он соизволил вынести свой вердикт.
– Не сердитесь на меня за то, что я так долго вас томил, – в конце концов сказал он ей. – Мои колебания были вызваны только лишь той привязанностью, которую я к вам испытываю.
– Я вас не понимаю. Если вы любите меня, друг мой, вы не можете не желать помочь мне осуществить мое намерение.
– Конечно же, я этого желаю – ради вас; тем более что, как выяснилось, вполне в моих силах сделать все необходимое. Вы можете заметить, я вполне искренен с вами. Но буду искренним до конца: я боюсь. Знаю, что это эгоистический страх, но боюсь.
– Да чего же, боже правый?
– Потерять вас, нежная моя подруга! Поймите же, что для того, чтобы превратить вас в юношу, я должен уничтожить то, чем вы являетесь сейчас. Эта мысль для меня непереносима.
Польщенная маркиза д'Юрфе в ответ рассмеялась:
– Раз уж я легко с ней смирилась, то и вам не следует терзаться. Я давно свыклась с мыслью о том, что мой нынешний облик должен исчезнуть, уступив место той внешности, которую я изберу. Это в порядке вещей…
Когда имеешь дело со столь решительной женщиной, довольно легко можно обойтись без излишних церемоний. После долгих вздохов и колебаний Казанова наконец дал маркизе вырвать у него тайну удивительного магического обряда, который необходимо было совершить для того, чтобы мечта его подруги могла осуществиться.
– Весь секрет заключается в том, – сказал он, – чтобы переселить вашу душу в тело ребенка мужского пола, рожденного от моего совокупления с девой божественной природы, и эту деву нам еще предстоит отыскать. Я перестану быть самим собой и сделаюсь воплощением волшебника Гульнуара; впрочем, Гульнуар и есть мое каббалистическое имя. Что касается вас, то вы должны будете присутствовать при рождении ребенка в вашей собственной каббалистической ипостаси…
– Я всегда считала себя воплощением Семирамиды и потому избрала для себя это имя.
– Превосходно! Как только ребенок появится на свет, вы возьмете его на руки и затем будете держать его при себе, в вашей собственной постели, в течение семи дней и семи ночей. По истечении этого времени вы, прижавшись губами ко рту ребенка, передадите ему свое дыхание, после чего тихо угаснете, а ваша душа вселится в тело мальчика, который, разумеется, не покинет меня до тех пор, пока не станет взрослым мужчиной.
Любая мало-мальски здравомыслящая женщина возмутилась бы, выслушав такое необычное предложение, которое к тому же не сулило ей никаких радостей. Однако маркиза пришла от него в восторг и стала торопить своего милого Гульнуара как можно раньше приступить к осуществлению задуманного.
Само собой разумеется, что для дерзкого авантюриста такая невероятная доверчивость обернулась редкой удачей, поскольку приготовления к этому незабываемому «переселению души» должны были затянуться надолго и потребовать больших расходов. Но у маркизы д'Юрфе до того ум за разум зашел, что она готова была проглотить все, что угодно, держа наготове широко раскрытый кошелек. Ее дружба простерлась так далеко, что она привела к своему милому Гульнуару еще одну особу, готовую снабжать его средствами: ее подруга, графиня де Румен, страдала множеством физических недомоганий, существовавших по большей части лишь в ее воображении, и никак не могла обойтись без забот великого человека.
Как раз в это время произошло событие, глубоко омрачившее приятнейшее существование обитателей дома на улице Ришелье, где все еще жил маг по случаю. 16 сентября 1758 года умерла от чахотки Сильвия Балетти. Как и все прочие члены семьи, ставшей ему по-настоящему родной, Казанова искренне оплакивал эту прелестную добрую женщину, которая так много для него сделала. На смертном одре Сильвия взяла с него клятву позаботиться о Манон, он даже пообещал жениться на ней, но не называл точных сроков, поскольку теперь брак не так уж сильно его привлекал. Какой бы искренней ни была его влюбленность, как ни очаровала его Манон, он все же мыслил достаточно трезво для того, чтобы понимать, что никогда по доброй воле не сможет ограничиться одной женщиной, если жизнь каждый день дарит ему новых подруг.
Несколько дней спустя он уехал в Голландию: Шуазель отправил его с тайным финансовым поручением. Кроме того, он вез кое-какие ценные бумаги, доверенные ему Семирамидой. Несмотря на знаменитый порошок, которому, впрочем, предстояло еще пять лет вариться, она все-таки не пренебрегала своими финансовыми интересами.
– Там есть множество посвященных, – сказал госпоже д'Юрфе Казанова, усаживаясь в карету. – Я расспрошу их, может быть, они укажут мне ту божественную деву, без которой мы ничего не сможем сделать.
И он отбыл, оставив Манон, снедаемую такими жгучими сожалениями, что она не могла удержаться и не рассказать ему об этом в письме.
«Если бы вы только знали, мой милый друг, сколько я плакала. Я боюсь показаться вам из-за этого такой подурневшей, что вы меня совсем разлюбите!.. Ваша маленькая женушка, да, ваша маленькая женушка, которая хранит себя только для вас!»
Он-то, во всяком случае, не хранил себя «только для нее». На этот раз не стесненный в средствах, он усердно посещал проституток, игорные дома и театры, не утратившие для него прежнего очарования.
Однажды вечером, во время концерта, он заметил среди артистов свою бывшую любовницу, Терезу Имер. Прежнюю красавицу, впрочем, сильно изменили несчастья, которые навлекла на нее далеко не безукоризненная честность. В числе прочих неприятностей, случившихся с ней по этой причине, было пребывание в Фор-л'Эвек во Франции. Что касается ее теплых отношений с маркграфом Байройтским, от них давным-давно осталось одно воспоминание…
Тереза долго плакала на плече у Джакомо. У нее было множество забот и тревог, главным образом из-за детей, потому что ей приходилось повсюду таскать их за собой: пятилетнюю малышку Софи, которая, скорее всего была дочерью Казановы, и двенадцатилетнего мальчика, Жозефа Помпеати, которого она родила от танцовщика Помпеати и с которым совершенно не могла справиться.
Растроганный, Джакомо предложил ей взять на себя заботу о дочери, но Тереза отказалась: дороже девочки у нее в жизни ничего не осталось.
– Лучше бы ты занялся Жозефом. Он сейчас в Роттердаме… Мне пришлось его оставить там в залог, я не смогла выплатить долг. Если бы ты мог съездить за ним, позаботиться о нем…
Это предложение Казанове вовсе не понравилось, подобные занятия его отнюдь не привлекали, но Тереза плакала так безутешно, что он в конце концов дал себя уговорить и отправился в Роттердам «выкупать» отпрыска танцовщика.
Однако мальчик, пусть даже он и обладал всеми достоинствами, которые должны были сделать его законченным негодяем, обладал при этом и редкостной красотой: ангел, сошедший на землю, да и только. Это обстоятельство заставило Джакомо призадуматься, и у него созрел план: зачем тратить время на поиски некой божественной девы?! Он представит именно этого мальчика маркизе д'Юрфе как существо, рожденное от соединения божественной девы со смертным… Вот уж поистине блестящая мысль! И время не будет упущено понапрасну.
И, выполнив свою миссию, он бодро пустился в обратный путь к Парижу в сопровождении юного Жозефа, избавленного от бесславного имени Помпеати. Взамен мальчик получил фамилию несравненно более блестящую: теперь он звался графом д'Аранда.
8. Джустиниана
С тех пор как в особняке на набережной Театинцев появился юный «граф д'Аранда», госпожа д'Юрфе была просто на седьмом небе от восторга: в жизни ей не доводилось видеть такого красивого и очаровательного отрока, такого безукоризненного воплощения того мужского идеала, который казался ей подходящим для ее возрождения к новой жизни.
– Должен же существовать какой-то способ, – говорила она своему милому Гульнуару, – который позволит моей душе перейти в тело этого прелестного ребенка. Я подумаю над этим, а пока мы станем его подобающим образом воспитывать. Таким образом, у вас будет время найти «божественную деву» на тот случай, если здесь нас постигнет неудача.
Разумеется, Казанова радостно согласился. Ему предоставлялась возможность какое-то время жить в свое удовольствие и вместе с тем пользоваться щедростью доброй маркизы.
Впрочем, если говорить о Манон, то с этой стороны возвращение в Париж принесло ему некоторое разочарование: девушка встретила его радостно, но все ее милые порывы оставались вполне платоническими. В самом деле, юная Балетти была не глупее других и очень хотела выйти замуж, а потому решила даром в руки не даваться: он ее получит только в обмен на обручальное кольцо, таким был ее невинный ультиматум.
Но она имела дело с Джакомо, поэтому ее расчет оказался довольно неудачным. Если женщина отказывалась удовлетворить его желание в тот момент, когда он это желание высказывал, он чувствовал себя оскорбленным и, отказавшись от дальнейших притязаний, устремлялся на поиски более сговорчивой добычи. На этот раз он поступил так: поцеловал Манон в лоб, заверил ее в своей глубочайшей нежности и в том, что он по-прежнему испытывает жгучее желание сделать ее своей женой, а затем незамедлительно отправился к одной очень красивой девице, по профессии натурщице, которую он прозвал «прекрасной статуей».
С этой «статуей» он провел несколько весьма приятных ночей, и так продолжалось вплоть до того вечера, когда он заприметил в ложе «Опера» обворожительное создание, одетое по последней моде и сияющее поистине ослепительной красотой. Сердце у него замерло: он узнал эту женщину.
– Джустиниана! Джустиниана Винн! Что она здесь делает?
Он когда-то знал это прелестное существо: сначала девочкой в Падуе, затем юной девушкой в Венеции, где у нее был страстный роман с одним молодым патрицием из числа друзей Джакомо, Андреа Меммо. Более того, Джустиниана пылала тогда к Андреа такой жаркой страстью, что, кажется, даже и не заметила того, какое сокрушительное впечатление ее красота произвела на Джакомо.
Джустиниана была дочерью красавицы гречанки и английского баронета и принадлежала к числу тех женщин, к которым не может остаться равнодушным ни один мужчина. Несмотря на дружбу, связывавшую его с Андреа, Казанова, наверное, совершил бы какой-нибудь безрассудный поступок, чтобы присвоить ослепительное создание, но Джустиниана внезапно покинула Венецию и уехала в Англию. Ее мать решила, что лучше увезти ее подальше от некоего английского консула, Смита, который тоже влюбился в ее дочь и которому она имела неосторожность ее пообещать как раз в тот момент, когда прелестная Джустиниана стала любовницей Меммо.
У матери тотчас обнаружились неотложные дела по ту сторону Ла-Манша, и она предоставила поруганному консулу утешаться, как ему будет угодно.
Однако в Париже эти дамы познакомились с господином Ле Риш де Ла Попелиньер, которому это имя подходило как нельзя лучше, потому что он был сказочно богат;[6] ко всему еще он был вдовцом, правда, уже далеко не первой молодости. Этот славный малый, истинное воплощение щедрости, по уши влюбился в прекрасную Джустиниану и изо всех сил старался уговорить ее выйти за него замуж. Больше того, пыл, с которым он ее уговаривал, только возрастал от того, что он стал почти совсем непригодным для милых, но довольно-таки утомительных любовных игр, и надеялся, что ослепительная красота молодой женщины вернет ему хоть сколько-нибудь мужества.
Все это, само собой разумеется, Казанове стало известно лишь впоследствии. В тот вечер он удовольствовался тем, что поднялся в ложу поздороваться с дамами и сопровождавшим их Ла Попелиньером. Его приняли как старого друга, особенно девушка, которая встретила его растроганно, с тем умилением, какое обычно испытываешь при виде людей, хотя бы отдаленно причастных к драгоценному любовному воспоминанию. Когда представление закончилось, Джакомо получил позволение проводить дам домой; в Париже они остановились в Бретонском отеле, на улице Сент-Андре-дез-Арк.
В последующие несколько дней он, с благословения миссис Винн, занял место компаньонки при девушке, которая продолжала обходиться с ним как со старшим братом, что совершенно его не устраивало. И потому однажды вечером, сопровождая прелестную Джустиниану на бал в «Опера», он не выдержал и на обратном пути, прямо в карете, которая везла их домой, признался ей в сжигавшей его страсти.
– Кажется, никогда я еще не любил ни одну женщину так, как люблю вас! – с неподдельным жаром воскликнул он. – Ради вас я готов на все. Вы получите от меня все, что только потребуете, если только вы захотите хоть чуточку любить меня, хотя бы самую малость…
– Но я очень люблю вас, Джакомо. Только я не вполне принадлежу себе… Вы должны дать мне время, придется потерпеть… Сейчас у меня серьезные затруднения, в которых я могу открыться лишь другу. Согласны ли вы стать таким другом и готовы ли вы мне помочь?
– Клянусь всем, что есть у меня самого святого! Подвергните меня испытанию, и вы сами в этом убедитесь.
– Хорошо. Я и в самом деле собираюсь испытать вас. Приходите завтра ко мне, и я скажу, чего ожидаю от вас.
В эту ночь он ничего, кроме малопонятных обещаний, так и не смог добиться, но на рассвете получил записку, из которой узнал намного больше.
«Сейчас два часа ночи. Я нуждаюсь в отдыхе, но бремя, которое меня тяготит, гонит от меня сон. Тайна, которую я сейчас вам открою, друг мой, перестанет быть для меня тяжким грузом, как только я разделю ее с вами. Мне сразу станет легче, едва вы сделаетесь ее хранителем. Я решилась вам написать, поскольку чувствую, что не смогу заставить себя вымолвить эти слова…»
После чего она попросту сообщала ему, что беременна от его друга Меммо.
Эта новость нанесла Джакомо ощутимый удар, но он был уже слишком сильно влюблен и готов на все, лишь бы освободить свою прекрасную подругу и обеспечить себе тем самым ее исполненную нежности благодарность.
Дождавшись часа, когда прилично было явиться в дом, он со всех ног поспешил к Джустиниане. Она собиралась вместе со своей горничной идти к мессе. Он пошел за ними следом, вытерпел службу, затем, едва она закончилась, отправил горничную сторожить, а сам увлек молодую женщину во внутреннюю галерею и приступил к разговору, вести который здесь, рядом с церковью, было совершенно неуместно.
– Вы не слишком презираете меня? – прошептала Джустиниана, глядя на него сквозь слезы.
– Ничего подобного! Я перед вами преклоняюсь. Утешьтесь, мы очень быстро найдем способ помочь вашей беде.
– Я всецело полагаюсь на вас. И все же у нас есть только один выход: мне надо вытравить плод.
– Но… это же убийство! – добродетельно возмутился Казанова.
– Знаю. И все же это не более тяжкое преступление, чем самоубийство, а я клянусь, что убью себя, если не смогу выпутаться из этого чудовищного положения. Представьте, ведь господин де Ла Попелиньер уже сделал официальное предложение, он просил у матери моей руки, и он добивается для меня французского подданства.
– Вашей матери ничего не известно?
– Ей? Господи Иисусе, да она убила бы меня!
Ну, в этом-то, приняв во внимание прежнюю жизнь упомянутой дамы, Казанова сильно сомневался, но кто же станет возражать девушке, когда она в таком отчаянии, и тем более если вы в нее влюблены.
– Положитесь на меня, я сделаю все, что в моих силах.
27 февраля состоялся последний бал в «Опера». Казанова и Джустиниана отправились туда в масках, это позволило им незамеченными выскользнуть из театра и потихоньку отправиться к некоей Роз Кастес, повивальной бабке.
Осмотрев Джустиниану, Кастес произнесла свой вердикт.
– Эта дама на седьмом месяце беременности, – высокомерно проронила повивальная бабка. – Вытравить плод сейчас – дело опасное и для нее, и для меня: вы заплатите мне сорок луидоров!
Неизвестно, что остановило Казанову, – подобная сумма или опасения, что Кастес своими манипуляциями убьет его возлюбленную; во всяком случае, он выдал ей два луидора, заявил, что ему надо еще подумать над этим вопросом, и увел Джустиниану, которая была настолько благоразумна и предусмотрительна, что так и не сняла маску.
Молодая женщина была сильно разочарована тем, что ей пришлось уйти в том же положении, в каком пришла.
– Не все ли равно, даже если это опасно, у меня нет другого выхода…
– А я на это не согласен! Должно найтись другое решение. Дайте мне несколько дней на то, чтобы поразмыслить, и спите спокойно.
К несчастью, вышло так, что два дня спустя Казанова, спокойно прогуливаясь по Кур-ла-Рен, встретил госпожу Кастес, которая также прогуливалась там в обществе знакомого Казанове человека – некоего маркиза де Кастельбажака, пользовавшегося весьма скверной репутацией. Женщина бросила на него такой взгляд, что Казанова понял: она его узнала. И это внушило ему некоторое беспокойство.
Впрочем, беспокойство более чем оправданное. Соединив усилия своих блестящих умов, подпольная акушерка и маркиз сумели проникнуть в тайну и раскрыть инкогнито Джустинианы. Затем они разузнали о ее помолвке с Ла Попелиньером, отправились к наследникам богача и попросту известили их о том, как обстоят дела. Наследники, что совершенно естественно, пришли в ярость: курочка, несущая золотые яйца, намеревалась упорхнуть от них, вступив в законный брак с молодой и красивой особой, вполне способной родить ему детей… даже если он для этого был уже слишком стар! И именно в том случае, если он для этого слишком стар…
Посетив наследников Ла Попелиньера и устроив свои дела там, честная парочка, получившая щедрое вознаграждение, отправилась к начальнику полиции, чтобы на этот раз донести на «господина Казанову, проживающего на улице Пти-Льон-Сен-Совер, на третьем этаже» и делавшего госпоже Кастес предложения преступного характера.
Казанова, вызванный к полицейскому комиссару, разговаривал с ним презрительно и высокомерно, потребовал расследования деятельности доносчиков, пустил в ход свои связи в высших кругах. Он отделался сравнительно легко, но парочка негодяев, которые никак не могли угомониться, навестила также и Ла Попелиньера. В результате тот, несколько удивленный, обратился к своей невесте с нижайшей просьбой позволить осмотреть себя его личному врачу, который, впрочем, должен ограничиться тем, что в высшей степени деликатно «положит ей руку на живот».
– Это нам подходит как нельзя лучше, – сказал Казанова, который даром времени не терял. – Позвольте этому человеку вас осмотреть. Я обещаю вам, что его выводы будут именно такими, какие устраивают нас. А затем притворитесь, будто смертельно оскорблены, и приготовьтесь через непродолжительное время последовать за мной.
– Куда я должна последовать за вами?
– Вы это непременно узнаете. Я все беру на себя.
В самом деле, врач, пощупав обручи юбки Джустинианы, клятвенно заверил своего хозяина в том, что все обвинения, возведенные на его невесту, были гнусными клеветническими измышлениями и она так же невинна, как новорожденный агнец. Ла Попелиньер, тотчас устыдившись своего поведения, стал торопить свадьбу, а его родственники тем временем забрасывали несчастную невесту анонимными письмами, угрожая ей смертью. Уже и в самом деле полумертвая от страха, она молила Казанову действовать побыстрее.
– Все готово! – сообщил он ей апрельским вечером. – Завтра я вас похищаю. Вы оставите письмо, в котором скажете, что намерены скрыться, чтобы избежать брака с человеком, который так тяжко оскорбил вас, и что вы запрещаете вас разыскивать. Напишите еще и другое письмо, к вашей матери. В этом письме вы скажете ей, что смертельно боитесь, как бы наследники вас не отравили, и что вы умоляете ее отказаться от столь опасного для вас брака.
Джустиниана была так счастлива, что тотчас, начисто позабыв о своем положении, бросилась в объятия своего спасителя и предложила ему ту единственную награду, какая действительно могла доставить ему удовольствие.
Назавтра, в половине седьмого утра, молодая женщина вышла из дому и отправилась в церковь, но сразу же вышла оттуда через боковую дверь, села в карету и приказала ехать в другую церковь, через которую прошла таким же образом. Затем снова села в карету и направилась к воротам Сент-Антуан. Там ее ждала третья карета, в которой сидел Джакомо. И они немедленно помчались к монастырю бенедиктинок поблизости от Конфлана, где Джустиниану уже ждали.
Это маленькое чудо Джакомо смог совершить благодаря двум своим превосходным подругам – маркизе д'Юрфе и графине де Румен. Госпожа де Румен снеслась с настоятельницей монастыря, принадлежавшей, между прочим, к благородному семейству де Меренвилль, и та согласилась дать у себя приют заблудшей овечке. Одна из послушниц поможет при родах, монастырь возьмет на себя заботу о ребенке, а его мать, получив безупречное свидетельство, сможет гордо взглянуть в лицо Ла Попелиньеру и всей его родне.
Прощаясь с Джакомо, Джустиниана плакала от радости и клялась, что будет вечно ему благодарна. Затем она безмятежно отправилась дожидаться появления на свет ребенка в мирном монастырском уединении.
Но для Казановы еще далеко не все уладилось: когда он с самым невинным видом явился, как делал каждый день, в Бретонский отель, госпожа Винн осыпала его такими жестокими упреками, что он счел недопустимым для своей гордости выслушивать их.
– Насколько мне известно, сударыня, мне не поручали сторожить вашу дочь. Если она и сбежала от вас, то я здесь ни при чем, и я не желаю, чтобы на меня возлагали за это ответственность.
– Вот это мы еще посмотрим! А я вам говорю, что это вы ее похитили и где-то сейчас прячете, с тем чтобы помешать слишком уж удачному браку. Или, по-вашему, я могла не заметить, какими влюбленными глазами вы на нее смотрели?
Слово за слово, и оскорбленный Казанова удалился, а не менее оскорбленная госпожа Винн отправилась жаловаться, во-первых, венецианскому послу, а во-вторых, начальнику полиции Сартину.
В свою очередь, наш герой, которому это стало известно, обвинил Кастес и Кастельбажака в том, что они его оклеветали, а затем пожаловался на то, как его обидели, госпоже де Румен, которая была в наилучших отношениях с Сартином. Она, под строжайшим секретом, открыла тому суть всей истории, полностью обелив Казанову, поступившего «как истинный дворянин, потому что ребенок, который должен был родиться, был не от него…».
Тем самым преследование обратилось против Кастес и Кастельбажака, которые были признаны виновными в шантаже и вымогательстве и отправлены некоторое время поразмышлять: одна – в Гран-Шатле, другой – в Бисетр.
Казанова смог немного перевести дух. Похоже, все и в самом деле уладилось.
В конце мая конфланская настоятельница сообщила госпоже де Румен, что роды прошли благополучно и ребенок, чудесный мальчик, передан на воспитание добрым людям, которые как нельзя лучше о нем позаботятся. 23 мая Джустиниана известила мать о том, где находится.
Госпожа Винн, не на шутку встревожившись, примчалась в сопровождении счастливого и вместе с тем терзающегося раскаянием Ла Попелиньера и нотариуса, который, со слов настоятельницы, составил документ, где был указан день, когда Джустиниана попросила приюта в монастыре, то обстоятельство, что ее никто не навещал, что сама она ни разу оттуда не выходила, и, наконец, утверждалось, что она укрылась в монастыре лишь для того, чтобы избежать мести, которой ей угрожали в том случае, если она решится на безрассудный поступок и станет женой богача. И Джустиниана действительно покинула Конфлан с высоко поднятой головой и более или менее подправленной репутацией.
Но выводы, которые сделала из своего приключения эта прелестная девушка, вновь засиявшая ослепительной красотой, были совсем не теми, каких можно было ожидать. Они разом разочаровали все ее окружение.
Матери Джустиниана объявила, что никогда не выйдет замуж за старого дурака, который нисколько ей не доверяет и совершенно не способен оградить ее от нападок своей семьи.
Ла Попелиньеру она сообщила, что его семья готова на все, даже и на убийство, лишь бы помешать ему быть счастливым, и что она не желает умирать в расцвете лет только ради единственного и сомнительного удовольствия с ним обвенчаться. Тот едва не умер от злости. И немедленно женился на тулонской певице, которую держал про запас с единственной целью – довести до белого каления своих племянников и племянниц.
Наконец Казанове, которому она как-никак посулила вечную благодарность и поклялась в вечной любви, прелестная Джустиниана сказала примерно следующее:
– Вы очень милый человек, но я не люблю вас и не любила никогда. Я всегда любила только Андреа и намерена к нему вернуться. Спасибо за помощь. Я никогда не забуду, что вы для меня сделали, но давайте расстанемся друзьями.
И кто же остался с носом? Наш соблазнитель. Никогда еще ни одной женщине не удавалось сыграть с ним подобную шутку. Он довольно некрасиво отомстил Джустиниане, добившись от Шуазеля, чтобы тот выдал госпоже Винн и ее семье предписание покинуть Францию. И больше об этом не думал, благо ему было чем заняться.
Действительно, госпожа д'Юрфе уговаривала его возобновить поиски божественной девственницы. Молодой граф д'Аранда отчаянно проказил в своем колледже, и добрая маркиза начинала задаваться вопросом, в достаточной ли безопасности будет ее беспредельно чистая душа, оказавшись в теле подобного шалопая.
– Прошу вас, милый мой Гульнуар, приложите все усилия, чтобы мы смогли добиться цели. Вам надо без промедления зачать божественное дитя, которое примет мое дыхание, чтобы я смогла возродиться в теле отрока… Я надеюсь на вас.
И она тоже? Ну что ж, за свои деньги она получит то, что просит. Впрочем, как раз в деньгах Казанова начал сильно нуждаться, их запасы к этому времени иссякли.
9. Превосходный Буйабесс
Тем не менее госпоже д'Юрфе пришлось еще довольно долго дожидаться своего «возрождения», поскольку Казанова, едва его покинула неблагодарная Джустинана, снова оказался в тюрьме, куда его упрятали, обвинив в таких неприятных вещах, как изготовление и использование подделок, мошенничество, шулерство и так далее.
Да, это сущая правда. Джакомо, в погоне за золотом, в котором постоянно нуждался, занимался всевозможными сомнительными делами. Госпожа д'Юрфе, при всей своей щедрости, все же не могла полностью содержать Казанову, чьи расходы сделались поистине ошеломляющими. Следовательно, ему приходилось изыскивать какие-нибудь дополнительные источники средств.
В то время в моду вошла химия. Вот так и получилось, что наш изобретательный герой не придумал ничего лучше, как разместить в ограде Тампля, этого райского уголка для несостоятельных должников, мошенников и аферистов, фабрику набивных тканей. Рисунков на этой фабрике набивали очень мало, но зато там трудился целый цветник молоденьких и хорошеньких работниц, не отличавшихся строгой добродетелью, и Казанова довольно дорого продавал их прелести и любовные таланты.
Он мог бы в конце концов сколотить при помощи этого не слишком почтенного ремесла вполне приличное состояние, если бы только им по-прежнему не владел безраздельно его давний спутник – демон игры. Все деньги, какие он таким образом «зарабатывал», уходили в игорный дом на улице Кристин, который держала некая Анжелика Ламбертини. Эта дама скорее напоминала атаманшу разбойников, чем законопослушную предпринимательницу. Ее притон, хорошо известный полиции, посещали не столько игроки, сколько темные личности. Занималась она и укрывательством краденого и даже иногда давала мелкие поручения такого рода оказавшимся в затруднительном положении клиентам. Вот так и получилось, что в один прекрасный день к начальнику полиции поступила первая жалоба, в которой речь шла о Казанове.
За ней последовали и другие. То он играл на честное слово, проиграл и не заплатил. В другой раз был пойман с поличным, когда мошенничал в игре. Поддельный вексель на две тысячи четыреста ливров, выданный некоему барону де ла Моренн, переполнил чашу терпения полиции, и в один прекрасный августовский день 1759 года Казанова очутился на сырой соломе Фор-л'Эвек.
Благодаря своим неизменным ангелам-хранителям он не слишком долго там оставался. Госпожа де Румен добилась его освобождения. Госпожа д'Юрфе заплатила его долги и сумела пристроить его к французскому послу в Голландии, поскольку самое умное, что можно было придумать, – это хотя бы на время отправить его куда-нибудь подальше.
– Вы вскоре вернетесь к нам, милое мое дитя, – сказала ему Семирамида. – Мы здесь позаботимся о том, чтобы ваши проделки были забыты. На некоторое время скройтесь из виду, попутешествуйте. Может быть, тогда вы встретите наконец ту божественную девственницу, которая нам так необходима.
Казанова клятвенно пообещал сделать все, что от него требовалось, и поспешил убраться, не забыв перед тем трогательно проститься с Манон Балетти; и даже до того трогательно, что, окончательно уяснив себе, что представляет собой ее возлюбленный, девушка вернула ему его письма и сообщила, что собирается выйти замуж.
Новость задела Джакомо сильнее, чем он мог допустить. Уже вторая женщина, если считать Джустиниану, отвернулась от него. Неужели его обаяние начинает меркнуть? Неужели он теперь не столь красив и привлекателен, как раньше? Неужели он стареет?
Может быть, и так, но скорее всего ему начала изменять удача, поскольку в следующие несколько месяцев он, едва переводя дух, промчался по Голландии, Германии, Швейцарии и Италии и на каждой остановке разыгрывался один и тот же сценарий: начиналось с блестящего выхода Казановы на сцену, затем появлялась обольстительная женщина. Казанова пускался в очередное любовное приключение и, желая произвести впечатление на новую подругу, каждый раз начинал играть и плутовать или же проделывать свои шарлатанские чудеса. После чего ему, чтобы избежать неприятностей, приходилось поспешно уезжать.
Таким образом он побывал в Амстердаме, Кельне, где роман с женой бургомистра едва не стоил ему жизни, затем отправился во Франкфурт, оттуда – в Штутгарт, где на постоялом дворе его обокрали три офицера, оказавшиеся еще большими мошенниками, чем он сам, потом в Эйнсдейл, где он в припадке разочарования подумывал сделаться монахом, и, наконец, в Берн. Поначалу ему здесь очень понравилось, в особенности из-за того, что на берегах Ааре были расположены такие ванные заведения, где купающимся прислуживали прелестные девушки, которые не имели ничего против того, чтобы «окунуться» вместе с клиентом.
Именно там, серьезно поразмыслив, Джакомо решил сменить фамилию. В самом деле, имя Казановы начинало приобретать очень уж широкую и, главное, весьма скандальную известность, отныне он решил именоваться шевалье де Сенгальт. Выбор имени был явно подсказан ему названием кантона Сен-Галл. Казанове показалось, что это красиво звучит, во всяком случае, лучше, мелодичнее, чем его каббалистическое имя – Гульнуар.
Кстати, по этому поводу ему пришлось объясняться с немецким чиновником, строго спросившим, по какому праву он носит имя, которое ему не принадлежит. Казанова дал ему удивительный ответ: «По праву, данному мне алфавитом, принадлежащим всякому человеку, который умеет читать. А вы-то сами, по какому праву вы носите свое имя? Ваш дед или, может быть, прадед, это не имеет значения, выбрал восемь или десять букв, которые, соединившись, создали варварское звучание, режущее мой слух. Ну а я выбрал восемь букв, звучание которых мне нравится. Что вы имеете против этого?» По всей видимости, чиновник не имел против этого ничего, поскольку Казанова продолжал преспокойно называться тем именем, которое показалось ему столь благозвучным.
Пребывание в Швейцарии было для шевалье де Сенгальта довольно удачным. Его даже принял в Ферне Вольтер, с которым Джакомо, впрочем, умудрился поссориться, дав ему понять, что его произведения немного стоят и что его «Генриада» настолько же ниже «Освобожденного Иерусалима» Тасса, насколько его «Девственница» ниже одноименного сочинения Ариосто. Вальтер критиков недолюбливал, и Казанову вежливо попросили отправиться излагать свои идеи куда-нибудь подальше.
Он вернулся во Францию, добрался до Гренобля, познакомился там с роскошной женщиной, Анн Роман, для которой он, добиваясь ее расположения, составил гороскоп и предсказал ей, что она сделается королевской любовницей. Но если он рассчитывал за это блестящее предсказание получить от нее сладкое вознаграждение, то горько разочаровался: красавица поймала его на слове, горячо поблагодарила, но дала ему понять, что отныне для нее и речи не может быть о том, чтобы принадлежать какому-нибудь другому мужчине, кроме Его Величества. После этого она сложила вещи и уехала в Париж, где ее сестра держала знаменитый игорный дом на улице Ришелье и где она действительно вскоре сделалась любовницей Людовика XV и родила ему сына, будущего аббата де Бурбона, а затем сочеталась законным браком с драгунским командиром, маркизом де Каванаком.
А что в это время делал Казанова? Из Гренобля «шевалье» перекочевал в Прованс, пожил некоторое время в Эксе, затем неизвестно почему, но вероятнее всего, по соображениям, связанным с масонской ложей, отправился в Италию, побывал во Флоренции, в Неаполе и наконец в Риме, где папа сделал его кавалером ордена Золотой Шпоры, оправдав тем самым титул, который Казанова раньше присвоил самовольно.
После всего этого хочется задать несколько вопросов, касающихся этого вечного странника. Казанова был комедиантом, способным сыграть любую роль; не был ли он – розенкрейцер, франкмасон, шпион на службе у Шуазеля и некоторых других хозяев – связан, кроме того, и с могущественным Обществом Иисуса, впрочем тогда уже клонившимся к упадку? Во всяком случае, значительный отрезок жизни Казановы скрыт мраком тайны и времени. Для того чтобы пролить свет на некоторые события, потребовался бы доступ к архивам, на сегодняшний день остающимся недоступными.
Тем не менее кое-что все-таки известно. Пребывание в Риме стало в жизни нашего героя светлой полосой. Казанова словно обрел там новую молодость и легким шагом, нимало не скрываясь, направился в обратный путь во Францию, куда, впрочем, его настойчиво призывала госпожа д'Юрфе. Вот уже десять лет, как эта дама дожидалась, пока свершится ее личное чудо, и ей начинало казаться, что ожидание слишком затягивается.
На набережную Театинцев он явился победителем. В самом деле, разве не привез он с собой «божественную девственницу»? В данном случае – одну из своих подруг, красивую танцовщицу Кортичелли, которую он представил обезумевшей от счастья госпоже д'Юрфе как девушку, ведущую свое происхождение от тех самых Ласкарис, чьим потомком был и сам покойный маркиз д'Юрфе.
– Мы готовы, – объявил он своей старой подруге. – Но для того чтобы добиться успеха, мы должны отправиться в мирный и уединенный уголок. Такое великое дело не может свершиться в нечистом Париже.
Было решено, что они отправятся в замок Понкарре, родовое владение маркизы поблизости от Турнана.
Замок, с его четырьмя зубчатыми башнями, выглядел величественно, и хозяйка принимала там «Учителя» и «божественную девственницу» со всеми подобающими их высочайшему рангу почестями.
Она настояла на том, чтобы собственноручно раздеть Кортичелли, и торжественно проводила ее до самой кровати. Вскоре и Казанова присоединился к подружке и приготовился заняться изготовлением ребенка, предназначенного для того, чтобы принять душу Семирамиды. Последняя, едва «жертвоприношение» свершилось, начала ждать события, которое должно было бы произойти через девять месяцев. Но поскольку у танцовщицы, разумеется, не было ни малейшего желания иметь детей, она, как только вышла из спальни, немедленно проделала все, чтобы этого не случилось.
И потому по прошествии нескольких недель божественный Гульнуар прибежал в величайшем смятении к своей давней подруге и объявил ей, что «все пропало».
На девушку «из рода Ласкарис» была «черным гением наведена порча» как раз перед ее появлением в замке, и теперь, не будучи «ни девственницей, ни божественной», она не могла произвести на свет желанного ребенка. Следовало как можно скорее удалить ее из замка, потому что она могла родить отвратительного гнома, в теле которого возвышенной душе маркизы совершенно не место.
Стараясь утешить госпожу д'Юрфе, Казанова объяснил ей, что лучше всего будет сменить место и, если она хочет верного успеха, следует отправиться в Марсель, место постоянного пребывания некоего весьма могущественного духа по имени Кверилит. Благотворное влияние этого духа достаточно велико для того, чтобы полностью устранить риск неудачи.
На самом деле Казанова поссорился с Кортичелли, которой совершенно не улыбалось долгие месяцы скучать в старом феодальном замке. Она провинилась, недобросовестно выполнив свои обязанности и совершив тот непорядочный поступок, о котором мы уже упоминали, после чего сбежала с молодым «графом д'Аранда», которого Казанова привез по этому случаю, чтобы он исполнял роли «церемониймейстера» и «модели». Наконец, наш герой считал, что она очень плохо справилась со своей ролью «божественной девственницы», поскольку совершенно очевидно не имела ни малейшего понятия о том, что должна представлять собой девственница вообще, а божественная – в особенности.
Итак, все следовало начать заново. Но поскольку маркиза вновь взяла на себя щедрое финансирование всех необходимых операций, Казанове, собственно говоря, не на что было жаловаться, для него это было как нельзя более выгодно.
Они перебрались в Марсель. Там, во время незабываемого «вызывания духов», гений Кверилит (его роль исполнял некий Пассано, вконец оголодавший художник и уличный рифмоплет) снизошел до того, чтобы показаться собравшимся в тучах дыма, в которых мог бы задохнуться целый полк.
Его решение привело маркизу в неописуемый восторг: никакой надобности в божественной девственнице не было. Гораздо лучше, чтобы маркиза сама произвела на свет столь необходимое ей дитя.
Если уж говорить всю правду, следует прибавить, что гений Кверилит, изрекая эту непреложную истину, был совершенно пьян и что Казанова, едва они вышли, задал ему грандиозную взбучку. Но зло уже свершилось, вино было откупорено, и следовало выпить его до дна, на котором должен был остаться очень густой осадок.
Казанова, несмотря ни на что добросовестный, снова превратился в Гульнуара и подготовил крайне соблазнительную мизансцену, для чего ему потребовалась помощь одной очень красивой девушки. Вообще-то он предназначал эту красотку на роль новой, второй по счету «божественной девственницы», но теперь ей пришлось довольствоваться другой, более скромной, но, по правде сказать, не менее увлекательной ролью ундины, иначе говоря – искупительного божества Вод.
И в одну прекрасную ночь, в час, считавшийся часом божественных свершений, Казанова, как никогда напоминающий Гульнуара, и маркиза, которая с удовольствием – можно себе представить, с каким огромным наслаждением она это сделала! – обратилась к лестному для нее воплощению Семирамиды, уселись за стол и принялись за ужин, состоявший из одних лишь средиземноморских рыб.
Иными словами, перед ними на столе стоял один из тех сказочных буйабессов, чьи удивительные свойства еще ни разу на памяти марсельцев не подводили своих приверженцев…
Сразу после ужина появилась ундина, облаченная, как положено, в длинное зеленое прозрачное платье, сквозь которое соблазнительно просвечивало тело. Взяв Семирамиду за руку, она подвела ее к большой ванне, наполненной теплой ароматной водой. Раздела маркизу и помогла ей погрузиться в воду, а затем оказала ту же дружескую услугу и Гульнуару. Проделав это все, она с предельной добросовестностью довела дело до конца: сбросив свое зеленое платье, она и сама нырнула в ванну, чтобы вместе с четой мистических супругов принять участие в «ритуальном» купании, не имевшем, собственно говоря, ни малейшего отношения к мистицизму.
Тем не менее они хором произнесли несколько звучных заклинаний, после чего все трое вышли из воды, и ундина отвела наконец Семирамиду и Гульнуара в глубину спальни, к красиво постеленной кровати, с поистине материнской заботой уложила их в постель, задернула занавески и задула свечи.
На следующее утро Семирамида д'Юрфе, обезумевшая от давно позабытого удовольствия, бросилась на шею своему мистическому супругу:
– Никогда в жизни я не была так счастлива! Мой милый Гульнуар, я обязана вам самой прекрасной своей ночью и величайшим своим счастьем.
– Вы ничем мне не обязаны, душенька моя, – еле слышно прошептал Казанова, для которого эта ночь явно была тяжким испытанием. – Я был всего лишь орудием духов, как повелел Кверилит. (Черт бы его побрал!)
– Все равно. Эта ночь многое изменила. Вы должны жениться на мне, возлюбленный мой. Иначе я не знаю, что может произойти через девять месяцев, когда я разрешусь от бремени и дам жизнь самой себе в облике прекрасного младенца мужского пола. Потому что я совершенно уверена, что у нас все получилось! Я чувствую, что этот ребенок уже живет во мне! Мы должны поторопиться…
Несчастная, сама того не подозревая, только что отыскала единственный способ прогнать подальше бесстыжего нахлебника, которого она так долго кормила. Минувшая ночь показалась Гульнуару достаточно долгой для того, чтобы перспектива бесконечного ряда подобных ночей всерьез испугала его, даже если к ней присоединялась куда более приятная перспектива заполучить богатства семьи Юрфе. Ему действительно следовало поспешить, но поспешить удалиться…
В самом деле, ему ничего другого не оставалось, поскольку он забыл рассчитаться с «добрым гением» Кверилитом и тот, разъяренный, оскорбленный и избитый, явился к маркизе. Показав ей свои еще хорошо различимые синяки, он разыграл незабываемую сцену, в ходе которой разоблачил перед несчастной Семирамидой всю махинацию. Впрочем, эта милая дама мало что поняла из его слов, разве только то, что Кверилит в самом деле был ниспосланным Провидением духом, а Гульнуар – гнусным самозванцем.
После этого Казанова, которому грозили галеры, поспешил покинуть Марсель с такой скоростью, на какую только были способны копыта его коня, но не забыл при этом прихватить с собой основательный «сувенир»: он взял на память ларчик с великолепными бриллиантами, которые должны были позволить ему безбедно существовать некоторое время по ту сторону Ла-Манша. Потому что Джакомо прямиком направился в Лондон. На этот раз с Францией действительно все было кончено…
Оставшись в одиночестве, госпожа д'Юрфе, несмотря ни на что довольно сильно разочарованная, несколько утешилась в обществе доброго гения Кверилита, который обходился ей еще дороже Казановы и совершенно не умел жить. В конце концов она от него избавилась, но ее безумие приобрело оттенок меланхолии. Большую часть своего времени она проводила за сочинением писем, адресованных ее предку, Оноре д'Юрфе. Она просила его удостоить ее своих советов и не «допустить, чтобы та, кому выпала честь носить его имя, оказалась обманутой и принимала черное за белое». Но покойный предок мало чем мог ей помочь. Через несколько лет после этого, в 1775 году, маркиза скончалась…
10. Могила в Богемии
Тем временем вечный странник снова пустился в дорогу. Адский круг продолжал вращаться, и Казанове еще в течение долгих лет предстояло ударяться о границы Европы, как бьется о прутья своей клетки обезумевшая от ужаса птица. Следующие девять лет его жизни представляют собой список многочисленных городов, рядом с которыми почти всякий раз стояло имя женщины.
После истории, приключившейся с ним в Марселе и едва не приведшей его к близкому, как в прямом, так и переносном смысле, знакомству с галерами, он нашел себе прибежище в Лондоне, где его встретили туманы. Ему, привыкшему к солнцу, туманы не нравились; не больше туманов ему нравились и англичане, «эти попугайские физиономии, смахивающие на щипцы для орехов»… и меньше всего ему нравился чай!
Но там он встретил женщину, семнадцатилетнюю куртизанку Шарпийон, которая отомстила ему за все прежние его победы. Прежде всего, она была сказочно красива: небесно-голубые глаза, ослепительно белая кожа, чудесные светло-каштановые волосы, тело, перед которым не устоял бы ни один святой, и при этом дьявольское кокетство, все адские уловки которого она испытывала на первом соблазнителе Европы.
И Казанова попался в ее сети, был взят в плен, околдован этой девушкой, которую возненавидел, не переставая при этом страстно желать. Она потешалась над ним, то давалась, то вновь выскальзывала из рук, ставила его в такое дурацкое положение, так высмеивала, что он – повелитель женщин, покоритель сердец – в какой-то момент всерьез собирался покончить с собой.
Игра и знатная дама из Ганновера, которая «продала» ему своих дочерей, принесли ему временное спасение, но лишь для того, чтобы затем вернее погубить. Возраст не прибавлял Казанове ни честности, ни ловкости. Жалоба, поступившая на него в начале 1764 года, вынудила его покинуть Лондон с чрезмерной поспешностью.
Он перебрался в Берлин, где попытался устроиться на службу к королю Фридриху, но тот посмеялся над ним и предложил заняться обучением опрятности молодых дворян из военного училища, которые все до одного были «настоящими свиньями». Это занятие нимало не соблазняло нашего искателя приключений, и он очень быстро покинул Берлин, несмотря на несколько перезрелые прелести одной прибалтийской графини.
В Митаве, где он приобрел некоторую известность, обучая новым танцам престарелых придворных дам правившего в то время курляндского герцога Иоанна Бирона, Казанова завел интрижку с красивой француженкой, которая была на содержании у польского посла. Но этого ему показалось мало: он желал быть представленным российской императрице Екатерине II, о которой рассказывали, будто она меняет любовников чаще, чем сорочки.
Ему удалось этого добиться, императрица приняла его, встреча продолжалась час и оставила его разочарованным. На Екатерину Великую не произвели впечатления ни его каббалистические таланты, ни его прославленные чары. Впрочем, чары его заметно ослабели, и вину за эту потерю следовало поделить между возрастом и всевозможными излишествами.
Затем была Варшава, где правил Станислав Понятовский. Казанову уверили, будто этот город – маленький Париж. Здесь ему удалось понравиться королю, но одновременно угодить в самый разгар ссоры между двумя театральными актрисами – Бинетти и Катаи.
Следуя собственным вкусам, Казанова встал на сторону второй, в результате чего первая сочла себя оскорбленной и натравила на него своего любовника, отъявленного дуэлянта, графа Браницкого. Дуэль состоялась… и победителем оказался Казанова. Против всех ожиданий, Браницкого отвезли домой в очень тяжелом состоянии: давно известно, что в этом деле неловкий опаснее искусного.
– Дуэли запрещены, – учтиво сообщил Браницкий своему противнику. – Боюсь, что вы меня убили и за это будете приговорены к смертной казни. Спасайтесь, бегите, возьмите моих лошадей. Если у вас нет денег, вот мой кошелек.
Возможно ли более рыцарское поведение…
Казанове пришлось покинуть Варшаву. На этот раз отправился он в Вену, где некоторое время существовал на деньги из кошелька Браницкого, к которым прибавилась довольно кругленькая сумма, присланная в момент отъезда этим же благородным придворным короля Станислава вместе с пожеланиями доброго пути.
Увы, у нашего искателя приключений деньги никогда не задерживались, и вскоре ему пришлось, следуя неизменным привычкам, прибегнуть к обычным своим уловкам, и в результате между ним и начальником австрийской полиции состоялась краткая, но весьма неприятная беседа.
– Вот мои часы, – сказал тот, – взгляните на них повнимательнее!
– Вижу, – ответил Казанова, который при этом совершенно не имел понятия, к чему клонит собеседник.
– Так вот, если завтра в этот же час вы все еще будете в Вене, я прикажу силой выдворить вас за пределы города.
Перепуганный, Казанова попытался выиграть хоть какое-то время, немедленно написал жалобное письмо императрице Марии-Терезии и передал его через подругу, занимавшую видное место при дворе, но ему удалось получить отсрочку всего на неделю, а потом все же пришлось сесть в почтовую карету и снова тронуться в путь. Сделал он это не без сожалений, потому что Вена весной совершенно очаровательна. Кроме того, вечный странник начал подумывать о том, чтобы где-нибудь наконец остановиться. Его суставы потихоньку ржавели, а колеи больших дорог – не самое подходящее место для лечения ревматизма.
Казанове показалось, что для его здоровья необходимо пребывание на водах, и он отправился в Спа, где собиралась разноязыкая толпа и играли по-крупному.
Там он встретил соотечественника, некоего Кроче, тоже завсегдатая игорных домов. Тот, начисто проигравшись в Спа, уступил Казанове свою подругу, очень красивую девушку по имени Шарлотта Ламот, в которую Казанова послушно влюбился, но девушка не только была беременна от этого Кроче, но вдобавок еще и любила его.
С ней Казанова приобрел опыт платонической любви. Он снова попался в ловушку и, желая угодить тосковавшей по родине Шарлотте, совершил безумный поступок: вернулся во Францию, чтобы отвезти свою красавицу в Париж.
Он едва не угодил в Бастилию, куда маркиза д'Юрфе старалась его упрятать при помощи королевского указа о заточении без суда и следствия. Неизменная доброта госпожи де Румен снова, уже в который раз, спасла его: указ был отменен, но 15 ноября 1767 года Казанова получил распоряжение покинуть Францию и на сей раз отправиться в Испанию. Пришлось разлучиться с Шарлоттой, которая, впрочем, уже успела найти ему замену.
В Мадриде у него завязался роман с дочерью очень любопытного персонажа, дворянина-башмачника. Девушку звали сеньоритой Игнацией, и ему посчастливилось ей понравиться. Но одновременно с этим он сумел не понравиться некоему Мануцци, шпиону правительства, снабженному на редкость и опасно длинной рукой. И неудачник Джакомо получил приказ покинуть Мадрид, как незадолго до этого вынужден был покинуть Париж.
Правда, далеко он не уехал: приказ касался только столицы. В Валенсии он встретил хорошенькую соотечественницу, Нину Бергонци, любовницу генерал-капитана, крупного каталонского военного чина, за которой немедленно последовал в Барселону. Но там судьба приберегла для него одну из тех злых своих шуток, к которым он уже привык.
Свернув в какой-то из городских переулков, он нос к носу столкнулся с духом Кверилитом собственной персоной, с тем самым мерзким Пассано, который выдал его в свое время госпоже д'Юрфе. Встреча оказалась бурной, и Пассано, которого Казанова основательно избил, поклялся отомстить. У этого человека злоба претворялась в действие: он поспешил донести на Казанову, будто бы тот жил по подложному паспорту, и вскоре Джакомо оказался запертым в суровых стенах цитадели.
Его выпустили оттуда лишь в обмен на обещание покинуть город в течение трех дней, и он поостерегся нарушить это обещание.
Его видели в Перпиньяне, потом в Безье, затем он отправился в Экс-ан-Прованс, там он заболел, и за ним ухаживала во время болезни таинственная дама… Ею была Анриетта, красавица из Марселя, восхитительная любовь его молодости. С тех пор Анриетта чудовищно растолстела и теперь наотрез отказалась показаться ему на глаза. Едва он пришел в себя, она исчезла, оставив, как и в прошлый раз, приятный сюрприз в виде денег на жизнь.
И тогда произошла встреча Казановы со странной парой, впрочем, очень привлекательными людьми, женщине даже удалось на время затронуть его сердце. Мужчину звали Жозеф Бальзамо, его подругу – Лоренца, и ни тот, ни другая не успели еще сделаться графом и графиней де Калиостро.
Приключение быстро закончилось. Чета Бальзамо направлялась в Лиссабон, а Казанова, охваченный воспоминаниями о Венеции, проехал вместе с ними какую-то часть пути, а потом устремился в Италию. Он поселился в Ливорно, где тщетно пытался поступить на службу к графу Алексею Орлову, командовавшему тогда русской эскадрой. Напрасный труд: Орлов высокомерно отказался от его услуг и вежливо его выпроводил.[7]
Затем Джакомо отправился в Рим, где пробыл довольно долго благодаря своему давнему собутыльнику и товарищу по шалостям, кардиналу-послу де Берни, который покровительствовал Казанове в течение всего времени, пока длилось его посольство.
Затем была Флоренция, после нее – Болонья, Триест, Горлиц. Он подбирался все ближе к Венеции, которая притягивала его словно магнит. Но каждый раз повторялась все та же история: игра, притоны, скандал. И все же однажды у Казановы забрезжила надежда на то, что несчастьям его пришел конец: кое-какие мелкие услуги по части шпионажа, оказанные им Светлейшей республике, дали возможность некоторым его друзьям просить за него и добиться для него помилования. 10 сентября 1774 года ему сообщили, что теперь он может вернуться в родной город.
Казанова помешался от радости! Никогда еще грозный трибунал государственных инквизиторов не оказывал гражданину такой великой милости, какой удостоился он.
Венеция нимало не изменилась за восемнадцать лет, которые прошли в разлуке с ней. Конечно, три старца давным-давно умерли, но многие из его давнишних друзей были по-прежнему здесь: Меммо, Балетти, даже его товарищ по заключению Бальби, снова впавший в нищету, даже Джустиниана, ставшая графиней Розенберг и сделавшаяся приторно добродетельной и елейно набожной.
Казанову встретили как блудного сына и нашли для него должность «доверенного лица», или, проще говоря, шпиона на службе у Совета Десяти.
Как и Джустиниана, он теперь сделался суровым аскетом и изобличал каждого, кто вел ту беспутную жизнь, какую он так любил в свое время и в которой теперь для него не было места.
Поскольку Казанова не мог обойтись без женщины, он стал жить с бедной швеей, Франческой Бускини, измученной своей жадной и сварливой матерью. Франческа была не так уж хороша собой, но она заботилась о Джакомо, приводила в порядок его одежду, следила за его бельем, чудесно умела готовить его любимое лакомство – горячий шоколад.
Время от времени на него падали отблески былой славы – это случалось, когда он рассказывал о своих путешествиях в домах друзей-патрициев, и… возвращался вкус к игре, когда его посылали в Абано, шпионить за богатыми ревматиками и салонами-притонами.
Жизнь Казановы могла бы течь так и дальше, оставаясь спокойной и даже приятной. К несчастью, он принадлежал к числу тех людей, которые вечно все сами себе портят и не умеют удержать удачу. Казанова оказался замешанным в денежном деле, куда впутал и своего друга патриция Гримальди, причем ухитрился еще сильнее рассердить его тем, что предъявил ему обвинение в ядовитом пасквиле, озаглавленном «Авгиевы конюшни».
И снова, уже в который раз, ворота Венеции захлопнулись у него за спиной.
«Одно из двух: или я не создан для Венеции, или же она не создана для меня!» – так, стараясь скрыть огорчение и тоску, философствовал Казанова.
Теперь он боялся заглядывать в будущее: возраст его приближался к шестидесяти годам, здоровье слабело. Долгая дорога была противопоказана его ногам и спине. И все же надо было снова трогаться в путь…
В январе 1783 года, пообещав Франческе прислать денег, чтобы заплатить за жилье, и скоро вернуться, Казанова опять поднялся на борт корабля, чтобы переправиться в Местре, на материк.
Решив, что о нем успели позабыть, он вновь попробовал двинуться по адскому кругу: Вена, Спа, ненадолго – Париж, только для того, чтобы найти там брата Франческо, художника. Тот отвез его в Вену, где Джакомо на какое-то время нашел работу секретаря у венецианского посла, графа Фоскарини.
Он кое-что зарабатывал и, на этот раз верный своему обещанию, посылал каждый месяц немного денег Франческе; так продолжалось до того дня, когда он узнал, что она, поддавшись настояниям матери, продала все его имущество, а главное – все его книги.
И тогда он решил порвать с ней, да и с Венецией заодно.
– Никогда я туда не вернусь! – бормотал он, сердито утирая слезы, которых уже не мог удержать.
Но куда ему податься? Посол вскоре уедет, оставив его…
И все-таки именно у посла он встретил свой последний жизненный шанс в лице графа Вальдштейна, племянника принца де Линя, страстно интересовавшегося магией и каббалистикой. Поговорив с Джакомо несколько минут, граф сказал ему:
– Поезжайте со мной в Богемию. Я еду завтра.
Он уехал не сразу, но в конце концов решился, и несколько месяцев спустя перед жителями деревни Дукс в Богемии предстал высокий старик с огненным и пристальным взглядом из-под густых белых бровей, старик с узким костистым лицом, с огромным и острым, словно клинок, носом. Старик, от которого все еще исходило явственное ощущение силы.
Замок Дукс был великолепным зданием во французском стиле, расположенным в огромном парке поблизости от Теплица, прославленного курорта. Казанова на старости лет обрел здесь рай, но не сумел оценить его по достоинству.
Граф, милый и любезный молодой человек, поручил ему свою библиотеку, состоявшую приблизительно из сорока тысяч томов; за эту работу Казанова получал кров, стол и тысячу флоринов в год, что составляло немалую сумму, втрое превосходившую его заработки в Венеции.
Кроме того, в те вечера, когда хозяин был в замке, Казанове оказывали честь развлекать принца де Линя, дядю молодого графа, который оставил поразительный и своеобразный портрет Казановы:
«Это был бы очень красивый человек, если бы только он не был безобразен. Он высокого роста, геркулесова сложения, но цветом лица напоминает африканца. Во взгляде его живых и полных ума глаз неизменно отражается подозрительность, тревога или злоба, что придает ему отчасти свирепый вид. Его легче разозлить, чем развеселить, он редко смеется, но умеет рассмешить других. Его манера изъясняться напоминает простоватого Арлекина или Фигаро и делает его на редкость забавным. Не знает он лишь тех вещей, на знание которых претендует: правил танца, французского языка, вкуса, поведения и условностей света. Он настоящий кладезь знаний, но он так часто цитирует Горация, что начинаешь ненавидеть последнего…»
Линь еще не знал того, что ненасытное тело соблазнителя по-прежнему тосковало по женщинам, но теперь он не мог удовлетворять свои желания. Деревенские женщины и девушки боялись его и, едва завидев, разбегались кто куда.
Тогда он, заглушая голод, брался за перо и описывал свою жизнь, изводя целые стопы бумаги, корябая сумбурные сочинения, от которых издатели неизменно отказывались. Кроме того, он жадно ел, не переставая поглощать пищу в течение всего дня, к величайшей ярости его заклятого врага, Фолькиршера, служившего в замке управляющим и составлявшим все общество Казановы, когда граф Вальдштейн уезжал из Дукса, что, к сожалению для его библиотекаря, случалось довольно часто.
Нет, Казанова не был счастлив! Угрюмый, озлобленный, подозрительный, он настроил против себя всю челядь замка, и вскоре слуги начали его изводить. Дня не проходило, чтобы не вспыхнула ссора, – то шоколад показался ему невкусным, то полента подгорела, то собака помешала ему уснуть, то приставленная к нему служанка перепутала его бумаги и даже выбросила несколько испещренных помарками листков, решив, что они слишком грязные.
«Я уподобился, – пишет он, – благородному боевому коню, которого злополучная судьба поместила среди ослов и который вынужден терпеливо сносить их пинки…»
Тогда он начал налегать на еду, находя в застольных излишествах и чрезмерных возлияниях утешение в том, что сам он воспринимал как навалившиеся на него невзгоды, но что происходило единственно от его сделавшегося совершенно невыносимым характера.
Ему хотелось еще раз увидеть Венецию, он попросил графа добиться для него этого драгоценного разрешения, но наступила зима, и здоровье Казановы внезапно резко ухудшилось. Вскоре он уже не мог покинуть замок и всю зиму безвылазно провел у очага, закутавшись в одеяла, в обществе приехавшего навестить его племянника, Карло Анжолини, и собачонки Финетты.
Он простудился, и притом еще постоянно переполненный желудок причинял ему все большие страдания. 4 июня 1798 года – Казанове к тому времени исполнилось семьдесят три – он не смог подняться с постели и позвал священника.
Исповедь оказалась длинной. Чем дольше Казанова рылся в своей памяти, тем больше извлекал из нее признаний, и, слушая его, несчастный пастырь покрывался испариной. В конце концов умирающий изрек свое заключение:
– Великий Боже и вы, свидетель моей смерти, знайте, что я прожил свою жизнь философом и что я умираю христианином.
Его похоронили на кладбище в Дуксе, рядом с церковью.
«Над его могилой, – пишет историк Люка-Дюбретон, – был поставлен железный крест. Крест расшатался, упал, скрылся в сорняках, и безлунными ночами за него цепляются юбки идущих мимо девушек…»
Обретет ли когда-нибудь покой неутоленная душа соблазнителя?
Картуш
1. Как становятся разбойниками
С тех пор как чудесным образом вернулся домой его сын, папашу Картуша раздирали противоречивые чувства, он то и дело переходил от радости к глухой тревоге. До чего же мальчик изменился за пять лет!
В 1704 году он был всего-навсего одиннадцатилетним мальчишкой, обычным пареньком, ничем не отличавшимся от прочих: бегал босиком по переулочкам квартала Куртиль, таскал фрукты с прилавков, гонял кубарь в дорожной пыли. А потом наступил тот самый вечер, когда Луи-Доминик так и не вернулся домой…
Его звали, его искали повсюду. Отец и мать обошли всех его уличных приятелей, всех сорванцов, с какими он дружил. Напрасно старались! Никто его не видел. И только один из двоих его младших братишек сказал, что заметил, как Луи-Доминик бежал вслед за кем-то по улице Ла-Фонтен-де-л'Эшоде, где жила вся семья.
– А ты не разглядел, кто это был? – спросил отец.
Но малыш покачал головой и боязливо покосился на дверь, словно опасался, что на пороге внезапно окажется тот, кто его напугал.
– По-моему, это была девушка, цыганка! У нее была красно-желтая юбка, ожерелье из монеток и черные ноги.
Родители обратились в полицию, но и это оказалось бесполезным. Луи-Доминика так и не нашли. Скорее всего мальчика действительно украли цыгане, стоявшие табором у ворот Парижа. Мать плакала, отец старался не показывать своего огорчения, а младшие братья понемногу начали забывать старшего. Так продолжалось до того зимнего дня в начале 1709 года, когда дядя Тантон, который жил в Руане, совершенно случайно обнаружил племянника трясущимся в лихорадке на больничной койке.
Он немедленно забрал Луи-Доминика к себе домой, принялся заботливо ухаживать за ним, а когда тот выздоровел, торжественно привез его на улицу Ла-Фонтен-де-л'Эшоде, и можно себе представить, как их там встретили.
Тем не менее, когда радость от встречи немного утихла, папаша Картуш в присутствии своего первенца начал испытывать какую-то неловкость. Он перестал его узнавать. Конечно, мальчик вырос, из шумного непоседливого подростка он превратился во взрослого парня, но при этом он еще и сделался каким-то молчаливым, отчужденным… Цыгане развили его прирожденные ловкость и проворство до невероятной степени, и это даже внушало беспокойство: ни к чему такие способности ученику бочара. Потому что папаша Картуш, само собой разумеется, считал вполне естественным, чтобы сын работал вместе с ним. Луи-Доминик не стал спорить. Он взял в руки молоток, обвязался кожаным фартуком и принялся за работу. Но он никогда не пел, а в глазах отца бочар, который не поет за работой, не мог считаться настоящим бочаром. Раз не поет, значит, у него душа к делу не лежит.
Луи-Доминик действительно мало разговаривал, но смотрел вокруг во все глаза. И чаще всего он смотрел на красивую девушку, которая по утрам и по вечерам проходила мимо его мастерской. Он знал о ней совсем немного: она жила на той же улице, чуть повыше, звали ее Туанон, и была она белошвейкой. Говорили, что она работает на мадемуазель Амарант, знаменитую мастерицу, которая обшивает весь высший свет, и, если поглядеть на ее хорошенькие нижние юбки, на кружева, украшавшие вырез ее платья – пожалуй, для честной девушки слишком уж глубокий, – в этом невозможно было усомниться. Во всяком случае, Луи-Доминик нимало не сомневался. Но пока он довольствовался тем, что любовался ею, хотя… не только любовался издали, чуть более того…
Парень завел привычку каждый вечер, закончив работу, отправляться бродить вокруг дома, где жила Туанон, дожидаясь ее возвращения, и всякий раз он давал себе клятву подойти наконец к девушке, которая так сильно ему понравилась. Но никак не мог решиться на это. Кончилось тем, что красотка сама завязала разговор. Не могла же она, в самом деле, не заметить этого парня, пусть и бедно одетого, зато крепкого и привлекательного, да вдобавок еще провожавшего ее пылкими взглядами каждый раз, как она проходила мимо него.
– С чего это вы, что ни вечер, выстаиваете перед моим домом? – спросила она.
Луи-Доминик покраснел, и это было заметно даже под загаром, которым он покрылся на больших дорогах.
– Потому что вы красивая и мне приятно на вас смотреть!
– Только смотреть? А поговорить со мной вам никогда не хотелось?
– О, еще как хотелось… но я не осмеливался!
– Ну и зря! Знаете, вы мне вовсе не противны. Вы скорее красивый малый… Жаль, что вы так плохо одеты. Мы могли бы вместе гулять…
Парню показалось, будто перед ним распахнулась потайная дверь и за ней открылся нежданный, неведомый ему край.
– Гулять со мной? Вы бы согласились гулять со мной?
Уперев кулак в бедро, Туанон слегка покачивалась на носочках и пристально разглядывала Луи-Доминика. Потом насмешливо улыбнулась:
– А почему бы и нет? Если вы разок-другой сводите меня поразвлечься и если вы достаточно галантный кавалер для того, чтобы подарить мне пару безделушек, я, наверное, с удовольствием буду с вами гулять. Обдумайте это!
И Туанон, покружившись и взметнув вихрем розовые юбки, очень кстати приоткрывшие стройную ножку, скрылась в доме, дверь которого захлопнулась у нее за спиной, а Луи-Доминик, засунув руки поглубже в пустые карманы, медленно побрел восвояси. Он внезапно оказался сброшенным на землю с тех головокружительных высот, куда Туанон на мгновение увлекла его за собой. Развлечения, безделушки? Где, по ее мнению, он должен все это брать? Никаких денег у него не было, если не считать нескольких грошей, которые скупо отсчитывал ему в конце каждой недели папаша Картуш… И все же ему непременно надо было понравиться этой девушке, любой ценой!
В следующие дни желание молодого человека лишь возрастало. Стоило ему завидеть Туанон, как сердце прямо-таки выпрыгивало у него из груди. И ему все нестерпимее было видеть обращенные к нему наполовину завлекающие, наполовину презрительные улыбки, которыми она на ходу мимолетно его одаривала. И как раз тогда, как нарочно, ему попалась на глаза шкатулка, куда папаша Картуш припрятывал свои сбережения.
Назавтра же он повел Туанон ужинать в один из кабачков Бельвиля и подарил ей расписной шелковый веер. И когда они среди ночи вернулись на улицу Куртиль, Туанон в знак признательности распахнула перед ним дверь своей спальни.
Правда, счастье длилось целых две недели. Луи-Доминик, опьяненный страстью, потерявший голову, осыпал Туанон мелкими подарками и умолял ее выйти за него замуж, совершенно не понимая, как может его любовница, еще не остыв от его поцелуев, всякий раз со смехом отклонять это лестное предложение. Тем временем запасы денег в отцовской копилке заметно истощились, и Луи-Доминик начал спрашивать себя, каким образом ему удастся одновременно и заткнуть проделанную им дыру в семейном бюджете, и продолжать исполнять прихоти Туанон. Конечно, он не забыл то, чему его научили цыгане, помнил способы, к каким они прибегали для того, чтобы пополнять запасы провизии и добывать немного денег. Но он мечтал о чистой любви, о спокойной, размеренной жизни рядом с прекрасной Туанон и не хотел рисковать столь безоблачным будущим, совершив опрометчивый поступок, который мог бы на долгие годы отправить его заниматься греблей на королевских галерах. Однако в жизни бывают моменты, когда судьбе угодно самой все решать. Внезапно разыгравшаяся драма резко изменила участь молодого бочара.
Однажды вечером, поспешно взбегая по лестнице, ведущей к спальне Туанон, он повстречал какого-то пузатого и расфуфыренного франта, который в одной руке держал шляпу, украшенную белыми перьями, а другой с необычайным изяществом похлопывал по собственному жабо. Тогда Луи-Доминик не обратил на него ни малейшего внимания, тем более что Туанон в этот вечер была с ним нежна, как никогда прежде. И только назавтра, когда руки у него были заняты бочкой, а ум праздно бродил, он припомнил это происшествие и сообразил, что расфуфыренный мужчина мог идти только от Туанон.
Подозрения так жестоко его терзали, что он решил убедиться в их справедливости. В самом деле, с некоторых пор Туанон просила его приходить к ней попозже и отказывалась с ним гулять, ссылаясь на усталость. Дальше дело пошло еще хуже: какой-то мальчуган принес ему записку, в которой Туанон писала, чтобы он сегодня вечером совсем к ней не приходил и вообще до конца недели не появлялся, объясняя эту просьбу причинами, показавшимися молодому человеку довольно туманными. И это обстоятельство окончательно заставило его решиться.
Он подкараулил возвращение девушки, затем выждал еще час и отправился к ней. Взбежав по лестнице, постучал в дверь. Никто не ответил, но он услышал шепот по ту сторону двери. Туанон была дома, он нисколько в этом не сомневался, и была не одна.
Им овладел неукротимый гнев. Навалившись на дверь, он высадил ее плечом и влетел в комнату. В ответ на треск развалившейся створки разом вскрикнули два голоса: полураздетая Туанон, лежавшая в постели, испуганно уцепилась за вчерашнего молодого толстяка, а тот визгливо заорал:
– Нахал! Как ты посмел? Вот сейчас позову патруль, чтобы тебя отсюда вышвырнули!
– За патрулем тебе, толстячок, еще придется сбегать! А пока что я сам тебя отсюда вышвырну!
– По какому праву?
Возмущенная Туанон вскочила с постели. Не заботясь о том, чтобы прикрыть наготу, она дикой кошкой бросилась на Луи-Доминика:
– Это ты сейчас уберешься отсюда, парень! Я была слишком добра к тебе! Ты что, считал, будто так и останется навсегда? Я, знаешь ли, стою большего, чем твои жалкие подарочки!
С минуту Луи-Доминик смотрел на нее так, словно видел впервые в жизни. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. Никогда еще он не видел ее такой, какой она предстала перед ним сейчас: жадная, расчетливая, развратная… Даже ее прелестное личико, искаженное яростью, показалось ему безобразным…
– Вот именно, я вообразил, будто это может продолжаться вечно. Но ты была недостойна моей мечты!
Толкнув девушку с такой силой, что она плюхнулась обратно в постель, где продолжал лежать ее любовник, Луи-Доминик сбежал по лестнице так, будто за ним гнались. Глаза у него были сухими, голова горела. Он чувствовал себя абсолютно несчастным, но судьбе было угодно, чтобы в тот вечер его горести на этом не кончились.
Приблизившись к отчему дому, он услышал через открытое окно разговор, от которого у него волосы на голове встали дыбом.
– Я знаю, что это сделал он, – говорил отец. – Я уже некоторое время его подозревал, но вчера я его выследил и видел своими глазами, как он брал деньги из моей шкатулки.
Затем до его слуха донесся голос матери, в котором слышались слезы:
– Этого не может быть! Никогда не поверю, что он на такое способен.
– И все-таки тебе придется поверить, бедная моя женушка! Наверное, эти пять лет, которые он провел у окаянных цыган, не прошли для него бесследно. Ему внушили, что воровать легче, чем работать.
– Но он же работает…
– Да. Но он не любит свое дело. Я прекрасно это вижу.
Они помолчали, потом мать заговорила снова:
– Что ты собираешься делать?
– Ему будет очень полезно посидеть немного в Сен-Лазар. Я не могу позволить вору гулять на свободе, пусть даже он – мой родной сын. Завтра утром я сделаю вид, будто собираюсь к поставщику, возьму его с собой и отведу… туда!
Дальше Луи-Доминик слушать не стал. Если он вернется домой – он пропал. Он достаточно хорошо знал своего отца и понимал, что ничто и никто не сможет заставить отца изменить решение. Парень отступил на шаг, затем на два, на три, а потом, отойдя от дома на приличное расстояние, пустился бежать и погрузился в недра большого города, как ныряют в море. Кокетство и неблагодарность Туанон решили его судьбу. Луи-Доминика больше не существовало. Вместо него на свет появился Картуш…
Едва стряхнув со своих подошв пыль родительского дома, Картуш обнаружил, что совсем неплохо быть семнадцатилетним, сильным, ловким и жить в Париже. Потому что он, конечно же, не видел необходимости уезжать оттуда. Шансы встретиться с отцом в таком огромном городе были невелики, особенно в тех кругах, какие он намеревался посещать. Одновременно с этим он решил, что очень глупо заниматься грязной работой, когда у тебя хваткие руки и ты можешь с легкостью добыть сколько угодно кошельков и драгоценностей. Он без труда вспомнил уроки цыган. Его природная ловкость помогла развить полученные когда-то навыки.
Стройный, легкий, привлекательный парень нравился женщинам, но он слишком дорожил едва обретенной свободой, чтобы расстаться с ней ради какой-то там любовницы. Он принялся ходить в такие места, где собирается толпа: в церкви, на ярмарки в Сен-Жермен или Сен-Лоран; привлекал начинающего воришку и Новый мост с его пестрым сбродом дрессировщиков с учеными животными, кукольников, фокусников и гадалок. Там ему нетрудно было срезать кошелек или вытащить часы. Вскоре Картуш смог одеваться в шелка и носить шляпу с перьями – совершенно такую же, как у толстого любовника Туанон. Он слушал протестантские проповеди и обедни с певчими, его видели в Кур-ла-Рен, где каждый день прогуливалось лучшее общество.
И вот однажды утром он отправился к обедне в церковь иезуитов на улице Сент-Антуан. Народу собралась тьма – все Марэ. Воспользовавшись этим, Картуш сумел раздобыть два кошелька и английские часы, но, когда месса закончилась и он двигался к выходу, кто-то схватил его за руку:
– Мне хотелось бы переговорить с вами без свидетелей! Угодно ли вам последовать за мной? Мы немного пройдемся вместе.
Мужчина, обратившийся к нему с этим предложением, был высоким и сильным, намного сильнее самого Картуша. Несмотря на то что одет он был как зажиточный буржуа, что-то в его внешности заставляло насторожиться. Может быть, это впечатление шло от иссеченного шрамами лица и холодного взгляда. Картуш инстинктивно схватился за рукоять своей шпаги. По правде сказать, он не очень-то умел пользоваться оружием, но, если этот человек – один из тех, кого он обокрал, он все же сможет хоть как-то обороняться.
Не выпуская руки Картуша, незнакомец вывел его на довольно пустынную и безлюдную улицу, а там, остановившись напротив своего молодого спутника, рассмеялся ему в лицо.
– Ну, что? – произнес он. – Выходит, мы – собратья по ремеслу?
– Что вы имееете в виду?
– Мое имя – Галишон, прозвище – Железная Рука, и я, как и ты сам, джентльмен удачи. Но я не так ловок, как ты. Сколько ты набрал кошельков?
– Три! – ответил Картуш, слишком потрясенный для того, чтобы ему пришло в голову отрицать что-либо.
– Поздравляю – у меня всего один. Но прежде всего верни-ка ты мне мои часы. Подобные вещи между друзьями не приняты. А я очень надеюсь на то, что мы станем друзьями.
– Друзьями?
– Ну конечно, а если ты захочешь – еще и компаньонами. У меня давняя привычка работать вдвоем. Но мой товарищ умер при весьма печальных обстоятельствах, и это совершенно выбило меня из колеи. Я видел тебя в деле: ты хорошо работаешь. Ты даже искуснее меня, но не такой крепкий. Если ты захочешь работать вместе со мной, мы вдвоем, может быть, оказались бы способны на большее, чем порознь. И прежде всего, если ты согласен, я готов дать тебе кров и пищу. Ты где живешь?
– У меня маленькая комнатка здесь неподалеку, но мне там совершенно не нравится. Квартирная хозяйка слишком нежно на меня поглядывает, а она далеко не молода.
Галишон расхохотался:
– Ну, тогда тем более переезжай ко мне!
Скрепив свой договор рукопожатием, они дружно направились к острову Сите.
В те времена это место пользовалось дурной славой, и патрули неохотно туда заглядывали. Пронизывавшие его узкие извилистые переулки между рядами грязных домов неразличимого цвета, тесные зловонные проходы, ведущие к черным лестницам, – все это в каком-то смысле пришло на смену знаменитому Двору Чудес, уничтоженному в прошлом столетии лейтенантом полиции Ла Рейни. Днем там все было более или менее мирно, и расположенному рядом собору это соседство не наносило никакого ущерба. Но с наступлением ночи остров Сите становился местом встречи и приютом для большей части парижских злодеев. Там копошилась вся человеческая нечисть, все подонки общества.
Картуш, пока работал в одиночестве, не решался туда забредать, хотя ему очень этого хотелось. Заповедное место представлялось ему чем-то вроде несокрушимой крепости, где любителю было так же легко получить удар ножом, как полицейской ищейке. Поэтому он был приятно удивлен, поняв, что Галишон ведет его именно в этот желанный край.
Мужчины свернули в Бобовую улицу и направились к кабачку, который назывался «Яблоко любви»,[8] но, несмотря на это соблазнительное название, был не чем иным, как гнусным разбойничьим притоном. Галишон представил хозяину своего молодого друга, а затем направился к лестнице, которая вела на верхние этажи. Поднявшись на второй, он открыл дверь, за которой была довольно большая комната, где находились две молодые женщины. Та, что постарше, оказалась госпожой Галишон, другая, помладше, ее сестрой.
Эта, вторая, была прехорошенькая. Шестнадцать лет, фигурка танцовщицы, томные глаза, шелковистые волосы. Ее звали Марианной. Она улыбалась, глядя на Картуша, а тот просто глаз не мог от нее оторвать. Галишон развеселился и, похлопав нового компаньона по плечу, сказал с ухмылкой:
– Я так и знал, что Марианна тебе понравится. Если ты ее хочешь, она твоя. Она свободна. Ее муженек отправился заниматься греблей на синих водах Средиземного моря. Тебе остается только на ней жениться.
– Да я-то готов, если только Марианна согласна!
Вместо ответа девушка прильнула к нему, подставила губы, и брак был немедленно заключен. Это было тем проще сделать, что для подобного рода соглашений в здешних краях тогда не трудились приглашать ни нотариуса, ни священника. И Картуш самым естественным образом поселился вместе с семьей Галишон. Свояки начали работать вместе, рука об руку.
Полгода наш молодой шалопай был вполне счастлив. Он любил Марианну, и она любила его. Разумеется, молодая семья не обременяла себя чрезмерной верностью. Марианна охотно предоставляла свои прелести всякому, кто мог по достоинству их оценить. Что касается Картуша, то в случае, если какая-нибудь красавица начинала строить ему глазки и назначала свидание, он всегда устраивался так, чтобы добиться чего-нибудь посущественнее. Но среди ночи, покончив с делами, он возвращался к Марианне, в их комнату на Бобовой улице, и весь город вместе с его жителями переставал существовать для этой странной парочки – они помнили только друг о друге.
В то же время Картуш делал под руководством Галишона удивительные успехи. Молодой вор отшлифовал ловкость свояка по части карманной кражи, а Галишон, со своей стороны, обучил его искусству гримироваться и проникать в дома, не возбуждая подозрений. Пройдя его школу, Картуш узнал множество полезных вещей и приобрел связи в воровском мире.
Так могло продолжаться долгие годы, если бы Галишон не совершил неосторожного поступка. Однажды зимним вечером он забрался в дом на улице Сухого Дерева, владелец которого должен был в это время отсутствовать. Дело представлялось легким, и на этот раз злоумышленник действовал в одиночку.
На его беду, почтенный лабазник, чьи владения он обследовал, неожиданно вернулся домой за какой-то забытой вещью и нос к носу столкнулся с Галишоном. Поднялся ужасный шум, началась драка, на улице сбежался народ, и в конце концов несчастного Галишона, раненного в руку из пистолета, умело скрутила стража и препроводила в Шатле.
В следующую ночь, перед рассветом, когда Картуш мирно спал под боком у своей Марианны, в притон ворвалась полиция. Галишон, искусно допрошенный людьми, понимавшими толк в этом деле, не заставил себя долго уговаривать и назвал имена своих сообщников – он отнюдь не был героем.
Заслышав на лестнице тяжелую поступь жандармов, Марианна обняла Картуша и пылко его поцеловала.
– Беги! Спасайся… Если они тебя схватят, ты пропал!
– Я без тебя не уйду…
– Мне вряд ли что угрожает. Отправят ненадолго в приют. Но тебя могут повесить. Галишон, чтобы выкрутиться самому, не постесняется все свалить на тебя. Беги, говорю тебе!
– Но как?
– Через крышу! Она примыкает к крыше соседнего дома, а та – соседнего с ним. Ты можешь уйти по ним достаточно далеко для того, чтобы безопасно было спуститься на улицу.
Прихватив свои шпагу и пистолет, Картуш метнулся к окну и растворился в ночной темноте. Медлить было нельзя – дверь уже трещала под ударами прикладов.
Ему больше не суждено было увидеться с людьми, на время ставшими его семьей. Галишон был приговорен к двадцати годам галер. Что касается Марианны и ее сестры, их сначала отправили в приют, а потом выслали в Америку. И Картуш снова остался один.
Остров Сите ему опротивел, и он поселился в маленькой комнатке на улице Сент-Андре-дез-Арк и постарался превратиться в совершенно другого человека. Разоблачения Галишона должны были навести полицию на его след, а Картушу совершенно не хотелось, чтобы его сцапали.
Он вымазал лицо коричневой краской, загримировался так, чтобы ничем на себя не походить, и, бросив заниматься грабежами и карманными кражами, сделался игроком. Сначала у цыган, а потом у Галишона он научился способам выигрывать без особого труда. Но для того чтобы получить доступ в наиболее заманчивые заведения, надо было соответственно выглядеть. И Картуш последние свои гроши потратил на то, чтобы прилично одеться и нанять слугу. После чего, назвавшись господином Ламаром, он приступил к делу.
Его встречали в самых известных игорных домах, например в отеле «Трансильвания» на набережной Малаке. Там он старался выбирать те столы, за которыми были иностранцы: он полагал, что их проще обирать, чем своих соотечественников. Одновременно с этим он, чтобы его не беспокоили, сделался полицейским осведомителем. Наконец, он подружился с сержантом-вербовщиком по имени Ла Перванш.
Этот Ла Перванш был ленивым, но вместе с тем изворотливым и бессовестным. Ему не составило труда заметить, что «господин Ламар» был намного более обаятельным человеком, чем он сам, и вербовать людей в армию ему удавалось куда успешнее. Рассчитав, что здесь можно взять числом, сержант предложил новому приятелю войти в половинную долю, и, по правде сказать, сделка оказалась выгодной. К несчастью, Картушу вскоре прискучило делать всю работу в одиночку, тогда как компаньон ограничивался тем, что дожидался, сидя в кабаке, результата его трудов. Он запросил больше. Это было ошибкой, в чем он не замедлил убедиться.
В тот вечер, как и каждую пятницу, Ла Перванш ждал Картуша в таверне «Четырех сыновей Аймона» на улице Жюиври и наливался вином, требуя кувшин за кувшином. Молодой человек запаздывал, и сержант начал терять терпение.
Когда он наконец появился, Ла Перванш при виде его нахмурил брови. Картуш всегда приводил ему по пять человек, каждую пятницу. Но на этот раз с ним было всего четверо. Впрочем, он тотчас же объяснил причину.
– У меня их было пятеро, – прошептал вербовщик сержанту на ухо, пока тот пододвигал парням полные стаканы, – но пятый сбежал прямо на углу этой улицы. Наверное, успел поразмыслить по дороге…
Ла Перванш с философским видом пожал плечами:
– Это не так уж важно! В следующий раз наверстаешь. Садись, давай выпьем!
Вечер был жаркий. Картушу пришлось долго уговаривать своих рекрутов. В глотке у него пересохло. Подняв стакан, он весело воскликнул:
– За здоровье короля!
И одним духом опорожнил свой стакан. Вино было вкусное и прохладное, так что он не имел ничего против того, чтобы опрокинуть еще стаканчик, а за ним и третий. Впрочем, все четыре парня, не заставив себя уговаривать, последовали его примеру. И тогда Ла Перванш заявил, что это вино – пойло, недостойное верных слуг короля Франции. Раскричавшись, он потребовал, чтобы трактирщик принес ему другое, получше.
– Сейчас ты сам увидишь разницу! – пообещал он, наполняя до краев стакан сообщника. – А ты, трактирщик, принеси-ка нам окорок! Я проголодался!
Они основательно уселись за стол. Картуш пил стакан за стаканом и перебрал лишнего. Настолько, что в конце концов заснул, уронив голову на стол.
Проснулся он, когда уже давно рассвело, и проснулся оттого, что Ла Перванш немилосердно его тряс.
– В дорогу!
– В дорогу? Куда это?
– В свой полк, парень! Сегодня ночью жизнь показалась тебе до того прекрасной, что ты прямо-таки умолил меня взять тебя на военную службу. Вот, смотри! Здесь стоит твоя подпись.
И он стал размахивать у него перед носом бумагой, на которой действительно стояло его имя. Внезапно протрезвев, Картуш кинулся на негодяя с кулаками:
– Мерзавец! Ты меня подпоил и…
– Ну-ка, утихни! Я же не заставлял тебя пить. Ты сам напился. Впрочем, это только справедливо, чтобы ты пошел со мной. Ты пообещал мне, что приведешь пять человек, а привел только четверых. Вот и станешь пятым. В путь! Сам посмотришь, от этого не умирают… во всяком случае… не всегда!
Волей-неволей Картушу пришлось последовать за Ла Перваншем и сделаться солдатом. Так он начал служить королю и храбро служил ему до самого Утрехтского мира. В армии он научился порядку и дисциплине, которые впоследствии составят главную его силу.
2. Король Парижа
Позади зданий Сальпетриер в те времена лежали бесконечные пустыри, которые вели к заброшенной каменоломне. Туда и днем никто не заглядывал, если не считать животных, забредавших пощипать травку, а ночью и вообще здесь нельзя было встретить ни единой живой души. Это место пользовалось дурной известностью, и близость лечебницы для заключенных никак не могла поправить дела. Приличные люди не отваживались туда приближаться…
Тем не менее в самый глухой час одной из зимних ночей 1713 года внимательный наблюдатель мог бы заметить в этих краях непривычное оживление. Мужчины, закутанные в плотные плащи, подходили поодиночке или группами, было здесь и несколько женщин, которые, опустив оборки чепцов пониже, чтобы прикрыть лицо, торопливо перебегали пустырь, и все эти люди скрывались в каменоломне. Человек, стоявший у входа, исполнял обязанности привратника. Он держал свечу, прикрыв ее ладонью, и время от времени убирал руку. Прибывающие шептали ему что-то на ухо, и он, одобрительно кивая, знаком приглашал их войти.
Внутри каменоломни на меловых стенах было укреплено несколько фонарей, светивших достаточно ярко для того, чтобы приходящие могли разглядеть и узнать друг друга. И тогда встреча оказывалась радостной, с веселыми восклицаниями и объятиями.
Карьер понемногу наполнялся, и, когда народу собралось больше двух сотен, появился человек в широком плаще для верховой езды и треугольной шляпе, обшитой золотым галуном. Проложив себе путь в толпе, он вскочил на большой камень, выполнявший роль трибуны, сбросил свой темный плащ и кинул в угол треуголку, открыв приятное лицо с резкими чертами, смуглой кожей, живыми темными глазами и ослепительными зубами. Смоляные, без пудры, волосы были стянуты на затылке черной лентой. Роста он был среднего, но хорошо и крепко сложен и выглядел довольно элегантно в своем камзоле из сукна цвета корицы, с кружевным жабо и в высоких сапогах с раструбами. Его появление было встречено настоящей бурей приветствий.
– Картуш! Картуш! Здравствуй, приятель!
– Здравствуйте, все! Вижу, вас много здесь собралось, вы не забыли, что я назначил вам встречу! Спасибо вам за это.
Несмотря на свой достаточно юный возраст – ему в то время было не больше двадцати, – Луи-Доминик Картуш уже научился управлять людьми. За два года – или около того, – проведенных им в королевских войсках, он не только освоился с этим трудным искусством, но и узнал множество других полезных вещей. Так, например, именно там он привык к порядку и дисциплине. Кроме того, он мужественно сражался, и наградой за его подвиги стала трость сержанта.
Может быть, он и дальше оставался бы в армии, потому что ему там нравилось и он мог сделать в ней карьеру, но после победы при Денене установился мир. Солдаты вернулись к домашним очагам. Картушу, как ни мало ему этого хотелось, пришлось последовать их примеру, хотя возвращаться ему было некуда, семьи у него не осталось.
Вот тогда он и решил назначить встречу тем из своих товарищей, кто ощутил разочарование, внезапно обнаружив, что его ждет тусклое, бесславное прозябание, плуг или верстак.
«Если ровно через полгода, день в день, вы будете думать, что можно найти занятие получше, чем работать подобно волу только ради того, чтобы не умереть с голоду, приходите между одиннадцатью часами и полуночью в меловой карьер, открывающийся на пустыре позади Сальпетриер. И мы посмотрим, на что мы способны вместе!»
И они пришли – все или почти все, потому что все в полку тянулись к веселому Картушу, любившему весело пожить. Картуш вызывал доверие не только из-за того, что его храбрость ни у кого не вызывала сомнений, но и потому, что он лучше любого другого умел сделать жизнь приятной и раздобыть деньги, открывавшие путь к стольким удовольствиям.
Минута шла за минутой, а Картуш продолжал говорить. Его слушали в глубоком молчании, жадно и внимательно. Он расписывал всем этим людям, на что способна серьезно организованная и хорошо вооруженная шайка в таком богатом городе, как Париж.
– Если вы захотите, мы можем стать здесь королями, и власть наша будет куда больше, чем у этого царственного юнца, который правит в Версале, и у регента. Но для этого мы должны быть уверены друг в друге.
– Говори! – в один голос выкрикнула толпа. – Чего ты от нас ждешь? Мы пойдем за тобой!
– Ну, тогда мы должны поклясться, что всегда будем оказывать друг другу помощь и поддержку, никогда, даже под пыткой, не предадим своих, а если кого-то из нас схватят, сделаем все, чтобы вырвать его из рук палачей. Только при таких условиях мы сможем стать достаточно сильными, чтобы заставить подчиняться нашему закону.
Клятва была произнесена в неописуемом порыве восторга. И тотчас собравшиеся приступили к организации этой маленькой армии воров, грабителей и злодеев. Для ее создания Картуш воспользовался системой, установленной в настоящей армии. Он назначил лейтенантов, которые – и только они одни! – должны были с ним сноситься и принимать участие в обсуждениях, а потом доводить приказы до сведения людей, служащих под их началом.
– Никаких больших сборищ и скоплений, – говорил Картуш. – Чем больше мы будем рассредоточены, тем труднее будет определить, где мы находимся, и тем огромнее будет наша сила. Общее для всего единого отряда местонахождение слишком легко определить. Мы должны оказываться везде одновременно: в домах, в тавернах, повсюду, вплоть до королевского дворца!
Когда на пустыре позади Сальпетриер рассвело, каменоломня была пуста и никаких следов собрания там не осталось. Но «шайка Картуша» уже существовала…
Понемногу отряд разрастался, и Картушу, благодаря его людям, удалось распространить свое влияние и проникнуть во все круги, обзаведясь сообщниками повсюду. На него работали ювелиры – скупщики краденого, переделывавшие до неузнаваемости краденые драгоценности; оружейники, снабжавшие его оружием и боеприпасами; кабатчики, у которых можно было собираться или хранить товары; даже врачи, которые должны были лечить раненых; и, само собой разумеется, девушки – множество девушек, нередко очень красивых, привлеченных его насмешливой улыбкой и его храбростью. По мере того как росла его известность – потому что Париж очень скоро понял, кто такой Картуш, хотя в лицо его никто не знал, – все больше женщин начинали мечтать об этом искателе приключений, рыцаре без страха, пусть и не без упрека, перед которым трепетал даже сам начальник полиции.
Они помогали ему, пристраивая его людей служить в богатых домах лакеями или горничными; таким образом, у него везде появлялись сообщники, которые могли открыть дверь, покараулить или дать ценные сведения. Через некоторое время шайка насчитывала уже больше двух тысяч человек: почти государство в государстве! Картуш в самом деле стал королем. Ему оставалось только найти королеву.
В тот день Картуш прогуливался в окрестностях Пале-Рояля. Одетый с чрезвычайной элегантностью, в треуголке, украшенной перьями, со шпагой на боку, он прохаживался вдоль фасадов домов и разглядывал хорошеньких девушек, которые со своей стороны не скупились на улыбки.
Вдруг он почувствовал прикосновение шелковой юбки, в его ноздри проник жаркий аромат, и одновременно с этим он осознал, что в карман его камзола скользнула чья-то рука, вне всяких сомнений, стараясь нашарить кошелек. Он не пошевелился, и только его собственная рука, догнав незваную гостью, внезапно сжала нежные тонкие пальцы, которые никак не могли принадлежать мужчине.
Почувствовав, что попалась, женщина вскрикнула. Картуш внезапно повернулся к ней и рассмеялся:
– Не очень-то ты сильна в этих играх, красавица моя. Зато ты очень хороша собой!
Больше чем хороша: она была прекрасна, ослепительна, с огненными глазами, золотистой цыганской кожей, гривой темных волос, блестящих, словно моток шелка. Но, сразу же перепугавшись, пойманная за руку девушка уже молила:
– Сжальтесь надо мной, сударь, отпустите меня. Если вы выдадите меня полиции…
– Да с чего ты взяла, что я собираюсь тебя выдать? – откликнулся он, не выпуская ее пальцев, которые крепко сжимал. Затем, более мягким тоном, продолжал: – Как тебя звать?
– Мари-Жанной… но все называют меня Жаннетон… Жаннетон-Венера! – с бессознательной гордостью прибавила она.
Картуш присвистнул сквозь зубы.
– Венера? Черт возьми! Да мне только того и надо, что самому в этом убедиться.
– Что вы хотите этим сказать, сударь?
– Что у тебя должна же быть где-нибудь своя комната и что ты можешь повести меня туда. Только такой ценой ты сможешь заслужить мое прощение.
– Ну, в таком случае, – весело воскликнула девушка, – меня ждет приятное наказание!
Часом позже Жаннетон стала его любовницей и была готова без колебаний последовать на край света за мужчиной, который так решительно овладел ею. В тот же вечер Картуш представил ее своим лейтенантам.
– Она станет моей женой, – сказал он. – И мы больше никогда не расстанемся.
В ту ночь в кабачке под названием «Пистолет» долго пили за здоровье молодой четы и плясали допоздна. Картуш не отставал от других, но он научился пить, не теряя рассудка. Когда пробило полночь, Жаннетон вытащила из-за пояса нож.
– Ты сказал, что теперь я твоя жена, – с внезапной серьезностью обратилась она к Картушу. – У нас, когда мужчина берет женщину в жены, он смешивает ее кровь со своей кровью, и с тех пор больше ничто не может их разлучить.
В глазах предводителя разбойничьей шайки вспыхнул огонек.
– А, так ты цыганка? Вот почему у тебя такая кожа, такие волосы!
– Да, я цыганка! – гордо ответила Жаннетон. – Ты по-прежнему хочешь на мне жениться? Или испугался?
– Я испугался? – Он резко притянул ее к себе и с внезапной страстью поцеловал. – А расхотеть тебя я смогу только тогда, когда меня разобьет паралич или я уже буду наполовину покойник. И то еще поглядим! Давай поженимся по вашему обычаю, моя Венера, так удачно названная!
Но Жаннетон не засмеялась. Быстро полоснув ножом по своему запястью, она выдавила несколько капель крови, затем проделала то же самое с рукой Картуша и прижала одну к другой крошечные ранки.
– Я люблю тебя! – серьезно проговорила она. – Никогда не забывай об этом!
– Не забуду!
Вакханалия вокруг них разгорелась с новой силой. Любовники выпили по последнему стакану, а потом, обнявшись, ушли, чтобы посвятить любви остаток ночи.
Вскоре дерзость Картуша уже не знала пределов. Казалось, для него нет ничего невозможного – зараза, распространяемая его шайкой, проникала повсюду и способствовала успеху самых отчаянных предприятий.
Он грабил людей первой величины: в числе его жертв оказались Шарль де Роган, лорд Дермотт, испанский посол и посол турецкого султана. Принца де Субиза он ограбил прямо в королевской приемной. Из Пале-Рояля у регента Филиппа Орлеанского он украл серебряные подсвечники. И это оказалась еще не самая известная его проделка…
Однажды вечером регент был на балу в «Опера». Картуш тоже там был. При появлении принца началась толкотня. Когда регент смог наконец выбраться из толпы, он обнаружил, что при нем нет уже ни шпаги, ни кошелька…
– Меня обокрали! – констатировал он, не проявив, впрочем, при этом большого волнения. – Вор останется ни с чем.
В самом деле, изучив повнимательнее свою добычу, Картуш увидел, что на шпаге принца, хоть она и была сделана из великолепной миланской стали, нет ни золота, ни серебра. Ее рукоять тоже оказалась стальной, а камни – поддельными. Он тотчас отослал шпагу назад, сопроводив такой запиской:
«Монсеньор, разве не стыдно было бы величайшему вору Франции попытаться помешать жить своему незадачливому собрату?»
Филипп Орлеанский обладал чувством юмора. Получив и прочитав эту наглую записку, он долго смеялся, а затем воскликнул:
– Я готов заплатить двадцать тысяч ливров тому, кто приведет ко мне Картуша!
Разумеется, нашлось подходящее ухо, услышавшее это предложение, и оно было передано Картушу, у которого среди слуг Пале-Рояля было немало сообщников. Не прошло и недели, как однажды вечером, во время ужина в Сен-Жермен, регент, развернув салфетку, обнаружил на тарелке еще одну записку.
«Монсеньор, – говорилось в ней, – двадцать тысяч ливров – неплохие деньги. Ваше Высочество может их сэкономить и встретиться со мной даром, если придет в полночь в место, называемое Сен-Жозеф. Не сомневаюсь, у Вашего Высочества достаточно смелости, чтобы явиться без сопровождающих…»
Дерзость разбойника раздразнила любопытство принца. Он наспех поужинал, а затем приказал подать темную одежду и оседлать коня, запретив охране сопровождать себя.
– У меня свои дела, мне нужно быть одному!
Все решили, что речь идет о любовном приключении, и никто не осмелился возразить. Еще минута – и Филипп Орлеанский уже скакал через лес к месту загадочного свидания. Ночь была темной, лес безмолвствовал, но Картуш не ошибся: принц был храбрым человеком. Шпага, висевшая у него на боку, казалась ему достаточной защитой.
Оказавшись у креста Сен-Жозеф, регент спешился и позвал:
– Эй! Мессир Картуш! Покажитесь же!
Из-за дерева вышел безоружный человек. В руке он держал факел, который сразу же зажег, а потом, приблизившись к принцу, низко склонился перед ним.
– Я не сомневался в храбрости Вашего Высочества! Спасибо за то, что пришли, мой государь. Отныне я обязан вам прекрасным воспоминанием.
Никто так и не узнал и не узнает никогда, о чем говорили между собой под высокими деревьями сен-жерменского леса принц и разбойник. Известно лишь, что, садясь на коня, регент воскликнул, обращаясь к снова склонившемуся перед ним Картушу:
– Я рад был познакомиться с вами, Картуш… Мне только жаль, что вы не захотели мне служить. Вместе мы были бы способны на великие дела…
– Возможно, монсеньор. Но и без того о Вашем Высочестве скажут не меньше дурного, чем обо мне.
– Вероятно! Так прощайте же. Мы больше не увидимся. Постарайтесь не попасть в руки полиции, потому что я ничем не смогу вам помочь!
– Я на это и не рассчитываю. Прощайте, монсеньор…
Слава Картуша росла благодаря подобным историям, но еще большую известность ему принесло приключение, случившееся с ним однажды зимней ночью, когда он шел через Новый мост.
В ту ночь Картуш был в прекрасном расположении духа. Ему удалось крупное дело с откупщиком, и теперь он спешил к своей Жаннетон, собираясь провести с ней долгую ночь любви. Он шел быстрым шагом, закутавшись в плащ и растворившись благодаря этому в темноте. И все же, как он ни спешил, это не помешало ему заметить человека, который с растерянным видом брел по мосту.
Внезапно человек резко повернулся, подбежал к парапету и вскарабкался на него. Картуш рванулся к нему, схватил и едва успел удержать в последний миг, когда тот, перемахнув через каменное ограждение, вот-вот должен был упасть в воду.
– Вы что, тронулись умом? Куда это вы собрались? – закричал на него разбойник, перетащив несостоявшегося утопленника на безопасное место.
– Сударь, вы очень добры, но вы напрасно стараетесь. Я обесчещен, и мне ничего другого не остается, как умереть.
– Обесчещены? Каким же это образом?
– Я должен моим кредиторам двадцать семь тысяч ливров, сударь, и у меня нет этих денег. Меня объявят несостоятельным должником и посадят в тюрьму. Вот видите, смерть – единственный выход.
– Погодите! Неужели нет никакого способа это уладить?
– К завтрашнему вечеру? Это совершенно невозможно, сударь, но я очень признателен вам за сочувствие. Прощайте, сударь.
Незнакомец повернулся и пошел прочь, должно быть, в поисках другого моста. Картуш догнал его.
– Нет, вы совершенно не в себе. Двадцать семь тысяч ливров, конечно, немалая сумма, но все-таки это не так уж страшно. Послушайте меня: возвращайтесь домой, ложитесь в постель и постарайтесь спокойно уснуть. Завтра ваши долги будут выплачены.
– Выплачены? Но каким же образом?
– Я возьму уплату на себя. Идите домой и пригласите ваших кредиторов завтра вечером собраться у вас с расписками. Я приду, ваши заимодавцы получат все до последнего гроша.
Несчастный должник внезапно и бурно разрыдался.
– Должно быть, вы, сударь, посланец неба или же очень хороший человек, но я не могу принять подобную сумму.
– Да можете же, можете. Мне повезло в игре, и я не нуждаюсь в этих деньгах! Примите их без стеснения. И спите спокойно.
– Ах, сударь, вы, право же, слишком добры!
– Ничего подобного! До завтра!
Назавтра вечером все кредиторы этого негоцианта собрались у него дома. Настроены они были по большей части скептически, поскольку решительно не верили в это едва ли не божественное вмешательство.
– Или мы имеем дело с сумасшедшим, или это дурная шутка.
Таково было общее мнение, и несчастный хозяин дома уже недалек был от того, чтобы к нему присоединиться, когда у дверей послышался стук и появился Картуш с самой безоблачной из всех своих улыбок на лице.
– Кажется, я не опоздал? – спросил он, обведя взглядом донельзя изумленных собравшихся. Затем великолепным жестом распахнул плащ и, выхватив туго набитый мешок, бросил его на стол. – Делите! – предложил он. – И пусть каждый возьмет, сколько ему причитается.
Поднялся веселый шум, двадцать семь тысяч ливров были поделены между кредиторами, а потом, чтобы отпраздновать такое событие, откупорили несколько бутылок. Почтенный негоциант плакал от радости и умолял благодетеля хотя бы назвать ему свое имя.
– Сударь, – ответил разбойник, – если бы знали, кто я такой, вы постарались бы отплатить мне признательностью и тем самым отняли бы у меня все удовольствие и главное достоинство моего поступка.
– Моя благодарность иссякнет только вместе с моей жизнью! – заверил негоциант, аккуратно убрав расписки в секретер и заперев его. – А теперь согласитесь по крайней мере распить с нами бутылочку вина.
– С огромной радостью.
Они выпили несколько бутылок вина и веселились вовсю до тех пор, пока Картуш, достав часы, не объявил, что час уже поздний и всем пора возвращаться по домам. Кредиторы, распрощавшись со счастливым негоциантом, вышли следом за Картушем.
За порогом была непроглядная темень, налетали порывы ветра, но бургундское так подогрело ночных гостей, что они не обращали ни малейшего внимания на погоду. Все они смеялись, наперебой шутили, и каждый старался поближе сойтись со щедрым незнакомцем.
Внезапно из-за угла выскочила толпа бродяг и набросилась на нашу компанию. Они и опомниться не успели, как их обобрали до нитки, отняв не только двадцать семь тысяч ливров, но и все, что у них было при себе.
– На помощь! – громче всех прочих вопил Картуш. – Держи вора!
Но когда воры скрылись, кредиторы нашего негоцианта обнаружили, что незнакомец исчез вместе с ними.
Назавтра эта история облетела весь Париж. Все в один голос приписали этот подвиг Картушу, и, надо сказать, все были на его стороне.
В тот вечер «отряд Картуша» или, во всяком случае, главные его предводители собрались в кабачке «Малой печати». Они разрабатывали по всем правилам ограбление одного богатого особняка в предместье Сен-Жермен, одновременно поедая стряпню папаши Нерона, кабатчика, который был не только одним из членов шайки, но и одним из лучших поваров во всем Париже. Там были Дюшатле, Пьеро, Торньоль, Попик, Мартин Лебуа, еще кое-кто. Была там и прекрасная Жаннетон, сильнее прежнего влюбленная в своего Картуша. И даже слишком сильно влюбленная для того, чтобы обращать внимание на пылкие взгляды, которые бросал на нее Дюшатле. Правда, надо сказать, она успела к ним привыкнуть, поскольку вот уже несколько недель, как лейтенант буквально ни на шаг не отходил от «бабы атамана», убеждая ее, что верность в разбойничьей шайке неуместна. Но Жаннетон неизменно отталкивала его:
– Я могу принадлежать только одному!
Кроме того, в этот вечер Жаннетон было из-за чего встревожиться. Вокруг стола в кабачке папаши Нерона порхала, прислуживая гостям, прелестная белокурая девушка, тоненькая, легкая, голубоглазая, с невинным взглядом. И Картуш глаз с нее не сводил…
Ее звали Мари-Антуанетта, и она была родной дочерью папаши Нерона. Если до сих пор ее никто не видел, то только потому, что кабатчик отдал ее на воспитание в деревню, считая свой кабак неподходящим местом для девочки. А теперь, когда ей исполнилось шестнадцать, он вернул ее домой, подумывая выдать замуж.
Именно так он и объяснил со смехом Торньолю, который галантно расхвалил ему красоту его дочери.
– Я отдам ее тому, у кого есть достаток и кто сможет дать ей все, чего она заслуживает! – с гордостью заявил он. – Она достаточно красива для этого!
Внезапно Картуш поднялся с места и, не отрывая взгляда от девушки, стукнул кулаком по столу:
– Ну, так это буду я! Отдай за меня свою дочку, Нерон, я женюсь на ней.
– Да ты что, смеешься, что ли? Мою дочку обвенчает священник, как полагается, она не выйдет замуж так, как делается у вас, людей вне закона.
Картуш немного перебрал. Это помешало ему заметить внезапно загоревшийся взгляд Жаннетон.
– Я обвенчаюсь с ней, тебе остается только привести священника. Что до приданого – у нее будет самое богатое приданое во всем Париже! Отдай ее мне, а я отдам тебе сундук, в который складываю свою долю добычи!
И без того пунцовая, физиономия Нерона побагровела еще сильнее. Но на этот раз краску на его лицо вызвала алчность. Картуш был богат. Никто не знал точных размеров его состояния, но в любом случае оно было достаточно велико для того, чтобы могли исполниться самые сладкие мечты кабатчика.
– Ты с ума сошел, Картуш! – не в силах дольше сдерживаться, закричала Жаннетон. – И потом, ты не имеешь права!
– Не имею права? Почему это?
– Потому что ты принадлежишь мне! – прошипела девушка. – Ты смешал свою кровь с моей!
– Ну, так теперь мы брат и сестра, только и всего! Отстань, Жаннетон, оставь меня в покое. Никто и никогда не мог помешать мне взять женщину, если я ее захочу. Сейчас я хочу вот эту, и она будет моей! И я назначу за нее цену! Если, конечно, она от меня не откажется.
Теперь все взгляды обратились к Мари-Антуанетте. Она стояла посреди комнаты, сжав маленькие ручки, порозовев, вся озаренная сиянием золотых прядей, выбившихся из-под кисейного чепчика, и смотрела на Картуша сияющими ярче звезд глазами. Наступила тишина.
– Ну что же, девочка? – ласково спросил папаша Нерон. – Что ты на это скажешь? Может быть, ты не захочешь принадлежать человеку, чья голова когда-нибудь достанется палачу…
– О нет! – ответила малышка. – Я согласна!
Картуш медленно выбрался из-за стола, подошел к девушке и сжал в своих руках ее сплетенные пальцы.
– Это правда? Ты согласна стать моей? Ты смогла бы меня полюбить?
– Я всегда тебя любила. С тех самых пор, как я поняла значение этого слова, я только о тебе и мечтала. Я стану твоей женой, даже если мой отец будет против.
– А почему это я должен быть против? – взревел папаша Нерон. – На следующей неделе мы отпразднуем свадьбу, и я устрою вам такой роскошный пир, какого вы никогда и не видели, тем более что платить за все будет мой зять.
В знак согласия Картуш снял со своего мизинца кольцо, украшенное чудесным бриллиантом, и надел его на безымянный палец своей нареченной.
– Великовато немного, – со смехом заметил он, – но я тебе еще столько их надарю…
Бледная, с побелевшими губами, позабытая всеми Жаннетон, пятясь, отступала в глубину комнаты. Ярость и ревность терзали ее пылкое сердце. Спрятавшись в темном углу за камином, она внезапно выхватила из-за корсажа тонкий острый нож и, подобравшись, приготовилась напасть на человека, так бессовестно ее бросившего.
Вдруг чья-то рука легла на ее руку и остановила несчастную.
– Нет! Этим ты добьешься только одного – все остальные на тебя набросятся! Надо действовать совсем не так!
Подняв на говорившего безумный взгляд, она узнала Дюшатле.
– О чем ты?
– О том, что месть удается куда лучше, если не пачкать рук, и в некоторых случаях она может даже принести выгоду. Надо только суметь выждать. Я-то всегда умел ждать… Делай, как я, и я помогу тебе. Ты не хуже меня самого знаешь, что я люблю тебя.
– Это правда… – безжизненным голосом прошептала Жаннетон, – ты-то меня любишь…
3. Гревская площадь
С некоторых пор Картуш каждую ночь устраивался на ночлег в другом месте, потому что – тоже с некоторых пор – его преследовали необъяснимые неудачи. Огромное число сообщников, которыми располагала его шайка, бесспорно, давало ей большие возможности, но вместе с тем возрастала и опасность предательства. Был май 1721 года. За две недели до того Картуш, действовавший с шестью своими людьми в особняке финансиста Пари-Дюверне, попался в ловушку и обязан был своим спасением лишь собственной невероятной ловкости, которая позволила ему снова убежать по крышам. Но двое из его людей, Малыш Жан и Смельчак, остались в руках полиции. И Картуш был встревожен.
Мари-Антуанетта, которая стала его женой три месяца назад и которую он, из соображений безопасности, заставлял по-прежнему оставаться в родительском доме, переживала страшные дни. Она каждый день боялась услышать оглушительный шум, возвещающий о том, что Картуш пойман, и каждый раз, встречаясь с мужем, умоляла его позволить ей до конца и во всем разделить его судьбу.
– Луи, эти дни, заполненные ожиданием, эти ночи без тебя – настоящая пытка, – говорила она. – Я могу пойти с тобой, могу каждую ночь перебираться на новое место.
– Не говори глупостей, милая моя! Ты не создана для такой ужасной жизни. Оставайся здесь, чтобы я знал, что ты в безопасности, так по крайней мере у меня на сердце спокойно и есть уголок, где я счастлив!
– Неужели нам всегда придется так жить? Я хотела бы стать такой же женой, как все другие, жить с тобой и чтобы у нас были дети.
– Все это будет… и скоро! Я прошу тебя потерпеть еще полгода, всего-навсего каких-то шесть месяцев, а потом мы уедем.
– Куда?
– Далеко… очень далеко! На Американские острова. Говорят, это настоящий рай. У нас там будет огромное поместье, у нас будут рабы, и они станут тебе угождать, как принцессе. Но для этого надо много денег.
– Полгода? И не больше? Ты обещаешь?
– Обещаю! Потерпи…
По правде сказать, ему самому терпение давалось куда труднее, чем его молодой жене, потому что он утратил ту счастливую веру в себя, которая раньше давала ему силы. Кое-кто из его людей казался ему не слишком надежным. Что с ними – испугались или дали себя подкупить? Он не мог решить, в чем правда, и никаких доказательств того или другого у него не было. А для того чтобы собрать необходимые доказательства и после этого наказать провинившихся, уже не колеблясь, ему тоже надо было ждать, ждать, ждать… Однако ждать пришлось не так долго, как он рассчитывал…
Темнело. Узкая, глубокая, словно колодец, улица Фоссе-де-Нель погрузилась в непроглядный мрак. Картуш двигался медленно, заложив руки за спину и напряженно прислушиваясь. Он собирался провести ночь в трактире «Маленького мавра» и остановился у его дверей. Но в ту самую минуту, как он собрался переступить порог, ему показалось, что в нескольких шагах позади него промелькнула и замерла чья-то тень.
Он двинулся дальше, сделав вид, будто передумал, но чуть подальше снова остановился и обернулся. На этот раз сомнений не было: не меньше десяти человек поспешно укрылись в тени двух ворот, расположенных друг против друга. И тогда, внезапно охваченный страхом, Картуш пустился бежать изо всех сил.
Добравшись до угла, он свернул на улицу Бурбон-ле-Шато, потом, в поисках норы, в которую он мог бы забиться, бросился бежать по маленькой улочке Кардиналь. И тут он увидел на втором этаже одного из домов открытое окно. По трубе можно было без труда до него долезть, и Картуш, гибкий, словно кошка, вскарабкался наверх, перешагнул через перила балкона и оказался в элегантно обставленной спальне. Его бурное появление было встречено испуганным криком.
Сидевшая у туалетного столика красивая дама зрелого возраста, распустив по плечам волосы, примеряла перед зеркалом драгоценности. Она так резко поднялась, что выронила из рук на ковер шкатулку.
– Бога ради, сударыня, не надо больше кричать, – попросил Картуш. – Клянусь, я не причиню вам зла.
И, желая доказать правдивость своих слов, он собрал украшения, сложил их в шкатулку и поставил ее на туалетный столик. Дама изумленно смотрела на него.
– Как благородно! Но кто вы такой?
Поклон, который отвесил ей разбойник, сделал бы честь и самому регенту.
– Я – Картуш, сударыня. Меня преследуют лучники. Если они меня схватят, можно считать, что я уже покойник. Но, – прибавил он, выхватив из кармана пару английских пистолетов, – мне хотелось бы предупредить вас, сударыня, что я умру не один. Мы уйдем вместе…
Вместо ответа дама рассмеялась:
– Да уберите же свою артиллерию, юноша, она вам не понадобится. Я жена маршала Буффле, и подобные орудия не производят на меня впечатления. Вы говорите, вас преследуют? Я готова вам поверить, но чем я могу вам помочь?
– Позвольте мне остаться здесь, сударыня, только на эту ночь. Мне некуда идти. Клянусь, что с наступлением утра я уйду и вы больше никогда обо мне не услышите.
– Больше никогда о вас не услышу? – развеселившись еще больше, воскликнула маршальша. – Но, бедный мой друг, весь Париж только о вас и говорит! Ваше обещание равносильно пожеланию оглохнуть, да не услышит его господь!
Тем временем под окном поднялся шум. Лучники явно обыскивали улицу, и Картуш почувствовал, что бледнеет. Заметив, как его рука стиснула пистолет, маршальша пожала плечами.
– Ну перестаньте же себя терзать. Я сейчас все улажу.
Выйдя на балкон, она строго окликнула стражников:
– Что там происходит? Где вы, по-вашему, находитесь, что позволяете себе так шуметь? Вы что, не знаете, кто я?
– Простите нас, сударыня, – ответил один из них, знавший, с кем имеет дело. – Но мы ищем Картуша.
– Этого страшного разбойника? Но вы же не думаете, в самом деле, что он у меня? Ищите подальше отсюда, сержант, и не мешайте честным людям спать спокойно. – Маршальша решительно захлопнула окно, затем повернулась к незваному гостю: – Ну а теперь что мне с вами делать? Я должна вас спрятать. Если мои слуги…
– Позовите Жюстину, сударыня, и, ради бога, велите принести мне что-нибудь поесть, я умираю с голоду.
– Жюстину? Вы знаете мою горничную?
Картуш, не отвечая, только засмеялся. Жюстина входила в его шайку с самого начала. Это была славная девушка, верная и надежная. Маршальша послушно позвала ее и смогла убедиться, что разбойник и ее горничная и в самом деле давнишние друзья.
– Ну что ж, – со вздохом покорилась она, – скажите Жюстине, чего бы вам хотелось, и, пожалуйста, заказывайте на двоих! От волнения разыгрывается аппетит, и я тоже проголодалась!
Четверть часа спустя в комнате был накрыт небольшой столик, и удивительные сотрапезники, расположившись за ним, принялись за паштет и шампанское. Картуш ел жадно, но при этом не переставал учтиво беседовать с хозяйкой дома. Похвалив паштет, он раскритиковал шампанское:
– У меня есть вино получше, это вас недостойно.
После того как с ужином было покончено, Жюстина устроила для Картуша постель в кабинете, смежном со спальней маршальши, и новые друзья расстались.
Утром Картуш распрощался с приютившей его на ночь хозяйкой.
– Я никогда не забуду вас, сударыня! – пообещал он, уходя.
– Да нет, конечно же, забудете! Вот для меня это, наверное, будет немного потруднее! Я знаю многих, кто извелся бы от ревности, знай они только, что я провела ночь с Картушем.
На следующий день маршальша де Буффле получила сотню бутылок шампанского, доставленного прямо из подвалов финансиста Пари-Дюверне. Оно и впрямь было намного лучше ее собственного.
И все же, пусть в этой истории Картушу удалось проявить хладнокровие и выглядеть красиво, он прекрасно понимал, что неудачи преследуют его не случайно, и понемногу утратил то самообладание, которое служило ему лучшей защитой. От неудач можно незаметно перейти к ошибкам, а ошибки могут оказаться смертельно опасными.
Однажды трактирщик, хозяин «Деревянного меча», сообщил ему о своем намерении покинуть шайку. Несмотря на то, что единогласно принятый устав давал ему право это сделать, разъяренный Картуш решил для устрашения прочих примерно его наказать. 4 августа 1721 года его дом ночью подвергся нападению, был разграблен и сожжен. Трактирщику, на его счастье, удалось бежать. Он поднял на ноги полицию, и Картуш в этом деле потерял пятнадцать человек – семь убитыми и восемь пленными. Среди последних был его дядя Тантон, давным-давно присоединившийся к шайке, соблазнившись рассказами о сказочной добыче, которую грабежи приносили его племяннику.
Однако в шайке был не только дядя Картуша, но и сын Тантона, доводившийся Картушу двоюродным братом. Пьеро был славным малым, немного простоватым, и обожал отца. Он терял рассудок, представляя его в руках лучников, потому что слишком хорошо понимал, чем ему это грозит. Вот тогда Картуш всерьез испугался. Не пойдет ли Пьеро ради того, чтобы вызволить Тантона, на то, чтобы выдать его самого, Картуша? Дождавшись темной ночи, он заманил двоюродного брата в пустынный уголок квартала Монпарнас, куда в те времена еще не добрался город, достал свой знаменитый английский пистолет и сказал не дрогнув:
– Прости, старина, мне очень жаль, но по-другому я поступить не могу.
Картуш без колебаний вышиб кузену мозги, а потом закопал тело под кучей навоза.
И все же, несмотря на все свои страхи, Картуш не желал признавать, что звезда его померкла. Для этого он был слишком горд. Он был вождем, которому повиновались по первому знаку, чьи приказания никогда не оспаривались. Достаточно было одного слова, малейшего подозрения, чтобы он убил ослушника или просто-напросто так его запугал, что вскоре страх охватил бы всю шайку, даже самых верных, таких, как Болье, друг Картуша, тщетно пытавшийся заставить его внять голосу разума.
– Предательство существует только в твоем представлении, Луи. Но рано или поздно ты добьешься того, что накликаешь его на самом деле. Твои люди в конце концов станут слишком тебя бояться.
– Они никогда не будут меня бояться достаточно сильно! Настоящего вождя должны слушаться беспрекословно.
Только одному человеку, одной женщине, может быть, удалось бы образумить Картуша. Но на этот счет приказания были жесткими: Мари-Антуанетта не должна иметь никакого отношения к деятельности шайки. Тому, кто посмеет нарушить ее спокойствие, придется иметь дело с Картушем. Впрочем, она оставалась в неведении насчет большей части преступлений, совершаемых ее мужем. Для нее он был вором, конечно, этого не оспоришь, но вором вроде того, каким описывали Робин Гуда: он отнимал у богатых лишнее и часть этих излишков раздавал беднякам.
Картушу это было известно, и он дорожил простодушной любовью своей молодой жены даже, наверное, больше, чем собственной безопасностью. Для нее он был самим господом богом и хотел им оставаться и дальше. Горе тому, кто омрачит прекрасный образ, который Мари-Антуанетта лелеяла в своем сердце.
Разумеется, он начисто позабыл и Жаннетон-Венеру, и ту страстную любовь, в которой было больше плотского влечения, чем духовного родства, но которая так долго их соединяла. Жаннетон по-прежнему состояла в его шайке и выполняла свои обязанности так же добросовестно, как и прежде. У нее всегда была для него наготове шутка, улыбка. Она даже позволяла ему сорвать поцелуй, когда Картушу вдруг приходила такая охота, примерно так же, как ему захотелось бы съесть яблоко или выпить стакан вина. Но в глубине души Жаннетон-Венера ждала своего часа: Дюшатле, ставший ее любовником, пообещал ей, что ждать осталось недолго.
Картуш утратил веру в себя. Он испугался, и вскоре, говорил Дюшатле, он бросит их и отправится вместе со своей белобрысой куклой искать счастья в других местах. Надо его остановить, и чем раньше – тем лучше.
Вот поэтому однажды вечером Жаннетон вместе со своим любовником оказалась в Шатле, у некоего Пакома.
– Каждый раз, – сказала она, – Картуш ночует в другом месте. Надо как-нибудь устроить так, чтобы наблюдать сразу за всеми его тайниками.
– Лучше бы, – возразил Паком, – устроить так, чтобы ты вовремя могла указать нам именно то логово, где он проводит ночь.
– Он часто приходит в кабачок под названием «Пистолет», – вмешался Дюшатле. – Но, само собой, не каждый вечер.
– Завтра он там будет, – неожиданно пообещала Жаннетон. – Мне он доверяет, и, если я назначу ему свидание, он придет. Вам остается только сделать свое дело.
Довольный Паком громко расхохотался.
– Если ты, девочка, со своей работой справишься, мы и подавно свою сделаем безупречно. И ты правильно сделала, что пришла. Не то вот этот плут, – он кивнул на Дюшатле, – давно познакомился бы с палачом. Мы за ним следили…
Жаннетон ничего не ответила, но ей все стало ясно. Значит, Дюшатле вовсе не ей хотел помочь, он толкнул ее на то, чтобы предать Картуша, спасая собственную шкуру? Что ж, пусть будет так. Картуш погибнет. Она все равно не может больше вынести мысли о том, что он жив и принадлежит другой. Жаннетон просто с ума сходила, стоило ей только вообразить Картуша в объятиях Мари-Антуанетты. Но и Дюшатле свое получит, он еще поплатится за это.
Все прошло так, как и рассчитывал Паком. Картуш без колебаний пришел в «Пистолет». Устроившись в той же комнате, что всегда, он ждал Жаннетон в обществе троих своих людей, коротая время за игрой в карты и попивая бургундское. Он и не подозревал, что к кабачку уже стягиваются огромные силы полиции. Около десяти часов явился Дюшатле в сопровождении Пакома.
– Я поднимусь наверх с друзьями, – сказал Дюшатле перепуганному хозяину. – Девушки есть?
Эта фраза была условным сигналом, о котором они договорились с Жаннетон.
– Да… да, есть, – невнятно пробормотал трактирщик. – В той комнате, где всегда.
После этого все произошло очень быстро. Дверь вышибли и, прежде чем кто-либо успел пошевелиться, Картуша и трех его товарищей связали и выволокли из комнаты. Оказавшись за дверью и увидев Дюшатле, он все понял и плюнул ему в лицо. Но на этот раз разбойник попался, и крепко попался: его отвели в Гран-Шатле.[9]
Удивительная вещь – там по приказу регента для него был создан особый режим. Его вполне прилично кормили, и карцер, в котором он сидел, был чистым. Расследование его дела началось на следующий день, и с ним разговаривали весьма учтиво, показывая тем самым, с каким уважением к нему относятся.
Судье, который заметил ему, как жаль, что столь выдающаяся личность избрала дурной путь и тем самым поставила правительство в прискорбную необходимость вынести наказание, Картуш ответил:
– Господин судья, я никогда не забуду вашей любезности. И потому я счастлив вручить вам на память обо мне этот маленький подарок…
С этими словами Картуш протянул судье его собственные часы, которые ухитрился стянуть, пока его допрашивали.
Суд не мог удержаться от смеха. Этот Картуш совершенно неисправим! До чего же он забавный…
Впрочем, оказавшись за решеткой, Картуш снова стал самим собой. Страх испарился. Он тем спокойнее смотрел в лицо своей судьбе, что был твердо уверен в своем освобождении. Его армия была еще очень многочисленна и сильнее, чем можно было себе представить. И потом, существовала ведь клятва, которую они дали в тот первый вечер в заброшенной каменоломне на пустыре: его люди сделают невозможное ради того, чтобы спасти своего главаря от эшафота. И Картушу в его мечтах уже представлялась эта сцена, которая должна была стать для него подлинным триумфом: все его люди, вооруженные до зубов, соберутся на Гревской площади! В неудержимом порыве они вырвут его из рук стражи, и он спасется, возможно даже, под восторженные крики толпы…
Да и как, собственно говоря, мог он усомниться в своей популярности? В карцере, где он сидел вместе с тремя своими товарищами, постоянно толпились посетители. Невозможно даже вообразить себе количество людей, которые хотели увидеть знаменитого Картуша! Ему приносили еду и вино, угощали пирожными, шутили…
Однажды, когда дверь распахнулась перед очередным посетителем, Картуш был потрясен, увидев, кто стоит на пороге. Это была маршальша Буффле… с бутылкой шампанского в руках.
– Мне пришло в голову, – сказала она, – что вам здесь, может быть, этого недостает, и я вам его принесла. Вы были правы, – прибавила она, силясь улыбнуться, – оно лучше моего.
Но на глазах у нее были слезы, и растроганный Картуш не нашелся что ответить. Он безмолвно поцеловал дрожащую руку этой замечательной женщины, и та, кивнув ему на прощанье, поспешно выбежала, пытаясь скрыть свое волнение. Только после ее ухода Картуш обнаружил, что она оставила ему деньги.
Совершенно ясно, что при таких условиях система защиты, которую избрал для себя Картуш, утверждавший, что его имя – Жан Бургиньон, а к Картушу он никогда даже близко не подходил, никуда не годилась. Но он уперся, да еще к тому же уверял, будто не умеет ни читать, ни писать.
Для того чтобы вырвать у него признание, ему устроили свидание с матерью. Однако все время, пока несчастная женщина, захлебываясь рыданиями, обнимала Картуша, тот сохранял на лице каменное выражение и терпел ее объятия, не выказывая ни малейшего волнения. Но силы его были на исходе… И он решился бежать.
Из осторожности его отделили от товарищей и подселили к нему молодого человека, арестованного за кражу. Но Картуш к тому времени обнаружил, что в одном из углов камеры пол отзывается на стук гулко, словно под ним пустота.
– Там, должно быть, сточный желоб! Если хочешь, друг, мы вдвоем попробуем сыграть с ними еще одну партию! Как только мы отсюда выберемся, я сумею надежно тебя спрятать и дам тебе к тому же сколько угодно золота.
Парень не заставил себя уговаривать, и они немедленно принялись за работу. Используя в качестве рабочего инструмента цепи Картуша, они отбили одну из плит пола и принялись рыть. Заговорщики довольно быстро справились с этим делом. Когда дыра оказалась достаточно большой, чтобы в нее пролезть, Картуш и его новый товарищ оказались в выгребной яме.
Место было не слишком приятное, но зато огораживавшая яму стена разрушилась под воздействием влаги. Беглецы без труда пробили ее и очутились в подвале у зеленщика.
– Мы спасены! – выдохнул Картуш. – Отсюда ничего не стоит выбраться наружу.
– Нас поймают… отыщут по одному только запаху! – поморщился молодой вор.
И правда, удача была решительно не на их стороне. Когда они тихонько отворяли деревянную дверь погреба, залаяла собака и подняла на ноги весь дом. На этот раз орудием судьбы оказалась мерзкая шавка.
Зеленщик прибежал на шум в одной рубашке, размахивая мушкетоном, а его жена тем временем, высунувшись в окно, вопила: «Помогите!»
Картуша и его товарища снова схватили и на этот раз разлучили. Впрочем, теперь крепость Шатле показалась судьям недостаточно надежным местом, и разбойника, закованного в цепи, перевели в Консьержери, в башню Монтгомери. У его двери днем и ночью, сменяясь, караулили четверо сторожей. Тем временем процесс шел своим ходом, и 26 ноября 1721 года Картуш был приговорен к колесованию заживо на Гревской площади, после того как будет подвергнут обычной и чрезвычайной пыткам.
Он невозмутимо выслушал приговор. Колесу наверняка придется долго его дожидаться: Картуш был совершенно уверен в том, что его люди не дадут ему на нем растянуться и отобьют своего вождя прежде, чем роковая повозка достигнет места казни.
Эти мысли помогли ему утром 27 ноября, в день казни, вытерпеть пытку сапогом с мужеством, поразившим судью, который вел допрос. Восемь клиньев раздробили ему ноги, но он не переставал твердить, что невиновен и не понимает, чего от него хотят. Уже полумертвый, он все еще мечтал о свободе.
Гревская площадь была сплошь забита людьми. Они толпились даже на крышах, а выходящие на площадь окна сдавались за бешеные деньги. Здесь был весь город и весь двор. Шепотом поговаривали даже, будто сам регент тайком смотрел на казнь из окна. Когда показалась тележка, везущая приговоренного, по толпе прокатился долгий ропот.
Картуш, смертельно бледный, стоял привязанный к прутьям решетки и из-за них безучастно смотрел на толпу. Если бы не веревки, он не смог бы держаться на размозженных ногах, но он и сейчас не утратил самообладания. Теперь свобода была уже близка. Она ждала его… там, в этой толпе, и он жадно вглядывался в каждое лицо, высматривая друзей, стараясь увидеть тайный знак, который придаст ему сил. За время этой дороги от тюрьмы он вытерпел адские муки, публичное покаяние оказалось пыткой, и теперь ему хотелось, чтобы все делалось быстро, очень быстро и чтобы он мог наконец отдохнуть, позаботиться о себе, вернуться к жизни после агонии.
Повозка остановилась у подножия эшафота, возведенного перед ратушей. Приговоренному помогли спуститься. Бросив взгляд на колесо, он прошептал:
– До чего мерзко выглядит!
И его беспокойный взгляд снова метнулся к толпе, отчаянно ища помощь, которая должна была, обязательно должна была прийти. Но людское море оставалось недвижимым и безмолвствовало. По нему не пробегало ни малейшего колыхания, ничто не выдавало присутствия там людей Картуша. Палач уже пытался вести его по ступеням эшафота, и никто не шелохнулся…
И тогда Картуш понял, что они его покинули, что никто не придет ему на помощь и что клятва, данная в каменоломне, ничего не стоит. Он сейчас умрет, умрет всего через несколько минут и такой страшной смертью…
Им овладела ярость. Повернувшись к офицеру, который распоряжался казнью, он крикнул:
– Отведите меня обратно в суд! Я все расскажу…
Его отнесли в ратушу. Уже темнело, пришлось зажечь факелы. Толпа устраивалась, приготовившись к ожиданию, а тем временем стража вела Картуша в большой зал.
– Вы просили выслушать вас? – сказал советник Арно де Буэ, который вел процесс. – Вы признаетесь наконец, что вы – Картуш?
– Да, я действительно Картуш! И я назову вам моих сообщников.
В течение нескольких часов Картуш, охваченный дикой яростью, не умолкал: он называл имена, еще и еще, давал адреса. По мере того как он выдавал все новых сообщников, стражники уходили, потом возвращались и приводили с собой перепуганных мужчин и женщин, и те, ослепленные светом, жмурились, словно совы, вытащенные из дупла. Взглянув на свое войско, которое постепенно собиралось перед ним, Картуш презрительно бросил:
– Вы от меня отреклись. Но я по-прежнему остаюсь вашим командиром и буду командовать вами и дальше, даже после смерти.
Только двоим удалось избежать преследования: Дюшатле был найден в своей комнате мертвым, убитым ножом в спину, а Жаннетон-Венера бесследно исчезла.
Закончив свои признания, Картуш попросил разрешения проститься с женой, уточнив при этом, что ей ничего не было известно о его преступлениях. Мари-Антуанетта пришла, лицо женщины было белее полотна ее чепчика. Муж с женой обнялись с безнадежной нежностью, не в силах вымолвить ни слова, а затем, отстранив плачущую Мари-Антуанетту, Картуш повернулся к командиру лучников:
– Теперь я ваш! И давайте поживее!
Его снова отвели на эшафот. Площадь за это время успела превратиться в огромный табор. Люди ели, пили, кое-кто спал. Картуш с пугающим мужеством улегся на крест, на котором палач должен был перебить ему кости перед тем, как привязать к колесу.
– Мне больше нечего сказать! – произнес он.
И вытерпел страшную пытку, не издав ни единого стона. Его перенесли на колесо, где полчаса спустя палач удавил его. На этот раз все было кончено, Картуш был мертв.
Но, разбирая эшафот, палач обнаружил под ним труп молодой темноволосой красавицы, плававшей в собственной крови, с грудью, пронзенной кинжалом. Это была Жаннетон-Венера, не захотевшая и в смерти разлучиться с единственным мужчиной, которого она в своей жизни любила…
Калиостро
1. Лоренца
День постепенно угасал, в церкви сгущались непроницаемые тени, тускнели краски витражей. И все же Лоренца никак не могла решиться покинуть Сан-Сальваторе. Она, наверное, уже несколько часов простояла коленопреклоненной на холодных плитах у самого подножия главного алтаря, не смея пошевелиться, а тем более повернуть голову, потому что боялась встретиться глазами со страшным взглядом.
Она почувствовала на себе этот взгляд, едва вошла в церковь, и этот взгляд, устремленный на ее окутанную черным покрывалом голову, временами опускающийся ей на плечи, с каждой минутой давил все сильнее, становился все более властным. Она точно знала, что стоит ей обернуться, стоит только встретить этот взгляд, и она покорится ему, как уже едва не произошло однажды.
Прошло примерно две недели с того дня, когда, придя в Сан-Сальваторе к вечерней молитве, девушка встретилась на паперти с одетым в черное молодым человеком лет двадцати пяти или двадцати шести. Увидев ее, он остановился и поклонился ей, но не заговорил, а только смотрел на нее. Но с тех пор глаза этого человека не давали ей покоя. Никогда еще ей не доводилось видеть таких глаз: черные, необыкновенно блестящие и почти сверхъестественно глубокие. Встретив этот взгляд, Лоренца сначала ощутила холод, пронизавший ее до самого сердца, а потом ее охватил такой жар, что она даже не разглядела лица мужчины в черном. Боязливо перекрестившись, словно встретилась с самим дьяволом, она поспешила войти в церковь и в тот раз молилась усерднее обычного.
Назавтра тот человек явился снова. По-прежнему безмолвный, он ограничился тем, что поклонился ей, но с тех пор Лоренца каждый день видела его в церкви Сан-Сальваторе, и всегда он был молчалив и неподвижен. Ее страх вскоре перерос в ужас. И тем не менее хоть она каждый вечер давала себе торжественную клятву не ходить больше в Сан-Сальваторе, но, когда приближался час вечерней молитвы, она прикрывалась плотной накидкой, окутывала голову покрывалом, брала свой молитвенник и, подчиняясь силе, против которой не могла устоять, помимо воли направлялась к церкви.
Сегодня вышло еще хуже обычного. Вместо того чтобы постоять на паперти, а затем уйти, незнакомец вошел в церковь вслед за ней. Она хоть и не видела, как он вошел, но все же ощущала его присутствие. А теперь она с ума сходила от страха. Время шло. Церковь вот-вот закроют, и ей придется выйти, оказаться на безлюдной площади, лицом к лицу с незнакомцем. При одной этой мысли Лоренца, суеверная, как все римлянки, чувствовала, что изнемогает, теряет последние силы.
И вдруг она увидела, как в церковной стене бесшумно отворилась маленькая дверца и появилась сгорбленная фигура церковного сторожа. Он пришел, чтобы погасить свечи и запереть храм. И тут Лоренца внезапно вспомнила, что эта дверца выходит на старую монастырскую галерею, а оттуда можно попасть на небольшую площадь, которую замыкает фасад дворца Ланчелотти.
Темнота с каждым мгновением все более сгущалась. Уже ничего было не разглядеть, только светилась красная лампадка на хорах. Девушка, совершенно уверенная в том, что ее не видно в тени колонн, бесшумно встала и легко, словно струйка дыма, выскользнула за дверь. В галерее еще не совсем стемнело, ее ренессансные арки смутно вырисовывались на фоне запущенного сада. Обеими руками подхватив юбки, Лоренца пустилась бежать к выходу, но голос, раздавшийся у нее за спиной, заставил ее замереть.
– Лоренца Феличиани! – произнес голос. И пока она, пораженная ужасом, с бешено колотящимся сердцем, стояла, не в силах пошевелиться, голос продолжал звучать мягко и нежно. – Лоренца Феличиани, почему вы меня боитесь? Ну, обернитесь же! Решитесь взглянуть мне в лицо! – Но поскольку она по-прежнему оставалась неподвижной, голос сделался властным: – Посмотрите на меня! Я так хочу!
Тогда она обернулась, и внезапно страх полностью оставил ее. Забыв на мгновение, как она боялась этого взгляда, девушка увидела, что незнакомец очень хорош собой. Смуглый, темные волосы, зачесанные назад и стянутые на затылке простым шнурком, открывают широкий лоб. Было еще достаточно светло, чтобы она заметила, как сверкнули его прекрасные белые зубы, когда он ей улыбнулся.
Приблизившись к девушке, он взял ее за руку, и Лоренца не отняла своей руки.
– Вы не должны меня бояться. Я не желаю вам зла, совсем напротив!
– Так чего же вы хотите?
– Смотреть на вас – вы так красивы! И еще, если вы согласитесь, я хочу, чтобы вы стали моей женой!
Лоренца внезапно отдернула руку, словно только сейчас осознала, как неприлично то, что к ней прикасается незнакомец, и отвернулась от него.
– Нет! Нет, это невозможно! Я обещала посвятить себя богу! Я скоро уйду в монастырь!
– Я знаю. Но вы не станете монахиней! Это было бы слишком обидно! Вы станете моей женой, Лоренца.
– Никогда! Я даже не знаю, кто вы такой.
– В Риме меня называют Жозефом Бальзамо, я состою на службе у кардинала Орсини!
Продолжая говорить, Бальзамо протянул руку и, взяв девушку за подбородок, ласково заставлял повернуть голову, посмотреть на него. И снова Лоренца оказалась в плену его странного взгляда. Она почувствовала, что ее воля слабеет, и вместе с тем ей вдруг захотелось спать. Словно сквозь сон, до нее донеслись слова:
– Вы ведь станете моей женой, правда?
– Да… я стану вашей женой.
Лоренца Феличиани происходила не из знатной семьи. Она была дочерью плавильщика золота и действительно собиралась постричься в монахини. Лоренца, от природы склонная верить во всевозможные чудеса, набожная и суеверная, с детства привыкла рассматривать Землю как богом проклятое место, а Рим, за исключением Церкви, папского окружения и святой инквизиции, – как преддверие ада. Она считала, что для чистой души существует лишь одно убежище, что от мерзостей этого мира могут уберечь лишь крепкие и глухие монастырские стены.
И все же так сильна была странная власть, которую приобрел над ней Бальзамо, что Лоренца слепо и не рассуждая согласилась выйти за него замуж, даже не сказав об этом родителям.
– Мы покинем Рим сразу после совершения обряда, – заявил ее странный жених. – Кардинал Орсини дал мне поручение. Мы едем в Венецию.
Лоренца без колебаний согласилась. В самом деле, как ей объявить своим родным, что, вместо того чтобы присоединиться к доминиканкам в Сан-Систо, она собирается выйти замуж за человека, с которым всего-навсего встретилась у входа в церковь и о котором почти ничего не знала. Он, конечно, сказал ей, что родился в Палермо и всю свою юность провел в монастыре, где изучил медицину и химию. Но о своей семье, о своих родителях он хранил почти полное молчание. Об этом было сказано всего несколько слов:
– Моя мать была красивой и несчастной женщиной; а что касается моего отца, он занимает такое высокое положение, что не может, не лишившись его, признать меня своим сыном. Мой дом, Лоренца, – большие дороги, и другого дома у меня сейчас нет… Вам придется пойти за мной туда, куда я поведу вас.
Больше ей ничего не удалось из него вытянуть, но он приобрел над ней такую власть, что ей даже в голову не пришло еще о чем-нибудь спросить.
– Я пойду за вами… – только и ответила она.
На самом деле постепенно, по мере того как истекали две недели – отпущенный им срок до того дня, на который он назначил их свадьбу, – мысли Лоренцы менялись. Она понемногу привязалась к этому странному молодому человеку, к его мягкому и властному голосу. Ему достаточно было посмотреть ей в глаза своими мерцающими зрачками, чтобы у нее исчезли все желания, кроме одного: непреодолимого желания оставаться рядом с ним, слушать его голос, смотреть на него и растворяться в нем. Он так хорошо говорил, что любит ее!
Апрельским вечером 1769 года старик священник из Сан-Сальваторе, с которым жених, похоже, был хорошо знаком, соединил жизни Жозефа Бальзамо и Лоренцы Феличиани в присутствии двоих свидетелей, представленных как служащие кардинала Орсини и бесследно пропавших, едва обряд был совершен.
– Теперь ты стала моей женой, – серьезно проговорил Бальзамо у церковных дверей. – Никогда не забывай, Лоренца, что принадлежишь мне телом и душой и что отныне у тебя не должно быть другой воли, кроме моей. Что бы ты ни увидела, ты никогда не должна расспрашивать меня о моих занятиях. Кроме того, ты никогда и никому не должна ничего рассказывать, как бы тебя к этому ни вынуждали, о том, что я буду делать у тебя на глазах.
– Я все исполню! – безропотно пообещала молодая жена.
– Поклянись!
– Клянусь…
– Ну а я, со своей стороны, клянусь, что сделаю все на свете, лишь бы ты была счастлива. А теперь идем!
Через несколько минут почтовая карета уже стремительно уносила новобрачных в Венецию. Едва они покинули город, как ворота Рима были заперты на ночь у них за спиной.
В Венеции Лоренца Бальзамо узнала любовь в объятиях мужа. Но узнала она и множество других, и очень странных, вещей. Иногда Жозеф с наступлением вечера вел ее в какое-нибудь патрицианское жилище, где чрезвычайно торжественно представлял ее особам, чьих имен ей никогда не удавалось удержать в памяти. Затем он сажал ее на табурет посреди комнаты, в которой они находились, и, положив руку ей на голову, приказывал спать.
Очнувшись от этого удивительного сна, Лоренца ничего не помнила, кроме вереницы фантастических видений, от которых у нее тяжелела голова. Она не решалась задавать вопросов, потому что робела перед мужем, но лишь наполовину успокоилась, когда он сказал ей:
– Бог наградил тебя бесценным даром, благодаря которому передо мной часто раскрывается будущее. Ты не должна пугаться, когда я приказываю тебе уснуть, потому что тогда ты становишься святой и драгоценнейшей из всех.
Для маленькой и довольно-таки невежественной римлянки эти слова были совершенно непонятны. Тем более что поведение Бальзамо становилось все более странным. В Венецию они прибыли вместе с неким маркизом д'Альятой, сицилийским дворянином, состоявшим на службе у прусского короля. У Жозефа были с этим маркизом какие-то дела, связанные с поручением кардинала Орсини. Но едва они приехали, так называемый д'Альята внезапно испарился, прихватив с собой не только все деньги четы Бальзамо, но и письма, которые кардинал Орсини вручил своему посланцу. При помощи этих писем он от имени Бальзамо выманил деньги у двух или трех простаков, и однажды вечером за Жозефом и Лоренцей явились стражники, чтобы отвести их к прокуратору.
Пока смертельно испуганная Лоренца безутешно рыдала, нимало не сомневаясь в том, что над ними уже занесен топор палача, Бальзамо не менее отчаянно защищался. Он стал жертвой мошенника и ни в коей мере не был замешан в его деятельности. Жозефа выпустили, но беспросветная ярость, охватившая его, когда он обнаружил кражу, еще не исчерпала себя.
– Мы уезжаем! – сказал он испуганной жене. – Я намерен отыскать человека, который нас обокрал… Никто не сможет сказать, что какому-то мошеннику удалось меня обставить.
– Как мы можем уехать? Ведь у нас не осталось ни денег, ни документов! Нас же не выпустят за пределы Венеции…
– Это мое дело!
Он принялся за работу, и тогда Лоренца обнаружила, что ее муж был одновременно великим художником и ловким фальсификатором. Для того чтобы раздобыть немного денег, он скопировал несколько рисунков Рембрандта и без труда продал их, продолжая вместе с тем время от времени подвергать жену гипнотическому воздействию. Что касается паспортов, то он их просто-напросто подделал. Когда муж, улыбаясь, показал документы Лоренце, чтобы она полюбовалась его работой, его испуганная жена несколько раз поспешно перекрестилась.
– Ты – дьявол, Жозеф! Наверное, ты погубишь меня!
Тогда он обнял ее и жарко поцеловал.
– Я сделаю тебя счастливой, Лоренца! Богатой! Ты будешь богатой, будешь носить самые красивые платья, самые роскошные драгоценности. Мне нужно золото для тебя, много золота и самые великолепные украшения. Но прежде всего я должен отомстить.
Каким, только одному ему известным, способом Жозеф Бальзамо сумел напасть на след вора? Это так и осталось тайной целой толпы самых причудливых персонажей: лодочников, солдат, цыган или простых крестьян, встретившихся ему на пути. Достаточно было прошептать кому-нибудь из них на ухо несколько слов, чтобы получить нужные сведения, ценную наводку. По этому следу чета добралась до Милана.
– Д'Альята здесь! – сказал Жозеф. – Не пройдет и двух дней, как я разыщу его.
– Что ты собираешься делать?
Жозеф, который в эту минуту был занят тем, что закутывался в длинный черный плащ с капюшоном, делавший его почти невидимым, на мгновение замер и нахмурил брови.
– В день нашей свадьбы ты поклялась, что никогда не будешь задавать вопросов! Разве ты забыла свою клятву?
– Нет… но мне страшно, Жозеф! Не знаю почему, но я ужасно боюсь.
– Бояться тебе нечего. Если кому и есть чего бояться, то только человеку, который меня обокрал и тем самым лишил возможности вернуться к кардиналу Орсини. Он провалил мою миссию. Он почти обесчестил меня. Я хочу ему отомстить.
Через двое суток Жозеф вернулся поздней ночью на жалкий постоялый двор, где они поселились, – неподалеку от рвов замка Сфорца. Он нес под мышкой довольно большой сверток и казался совершенно счастливым.
– Мы уезжаем! – весело сообщил он.
– И куда же мы едем? – не удержалась от вопроса Лоренца, но на этот раз муж не рассердился на нее за «нарушение клятвы».
– В Испанию. Теперь мы будем путешествовать как паломники – барон и баронесса Бальзамо, направляющиеся в Сантьяго-де-Компостелла.
– Как паломники? Но почему?
– Потому что паломники в пути пользуются благотворительностью, и потому что мы больше не можем здесь оставаться. На рассвете полиция погонится за нами. – Продолжая говорить, он вытянул из висевших у него на боку ножен длинную шпагу, и Лоренца с ужасом разглядела на ней следы крови. – Д'Альята мертв! – прибавил Бальзамо. – Я отомщен, но мы вынуждены бежать. Оденься: в этом свертке платье паломников для тебя и для меня. Мы должны выехать за ворота Милана, как только они откроются.
Ему не пришлось больше ничего ей объяснять. Вид крови слишком испугал Лоренцу, чтобы ей пришло в голову возражать. Она осмелилась только спросить:
– Почему в Испанию?
– Потому что ловкий человек с легкостью раздобудет там золото и даже драгоценные камни, без которых нет богатства и невозможно могущество. Именно за этим мы и отправляемся в Испанию, Лоренца!
Золото! Драгоценные камни! Лоренце уже довелось узнать, какое странное очарование они таили в себе для ее мужа, как непреодолимо влекло его к ним. Он, в любых других обстоятельствах всецело владевший собой, почти полностью терял самообладание при виде мешочка с золотом или сверкающего камня. Она услышала его шепот:
– Самые красивые камни! Прекраснейшие алмазы! Когда-нибудь… да, когда-нибудь я завладею ими, и они подарят мне власть.
Несколько недель спустя, январским вечером 1770 года, двое паломников постучались у дверей гостиницы «Доброго короля Рене» в Экс-ан-Провансе. Их расшитые ракушками плащи были покрыты пылью, и ничего в их внешнем виде не говорило о богатстве, так что трактирщик на мгновение даже усомнился, стоит ли их впускать. Но один из паломников оказался женщиной, молодой и прелестной, хрупкой, белокурой, с тонким лицом и благородной осанкой. Женщина выглядела такой усталой, что почтенный хозяин сразу перестал раздумывать. Впрочем, и ее спутник, мужчина с глубокими черными глазами, уже презрительно успокаивал его:
– Тебе, трактирщик, нечего беспокоиться насчет платы. Мы паломники, но никоим образом не нищие побирушки. Приготовь самую лучшую комнату, какая только у тебя есть, для барона и баронессы Бальзамо, направляющихся в Компостеллу в Галиции.
Пристыженный и успокоенный, хозяин бросился исполнять распоряжение. Заискивая и расшаркиваясь, он подвел гостей к столу у очага. Над огнем уже поджаривался на вертеле целый барашек, от него приятно тянуло укропом и розмарином.
– Минуточку, всего только одну минуточку! Комната сейчас же будет готова. Пусть госпожа баронесса ненадолго присядет. У нее такой усталый вид…
Похоже, элегантный путешественник, куривший свою трубку, попивая розовое вино в нескольких шагах от них, полностью разделял это мнение. Его взгляд не отрывался от хорошенького, но утомленного, осунувшегося и побледневшего личика Лоренцы. Дорога от Милана оказалась долгой и трудной, несмотря на милосердную помощь нескольких путников, растроганных юностью и измученным видом молодой женщины. Этому человеку было примерно лет сорок пять, он был высокого роста, хорошо сложен, одет в изысканный костюм всадника, сшитый из серого бархата и отделанный серебряным галуном. Особенно привлекало к себе лицо постояльца гостиницы, казавшееся особенно смуглым под напудренным париком: большой дерзкий нос, полные, резко очерченные и очень яркие губы, ослепительные зубы и живые, веселые черные глаза. Когда Жозеф пришел за Лоренцей, чтобы отвести ее в спальню, незнакомец, приподнявшись со своего места, отвесил молодой женщине глубокий поклон, на который она, краснея, ответила, а когда она стала подниматься по лестнице, он не отрывал от нее взгляда до тех пор, пока она не скрылась из виду.
Едва дверь за ними затворилась, Бальзамо дал волю своей радости.
– Ну, на этот раз нам, кажется, не придется долго думать, как расплатиться с трактирщиком, – говорил он, с довольным видом потирая руки, – ты с первого раза попала в яблочко.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Что тобой очень сильно интересуется человек, который сидит внизу, и что достаточно твоей улыбки, чтобы превратить его в раба, готового заплатить за нас!
Лоренца поежилась и, отстранившись от мужа, придвинулась к весело пылавшему в камине огню. Помолчала, протянув к нему закоченевшие руки.
– Нет! – наконец решилась прошептать она. – Нет, Жозеф! Только не сегодня вечером! Не проси у меня этого. Я больше не хочу!
В самом деле, с тех самых пор, как они выехали из Милана, Бальзамо без зазрения совести обращал в деньги жалость встречавшихся им дорожных спутников. Красота Лоренцы привлекала внимание, бедственное положение трогало, и не раз случалось так, что гостиничные счета семьи Бальзамо оплачивали любезные незнакомцы, уверенные в том, что улыбки молодой женщины таят в себе обещание приключения. До сих пор Лоренца, покоряясь воле мужа, соглашалась играть в опасную игру. Сегодня вечером она отказалась продолжать; возможно, из-за того, что на этот раз мужчина оказался привлекательным и понравился ей.
Бальзамо потихоньку приблизился к жене и, положив руки ей на плечи, переспросил:
– Так ты не хочешь?
– Нет!
Он резким и грубым движением заставил ее повернуться, обхватил ее голову жесткими, словно стальными, пальцами и принудил взглянуть на него.
– Но я хочу этого, Лоренца! А ты сделаешь то, что я тебе прикажу… Так вот, слушай… Ты будешь мила с этим человеком, и даже очень мила! И ты будешь мне повиноваться! Ты поняла меня? Я так хочу!
Ресницы Лоренцы затрепетали, зрачки расширились, как у зачарованной птицы. И, снова побежденная, она прошептала:
– Да, Жозеф, я сделаю так, как ты хочешь.
Бальзамо какое-то время оставался неподвижным, не отводя взгляда от глаз жены. Потом быстрым и нежным жестом прикоснулся к ее векам, заставляя их опуститься.
– Отдохни немного, твоя усталость пройдет.
Лоренца послушно опустилась в кресло. Она уже спала.
Утро следующего дня застало чету Бальзамо едущей верхом в обществе нового друга среди выжженных провансальских холмов, кое-где утыканных черными кипарисами и серебристыми оливами. Все складывалось так, как предсказал Жозеф. Незнакомец, покоренный красотой Лоренцы, полностью предоставил себя в их распоряжение и, поскольку сам он, по его словам, направлялся в Испанию, предложил им дальше ехать вместе. Он даже купил своим новым друзьям двух коней.
Этот любезный человек тоже оказался итальянцем, венецианцем по имени Джакомо Казанова де Сенгальт, шевалье, и он явно был большим любителем женщин. Но Казанова не только любил женщин, он еще и умел их обольщать, и вскоре Лоренца осознала, насколько опасно его обаяние. Он настойчиво ухаживал за ней, почти не таясь от мужа, и при малейшей возможности старался заговорить с ней.
Однажды вечером, когда до испанской границы было уже недалеко и они перед ужином прогуливались вдвоем в саду, окружавшем гостиницу, Казанова осмелился предложить Лоренце похитить ее.
– Вскоре мы доберемся до Барселоны, где у меня есть друзья. Там я смогу вырвать вас из рук мужа. Его нетрудно будет арестовать под каким-нибудь туманным предлогом, всего на несколько дней, но это даст нам время скрыться. Потом его выпустят с множеством извинений, но мы будем уже далеко. Со мной вы будете свободны и счастливы… Вы не созданы для этого человека, он внушает вам страх!
– Это правда, он внушает мне страх! Такой страх, что уже не знаю, люблю ли я его или только боюсь… Помогите мне! Вы же были ко мне так добры, я вам верю…
Она внезапно умолкла. Бальзамо, показавшийся из-за рощицы лавров, медленным шагом направлялся к ним, вдыхая аромат только что сорванного цветка.
– Какой чудесный вечер! – заметил он с самой простодушной улыбкой. – Мы могли бы провести здесь всю ночь, но, я думаю, пора возвращаться, потому что ужин уже готов.
Несколько дней спустя, как только они прибыли в Барселону, шевалье Казанова де Сенгальт неожиданно был арестован по приказу вице-короля и святейшей инквизиции за нечестивые предложения и побуждение к разврату. Но у него были большие связи, он без всякого труда избавился от этого грозного обвинения и отделался тем, что его под стражей проводили до границы.
А устрашенная Лоренца более чем когда-либо подпала под власть своего мужа.
2. Топазы португальца
Праздник был в самом разгаре, залы особняка Пикоас, одного из стариннейших и красивейших зданий Лиссабона, а главное, устоявшего во время землетрясения 1755 года, были полны гостей. Здесь собрались лучшие представители общества, разодетые в пестрые камзолы и роскошные платья из затканного золотом атласа или золотой и серебряной парчи индийской выделки, но сшитые по последней парижской моде. И женщины, и, может быть даже в большей степени, мужчины представляли собой настоящую выставку драгоценностей и сгибались под тяжестью разноцветных камней, украшавших одежду, опутывавших шеи и запястья, сверкавших в волосах, на орденах и на ручках вееров. Здесь были очень красивые женщины, но ни одна из них не могла сравниться с графиней ди Стефано, знатной итальянкой, которой все восхищались. Муж графини был человеком весьма искушенным в оккультных науках, и весь город сбегался в его кабинет на Дворцовой площади.
Графиня была далеко не так щедро увешана драгоценностями, как прочие женщины, но ее платье из перламутрового атласа, сплошь отделанное бледными розами и серебряными завитками, волны кружев, пенившиеся у локтей и на груди, искусно уложенные и напудренные волосы с вплетенными в них розами, все, вплоть до большого веера из белых кружев и узкой полоски рюша, обвивавшей стройную шею, носило на себе отпечаток безупречного вкуса. Ее неподражаемая грация становилась еще изысканнее от присутствия рядом таинственного мужа, с ног до головы затянутого в расшитый золотыми узорами черный бархат.
Они шли через ярко освещенные залы, и мужчины, прислонившись к мавританским колоннам патио, где среди лимонных деревьев журчал фонтан, смотрели им вслед. Один из них, самый высокий, непринужденно носивший свой роскошный наряд из пурпурного бархата, усыпанного бриллиантами, наклонился к соседу:
– В последнее время много говорят об этом графе ди Стефано, который появился здесь два месяца тому назад. Он взбудоражил весь город своими предсказаниями будущего, и поговаривают, будто он занимается магией. Но известно ли на самом деле, кто он такой и откуда прибыл?
– Он называет себя внебрачным сыном Великого Магистра Мальтийского ордена Пинто да Фонсека, а его жена вроде бы принадлежит к одному знатному римскому роду. Но я во всем этом совершенно не уверен. Он прибыл из Испании, точнее – из Компостеллы; вот и все имеющиеся у меня официальные сведения. Говорят, что его жена очень набожна.
– В любом случае, она очень хороша собой. Но меня удивляет, мой дорогой Манике, как мало вам известно, вам – нашему управляющему полицией… Вы ведь не открыли мне ничего, что не было бы уже известно всем и каждому!.. Чего вы ждете, почему не стараетесь разузнать о нем поподробнее?
Пина Манике пожал плечами, и по его худому лицу с резкими, суровыми чертами, словно легкое облачко, скользнула улыбка.
– Пока они только забавляют людей своей так называемой магией, торопиться некуда! Но если я охотно присоединяюсь к вашему мнению насчет красоты графини, то физиономия ее мужа, не стану скрывать, мне совершенно не нравится. Я чувствую, что в нем есть нечто нечистое… а может быть, и опасное.
– До чего мы дойдем, если у полицейских станут появляться предчувствия? – со смехом заметил высокий щеголь, затем прибавил: – В любом случае, я разочарован: я думал, что вы с ними знакомы, и собирался попросить вас меня представить.
– Вы неисправимы! – вздохнул Манике. – Рано или поздно вы нарветесь на неприятности из-за того, что не можете устоять перед хорошеньким личиком, а ваше богатство и так слишком привлекает женщин!
– Если я правильно вас понял, меня можно любить только за мои деньги? Очень любезно с вашей стороны, благодарю вас!
– Не глупите, Круз-Собраль! Когда достигаешь определенного возраста, рассчитывать на что-либо другое было бы весьма самонадеянно. Но если вам так уж хочется завязать отношения с этими людьми, обратитесь лучше к хозяйке дома. Инес де Пикоас с ума сходит по этому итальянцу и будет донельзя рада возможности толкнуть его жену в ваши объятия. Только потом не жалуйтесь, если с вами приключится какая-нибудь неприятная история.
Жозе-Ансельмо де Круз-Собраль презрительно улыбнулся, с фатоватым видом похлопал по своему жабо и удалился в том направлении, где скрылись прекрасная Лоренца и ее муж. Разодетый в пух и прах щеголь был одним из самых богатых людей во всей Португалии, судовладельцем, чьи корабли постоянно бороздили моря. Кроме судов, у него было множество поместий и сказочная, ставшая почти легендарной коллекция драгоценных камней. Больше всего разговоров ходило о его топазах, огромных камнях, прибывших из Бразилии, где у него был рудник.
Все это обеспечивало ему постоянный успех у женщин, которого, не будь он окружен этим ореолом Креза, он никоим образом не мог бы приобрести на шестом десятке, со своей румяной физиономией и наметившимся брюшком. Но сейчас переменчивый судовладелец остановил свой выбор на прекрасной итальянке.
Ему не пришлось долго ее разыскивать, и, поскольку молодая женщина в это время была занята разговором с мужем и госпожой де Пикоас, Круз-Собраль без труда добился того, чтобы его представили. Еще легче ему оказалось получить приглашение к ди Стефано, потому что сумрачный граф, казалось, внезапно оттаял при виде судовладельца и был с ним любезен, учтив, обворожителен… А графиня при ближайшем рассмотрении оказалась еще прекраснее! Круз-Собраль, ослепленный и опьяненный, пообещал завтра же явиться на Дворцовую площадь и навестить новых друзей.
Но едва «знатные итальянцы» вернулись с бала домой, между ними произошла бурная сцена. Лоренца, не выбирая выражений, осыпала мужа упреками за то, что он пригласил Круз-Собраля.
– Я не желаю видеть здесь этого толстяка, понятно тебе? Я его не приму…
Бальзамо, на которого все это не произвело ровно никакого впечатления, невозмутимо продолжал отстегивать жабо из английских кружев.
– А знаешь ли ты, что этот человек обладает самой фантастической коллекцией топазов во всей Европе? Даже у Екатерины Великой нет камней, равных им! Так почему же ты не хочешь его принимать?
– Думаешь, я не заметила, как он на меня смотрел? Ты можешь поклясться в том, что не рассчитываешь на меня, чтобы завлечь его сюда?
– Конечно, нет! Твоя красота – лучший из наших документов. И почему, собственно, нам его не пригласить? Чего я у тебя прошу? Быть милой и любезной, и притом недолго, с богатейшим судовладельцем.
– Точно так же, как мне пришлось быть милой и любезной с вице-королем Барселоны, который велел нас выслать, потому что я не хотела ему уступить. А в Мадриде? Ты помнишь, какого рода любезностей требовал от меня герцог Альба? Ему до того не терпелось от тебя избавиться, что нам пришлось бежать за границу, пока он не выдал тебя инквизиции!..
– Знаю! Тогда нам не повезло, но здесь ничего подобного опасаться не приходится, и Лиссабон – крупнейший в Европе рынок драгоценных камней. Ты должна мне помочь. Потом мы поедем в Лондон, оттуда – в Париж… Но сейчас мне надо заполучить хоть несколько топазов из коллекции этого португальца. А тебе ничего трудного делать не придется – всего-то обольстить его!
Гнев Лоренцы внезапно утих. Она упала на свою постель и залилась слезами.
– Пожалей меня! Не заставляй меня больше делать такие вещи! Этот толстяк мне отвратителен! Мне противно представить себе, что он притронется к моей руке…
Жозеф опустился на колени рядом с женой и обнял ее за плечи.
– Успокойся! До этого дело еще не дошло, – мягко сказал он. – Ты достаточно искусна, чтобы не зайти слишком далеко, но чтобы он все же оказался у твоих ног. Надо всего-навсего довести его до того, чтобы он ослеп, оглох, обезумел. И ты прекрасно знаешь, что я люблю тебя.
– О, ты… и твоя любовь! – с горечью произнесла она. – Если бы ты любил меня, ты бы ревновал!
– Я так не думаю! Ревность – болезнь дураков! А я готов принять любой упрек, только не упрек в глупости!..
Дон Жозе-Ансельмо, разумеется, поспешил воспользоваться полученным приглашением. На следующий же день он, как условились, явился к ди Стефано. Лоренца приняла его любезно, а Жозеф повел его в свою алхимическую лабораторию и показал ему свои оккультные книги, свои горелки и реторты. А их было немало, потому что с тех пор, как Бальзамо поселился в Лиссабоне, он с непритворной страстью отдался великому поиску своей жизни: он искал способ превращать металлы в золото и делать самому те драгоценные камни, которые так его завораживали. И он настолько увлекался этими работами, что очень часто ему случалось целую ночь провести вдали от спальни Лоренцы.
Круз-Собраль, счастливый оттого, что его так обласкали, приходил снова и снова, неукоснительно предваряя свое появление цветами, редкими фруктами или другими мелкими подарками. Каждый раз, как один из его кораблей подходил к причалам Лиссабона, он присылал шелка, пряности, статуэтки из слоновой кости и нефрита, прислал даже великолепного бразильского попугая, лазурного, словно летнее небо.
Он ухаживал за Лоренцей довольно робко и настолько скромно, что молодая женщина уже начала было успокаиваться на его счет, когда дон Жозе, внезапно набравшись храбрости, пригласил ее во второй половине дня посетить его роскошное загородное поместье на берегу Тахо, стоявшее выше по течению, чем Лиссабон.
К Лоренце немедленно вернулись все ее страхи. Она хотела уклониться от поездки, но Круз-Собраль настаивал:
– У меня там хранится моя коллекция камней. Мне так хотелось бы показать ее вам! Не может женщина не любить красивые камни. А таких, как у меня, вы больше нигде не найдете.
– Она обожает камни! – заверил его Жозеф. – Мы будем счастливы посетить ваш дом, – продолжал он, лучезарно улыбаясь и словно бы не замечая, как поморщился Круз-Собраль при известии, что муж будет их сопровождать. Судовладелец так надеялся, что прекрасная графиня приедет одна! Но он быстро утешился, решив, что, после того как протокол будет соблюден, ему, может быть, удастся впоследствии залучить к себе обольстительницу без «дуэньи»…
В конце концов этот визит для Жозефа оказался полным очарования, а для Лоренцы стал не такой уж пыткой, как она ожидала. Круз-Собраль, в чьи намерения явно не входило ее спугнуть, был, несмотря на рассеянность графа ди Стефано, не раз оставлявшего их одних, всего лишь галантным, нежным, услужливым – и не более того. Его дом, просторное жилище, выстроенное в стиле мануэлино,[10] возвышался над уступами террас, где в изобилии были посажены розовые кусты, апельсиновые деревья и гигантские папоротники. Идя вслед за хозяином дома по благоухающим лабиринтам сада, за которым текли воды Тахо, Лоренца с тоской думала о том, как хорошо было бы жить среди такой красоты с Жозефом, ставшим обычным человеком, как все другие. Но Жозефа здесь интересовали одни лишь топазы.
Они и впрямь стоили целого царства. Камни, заполнявшие множество витрин, сияли золотистым великолепием на темном бархате подушек. Ни Жозефу, ни Лоренце никогда еще не доводилось видеть так много камней, и таких прекрасных. Глаза Лоренцы, хотя сама она об этом и не подозревала, загорелись при виде стольких чудес, и Круз-Собраль улыбнулся:
– Это моя коллекция, составленная из редких камней, но у меня есть еще множество других. Вот, смотрите…
Бросив быстрый взгляд на Жозефа, который, совершенно завороженный, застыл перед главной витриной, судовладелец раскрыл резную деревянную шкатулку, стоявшую у окна, и показал Лоренце тесно уложенные футляры, соседствовавшие с россыпью драгоценных камней, вспыхнувших пожаром в солнечных лучах. Открыв один из футляров, Круз-Собраль достал из него великолепное ожерелье и ловким движением замкнул его на шее молодой женщины.
– В память о вашем посещении! – шепнул он ей в самое ухо, так, что ее обожгло его участившееся дыхание. – И в надежде, что вы скоро, очень скоро придете снова, – еще тише прибавил он. Португалец не спешил отнять свои толстые пальцы от белой шеи Лоренцы, и та, поежившись, хотела отстраниться, но он ее удержал: – Мне так хотелось бы подарить вам все, что здесь есть… Если бы вы захотели…
– Но я не хочу. Что скажет мой муж? – мягким, грациозным движением высвобождаясь из его рук, произнесла Лоренца.
– О, милое дитя, что муж – мужа можно бросить, можно обмануть! Но я не хочу пугать вас. Пообещайте только, что вернетесь сюда без него, хоть один разочек.
– Если смогу… Я постараюсь! – ответила она, так нервно обмахиваясь веером, что Круз-Собраль приписал смущению то, что на самом деле было вызвано лишь досадой. Он удовольствовался этим полуобещанием, но Жозеф, когда они вернулись домой, пришел в восторг при виде ожерелья.
– Хорошее начало, – сказал он. – Надеюсь, за ним последует продолжение!
В самом деле, поскольку в следующие несколько дней опечаленная Лоренца, сказавшись больной, не выходила из дому, Круз-Собраль являлся каждый день и, стараясь уговорить молодую женщину снова полюбоваться его коллекцией, всякий раз приносил ей все новые камни, которые отправлялись в шкатулку, куда Жозеф уже упрятал ожерелье.
Установилась тяжелая жара португальского лета, и здоровье Лоренцы в самом деле пошатнулось, отчего она лишь сильнее подпала под роковую гипнотическую власть мужа. Вскоре дошло до того, что всякий раз, как ему этого хотелось, она становилась в его руках мягкой, податливой глиной, из которой он мог вылепить все, что ему заблагорассудится.
Когда он приказал ей объявить Круз-Собралю, что вскоре она одна придет к нему в его топазовые владения, Лоренца в ответ лишь слабо простонала:
– Ты требуешь, чтобы я уступила этому толстяку? Ты, Жозеф?.. Неужели такое возможно?
– Ничего подобного я у тебя не прошу. Я прошу тебя отправиться к нему и затянуть свой визит настолько, чтобы я успел сделать то, что решил сделать.
С холодным цинизмом он изложил ей свой план. Ему мало было тех камней, которые принесла ей любовь португальца: он хотел получить большую коллекцию. Пока Лоренца будет, лучше бы среди благоухающих зарослей сада, занимать Круз-Собраля, он при помощи сообщника, сицилийца, которого пристроил к португальцу лакеем, проникнет в дом и завладеет топазами. После этого им останется только в ту же ночь подняться на борт предусмотрительно зафрахтованной стремительной фелуки и направиться к другим берегам.
На этот раз Лоренца, несмотря на полную свою порабощенность, пришла в ужас: речь шла о краже, которая могла привести их на виселицу или на галеры. Но Жозеф даже слушать не стал ее возражений. Выбрав вечер, когда Лоренца должна была отправиться к португальцу, он стал подыскивать фелуку и занялся добыванием паспортов на прежнюю фамилию, Бальзамо.
К счастью, за два дня до назначенного срока, когда Лоренца уже всерьез собиралась броситься в Тахо, Бальзамо внезапно ворвался в комнату, где она сидела, погруженная в печальные размышления.
– Все пропало! – закричал он. – У тебя есть час на то, чтобы собраться. Мы покидаем Лиссабон с отливом.
Еще не договорив, он метнулся к туалетному столику жены, сгреб в кучу все ее драгоценности и принялся сбрасывать их в большую сумку, которую держал наготове.
– Ну, поторопись же!
– Объясни мне по крайней мере, что происходит?
– Этого дурака, лакея Сальваторе, сегодня ночью закололи кинжалом. Перед смертью он успел поговорить и, думая, что нападение было подстроено мной, донес на меня. Один из моих друзей, служащий в полицейском управлении, только что предупредил меня о том, что в полдень меня должны арестовать. Но к полудню мы будем уже далеко.
– Почему он решил, что это ты все подстроил?
– Вчера вечером мы поспорили. Он хотел, чтобы я увеличил причитающуюся ему долю добычи.
Наступило молчание. Лоренца широко раскрытыми глазами вглядывалась в бесстрастное лицо мужа, стараясь прочесть на нем правду. Действительно ли он, как говорил, был неповинен в этом убийстве? Но она уже давно усвоила, что в подобных случаях бесполезно задавать ему вопросы. И только спросила бесцветным голосом:
– И куда же мы теперь поедем?
– В Лондон! Там никто нас не знает…
Часом позже красный парус фелуки надулся, и быстрое суденышко полетело по водам Тахо к великому океану. Лоренца была спасена, топазы португальца – тоже!..
К тому моменту, как Лоренца и Бальзамо добрались до Лондона, у них не осталось ни гроша. Контрабандисты, согласившиеся на своем корабле переправить путешественников к берегам Темзы, обобрали их дочиста.
Они до того обнищали, что вынуждены были поселиться в жалком трактире на отвратительной Кент-стрит: жилье поприличнее было им не по средствам. В довершение ко всему лондонские туманы, пропитанные дымом и угольной пылью, подточили здоровье Бальзамо. Он заболел и лежал, прикованный к постели жестоким бронхитом, а Лоренца отправлялась просить милостыню на лондонских улицах, скверно вымощенных наполовину тонувшей в слякоти галькой. Кое-где в самых топких местах на дороги набрасывали хворост, чтобы кареты не увязали в грязи.
Но каким бы жалким ни было жилье, все-таки за него надо было платить, и потому чаще всего весь обед семьи состоял из яблока или жидкой маисовой каши.
– Подумать только, – вздыхал Жозеф, который, словно по волшебству, вдруг снова сделался заботливым мужем, – я пообещал тебе все земные сокровища! Какая же это ничтожная страна, где двух высокородных иностранцев оставляют умирать с голоду…
– В нашей стране нищеты тоже довольно, но там есть солнце, и у людей горячие сердца, – вздыхала в ответ Лоренца.
Да, сердца англичан, похоже, были жестче камня. Бальзамо не мог больше платить трактирщику, и тот, несмотря на болезнь постояльца, добился того, чтобы его бросили в гнусную тюрьму на Флит-стрит, куда сажали несостоятельных должников, а Лоренца очутилась на улице. Хозяин, разумеется, предложил ей другой способ расплатиться с ним, но она с ужасом и отвращением отказалась. Это обернулось для нее удачей.
Когда она в очередной раз побиралась у дверей собора Святого Павла, ее красота и аристократическое изящество фигуры, заметное и в жалких лохмотьях, привлекли внимание богатого и знатного старика. Сэр Ричард Диэлс был неплохим человеком, а кроме того, эстетом и коллекционером, собиравшим произведения искусства. Он не мог остаться равнодушным при виде этой юной несчастной женщины, такой красивой, такой благовоспитанной и такой изысканной. Когда он ласково заговорил с ней, Лоренца, поддавшись своему итальянскому темпераменту, не выдержала и доверчиво рассказала ему о невзгодах, постигших ее и ее мужа.
– Если ваш супруг похож на вас, мы вытащим его из тюрьмы. Люди, подобные вам, не созданы для того, чтобы бродить по улицам Лондона или чахнуть в темницах.
К величайшей радости Лоренцы, старик вызволил Бальзамо с Флит-стрит и, поскольку тот ему понравился, увез его вместе с женой в свой большой дом поблизости от Кентербери.
– Ваша жена рассказала мне, что у вас большие способности к рисованию. Если хотите, вы могли бы работать на меня и копировать кое-какие рисунки, которые мне отказываются продать.
Бывший лиссабонский алхимик только вздохнул. Снова браться за карандаши, когда он мечтал о том, чтобы делать золото и видеть, как под его пальцами рождаются алмазы! Но надо было на что-то жить.
– Вы очень добры, сударь… Я постараюсь исполнить ваше желание!
Дом в Кентербери показался Лоренце раем, куда она перенеслась из ада. Там царила атмосфера хорошего вкуса, роскоши, респектабельности, в которой она позабыла мрачные дни, гипнотические сеансы и всю оккультную дребедень, которой любил окружать себя ее муж. Жозеф рисовал и, казалось, начисто позабыл свои прежние, опасные честолюбивые намерения. Она чувствовала себя почти счастливой.
К несчастью, в своей тюрьме на Флит-стрит Жозеф познакомился еще с одним итальянцем, который называл себя маркизом де Навона, но на деле был не кем иным, как отъявленным плутом. И как-то в один злополучный вечер этот человек, знавший назубок все знаменитые коллекции по всей Англии, пришел в кентерберийскую таверну, где Жозеф назначил ему встречу.
Когда Бальзамо вернулся домой, щеки у него горели, глаза сверкали.
– Знаешь ли ты, – начал он, – что наша счастливая звезда привела нас к подлинному источнику богатства? – обратился он к жене.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Что этот старик, сэр Ричард, коллекционирует не только рисунки и картины… но еще и драгоценные камни!
– Что?
Кровь постепенно начала отливать от прекрасного лица Лоренцы. К ней возвращался страх, тот давний, всепоглощающий страх, который она, как ей казалось, навсегда оставила в трактире на Кент-стрит. Но она не посмела ни о чем его спрашивать. Впрочем, Жозеф и не стал бы ее слушать, он уже продолжал говорить, с пылающими глазами, захваченный своей страстью.
– У него есть рубины… великолепные рубины! Сказочные камни, каких нет и у самого короля!
Лоренца вскрикнула и упала перед мужем на колени.
– Нет, Жозеф! Нет! Ты не можешь так поступить. Я умоляю тебя – оставь эти мысли.
– Да почему же? Подумай сама: с этими рубинами мы могли бы двинуться дальше, добраться до Парижа, где ловкий человек никогда не будет голодать.
– А ты подумай о том, что сэр Ричард избавил нас от нищеты и, может быть, спас от смерти! И в благодарность за это ты собираешься его обокрасть! Ты посмеешь это сделать?
– Я уже сказал тебе, что хочу добиться успеха. Меня ждет мое дело, мое Великое Творение. Мне нужна лаборатория, нужны металлы, реторты, горелки! Что значит уважение одного человека рядом с теми чудесами, которые мне предстоит совершить?!
Он не смотрел на Лоренцу. Его широко распахнутые глаза, казалось, прозревали будущее, видели торжество золота и драгоценных камней. Лоренца поняла, что ее муж совершенно утратил способность здраво рассуждать.
– Если ты это сделаешь, – прошептала она, – я оставлю тебя! Я от тебя убегу.
– Не болтай глупостей! Что бы ты делала без меня?
Но на следующее утро, когда солнце взошло над полями и над домом сэра Ричарда Диэлса, оказалось, что Лоренца Бальзамо исчезла…
3. Властелин тайн
Матрос убрал парус, и маленькое суденышко замерло у причала. Бальзамо поспешно сунул в руку моряку немного денег и спрыгнул на берег. Пронзительный декабрьский ветер трепал его просторный черный плащ. Холод пощипывал кожу. И все же путешественник утер пот со лба. Переход от Дувра оказался тяжелым. Сотню раз Бальзамо уже думал, что пришел его последний час. Конечно, когда-то ему пришлось немало поплавать по морю, но по Средиземному, а это лазурнейшее из морей ничем не походило на серый и злобный Ла-Манш, где под низким небом набухали огромные волны и за предательскими туманами скрывались страшные рифы.
Земля Кале показалась ему упоительно твердой и надежной. От самого Кентербери и до французского берега он не переставал идти по следу сбежавшей жены. В Дувр он прибыл как раз вовремя для того, чтобы увидеть удаляющуюся корму судна, совершавшего регулярные рейсы через пролив, и услышать, что «синьора Лоренца Феличиани была на борту». Тогда он зафрахтовал корабль и пустился в погоню за женой, истратив на это немалую часть своих сбережений. Раз она выбрала Францию, значит, решила ехать в Париж. В Париж, откуда отправлялись почтовые кареты, которые могли отвезти ее в Италию. Но пока что надо было собирать сведения.
Его внимание привлек красноватый свет в окнах кабака, он заметил вывеску, с противным скрежетом качавшуюся под ветром. Здесь он может рассчитывать, что не только получит столь необходимую ему информацию, но наверняка найдет по крайней мере миску горячего супа и кувшин вина, чтобы подкрепиться. Сгибаясь под порывами ветра, он направился к кабаку.
Хозяин «Приюта рыбака» выглядел сонным и недовольным, но от звона золотых монет проснулся и засуетился. Он мгновенно подал позднему гостю суп, принес несколько ломтиков сала и кувшинчик вина и без долгих расспросов признал, что пассажиры судов, которые ходят через пролив, часто останавливаются у него, чтобы отдохнуть после перехода. Конечно, он заметил недавно среди них молодую, белокурую, очень красивую и очень печальную женщину, которая, казалось, с большим трудом держалась на ногах.
– К счастью, мужчина, который был с ней, ни на шаг от нее не отходил. Он закутывал ее в плащ, заставлял ее есть и пить, уверял, что ее недомогание вскоре пройдет и что в его карете ей будет очень удобно и она вполне оправится.
Бальзамо нахмурился. Что это еще за мужчина? Кто бы это мог быть? Он не представлял себе; разве что на самом деле это была другая женщина, не Лоренца. Потом спросил еще:
– Эта женщина говорила по-французски?
– Так себе… Несколько слов. Она говорила с акцентом, похожим на ваш.
– Слышали ли вы, чтобы спутник называл ее по имени?
– Д-да! Я не очень хорошо расслышал… Кажется, Лаура… но я мог и ошибиться.
– Не думаю. Куда же они направились, выйдя отсюда?
– Куда, по-вашему, они могли отправиться? Конечно, на почтовую станцию. Мужчина сказал, что там его ждет карета, почтовая карета.
Бальзамо, больше ни слова не промолвив, закончил ужин, щедро расплатился, потом завернулся в плащ и, провожаемый суетливыми напутствиями трактирщика, снова вышел на набережную.
На почтовой станции он узнал все, что хотел. Дилижанс ушел в указанный час, но одновременно с ним Кале покинула лишь одна карета, принадлежавшая некоему господину Дюплесси, управляющему графа де При. Этого господина сопровождала молодая светловолосая женщина, подходившая под описание Лоренцы.
– Найдется ли у вас для меня лошадь? – спросил Бальзамо. – Я еду в Париж.
– Четыре на выбор, сударь, все в отличном состоянии.
Через несколько минут Бальзамо уже скакал галопом прочь от Кале. Ярость так жгла его, что он не чувствовал холода. Он догадывался, что Лоренца, должно быть, встретила этого Дюплесси на корабле. Красота и печальный вид юной женщины, конечно, сделали свое дело. Сколько их он уже перевидал со времени своей женитьбы, мужчин, горевших желанием защитить Лоренцу? И чаще всего – защитить от него самого!
– Но я верну ее! – процедил он сквозь стиснутые зубы. – Верну любой ценой, даже если мне придется убить этого человека. Она моя, она принадлежит мне, только мне одному!
Бальзамо без труда напал на след Лоренцы и ее похитителя. Среди сведений, добытых им на почтовой станции в Кале, одно было поистине драгоценным: Дюплесси оказался управляющим графа де При. Отыскать благородное жилище графа было несложно, а там привратник в обмен на золотую монету охотно дал адрес управляющего, который жил в небольшом домике поблизости от церкви Сен-Рош. Дальше нашему герою предстояло лишь долгое и терпеливое ожидание в зимней ночи.
Он дождался ухода управляющего, которого ему довольно точно описал водонос. Это был кругленький бодрый коротышка с красным добродушным и веселым лицом. Бальзамо проследил за тем, как он удаляется, потом смело постучался у дверей и сказал, что хочет видеть «молодую иностранную даму, которую господин Дюплесси привез из Англии». Впустившая его старая служанка долго и придирчиво его разглядывала и наконец, после того как он заверил ее, что приходится Лоренце братом, согласилась ее позвать.
Но, едва узнав мужа, молодая женщина выбежала из комнаты с таким ужасающим криком, что служанка в свою очередь тоже завопила «на помощь!», и на ее крик не только явился слуга, но сбежались и соседи. Бальзамо пришлось спасаться бегством, не то его разорвали бы на куски.
Он был вне себя от ярости, но у него все же хватило благоразумия на то, чтобы убраться подальше от этого дома, как ни хотелось ему выломать двери и силой увести Лоренцу. В эти минуты странная любовь, которую он к ней испытывал, больше всего походила на ненависть…
И, собрав всю свою выдержку, Бальзамо попытался проанализировать ситуацию. Лоренца встревожена. Она, несомненно, станет умолять Дюплесси увезти ее подальше от нынешнего убежища, может статься, он отправит ее в провинцию, в такое место, где ее будет невозможно отыскать. Надо было действовать, и действовать как можно скорее.
Бальзамо колебался недолго. Его жена заслуживала наказания за все, что ему пришлось вытерпеть по ее милости. И она получит то, что заслужила. Отбросив дальнейшие сомнения, он решительно направился к начальнику полиции.
На следующее утро Лоренца Феличиани была арестована в доме господина Дюплесси по обвинению, выдвинутому против нее ее законным супругом. Он обвинял ее в развратном сожительстве с управляющим, и Лоренцу препроводили в тюрьму Сен-Пелажи.
Это была не столько настоящая тюрьма, сколько монастырь. Там запирали девиц, добродетельность которых внушала сомнения, а также неверных жен. Заведение представляло собой нечто среднее между предназначавшейся для жен и дочерей аристократов обителью монахинь ордена святой Марии Магдалины и приютом Сальпетриер, куда запирали проституток. Лоренца тем не менее испытала подлинный ужас, когда за ней закрылась тяжелая дверь, и Бальзамо, неделей позже пришедший навестить жену, нашел ее до того измученной, что в нем проснулась жалость.
– Только от тебя зависит, выйдешь ли ты отсюда. Ты – моя жена, Лоренца, а ты об этом забыла.
– А разве ты сам не забыл о честности и порядочности, о главных законах, данных нам богом? Я ненавижу тебя, Жозеф, хотя у меня сердце разрывается оттого, что я должна это тебе сказать!
– В таком случае придется выбрать, с чем тебе легче будет справиться, – спокойно ответил ей Бальзамо, – с отвращением, которое я тебе внушаю, или с ужасом, который ты испытываешь перед этой тюрьмой…
Затем, поскольку Лоренца, не отвечая, склонила голову, он приблизился к ней и, прижавшись лицом к разделявшей их деревянной решетке, выдохнул с внезапной страстью:
– Значит, ты больше меня не любишь? Взгляни на меня, Лоренца; осмелишься ли ты, глядя мне в глаза, сказать, что разлюбила меня? Я-то теперь люблю тебя куда сильнее прежнего!
Она невесело усмехнулась:
– Ты?
– Я. Ты – моя собственность, моя вещь, самое прекрасное творение искусства. Не будь меня, ты осталась бы всего лишь холодной, безвольной и невежественной плотью, затерянной в монастыре – таком же мрачном, как эта тюрьма. Я открыл тебе, что такое жизнь, открыл, что такое любовь. Тебе наскучила любовь, Лоренца?
Вместо ответа послышался вздох, большие глаза Лоренцы медленно раскрылись, она подняла взгляд и, встретив сверкающий взгляд мужа, больше не отводила глаз.
– Я все еще люблю тебя, Жозеф, – проговорила она. – Если бы не любила, разве была бы я так несчастна? Я думала, что человек, за которым я последовала, станет для меня другом, отцом, но он хотел другого. Если бы меня не арестовали… я убежала бы. Он напоминал мне Круз-Собраля.
– Значит… ты готова снова последовать за мной?
– Забери меня отсюда, Жозеф… Клянусь, я поеду за тобой!
Часом позже двери Сен-Пелажи распахнулись перед раскаявшейся и снова беспрекословно покорившейся мужу Лоренцей.
Несколько недель они прожили в скромной гостинице, расположенной внутри прежней ограды Тампля. Хозяин этой гостиницы, некий Лазарь, был странным человеком и не походил ни на одного из трактирщиков, каких знала Лоренца. Молчаливый и бесшумно двигавшийся, он не каждого впускал в дом, но стоило Бальзамо прошептать ему на ухо несколько слов, как он тотчас сделался донельзя обходительным и даже сказал им, что они могут оставаться у него столько, сколько захотят.
Весь день Бальзамо сидел у выходившего на улицу окна и через стекло вглядывался в приходящих в гостиницу людей так, словно ждал кого-то. Молодую женщину снова охватил страх. Что еще задумал ее таинственный супруг? Он не работал, не делился с ней никакими планами, и тем не менее беспросветная нищета, которую они узнали на Кент-стрит, к ним не возвращалась… Лоренцу понемногу начала томить мучительная тревога: с пустыми ли руками ушел Жозеф из дома сэра Ричарда? Уж не обязаны ли они сегодняшним относительным благополучием краденым рубинам?
Однажды вечером она осмелилась задать мужу этот вопрос, заранее дрожа от страха при мысли о том, какую бурю ярости он вызовет. Но Бальзамо не рассердился.
– Нет, Лоренца… С алчностью и воровством, на которые толкала меня страсть к драгоценным камням, теперь покончено. Я уклонился с пути, предначертанного мне, но, благодарение богу, я вернулся на этот путь.
– Каким образом?
– Благодаря одному человеку, с которым встретился в Лондоне, когда искал тебя; впрочем, встреча была совершенно случайной. Этот человек, к несчастью, был далеко, когда мы приехали в Лондон, иначе мы не узнали бы нищеты.
– Кто он?
– Я не имею права назвать тебе его имя. Он приказал мне отправиться сюда и здесь дожидаться от него известия. Вот я и жду…
Понимая, что дальше настаивать бесполезно, Лоренца прекратила расспросы. Терпеливое ожидание Бальзамо продлилось еще два дня, до тех пор, пока не появился наконец маленький человек, одетый в черное. Они с Бальзамо не обменялись ни единым словом. Только странным знаком на пальцах. Затем человечек вручил Жозефу письмо с черной печатью, поклонился и исчез так же бесшумно, как появился. Прочитав письмо, Жозеф с улыбкой повернулся к Лоренце:
– Теперь я знаю, что получил прощение. Мы уезжаем!
– И куда же?
– На Мальту!
Действительно ли Великий Магистр Мальтийского ордена был отцом ее мужа? Этот вопрос неотступно преследовал Лоренцу изо дня в день, все время, впрочем, весьма мирно протекавшее на большом острове в Средиземном море. Она с радостью вернулась к ленивому, на итальянский лад, образу жизни в просторном, окруженном цветниками доме с выходившей к морю террасой.
И душа ее тоже вновь обрела покой и безмятежность. Разве не принадлежал этот прекрасный остров рыцарям-монахам, разве не была вся эта земля, вся целиком, посвящена богу? Тревоги, вызванные странными занятиями мужа, теперь улеглись. Гипнотические сеансы прекратились, он больше не обращался ни к магии, ни к предсказаниям. Каждый день Жозеф отправлялся во дворец Великого Магистра и там, по его словам, вместе с хозяином работал в алхимической лаборатории. Кроме того, он немного занимался медициной и начал кое-кого лечить; но, когда Лоренца попробовала расспросить его о родственных связях, якобы существовавших между ним и Великим Магистром, Жозеф в ответ лишь улыбнулся.
Так продолжалось больше года, а потом они внезапно в одну прекрасную ночь покинули белый дом – с некоторой поспешностью, но на мальтийском судне и в сопровождении шевалье д'Акино.
Они отправились в Неаполь, и там Лоренца обнаружила, что они снова поменяли имя: теперь Бальзамо и его жена стали маркизом и маркизой Пеллегрино. Но на этот раз Жозеф снизошел до того, чтобы дать кое-какие разъяснения:
– Великий Магистр дал мне поручение. Я должен найти одного человека.
– Что за человек?
– Весьма загадочный! Этому человеку известны все величайшие тайны, он обладает всем могуществом, о котором мечтает Великий Магистр Пинто. Ему известен секрет вечной молодости, он умеет делать золото, превращать один металл в другой, увеличивать и очищать драгоценные камни. Он может заглядывать в далекое будущее.
Лоренца поспешно перекрестилась – к ней вернулись ее давние страхи.
– Такая власть дана одному лишь Сатане. Кто этот человек?
– Кто может это сказать? Именно это делает мою миссию такой трудной. Во Фландрии его называли графом де Сюрмон, в Италии он – маркиз Балетти, в Венгрии – граф Зараски, в России – граф Салтыков, во Франции – граф де Сен-Жермен… Никому не известно ни кто он такой, ни откуда он взялся. Послушать его, так он знал самого Христа, жил в Риме во времена Цезарей. Некоторые считают его сыном венгерского князя, другие утверждают, будто он – незаконный отпрыск испанской королевы и некоего знатного сеньора. В чем сомневаться не приходится – это в его высоком происхождении: король Людовик XV, чрезвычайно щепетильный в вопросе о титулах, принимал его с почестями и даже предоставил в его распоряжение королевский замок в Шамборе, чтобы он мог там работать. Вот его я и хочу найти, и мы, если понадобится, будем разыскивать его по всей Европе.
Лоренца слушала мужа с восхищением, граничившим со страхом. Она уже видела, как перед ней головокружительной сетью раскидываются бесконечные дороги Европы… бесконечные, потому что, по ее мнению, человек, которого они искали, мог быть только призраком. И в самом деле, с той поры для них начались безумные розыски и нескончаемые путешествия, а тем временем шевалье д'Акино, облеченный той же миссией, отплыл на галере обшаривать города Восточного Средиземноморья.
Чета скитальцев снова оказалась в Лондоне. Но на этот раз они прибыли не как жалкие беглецы по фамилии Бальзамо, но под видом богатых генуэзцев, барона Дзаноне и его жены. Затем были Эдинбург, Брюссель, Копенгаген и Амстердам, где наконец в одном из старых домов в гетто Бальзамо напал на след.
– Властелин Тайн вернулся в Германию, где у возглавляемой им организации розенкрейцеров существует множество сторонников, – рассказал ему раввин Га-Леви. – Если ты хочешь его найти, тебе следует отправиться в Пруссию или к маркграфу Гессенскому, который называет себя его учеником.
– Согласится ли он провести меня к нему?
– Попробуй! Если Властелин считает, что ты можешь ему послужить, он сумеет сообщить тебе об этом. Разве ты не следуешь обычаю розенкрейцеров, предписывающему, сменив страну, менять и имя? Кто ты сегодня?
– Граф де Феникс.
– Хорошо. Смело продолжай свой путь. Недалек час, когда ты встретишься с Властелином.
Какая таинственная рука привела сюда Бальзамо? Он тщетно старался представить ее себе, с трудом взбираясь темной ноябрьской ночью по узкой тропинке, вьющейся по склону одной из вершин Вогельсберга. Было очень холодно, струи дождя проникали даже под его плотный плащ для верховой езды. Он думал о Лоренце, оставшейся на теплом и уютном постоялом дворе.
В последнем ее взгляде, брошенном на него, Бальзамо прочел страх. Чужой край, непогода, таинственные голоса, которые завели их в самое сердце Гессенского маркграфства, – все это пробудило ее римские суеверия, но Бальзамо знал, что уже не может отступить, что он близок к цели… Цели, которую он преследовал, используя для этого любые средства, вплоть до самых неприглядных!
Внезапно перед ним возникли призрачные очертания древнего полуразрушенного замка, казавшегося зловещим среди этого безмолвия и мрака. Но под наполовину обвалившейся стрельчатой аркой входа горел факел, и сквозняк трепал его пламя.
Привязав коня к висевшему рядом с факелом заржавленному железному кольцу, путник вступил под своды. Впереди, указывая ему путь, горел еще один факел, и третий – у низкой двери на мощных железных петлях, стронувшейся под его рукой. При виде открывшегося перед ним зрелища Бальзамо вздрогнул и отшатнулся.
Он увидел большой зал, сплошь затянутый черным, у стен высокие скамьи темного дерева наподобие тех, какие стоят в соборах. В глубине зала, на каменном алтаре, сияла в центре огненного креста исполинская золотая роза. Но впечатление ужаса исходило от тех, кто занимал эти скамьи. С головы до ног закутанные в белые покрывала, скрывавшие лица, они казались недвижными и безмолвными призраками.
Бальзамо медленно вошел в зал и направился к алтарю. Он успел пройти примерно половину расстояния, отделявшего его от цели, когда раздался низкий, страшный голос, тотчас подхваченный эхом:
– Что ты здесь делаешь?
– Я ищу того, кого называют Властелином Тайн! – недрогнувшим голосом ответил Бальзамо.
– Зачем?
– У меня послание для него.
– Что за послание?
– Я открою это только ему самому.
– Мы – розенкрейцеры, его братья. Ты можешь передать нам послание для него.
– Я уже один раз отказал вам в этом.
По рядам призраков пробежал одобрительный гул – первое проявление жизни у этих белых теней. Наступила тишина, потом снова раздался тот же голос:
– Откуда ты пришел?
– Отовсюду и ниоткуда.
– Назови свое имя.
– Когда я был ребенком, мой учитель Альтот называл меня Ашара. Позже, в Палермо, он отдал меня на воспитание в семью бедняков, я взял их фамилию и стал Жозефом Бальзамо. С тех пор у меня было много других имен.
– Все они нам известны.
Внезапно из-за алтаря показалась фигура человека в длинном и широком белом плаще. Незнакомец медленно вышел из-за алтаря и остановился. В отличие от прочих он не прятал лица, и Бальзамо смог разглядеть тонкие, гордые черты, высокий лоб мыслителя. Цвет кожи был очень темным, глаза казались непостижимыми, и взгляд их был непереносим даже для Бальзамо, кисти рук и ступни восхитительной формы. Ему могло быть лет сорок, но от всей его фигуры исходило впечатление совершенно юношеской силы мышц. Он подошел к Бальзамо поближе и улыбнулся:
– Ты не дрогнул, это хорошо. Я – тот, кого ты ищешь, тот, кого король Франции называл графом де Сен-Жерменом… – Затем, обернувшись к белым призракам, прибавил: – Братья мои, вы можете удалиться. Мне надо поговорить с ним…
Они в молчании дождались, пока белые призраки покинут зал, но затем, когда Бальзамо собрался исполнить данное ему поручение, Сен-Жермен его остановил:
– Не трудитесь понапрасну! Я не поеду на Мальту. Я знаю, чего хочет Великий Магистр Пинто де Фонсека. Его интересуют лишь золото и превращения камней… Меня это не занимает. В Европе меня ждет великое дело. Люди жаждут свободы, но это слово они даже не осмеливаются произнести вслух. Они стремятся к науке, к знаниям, а главное – к лучшей жизни. Мы, розенкрейцеры, посвятили себя выполнению этой задачи, и я уже давно тебя жду.
– Меня?
– Да. Я знаю, кто ты, но тебе этого не скажу. Твой первый покровитель, кардинал Орсини, тоже это знал. Он был моим другом. Но ты заблудился на очень темных путях.
– Я знаю, – смиренно признал Бальзамо. – Я раскаялся в этом.
– Давно пора было это сделать. Теперь слушай: ты можешь многое для нас сделать. Хочешь ли ты нам служить?
Как было не поддаться непреодолимому магнетизму этого ясного взгляда? Бальзамо почувствовал, что его охватывает странный восторг. Этот удивительный человек мог потребовать от него чего угодно, даже его собственную жизнь, и он отдал бы ее безропотно.
– Я готов служить вам, но каким образом?
– Ты знаком с химией, с медициной. Я открою тебе секреты, которые помогут исцелять тела и завораживать дух. В течение месяца ты будешь оставаться здесь, подле меня. Ты уже знаешь, как подчинять себе души при помощи гипнотизма, иногда перед тобой приоткрывается завеса, за которой прячется будущее. У тебя большие способности, ты хороший ученик, я научу тебя еще многим вещам.
– Но… моя жена ждет внизу!
– Пусть ждет. Это неиспорченная, но грубая душа. Суеверие окутывает ее непроницаемым туманом. Она может стать для тебя опасной. Ты должен более чем когда-либо подчинить ее своей воле. Не тревожься, она будет ждать тебя. Я пошлю ее предупредить.
– И что я должен буду делать, когда пройдет этот месяц?
– Отправишься туда, куда я прикажу тебе. Сначала в Россию, чтобы создать и укрепить свою репутацию. А потом во Францию. Именно из Франции должно идти великое дело Свободы. – Тонкая рука графа дружески, но вместе с тем весьма ощутимо легла на плечо Бальзамо. Эта рука умела приласкать и заставить подчиниться. Теплый, до странности проникновенный голос задал новый вопрос: – Готов ли ты повиноваться мне? Тебе надо будет основывать масонские ложи, работать в тени и одиночестве, может быть, ты потеряешь доброе имя и самую жизнь. Готов ли ты к этому?
– Да, я готов.
– Тогда следуй за мной. Для тебя настало время учения, которое сделает тебя человеком, имя которого навеки запомнят грядущие поколения…
Сен-Жермен направился к алтарю, из-за которого вышел, и Бальзамо собирался последовать за ним, но вдруг остановился.
– До сегодняшнего дня мне, повинуясь приказаниям, которые я получал, даже не зная, откуда они исходят, пришлось носить множество имен. Под каким из них меня будут знать потомки? Бальзамо, Пеллегрино, Дзаноне, Феникс…
– Ни под одним из них! Отныне ты будешь носить лишь одно имя: ты станешь графом Александром де Калиостро!
– Калиостро?
– Это грозное имя… незабываемое имя. Послушай, как хорошо откликается на него эхо.
И, возвысив голос, Властелин Тайн послал к каждой из четырех стен огромного зала имя, которое вскоре после того начнет твердить вся Европа:
– Калиостро! Калиостро! Калиостро!..
И зал наполнился шумом урагана…
4. Чародей с улицы Сен-Клод
Въехав на улицу Сен-Клод, которая была слишком узкой для того, чтобы можно было нестись по ней во весь опор, карета двинулась шагом. Это был великолепный экипаж, за версту было видно, что он принадлежит знатному вельможе, и гербы, украшавшие его дверцы, принадлежали, пожалуй, самому знатному семейству Франции после королевской семьи. Бархатные занавески за стеклами были тщательно задернуты. Кучер и лакей втягивали головы в плечи, безуспешно стараясь укрыться от дождя, не прекращавшегося с самого рассвета того февральского дня 1785 года. Париж превратился в сплошное болото…
В самом конце улицы, там, где она упиралась в проспект, проложенный на месте прежних укреплений Карла V, стоял красивый особняк. Над окружавшими его высокими стенами, за обнаженными ветвями деревьев, видны были окна верхних этажей. Сквозь опущенные жалюзи пробивался свет, но никаких звуков не доносилось.
Когда карета приблизилась к дому, парадные двери бесшумно распахнулись, хотя и не видно было, чтобы к ним прикасалась чья-то рука, и карета, прокатившись по довольно обширному двору, остановилась у дорических колонн подъезда, между которыми, словно картина в раме, показался элегантный вестибюль и начало роскошной лестницы.
Слуга, черный исполин в ослепительных восточных шелках, ждал у ее подножия, высоко держа большой серебряный подсвечник с красными свечами.
Как только два насквозь промокших лакея распахнули дверцу и опустили подножку, высокий, внушительного вида мужчина, изящно носивший костюм придворного священника, на котором среди кружев поблескивал крест Святого Людовика, выскочил из кареты и устремился к подъезду. Бросив мимолетный взгляд на слугу, он спросил:
– Твой хозяин дома?
– Он ждет вас, ваше преосвященство.
В самом деле, на площадке второго этажа стоял хозяин дома, с головы до пят укрытый длинным одеянием из черного бархата с вышитыми на нем масонскими знаками. Его тщательно напудренные волосы прикрывал капюшон. Спрятав руки в рукава, он отвесил гостю глубокий поклон.
– Ваше преосвященство запаздывает, – заметил он и больше ни слова не прибавил.
Посетитель, который был не кто иной, как принц Луи де Роган, кардинал, высшее духовное лицо при особе короля Франции и епископ Страсбургский, улыбнулся, сверкнув прекрасными белыми зубами:
– Знаю, что опоздал, дорогой Калиостро, но вы должны меня простить. Меня задержал чересчур болтливый викарий.
Калиостро не ответил на его улыбку. Нахмурившись, он с озабоченным видом покачал головой:
– Ваше преосвященство слишком нравится женщинам, и ваше преосвященство слишком любит женщин. Это опасно.
– Ну, будет вам, милый мой чародей! Вы умеете читать в сердцах и прекрасно знаете, что я люблю и всегда буду любить только одну женщину. Так что я остаюсь в неприкосновенности. Все уже готово?
– Все готово…
Калиостро посторонился, пропуская кардинала. С той ночи на Вогельсберге прошло десять лет, и теперешний граф де Калиостро мало чем напоминал ненасытно алчного молодого человека, не знавшего сомнений и терзаний совести и так легко дававшего себя заворожить блеску драгоценных камней. Он стал ученым, высоким масонским чином, одним из тех людей, которые, заворожив толпу, заставляют ее действовать удивительными, им одним ведомыми способами. Пять лет прошло с того дня, как его черная с золотом карета проехала по мосту, переброшенному через Рейн в городе Келе, и за эти годы он завоевал сначала Страсбург, затем Бордо, Лион и, наконец, Париж. Весь двор и весь город стекались к чародею с улицы Сен-Клод, и если ему ни разу не удалось снова увидеться с удивительным человеком, у которого он пробыл целый месяц, то полученные от того знания навеки запечатлелись не только в его уме, но едва ли не в плоти.
Калиостро открыл перед гостем дверь комнаты, убранной с чисто восточной роскошью, блистающей красотой пышных ковров и затканных золотом драпировок, но полностью лишенной мебели, за исключением единственного стола, застеленного черной тканью. Различные предметы теснились на этом столе вокруг хрустального шара, наполненного чистой водой. У стола стояла на коленях совсем юная девушка, застывшая в каменной неподвижности, с закрытыми глазами, в белоснежных одеждах, с распущенными по плечам светлыми волосами.
Приблизившись, кардинал разглядел, что, кроме шара и черного покрывала, на котором были вышиты красные каббалистические знаки, на столе размещались еще и зажженные свечи – кроме них, другого освещения не было, – египетские глиняные статуэтки, распятие слоновой кости и скрещенные обнаженные шпаги. Указав на девушку, кардинал тихо спросил:
– Это и есть девственница?
– Да, монсеньор, – ответил чародей. – Как вы видите, ваше преосвященство, она уже находится в состоянии транса.
В подтверждение своих слов он приподнял пальцем веко девушки и показал совершенно белое глазное яблоко. Принц Луи кивнул и пробормотал слегка изменившимся голосом:
– Хорошо! Спрашивайте ее!
Тогда, взяв со стола одну из лежавших на нем шпаг, Калиостро легонько ударил ею по хрустальному шару. Вода замутилась, потом стала дымиться. Затем чародей, не выпуская шпаги, опустил клинок на голову девушки.
– Сейчас вы будете читать в этой воде так же уверенно, как читали бы по книге, – медленно проговорил он. – Вы слышите меня?
– Я слышу вас… – Голос девушки казался далеким и словно бесплотным. – Я готова читать. Что вам угодно?
– Особа, находящаяся рядом со мной, нуждается в сведениях. Она встревожена из-за некоторых ожидаемых ею известий. Можете ли вы увидеть, что для нее готовится?
Девушка, не вставая с колен, изогнулась всем худеньким телом и прижала руку к груди так, будто старалась унять жестокую боль. В углах ее губ показалась пена.
– Я вижу всадника. Он только что проехал Рульскую заставу… едет через предместье Сент-Оноре… так спешит, что почти летит над землей… О! Я вижу письмо, которое он прячет на груди… это из-за него он скачет так быстро…
– Откуда едет этот всадник?
– Из… из Версаля. Он вымок под дождем, но ему приказано торопиться. Я все еще вижу его… он проезжает Пале-Рояль… Сворачивает в маленькую улочку… Подождите! Я читаю… улица… Вьей-дю-Тампль. Останавливается перед роскошной гостиницей.
– Над входом в эту гостиницу должна быть какая-нибудь вывеска. Читайте, я хочу этого!
Голос неуверенно смолк, потом медленно проговорил:
– Гостиница… «Страсбург».
Кардинал, едва удержавшись от восклицания, схватил Калиостро за руку.
– Это письмо… – начал он.
Но девушка уже заговорила снова:
– Всадник стучит у дверей. Ему открывают… Он вручает письмо привратнику…
– Кто написал это письмо?
Девушка мучительно застонала и стала ломать руки.
– Я плохо вижу… Мне кажется, это женщина…
– Подпись!.. Прочитайте ее… хотя бы первые буквы! Ну, читайте же!
– Вы делаете мне больно! Ох, как вы меня мучаете!.. Сейчас прочитаю… Это трудно! Подождите!.. Мари!.. Мария-Антуа…
– Довольно!
Этот крик вырвался у кардинала. Услышав его, девушка упала и стала биться в судорогах. Калиостро бросился к ней.
– Вы едва не убили ее, монсеньор! – упрекнул он. – Никогда нельзя резко выдергивать из транса. Боюсь, что на сегодняшний вечер…
Но кардинал, сияя лучезарной улыбкой, уже не слушал его.
– Я знаю вполне достаточно! Спасибо, друг мой! Мне пора идти.
– Но… как же наши опыты превращения?
– В другой раз! Потом! Я только что получил слишком важное известие. До скорой встречи! Примите мою искреннюю благодарность.
И кардинал, завернувшись в плащ, с силой захлопнул дверь и сбежал по лестнице так проворно, словно все еще был юным аббатом. Калиостро, с загадочной улыбкой на губах, слушал, как его карета быстро выезжает со двора, как затихает вдали стук ее колес. Перестав прислушиваться, он поднял на руки безвольно поникшую девушку и отнес ее на диван в соседней маленькой гостиной. Позвонил, и на звонок явился черный слуга.
– Алкандр, скажи госпоже де Ла Мотт, что опыт закончен, а потом возвращайся сюда ухаживать за этой девушкой.
– Госпожа графиня уже ждет господина графа в магическом салоне.
– Готов поклясться, что она подслушивала у дверей! – с саркастической улыбкой произнес чародей.
В салоне, теперь опустевшем, его действительно ждала молодая женщина лет двадцати восьми. Она была высокого роста, хорошо сложена, изысканно одета и без видимого труда удерживала на огромном напудренном парике одну из тех нелепых, перегруженных украшениями шляп, какие тогда были в моде. На ее тонком лице, которое было бы совершенно прелестным, если бы не выражение напряженной хитрости, опасным огнем горели голубые глаза. Впрочем, в эту минуту прекрасная графиня казалась задумчивой.
– В конце концов я поверю, что моя племянница в самом деле обладает даром ясновидения, – медленно произнесла она.
Калиостро пожал плечами:
– Этот дар приходит к ней по моей воле, потому что она девственно и безупречно чиста. В этом и заключается весь секрет…
– Нет, но все-таки! То, что она смогла прочесть в этом хрустальном шаре сведения, которые, как я думала, знала я одна – я имею в виду, что наш кардинал получит сегодня вечером записку… из высоких кругов, – это просто-напросто совершенно поразительно. В иные дни, Александр, ты внушаешь мне страх…
Снова пожав плечами, Калиостро взял со стола хрустальный шар и спрятал в ларец, который затем запер маленьким золотым ключиком, висевшим у него на шее.
– В мире есть много совершенно поразительных вещей, и тем не менее мы почти не обращаем на них внимания! Ты тоже внушаешь мне страх, Жанна! Ты не знаешь, куда идешь, но идешь туда очень быстро… слишком быстро!
– Я иду к богатству, и это всего лишь справедливо для женщины, рожденной Валуа, пусть даже от побочной ветви, да еще женщины с моей внешностью. Наш милый кардинал всего лишь исправляет незаслуженную обиду, нанесенную мне судьбой, которая заставила меня родиться в бедности; впрочем, ему это тоже на руку. Без моей помощи он не может рассчитывать выпросить у королевы место, которое так жаждет получить.
– А с твоей помощью он его получит?
– Королева удостаивает меня своей дружбы, и ты прекрасно это знаешь. Для тебя я тоже многое могу сделать… если ты этого захочешь!
Калиостро засмеялся. Сняв свое одеяние, он остался в немыслимом костюме из голубой тафты, по всем швам обшитом золотым галуном. С годами, из-за необходимости всегда быть заметным, он привык одеваться с подчеркнутой элегантностью, порой граничившей с безвкусицей.
– Обо мне, пожалуйста, не беспокойся! – сказал он. – Что касается королевы, мне, возможно, захотелось бы проверить, правду ли ты говоришь, если бы только в мои планы не входило, чтобы все вещи оставались такими, как есть, и чтобы все шло, как идет, то есть зашло очень далеко.
Графиня, улыбаясь, подошла поближе к Калиостро.
– Я не делюсь с тобой ни своими планами, ни своими замыслами. Что ты можешь знать?
– Что Бемер и Бассанж, придворные ювелиры, собираются продать сказочное бриллиантовое ожерелье, некогда предназначавшееся для Дю Барри, что королеве очень хотелось иметь это ожерелье, но она отказалась от него из-за его цены… и что кардинал очень богат.
Молния, упавшая у ног графини, не так бы ее испугала. Она побледнела как полотно.
– Александр, ты – сам дьявол! Если тебе это известно, значит, ты способен оценить размеры моего могущества. Но ты, по крайней мере, поможешь мне, если потребуется? Хотя бы советом?
– Нет, Жанна. Я уже сказал тебе: я хочу, чтобы все шло так, как должно идти, до самого конца. И все же сегодня – и это будет в последний раз – я дам тебе совет. Остерегайся двух вещей: истинного состояния богатства кардинала и гордости королевы. Ты должна была научиться остерегаться ее гордости, если вы с ней подруги!
– Разумеется! Зачем бы я стала тебя обманывать? – сказала графиня чуть более нервно, чем следовало, и улыбка Калиостро стала еще ехиднее.
– Это было бы глупо! И все же запомни мои слова: бойся ее гордости и дня 15 августа!
Графиня, ничего не ответив, поднялась.
– Вели подать мой портшез. Я возвращаюсь домой! И посмотри, пожалуйста, готова ли моя племянница? Мне давно пора ехать.
– Уже? Но почему так рано?
В свою очередь пожав плечами, она мимолетно указала взглядом на верхние этажи:
– А почему бы и нет? Ведь твоя жена здесь, правда?
Лоренца в это время была в своей комнате, расположенной как раз над той, где происходил этот любопытный разговор. Сидя на стульчике у горящего камина, она тщетно пыталась согреться. Годы, прошедшие после той странной отлучки Жозефа в Гессене, не оставили на ней никаких следов. Несмотря на то что ей было уже за тридцать, она по-прежнему выглядела девически свежей и юной. Ее безупречная красота была одним из главных козырей Калиостро. Достаточно было одного взгляда на красавицу жену, чтобы преисполниться веры в едва ли не божественное могущество мужа.
Но эта ослепительная красота, над которой время было не властно, стала почти обузой для самой Лоренцы, которую теперь перекрестили в Серафину, чтобы стереть всякую память о прежней жизни под фамилией Бальзамо. Пропасть, образовавшаяся между ней и ее мужем, все увеличивалась, заполняясь ненавистью, неудержимой ревностью, едва скрываемой злобой и суеверным страхом. От прежней любви осталась только горечь, и она с каждым днем росла при взгляде на многочисленных женщин, которые толпами стекались к модному чародею, готовые на любые жертвы, лишь бы быть причастными к его тайнам.
Сколько времени прошло с той поездки в Германию, и сколько стран, сколько городов промелькнуло перед ними: Курляндия, Польша, Санкт-Петербург, где Екатерина Великая оказала им самый лестный прием, потом снова Варшава и, наконец, Страсбург. Там помешанный на оккультных науках кардинал де Роган гостеприимно предоставил им свой роскошный Савернский дворец. И там же они впервые встретились с этой графиней де Ла Мотт, которая утверждала, будто она – урожденная Валуа, и ее любезным мужем. Лоренца сразу же возненавидела эту женщину, угадав в ней порочную душу, но Жозеф отнесся к прекрасной Жанне с живым интересом. Поначалу из-за этого разыгрывались бурные сцены, но Жозеф, чья гипнотическая власть над женой не только сохранилась, а стала сильнее, чем когда-либо, быстро ее усмирял; потом чета Ла Мотт покинула Страсбург, и все улеглось. Но не прошло и года после их отъезда, как Калиостро вслед за ними перебрался в Париж, куда его повез кардинал, потому что старый маршал де Субиз, доводившийся ему родственником, нуждался в услугах «милого чародея». Разве тот не избавил его самого от неизлечимой астмы? Но они лишь ненадолго туда заехали, потому что чародея ждали другие дела, главным образом – создание масонских лож в больших французских городах.
Кроме того, Калиостро действительно умел исцелять. Больные быстро выздоравливали благодаря трем таинственным средствам, состав которых был неизвестен даже Лоренце: ваннам, целебному травяному настою и, наконец, бесцветной жидкости, которую Жозеф называл жизненным эликсиром. Откуда Жозефу стали известны эти секреты? Лоренца не знала, но подозревала, что от того таинственного человека, которого она вместе с мужем разыскивала по всей Европе. Впрочем, она и не особенно старалась это узнать, потому что с годами она все отчаяннее цеплялась за свою ограниченную набожность истинной римлянки и смертельно боялась пламени преисподней, которая, как ей казалось, вот-вот готова была поглотить и ее, и ее мужа.
Скрип ворот вывел Лоренцу из оцепенения. Она подошла к окну. Портшез удалялся, унося госпожу де Ла Мотт и ее племянницу. Дождь кончился. Слуги запирали дом. Жозеф сейчас должен быть один…
Подобрав одной рукой складки своего атласного платья цвета опавшей листвы, Лоренца направилась к маленькой потайной лестнице, которая проходила в толще стены и вела прямо в парадные комнаты.
Жена застала Калиостро в его рабочем кабинете, причудливо сочетавшем в себе библиотеку и лабораторию. Он как раз переодевался из своего броского голубого наряда в простой камзол темного сукна. Увидев отражение Лоренцы в зеркале, он обернулся и улыбнулся ей:
– Я собирался к тебе зайти перед уходом. Мне надо идти.
Подойдя к жене, он нежно поцеловал ее, но жар поцелуя не растопил сковывавшего Лоренцу льда.
– Наконец-то эта женщина ушла, – сухо произнесла она.
Калиостро вздохнул:
– Да перестань же ты ревновать, Лоренца! Клянусь тебе, для этого нет никаких оснований.
– Она – твоя любовница. Во всяком случае, была ею. По-моему, этого вполне достаточно.
– Прежде всего, это смешно. Который год я тебе твержу, что она мне нужна для совершенно иных целей. Она всего лишь пешка на моей шахматной доске, но важная для меня пешка.
– Ты всегда так говоришь… и каждый раз лжешь!
Калиостро с тоской поглядел на жену. До чего же она в последнее время стала жесткой и замкнутой! Для нее время любви давно прошло, но его-то любовь сейчас расцвела особенно пышным цветом. Он так гордился Лоренцей, ее чудесной красотой, не увядавшей с годами, что в конце концов страстно в нее влюбился. Время уступок, на которые он вынуждал ее идти, давным-давно прошло, и теперь при одном воспоминании о них краска стыда заливала лицо странного, непостижимого человека, каким стал Жозеф. По мере того как отдалялась от него Лоренца, он все более страстно желал к ней приблизиться и приходил в отчаяние, чувствуя, что, кажется, упустил время… Единственной возможностью на нее воздействовать оставалась его магнетическая власть, и он постоянно дрожал от страха, что и это последнее средство воздействия может быть у него отнято.
– Клянусь тебе, что не люблю ее, – устало произнес он, – что я никогда ее не любил и что люблю тебя одну. Но ты отказываешься понимать, что мы наконец можем достигнуть счастья и покоя. Еще немного времени – и моя миссия будет выполнена, а наше положение окончательно упрочится.
Лоренца рассмеялась сухим, неприятным смехом:
– Твоя миссия? Ах да! Ты, как, впрочем, и многие другие, пытаешься уничтожить монархию во Франции. Ты всерьез рассчитываешь, что у тебя это получится?
– Масонские ложи, основанные мной, не перестают множиться. Тебе это известно, ведь и ты сама согласилась возглавить женскую ложу. Я знаю, ты сделала это без большой охоты, но все же сделала. Идеи прокладывают себе путь, и люди, которым суждено разрушить одряхлевшее здание монархии, объединяются друг с другом. Но именно эта женщина, это порочное ничтожество, эта жалкая гнилая тварь, нанесет самый жестокий удар… и очень скоро. Мне потребовались бы годы, чтобы выполнить ту работу, которую проделает она. Всего через несколько месяцев…
Черные глаза чародея словно старались разглядеть в пламени камина картины, встающие за теми, которые теснились в его мозгу и были доступны лишь его видению. В эту минуту на него снизошло пророческое величие, вид его был столь грозным и вместе с тем столь таинственным, что Лоренца торопливо перекрестилась несколько раз подряд.
– Не знаю, откуда у тебя эта способность предсказывать будущее, да и не хочу знать, но думаю, что ты, Жозеф, продал свою душу дьяволу и будешь за это проклят!
– Разве только в его власти позволить человеку заглянуть в будущее? Глубокое знание человеческого сердца и пристальное наблюдение за происходящими событиями уже позволяют о многом догадаться. Я не дьявол, Лоренца… и для тебя мне хотелось бы оставаться всего лишь мужчиной, просто быть твоим мужем!
– У меня был муж, которого я любила, его больше нет…
Калиостро больно сжал запястья Лоренцы.
– Может быть, я смогу воскресить его, – прошептал он. – Разве ты не знаешь, что я могу призывать мертвых? Если бы я вернул тебе твоего мужа, Лоренца, того самого Жозефа Бальзамо, которого ты так любила?.. И который тем не менее немногого стоил!
Отчаянно вскрикнув, она вырвалась из рук мужа, отбежала в дальний угол и в ужасе зажала уши обеими ладонями.
– Замолчи, безбожник, я больше не хочу тебя слушать!
Калиостро, обреченно вздохнув, отвернулся от нее, взял со стула широкую черную накидку, набросил на плечи.
– Иди к себе, Лоренца, и постарайся уснуть, тебе нужен отдых. Я пойду в Египетскую ложу. Сегодня ночью мы принимаем новичков, и среди них одного очень знатного вельможу. Я вернусь поздно. Спокойной ночи.
Лоренца хотела было возразить, но Калиостро внезапно протянул к ней руку, наставив два пальца на бледный лоб молодой женщины.
– Спи! – громко приказал он. – Спи, я так хочу!.. Иди к себе. Ты проснешься, только когда рассветет!
Лоренца пошатнулась, взмахнула руками, словно в поисках опоры, помощи. Затем ее черты разгладились, глаза закрылись, на губах появилась улыбка. Тихонько повернувшись, она послушно, словно автомат, направилась к лестнице.
Калиостро смотрел, как она поднимается по ступенькам. Когда она скрылась из виду, он глубоко вздохнул:
– Счастье не на твоей стороне, Ашара! Довольствуйся своей властью над мужчинами и молись, чтобы против тебя не обратилась ненависть единственной женщины, которую ты любил в своей жизни.
Через несколько минут чародей с улицы Сен-Клод вышел из дома и быстро растворился во тьме парижской ночи…
5. Ожерелье королевы
Вечером 27 марта 1785 года, в то самое время, как веселая толпа прибоем накатывала на ограды празднично освещенного Версальского дворца, на улицах пели и танцевали, огни фейерверков озаряли небо, а пушка беспрестанно палила, возвещая о рождении Его Высочества герцога Нормандского, которому позже предстояло стать дофином, – в это самое время король Людовик XVI принимал в своем кабинете с тщательно затворенными дверьми своего министра Калонна и своего начальника полиции Ленуара.
Несмотря на то что это был великий и радостный день, король выглядел очень недовольным. Он нервно расхаживал по просторной комнате, с силой вдавливая красные каблуки в роскошный ковер и время от времени возвращаясь к письменному столу, чтобы с силой ударить кулаком по лежавшей на нем раскрытой папке.
– Чаша переполнилась, господин начальник полиции. Шарлатанские выходки этого Калиостро переходят все границы. Необходимо срочно что-то предпринять. Еще можно было мириться со странными ужинами, которые он устраивал в своем доме на улице Сен-Клод и где живые, если верить рассказам, усаживались за стол вместе с мертвыми…
– Совершенно верно! – вмешался в разговор Калонн. – Графиня де Бриар, которая очень дружна с моей женой, уверяет, будто ужинала у него с Вольтером д'Аламбером, Дидро и Монтескье. Маркиз де Сегюр клянется, будто имел честь встречаться с Жанной д'Арк и даже с императором Карлом Великим!
Король, побагровев от негодования, испепелил своего министра чрезвычайно суровым для такого добродушного монарха взглядом.
– Госпожа де Бриар – полоумная старуха, которая души не чает в этом шарлатане с тех пор, как он избавил ее от ревматизма. Но от маркиза де Сегюр, признаюсь, я ожидал более здравых суждений! Жанна д'Арк! Ну, скажите, на что это похоже! Не иначе, этот человек им заморочил голову, загипнотизировал их, усыпил, кто его знает!
– Или же на него просто работают очень искусные актеры, – спокойно произнес Калонн. – Вроде бы гостям Калиостро категорически запрещено прикасаться к сотрапезникам-призракам даже кончиками пальцев.
– В конце концов, все это еще не так страшно, – вмешался Ленуар. – Меня куда сильнее беспокоит масонская ложа с египетскими обрядами, которую основал этот самый Калиостро. Герцог Люксембургский занимает там одну из высших должностей, а сам Калиостро носит титул Великого Копта…
– Да это все просто фарс, всего-навсего маскарад! – перебил их король. – Но эта женская ложа Изиды совершенно непристойна.
– Что? – сказал министр, не присутствовавший при начале разговора между королем и начальником полиции. – О чем идет речь?
– О ложе, предназначенной исключительно для дам, первое заседание которой, так называемый сеанс посвящения, состоялось на днях. Однако это посвящение включало в себя некоторые детали, которые… которые…
– Короче говоря, – резко оборвал его Людовик XVI, – эти дамы должны были среди боскетов сада доказать свою стойкость по отношению к домогательствам мужчин, а затем раздеться догола, чтобы в чистоте и первородной невинности принять «дружеский поцелуй»…
Калонн невольно расхохотался, но быстро подавил смех. Однако король тотчас взорвался:
– По-вашему, это смешно? Представьте, что будет, если об этом узнают? А что скажет королева?
– Мы постараемся, чтобы она об этом не узнала, и ничего ей не скажем, – ответил министр, прилагая немыслимые усилия, чтобы сохранять серьезность. – И умоляю Ваше Величество простить меня, но, сир, мне кажется, у этого негодяя необузданное воображение…
– У вас, сударь, по-моему, тоже! Во всяком случае, запомните оба, что на будущее я запрещаю такого рода… мероприятия. На сегодняшний день мы, по случаю рождения нашего сына, не станем преследовать… Великого Копта, но ему все-таки придется угомониться! Спокойной ночи, господа…
Заложив руки за спину, Людовик XVI быстро вышел из кабинета. Калонн и Ленуар проводили его глубокими поклонами. На следующий день Калиостро получил предписание закрыть женскую ложу под страхом очень больших неприятностей, а также следить за тем, чтобы его мужская ложа не слишком привлекала к себе внимание. Но он выслушал все эти распоряжения с загадочной улыбкой.
– Когда тяжелая махина, сильно разогнавшись, катится вниз по крутому склону, всякий, кто попытается ее остановить, непременно будет ею раздавлен…
Его-то собственная махина разогналась хорошо. Он не сумел бы ее остановить, даже если бы очень этого захотел…
Вскоре после этого, когда Калиостро шел пешком по улице Нев-Сен-Жилль, неподалеку от своего дома, он заметил, что движение на этой узкой и тесной улице перекрыто роскошной дорожной каретой, занявшей всю мостовую. Крыша и отделение для багажа кареты были завалены коробками, картонками и многочисленными узлами. Карета стояла как раз напротив дома графини де Ла Мотт, откуда продолжали беспрерывно выходить слуги, нагруженные все новыми свертками и сундуками, которые они складывали в прицепленный к карете сзади фургон. Из дома выносили все, даже мебель.
Чародей, в глазах которого на мгновение вспыхнул огонек недоброго веселья, остановился и, смешавшись с толпой зевак, принялся наблюдать. Через некоторое время из дома вышли муж и жена Ла Мотт, и, едва увидев эту чету, он бросился к ним. Оба были одеты по-дорожному.
– Значит, вы уезжаете? – спросил он, сняв шляпу и раскланиваясь с Жанной и ее мужем.
Они в ответ улыбнулись похожей улыбкой, за которой явственно читалось неудовольствие, вызванное этой встречей.
– Да, – сказала Жанна, отводя глаза, чтобы избежать опасного взгляда бывшего своего любовника. – Господи, в этих тесных улицах можно задохнуться. В начале августа здесь совершенно тропическая жара. Мы едем подышать чистым воздухом в наш дом в Бар-сюр-Об.
– Так вы едете всего-навсего в Бар? С таким количеством вещей? Я уж подумал было, что вы по крайней мере собираетесь пересечь границу, и забеспокоился. Собственно говоря, дорога на Брюссель может идти и через Бар…
Жанна закусила губы. Муж решил, что пора прийти ей на помощь.
– Графиня в последнее время чувствует себя усталой, – сообщил он обычным глупым смешком. – Она нуждается в отдыхе.
– Разумеется. И потом, там такие прелестные места. В это время там будет намного лучше, чем в Париже… особенно в праздник, 15 августа.
При упоминании даты, которую чародей назвал ей как роковое число, графиня побледнела, но, справившись со своим волнением, гордо вздернула подбородок и собралась сесть в карету. Калиостро галантно предложил ей руку.
– У вас изумительная карета. Как я вижу, удача наконец-то вам улыбнулась. Наверное, здесь не обошлось без королевы?
Ядовитый взгляд, который Жанна на него бросила, вызвал у него лишь улыбку. Склонившись, он легонько поцеловал кончики пальцев, все еще лежавших в его руке.
– Счастливого пути, дорогая моя. Мне, конечно, очень хотелось бы поскорее увидеться с вами снова, но, судя по тому, как вы выглядите, вам действительно не помешает поехать на воды. Я посоветовал бы вам Спа или Баден, французские воды вам противопоказаны.
– Я так не думаю. Во всяком случае, я собираюсь некоторое время пробыть на моих землях.
– Человек предполагает, а бог располагает. Лично я думаю, что Париж вскоре увидит вас снова… Если только, конечно, вы не уедете лечиться за границу!
– Об этом и речи быть не может! И я в этом совершенно не нуждаюсь. Меня вполне устраивает Бар-сюр-Об…
Калиостро, ничего не ответив, молча поклонился и отступил, чтобы не мешать отъехать поглотившей Жанну карете. И когда тяжелое, неповоротливое сооружение с оглушительным грохотом стронулось с места, он, пожав плечами, презрительно пробормотал:
– Давай, беги, спасайся, если тебе так хочется! Гроза не замедлит разразиться, и, что бы ты ни предпринимала, она тебя настигнет. Пурпурный подрясник кардинала сшит из непрочного шелка, тебе под ним не укрыться.
Медленным шагом возвращаясь домой, он говорил себе, что Жанна, несомненно, далеко не так красива, как Лоренца, особенно теперь, когда она так смертельно испугана! Что до него самого, то он знал, что его миссия выполнена, что зерна гнева и мятежа посеяны на хорошем поле. Может быть, его и самого потреплет буря, которую он так заботливо готовил, но, что бы с ним ни случилось, он сознавал, что сделал свое дело. Теперь ему надо было попытаться сохранить то, что осталось от его любви.
Гроза разразилась в день, предсказанный Калиостро. 15 августа 1785 года разыгралась драма, которая вошла в историю под именем «Дело об ожерелье королевы». Честь Марии-Антуанетты, хотя она и была совершенно невиновна, несколько пострадала, а трон пошатнулся. Факты общеизвестны: графиня де Ла Мотт, прикинувшись лучшей подругой королевы, уговорила кардинала де Рогана, своего любовника, купить для королевы, без ведома короля, некогда предназначавшееся Дю Барри сказочное бриллиантовое ожерелье, от покупки которого сама Мария-Антуанетта отказалась, придя в ужас от его цены в 1 600 000 ливров. Королева, как передала кардиналу графиня Ла Мотт, обязуется выплачивать стоимость ожерелья в рассрочку, каждые полгода. Кардинал должен предоставить для этой сделки только свое имя, стать официальным покупателем.
Уговорить Луи де Рогана, впрочем, оказалось довольно легко, он уже давно был страстно влюблен в королеву, и влюблен почти безнадежно, несмотря на все свое обаяние: мало сказать, что королева была к нему равнодушна, она обходилась с ним довольно сурово. А потому он сгорал от желания вернуть себе ее расположение, и «подруга королевы», предложившая ему помощь, вскоре стала для него самым близким и бесценным другом. Он готов был слепо верить ей. Ведь Жанна, ко всему прочему, и сама была так очаровательна!
Поддельные письма Марии-Антуанетты, написанные официальным любовником госпожи де Ла Мотт, превратили кардинала в послушного раба Жанны. И это еще не все: как-то ночью она устроила ему в парке Версаля свидание с женщиной, которую несчастный принял за королеву. На самом деле это была всего лишь одетая в одно из ее платьев проститутка из Пале-Рояля по имени Николь д'Олива. После этого кардинал соглашался на все не глядя. Он купил ожерелье (в кредит, поскольку королева должна была каждые шесть месяцев выплачивать ему часть долга) и вручил его Жанне. Та, на глазах у обманутой ею жертвы, передала драгоценное украшение человеку, якобы служившему посланцем королевы. На самом же деле она оставила ожерелье у себя, разделила его и стала по частям продавать драгоценности в Лондоне через своего мужа.
Она думала, что кардинал, обнаружив, что его провели, поспешит заплатить 1 600 000 ливров, лишь бы не разыгрался грандиозный скандал и ему не пришлось бы признаваться в своем невероятном легковерии. Но она не приняла в расчет ювелиров, а те, видя, что первая сумма не поступила, а королева еще ни разу не надевала ожерелья, вместо того чтобы пойти к кардиналу, отправились прямиком в Версаль. Они добились аудиенции у королевы, которая, разумеется, ни о чем не подозревала и не сразу поняла, что произошло, а потом, еще даже не до конца это осознав, страшно разгневалась. Ее ярость подогревалась еще и ненавистью, впрочем совершенно необъяснимой, которую она испытывала к принцу-кардиналу.
После бурной сцены, происшедшей в кабинете короля в то самое время, когда кардинал в парадном облачении шествовал в часовню, собираясь служить мессу Успения, прозвучал приказ, какой королева могла отдать лишь в полном беспамятстве:
– Арестовать господина кардинала!
За этим последовал грандиозный скандал. Роган с величайшим достоинством позволил себя арестовать и даже успел отправить гонца в Париж, с тем чтобы сжечь некие письма, которые до тех пор он считал самым драгоценным, что у него было. Кардинал хотел, жертвуя при этом собственной безопасностью, оградить от неприятностей королеву. Она отблагодарила его тем, что назвала во всеуслышание мошенником и вором.
Вскоре после этого в Бар-сюр-Об была арестована госпожа де Ла Мотт (граф был в Лондоне), а в Италии – фальсификатор Рето де Виллетт, сочинявший «письма от королевы»; была задержана и походившая на королеву девица д'Олива. Но при этом произошло нечто непредвиденное для Калиостро. Он никак не предполагал, что графиня де Ла Мотт, разъярившись оттого, что он так верно все угадал, выдаст его как организатора заговора, к которому его якобы подстрекал кардинал де Роган. Тем не менее она сделала именно это. 23 августа на улицу Сен-Клод явился вооруженный до зубов полицейский, в чьи обязанности входило производить аресты, и с ним – восемь солдат. Перевернув все в доме вверх дом в поисках доказательств измены, полицейский объявил:
– Именем короля, вы арестованы!..
И Калиостро вместе с Лоренцей увезли в Бастилию. Для него настало время платить по счетам.
Девять месяцев спустя, 1 июня 1786 года, Калиостро и Лоренца вновь оказались в разграбленной парадной гостиной своего дома. За стенами продолжала бушевать толпа, с триумфом провожавшая чародея от самого Дворца правосудия (Лоренца была оправдана и выпущена на свободу несколькими месяцами раньше), их бурно приветствовали, но сами они, в полном изнеможении, смотрели друг на друга, едва узнавая. Им пришлось пережить тяжкое испытание, и теперь, глядя на сидевшего напротив нее человека с ввалившимися щеками и усталым взглядом запавших глаз, Лоренца чувствовала, как ее сердце охватывает странная жалость, ощущала позабытое за долгие месяцы тепло.
Накануне этого дня шестьдесят четыре члена парламента, собравшиеся в шесть часов утра в старинном зале Святого Людовика, произнесли свое решение. Они оправдали кардинала де Рогана, Калиостро и девицу д'Олива и осудили на галеры графа де Ла Мотт и Рето де Виллетта. Что касается прекрасной графини, ее следовало, раздев догола, публично высечь, выжечь раскаленным железом на обоих плечах букву V, клеймо, предназначенное для воров,[11] после чего ее ожидало пожизненное заточение в Сальпетриер.[12]
Толпа бурно приветствовала освобожденных. Их торжественно доставили домой, забрасывая по дороге охапками цветов. Теперь, когда толпа оставила их в покое, муж и жена могли оглядеться и оценить размеры понесенных ими убытков.
В молчании они переходили из комнаты в комнату, поглаживая распотрошенную мебель, прикасаясь к ободранным драпировкам. И, заметив слезы, выступившие на глазах Лоренцы, Калиостро попытался улыбнуться:
– Ничего страшного! Все это мы быстро починим. И отныне, клянусь тебе, мы будем жить лишь друг для друга.
Лоренца устало пожала плечами: она больше не обольщалась на этот счет.
– А что, собственно, изменилось? Все точно так же, как было раньше. Твоя слава даже выросла, тебе любят еще больше… Мы будем жить для других, ради денег.
Чародей ласково положил обе руки на плечи молодой женщины.
– Нет. Теперь колесница разогналась, и мне остается лишь предоставить ей катиться дальше. В ложах я больше не появлюсь. Моя роль здесь закончена, монархия движется к своей могиле. Теперь мы можем позволить себе просто жить. Разве не пришло время воскресить того самого мужа, которого ты так оплакивала несколько месяцев тому назад? Если бы ты только захотела, Лоренца, мы еще могли бы быть счастливы.
Подняв глаза, Лоренца неуверенно посмотрела на него. Впервые за долгое время ей показалось, что он говорит искренне. В его взгляде были теплота и нежность, возрождавшие ее доверие: она так давно отказалась от надежды снова их почувствовать. Ведь он всегда был так жесток, так ужасающе циничен!
– Я боюсь, что ты уже не сумеешь остановиться, Жозеф. Помимо своей воли ты оказался деталью дьявольского механизма, который уничтожит тебя. Нельзя безнаказанно бросать вызов богу. Рано или поздно пробьет твой час…
– Если я буду ждать его подле тебя, мне нечего бояться. И потом… может быть, ты поможешь мне измениться. Мы будем жить здесь вдвоем так спокойно, так счастливо!..
Ясные глаза Лоренцы на мгновение затуманились. Ее взгляд внезапно устремился вдаль, за стены этого ненавистного для нее дома. Точно такой взгляд бывал у нее, когда Калиостро заставлял ее уснуть, чтобы с ее помощью проникать за туманную завесу, за которой скрывается будущее, и видеть то, что происходит вдалеке.
– Мы не успеем здесь пожить, Жозеф! Перед нами опять лежат дороги, новые, нескончаемые дороги.
В самом деле, утром 13 июня дверь дома на улице Сен-Клод снова зашаталась под ударами кулака все того же полицейского чина. При нем был документ, скрепленный королевской печатью: Калиостро и его жене предписывалось покинуть Париж в течение сорока восьми часов, Францию – не позже чем через три недели…
– Я же говорила, – прошептала Лоренца. – Нам здесь не дадут времени устроить счастливую жизнь.
Калиостро в молчании снова перечитал пергамент, затем свернул его и протянул полицейскому.
– Скажите королю, что мы повинуемся! – Затем, повернувшись к Лоренце, он с нежной улыбкой раскрыл ей объятия. – …Мы будем счастливы в другом месте! Вокруг нас – огромный мир, и, если нас гонит Франция, найдется сотня стран, где нас охотно примут. Достаточно того, чтобы желать, по-настоящему, страстно желать быть счастливыми. Ты хочешь этого?
Лоренца прижалась к мужу, укрылась в его объятиях на глазах у пораженного полицейского, которому никогда еще не приходилось видеть таких покладистых изгнанников.
– Я постараюсь. Уедем, Жозеф… Ты прав. Уйдем скорее из этого дома! Я слишком много здесь плакала.
В тот же вечер почтовая карета уносила их к Кале. Снова начиналась бродячая жизнь, но теперь Лоренца, уверенная в том, что узнает наконец счастье, без страха смотрела в будущее.
Но от своей судьбы не уйдешь… Первым городом на пути изгнанников стал Лондон, и там, едва они приехали, Калиостро вынужден был принять одного из тех таинственных посланцев, которых так много было в его прошлой жизни. Он надеялся, что теперь сможет жить как обычный человек, позабыв о политике. Оказалось, что он все-таки не имеет на это права.
Из Лондона Великий Копт и его жена отправились в Швейцарию. В Бьенне они остановились у художника Лотербурга, предложившего им гостеприимство на то время, пока Калиостро будет проповедовать. Но у художника была слишком уж красивая жена, а сам он был почти так же ревнив, как Лоренца. И вечным странникам пришлось, не дожидаясь кровавой ссоры, снова трогаться в путь – сначала в Экс-ле-Бен, тогда принадлежавший Сардинии, затем в Турин, Ровередо и Тренто. Повсюду Калиостро оставлял за собой свои знаменитые масонские ложи, основной задачей которых было подрывать установленный порядок и разрушать религиозные принципы.
И отовсюду их рано или поздно изгоняли. Вот тогда-то Лоренца, вконец утратившая надежду на счастье, впервые показала характер и проявила собственную волю. Когда Жозеф предложил отправиться в Австрию, она взбунтовалась.
– Мы едем в Рим! – спокойно заявила она. – В Рим, и никуда больше!
– Ты с ума сошла? Ехать в Рим – все равно что самому броситься зверю в пасть. Ты думаешь, инквизиция меня по головке погладит за то, что я проповедую свободу мысли? Ты хочешь затащить меня в самую цитадель тех принципов, против которых я веду борьбу?
– Или Рим, или я с места не двинусь! Если ты решишь ехать в другое место, Жозеф, я с тобой не поеду. Я устала от такой жизни. И если ты действительно этого захочешь, в Риме ты будешь в не меньшей безопасности, чем в любом другом месте. Достаточно, чтобы ты вел себя прилично.
– Ты бросишь меня? Ты, Лоренца?!
Она спокойно выдержала взгляд, от которого ее в течение стольких лет бросало в дрожь.
– И без колебаний! Ты ведешь меня к вечной погибели, Жозеф, и я не хочу больше следовать за тобой. Или ты отвезешь меня домой, или поедешь дальше один…
Калиостро опустил голову. Несмотря на все превратности судьбы, все несчастья, какие им пришлось пережить вместе, несмотря на то, сколько раз и как яростно они ссорились, несмотря на все грубые сцены, он был сильнее, чем когда-либо прежде, привязан к Лоренце, а возраст, который уже начинал давить ему на плечи, превращал эту любовь в ревнивую, собственническую и почти болезненную страсть. С тех пор как они покинули Париж, прошло уже три года, а обещанное счастье все никак не приходило. Если он хочет сохранить Лоренцу, он должен на этот раз уступить, подчиниться ее воле… какой бы ценой потом ни пришлось за это расплачиваться.
– Мы едем в Рим, – наконец решил он. – Я сделаю так, как ты хочешь.
Должна же была таинственная рука, которая столько лет издали направляла его действия, наконец отпустить его. В последние несколько лет Властелина Тайн считали умершим, но Калиостро по некоторым признакам, по некоторым полученным им распоряжениям имел основания сомневаться в том, что это может быть правдой. Как бы там ни было, на этот раз он отважился действовать так, как если бы действительно начал сам распоряжаться своей жизнью. Он захотел и для себя той свободы, которую проповедовал другим, потому что на сей раз этого хотела и Лоренца… Ей столько пришлось вытерпеть из-за него, она заслужила право в свой черед решать их судьбу. Он мысленно твердил, словно стараясь самого себя в этом убедить: «Да… мы поедем в Рим… В конце концов, может быть, ты и права… Может быть, я действительно ничем не рискую?»
Впервые любовь в душе Калиостро восторжествовала над осторожностью. Но разве мог когда-нибудь хоть один человек избежать того, что было ему предначертано?
6. В лапах святой инквизиции
В начале августа 1789 года на Рим обрушилась нестерпимая жара. Зловонные испарения, поднимаясь от почти совсем пересохшего Тибра, расползались по всему городу, принося с собой болезни и смерть. Но в церкви Сан-Сальваторе в Кампо, где заканчивалась вечерняя молитва, было прохладно, как в погребе.
Спрятавшись за одной из колонн поблизости от исповедальни, из которой она только что вышла, Лоренца углубилась в молитву. Опустившись на колени прямо на холодные плиты пола, сгорбившись и пряча лицо в ладонях под спускавшимся с ее головы длинным черным покрывалом, она горько плакала. Гул органа доносился до нее словно сквозь густой туман, вместе со спокойным голосом священника, продолжавшим раздаваться в ее ушах. Этот священник, чьего лица, скрытого в непроницаемой тени исповедальни, она так и не увидела, только что нанес ей жесточайшую рану.
– До тех пор пока вы не перестанете пользоваться плодами преступных деяний этого безбожного, нечестивого человека, с которым вы живете, я не смогу отпустить вам грехи…
Она попыталась возразить:
– Но, отец мой, ведь этот человек – мой муж, он – мой супруг перед богом! Мы обвенчались здесь двадцать лет тому назад. И божественный и человеческий закон велит мне следовать за ним и во всем ему повиноваться.
– За исключением того, что касается спасения вашей души! Если бы я искал для вас легких путей, то посоветовал бы бежать от него и укрыться в одном из монастырей, но существует путь более достойный похвалы: оставаться с ним и противостоять бесовскому делу, от которого он не отступается.
– Как же я могу это сделать? Он никогда не советуется со мной, я против него совершенно бессильна. У него надо мной поистине дьявольская власть!
– Мы поможем вам. Приходите сюда почаще, и вы найдете силы для борьбы за то, чтобы вновь обрести бога, которого вы так тяжко оскорбили. И тогда, если ваш муж будет упорствовать и не даст себя убедить, вам легко будет прибегнуть к более действенной помощи. Святой инквизиции уже удалось образумить многих закоренелых грешников.
– Инквизиции? – простонала в ужасе молодая женщина.
– А почему бы и нет, если это пойдет во благо душе человека, которого вы любили? Ведь вы любили его, правда?
– Но теперь больше не люблю! Я ненавижу его… и боюсь!
– Истинной дочери Церкви не пристало бояться расставленных дьяволом ловушек. Продолжайте молиться и приходите снова!
Эти слова по-прежнему эхом отдавались в голове Лоренцы, и отчаянная, бессвязная молитва, которую она обращала к Небу, была всего лишь выражением охватившего несчастную женщину отчаяния. Прошло немало времени, пока она наконец с трудом поднялась с колен, опустила покрывало на лицо, вышла из церкви и медленно направилась к маленькому домику на площади Фарнезе, где они с Жозефом поселились совсем недавно.
По дороге она задержалась, чтобы купить что-нибудь к ужину, и, вернувшись домой, застала мужа в маленькой гостиной на втором этаже. Их дом, стоявший прямо напротив пышного дворца Фарнезе, от этого соседства выглядел еще более скромным. Роскошь, в какой они жили на улице Сен-Клод, отошла в прошлое, денег теперь часто не хватало. Все время приходилось как-то изворачиваться, семья жила на пожертвования и подаяния, на то, что давали братья-масоны. Дело в том, что неисправимый Жозеф, едва приехав, не нашел ничего лучшего и ничего более спешного, как завербовать сторонников и основать Египетскую ложу. Подобная деятельность была особенно опасна не только из-за того, что дело происходило именно в Риме, где существовала неимоверно активная папская полиция, но и потому, что в Вечном городе уже действовала в то время другая ложа, очень секретная и очень могущественная. Она называлась ложей Истинных Друзей, и ее следовало опасаться не меньше, чем папских олентов.
Рядом с Калиостро Лоренца увидела двух странных персонажей, ставших его постоянными сотрапезниками. Одним из них был некий Антуан Рулье, капуцин поневоле и революционер по призванию; чародей сделал его своим секретарем. Вторым – коротышка лет пятидесяти, проворный, как мышка, и одевающийся с большой тщательностью и элегантностью, несмотря на довольно заметный горб. Его звали Шарль-Альбер де Лорас, он занимал должность бальи Мальтийского ордена и представлял орден в процессах, которые могли представлять для него интерес в Риме. Он жил в Мальтийском дворце, самым большим его желанием было стать послом Великого Магистра в Ватикане.
Этих людей объединяла выгода. Лорас рассчитывал на то, что Калиостро, сохранивший связь с кардиналом де Роганом, изгнанным в свое аббатство в Шез-Дье, поможет ему получить вожделенный пост, поскольку Великий Магистр тоже был из Роганов. Сам же Калиостро рассчитывал на то, что благодаря Лорасу сможет дожить свой век в покое и достатке на Мальте, где он к тому времени перестал быть нежелательной персоной. Один только капуцин никакой выгоды для себя не искал, это был самый настоящий фанатик.
Сейчас он был занят тем, что писал что-то под диктовку Калиостро, а Лорас, развалившись в кресле, потягивал мелкими глоточками белое вино и пересказывал городские новости.
– От жары и болезней стада в Кампанье редеют, и народ уже охвачен страхом из-за этого. Кроме того, сегодня утром из Тибра выловили утопленника, труп связанного по рукам и ногам человека с обезображенным, до неузнаваемости изрезанным лицом. А на груди у него была табличка с масонским знаком.
– Хм! – произнес Калиостро, поежившись. – Похоже, у Истинных Друзей рука тяжелая! Наверное, это был предатель?
– Или противник. Они нас сильно недолюбливают. Возможно, утопленник – один из наших.
– Мы узнаем это на ближайшем собрании. Но ситуация, похоже, накаляется, и…
В эту минуту вошла Лоренца, и незаконченная фраза повисла в воздухе. Калиостро тотчас предложил сыграть партию в триктрак или в бульот: все равно слишком жарко для того, чтобы работать.
Трое мужчин уже усаживались за стол, когда в комнату ворвался молодой, изысканно одетый человек.
– Я только что с почтовой станции! – закричал он, едва переведя дыхание. – Новости из Франции, и очень важные новости: народ взял штурмом Бастилию. Коменданту отрубили голову, а крепость разрушили. И это еще не все. Депутаты третьего сословия заставили Генеральные Штаты преобразоваться в Учредительное собрание. Абсолютная монархия рухнула!
Он почти совсем потерял голос и едва дышал. С трудом прохрипев последние слова, молодой человек – а это был еще один член ложи, маркиз Вивальди, – рухнул в кресло и щедро налил себе вина. Остальные бесновались вокруг, словно внезапно все разом утратили рассудок. Они смеялись, кричали, хлопали в ладоши.
– Сегодня же ночью надо созвать братьев, – сказал Калиостро. – Если мы сумеем использовать этот ветер свободы, он может долететь и до нас.
Но внезапно послышался бесстрастный, ледяной голос Лоренцы:
– Чуть потише, господа, или хотя бы позвольте мне закрыть окно. На углу площади стоит какая-то черная фигура, которая, по-моему, интересуется нашим домом.
После этих слов, словно по волшебству, мгновенно наступило молчание.
Поздно ночью Калиостро вернулся домой, но вместо того, чтобы идти к себе в спальню, соседнюю со спальней Лоренцы, он спустился в подвал, где у него была оборудована небольшая лаборатория. Там он составлял пасты, мази, бальзамы и электуарии,[13] которыми он торговал, и это позволяло ему кое-как перебиваться. Однако сейчас он пришел не для того, чтобы работать, ему надо было подумать в тишине и покое после такого бурного вечера.
Он был настолько поглощен своими мыслями, что и не услышал, как Лоренца спустилась к нему, и заметил ее, похожую в своем белом ночном одеянии на привидение, только тогда, когда она очутилась прямо перед ним. Он улыбнулся жене:
– Так ты не спала?
– Нет. Я услышала, как скрипнула дверь. Почему ты не спишь?
– Я бы все равно не смог уснуть после сегодняшних новостей, я был слишком потрясен. Ты только вспомни: когда мы уезжали из Парижа, я обратился к французскому народу с письмом и в этом письме обещал, что проклятая Бастилия, в которой мы были заперты, будет снесена до основания, а на ее месте будет площадь. Как видишь, я не ошибся!
– Да, в самом деле, – задумчиво произнесла Лоренца. – Очень часто случалось, что ты предсказывал какие-нибудь события и твои предсказания сбывались. Но не может ли твое ясновидение помочь тебе заглянуть в наше собственное будущее? Неужели ты не видишь пропасти, к которой мы стремительно приближаемся?
– Я тебе сто раз говорил: для того чтобы заглянуть в будущее, я нуждаюсь в помощи девственницы, безупречно чистой юной девушки. Но где ее здесь найдешь, в этом трусливом и ханжеском городе?
– Замолчи! – резко оборвала его Лоренца. – Не смей оскорблять город, который чтит божественный закон. Богу надоели твои магические упражнения, и он отнимает у тебя способность им предаваться! Поостерегись, как бы дело не зашло еще дальше!
– Насчет этого нам с тобой никогда не удавалось столковаться, здесь мы никогда не понимали друг друга, – вздохнул Калиостро. – Вероятно, мы так и умрем, не дождавшись этого. Но сейчас, клянусь тебе, я забочусь лишь о нашей безопасности. Вскоре нам опасно будет здесь оставаться, а Мальта не торопится предлагать нам убежище. Правда, сегодня вечером мне пришла в голову мысль получше.
– И что же это за мысль?
– Вернуться во Францию. Теперь король мне не страшен. В начинающихся сейчас общественных потрясениях меня может ждать великая политическая роль. Чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что спасение именно в этом!
– Нет! – закричала Лоренца, внезапно охваченная непреодолимым ужасом. – Нет. Я больше не хочу возвращаться во Францию. Я хочу остаться здесь или уехать на Мальту. Франция погрязла в пучине безбожия, а я хочу спасти свою душу, понимаешь, и не желаю больше следовать за тобой по пути, ведущему к вечной погибели.
– Да ты подумай немного, несчастная, и ты поймешь, что если мы останемся здесь, то покой, которого ты так жаждешь, мы сможем найти только в самом дальнем карцере замка Святого ангела! Если только не окажемся на дне Тибра с камнем на шее. Ты не можешь этого хотеть, или же ты больше меня не любишь.
Лоренца лишь на мгновение поколебалась перед тем, как сказать жестокую правду.
– Нет. Я тебя больше не люблю! Хуже того, ты мне противен. Теперь я забочусь лишь о спасении собственной души!
– Не надо мне было тебя сюда привозить! – сквозь стиснутые зубы проворчал Калиостро, не ожидавший от нее такого тупого упрямства. – Здесь к тебе возвратились все суеверия твоего детства. Ну, в таком случае поступай как знаешь: оставайся здесь, лелей свое безумие. А я уеду во Францию без тебя!
Она медленно приблизилась к нему, положила ему на плечо ледяную руку.
– Я твоя жена, Жозеф, и должна следовать за тобой, даже если это мне не нравится. И все-таки я прошу тебя подумать еще немного, потому что я вполне сумею отправить тебя туда, куда тебе следует отправиться, захочешь ты этого или нет!
Рассвет застал Лоренцу коленопреклоненной в исповедальне Сан-Сальваторе во время ранней мессы. Она лихорадочно шептала:
– Он хочет уехать, отец мой, он собирается отправиться во Францию и там присоединиться к мятежникам.
– Он не должен туда ехать, его надо остановить любой ценой. Если вы позволите ему увезти вас туда, вы погибнете без надежды на искупление. Но поскольку он был изгнан оттуда, он может вернуться лишь в том случае, если получит официальное разрешение. Еще ничто не потеряно.
– Он намерен попросить такое разрешение у нового правительства. Он говорит, что все, что он сделал там для революции, должно обеспечить ему симпатию со стороны новых хозяев. Он уверен, что его там хорошо примут, народ его так любил!
– И он скорее всего прав. Надо за ним присматривать, дочь моя. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он отправил во Францию хоть одно письмо. Если он напишет туда, постарайтесь выкрасть письмо. Если он его отправит, вам нет спасения.
– Клянусь вам, я не дам ему уехать и помешаю отправить письмо! Я сделаю все, что потребуется.
А Калиостро тем временем и в самом деле писал письмо.
Закончив, он протянул его секретарю-капуцину; тот внимательно прочитал, заменил неточное слово, затем вернул письмо Калиостро.
– Вы думаете, Собрание удовлетворит вашу просьбу?
– Оно не может не признать моих заслуг перед его делом. Я мог бы предотвратить грандиозный скандал, поднявшийся из-за дела об ожерелье, и тем самым отвести от французской монархии жестокий удар. Я мог бы обезвредить эту дьявольскую графиню де Ла Мотт, мог бы донести на нее. И потом, я всегда был другом народа, и народ так меня ценил. Вспомните, что я исцелил больше пятнадцати тысяч больных, причем многих из них лечил бесплатно. Нет, Собрание не может отказать мне в моей просьбе, потому что я могу оказать ему еще немало услуг, и огромных услуг!
– Я на это очень рассчитываю, надеюсь и желаю этого, поскольку должен вас сопровождать, но то письмо, которое мы с вами только что написали, кажется мне крайне опасным. Что, если оно попадет в руки врагу? Там подробно рассказывается о вашей масонской деятельности, много говорится о том, какую роль вы сыграли во Франции.
– Не беспокойтесь на этот счет. Один из наших братьев завтра отправляется во Францию, облеченный особой миссией, которая избавляет его от обыска. Он пообещал мне взять письмо с собой. Завтра утром я переправлю ему это послание обычным способом.
Лоренца, которая только что вернулась домой и теперь подслушивала, спрятавшись среди одежды в гардеробе и приоткрыв дверцу, ведущую в маленькую гостиную, почувствовала, как замерло у нее сердце: ей пока еще не удалось выяснить, каким способом ее муж передавал свои тайные послания единомышленникам.
– А где вы будете держать письмо до тех пор? – спросил капуцин.
– При себе. Я собираюсь работать всю ночь до утра.
Затем Лоренца услышала шаги – оба собеседника спускались по лестнице, ведущей к входной двери, – и воспользовалась этим, чтобы торопливо выскользнуть из своего укрытия. Ей любой ценой необходимо было заполучить письмо, которое ее муж только что сунул в карман своего камзола! Но как это сделать?
На лестнице она столкнулась с Жозефом, и тот сказал, что идет к аптекарю на Кампо-деи-Фьори. Потом встретилась со служанкой, которая вышла из кухни и попросила дать ей денег на свечи.
– Надо бы заглянуть в кухню, – сказала девушка. – Я откупорила вино и все приготовила для ужина, но боюсь, как бы поросенок на вертеле не подгорел.
– Я присмотрю за ним. Идите спокойно.
После того как служанка скрылась из виду, Лоренца еще некоторое время простояла, в задумчивости созерцая расставленные на столе блюда. В голове у нее постепенно созрела идея. Отыскав огарок свечи, она зажгла его и спустилась в подвал. Через несколько минут она вернулась, подошла к столу. Ненадолго заколебалась, но тут ее взгляд упал на пришпиленную к стене картинку, на которой набожный художник изобразил ангела-губителя, торжествующего победу над поверженным демоном. И тогда она поспешно высыпала в графин с вином содержимое крохотной склянки, зажатой в ее кулаке, а потом встряхнула графин. Вино на мгновение слегка помутнело, потом снова стало прозрачным. Лоренца опасливо отпила немного и решила, что все в порядке. Служанка, вернувшаяся через несколько минут после этого, застала хозяйку у очага: та с сосредоточенным видом поворачивала вертел, на котором подрумянивался поросенок.
Было уже далеко за полночь, когда Лоренца осторожно спустилась по ступенькам. Вокруг царили полная тишина и непроглядный мрак. Приблизившись на цыпочках к двери, ведущей в подвал, она ощупью отворила ее и прислушалась. Из подземелья не доносилось ни звука, только пробивался слабый свет, едва освещавший начало винтовой лестницы. Босые ноги бесшумно ступали по холодному камню, и Лоренца не боялась, что шаги могут ее выдать. Когда она сошла на несколько ступенек вниз, до нее донесся громкий храп, и, совершенно успокоившись, она продолжала спускаться.
Сидя за столом, стоявшим посреди лаборатории, рядом с почти погасшей горелкой, Жозеф спал глубоким сном, уронив голову на сложенные руки. Торопливо приблизившись, Лоренца дрожащими руками обшарила его карманы и наконец нашла то, что искала: большой конверт, адресованный председателю Учредительного собрания в Париже. Невольно вскрикнув от радости, она сунула письмо за корсаж, одним духом взлетела по ступенькам наверх и, уже стоя на пороге, вдруг опомнилась. Вернувшись в кухню, она отыскала графин, в котором, как она помнила, к концу ужина оставалось на донышке немного вина. Но служанка, видимо, допила эти остатки, потому что теперь графин, пустой и чистый, стоял на положенном месте. И теперь, совершенно успокоенная, нимало не боясь, что ее могут услышать, Лоренца опустила капюшон на лицо, поплотнее завернулась в длинную теплую накидку и выскользнула из дома в ночь.
Очнувшись наутро от тяжелого сна, Калиостро не сразу сообразил, что произошло. Но, сунув руку и карман, он обнаружил, что письмо исчезло, и его пронзил невыносимый страх. В голове у него вспыхнула догадка, что, должно быть, кто-то ночью забрался к ним в дом, и он, перескакивая через ступеньки, бросился к жене, расспросить, не слышала ли она чего. Лоренца, подложив под голову грациозно изогнутую руку, спала так сладко, что у него духу не хватило ее разбудить. Ему даже в голову не пришло, что виновницей пропажи могла оказаться его жена…
Но тем не менее 27 декабря папские полицейские, явившись в дом на площади Фарнезе, арестовали Калиостро и, именем его святейшества папы Пия VI, препроводили в замок Святого ангела. Находившаяся там маркиза Вивальди едва успела убежать с письмом, принесенным от имени мужа, как Лоренца тоже была арестована. Но ее всего-навсего отправили в мирную обитель, чтобы она в монастырской тиши смогла вернуться на путь веры и добродетели, и на этом успокоились.
Она не испытывала ни страха, ни раскаяния, угрызения совести ее не терзали. Судебный процесс, предстоявший ее мужу, не может не послужить ему во спасение… Что до нее самой, то она наконец-то обретет здесь душевное спокойствие и безмятежность…
Калиостро поочередно взглянул на троих одетых в черное судей, затем перевел взгляд на бумагу, которую держал в руках главный из них.
– Это письмо? – пробормотал он. – Да, это письмо действительно продиктовано мной. Но как оно попало вам в руки? Умоляю вас, скажите мне, откуда оно у вас…
Он говорил медленно, запинаясь, отупевший от долгих месяцев заключения в подземном карцере без света и воздуха. Карцер был расположен ниже уровня Тибра, и во время паводка в нем стояла вода. Калиостро был сам на себя не похож. Никто и не узнал бы теперь в этом истощенном оборванном узнике с запавшими, лихорадочно горящими глазами ослепительного чародея с улицы Сен-Клод, знаменитого на всю Европу чудотворца. После всех выпавших на его долю испытаний он выглядел испуганным и жалким.
Губы главного судьи едва шевельнулись, но его тусклые глаза засверкали, отражая огоньки зажженных свечей.
– Нам передала его ваша жена. Ваша собственная жена, возмущенная вашей деятельностью и желающая спасти свою душу.
– Моя… жена? Жена?
Казалось, будто он силится понять… Он твердил это слово так, словно никак не мог разгадать его смысла. Потом внезапно расхохотался – смехом помешанного, с хриплыми раскатами, долгим, несмолкающим смехом, от которого кровь застыла в жилах солдат, карауливших у дверей… И когда судьи вынесли Калиостро смертный приговор, он все еще смеялся…
Странная история, идущая вразрез с обычаями святой инквизиции: вынесенный Калиостро смертный приговор был впоследствии заменен пожизненным заключением. Кто стоял за этим решением, так и осталось навсегда неизвестным. Во всяком случае, доподлинно известно, что вскоре после того заключенного приняла папская крепость в Сан-Лео, неподалеку от Витербо. Тюрьма напоминала орлиное гнездо, прилепившееся к зубцу скалы; это было страшное место, с грязными, полными паразитов карцерами, и крестьяне, испытывая безотчетный страх, обходили его стороной. Калиостро держали в одиночной камере, в таких тяжелых условиях, что вскоре его рассудок помутился. Во всяком случае, ходили такие слухи.
Темными ночами припозднившийся крестьянин, случайно оказавшийся у подножия горы, над которой возвышалась крепость, мог услышать неистовые крики, дикий смех, вой и рыдания, к которым вроде бы примешивалось имя женщины, но его было не разобрать. Тогда крестьянин надвигал поглубже шапку и, пугливо озираясь и крестясь, торопливо пробегал мимо. Вернувшись домой, он шепотом рассказывал жене, стараясь, чтобы не услышали дети:
– Я опять слышал, как воет помешанный колдун…
И жена в свою очередь спешила осенить себя крестным знамением.
– Святая Мадонна! И когда только он перестанет кричать?
Крики внезапно смолкли теплой и ясной летней ночью 23 августа 1795 года. Калиостро, маг, чародей Калиостро, уверявший, будто владеет секретом бессмертия и вечной молодости, был мертв.
Но, как ни странно, когда через некоторое время солдаты Бонапарта захотели увидеть могилу чародея, никто не смог им ее показать. В самом ли деле Калиостро умер в Сан-Лео или же та оккультная сила, которая спасла его от эшафота, вновь оказала ему покровительство?